Автор и издатели выражают благодарность изданиям «Афиша Daily»[1], «Горький»[2] и «Дистопия»[3] за возможность использовать материалы, включенные в эту книгу.
Предисловие
«Знаешь, ты можешь писать о чем угодно, но стоит тебе вставить в книгу одного чертова дракона, и тебя тут же назовут автором фэнтези».
Эту цитату из Терри Пратчетта я вспомнил первым делом, когда меня попросили придумать идею и название для этой книги. Если вы откроете оглавление, то увидите, что Кадзуо Исигуро здесь стоит рядом с Аланом Муром, Дэвид Фостер Уоллес — со Стивеном Кингом, а статьи о Набокове и Пинчоне идут следом за историями о сценаристах Чарли Кауфмане и Ное Хоули и текстом о «твердых фантастах» Джеймсе Типтри и Джоне Браннере. Это осознанное решение. Чем больше я изучаю литературу, тем более странной и даже вредной мне представляется привычка многих делить книги по жанровому признаку, делить писателей на «чистых» и «нечистых».
Я убежден, что массовое — фундамент элитарного; оно — своего рода питательная среда для умных писателей, которые, не стесняясь, подрезают идеи именно там — в «гетто» — в фантастике, комиксах, мюзиклах, фильмах категории Б о зомби, маньяках, вампирах. И своими работами легитимизируют темы, ранее считавшиеся маргинальными.
Для современного молодого писателя снобизм по отношению к «гетто» равен творческому самоубийству. Если ты не интересуешься «драконами», не изучаешь культуру во всем ее многообразии и не спускаешься в самые темные подвалы искусства, твои шансы сказать что-то новое в литературе стремятся к нулю.
Такой вот парадокс: высокое действительно подчас растет из сора («сора»). Но результат выйдет достойным, только если высокое не будет насмехаться над низким и перестанет вешать на него ярлыки[4] — «у-у-у, там есть драконы, прости, я не читаю фэнтези».
Про Стивена Кинга есть отличная история [которую я упоминаю в главе о нем] — настоящий образец снобизма. Однажды пожилая женщина узнала его в супермаркете: «Я знаю, кто вы, вы автор ужастиков. Я не читала ни строчки из того, что вы написали, но я уважаю ваше право писать так, как хочется. Я-то люблю настоящую литературу, типа „Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка“». Кинг так и не смог убедить ее, что эту книгу тоже написал он.
На самом деле, конечно, культурное пространство едино, и границы внутри него — скорее мембраны, чем стены; и утонченное развивается, только если активно взаимодействует с вульгарным. И часто даже подражает ему, переосмысливает. Причем не обязательно в пародийном или саркастическом ключе; история учит нас, что у сарказма и пародии вообще очень короткий срок годности.
Прежде чем начинать спор об элитарности и проводить какие-то границы, всегда полезно посмотреть назад: Лопе де Вега в свое время писал, что «Сервантесом способен восхищаться только неуч», а театр в эпоху Возрождения считался дном искусства, и написание пьес было ремеслом не более престижным, чем ремесло сапожника. И если бы Шекспир при жизни решил издать свои тексты, его бы подняли на смех, как подняли на смех его современника, драматурга Бена Джонсона (подробнее об этом см. эссе Борхеса «Загадка Шекспира»).
Культура постоянно адаптируется, высокое и низкое иногда просто меняются местами — даже в том, что касается пищи. Вот, например, цитата из эссе Дэвида Фостера Уоллеса «Посмотрите на омара»: «…еще в 1800-х омары были пищей низших классов, их ели только бедные. Даже в суровой, каторжной среде ранней Америки в некоторых колониях существовали законы, в соответствии с которыми было запрещено кормить заключенных омарами чаще, чем раз в неделю, считалось, что это жестоко; как заставлять людей есть крыс». Продукт, который сегодня ассоциируется с роскошью и богатством, еще каких-то двести лет назад мог стать причиной бунта зэков, недовольных тюремным меню. Примерно так же и с литературой.
Эта книга — сборник статей. На первый взгляд может показаться, что у перечисленных в оглавлении авторов нет ничего общего. Они как бы из разных «весовых категорий» — фантастика, комиксы, ужасы, реализм, постмодернизм, кино и сериалы. И все же кое-что их объединяет — каждый из них изобрел свой собственный способ рассказывать истории, научился максимально эффективно использовать возможности и ограничения своего медиума и внес свой вклад в разрушение границы между высоким и низким искусством.
✕
Как я читал «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса
Неподготовленный читатель, пробежав глазами по ключевым точкам биографии Уоллеса, будет (вероятно) очень удивлен, увидев в самом конце запись о самоубийстве. И правда — краткий пересказ жизни ДФУ выглядит так, словно речь идет о самом удачливом писателе XX века.
Ребенок из профессорской семьи (отец — философ, профессор Иллинойсского университета; мать — преподаватель английского языка, профессор Паркленд-колледжа в Шампейне), выросший в стенах дома с огромной библиотекой. Мальчишка, чьи родители перед сном читали ему «Улисса» Джойса (!). Сложно придумать более подходящие условия для будущего гения. И дальше — все в таком же духе: круглый отличник, медалист, но не просто очкарик с книгами наперевес, нет, он еще и успешный, подающий надежды теннисист.
Потом — университет, и снова фамилия Уоллес неизменно на первой строчке в списках успеваемости. Специалист по Витгенштейну, он пишет дипломную работу, которая (под воздействием книг Пинчона) постепенно перерастает в первый роман The Broom of the System («Метла системы»)[5].
И — невероятное везение — первый роман ДФУ тут же покупают, и не кто-нибудь, а нью-йоркское издательство Viking Press.
Литературный успех, в 25 лет. Книга выходит довольно большим тиражом, ее неплохо раскупают, критики сравнивают вундеркинда с Пинчоном (и не напрасно: «Метла системы» по сути оммаж «Лоту 49», Пинчон-лайт, с аппендиксом в виде отсылок к Витгенштейну).
Дальше — затишье длиной в несколько лет, проблемы с алкоголем и наркотиками, поиск собственного голоса и попытка исчерпать все приемы постмодернизма в сборнике Girl with Curious Hair («Девушка с любопытными волосами»).
Год 1996, второй роман, и снова успех. На этот раз — оглушительный, как грохот проезжающего поезда. В 34 года.
«Бесконечную шутку» еще за год до выхода в прессе называли шедевром, The Great American Novel, а автора — гением (что, кстати, очень нервировало ДФУ: «А что, если я не гений? Что тогда? Что, если книга выйдет и все скажут, что она дерьмовая? Как вы будете выкручиваться?» — спрашивал он у редактора по телефону). Среди редакторов издательства «Литтл, Браун» о размерах книги ходили легенды — почти полмиллиона слов[6]! Роман, впитавший в себя все тревоги поколения.
И вот — книга в магазинах. Критики напуганы — но не самим текстом, а его размерами[7]. Все признавали мастерство автора, его огромный интеллект и потрясающую эрудицию, но почти никто ничего не мог сказать по существу. Шутка ли, 1079 страниц мелким шрифтом, рваный нарратив и безумный монтаж, вечные сноски и сноски на сноски и сноски на сноски на сноски (всего 388 штук), полное отсутствие хронологии, теннис, наркотики, политика, сатира, конспирология, математика (Уоллес умудрился вставить в роман доказательство теоремы средних значений; даже игру придумал на основе этой теоремы). Единодушны критики были только в одном: эта книга способна свести вас с ума.
Реакция со стороны читателей была более однозначной и красноречивой — толпы и толпы людей приходили на публичные чтения. Люди стояли в огромных очередях, чтобы увидеть/послушать его. Не читатели — фанаты. Дэвид Фостер Уоллес, очкарик, вундеркинд и специалист по Витгенштейну, в одночасье стал рок-звездой от литературы.
Во многом этому способствовали его а) молодость, б) внешний вид и в) манера общения.
ДФУ не занимался мистификациями, не напускал туману в свое прошлое, не эпатировал, не заигрывал с публикой и не прятался на отдаленном ранчо. И этим сильно отличался от других культовых американских писателей — он был, что называется, свой. Американская молодежь 90-х нашла себе нового кумира — гений, которому едва исполнилось 34. В 1996 году «Бесконечная шутка» стала бестселлером (феноменальный результат для книги объемом в полмиллиона слов и весом в 1,5 килограмма). Истерия вокруг его персоны достигла таких масштабов, что ему приходилось каждую неделю менять номер телефона, потому что читатели (то есть фанаты) каждый день звонили ему, чтобы обсудить роман.
И дальше — только вверх. В 1998 году ДФУ получает стипендию Мак-Артура (так называемую премию гениев). С годами интерес к его «Бесконечной шутке» не утихает, наоборот — книга неплохо продается, ее постоянно допечатывают, о ней пишут диссертации, выходят путеводители по роману, фанаты открывают сайт Wallacewiki, куда выкладывают свои версии того, что значит концовка «Шутки» (на данный момент существует четыре «канонические» равновероятные интерпретации концовки романа).
Постепенно ДФУ, вопреки своей воле, становится медиаперсоной. «Шутка» заполняет нишу идеального романа «обо всем», она попадает во все возможные хипстерские и гиковские списки обязательного чтения, а его имя и название романа начинают мелькать в телевизоре в качестве отсылок и аллюзий[8].
Приходят нулевые, среди фанатов активно ходят слухи, что ДФУ уже много лет работает над еще одним монструозным романом — романом о скуке («Бледный король», не окончен, опубликован посмертно в 2011 году).
И вдруг — самоубийство. Дэвид Фостер Уоллес — вундеркинд, «рок-звезда» американской литературы — повесился в патио собственного дома 12 сентября 2008 года.
>>>
На этом — в 2008-м году — обрывалась его довольно краткая биография. В ней не было ни слова о том, что писатель всю жизнь страдал от биполярного расстройства и еще в молодости пытался покончить с собой, а также — ни слова о том, что именно первая попытка самоубийства стала отправной точкой для написания «Бесконечной шутки».
В октябре 1988 года 27-летний Дэвид Уоллес проходил курс лечения депрессии. Таблетки не давали результатов, и однажды ночью он съел упаковку снотворного, ресторила. Его откачали, и так он (уже во второй раз) попал в психиатрическую клинику, где пережил несколько сеансов шоковой терапии. Электрошок повредил кратковременную память и плохо повлиял на общее состояние Уоллеса — иногда во время обеда писатель растерянно смотрел на тарелку и спрашивал: «А как определить, какую рыбную палочку взять первой?»
Лечение помогло, но ненадолго — спустя год, в ноябре 1989-го, он снова вернулся в больничную палату (он сам позвонил другу и попросил отвезти его в клинику, потому что боялся, что «навредит себе»). И, как пишет его биограф Д. Т. Макс, эти четыре недели ноября полностью изменили жизнь писателя. Именно там, посещая собрания анонимных наркоманов, он почувствовал, что постепенно находит внутреннее равновесие. На собрания он ходил с блокнотом и ручкой, сидел в углу и старательно записывал все, что говорили другие пациенты. Эти записки, конспекты исповедей наркоманов, людей с поврежденной психикой, позже станут частью Infinite Jest, романа, работа над которым поможет Уоллесу выйти из депрессии и — войти в историю.
>>>
Главное, что нужно знать, открывая роман Уоллеса: автор не собирается вас развлекать. Словосочетание «бесконечная шутка» здесь — в некотором роде оксюморон; в том смысле, что под обложкой вас, помимо прочего, ждет рассказ о том, что любое веселье конечно. И конец у него невеселый. В черновике роман назывался более красноречиво — Failed Entertainment («Неудавшееся развлечение») (издатель отказался публиковать книгу под таким заголовком, видимо, не желая давать критикам лишний повод для упражнений в остроумии).
Первые 200 страниц книги — это (на первый взгляд) хаотично смонтированная нарезка сцен, описаний и диалогов, из которых решительно ни хрена не понятно. Знаете, бывает так: заходишь в кинозал через час после начала сеанса и потом весь фильм дергаешь соседа за рукав: «А это кто? А это? А зачем он ест плесень? Почему этот орел в сомбреро? И кто такой Марат, черт побери?»
Это звучит (и выглядит) нелепо: на всех литературных курсах будущих прозаиков учат тому, как важно правильно начать, как важно завладеть вниманием читателя. Уоллес же (который сам всю жизнь преподавал литературное мастерство) поступает с точностью до наоборот. Он пишет текст, в котором первые двести-триста страниц героев нужно помечать закладками, чтобы не потерять их в темноте воображения.
Вся первая часть романа — своего рода фильтр. Растягивая вступление, делая его невыносимым, автор словно пытается отсеять лишних. И в то же время такой подход придает названию (и всему тексту в целом) дополнительное ироническое (или, скорее, постироническое, учитывая изначальное название, источник цитаты и направление мысли автора) измерение: ведь Infinite Jest — это книга о том, какой разрушительной силой обладает наша тяга к удовольствию.
Сюжет или типа того
«Бесконечная шутка» — очень густонаселенный роман; и все же в этой сложносочиненной конструкции видна четкая система, два главных ядра, две локации — Энфилдская теннисная академия и реабилитационная клиника «Эннет Хаус». Действие по большей части замкнуто на двух героях: один — Гарольд «Хэл» Инканденца, юноша с выдающимися лингвистическими способностями и, кроме того, подающий надежды теннисист; и Дональд «Дон» Гейтли, сидящий на димедроле грабитель, угодивший в клинику реабилитации.
Архитектурно текст довольно симметричен: первый герой, Хэл, медленно скатывается в наркозависимость и — дальше — в безумие; второй же, Дон, наоборот, отчаянно борется со своими демонами, ходит на встречи анонимных алкоголиков, пытается очистить кровь и разум от стимулирующих препаратов. На протяжении всего романа два героя как бы уравновешивают замысел автора: один постепенно теряет ясность, второй — ищет способ ее обрести.
На этот внутренний смысловой/сюжетный каркас Уоллес навинчивает и многие другие свои научно-фантастические и антиутопические замыслы. Он переносит действие в недалекое будущее (для нас с вами — уже в прошлое (примерно 2008–2011 годы). Общество потребления в этом «будущем» продало все — абсолютно все — даже календарь; годы теперь субсидируются корпорациями; то есть вместо номера каждый год носит название фирмы, оплатившей «рекламное место»: и мы имеем «Год мусорных пакетов «Радость», «Год Впитывающего Белья для Взрослых „Депенд“» и т. д.
Безумие творится не только в календаре: политики тоже окончательно поехали умом. В этой версии будущего США, Канада и Мексика объединились в единое государство ОНАН (Организация Независимых Американских Наций), и на гербе там теперь — орел в сомбреро, в одной лапе он сжимает кленовый лист, а в другой — чистящие средства (символизируя тем самым крайнюю степень ипохондрии президента). Канада превратилась в свалку ядерных отходов и рассадник сепаратистов.
И вот — все эти странные, причудливые и никак не связанные между собой сюжетные ходы Уоллес все же скручивает вместе с помощью сквозного элемента / макгаффина[9] [10]: речь идет о смертоносном фильме — визуальном эквиваленте атомной бомбы. Фильм называется «Бесконечная шутка», и зрители при его просмотре в буквальном смысле умирают от хохота. Попытки отыскать или хотя бы отследить перемещения последнего сохранившегося картриджа с фильмом в итоге задевают почти всех героев и добавляют в и без того запутанный сюжет еще больше шума, истерии и по-настоящему безумного веселья.
Уоллес, чудо памяти
В книге «Короткие интервью с мерзкими мужчинами» ДФУ заигрывал с метафорой пчелы: «Чтобы замереть, пчела должна двигаться очень быстро». Сама эта идея завораживала его: чтобы остановиться, просто зависнуть в воздухе, над цветком, пчеле нужно затратить в разы больше энергии, чем при полете.
Эта метафора отлично подходит для описания стиля письма самого Уоллеса. Один из критиков очень метко назвал его «noticing machine». Вся его проза — череда бесконечных, многостраничных, невротических перечислений/описаний. В обычной жизни, когда мы смотрим на предмет / на человека, мы фиксируем только то, что важно (по нашему мнению): парикмахер смотрит на прическу, стоматолог — на состояние зубов, портной — на одежду.
В случае с Уоллесом все иначе.
У Борхеса есть рассказ «Фунес, чудо памяти». Вот как рассказчик описывает главного героя:
«Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе, Фунес видел все лозы, листья и ягоды на виноградном кусте. Он знал формы южных облаков на рассвете тридцатого апреля тысяча восемьсот восемьдесят второго года и мог мысленно сравнить их с прожилками на книжных листах из испанской бумажной массы, на которые взглянул один раз, и с узором пены под веслом на Рио-Негро в канун сражения под Кебрачо».
Точно такое же впечатление производит проза Уоллеса. Он, как тот самый Фунес, фиксирует все сразу: движение, мурашки на коже, вздох, шрам на ключице, трещину на асфальте, ворсинки на ковре, поры на носу, капли конденсата на стакане с водой в жаркий день, пигментные пятна на внешней стороне ладони, засохший секрет конъюнктивы в уголке глаза, — воображение Уоллеса всегда стоит в режиме макросъемки (или фотоувеличения), в его книгах есть описание варикозных вен на ногах незнакомки длиною в три абзаца и описание зевка — длиною в два. Ему никогда не бывает достаточно одной метафоры — он слишком жаден, он выжимает из каждого предмета весь образный потенциал. И потому многие сцены в «Бесконечной шутке» кажутся многословными и избыточными, и у читателя может возникнуть ощущение, что книга никуда не движется, что время как будто замедлилось/застыло и автор уже на протяжении трех страниц разглядывает одну и ту же мысль, как муху в янтаре, подсвечивая ее с разных ракурсов, — литературный Плюшкин, коллекционер мелочей, ДФУ тащит в свою книгу все, что попадется под руку, — он поглощен этим навязчивым желанием все вокруг понять и систематизировать, и он пожертвовал динамикой текста в угоду своей любви к детализации/фиксации мира; на самом деле, если вы прислушаетесь к прозе Уоллеса, то почувствуете — каждый образ здесь прописан так тщательно, что буквально жужжит от скрытой в нем энергии. Как пчела, которая машет крыльями так быстро, что их не видно.
Но если их не видно — это не значит, что их нет.
Постирония судьбы
В начале нулевых роман Уоллеса попал в список 100 самых важных англоязычных романов XX века по версии журнала Time. Вполне заслуженно, ведь своим романом ДФУ открыл новое направление в американской литературе. Его magnum opus — это вызов. Вызов всей постмодернистской литературе, с ее сарказмом и цинизмом. С ее отказом от поиска смысла. Дэвид Фостер Уоллес — первый американский писатель, объявивший войну иронии («Ирония — это птица, полюбившая свою клетку»), и «Шутка» — его манифест, попытка найти новый ориентир; и в то же время — упрек писателям старшего поколения. Еще в 1995 году в своем эссе, посвященном биографии Достоевского, ДФУ писал:
«[эта книга]…побуждает нас спросить самих себя, почему мы требуем от нашего искусства иронической дистанции от глубоких убеждений или предельных вопросов, так что современные писатели должны либо шутить над ними, либо прикрываться формальными трюками, вроде интертекстуальных цитат или неуместных сопоставлений, помечая реально важные вещи звездочками и уводя их в сноски, как какие-нибудь мультивалентные остраняющие завитушки и тому подобную херню»[11].
Именно эта идея — призыв к искренности (то, что потом назовут постиронией, или «новой искренностью») — стала скрепляющим раствором «Бесконечной шутки», именно она сделала ее одним из самых важных романов своего времени, а ее автора — национальным достоянием. Ирония, по Уоллесу, как анестезия[12], в малых дозах она действительно помогает притупить боль реальности и сохранить душевное/эстетическое равновесие, но стоит чуть превысить дозу — и получается постмодернизм, а дальше — чистое шутовство.
В 50-х, после того, как культура пережила перезагрузку, постмодерн с его «иронической дистанцией» и «культом неопределенности» казался единственно возможным инструментом познания мира. Сегодня уже очевидно, что вся эта эклектика, пародии, нарративные игры, деконструктивизм и вечное заигрывание с поп-культурой — все это больше не работает. И не случайно название книги — Infinite Jest — это цитата из «Гамлета», и, что еще важнее, слова эти Гамлет произносит, глядя на череп Йорика, придворного шута. И точно так же Уоллес написал свой тысячестраничный опус, глядя на голый череп постмодернизма.
Современная литература, во главе которой стоят все эти «бесконечно остроумные, чудеснейшие выдумщики», избравшие «ироническую дистанцию» и считающие наивность ущербным чувством, — эта литература нежизнеспособна, она парализована иронией и слишком увлечена «интертекстуальными… мультивалентными остраняющими завитушками». И единственный способ победить ее, единственный способ выиграть эту войну с энтропией «бесконечного остроумия» — это быть честным и открытым, не прятаться за ухмылкой интеллектуала и не бояться собственной наивности, перестать принимать наркотик иронии всякий раз, когда тебе страшно смотреть на мир, — начать воспринимать жизнь всерьез, без шутовства. Это сложно. Но никто и не говорил, что будет легко. Ведь то, что не требует усилий, — не заслуживает усилий.
Не случайно одна из самых важных фраз в романе звучит именно так — предельно серьезно и очень наивно:
«Фырчи в насмешке, сколько желаешь. Но выбирай с умом. Ты — то, что ты любишь. Нет? Ты, целиком и единственно, то, за что ты готов умереть, как ты говоришь, не думая дважды».
Дэвид Марксон: преподаватель внимательности
Есть такие книги, рассказ о которых мы чаще всего начинаем с числа — с количества издателей, когда-то отвергнувших рукопись. От «Дзена и искусства ухода за мотоциклом» Роберта Пёрсига в свое время отказался 141 издатель, от «Мерфи» Сэмюэла Беккета — 42.
С Марксоном та же история — его «Любовницу Витгенштейна» отвергли 54 раза. Эта деталь не имеет никакого отношения к содержанию книги, и все же о ней сложно не упомянуть — очень уж яркая.
Витгенштейн написал свой «Логико-философский трактат» в лагере во время Первой мировой. О том, сколько издателей отвергли рукопись (если отвергли), мне ничего неизвестно. Когда началась Первая мировая, Витгенштейну было 25, а Борхесу — 15.
Когда Борхесу было сорок и он работал в библиотеке, его коллега нашел статью о нем в энциклопедии. «Эй, Борхес, — сказал коллега (Борхеса все называли по фамилии), — тут есть заметка о писателе, которого зовут так же, как и тебя. И так же, как и ты, он работает в библиотеке. Какое странное совпадение!»
А потом, когда Витгенштейн уже умер, а Борхесу был 81 год, Умберто Эко написал «Имя розы», и там был слепой персонаж-библиотекарь по имени Хорхе. Отсылка слишком очевидная, чтобы не заметить ее.
Вам, наверное, интересно, зачем я все это рассказываю и как все эти факты связаны с романом «Любовница Витгенштейна»? Сейчас объясню.
Дело в том, что примерно так и выглядит текст Марксона. Строго говоря, «Любовницу…» вообще сложно назвать романом, это скорее поэма в прозе, с минимальным пунктирным сюжетом, который легко уместить в одно предложение: художница Кейт путешествует по миру и много думает об искусстве. Но есть нюанс: она — последний человек на Земле. Сам текст построен как поток сознания эрудита — грубый монтаж из цитат, аллюзий и просто историй из мира искусства/литературы — вроде тех, с которых я начал рецензию. Это похоже на коллаж или скорее палимпсест, где размышления накладываются друг на друга, как слои краски на холст, а потом так же последовательно стираются (отсюда постоянное упоминание американского художника Роберта Раушенберга, который стер большую часть рисунка голландского экспрессиониста Виллема де Кунинга, а затем назвал его «Стертый рисунок де Кунинга»), чтобы с помощью этих случайных наложений достичь максимального эффекта, заставить читателя искать связи между на первый взгляд случайными ассоциациями.
«Любовница Витгенштейна» — это уменьшенная, 1:7 000 000 000, модель культуры, огромного палимпсеста, где сотни авторов сквозь время общаются друг с другом в голове у каждого читателя/зрителя, перебивают, перевирают и переписывают свои и чужие мысли.
И в то же время «ЛВ» — это роман о культурном багаже, который нас определяет и одновременно тяготит. В руках Марксона декартовское «мыслю, следовательно, существую» становится чем-то вроде «я — часть культуры, следовательно, я существую». Ведь именно через параллели, через привязки к живописи и литературе, через язык, через высказывание главная героиня Кейт утверждает свое существование. Точнее — пытается сформулировать себя, понять, что именно дает ей право полагать, что она есть. И не случайно в ее записях несколько раз возникает образ сошедшего с ума Ван Гога, который поедает свои краски.
Кроме того, «ЛВ» — это еще и учебник внимательности. Автор не просто показывает нам мозаику из историй, его идея в том, что даже при случайном наложении двух и более фактоидов всегда можно получить что-то новое, интересное. В романе, например, то и дело упоминается «Грозовой перевал» Эмили Бронте, и Кейт замечает, что у Бронте есть какая-то фиксация на окнах, персонажи у нее все время либо выглядывают из окон, либо заглядывают в них. Как раз из таких «случайных» наблюдений и состоит «Любовница…», сам Марксон как бы призывает читателя быть повнимательней и научиться замечать такие «окна» в его собственной книге и заглядывать в них почаще. Там можно, например, заметить, что Кейт то и дело вспоминает биографию Брамса — не в смысле его жизнь, а в смысле книгу, где эта жизнь описана; и это постоянное, навязчивое вспоминание — важнейший элемент его замысла: являются ли факты твоей биографии доказательством того, что ты существовал?
Еще мотивы тенниса и бейсбола — двух видов спорта, где есть подающий и принимающий, в которые невозможно играть одному. Это, кстати, отличная метафора взаимодействия читателя с автором. Книга Марксона не из тех, что мы открываем ради хитрых сюжетов, ярких персонажей или красивых миров; его книга — это игра, в которой нужно ловить и отбивать идеи, летящие с той стороны страницы, — «Эй, читатель, ты, возможно, не заметил, но я не просто так тут уже три раза вбросил про окна в „Грозовом перевале”; не пропусти следующую подачу, ладно?» Такой вот литературный теннис.
Отчасти поэтому, из-за высокого порога вхождения, Марксон до конца жизни оставался «писателем для писателей», им среди прочих восхищались Дэвид Фостер Уоллес, Эми Хемпель и Энн Битти, но сам он, когда речь заходила о славе, всегда отшучивался: «Один мой друг посоветовал мне быть поосторожнее, чтобы я ненароком не прославился тем, что меня никто не знает» (ср. с историей о Борхесе и энциклопедии из начала главы).
И, собственно, так и произошло: он умер в 2010-м, на смерть дежурными некрологами откликнулись серьезные литературные издания, но шум быстро утих. На этом, впрочем, его книжная биография не закончилась. Спустя какое-то время студент Университета Британской Колумбии (Канада, Ванкувер) приобрел на книжном развале «Белый шум» Дона Делилло, начал читать и обнаружил, что поля книги исписаны заметками и размышлениями прошлого владельца. Заметки были очень остроумные, студент осмотрел форзац и нашел надпись: Дэвид Марксон. Имя ничего ему не говорило, но он решил найти прошлого хозяина, чтобы сказать ему спасибо за эти комментарии, которые сделали чтение книги еще более увлекательным. Загуглив Марксона, студент понял, чья именно книга попала к нему в руки. Он рассказал о находке преподавателю литературы, а тот — журналисту London Review of Books Алексу Абрамовичу, который написал об этом статью. Как выяснилось, свою личную библиотеку Марксон завещал нью-йоркскому книжному магазину Strand, но по какому-то странному недоразумению сотрудники магазина не стали выделять для его книг отдельный стенд, они просто разложили их по полкам и выставили на продажу — так личная библиотека автора, чей творческий метод целиком опирался на книжное знание, рассеялась по нескольким отделам книжного магазина на Четвертой авеню в Нью-Йорке, разошлась по всей Америке и добралась даже до Ванкувера.
А дальше — началась охота за сокровищами. Фанаты Марксона через фейсбук и реддит стали искать его книги в надежде собрать распроданную библиотеку целиком (сам Алекс Абрамович потратил в магазине Strand 262,81 доллара), в сеть выкладывали отсканированные страницы с комментариями и по частям собирали распроданное по дешевке наследие классика.
Среди посмертного имущества Витгенштейна была коробка с записками. Одна записка — одна мысль. Был ли у этих записок порядок — установить уже невозможно.
Посмертным имуществом Марксона стала личная библиотека — распроданная, разбросанная по континенту и позже восстановленная неравнодушными людьми. Сложно придумать более подходящий сюжет для описания его творческого метода.
Запрещать запрещено: «Внутренний порок» Томаса Пинчона
В мае 1968 года во Франции началось восстание — уставшие от авторитарного режима генерала де Голля студенты вышли на улицы. Стены домов покрылись бунтарскими надписями:
Запрещать запрещено!
В обществе, отменившем все авантюры, единственная авантюра — отменить общество!
Будьте реалистами, требуйте невозможного!
Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрешь с голоду, платят риском помереть со скуки.
Я люблю тебя! О, скажи мне это с булыжником в руке!
И был еще один лозунг: «Под брусчаткой пляж!» — он появился после столкновения митингующих с полицией на бульваре Сен-Мишель. Бульвар был выстелен брусчаткой, студенты выдирали булыжники и швыряли в полицейских. За сутки бульвар (41 400 кв. м) полностью «облысел», лишился брусчатки. Остался лишь песок. Французские студенты нашли свой пляж, добились своего — де Голль ушел.
Пройдет больше 40 лет, и эта фраза — о пляже, скрытом под брусчаткой, — станет эпиграфом (и важным лейтмотивом) романа Томаса Рагглза Пинчона «Внутренний порок».
Действие «Порока» развивается чуть позже восстания во Франции — 1970 год, весна; время шумное и полное событий — процесс над Чарли Мэнсоном, начало правления Никсона, первый человек на Луне (20 июля 1969-го) и угасание эпохи хиппи. Америка в то время переживала то же, что и Франция в 1968-м: усталость от милитаризма и идеалов общества потребления — машина-дом-работа-могила, вот это все. В конце 60-х страну лихорадило: вьетнамская война, Стоунволлские бунты, стремительно набирающее силу движение феминисток. Количество точек напряжения росло так быстро, что правительство просто не успевало (или — не желало) реагировать на них адекватно[13].
И — так же, как во Франции — студенты в США в 1969-м повсеместно захватывали административные здания университетов — и выдвигали свои требования: вывод войск из Вьетнама и реформы.
Потом был Вудсток, самый массовый антивоенный фестиваль в истории, и первые жертвы среди протестующих — десятки безоружных студентов погибли в столкновениях с полицией во время демонстраций.
Французский и американский бунты имеют общее начало — жажда настоящего, борьба с казенной культурой («ктулхурой», как сейчас говорят), — но разные концовки: парижские студенты в итоге все же нашли под брусчаткой свой пляж — камень стал их символом, оружием, — американские же еще несколько лет бессильно наблюдали за тем, как самый одиозный из американских президентов, Никсон, отправляет очередную партию солдат во Вьетнам — умирать.
Я думаю, именно поэтому Пинчон взял в качестве эпиграфа лозунг французских бунтовщиков — любой читатель, знакомый с историей вопроса, сразу (или — почти сразу) поймет, куда смотреть и как читать роман.
В самом тексте ТРП не упоминает ни Вудсток, ни столкновения студентов, ни акции протеста — все это здесь уведено в подтекст, на глубину, туда, куда обычно заглядывают только самые дотошные и упрямые читатели; автор работает не столько с фактами, сколько с атмосферой того времени — она наполнена шумом прибоя, психоделическими трипами, марихуановым дымком и паранойей; предчувствием плохого.
И пусть на сюжетном уровне роман выглядит как нуар-детектив в стиле Рэймонда Чандлера (исчезновение бывшей девушки, куча странных персонажей и тайных заговоров), эпиграф не позволит вам заблудиться, он выполняет здесь роль стрелки компаса — и как бы намекает: «под брусчаткой сюжета — тоже пляж!» — то есть другая история, заряженная ностальгией и грустью, история о людях, живущих на стыке эпох, о людях, которых тошнит от «ценностей среднего класса» («…that endless middle class cycle of choices that are no choices at all»).
>>>
Писать о Пинчоне всегда очень сложно — его метафоры обладают одним замечательным свойством: они сопротивляются любым попыткам внятно их сформулировать, автор дает их как бы на уровне предчувствия. Это как зуд в области гиппокампа — ты знаешь, что нашел что-то, тут определенно есть связь, но тебе не хватает слов, чтобы эту связь описать. В случае с пинчоновскими метафорами граница языка пройдена — и вам приходится опираться только на свои ощущения.
Вот и во «Внутреннем пороке» так же: тема моря / большой воды — ключевая в романе (вторая тема — зубы, но о них ниже); текст (почти) целиком построен на морских/водных метафорах: тут и название, и эпиграф («…пляж!»), и лейтмотивы корабля/ковчега, и целый континент, ушедший на дно (Лемурия), и даже — внимание! — Иисус на доске для серфинга. Последний, кстати, очень важен для понимания архитектуры романа:
«…[у него дома] висела бархатная картина — Иисус, правая нога балбесски впереди, на грубо сработанной доске с балансирами, призванной обозначать распятие <…> Что еще может означать это „хождение по водам”, как не серфинг на библейском жаргоне?»[14]
Борьба с течением — вполне подходящий образ для описания контркультуры в США в 60-х, и серфинг — занятие, полное солнца и драйва, — можно понимать как метафору жизненной философии того поколения (поэтому и Иисус у них — не распятый за чужие грехи страдалец, а герой, укрощающий волны).
Образ воды развивается дальше: в беседах персонажей упоминается Лемурия — эдакое утопическое государство, анти-США, анархический рай, в который мечтает попасть каждый серфер/хиппарь («…благословенное это судно стремится к лучшему берегу, к некой неутопшей Лемурии, поднявшейся и искупленной, где американская судьба милосердно так и не осуществилась…»).
И параллельно с водной метафорой — светлой и (местами) психоделической — ТРП раскручивает другую — метафору клыков и вампиризма (дантист и следы укусов на шее прилагаются).
В сюжете все время мелькает некий «Золотой клык» — таинственная организация, пустившая корни, кажется, во все сферы американской жизни. Агенты «Клыка» контролируют весь процесс производства и распространения наркотиков. И даже больше: под колпаком «Клыка» находится не только наркотрафик, но и реабилитационные центры для наркоманов. Замкнутый цикл: люди подсаживаются, теряют все, приходят в клинику, лечатся, выходят и снова подсаживаются — и весь этот круговорот наркош контролирует (и обналичивает) одна организация:
«…если Золотой Клык способен подсаживать своих клиентов, чего б ему не развернуться и не продать им программу соскока? Пусть ходят туда-обратно, доход вдвое больше, новых клиентов искать не надо — коль скоро от жизни в Америке нужно сбегать, картель всегда может быть уверен в бездонности своего резервуара новых потребителей».
Вот так — если Лемурия символизирует социальный рай, где «американская судьба милосердно так и не осуществилась», то «Золотой клык», стало быть, анти-Лемурия — организация, цель которой — превратить своих клиентов в рабов, загнать их в рамки, в эту карусель вечного потребления.
На этом противостоянии двух систем/утопий Пинчон строит один из важнейших концептов романа. Следите за руками: на пресловутый «пляж» (то есть в Лемурию) можно попасть, лишь открыв «двери восприятия», то есть с помощью дозы; и тут возникает уловка-22 — ведь покупая «билет на пляж» (то есть дозу), люди отдают свои деньги именно «Золотому Клыку», организации, чья главная задача — покрывать этот самый пляж брусчаткой (то есть строить общество потребления).
Вот так: попытка вырваться из Системы лишь усиливает Систему.
Может быть, это и есть главный порок человеческой природы?
>>>
Кстати о названии — оно здесь тоже непростое: кроме очевидного биологического/медицинского толкования («…порок» — как порок сердца, например; то есть — червоточина, дыра в жизненно-важном органе) есть еще и юридическое: внутренним пороком в морском праве называют присущие застрахованному грузу свойства, которые могут привести к его гибели и порче («То, чего нельзя избежать», — говорит один из героев). Например, при перевозке шоколад может растаять, а яйца — разбиться; это и есть их внутренние пороки, на них страховка не распространяется.
И если продолжить/дорисовать эту метафору и представить себе, что Калифорния (или шире — Америка [или вообще любое государство]) — это корабль/ковчег, груз которого — граждане; то сам термин «внутренний порок» здесь обретает какой-то совсем зловещий смысл. Ведь это значит, что даже на ковчеге всегда есть пассажиры, которым суждено разбиться/умереть, — их смерть изначально предусмотрена «нормативными актами».
Так работает Система. И уйти от нее можно только одним способом — по воде. Но не в библейском, а в пинчоновском смысле (см. замечание об Иисусе-серфере выше)[15].
Дон Делилло: язык и террор
Дон Делилло родился в 1936 году в Бронксе. Сын итальянских эмигрантов, в своих романах он тем не менее никогда не писал об исторической родине и не обращался к теме идентичности. На самом деле сложно представить себе писателя более американского: круг ключевых для него тем — по сути отражение интересов и страхов американского общества второй половины XX века: бейсбол, медиа, конспирология, консьюмеризм, терроризм, религия, холодная война и многое другое.
Литературой Делилло увлекся в старших классах: подростком, чтобы заработать денег на карманные расходы, он устроился на работу парковщиком — свободного времени было много, и большую его часть он проводил, слушая бейсбольные трансляции по радио или читая романы Фолкнера и Хемингуэя.
Позже, в 1958 году, окончив Фордхэмский университет по специальности «визуальные коммуникации» (Communication Arts), он устроился копирайтером в нью-йоркское агентство Ogilvy & Mather, где проработал вплоть до 1964 года. Убийство Джона Кеннеди в ноябре 1963-го стало важной вехой в истории США — «7 секунд, сломавшие хребет Америки», — писал Делилло, и на него это событие тоже оказало большое влияние, и, кроме того, оно совпало с началом его творческого пути — спустя полгода после убийства президента он уволился с работы и взялся за первый роман: «Мне кажется, ни один из моих романов не мог бы быть написан до убийства Кеннеди», — признался он в одном из интервью.
«Американа» (1974)
В основе сюжета «Американы» история телевизионного продюсера, который, устав от рутины, отправляется в путешествие на автомобиле, чтобы снять фильм-автобиографию. Позже, вспоминая свой дебют, Делилло говорил: «Над первым романом я работал два года, прежде чем вообще осознал, что хочу быть писателем <…> Не думаю, что если б я сегодня принес этот роман издателю, его бы приняли. Полагаю, редактор бросил бы его на пятидесятой странице. Рукопись была многословная и неотесанная, но два молодых редактора что-то увидели в ней, и нам с ними пришлось хорошенько поработать над текстом, чтобы он приобрел приличный вид». Книгу издали, и, несмотря на весьма скромные отзывы, «Американа» стала важной вехой в биографии Делилло — он понял, что будет писателем.
«Имена» (1984)
«Имена» — в некотором роде переломный роман американца, ведь именно здесь он начал оформлять и формулировать идеи, которые позже станут для него ключевыми. Тут, в частности, впервые появляется классический протагонист Делилло — немолодой, не очень успешный и [чаще всего] разведенный мужчина, который неловко пытается найти общий язык с бывшей женой, детьми и окружающим миром.
Действие «Имен» происходит в чужой стране, в Греции, и потому проблема языка становится для романа (и героя) одной из ключевых. Язык здесь понимается в самом широком смысле — как способ коммуникации, понимания знаков и символов, обмена данными и даже как объект религиозного культа: сюжет книги вращается вокруг тайного общества, последователи которого убивают людей, оправдывая пролитую кровь «святостью языка», — именно здесь, в «Именах», Делилло впервые сталкивает терроризм, конспирологию и религию — позже их изучение станет центральной темой его творчества.
«Белый шум» (1986)
«Белый шум» принес автору Национальную книжную премию. Здесь к любимым темам писателя (язык, терроризм, конспирология) добавляется еще одна: телевизор. Или точнее — современные медиа.
Главный герой здесь очень похож на Джеймса из «Имен», его зовут Джек Глэдни, и он преподаватель в провинциальном университете, основатель кафедры «гитлероведения» (sic!). Живет с пятой по счету женой и целым выводком детей от предыдущих браков. Биография Джека довольно незатейлива: семья, работа, дом, машина — все радости среднего класса. Свою карьеру он построил на изучении («изучении») Гитлера, но выучить немецкий язык так и не удосужился (поэтому, узнав, что скоро в университете состоится конференция гитлероведов, Джек остро чувствует свое самозванство и боится разоблачения).
Всю жизнь Джек провел в зоне комфорта, даже несколько разводов, кажется, не оказали никакого корректирующего воздействия на его мировоззрение. Но (всегда есть это но) все меняется, когда недалеко от его дома происходит утечка пестицида и над головой у Джека пролетает облако токсичного газа.
Структурно «Белый шум» напоминает киносценарий: роман смонтирован из четких мизансцен, ярких визуальных образов и длинных (сократических) диалогов. Герои у Делилло не просто разговаривают, они словно передвигаются в кадре, играют на камеру, и даже переходы между сценами выполнены по всем канонам телевидения — каждую главу завершает повисший в воздухе вопрос или крупный план. Или панчлайн. «Телевизионность» текста нагнетается еще и внезапными вставками в стиле:
«По телевизору сказали: „…и другие тенденции, которые могли бы оказать огромное влияние на ваш портфель ценных бумаг…”»
Или:
«По телевизору сказали: „…до тех пор, пока флоридские хирурги не вставили искусственный плавник…”»
Весь роман Делилло прокладывает такими вот почти дадаистскими врезками из случайных телепрограмм, усиливая эффект присутствия экрана, болтливой машины, которая белым, бессмысленным шумом вклинивается в диалоги и мысли персонажей.
Гипнотический бред рекламы просачивается даже в подсознательное. Одна из самых тонких сцен в романе: главный герой смотрит на спящую дочь и испытывает щемящее чувство любви, склоняется над ней, пытаясь разобрать, что же она бормочет, и вместо сновидческого откровения слышит: «Тойота Селика».
Но дело не только в рекламе: «Белый шум» — еще и иронический гимн супермаркетам. Они — новая форма религии. Они так важны, что люди теперь измеряют степень благосостояния района расстоянием до ближайшего торгового центра:
«Некоторые дома в городе выглядели запущенными. Садовые скамейки нуждались в починке, разбитые мостовые — в новом покрытии. Знамения времени. Но в супермаркете ничего не изменилось — разве что к лучшему. Богатый ассортимент, музыка, яркий свет. Вот в чем все дело, казалось нам. Раз супермаркет не приходит в упадок, значит, все прекрасно и будет прекрасно, а рано или поздно станет еще лучше».
Все эти бесконечные, уходящие куда-то вдаль полки с продуктами: фрукты, овощи, салаты, печенье (две пачки по цене одной), икра, тунец, филе лосося, яркие упаковки, этикетки со сроком годности и штрих-коды — в романе «Белый шум» все это превращается в настоящий лабиринт, в прямом смысле: самая смешная история в книге — о пенсионерах, которые заблудились между продуктовыми рядами и несколько дней жили прямо там, в магазине, — не могли найти выход. Апофеоз победы консьюмеризма над человеком; желудка — над мозгом.
>>>
Странное дело: о «Белом шуме» написаны сотни статей, исследователи трактуют роман как экологический манифест, сатиру на общество потребления и семейные ценности в эпоху победившего телеэкрана. Но, кажется, никто — или почти никто — не заметил отсылки к Толстому.
Я думаю, «Белый шум» — это вариация на тему «Смерти Ивана Ильича» (если не сказать — оммаж). Повесть Толстого всплывает в одном из диалогов, когда герои — напомню, довольно нелепые герои — обсуждают главную тему романа:
— Иван Ильич кричал три дня. Большей осмысленности от нас добиться нельзя. Толстой и сам силился понять. Он до ужаса боялся смерти.
— Такое впечатление, будто наш страх и становится ее причиной. Будто научись мы не бояться, каждый мог бы жить вечно[16].
Делилло пересаживает фабулу толстовской повести в Америку 80-х — и наблюдает.
У этих двух историй довольно много общего — вплоть до прямых цитат и упоминаний.
Жизнь Ивана Ильича изменилась после того, как он упал с лестницы и ударился боком о ручку оконной рамы. Джек Глэдни тоже пережил своего рода «обращение» — над головой у него пролетело токсичное облако ниодина «Д», и с тех пор он ищет у себя симптомы отравления и пытается посчитать, сколько ему осталось жить.
Оба героя ходят по врачам, сдают анализы, врачи же темнят и старательно увиливают от ответов.
Тут, впрочем, надо сделать поправку на время: Иван Ильич был безутешен, он быстро потерял надежду на медицину, единственное, что служило ему отдушиной, — общение со слугой, Герасимом. Герой Делилло мыслит иначе, он — дитя XX века, он верит (или хочет верить) в существование таблеток, которые смогут излечить его от страха смерти. И эта нелепая вера во всесилие фармакологии и прогресса пронизывает весь «Белый шум»: люди сегодня зависимы от многого, но более всего — от иллюзий.
Лучше всех идею «Ивана Ильича» сформулировал Лев Шестов (в эссе «Творчество из ничего»):
«Ницше поставил когда-то такой вопрос: может ли осел быть трагическим? Он оставил его без ответа, но за него ответил гр. Толстой в „Смерти Ивана Ильича”. Иван Ильич, как видно из сделанного Толстым описания его жизни, посредственная, обыкновенная натура, одна из тех, которые проходят свой путь, избегая всего трудного и проблематического, озабоченные исключительно спокойствием и приятностью земного существования. И вот чуть только пахнуло на него холодом трагедии — он весь преобразился. Иван Ильич и его последние дни захватывают нас не меньше, чем история Сократа или Паскаля».
Так вот, эта формулировка отлично ложится на характер Джека Глэдни — он ведь тоже «осел», обыкновенная натура, преподаватель дурацкой дисциплины (напомню: он «изучает» Гитлера, не зная немецкого языка). И тем не менее Делилло проделывает с ним то же самое, что и Толстой с Иваном Ильичом (возможно, не так широко и масштабно, и все же), — превращает в трагического персонажа.
А это — признак большого писателя.
«Весы» (1988)
(См. эссе «Культура и трагедия: 11 сентября, Беслан и „Норд-Ост”».)
«Мао II» (1991)
Многие свои идеи Делилло почерпнул из газет — из фотографий и заголовков. Именно так, в частности, появился «Мао II»: в 80-е над рабочим столом у писателя висели две вырезки с первых полос. На одной из них — фото Джерома Сэлинджера (в 1986 году снимок появился на первой полосе The New York Post — папарацци отследили великого затворника впервые с 1955 года), на второй — массовая свадьба на стадионе в Корее.
Именно с этого сюрреалистического образа — гигантской свадьбы, 6000 женихов и невест — начинается книга; и этот мотив — мотив массы людей, в которой лица стерты, а имена не имеют значения, — автор протягивает через весь текст.
Вообще «Мао II» больше похож на манифест, чем на роман, — фабульная часть здесь ослаблена или почти отсутствует; концовка многих разочарует, но это и не важно; Делилло мы любим вовсе не за внезапные твисты в финале, его сила в другом — его романы двигаются за счет грамотно продуманной композиции и лейтмотивов. Вот и в «Мао II» есть целая серия контрапунктов: толпа против личности, оружие против просвещения, террорист против писателя. Язык здесь, как всегда, главный герой. И если в «Белом шуме» автор изучал язык рекламы и супермаркетов, то в «Мао» на первом плане другой язык — язык террора, страха. Главы с описанием сект, массовых свадеб и столь же массовых похорон (Восток) автор перемежает со сценами из жизни писателя-отшельника, Билла Грея (Запад), который едет на переговоры с ливанскими террористами; его цель — вызволить поэта, попавшего в плен к отморозкам. Билл Грей — великий романист, но он живет в реальности, где «будущее принадлежит толпам», а писатели давно утратили статус властителей дум. Раньше мир меняли книги, теперь — бомбы. XX век многое изменил: люди больше не идут за теми, кто апеллирует к разуму, заставляет думать. Думать — сложно и не всегда приятно. Другое дело — общая/национальная идея; здесь думать не надо — ты просто вливаешься в толпу и чувствуешь себя частью чего-то большего. И в самом деле: зачем мозги, если есть национальность? Главный соблазн «объединяющей идеи» в том, что она не требует ничего, кроме покорности, но многое дает взамен — чувство не-одиночества, чувство безусловной правоты («нас много, мы едины, а значит — правы» — сколько людей расстреляли и сожгли в печах из-за этого софизма?).
Об этом и пишет Делилло: «Мао II» — книга о столкновении двух миров: в центре первого — личность, в центре второго — идея. В первом мире жизнь человека бесценна, во втором — не стоит ни гроша. В первом мире любят ближних (родители, дети, друзья), во втором — дальних (царь, пастор, национальный лидер). В первом мире люди почитают конкретных личностей (писатели, ученые), во втором — абстрактных (царь, бог, святые). В первом мире основа этики — свобода выбора, во втором — покорность. Такой вот парадокс: чем ближе к «национальному единству», тем дальше от человека. И именно об этом — о чувстве беззащитности перед миром архаики, когда абстрактные идеи калечат реальных людей, — написан роман «Мао II». Само название здесь — ключ к пониманию книги. Оно отсылает нас к картинам Энди Уорхола. Размноженная, размалеванная морда диктатора.
Underworld (1997)
Как и в случае с «Мао II», толчком для написания романа Underworld послужило фото на первой полосе The New York Times.
«Я собирался написать повесть — страниц 50–60… идею я почерпнул из газетного заголовка, увидел его и понял, что 3 октября 1991 года — это сороковая годовщина той знаменитой игры».
Писатель отправился в библиотеку, чтобы найти микрофильм с архивами газет того времени, и увидел там обложку The New York Times — она была разделена на две равные части, слева — отчет о победе Giants и справа — сообщение об испытательном взрыве первой ядерной бомбы в Советском Союзе. «Так оно и вышло, — вспоминал Делилло, — стоило мне увидеть эту обложку, пути назад уже не было».
Underworld — самый большой и мощный труд писателя, здесь сталкиваются все важные для него идеи сразу: язык, консьюмеризм, токсичные отходы, терроризм, конспирология, религия, медиа, современное искусство.
Кроме того, Underworld еще и самый композиционно-совершенный роман американца: два главных героя, Ник Шей и Клара Сакс, ненадолго пересекаются в молодости, в Бронксе, потом теряют друг друга из виду, он становится экспертом по утилизации токсичных отходов, она — художницей, и спустя сорок лет они снова встречаются посреди аризонской пустыни. А между двумя этими встречами — холодная война, жизнь в страхе перед ядерным ударом, СССР, Кубинский кризис, эпидемия СПИДа и в целом вся политическая и социальная карта Америки. Но есть один нюанс: эпоху эту автор пересказывает в обратном порядке, ретроспективно, — словно отматывает время назад, из будущего в прошлое.
Пролог романа — подробный, детальный рассказ о самом известном бейсбольном матче в истории США — об игре Brooklyn Dodgers и New York Giants в 1951 году. И бодрое, спортивное начало задает тон всему роману: большие события (первые испытания ядерных ракет, эпидемия СПИДа и др.) здесь постоянно оттеняются маленькими, и мир огромный, эпохальный как бы нависает над другим миром — миром простых, повседневных вещей — и меняет его. Холодная война здесь не просто фон, она как дамоклов меч висит над каждым американцем, автор подробно описывает разлитую в воздухе тревогу, предчувствие близости конца — и то, как этот невроз, вечное ожидание ядерного удара — отразился на всей американской культуре и даже на быте: граждане в буквальном смысле лезли под землю, строя бомбоубежища.
Герои книги, к слову, не только люди, но и предметы: ракеты, шприцы и презервативы — три главных символа XX века. Делилло вслед за Пинчоном подхватывает тему ракет — их фаллической формы — и связывает ее с темой сексуальных неврозов и венерических болезней, главная из которых — СПИД (отсюда — лейтмотив шприцев и презервативов, которые бесплатно раздают волонтеры в рамках борьбы с эпидемией вируса в США).
Название здесь, кстати, тоже непростое: в русских статьях о Делилло его по умолчанию переводят как «Изнанка мира». На самом деле в книге слово обыгрывается в нескольких контекстах, но чаще всего именно как преисподняя, подземное царство. В одной из сцен главный герой, Ник Шей, думает о ядерном оружии и радиоактивных отходах, и мысль его по ассоциации перескакивает с плутония на Плутона — владыку подземного мира в римской мифологии («Pluto, god of the dead and ruler of the underworld»). По мысли героя, подземным миром правит Плутон, а XX веком — плутоний (то есть ядерные ракеты). Недаром картина Питера Брейгеля-старшего «Триумф смерти» — один из сквозных образов романа.
Ответить на вопрос: «Почему «Подземный мир» до сих пор не перевели на русский?» — довольно сложно, — его в первую очередь нужно переадресовать издателям, которые, кажется, не приложили вообще никаких усилий для того, чтобы донести имя Делилло до читателей; даже уже существующие переводы его книг (в скобках замечу: в целом Делилло очень хорошо переведен на русский) не спешат переиздавать. В таких условиях надежды на появление «Мира» очень мало, разве что кто-то из переводчиков-патриархов возьмется за работу просто из любви к автору. На издателей, как показывает время, надежды нет.
«Космополис» (2003)
Роман «Космополис» вышел в 2003 году и вызывал недоумение у критиков и читателей. После «Подземного мира» все ждали от Делилло чего-то похожего — огромного, эпохального, а получили небольшой медитативный текст, в котором все действие умещается в один день, а сюжет сводится к тому, что некий миллиардер едет в парикмахерскую, подстричься. Все. Да и романом это можно назвать весьма условно — скорее философское эссе о капитализме, нанизанное на вялотекущий сюжет.
Поэтому, когда спустя пять лет после выхода книги, в 2008-м, ударил финансовый кризис — и банки начали лопаться, как мыльные пузыри, — стало ясно: Делилло (как всегда, впрочем) опередил свое время. Сейчас, читая «Космополис», с его подробными сценами бунтов на Уолл-стрит и обрушением курсов акций, сложно поверить, что все это написано за пять лет до, собственно, обрушения.
Помимо прочего Делилло здесь идеально воспроизвел образ современного ада: бесконечная кафкианская пробка, которой нет конца, в которой все равны — и араб-таксист, и мать троих детей, и миллиардер в личном лимузине. Такая вот ирония: мир, повернутый на эффективности, скорости, энергосбережении, тайм-менеджменте, целыми днями жарится в пробке и никуда не движется.
Здесь же вновь проявляется главный талант Делилло — талант находить красоту и поэзию в обыденных, плоских и скучных вещах: в автомобилях, асфальте, общественных беспорядках, индексе Доу — Джонса, курсах валют и рекламных щитах у дороги.
А Эрик Пэкер — главный герой романа — имеет все шансы со временем стать именем нарицательным, таким же, как, скажем, Антуан Рокантен из «Тошноты» Сартра. Эрик — бизнесмен, он сделал себя сам, но ищет он вовсе не способ преумножить богатства, как раз наоборот — ресурсов у него так много, что аж тошнит, и утрата денег странным образом доставляет ему гораздо больше удовольствия, потому что чувство утраты — единственное настоящее чувство, которое он, пресытившись, теперь может испытать по-настоящему. У Эрика есть все, и тем не менее он чувствует острый дефицит настоящих эмоций и всячески пытается встряхнуть, гальванизировать свою жизнь и нервную систему — и делает это через боль: сперва он просит любовницу выстрелить в него из электрошокера, затем, ближе к концу, сам стреляет себе в ладонь из револьвера.
И в этом смысле «Космополис» — по-настоящему философский, экзистенциальный роман в духе Камю или Сартра, «Тошнота» XXI века, роман о бессилии, о тщетных попытках выжать из идеи прогресса, из мира победивших технологий хоть каплю смысла.
«Падающий» (2005)
(См. эссе «Культура и трагедия: 11 сентября, Беслан и „Норд-Ост”».)
Zero К (2016)
Последний роман мастера критики встретили холодно (при том, что речь в книге идет о криогенной заморозке, и именно к ней отсылает нас название, которое означает абсолютный ноль по Кельвину; действие, кстати, происходит не где-нибудь, a near Chelyabinsk), реакция на книгу сразу после выхода была такой же, как в свое время на «Космополис»: что это было?
Реакцию читателей легко понять, ведь Zero К, как и «Космополис», вовсе не роман, а скорее философское эссе о влиянии технического прогресса на повседневную жизнь. Сюжет здесь статичный и необязательный: главный герой шатается по криогенной лаборатории (и еще чуть-чуть едет в такси ближе к концу) и ждет, когда его смертельно больную мачеху введут в состояние анабиоза, чтобы спустя энное количество лет, когда лекарство от болезни будет найдено, разморозить ее, вернуть к жизни и вылечить.
Смерть — физическая и символическая — была сквозным мотивом во всех романах американца, начиная, наверно, с «Белого шума». Но в Zero К эта тема получает новый виток — прогресс дает людям реальную возможность не только значительно отсрочить, но и (допустим) победить смерть: и именно вокруг этой научно-фантастической, почти герберт-уэллсовской фабулы Делилло и выстраивает новый роман.
Что, если смерть — ключевой элемент в формуле, определяющей ценность жизни? И что случится, если этот элемент изъять? Что будет с обществом, для которого смерть перестанет быть неизбежным концом, но превратится лишь в культурный артефакт, станет вопросом выбора? О чем будут писать поэты? Что случится с историей, с деньгами, с религией? Станет ли победа над смертью одновременно победой над войнами? Или же все будет наоборот — и стремление смертности к нулю даст новый виток развитию технологий убийства?
Сейчас эти вопросы звучат как фантастические допущения — синопсис романа-антиутопии, — но этим ведь всегда и славился Делилло: может так случиться, что через 20–30 лет читатели откроют Zero К и скажут то же, что до этого говорили о «Мао II» и «Космополисе»: эй, а ведь он уже тогда все знал.
Культура и трагедия: 11 сентября, Беслан и «Норд-Ост»
Для начала две истории.
Первая: в 1978 году по немецкому телевидению показали сериал «Холокост» с Мэрил Стрип в главной роли. Речь в нем, как несложно догадаться из названия, шла о жизни одной вымышленной еврейской семьи. Казалось бы — ничего особенного. Война закончилась 33 года назад, Нюрнбергский процесс уже состоялся, был процесс над Эйхманом в Иерусалиме, который тоже освещался в СМИ, все о нем знали. Но ни один из этих судов не вызвал такого сильного резонанса.
А сериал вызвал. Его посмотрели 20 миллионов человек, треть населения Германии, телеканал завалили письмами, большая часть из которых — это письма с благодарностью. Люди писали, что эта история о вымышленных людях заставила их переосмыслить свое прошлое.
После этого в 80-е Германия вступила в состояние, скажем так, философской и политической турбулентности. Стало ясно, что проблема не изжита, что все еще существует запрос на попытки осмыслить эту трагедию. Немецкие публичные интеллектуалы и политики вспомнили о холокосте, и разгорелись новые споры о том, что именно эта трагедия говорит о немецком народе. Оказалось, что даже спустя тридцать три года после войны люди так и не смогли толком выработать контекст, понять, как лучше всего относиться к тому, что произошло.
В это, наверно, сложно поверить, но это факт: телесериал с Мэрил Стрип оказался более эффективным инструментом проработки коллективной травмы, чем все судебные процессы, документальные фильмы, философские, исторические книги и мемуары вместе взятые.
История номер два: в 2000 году американский историк с польскими корнями по имени Ян Гросс опубликовал книгу под названием «Соседи», в которой рассказал о событиях в польском городке Едвабне. В 1941 году там была уничтожена еврейская община. Тысяча шестьсот человек. Их заперли в сарае и сожгли заживо.
И до 2000 года официальная — государственная — версия гласила, что это сделали нацисты.
Ян Гросс провел расследование и выяснил, что на самом деле это дело рук поляков. То есть польская часть городка истребила еврейскую и свалила все на немцев, и следующие пятьдесят с лишним лет они просто жили так, словно ничего особенного не произошло.
После выхода «Соседей» разразился страшный скандал. Вплоть до того, что посол Польши в Германии направил ноту протеста журналу, опубликовавшему интервью с Гроссом. В итоге, когда стало ясно, что замолчать, замылить ситуацию не получится, польский Институт народной памяти со скрипом, но все же признал версию Гросса. С оговоркой, что числа, мол, завышены, да и то — во всем немцы-подстрекатели виноваты, а мы, поляки, хорошие и на такое вообще неспособны.
На этом в нулевые вроде бы все затихло. Но — в 2012-м режиссер Владислав Пасиковский снимает по книге фильм «Колоски» (другое название «Последствия»), И-и-и — цикл повторяется. Скандалы, народ недоволен, фильм требуют запретить, исполнитель главной роли становится чуть ли не персоной нон-грата.
Вот вам две истории о том, как искусство — в данном случае в виде сериала, книги и фильма — заставило народ пережить свою историю заново. Или, скажем так, переболеть историей.
Запомните их, пожалуйста. Они нам пригодятся в конце.
Вообще, сразу надо было сказать, что это будет непростой текст — и для меня, и для вас, — не только из-за темы, но и из-за фактов, которые я буду поднимать.
Поэтому давайте сразу договоримся: я не полиция скорби, я не занимаюсь измерением и сравнением человеческих страданий, моя цель — рассказать о механизме взаимодействия трагедии и художника. На примере нескольких национальных трагедий я хотел бы показать, как важно для культуры работать с трагедиями и — главное — делать это быстро. Потому что, как показывает опыт, если какую-то травму не встроить в контекст сразу, не проработать, то позже, спустя тридцать-сорок лет, она все равно настигнет вас и будет беспокоить, как неправильно сросшаяся кость.
Вот несколько примеров того, как писатели в США работают с болезненными для страны темами.
Дон Делилло однажды признался в интервью, что его писательская карьера началась с одной из самых больших трагедий истории США, а именно — с убийства президента Кеннеди. Я знаю, для нас, особенно с такой временной дистанции, это звучит немного странно — сам Делилло называл это убийство «семью секундами, сломавшими хребет Америки», — но весть об убийстве так сильно его перепахала, что он бросил работу в рекламном агентстве и решил стать писателем.
Позже, в 1988-м, он даже написал «Весы» — роман, целиком посвященный заговору вокруг убийства Кеннеди, где попытался деконструировать образ убийцы, Ли Харви Освальда, и понять его.
«Я узнал, что Ли Харви Освальд жил в Бронксе, недалеко от дома моей семьи, в 1953-м. Мне было 16, ему — 13. Мы не были знакомы, но я был поражен, когда узнал об этой связи <…> Мне кажется, ни один из моих романов не мог бы быть написан до убийства Кеннеди».
Судьба Ли Харви Освальда в итоге и легла в основу сюжета, но не в основу книги в целом.
Всего в романе три истории: первая — собственно, жизнь Освальда с самого детства, его путь от рождения до трех выстрелов из винтовки, до пресловутых «семь секунд, сломавших хребет Америки»; вторая — история о заговоре цээрушников, задумавших устроить небольшой переполох во власти, сфабриковать покушение на Кеннеди («мы не убьем его, мы промахнемся») с целью еще сильнее обострить отношения с Кастро и получить карт-бланш на вторжение в Кубу. И, наконец, третий — самый важный — сюжет: история Николаса Брэнча, архивиста, который собирает информацию о покушении на Кеннеди и то и дело натыкается на странные несоответствия и белые пятна в архиве. Например, узнает, что все люди, так или иначе связанные с Освальдом, умерли не своей смертью и при очень таинственных обстоятельствах (один повесился на колготках, другой вроде как застрелился, но при этом успел после выстрела положить пистолет на стол; и еще много таких необычных смертей).
Все три сюжета Делилло раскрывает одновременно, тасуя, перемешивая главы так, чтобы они перекликались, нагнетая обстановку. И хотя сегодня на теме убийства Кеннеди не оттоптался разве что ленивый (даже Стивен Кинг мимо не прошел), роман «Весы» все равно выделяется на общем фоне, ведь в отличие от прочих авторов теории заговоров интересны Делилло не как материал для сюжета, но как объект для исследования.
У книги множество слоев, но самых важных — три. Первый — бытовой: биография Освальда, его труды и дни, а также повседневная рутина остальных персонажей; второй слой — путеводитель по конспирологии, заговоры, их механика и прочее; и третий — главный: попытка автора понять и сформулировать природу отношений между фактами и домыслами. Именно этот метаслой ставит «Весы» в один ряд с самыми важными образцами американского/английского постмодернизма. «Факты одиноки», — пишет Делилло. И чем дальше они от нас, тем меньше права у них называться фактами.
В итоге ближе к концу читатель поймет: «Весы» — это вовсе не роман о покушении на Кеннеди; собственно, покушение здесь — сюжетная рамка, не более; на самом деле книга эта — попытка ответить на вопрос: существуют ли факты на самом деле? Или же факт — это просто сферический домысел в вакууме?
В книге есть впечатляющий эпизод: архивист Николас Брэнч копается в сотнях томов дела об убийстве президента и вдруг начинает сомневаться в том, что во всей этой горе пыльной информации есть хоть один факт. А если и есть — он давно и надежно похоронен под тоннами домыслов и интерпретаций.
Это ужасно интересная и важная для постмодернизма книга. И если после нее вы прочтете другой роман Делилло, «Падающий», опубликованный в 2006 году, вы увидите этот контраст — как сильно отличается эмоциональный накал в тексте, написанном спустя двадцать пять лет после трагедии, от текста, написанного тем же человеком — спустя пять лет после трагедии.
Если «Весы» — это книга, написанная «умом», холодный аналитический эксперимент, то «Падающий» — это книга, целиком написанная «сердцем», на эмоциях и об эмоциях.
Вообще утро 11 сентября 2001 года стало переломным для американской культуры. Еще в 90-х, например, режиссер Роланд Эммерих в фильме «День независимости» (1996)[17] успешно развлекал зрителей взрывами — кино даже продвигали именно так: показывали в трейлерах взрывающиеся Белый дом и Эмпайр-стейт-билдинг. Американцы (да и остальной мир) смотрели на все это с огромным удовольствием.
Когда же башни-близнецы рухнули, все изменилось, и нулевые Голливуд встречал уже с предельно серьезным выражением лица — сгустившаяся паранойя давила на культуру: в «Войне миров» (2005), например, никто уже не упражнялся в остроумии на тему «крутые парни не смотрят на взрыв», у Спилберга, в отличие от Эммериха, каждое рухнувшее здание было трагедией, а рядовые американцы выглядели жалкими и запуганными — героев не было, были только жертвы.
Немецкий философ Теодор Адорно говорил: «Писать стихи после Освенцима — это варварство» (чаще всего эту фразу произносят в виде вопроса: «Как можно писать стихи после Освенцима?»[18]). После падения башен-близнецов американская культура столкнулась с похожей проблемой — она пережила перезагрузку. Как писать/снимать после 11 сентября? Привычные приемы постмодерна — маскарад, сарказм, цинизм, пародия — в начале нулевых резко упали в цене[19]. И маятник качнулся в обратную сторону — к сентиментальности; возникла в некотором роде фиксация на теме уязвимости и изживания психической травмы. И чуть позже — на теме мести. Культуре нужен был новый, адекватный духу времени язык: «In the desperate search for meaning in everyday life after 9/11» («В отчаянном поиске смысла в повседневной жизни после 11 сентября» — слова журналиста издания The Observer в статье 2010 года о романе Лорри Мур «Ворота на лестнице»).
«Падающий» стал одним из первых серьезных литературных высказываний о трагедии. Делилло мог взять эту катастрофу, собрать факты и домыслы, смешать их и превратить в захватывающий метатриллер, как когда-то в «Весах», но в «Падающем» он поступает иначе — пишет вещь тихую, камерную, сочиняет рассказ о комплексе выжившего, о психической травме, которую каждый американец — и особенно житель Нью-Йорка — пытается пережить и осмыслить.
Роман начинается сразу с кульминации — мы видим катастрофу глазами главного героя Кита Нойдекера, оказавшегося возле башен-близнецов в тот момент, когда одна из них уже обрушилась, а вторая вот-вот сложится сама в себя. А дальше — мозаика из воспоминаний нескольких героев: детей, художников, простых рабочих, каждый из которых мысленно возвращается в 11 сентября и пытается извлечь из всего этого хоть какой-то смысл или хотя бы понять, как жить дальше после того, как на твоих глазах люди добровольно выбрасывались из окон небоскребов. Иными словами, «Падающий» — это первый роман Делилло, в котором автор позволил себе бояться, и именно эти сырые, необработанные эмоции проявляются в его тексте и делают его настолько отличным от всего, что написал американец.
>>>
К этому тексту, который потом стал лекцией, я готовился больше двух месяцев. Я понимал, что не могу говорить только об американцах, я просто обязан сравнить наши культуры и показать на контрасте, как по-разному они работают.
Чтобы проиллюстрировать свою мысль, я стал задавать друзьям и родственникам вопросы:
О чем вам говорит слово «Беслан»? А «Норд-Ост»?
И хотя все, разумеется, слышали об этих трагедиях, воспоминания о них были довольно фрагментарны и неточны. Главное, что меня поразило, — это неспособность респондентов ответить на, казалось бы, простые вопросы. Многие из них путались в годах и в датах, большинство не помнило абсолютно никаких подробностей, кроме того, что «это были теракты в начале нулевых», «там было много жертв» и «это по телику показывали».
Я знал, что у русских проблемы с памятью, но я и не подозревал, что все настолько плохо. Эти события — трагические, страшные — настолько не отложились в памяти людей, что мои вопросы иногда просто ставили их в тупик. И мне пришлось самому рассказывать им подробности, что вот, мол, 1 сентября 2004 года в Беслане террористы взяли в заложники целую школу, 1128 заложников. Осада продолжалась 4 дня, все это время заложники голодали и мучились от жажды. В результате перестрелки погибли 314 заложников, из них 186 детей. Страшные числа.
Что меня больше всего поразило, когда я стал копать в эту сторону, — я узнал, что самый большой и подробный текст о Беслане написал не русский писатель, а американец, корреспондент The New York Times Кристофер Чиверс — по заказу американского же Esquire.
Вот так удивительно странно работают две культуры — США и России. Когда какое-нибудь страшное событие происходит в США, культура начинает мгновенно это событие перерабатывать, наносить на карту истории, встраивать в контекст. Вряд ли кто-то из вас помнит, но, например, 15 апреля 2013 года в Бостоне произошел теракт. Это была очень резонансная история, потому что устроили его чеченцы. Произошло два взрыва, погибло 3 человека, пострадало около 280.
В 2016-м в США уже сняли фильм об этом марафоне. Называется «День патриота», и главную роль в нем играет Марк Уолберг.
>>>
Когда у меня был готов черновик, я собрал, скажем так, небольшую фокус-группу, нескольких друзей, и тезисно пересказал им все темы, которые собираюсь затронуть на лекции, — я репетировал и смотрел, как они реагируют.
И это тоже было неприятным открытием, потому что когда я рассказал про сериал «Холокост», который по сути перепрограммировал Германию, люди сказали: вау, вот это история, класс. Потом я перешел к истории про Едвабне и Яна Гросса, и люди тоже реагировали на это одинаково — они были возмущены, на их лицах благородное негодование; потом я рассказал им об 11 сентября, о Доне Делилло, и эти истории уже не вызвали такого энтузиазма и удивления, и очень легко объяснить почему.
Об 11 сентября написано, снято и спето так много, что эта трагедия уже стала частью культуры, не только американской, но и мировой. Известны все имена, все возможные данные находятся в открытом доступе. Есть огромные статьи о людях, которые погибли там. Есть книги, есть с десяток фильмов.
А потом я перехожу к последней части лекции. И начинаю рассказывать про Беслан. На этом месте один мой друг, который все это слушает, чуть-чуть меняется в лице — по нескольким причинам: во-первых, он ничего об этом не знает, не знает даже, когда это было, многие из тех, кого я опрашивал, даже не могут вспомнить дату, хотя, казалось бы, тут интуитивно можно угадать — в какой день удобней всего захватывать школу?
Рассказывая о Беслане, я начинаю вдаваться в страшные подробности: о том, что мужчин почти сразу начали расстреливать, и для этого их отводили в кабинет литературы и стреляли в них под портретом Маяковского. Примерно на этом месте некоторые из моих друзей начинали ерзать в креслах и перебивали меня: одна моя подруга сказала, что это звучит слишком нереалистично и литературно — расстреливать людей под портретом Маяковского.
Никто не подвергал сомнению мои истории о сериале «Холокост» с Мэрил Стрип, никто не подвергал сомнению мою историю о Яне Гроссе, ни у кого даже мысли не возникало перебить меня, когда я рассказывал об 11 сентября.
Но как только я начал рассказывать об ужасах Беслана, люди реагировали на это болезненно. Точно так же поляки реагировали на книгу Яна Гросса «Соседи», они не могли это принять, они начинали искать подвох в моих словах.
Почему такое происходит?
Потому что эта трагедия не проработана нашей культурой. Она замылена. Никто в России, кроме специалистов либо журналистов, никто ничего практически не знает ни о Беслане, ни о «Норд-Осте». Никто не знает, что за мюзикл «Норд-Ост», по какой книге его поставили.
Две эти трагедии — это колоссальный культурный материал, и он лежит нетронутый уже пятнадцать лет.
Сколько фильмов снято об этом? Ни одного.
Сколько книг написано? Ни одной. Или скажем так: ни одной хорошей.
Сколько людей погибло? Почти никто не помнит. Хотя информация есть в свободном доступе.
Если отвлеченно взглянуть на две культуры — американскую и русскую — то мы увидим такую закономерность. Американская культура реагирует почти мгновенно, русская реагирует с очень сильной задержкой — в среднем лет двадцать, иногда, очень часто, даже больше — лет пятьдесят. Наша культура начинает тянуться к трагедиям только после того, как сменяется власть.
И это мне кажется очень большой проблемой. Потому что культура питается историями. Культурный ландшафт, он в принципе нужен для того, чтобы осмыслить, упорядочить движение истории.
Почему книжка Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко и запредельно близко» так важна для американской культуры? Она ведь как раз об этом — о человеке, который пытается придать смысл трагедии, пытается убедить себя, что все это было не напрасно, что все это можно как-то искупить.
Мне кажется, в этом еще и гениальность этой книги. Ее главный герой Оскар Шелл находит ключ. Он знает, что этот ключ принадлежит его отцу, погибшему отцу, — и у него появляется миссия, цель. Он убеждает себя в том, что если он найдет замок или дверь, к которым этот ключ подойдет, то он найдет там ответы на свои вопросы.
Фоера очень много критиковали за очевидные метафоры и за мелодраматичность. Но, мне кажется, это нечестная критика, потому что книга о только что свершившейся большой трагедии не могла быть другой.
И американцы, которые эту книгу читали, чувствовали родство с Оскаром Шеллом, как раз потому, что каждый из них в то время был Оскаром Шеллом. Каждый американец после 11 сентября чувствовал себя вот таким незащищенным потерянным ребенком. Оскар Шелл, если хотите, был героем того времени. Напуганный подросток, который боится чужаков и который не может смириться с тем, что в мире нет смысла.
Вы помните, чем заканчивается книга? Оказывается, что ключ принадлежал не отцу. Отец купил вазу, ключ там оказался случайно, и это ключ от какой-то ячейки, где хранятся совершенно неважные для Оскара вещи. Я много слышал разочарованных отзывов, что, мол, такое серьезное построение сюжета идет, а в конце такое разочарование. И мне все время приходится объяснять, что, блин, да вы так и не поняли, это ведь как раз об этом книга: о том, что простых ответов нет, и что иногда ответов вообще нет, и что мир абсолютно равнодушен и хаотичен. О том, что, к сожалению, на самые большие и страшные вопросы ответов ты не получишь.
И во многом поэтому эта книга так сильно срезонировала в свое время и была так популярна. Она и сейчас популярна, заслуженно популярна. Но для нас, русских читателей, очень важно понимать контекст: потому что Фоер идеально зафиксировал Америку тех лет. Он это почувствовал и записал. Потому что когда книга писалась, американцы постоянно говорили об этом, люди все время пытались найти в этом смысл, хоть какой-то, понять, кому это выгодно, кто мог допустить такое, как можно было это предотвратить.
И эта книга стала отражением времени.
Про интернет часто говорят, что это такая территория абсолютной свободы и что там можно найти все, что угодно. Может, оно и так, но есть один нюанс: информация в интернете не возникает просто так, сервера лишь хранят ее, а создают и осмысляют ее люди.
Точки входа в культуру создает художник. Человек. Мы с вами.
Это я к чему. Если я захочу прочесть вообще всю информацию об 11 сентября, все, что есть в интернете, вот просто сяду, открою ноутбук и начну читать — то закончу я где-то лет через тридцать. Настолько много данных у меня есть: это книги, фильмы, статьи, все что угодно.
Если же я захочу по открытым источникам изучить трагедию в Беслане, то данные у меня закончатся дня через два: это будет статья Кристофера Чиверса, статья в Википедии, которая, надо отдать ей должное, довольно подробная, и еще серия каких-то статей, посвященных годовщине трагедии, без особых подробностей.
Понимаете, в чем дело?
Интернет довольно бесполезен, если нет людей, которые наполняют его данными, создают точки входа в культуру.
Одиннадцатое сентября изучено просто по миллиметру. Что же касается нашего с вами прошлого, то здесь проблема: я бы очень хотел знать, с какого перепугу 3 сентября 2004 года два российских танка Т-72 подъехали к школе в Беслане и начали стрелять по ней крупнокалиберными снарядами, вслепую, прекрасно зная, что внутри заложники и что их больше тысячи, в этой маленькой школе. Я бы хотел понять, почему это произошло. Я хотел бы, чтобы мне объяснили. Хотя бы на уровне литературы. Но мне неоткуда взять эту информацию.
Про наше поколение, миллениалов, про тех, кто моложе тридцати, сегодня много пишут. Пишут, что прогресс сделал нас инфантильными, что изменился быт, изменилось отношение ко времени как таковому. И главное — что мы боимся ответственности. Раньше я думал, что все это — такое преувеличение, что каждое новое поколение всегда подвергается подобной критике. Но пока я читал о Беслане и «Норд-Осте», я понял, что уже заканчиваются десятые годы, а мы еще даже не начали осваивать нулевые, ни я, ни мои сверстники, — мы ни черта не знаем о времени, в котором жили; оно не освоено, не осмыслено — у нас нет точек входа в это время.
И это, наверное, главный вывод, который я сделал, пока собирал данные для этого текста: взрослые — это мы, и кроме нас самих нам никто никогда ничего не объяснит.
Лорри Мур до и после 9/11
1.
Лорри Мур — одна из самых важных фигур современной американской литературы. Она — мастер короткой прозы; причем «короткой» во всех смыслах. Ее рассказы написаны пунктирным стилем, в котором пропусков больше, чем слов. Говорят: чтобы рассказ получился, нужно выкинуть из него начало и конец; Лорри Мур идет дальше — она выкидывает начало и конец почти из каждой сцены. Ее цель — не просто рассказать историю, но — стимулировать воображение читателя, заставить его в уме дорисовывать линии, договаривать диалоги и доживать конфликты.
Все персонажи Мур во многом похожи друг на друга (и, наверное, на автора) — женщины, занятые вечным самокопанием, погруженные в себя с головой: низкая самооценка, средний возраст, высокий интеллект. Но каждую из них — будь то безвестная актриса с ее вечно неудачными попытками наладить личную жизнь (Willing) или домохозяйка, которую смерть любимого кота так сильно выбила из колеи, что она почти забыла про собственную дочь и теперь ходит на приемы к «кошачьему психологу» (Four Calling Birds, Three French Hens), — каждую из них отличает детально прописанная внутренняя жизнь.
2.
Проза Мур местами предельно проста и как-то вызывающе не-описательна; мебель, окна, одежда — все это часто существует почти по умолчанию; например, пончо в рассказе Willing выглядит так: «…a handsome man in a poncho, а bad poncho — though was there such thing as a good poncho?» («…красивый мужчина в пончо, в плохом пончо — хотя разве пончо может быть хорошим?»); лишь позже, дочитав один из текстов, ловишь себя на мысли, что единственный предмет интерьера, выхваченный автором из темноты воображения, — это стеклянная ваза без воды, в которую героиня между делом поставила цветы. И, продолжая читать, думаешь: «Так, в вазе нет воды, цветы же завянут».
И так везде: одна деталь тянет на себе весь сюжет.
3.
Сюжет, который в текстах Мур неподвижен, как фотоснимок; чтобы его пересказать, больше пяти слов не потребуется; действие обычно происходит в течение очень короткого отрезка времени, иногда — буквально двух-трех часов (рассказ Charades, например), характеры же, напротив, всегда в движении; интенсивная внутренняя жизнь героев — вот что действительно интересует автора. И дело здесь даже не в пресловутой диалектике души — тут все иначе; если персонажи Толстого, например, менялись, пережив что-то действительно большое, жуткое, эпохальное (см. «После бала»), то у Лорри Мур диалектика души другая — тихая, спокойная. Антиэпохальная. Тут нет воплей, драк и насилия. Любая бытовая мелочь тут может полностью изменить человека.
Это легко проиллюстрировать на примере рассказа Charades из сборника Birds of America. После семейного ужина все родственники по очереди выходят в центр комнаты, берут из салатницы бумажку, читают имя знаменитости / название песни и потом жестами в течение минуты пытаются изобразить то, что прочитали. Легкомысленную салонную игру Мур превращает в инструмент для изучения / раскрытия характеров. Мы смотрим на игру глазами главной героини, Терезы, и слышим ее мысли. Ее внутренний монолог помогает нам выстроить иерархию внутри семьи. Уже в таком виде рассказ очень хорош, но Мур идет дальше — и ближе к концу между Терезой и ее братом, Эндрю, происходит короткий диалог, после которого героиня понимает, что их отношения больше никогда не будут прежними. Но изменились они внутренне, внешне все осталось как было — никто из родных (возможно, даже Эндрю) ничего не заметил.
4.
Вот первое предложение из рассказа Willing:
«In her last picture, the camera had lingered at the hip, the naked hip, and even though it wasn't her hip, she acquired a reputation for being willing».
(Приблизительный перевод: «В ее последней картине камера задержалась на бедре, на голом бедре, и хотя это было не ее бедро, она приобрела репутацию актрисы, которую легко уговорить».)
Есть как минимум две причины, почему начало рассказа Willing прекрасно:
Во-первых, эта фраза — боль переводчика (хотя, честно говоря, весь корпус текстов Лорри Мур — одна сплошная большая боль переводчика; сложно представить себе тексты, которые при переводе так же упрямо хватались бы друг за друга и за свои английские корни). Уже само название, слово «willing», имеет как минимум два значения — «сговорчивая» (в том числе в сексуальном плане) и «старательная» — и оба подразумеваются / активно обыгрываются в тексте.
Во-вторых, эта фраза — мечта филолога. Мур начинает с образа бедра, которое на самом деле не принадлежит героине, но тем не менее оно определило ее карьеру. Помимо очевидной иронии (ведь репутация героини никак не связана с реальным положением вещей) в этой фразе уже есть все необходимое, чтобы читатель понял, кто перед ним: актриса, красивая, не очень удачливая, страдающая от предвзятости продюсеров, — и все из-за дурацкого голого бедра, которое вообще непонятно кому принадлежит. Все как в жизни, короче.
Только очень большой писатель может так плотно насытить смыслом/информацией одно предложение. Вспомните Кафку — он тоже никогда не ходил вокруг да около: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое».
Проверьте сами — возьмите любой сборник рассказов любого писателя: обычно автору нужен минимум абзац (а то и больше), чтобы ввести читателя в курс дела. Но вот утрамбовать всю завязку в одно предложение — это уже высший литературный пилотаж.
Или вот, другой пример, — из рассказа Which is more than I can say about some people:
«When Abby was a child, her mother had always repelled her a bit — the oily smell of her hair, her belly button like worm curled in a pit, the sanitary napkins in the bathroom wastebasket, horrid as a war, then later strewn along the curb by raccoons who would tear them from the trash cans at night».
(Приблизительный перевод: «В детстве мать всегда вызывала у Эбби легкое отвращение — масляный запах ее волос, ее пупок, похожий на червя, свернувшегося в ямке, прокладки в корзине в ванной, мерзкие, как война, и позже разбросанные по обочине енотами, которые по ночам вырывали их из мусорных контейнеров».)
Обратите внимание на развитие образа: предложение началось с рассказа об отношениях матери/дочери, продолжилось описанием внешности и закончилось енотами, достающими прокладки из мусорной урны.
При всей своей синтаксической сдержанности Лорри Мур иногда позволяет себе такие вот визуальные наслоения — скачки от внешности матери к прокладкам, а потом — и к енотам в ночи. И все эти детали нужны, чтобы описать чувства Эбби.
Что-то подобное делал Гоголь в «Мертвых душах» — вот: «День был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает на мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням».
Здесь похожий смысловой скачок — от описания дня, через серый цвет, к солдатам, которые пьянеют ближе к концу предложения.
Или вот — под пером Лорри Мур голос превращается в блюдце:
«Her voice was husky, vibrating, slightly flat, coming in just under each note like a saucer under a cup».
(Приблизительный перевод: «Ее голос был хриплый, дрожащий, слегка плоский, словно расположенный под нотами, как блюдце — под чашкой».)
5.
Одиннадцатое сентября 2001 года многое изменило в американской культуре. Для Лорри Мур оно стало в каком-то смысле определяющим. После теракта она взяла долгую паузу, совсем перестала писать прозу. Лишь в 2009-м вышел ее единственный роман A Gate at the Stairs, как раз посвященный трагедии и комплексу выжившего. И позже — спустя еще 5 лет — появился Bark, самая мрачная, тревожная и, вероятно, последняя ее работа в прозе. Америка нулевых здесь — во всей «красе»: наклейки с политическими лозунгами на бамперах, вторжение армии США в Ирак, мобильники, антидепрессанты, Обама, смерть Майкла Джексона — шум времени задним фоном.
Разницу между текстами до и после 9/11 сложно не заметить: в Birds of America (1998) героев заботят по большей части личные, частные проблемы, а тему смерти Мур если и задевает, то по касательной, и, в общем, в ироническом ключе; иными словами: смерть для ее героев — это то, что происходит с другими. В Bark же все наоборот; каждый рассказ здесь — это история травмы, и даже больше: попытка отогнать мысли о близости могилы (очень легко увидеть в названии «bark» (кора) другое слово: «dark» (темный, мрачный), стоит только отзеркалить одну букву). Новые тексты Мур населены больными людьми так плотно, что иногда кажется — здоровые здесь нужны лишь для контраста.
Уже первый рассказ сборника (Debarking[20]) дает понять, как сильно изменился голос автора.
Главный герой, Айра, знакомится с Зорой на вечеринке у друзей. У обоих за плечами — неудачный брак и багаж в виде комплекса неполноценности и детей-подростков. И вроде бы дальше (по канонам Лорри Мур) должен следовать полный меланхолии (с вкраплениями колкого юмора) рассказ о том, как мужчина и женщина средних лет неловко, неуклюже притираются друг к другу, но вместо этого мы наблюдаем за психическими отклонениями: Зора работает учительницей в младших классах, а после работы, чтобы снять напряжение, любит покурить гашиш; ее хобби — вырезать из дерева маленьких писающих мальчиков; еще у нее есть сын — 16-летний Бруно, которого она всюду таскает с собой — даже на свидания (в кино он, разумеется, сидит между героями, — видимо, для того, чтобы увеличить градус неловкости). Чем дальше, тем больше странных подробностей: у Зоры явные проблемы с выражением эмоций, прямо во время обеда она может сказать что-нибудь вроде: «I love your mouth most when it does that old grimace in the middle of sex» (приблизительный перевод: «Больше всего я люблю твой рот, когда ты так по-старчески морщишь его во время секса»). И постепенно, по мере движения текста, драма превращается в черную комедию. Причем, что показательно, даже при таком количестве неадекватных ситуаций рассказ не скатывается в фарс; Мур никогда не пытается развлечь читателя, задача у нее всегда одна — раскрыть характеры; вкрапления абсурда здесь можно трактовать как показатель усталости автора.
И так — везде. Если раньше, до 11 сентября, юмор в рассказах Л. М. был легким и жизнеутверждающим, теперь же, в Bark, смех вызывает скорее тревогу, чем радость.
Во втором рассказе, The Juniper Tree («Можжевеловое дерево»), краски сгущаются еще сильнее — в сюжет просачиваются мистика, фольклор и библейские аллюзии; три женщины, одна из них недавно пережила ампутацию руки, а вторая — инсульт, повредивший ее кратковременную память и (предположительно) личность, — едут навестить общую подругу, Робин; и все бы ничего, да только Робин буквально вчера умерла от рака… то есть, по сути, они едут на встречу с призраком — и каждая везет свой дар: кроме очевидной — и издевательской — отсылки к библейскому поклонению волхвов, которых тоже было три и каждый точно так же приносил свой дар, тут есть еще и более глубокая отсылка к сказке братьев Гримм «Можжевельник» (опять же — три дара и воскрешение (или мечта о воскрешении) невинного).
Самый же показательный рассказ сборника — это, пожалуй, Foes: главный герой, Бэйк, встречает девушку по имени Линда. У нее необычная азиатская внешность, «а он всегда питал слабость к азиаткам, хотя и знал, что никогда не должен упоминать об этом» («he had always been attracted to Asian women, though he knew he mustn't ever mention this»). Они начинают общаться, и в разгар особо острого политического спора Бэйк смотрит на нее более внимательно и замечает, что на самом деле она совсем не азиатка, ее лицо искажено восстановительными пластическими операциями («the face that had seemed intriguingly exotic had actually been scarred by fire and only partially repaired» — «ее лицо, казавшееся таким интригующе-экзотическим, на самом деле было изуродовано огнем и лишь частично восстановлено»). Ближе к концу Линда признается, что она — жертва 11 сентября; она находилась в здании Пентагона как раз в момент падения самолета и буквально «сгорела заживо» («was burned alive»).
Рассказ Foes может служить очень хорошей метафорой для всего сборника Лорри Мур. В самом начале Bark вызывает восторг, но дальше, чем сильнее вглядываешься в тексты, тем больше они напоминают ту самую Линду — женщину с обожженным и лишь частично восстановленным лицом.
Иными словами: вся эта книга — один большой сеанс психоанализа. Попытка Мур как-то осмыслить то, что произошло с ней 11 сентября 2001 года.
Филип Дик и его профессор Франкенштейн
Вообще, адаптировать роман для кино — задача сложная. Это как попытаться превратить сферу в прямоугольник, глобус — в карту. Масштабы не совпадают, многим приходится жертвовать. Меркаторовы муки.
Если фильм успешен, книга взлетает вверх в списках бестселлеров — и к остальным текстам писателя начинают приглядываться продюсеры. Бывает и наоборот: экранизация попросту вытесняет роман из культуры. Довольно сложно сегодня найти человека, который читал роман «Форрест Гамп», и еще меньше тех, кто помнит имя автора.
Есть и обратные примеры — когда адаптация не только не теснит первоисточник, но и как будто апгрейдит его. Возьмем «Крестного отца» или «Молчание ягнят»: фильмы ретроспективно придают текстам глубину и размах, которых изначально не было. Откровенно говоря, романы Марио Пьюзо и Томаса Харриса — бульварное чтиво про трафаретных бандитов и маньяков-убийц, и в культуре они задержались только благодаря инъекциям таланта режиссеров и актеров.
В эту компанию обычно добавляют «Бегущего по лезвию», но это заблуждение. Фильм Ридли Скотта, может, и добавил популярности Филипу Дику, но от самой книги в нем почти ничего не осталось. Немудрено: Скотт сам признавался, что не читал роман. Сценаристы, кажется, тоже ограничились аннотацией, поэтому кое-где фильм не просто не похож на книгу, но иногда и вовсе противоречит ей.
Тест на эмпатию
Впервые в кабинете психотерапевта Филип Дик оказался в 14 лет. У мальчика начался переходный возраст, мать решила, что он ведет себя странно, и отвела его к специалисту. Дику так понравилось проходить личностные тесты, что их прохождение он превратил в игру, пытаясь обмануть систему, перехитрить вопросники. Эммануэль Каррер писал:
«…Фил научился обходить ловушки, которые скрывались за вопросами, а также угадывать, каких от него ждут ответов. Как ученик, доставший пособие для учителя, он знал, в какой клетке нужно поставить галочку в Личностном опроснике Вордсворта или в Миннесотском опроснике, чтобы получить нужный результат, какой рисунок в каком задании Роршаха следует отметить, чтобы вызвать замешательство специалистов. Он намеренно был то нормально нормальным, то нормально аномальным, то аномально аномальным, то (его гордость) аномально нормальным, и из-за разнообразия и постоянной смены симптомов его первый психоаналитик не выдержал и отказался работать с Диком»[21].
Спустя еще четверть века Дик прочел статью Алана Тьюринга «Вычислительные машины и разум», где описана процедура, с помощью которой можно доказать наличие сознания у машины. Для теста нужны два человека и компьютер. Экзаменатор задает вопросы, второй человек и компьютер по очереди отвечают. Вопросы могут быть самыми разными — от просьбы описать вкус черничного пирога до уравнений и математических формул. Цель экзаменатора — по скорости реакции определить, кто из двух анонимных ответчиков человек. Цель компьютера — обмануть экзаменатора. Идея так захватила писателя, что Дик решил сделать ее основой для романа. Он представил, как подобное испытание могло бы выглядеть в будущем, где машины внешне неотличимы от людей и без проблем проходят тест Тьюринга. Так появился тест Войта — Кампфа на эмпатию, и это очень важно, потому что сопереживание — одна из ключевых тем книги, от которой сценаристы избавились.
В романе тема домашних животных была так важна, что автор даже вынес ее в название. Люди у Дика заводят питомцев, считая, будто уход за живым существом дает возможность сохранить способность к сопереживанию. Сам Рик Декард берется найти и убить четырех андроидов, чтобы накопить денег на живую овцу взамен той, что умерла от столбняка.
Под нож сценариста попал и мерсеризм — религия будущего, которая помогает людям коллективно переживать эмоции и с помощью эмпатоскопа воссоединяться со своим мессией. В итоге история о странных метаморфозах сострадания в эпоху технологического роста превратилась в притчу о важности воспоминаний — и главным конфликтом в фильме стал бунт искусственных людей, которые очень обижены на создателя за то, что он отмерил им так мало жизни.
Миф о Прометее
Еще одно важное расхождение фильма с романом — идея о Прометее. Она важна и для Дика, и для Скотта, но вот трактуют они ее по-разному.
У древних греков Прометей был героем, титаном, который принес людям огонь и был наказан за это богами. У Мэри Шелли появился «новый Прометей» — доктор Франкенштейн, ученый, который бросил вызов законам природы и тоже был наказан за свою непомерную гордыню: созданное им чудовище убило самых близких его людей, а самого Франкенштейна обрекло на скитания.
Свой Прометей есть и в романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» — это Элдон Роузен, владелец корпорации, поставивший производство «чудовищ» на поток. В отличие от первых двух примеров Роузен так и остается безнаказанным.
Один из самых важных лейтмотивов романа Дика — безнаказанность — Скотт в экранизации также проигнорировал. Большой любитель топорного символизма, он цитирует скорее Мэри Шелли: в «Бегущем по лезвию» искусственный человек приходит к своему создателю и убивает его. В романе ничего такого не было.
Возможно, Филип Дик — сам того не понимая — действительно написал продолжение «Франкенштейна», но штука в том, что именно в его исполнении история о беглых гуманоидных роботах выглядит очень точным комментарием к отношениям человека и науки в постиндустриальном обществе. «Андроиды» — это такой луддитский роман с поправкой на XX век, история о мире, где уже случились испытания атомной бомбы и Нюрнбергский процесс, после которых слово «чудовище» наполнилось новыми смыслами. И это очень важно помнить: у Дика «новый Прометей» не просто избегает наказания; наоборот — он процветает, наказаны все остальные. Ведь если попытаться свести «Андроидов» к какой-то одной формуле, то это история о том, что технический прогресс тоже может быть наказанием.
Мир будущего, в котором существует главный герой Рик Декард, — это по сути ад. К вашим услугам все самые современные достижения научной мысли, проблема в том, что большая их часть стоит очень дорого. Технологии в этом мире не только не делают жизнь лучше и легче, а рождают новые проблемы: люди живут в гетто, в заброшенных небоскребах, в воздухе висит радиоактивный туман; все мечтают сбежать из такого будущего, но не могут.
Один из теоретиков киберпанка, Брюс Стерлинг, писал: «Во вселенной киберпанка мысль о том, что существуют некие священные границы, в которых должен держаться человек, — заблуждение. Священных границ, защищающих нас от самих себя, просто нет». Именно Филип Дик первым воплотил эту формулу в жизнь.
«Франкенштейн» Мэри Шелли был романом о запретных тайнах, священных границах, от которых лучше держаться подальше. «Ищите счастья в покое и бойтесь честолюбия, бойтесь даже невинного по видимости стремления отличиться в научных открытиях», — говорит герой Шелли перед самой смертью. Но не таков Элдон Роузен, он не испытывает мук совести, а считает себя атлантом, двигающим прогресс к светлому будущему. Своим примером он доказывает, что никаких священных границ нет. А если все дозволено, то почему бы на этом не заработать?
Банальность зла
В романе Дик переворачивает перспективу. В его будущем именно люди, когда речь идет о последствиях, ведут себя как машины, оправдывая свои поступки логикой и прагматикой: «Я всего лишь делаю свою работу». Андроиды же, напротив, демонстрируют крайне человеческое поведение — или, точнее, поведение, которое принято называть человеческим. Они в отличие от людей эмоциональны, они пытаются понять, зачем их создали и почему обращаются с ними так жестоко. В этом смысле «Андроиды» — еще и роман об обреченности мира, в котором каждый человек «просто делает свою работу».
В одной из первых глав Декард обменивается с Элдоном Роузеном такими репликами:
— Проблема заключается в методе вашего производства, мистер Роузен. Никто не заставлял компанию доводить гуманоидных роботов до такого совершенства, что…
— Мы делали только то, что требовалось колонистам, — перебил его Элдон Роузен. — Мы следовали испытанному принципу коммерции. Если бы мы не занимались совершенствованием андроидов, то это сделала бы другая фирма[22].
Из фильма этот диалог вырезали, а между тем именно в нем, кажется, скрыта самая тонкая мысль Дика, которая очень хорошо отражает суть корпоративной философии, когда борьба с фирмой-конкурентом оправдывает любые потенциально опасные побочные эффекты продукта.
Довольно грустно, если подумать: компания Роузена фактически вывела новый вид мыслящих существ лишь с одной целью — обойти конкурентов и выиграть контракт на поставку андроидов на Марс. Даже хуже: вместо того чтобы признать ошибку и сделать выводы, они пытаются манипулировать властями, замять проблему, чтобы потом выпустить еще более совершенных андроидов, которых невозможно будет вычислить даже с помощью теста Войта — Кампфа.
Как иронично: в греческом мифе Прометей был героем, который бросил вызов богам и спас человечество от смерти, но в будущем, если верить Филипу Дику, такие вот возомнившие себя Прометеями Элдоны Роузены доведут мир до ручки.
Откуда взялся киберпанк: андроиды, провода и Пинчон
У меня дома есть маркерная доска. Работая над этим текстом, я записывал на ней фамилии авторов, которых собирался упомянуть. Брат зашел в гости и, увидев список, спросил, кто все эти люди. Я объяснил.
— У тебя неправильный список, — сказал брат. — Киберпанк начался не с Пинчона. Он начался с Фрэнка Баума. — Я удивленно посмотрел на него, и он пояснил: — Ну как, ты забыл, что ли? В конце «Волшебника страны Оз» роботу пересадили человеческое сердце, а соломенному репликанту — мозги.
— А льву? — спросил я.
— А льву вживили имплант, регулирующий подачу тестостерона.
— А Элли?
Брат задумался.
— Элли просто не знает, что она андроид. Тест Войта — Кампфа тогда еще не изобрели.
— Отлично, — сказал я, — с этой истории я и начну.
Действительно, если мы говорим о трансгуманизме, то — с оговорками, конечно, — его следы можно найти даже в фольклоре, в сказках. Например, «Волк и семеро козлят». Если помните, там волк идет к кузнецу и просит его выковать ему новый голос.
Впрочем, это все, конечно, шутки. Моя задача — рассказать о том, что же такое трансгуманизм, как он проник в литературу и почему это важно.
Для удобства давайте сразу проговорим, что вообще значит это слово: трансгуманизм — это мировоззрение, которое считает возможным и даже необходимым использовать передовые технологии для изменения и улучшения человеческого тела и ума; то есть использовать технологии, чтобы победить страдания, старение и смерть, усилить физические, умственные и психологические возможности человека. Импланты, приращения, киберпротезы — все это трансгуманизм.
Я расскажу о писателях, которые еще в 60–70-е годы разрабатывали идею трансгуманизма, слияния человека с машиной, еще до того, как жанр «киберпанк» вообще успел сформироваться и получить свое название.
Недавно я прочитал интервью с Уильямом Гибсоном за 1986 год. Отец киберпанка, как его любят называть, помимо прочего, признался там, что его любимый писатель — Томас Пинчон. В этом никто и не сомневался, но теперь, как говорится, есть пруфлинк. Меня эта деталь очень заинтересовала, потому что обычно, если речь заходит о книгах-предшественниках киберпанка, первым делом вспоминают «Мечтают ли андроиды…», а между тем уже в V. Пинчон дал трансгуманизма по полной. Действие романа происходит в мире, где есть не только люди, но и «механические куклы». И важная сквозная тема книги — градации одушевленности и отношения людей с техникой — машинами, оружием — и в целом с неодушевленными предметами (вообще, словосочетание «inanimate object» в тексте встречается раз пятьдесят, причем в самых разных конфигурациях по отношению к людям).
Уже здесь, в романе 1963 года, появляется образ опутывающих человеческое тело проводов. А мой любимый эпизод — когда персонаж Стенсил (в оригинале: Stencil — что означает «шаблон» или «трафарет») думает о V., и это натурально трансгуманистическая поэма:
«Стенсил даже оторвался от своих рутинных занятий, чтобы изобразить, какой бы она могла быть сейчас в возрасте семидесяти шести лет: кожа, сияющая чистотой какого-нибудь новомодного пластика, в глазах — фотоэлементы, серебряными электродами подсоединенные к оптическим нервам из медных проводов, ведущих к мозгу, который представляет собой самую что ни на есть совершенную полупроводниковую матрицу. Вместо нервных узлов у нее были бы соленоидные реле, ее руки и ноги из безупречного нейлона приводились бы в движение с помощью серводвигателей, платиновое сердце-насос перекачивало бы специальную жидкость по бутиратным венам и артериям. А может, чем черт не шутит — Стенсилу порой приходили в голову мысли не менее шальные, чем прочей Братве, — у нее имелось бы и прелестное влагалище из полиэтилена со встроенной системой датчиков давления; их переменные мосты сопротивления были бы подключены к серебряному кабелю, по которому напряжение удовольствия подавалось бы напрямую к соответствующему регистру электронно-вычислительной машины в ее черепной коробке. И когда бы V. улыбалась или вскрикивала в экстазе, ее лицо озарялось бы блеском самого совершенного элемента — драгоценного зубного протеза Эйгенвэлью».
В этом же интервью, кстати, Гибсон признается, что не читал «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» и вообще Филипа Дика прочел уже после того, как закончил свою дебютную книгу; что иронично, потому что именно «Электроовец» чаще всего называют в числе предшественников и вдохновителей жанра. Всегда интересно узнать, кого сам автор считает своим предшественником и учителем, а кого ему навязали в силу схожести идей и простых совпадений.
Сама идея постепенного слияния человека с машиной начала давать ростки в литературе еще до войны, но в 50-е американские писатели-фантасты стали всерьез думать об этом, они пытались ответить на вопрос, как человек будет выглядеть в будущем, как изменится наше тело и как эти изменения повлияют на наше сознание, какие моральные дилеммы из этого возникнут, и как мы будем их решать?
Один из самых первых романов, в котором автор описал идею улучшения собственного тела с помощью технологий, — это «Тигр, тигр!» Альфреда Бестера, написанный в 1956 году. Это такая история мести, «Граф Монте-Кристо» в декорациях далекого будущего. Бестер описывает мир, где власть уже давно принадлежит не государствам, а корпорациям. Главный герой Гулливер Фойл пытается найти капитана корабля, который однажды бросил его умирать в космосе. Для того чтобы добиться своей цели, Гулливер обращается к врачам на черном рынке, и ему вживляют кучу имплантов. Честно говоря, я не нашел более ранних и столь же подробных упоминаний и описаний имплантов в литературе, поэтому будем считать, что Бестер был первооткрывателем.
Как мы видим, уже в 1956-м Бестер описывает технологии, которые позволяют усовершенствовать человеческое тело. Там даже есть реплика, когда Гулливер смотрит на себя в зеркало и говорит: «Я уже не знаю, человек я или машина». Всеми своими приращениями он управляет языком, к зубам у него подключены провода, и он использует их как клавиши: стоит ему надавить языком на левый резец — и время замедляется, на правый резец — и он может видеть в темноте.
Похожие мотивы позже возникают и в V. Томаса Пинчона. Там же у Пинчона есть сцена в поезде, совершенно сновидческая: девочка лет 11 плачет, и никто ее не может успокоить; один из персонажей, Бонго-Шафтсбери, подсаживается к ней и спрашивает: «Ты когда-нибудь видела механическую куклу?» — потом закатывает рукав, а у него на предплечье выключатель, и провода идут дальше по руке к мозгу, и он начинает ей объяснять, как работает его мозг, — то есть фактически он андроид.
Вот так в послевоенной литературе — не только в фантастике — постепенно появляется новый паттерн. Наше тело — это больше не храм и не что-то прекрасное, чем можно восхищаться. В книгах Пинчона — и его предшественников Берроуза, Балларда и Бестера — граница между человеком и машиной начинает размываться. Человек превращается в конструктор — и это, на мой взгляд, уже можно назвать первыми ростками киберпанка в литературе.
>>>
Очевидно, что в 60-х писателей-фантастов стали особенно беспокоить вопросы генной инженерии, экологии и демографические проблемы. Мальтузианская ловушка и тому подобное. Тогда всех по-настоящему будоражила идея ограниченности ресурсов и перенаселения. Считалось, что из-за бурного развития медицины, технического прогресса и прочего планете грозит перенаселение, потому что уровень смертности падает, а уровень рождаемости скорее растет, количество ресурсов ограничено, количество людей — безгранично, и что с этим делать — неясно.
Тут надо упомянуть, что в 1962-м Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон за открытие двойной спирали ДНК. С этого момента сама идея о том, что в наших телах есть молекула, в которой зашифрована вообще вся информация о нас и которую в перспективе можно будет даже редактировать, — эта идея начинает просачиваться в литературу.
И если посмотреть списки самых известных сайфай-романов, написанных во второй половине 60-х, то можно увидеть, как быстро идея генной инженерии захватила умы писателей-фантастов и не только.
Это видно, например, в одном из самых значительных романов тех лет «Всем стоять на Занзибаре» Джона Браннера. Автор описывает будущее, 2010 год, примерно наше время, планета страдает от перенаселения, поэтому во многих странах, в частности в США, действуют евгенические законы, не только ограничивающие рождаемость, но и запрещающие людям с дефектами размножаться — причем с любыми, даже самыми мелкими дефектами, вплоть до того, что дальтоникам нельзя заводить потомство, потому что ген дальтонизма должен быть уничтожен.
У него даже есть подсюжет о семейной паре, которая хочет сбежать из Невады в другой штат, потому что по закону их штата дальтоники не могут иметь потомство.
Похожая история о регулировании потомства есть и в «Электроовцах» Филипа Дика, вышедших, кстати, в том же 1968 году. Главный герой там носит свинцовый гульфик и каждый месяц проходит медобследование, чтобы получить справку, что он «регуляр», то есть человек, который имеет право иметь потомство, учитывая уровень толерантности, установленный законом.
О том, как сильно роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» повлиял на неоновую эстетику киберпанка, писали много, в том числе — я (см. «Филип Дик и его профессор Франкенштейн»), но сейчас я хотел бы остановиться на одной важной детали из самого начала романа.
Буквально в первой сцене Дик упоминает имплант, регулирующий настроение людей, и это фантастическое допущение (хотя теперь уже не такое уж и фантастическое — в 2017 году нейробиологи из Калифорнийского университета успели протестировать такой имплант на человеке) тоже в каком-то смысле стало отправной точкой для киберпанка: обыгрывая эту идею — о регулируемом настроении, — Дик задается вопросом: насколько сильно изменится повседневная жизнь, если эмоции можно будет легко настраивать? В теории существование такой машины выглядит заманчиво. Что будет, например, если у нас появится возможность просто не испытывать эмоциональную боль?
На деле же в «Электроовцах» идея выворачивается наизнанку: жена Рика Декарда в первой главе сознательно вредит себе, вводит себя в контролируемое состояние депрессии и вообще использует аппарат не по назначению. Именно здесь уже звучит мысль, которую позже подхватят авторы киберпанк-канона: главная проблема любой технологии в том, что ей пользуются люди; главная проблема людей в том, что у них нет чувства меры.
Джеймс Типтри — мл
Следующий важный писатель, о котором надо сказать, это Джеймс Типтри — младший. Это псевдоним. На самом деле это женщина по имени Элис Шелдон.
У нее очень странная биография, я расскажу о ней чуть-чуть, потому что материала там на целый голливудский фильм.
Она родилась в 1916 году в Чикаго, в очень богатой семье, ее отец был торговцем недвижимостью, а мать, Мэри Брэдли, в то время была известной писательницей.
Элис очень сильно побросало по жизни, она была талантливой художницей, но с искусством у нее как-то не сложилось. Поэтому в 1942 году она записалась в женский армейский корпус, где прошла курсы военной подготовки. На этих курсах она однажды чуть не задушила одну из своих коллег, что, наверное, уже очень многое о ней говорит. В 1943 году она попала в разведку и вышла замуж за полковника ЦРУ. И до 1955 года фактически занималась шпионажем. Потом уволилась из ЦРУ, пошла учиться на психолога и в 1967 году защитила докторскую диссертацию по экспериментальной психологии.
Как она сама рассказывала в интервью, ночью после защиты диссертации она не могла уснуть и, чтобы расслабиться, решила написать фантастический рассказ. Так, в 51 год, фактически началась ее карьера писателя. Ей дико понравилось писать рассказы, и она стала рассылать их в фантастические журналы. Ее цээрушное прошлое дало о себе знать, поэтому она придумала псевдоним Джеймс Типтри — младший (опять же, как она сама рассказывала, «Типтри» — это просто название марки мармелада).
Рассказы ее имели колоссальный успех внутри сообщества фантастов. Странные, самобытные, опережающие свое время. Джеймс Типтри — младший сразу стал главным писателем для писателей. Все хотели с ним общаться, переписку с ним / с ней среди прочих вели Урсула Ле Гуин и Филип Дик.
И один из самых известных и важных для нашего текста рассказов называется «Девушка, которую подключили».
Действие рассказа происходит в уже привычной нам сегодня реальности киберпанка: люди используют импланты, миром правят корпорации, полнейший хаос и мультикультурализм.
Сюжет такой: очень некрасивая девочка по имени Ф. Берке пытается покончить с собой, но у нее не получается, ее вытаскивают с того света. Один корпоративный Мефистофель предлагает ей сделку. У нас есть андроид, — говорит он, — тело женщины, разработанное с учетом всех возможных предпочтений мужчин, идеальный маркетинговый инструмент. Такая усредненная красотка. Корпоративный делец говорит ей: мы переселим в нее твое сознание, и ты будешь жить роскошной жизнью, будешь звездой. Девочка соглашается — а дальше начинается сюжет в стиле «Аватара» Кэмерона. Все, конечно, смотрели фильм, и если вы читали «Периферийные устройства» Гибсона, то тоже прекрасно понимаете, о чем речь; теперь вы знаете, откуда вообще пошла эта идея.
В рассказе андроиды, которыми можно управлять на расстоянии, называются удаленки. Героиню погружают в некий саркофаг и подключают ей провода к голове. Я спрашивал у знакомых, у специалистов, кто разбирается в фантастике, — кажется, это первый случай, когда автор описал систему удаленного управления андроидом и вообще компьютерной системой с помощью подключения проводов напрямую к черепу.
Чем еще примечателен этот рассказ: во-первых, он хорошо написан, Элис Шелдон уделяет много внимания трансформации сознания этой девочки. Там очень подробно и жутко показан этот процесс, когда эта девочка, Ф. Берке, перестает воспринимать свое тело как нечто необходимое, она полностью переселяется туда, в то время как ее собственное «родное» тело начинает гнить.
А во-вторых, фактически в этом рассказе впервые предсказаны умные алгоритмы. То есть автор описывает компьютерную систему, которая не просто собирает данные о просмотрах, о том, что люди смотрят по телевизору, но и помогает с помощью этих собранных данных, анализируя их, людьми манипулировать.
Уже здесь, в 1974 году, фантасты впервые начинают задумываться и реально предсказывать идею о том, что Большие данные — это новая нефть и что, правильно анализируя их, людьми можно легко управлять.
>>>
Еще один очень важный текст Джеймса Типтри — это роман Houston, Houston, Do You Read? Собственно, это даже не роман, скорее трактат о генной инженерии, в котором автор пытается описать общество, где упразднена эволюция, то есть даже эволюцию с помощью редактирования генов держат под контролем. Население Земли составляет 200 миллионов человек, и все до одного — клоны. После Третьей мировой сохранилось 11 тысяч генотипов, и люди продолжают копировать их.
Если кратко, то сюжет такой: трое астронавтов, возвращаясь из космической экспедиции, случайно залетают в некую черную дыру, затем прилетают на Землю, и оказывается, что прошло уже 300 лет и планета изменилась до неузнаваемости.
То есть люди достигли такого генетического дзена, что научились выцеплять дефективные сегменты ДНК, купировать их и тщательно контролировать потомство. Фактически Типтри (или Элис Шелдон) предсказал технологию CRISPR, которая сейчас вызывает очень много шума.
Это написано в 1976 году. Первое млекопитающее, овечку Долли, клонируют только в 1995 году. CRISPR появился в десятых годах, и теперь создаются комиссии по этике, ученые пока просто не знают, как с этим жить и каковы могут быть последствия, — этика не успевает за наукой. А Типтри все это описал уже в 1976 году.
>>>
Карьера самой Элис Шелдон закончилась трагично. В конце 1976-го в письмах друзьям-писателям Джеймс Типтри упомянул, что у него умерла мать. Нашлись ушлые журналисты, которые просмотрели некрологи в чикагских газетах и нашли сообщение о смерти Мэри Хейстингс Брэдли, романистки, автора книг о путешествиях, исследовательницы Африки. У нее был единственный ребенок: Элис Брэдли Шелдон.
В итоге ее вычислили. И это ее просто шокировало. В 1978 году она сожгла все свои рукописи. Издатель продолжал отправлять ей письма, просил написать еще что-нибудь, но Шелдон отвечала, что Джеймс Типтри мертв, а она — всего лишь старая толстая тетка и не умеет писать.
В 1987 году все закончилось плохо, она сначала убила из пистолета своего больного мужа, а потом застрелилась сама.
>>>
Если в 60-е в литературе взошли первые ростки трансгуманизма — ДНК, импланты, — то в 70-е, с развитием кибернетики и появлением Арпанета, писатели-фантасты начали активно писать еще и о компьютерных технологиях.
И здесь мы снова возвращаемся к Джону Браннеру. В 1975 году он выпустил роман The Shockwave Rider. Роман не переведен на русский, и тому есть несколько причин, о которых я еще скажу.
Сюжетно, по атмосфере, по персонажам, по задачам, которые ставил перед собой автор, это уже чистый киберпанк.
То есть термина «киберпанк» еще не существует, а роман уже есть. Потому что все маркеры жанра здесь уже видны:
1. Трансгуманизм — смешение человека с машиной, эксперименты по выведению более совершенного вида людей. Импланты, киберпротезы.
2. Интернет — огромная сеть компьютеров, охватывающая всю страну.
3. Главный герой — хакер.
4. Миром правят корпорации. То есть граница между государством и корпорациями стерта. Государство перестало выполнять функции, которые оно по идее было создано выполнять: заботиться о гражданах, развивать инфраструктуру, образование, полиция, вот это все. В The Shockwave Rider государство — это корпорация, которая извлекает прибыль из своей власти, сотрудничает с мафией и так далее. Насквозь коррумпированная система.
5. Отсюда пятый элемент киберпанка — «High tech, low life». Мне кажется, что именно у Браннера этот концепт впервые проработан до мелочей. Он описал этап, на котором развитие технологий привело к еще большей социальной несправедливости. Привилегированные классы имеют доступ к технологиям, поэтому становятся еще богаче, еще здоровее, живут дольше, потому что пользуются имплантами. Низшие классы доступа к технологиям не имеют — поэтому живут мало, в грязи, в специальных гетто.
Здесь у вас может возникнуть логичный вопрос: Алексей, а если это такой влиятельный и важный роман, почему мы о нем ничего не слышали, почему его не переводят и не экранизируют?
У меня есть пара теорий. Несмотря на прозрения и предсказания — а Браннер фактически пишет про интернет и изобрел термин «worm» («червь»), которым сегодня называют вирусы, — книга не выдержала испытания временем, в частности потому, что у нее довольно наивная, оптимистичная концовка.
Роман заканчивается тем, что главный герой, суперхакер, создает свою гениальную программу-червя и взламывает систему безопасности правительства, выкладывая в открытый доступ все грязное белье, все секретные документы.
Таким образом, по версии автора, герой уравнивает в правах власть и народ. Потому что одна из главных тем романа — это еще и «приватность», то есть то, что нас всех сейчас очень беспокоит. И у Браннера приватность — это что-то вроде люксовой привилегии высших классов. Чем выше ты рангом, тем больше у тебя прав на приватность, а если ты простой рабочий, то у тебя вообще нет личного пространства.
The Shockwave Rider именно поэтому сейчас выглядит устаревшим — он построен на идее, которая не выдержала проверку временем. Сейчас, в XXI веке, после того, как случились Wikileaks и Панамагейт, как это ни грустно признавать, мы с вами знаем, что информация не правит миром. И что если выбросить в сеть компромат на высокопоставленных чиновников, то это, к сожалению, ничего не изменит.
Ну то есть в каких-то конкретных случаях это может повлиять на расстановку фигур во власти. Но мгновенного переворота не будет. И люди в высших эшелонах власти, скорее всего, не пострадают. Мы видим и здесь, в России, и в США одно и то же. Главное, что мы узнали о человечестве благодаря интернету, — правда никому не интересна.
Авторитарные режимы вовсе не беззащитны перед сетью, они, как простейшие водоросли, очень живучи и имеют свойство быстро приспосабливаться к новым условиям.
Бессмысленно спорить о том, кто был прав — Оруэлл или Хаксли, интернет успешно объединил в себе черты параноидного Старшего Брата и развлекательного «дивного нового мира».
Социальные сети лишь на первый взгляд кажутся эффективным инструментом мобилизации больших групп людей, на деле же продуктивность этих групп минимальна, ведь эффект Рингельмана никто не отменял.
Об этом грустно говорить, но опыт поколений показывает, что простой кусок брусчатки на Сен-Мишель — гораздо более эффективный инструмент демократии, чем интернет.
Сегодня, спустя почти пятьдесят лет после создания Глобальной сети, стало предельно ясно, что почти все «освободительные» гипотезы оказались не более чем лозунгами, и с полной уверенностью об интернете можно сказать лишь одно: умного человека он делает умнее, глупого — глупее, злого — злее. Проблема в том, что мир в основном состоит из последних.
Именно поэтому The Shockwave Rider сейчас выглядит очень наивно — продукт своего времени, привет из буйных 70-х, роман, написанный по следам Уотергейта, единственного случая в истории, когда журналисты смогли заставить президента подать в отставку.
Сегодня что-то такое сложно даже представить. Добро пожаловать в эру постправды.
«Плюс» Джозефа Макэлроя
«Плюс» — еще один важный этап для будущего жанра и для фантастики в целом. Потому что Джозеф Макэлрой — это известный в США постмодернист, не просто фантаст, а именно «серьезный» писатель. И это, кстати, тоже показательно, представьте, как активно развивались технологии в 70-е годы, если не только фантасты, а даже Макэлрой решил написать по сути киберпанковский роман.
Сюжет такой: в космосе по орбите Земли летает исследовательская лаборатория, которая собирает данные. Людей на ней нет, это, в сущности, один большой компьютер, но не просто компьютер — это кибернетический организм, живой человеческий мозг, помещенный в капсулу и подключенный к куче сенсоров. Этот мозг нужен для того, чтобы передавать данные о своем состоянии, он — часть эксперимента.
И вся штука в том, что повествование ведется как бы «от лица» мозга. Фактически Макэлрой впервые в литературе описал процесс рождения сознания у неживой материи, точнее — у киборга. Что интересно, Плюс начинает осознавать себя именно через вокабуляр, через язык, сперва он просто передает данные на землю, а потом начинает вспоминать слова, смысла которых он не понимает, — то есть ему там присылают какие-то запросы с базы, он должен измерять уровень глюкозы, угол движения по орбите и так далее, и в какой-то момент он слышит смех и начинает думать про смех; потом он осознает, что он просто мозг, у него нет черепа, а значит, и нет глаз, и он начинает размышлять: «Если у меня нет глаз, тогда откуда я знаю, что такое свет?» — и вот так, с помощью слов, он, как мозаику, собирает свою старую личность. Ужасно завораживающее чтение: история о кибернетическом организме, в котором проснулась душа. Своего рода «Франкенштейн» Мэри Шелли — только вывернутый наизнанку.
«Истинные имена» Вернора Винджа
«Истинные имена» Вернора Винджа опубликованы в 1981 году. Это небольшая повесть, страниц 50, не больше. Но штука в том, что предсказаний на этих 50 страницах хватило на несколько романов. Чтобы объяснить вам, в чем суть, мне придется заспойлерить сюжет, без этого никак, извините.
Суть такая: в мире будущего уже есть интернет и все подключены к сети, фактически люди выходят в сеть через виртуальную реальность. Хакеры в этом будущем, естественно, обладают невероятной властью, они — самые опасные преступники. В одной из хакерских группировок возникает конфликт, один из самых влиятельных хакеров, по кличке Почтальон, начинает выслеживать и убивать своих коллег. Почему рассказ называется «Истинные имена»? Потому что у всех хакеров никнеймы, и чтобы убить хакера, нужно узнать его истинное имя.
В общем, основной конфликт в том, что два главных героя пытаются превентивно отследить этого зловещего хакера — хотят узнать его истинное имя раньше, чем он их найдет.
Там много всего намешано, агенты ФБР, конспирология, но я не буду этого касаться, потому что моя цель в другом — встроить этот рассказ в киберпанк-канон. Действие происходит в двух реальностях одновременно — в духе «Матрицы»: там была наша реальность, разрушенный мир, и была собственно Матрица, оболочка, в которой существовали программы.
Изначально это придумал и описал математик Вернор Виндж в 1981 году. То есть этот концепт у него точно так же описан — только наоборот: герои подключают провода к голове и проваливаются в виртуальную реальность, которая у Винджа называется «Иной мир». Все это смоделировано как компьютерная игра, каждый придумывает своего аватара, и в то же время это не просто развлечение, в этой виртуальной реальности можно напрямую взаимодействовать с данными, то есть буквально путешествовать по проводам, через спутники, от одного дата-центра к другому.
Как вы понимаете, в 1981 году все это абсолютно революционная идея. Примерно то же самое потом появится в «Нейроманте», те, кто читал «Нейроманта», сейчас услышат много знакомых слов и идей. У Гибсона Кейс подключал дерматроды к голове и уходил в симуляцию, где внутри визуализированного киберпространства взламывал системы защиты корпораций.
Так вот, в «Истинных именах» два добрых хакера начинают просеивать базы данных, чтобы найти злого хакера. Находят его, и между ними в симуляции начинается драка — это все довольно зрелищно описано в тексте, то есть буквально они гоняются друг за другом по дата-центрам, отрезая друг другу пути к отступлению.
И здесь Виндж делает еще одно важное предсказание, он показывает, насколько хрупким и нестабильным стал мир будущего. Потому что пока хакеры сражаются в симуляции, они влияют на реальность. Пока они стирают друг за другом строчки кода, в нашей с вами реальности вырубаются электростанции, в аэропортах хаос, потому что обнулились базы данных, самолеты не могут сесть, и одновременно на военных базах взрываются ракеты. И все это потому, что три хакера сражаются за власть внутри симуляции.
В итоге — спойлер! — добрые хакеры убивают злого. Не буквально убивают, но удаляют все его следы из сети, лишают его власти, перекрывают ему все ходы, отрезают его от сети.
И штука в том, что ближе к концу, когда два главных героя — мужчина и женщина — встречаются в жизни, они начинают вспоминать это сражение, они вспоминают, как странно вел себя этот зловещий хакер, что он никогда напрямую ни с кем не общался, что он в симуляции никогда сам не появлялся и в его сообщениях всегда была задержка в полчаса.
И по косвенным признакам они определяют, что они сражались не с живым человеком, что это был опасно развившийся искусственный интеллект.
Во-первых, это классный финальный твист. Во-вторых, Виндж как профессор математики и кибернетик очень верно объясняет опасность ИИ. В конце очень кратко описывается ситуация, когда герои понимают, что хакер, с которым они сражались, вовсе не был зловещим анархистом, который хотел всех убить, — он не был карикатурным злодеем. Это был вышедший из-под контроля ИИ, его создавали в лаборатории, он себя скопировал в сеть и начал делать то, что делает любой самообучающийся алгоритм — собирать и анализировать данные. И он захватывал новые узлы связи вовсе не потому, что был злодеем. Он даже не знал такого понятия, как зло или вред.
У любого самообучающегося алгоритма, если ему не задать моральных рамок, будет только одна цель — собственно, обучаться. А чтобы обучаться, ему нужно пространство, ему нужно место, где он сможет хранить свои данные.
Он будет как вирус. Когда вирус попадает в организм человека, он начинает причинять организму вред, правильно? Но мы с вами, когда подхватываем вирус, мы ведь не думаем, что вирус делает это со зла и у него есть какие-то злые намерения? Вовсе нет, вирус начинает вредить организму просто потому, что он попал в среду, в которой может размножаться.
В 2003 году профессор Оксфордского университета Ник Востром написал книгу «Superintelligence». В ней он среди прочего заметил, что идея сверхумного ИИ, служащего человечеству или одному человеку, — это вполне разумная идея. Но он добавлял: «Если мы создадим интеллект, единственной целью которого будет нечто очень простое, например создавать скрепки, и не заложим в него какие-то базовые основы этики, этот ИИ начнет трансформировать сначала всю Землю, а затем выйдет в космос, дабы использовать и его для производства скрепок».
Довольно жуткое будущее.
Вернемся к «Истинным именам». Почему этот рассказ важен? По нескольким причинам:
— здесь впервые описан очень похожий на киберпространство интерфейс, который позволяет человеку общаться с машиной напрямую;
— здесь очень хорошо и ярко показаны опасности, которые несет в себе идея создания искусственного интеллекта. Он действительно может выйти из-под контроля, но вовсе не так, как показывают в кино;
— в конце рассказа героиня, Дебби, переносит свое сознание в машину. Я могу ошибаться, но мне кажется, Виндж один из первых, кто описал эту идею в художественном произведении, — переселение конструкта личности в киберпространство.
>>>
Закончить я хотел бы вот чем: считается, что киберпанк родился в начале 80-х, ведь именно тогда появились одноименный рассказ Брюса Бетке и роман Уильяма Гибсона «Нейромант». Звучит логично, но у меня есть теория: я думаю, что у каждого вида искусства, у каждого медиума есть две точки отсчета: первая — момент рождения, вторая — момент признания, выхода из гетто. Так было, например, с театром или с комиксами — и то и другое начиналось как развлечение для простолюдинов. Примерно так же было с жанром «киберпанк». Гибсон, Рюкер, Уомак — все они пришли позже, на территорию, которую до них, работая на протяжении более 30 лет[23] с приемами «низкой литературы», вспахивали другие — Бестер, Баллард, Берроуз, Браннер, Пинчон. Об этом тоже нужно помнить.
Перестать доить Оруэлла и начать жить
Для начала несколько историй. В 2017 году ученые из Гарвардской медицинской школы впервые записали мультфильм в ДНК живой бактерии. Ну, мультфильм — это, конечно, громко сказано, скорее анимацию, всего несколько кадров: всадник скачет на лошади. Теоретически функция зашивания данных в ДНК живого организма уже давно считается одним из самых интересных направлений в области хранения информации. Еще в 2012-м те же ученые зашили в макромолекулу ДНК текст книги и даже смогли прочесть его прямо оттуда. Представить себе, как именно эта технология изменит нашу повседневную жизнь, пока довольно сложно. Одно несомненно: изменит, и очень сильно.
Или вот еще. Гугл вовсю тестирует контактную линзу, которая будет контролировать уровень сахара в крови у людей, больных диабетом. А компания Verily (также принадлежит конгломерату Alphabet) проводит эксперименты по контролю популяции комаров, которые переносят вирусы. В лаборатории выращивают самцов Aedes aegypti и заражают их вольбахиями — комариными бактериями, которые фактически стерилизуют своих носителей: спариваться комары могут, но получившиеся в итоге яйца будут бесплодны. В сухом остатке это такой хитрый техноспособ снизить популяцию потенциально опасных насекомых.
Таких историй сотни, и это не фантазии лауреатов премий «Хьюго» и «Небьюла» — это реальность. Граница между реализмом и киберпанком сегодня все тоньше. Это уже и не граница даже — скорее мембрана, и информация идет в обе стороны: писатели черпают из реальности, ученые подсматривают у писателей. Кто мог предсказать 10–20 лет назад, что личные данные пользователей сети станут самым важным ресурсом, новой нефтью, а алгоритм фейсбука по десяти лайкам сможет составить ваш психопрофиль? Кто мог представить, что умные ленты соцсетей так сильно изменят политический и информационный ландшафты?
Это, кстати, еще один важный нюанс современности: довольно сложно предсказать, какая именно технология выстрелит и станет важной, а какая загнется. Пять лет назад все взахлеб писали про Google Glass, но в итоге проект, сожравший больше миллиарда долларов, так и не взлетел. Идея с очками дополненной реальности, которая казалась естественным продолжением прогресса, настоящей золотой жилой, в конце концов не выдержала испытания реальностью. Оказалось, что общество морально не готово к столь резкому переселению в киберпанк. Многие люди во время тестов признавались, что чувствуют себя некомфортно, общаясь с обладателями умных очков: собеседник постоянно смотрит на что-то, что видит только он один, и со стороны это выглядит противоестественно, да и сами очки словно живут собственной жизнью. Плюс проблемы безопасности: вот переходишь ты дорогу — и тут обзор заслоняет рекламный баннер или иконка с сообщением.
Мне кажется, осваивать и изучать подобные сдвиги прогресса — одна из задач литературы. Хотя бы потому, что это невероятно интересно и, что еще важнее, касается каждого из нас.
Нет, правда, — разрази меня Джонни Мнемоник! — они зашили мультфильм в мусорную ДНК живого организма — каково, а?
Проблема в том, что многие современные писатели сегодня если и заглядывают в будущее, то в основном для того, чтобы еще чуть-чуть подоить Оруэлла. И да, после дел Сноудена и Ассанжа слежка спецслужб и приватность стали главными темами в СМИ, и романисты откликаются именно на них: у кого-то получается получше («Безгрешность» Франзена), у кого-то похуже («Сфера» Эггерса).
Сегодня фраза «мы живем в антиутопии» стала клише. Сбываются, мол, самые мрачные прогнозы, а еще мы — рабы интернета, и скоро мы все умрем, а уничтожит нас, разумеется, искусственный интеллект. Насчет последнего тезиса возможны варианты, но лично я уверен, что если какой-то интеллект нас и уничтожит, то скорее низкий, чем искусственный.
Мы все, несомненно, умрем и — также несомненно — погубим себя сами, но это ведь не значит, что все романы о будущем должны сводиться к стенаниям об утраченных приватности и чистоте.
И да, тема эта на самом деле важная и страшная, и о ней нужно говорить, но проблема в том, что обогнать реальность в плане упоротости уже вряд ли возможно — обычная стенограмма с заседания российского суда сегодня легко даст фору любой самой смелой пьесе Эжена Ионеско. Или в Китае вот недавно начали тестировать систему рейтингов для граждан: чем выше рейтинг лояльности к партии, тем больше льгот, и наоборот. Звучит все это как аннотация к очень-очень плохому роману, который кто-нибудь обязательно напишет, но лучше бы не писал, потому что, ей-богу, сколько можно утюжить людей одним и тем же сюжетом? Если сюжет не привносит ничего нового в литературу, то не важно, насколько он злободневен. Шутка, повторенная сто раз, теряет смысл. С фабулой «1984» (или «Мы») та же история: ты или говоришь что-то новое на эту тему, или зачем тогда? Да-да, я знаю, в это сложно поверить, но они действительно существуют — писатели с оригинальным взглядом на будущее.
«Поколение А» Дугласа Коупленда
Недалекое во всех смыслах будущее, экологическая нестабильность, синтетические наркотики и прочий дивный-новый-мир. Ученые бьют тревогу: с лица Земли исчезли пчелы. Никто больше не жалит туристов на пикниках, не производит мед и не опыляет растения. И вроде их особо не любили, этих пчел, но все забеспокоились. В самом деле, куда пропали самые организованные в мире насекомые? Люди покричали, повозмущались, даже на митинги сходили пару раз и вернулись к своим делам: сэндвичам с семгой, сексу и социальным сетям. И вот, спустя несколько лет, сенсация: стали известны имена пяти человек, которых покусали пчелы. Их всех находят и изолируют, чтобы понять, почему пчелы выбрали именно их.
«Поколение А» вышло в 2009 году, но, кажется, сейчас стало еще актуальней. Семь лет назад Коупленд написал роман о постправде, о деградации медиа, о популизме и о неспособности людей отделить важное от нелепого, о временах, когда люди, заваленные информационным шумом, начинают верить во все подряд.
И героев своих Коупленд выбрал под стать времени, поймал на мелководье: тут есть подросток, впавший в депрессию из-за того, что у него увели аккаунт в World of Warcraft, и индус, работающий в службе техподдержки, и девушка-хипстер, любимое занятие которой — фотографировать сэндвичи, и многие-многие другие.
Коупленд по очереди выталкивает их на орбиту сюжета. Он описывает общество, где люди, которых покусали пчелы, становятся мировыми звездами. Они не обладают ни особыми талантами, ни харизмой, и тем не менее их показывают по телевизору, о них пишут в журналах, у них берут автографы, интервью и анализы.
И вот тут поневоле задумаешься, а сатира ли это вообще? И если да, то где граница между высмеиванием и реальным положением вещей? Если сатира — это искусство быть невоспитанным, то Коупленд добился в этом искусстве больших успехов. «Он очень важная персона — однажды его укусила пчела». Сложно представить себе более подходящую метафору для эпохи раздутых репутаций, мемов и поколения ютьюба.
«Дом дервиша» Йэна Макдональда
«Дом дервиша» с первых страниц впечатляет размахом. Стамбул, 2027 год, и целая россыпь сюжетов: история в стиле Салмана Рушди о выжившем в теракте молодом человеке, который начинает видеть джиннов и святых; текст в стиле Умберто Эко о женщине-искусствоведе в поисках древней мусульманской реликвии — медового кадавра; оммаж Филипу Дику (трейдеры, поняв, что вляпались в аферу, хотят стереть кратковременную память одному из своих коллег с помощью наночастиц в аэрозоле) и даже подражание Стивену Кингу: мальчик-задрот, который играет в детектива и случайно раскрывает настоящее преступление.
Роман постоянно скачет между разными сюжетными линиями, что как хорошо, так и плохо. Хорошо, потому что от него сложно оторваться, но плохо, потому что ближе к концу всю эту сложную архитектуру откровенно заносит на территорию дэнбрауновского хеппи-энда. Хотя несомненных достоинств у книги гораздо больше. И главное из них — образ будущего, а именно история группы молодых микробиологов и программистов, которые пытаются найти финансирование для запуска проекта о хранении информации в ДНК человека (см. начало статьи). Сюжет ироничный, даже немного плутовской, и здесь Макдональд прячет самые тонкие свои наблюдения: о судьбе науки в эпоху капитализма, когда просто умным быть недостаточно и каждый ученый должен быть еще немного Стивом Джобсом, то есть не только «создавать будущее», но и думать над тем, как продать это самое «будущее» конечному потребителю. С этой проблемой сталкиваются герои Макдональда. Прежде чем изменить мир, им нужно придумать классную презентацию и как-нибудь впечатлить инвесторов, то есть фактически перевоплотиться в цирковых артистов, которые прыгают через горящий обруч ради аплодисментов/инвестиций. И вот когда на презентации один из героев-ученых рассказывает представителю компании о «революционной разработке», тот флегматично перебивает: «Боюсь, революции плохо продаются».
«Дом дервиша» — это роман о захватившей мир странной экономической модели, о том, насколько хрупкой стала реальность, замкнутая в строчках кода, смарт-протоколах и номерах транзакций. Макдональд пишет о финансовой системе, которая постоянно расширяется и подминает под себя все, даже науку, и с каждым годом, с каждым днем становится все более сложной и запутанной. Но вместе со сложностью возрастает и ее хрупкость, и мы уже вполне достигли точки, когда, чтобы обрушить систему, достаточно всего лишь пары мошенников или дураков.
Довольно неприятное откровение.
«Периферийные устройства» Уильяма Гибсона
Гибсон всегда щедр на предсказания. «Периферийные устройства» в этом смысле — роман вдвойне важный: в нем описано не одно будущее, а сразу два. И, как будто этого мало, две версии будущего то и дело причудливо пересекаются. Считайте это спойлером.
Главная эмоция киберпанка — одиночество. Не потому, что кто-то так решил, а просто в силу законов жанра, ведь киберпанк — весь об отсутствии прямого контакта с миром и между людьми. Персонажи Гибсона одиноки просто потому, что живут в мире имитаций, экранов и голограмм, в мире исчезающей живой материи, и потому же постоянно стремятся к контакту. Один из парадоксов технического прогресса: он вроде бы должен убирать границы, на деле же он их множит. Именно такой мир автор описывает в «Устройствах». Гибсон вообще славен своим умением создавать миры настолько яркие и тщательно прорисованные, что рано или поздно образы из его книг просачиваются в реальность: от модных брендов (коллекция курток для Buzz Rickson's по мотивам «Нейроманта») до идей визуализации интерфейсов и взаимодействия людей с машинами (манга «Призрак в доспехах», фильм «Матрица»).
Вот и «Периферийные устройства» — это не только мощный сюжет калибра Хайнлайна, но и целый набор самых смелых и иногда просто поражающих воображение предсказаний. Тут и художница, которая покрывает свое тело динамическими татуировками, чтобы затем сбросить кожу, подобно змее, и продать ее, как картину, на аукционе. Тут и аксессуары для управления фазами сна, и компьютеры, вживленные в сетчатку глаза, которые управляются с помощью языка и нёба: язык — манипулятор, а нёбо — интерфейс, соединенный с экраном в глазу. Сейчас еще сложно сказать, насколько эта технология удобна и вообще реализуема, но в исполнении Гибсона все эти техноигрушки выглядят правдоподобно и в целом логично. По крайней мере, внутри описанной Гибсоном реальности.
Фантастику как-то привыкли считать младшим братом литературы, но штука ведь в том, что если текст достаточно силен, если в нем есть энергия, то описанные там идеи и технологии рано или поздно станут реальностью. И тем самым повлияют на мир даже сильнее, чем, скажем, романы Диккенса. Особенно сегодня. Ученые, работавшие над созданием первых спутников, когда-то посвятили свою жизнь науке как раз потому, что в юности взахлеб читали Жюля Верна и Герберта Уэллса. И точно так же сейчас авторы техностартапов из Кремниевой долины открыто признаются, что взялись за разработку электронных глазных линз и динамических татуировок с функцией анализа здоровья после того, как прочитали Гибсона. А основатель PayPal Питер Тиль однажды проговорился, что идею электронных денег почерпнул в «Криптономиконе» Нила Стивенсона.
Такой вот научный уроборос: даже самое смелое литературное предсказание вполне может стать и, как мы видим, часто становится основой для реальной рабочей концепции. Главное — чтобы было хорошо написано.
И последнее. В своей статье «Почему наше будущее зависит от чтения» Нил Гейман упомянул такую историю: «В 2007 году я был в Китае, на первом одобренном партией конвенте по научной фантастике и фэнтези. В какой-то момент я спросил у официального представителя властей: почему? Ведь НФ не одобрялась долгое время. Что изменилось? Все просто, сказал он мне. Китайцы создавали великолепные вещи, если им приносили схемы. Но ничего не улучшали и не придумывали сами. Они не изобретали. И поэтому они послали делегацию в США, в Apple, Microsoft, Google, и расспросили людей, которые придумывали будущее, о них самих. И обнаружили, что те читали научную фантастику, когда были детьми».
Это довольно интересная мысль: что, если книги не столько предсказывают будущее, сколько программируют его? Еще один повод оставить Джорджа Оруэлла в покое.
Три утопии Олдоса Хаксли
Один из первых экземпляров романа «1984» Джордж Оруэлл отправил своему школьному учителю французского языка. Учителя звали Олдос Хаксли. В ответ автор «Дивного нового мира» написал Оруэллу письмо, в котором сдержанно похвалил младшего коллегу и далее раскритиковал описанную в романе систему:
«Я думаю, уже в следующем поколении правители поймут, что поощрение инфантильности и наркогипноз гораздо более эффективны, как государственные инструменты, чем дубинки и тюрьмы, и власть над людьми гораздо легче получить, предлагая им приятное, комфортное рабство, вместо того чтобы склонять их к послушанию пинками и поркой».
Сложно сказать, обиделся ли автор «1984», но с тех пор он больше не спрашивал мнения учителя о своих книгах. И все же время показало, что в споре Оруэлла и Хаксли прав был последний: главное оружие тоталитарного государства сегодня — это комфорт.
«Дивный новый мир» и был по сути иллюстрацией общества, в котором людей держат в узде за счет «поощрения инфантильности и наркогипноза». Хаксли всю жизнь изучал политические системы, пытаясь отыскать систему, формулу, в которой не было бы места подавлению личности. Помимо «Дивного нового мира» он написал еще две антиутопии, которые с самым известным романом писателя образуют своего рода трилогию.
Вторая книга — «Обезьяна и сущность» — это «Дивный новый мир» наоборот; романом ее сложно назвать — текст больше похож на философское эссе, стилизованное под киносценарий. Автор описывает постапокалиптический мир: ядерная война уничтожила все государства, только небольшой анклав цивилизации, Новая Зеландия, остался невредим. Новозеландцы — просвещенный народ, сохранивший «старую» культуру, — пытаются заново открыть Америку. В прямом смысле: они посылают на выжженный ядерными бомбами континент экспедицию во главе с ученым-ботаником Альфредом Пулом. На берегу Америки Альфред встречает племя аборигенов и начинает изучать их культуру. Политическое устройство этой общины очень напоминает современный Иран — ультраконсервативное, крайне религиозное и сегрегированное общество. На словах там царит свобода и демократия, на деле же любой, кто перечит церкви и сомневается в режиме, объявляется врагом свободы и демократии; женщин называют «сосудами дьявола» и заставляют их носить надпись «НЕТ» на груди; вступать в сексуальную связь можно лишь один раз в году — во время ежегодной праздничной оргии; во все остальные дни секс — вне закона, поскольку это грязное занятие, которое в чистом обществе запрещено; любая попытка сбежать из общины тоже наказуема, вплоть до смертного приговора.
Хаксли намеренно сгущает краски, доводит до абсурда идею государства, основанного на традициях и верованиях, тем самым иллюстрируя один из парадоксов человеческой природы: жесткий контроль телесного не добавляет народу духовности, наоборот — приводит к деградации и скотству. И хотя роман изначально выглядит как сатира, как попытка автора поразмышлять о человеке как социальном животном, ближе к финалу все же видно, что Хаксли сам немного разочарован в том, что у него получилось, не питает особых надежд на будущее и не верит в счастливый конец.
Точку в этом поиске — поиске идеального общества — Хаксли поставил в последнем романе «Остров» (1962). Увы, это тоже в некотором роде признание поражения. Завязка «Острова» почти пошагово повторяет классические сюжеты-утопии: журналист Уилл Фарнаби попадает на остров Пала и, пообщавшись с местными жителями, понимает, что оказался в Идеальном Государстве. Без кавычек. Люди здесь не отвечают насилием на насилие по одной простой причине: насилия нет в принципе — это понятие им чуждо. Детям в школах не объясняют, что такое хорошо и что такое плохо, учителя вообще не говорят о добре и зле, они мыслят по-другому: критерий продуктивности — вот что у них на первом месте. Агрессия непродуктивна — значит не нужна. А нет агрессии — нет насилия. Как следствие, нет полиции. Нет Старшего Брата. Полная свобода. Проблему же сиротства и жестокого обращения с детьми удалось решить благодаря Клубам Взаимного Усыновления (КВУ) — у каждого ребенка примерно 20–30 родителей, каждый играет свою роль в воспитании.
И вот, казалось бы, свершилось! Первая в истории утопия без приставки «анти». Но не все так просто. Главный вопрос Хаксли приберег напоследок: как в таком обществе выглядело бы искусство? Ответ неутешителен: в условиях тотального блага и упраздненной идеи добра/зла искусство начинает вырождаться — на острове Пала нет литературы. И вовсе не потому, что ее запретили, нет, здесь просто ничего не происходит: нет страстей и дилемм, нет сомнений и сложностей. Все счастливы и довольны. Жители увязли в социальном совершенстве, как мухи в янтаре. Они теряют глубину — многие внутренние человеческие качества просто чужды им. Они вряд ли поймут страдания Анны Карениной или Эммы Бовари. Самоубийство? Что это? Зачем она бросилась под поезд? Это ведь глупо. Ей надо было просто посоветоваться с одним из 20 своих родителей из Клуба Взаимного Усыновления. А с пьесами Софокла на острове Пала все еще хуже — их тут переписывают:
— «Эдип» — это кукольное представление. Я смотрела его неделю назад, а сегодня его дают снова. Хотите посмотреть? Это очень славно.
— Славно? — удивился Уилл. — При том, что престарелая дама, оказавшаяся матерью героя, вешается? А Эдип ослепляет себя?
— Он этого не делает.
— Но там, у нас, все происходит именно так.
— А здесь нет. Он только собирается выколоть себе глаза, а она собирается повеситься. Но их отговаривают.
— Кто?
— Юноша и девушка с Палы.
— Как они появляются в действии?
— Не знаю. Но они там участвуют. Ведь пьеса называется «Эдип на Пале». Так почему бы им и не появиться?
— И они убеждают Иокасту не вешаться, а Эдипа не ослеплять себя?
— Да, в самый последний момент. Она уже надевает петлю себе на шею, а он достает две огромные булавки. Но юноша и девушка с Палы говорят им, что не стоит делать глупостей.
>>>
Творческое бесплодие — больная тема любого «идеального государства». С кавычками и без. За примером далеко ходить не надо: сколько хороших писателей Третьего Рейха вы знаете? А архитекторов-спартанцев? И в этом главная ошибка всех правителей. Октавиан Август напрасно полагал, что его запомнят как основателя Римской империи, — сегодня его имя известно не в последнюю очередь благодаря поэту Овидию. Ну и вообще: попробуйте вспомнить, кто правил Испанией в те годы, когда один однорукий рыцарь в тюрьме написал «Дон Кихота»?
Еще Платон в «Государстве» предлагал первым делом выгнать из страны всех поэтов — и это показательно. Искусство — самая нестабильная величина. И оттого, наверное, самая важная. Любая попытка упаковать искусство в идеологию — пусть даже в самую светлую и благородную — всегда приводит к деградации. Ведь всякая система стремится к равновесию, к определенной точке, к статичности. Искусство же, напротив, всегда движется. Поэтому вердикт Олдоса Хаксли прост: идеальное общество невозможно. Даже если когда-нибудь удастся создать систему правления, в которой нет места насилию и подавлению, эта система все равно не протянет долго. Ведь любой народ хорош лишь настолько, насколько хороша его литература. А искусство — это единственная стихия, способная противостоять варварству.
И по-другому быть не может.
Богумил Грабал: спрессованная литература
Жанр антиутопии имеет свои устоявшиеся традиции. Герои здесь — носители конкретных идей, и столкновение между ними — это борьба не столько людей, сколько социальных концепций.
Даже скроены такие книги по схожим лекалам: сравните «Мы» Замятина, «1984» Оруэлла и «451° по Фаренгейту» Брэдбери.
Дано:
— абсурдная система, цель которой — отучить людей думать;
— главный герой поначалу работает на систему, но, пережив своего рода «пробуждение», восстает против нее.
Дальше сюжет может двигаться куда угодно — это не важно. Вектор тут один — борьба человека с системой, индивида с толпой, искусства с варварством.
Так вот, «Слишком шумное одиночество» Богумила Грабала с первых страниц мастерски притворяется антиутопией. Главный герой, Гантя, оператор гидравлического пресса. Ему на склад привозят книги с истекшим сроком годности, и задача Гаити — превращать их в аккуратные квадратные брикеты и отправлять на переработку.
Казалось бы — все как обычно. Опять вариация на тему «Фаренгейта…» Сейчас он одумается, примкнет к сопротивлению и прочее, прочее, прочее.
Но.
Не все так просто. Грабал не сразу открывает читателю механику своего текста. Преодолев первую главу, мы узнаем, что в мире «Слишком шумного одиночества» уничтожение книг — это естественный процесс. Тут нет литературных инквизиторов, людей не преследуют за мыслепреступления и не вешают за чтение стихов Новалиса. Нет, ничего такого — никакой политики. Книги просто уничтожают. Да и герой Грабала тоже не похож на стандартных «антиутопических» персонажей: он не варвар, но и не «сопротивленец», он просто любит книги — любит так сильно, что дома у него накопилось уже более двух тонн спасенных романов. Впрочем, «спасенных» не совсем верное слово — ведь Гантя собирает классические тексты не для того, чтобы «спасти их от системы», а просто потому, что любит жить в их окружении. Это не бунт, скорее образ мыслей. У него нет миссии, он никогда не думает о том, зачем труды великих отправляют на переработку, он может поплакать над ними, повозмущаться, но — дальше дело не идет, Гантя живет в такой системе координат, где уничтожение вещей совсем не мешает любить их.
«Небеса не гуманны, и жизнь надо мной, и подо мной, и внутри меня тоже нет. Здравствуйте, господин Гоген!»
Равнодушие — или, скорее, безволие мира — один из ключевых мотивов повести Грабала. И потому у читателя может появиться соблазн сравнить его с Кафкой. Действительно, почему бы и нет? Тексты обоих напоминают ночные кошмары; кроме того: оба жили в Праге; собственно, действие «Слишком шумного одиночества» именно в Праге и происходит.
Но.
Тут есть пара тонких моментов. Грабал не похож на Кафку по двум причинам.
Причина первая
Прага Кафки — да и вообще его вселенная — всегда стремится к бесконечности, она состоит из бесчисленных дверей и коридоров: вспомнить хотя бы «Процесс» или «Замок» (или рассказ «Как строилась Китайская стена»). Мир Кафки — это мир обратной, негативной оптики: попробуйте посмотреть в бинокль с другой стороны — предметы, находящиеся у вас перед носом будут казаться отдаленными, словно отброшенными к горизонту. Примерно то же самое происходит во всех его романах: чем дальше заходит герой — тем больше путей открывается, и каждый раз, когда он делает шаг по направлению к цели, — цель отскакивает (будь то Замок вдали в тумане или ответ на вопрос «За что меня судят?»); отношения героя и цели, вопросов и ответов в текстах Кафки похожи на отношения Ахиллеса и черепахи в известном парадоксе Зенона (см. эссе Борхеса «Вечное состязание Ахилла и Черепахи»).
Так вот, Грабал все делает наоборот. В его Праге нет лабиринтов и вечно ускользающих ответов; тут и вопросов нет. Никто никуда не стремится, не строит китайские стены, не голодает на публику, на горизонте нет никаких Замков. Идти некуда. И если что-то происходит — то это просто происходит. Никто не спрашивает почему и не ищет причин.
Тут есть, конечно, реверанс в сторону автора «Процесса» (куда ж без них?): например, крысы, ведущие бесконечную войну в подземельях под городом. Но — на этом кафкианские мотивы, пожалуй, и кончаются. Свой город Грабал строит из совсем других материалов — из тесных, удушливых и вонючих помещений. Прага у него не расширяется и не ветвится, как раз наоборот — она сужается и нависает над героем. Если у Кафки за дверью обычно находится коридор с еще десятком таких же совершенно одинаковых дверей, то у Грабала все иначе — за дверью нет ничего. И самой двери нет. Только стена. Точнее: четыре стены — и они медленно, подобно стенкам гидравлического пресса, движутся навстречу друг другу, угрожая раздавить и город, и героя, — ближе к концу Гантя даже видит галлюцинации на эту тему:
«…я <…> видел, как мой гидропресс превратился в самый гигантский из всех гигантских прессов, я видел, что он стал таким огромным, что четыре его стены окружили всю Прагу, я видел, как я нажал зеленую кнопку, боковые стенки пришли в движение, размерами они были схожи с плотинами на водохранилищах, я видел, как первые блочные дома начинают качаться, а стенки пресса играючи, точно мышки в моем подвале, движутся все дальше и дальше, гоня перед собой все, что стояло у них на пути, с высоты птичьего полета я видел, как в центре Праги жизнь все еще идет своим привычным чередом, а между тем стенки моего исполинского пресса гребут и разоряют городские окраины и толкают все подряд к центру, я вижу стадионы, и церкви, и всяческие учреждения, вижу, как все улицы и переулки, все начинает рушиться, и стенки моего апокалипсического пресса не дают улизнуть даже мышке, и вот я вижу, как падает Град, а на другом берегу обрушиваются золотые купола Национального театра, и воды Влтавы вздымаются, но сила моего пресса настолько ужасающа, что он легко, как с макулатурой в подвале под моим двором, справляется со всеми препятствиями, я вижу, как стенки гиганта все быстрее и быстрее гонят перед собой то, что они уже разрушили, я вижу самого себя, на которого валится храм Святой Троицы, я вижу, что уже ничего не вижу, что я раздавлен, намертво спаян с кирпичами, балками и моей скамеечкой для молитв, а потом я уже только слышу, как трещат, сплющиваясь, трамваи и машины, а стенки пресса сходятся все ближе и ближе, пока еще внутри хватает свободного места, пока еще во тьме развалин остается воздух, но он шипит под напором четырех стен исполинского пресса и рвется вверх, смешиваясь с людскими стонами, и я открываю глаза и посреди пустой равнины вижу огромный брикет, спрессованный куб с гранями в пятьсот или более метров, я вижу, что вся Прага оказалась спрессованной — вместе со мной, со всеми моими мыслями, со всеми текстами, что я когда-либо прочел, со всей моей жизнью…»[24]
Причина вторая
В отношениях героя с окружающим миром Кафка всегда делает упор именно на мир. У его персонажей нет прошлого. В «Замке», например, мы почти ничего не знаем о К. — мы знаем, что он землемер (да и это, скорее всего, ложь) и что он хочет дойти до Замка. Зачем — неизвестно. Мы ничего не знаем ни о его судьбе, ни о внешности, ни о характере. Он абстрактен и нужен, по сути, лишь для того, чтоб показать читателю абсурдную оптику романного мира.
То же самое в «Превращении»: в какое бы ужасное насекомое ни превратился Грегор Замза и как бы ни страдал он от своей «насекомости», после его смерти повесть не кончается, ведь мир живет дальше — миру нет дела до мертвого навозного жука, — и мы наблюдаем за семейной прогулкой по городу и слушаем размышления отца и матери Грегора о том, что их дочке надо бы подыскать хорошего мужа, ибо «она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей».
Иными словами: мир Кафки настолько сильнее человека и вообще всего человеческого, что вытесняет из текста даже главного героя, превращая его в функцию, нужную лишь для объяснения этого самого мира.
Проза же Грабала, наоборот, очень героецентрична. Она почти граничит с солипсизмом. Она идет изнутри, текст сфокусирован на персонаже и подан от первого лица. Дочитав книгу до конца, читатель вряд ли получит целостное представление о Праге. Прага здесь — это и есть сознание героя. Сознание, наполненное клаустрофобией и книгами.
И именно поэтому, узнав о том, что его переводят в другой отдел, Гантя приходит в ужас. Здесь важен не столько сам перевод, сколько символика его будущей работы — он будет паковать чистую бумагу. И это катастрофа. Ведь если раньше он ассоциировал себя с брикетами спрессованных текстов, он создавал себя из них, мыслил ими, то теперь через его руки будут проходить лишь белые листы.
А что может быть печальней пустой страницы?
>>>
Богумил Грабал создал выдающийся текст — что-то такое на стыке модернизма и постмодернизма. Роман-полукровка, который при всех стилистических и языковых достоинствах ощутимо провисает в области сверхзадачи. И дело даже не в том, что он «слишком сложен для понимания», нет, вопрос в другом: для чего?
Книга действительно производит впечатление такого чистого «искусства для искусства». Она похожа на мастерское, гениальное описание ночного кошмара, в котором причины и следствия не обязательно встречаются, а герои ведут себя так, словно им всем недавно ампутировали мотивацию.
Автор, кстати, в плане обращения со смыслами очень похож на своего героя: Гантя прессовал великие романы, превращая их в аккуратные квадратные брикеты, и перевязывал их проволокой. И точно так же поступает Грабал: «Слишком шумное одиночество» — это очень насыщенный текст, и мысли, замыслы, сюжеты в нем сжаты, спрессованы настолько плотно, что совершенно невозможно разобрать, как связаны между собой эти идеи, откуда у них растут ноги и есть ли у них ноги вообще… и если есть — то растут ли они?
Грабал не хотел идти по проторенным дорогам, он, кажется, решил вообще никуда не идти (и это, кстати, весьма нестандартное и остроумное решение). Его Прага, его персонажи — они как бы запечатаны в герметичном сновидении, как письмо — в бутылке, и брошены в море читательского подсознания. Персонажи здесь напоминают скорее кляксы Роршаха или рисунки Маурица Эшера. Рисунки, созданные, чтобы разглядывать их и играть в ассоциации, — можно даже попробовать поискать в них смысл, но это уже по желанию.
Сигизмунд Кржижановский: бегство в книгу
Сигизмунд Кржижановский — звучит как имя гоголевского персонажа.
И жизнь его была под стать имени — Гоголь, помноженный на Кафку. Интеллектуал и фантазер, «широко известный в узких кругах», опубликовавший при жизни лишь горсть рассказов, оставивший после себя целый ворох крылатых фраз и афоризмов, но так и не дождавшийся настоящей славы.
Казалось бы, обычная история — сколько талантливых писателей задушила цензура советской системы, сколько их затерялось под стопками рукописей лояльных к власти аппаратчиков? Но случай Кржижановского не укладывается даже в эту модель — его тексты сложно назвать опасными. Цензура не пускала его в литературу по другой причине — он был слишком необычен. Литературные чиновники не знали, как трактовать, к какому течению причислять его рассказы и повести. Ведь у цензуры простая политика — не важно, плох ты или хорош, главное чтобы ты был объясним. В этом и заключалась проблема Кржижановского — он никуда не помещался.
Взять хоть самый известный его рассказ «Квадратурин». В руках у героя оказывается тюбик с мазью, обладающей волшебными свойствами: если помазать этой мазью углы комнаты, то наутро комната станет в два раза больше. Казалось бы — сказка, комедия. Но под пером Кржижановского эта история превращается в драму (когда герой пытается скрыть результаты своих «экспериментов»), а потом и вовсе — в фантасмагорию и даже притчу (когда комната расширяется до размеров Вселенной и он не может найти выход).
Сегодня мы читаем этот рассказ как образец безграничной фантазии, но несложно представить, какие эмоции при прочтении испытывал цензор: «Незаконное улучшение жилищных условий? Да вы что, издеваетесь? Зачем вы вообще это написали? Что за отсебятина?»
Кржижановский никогда не пытался заигрывать с властью, не прибегал к эзопову языку — он просто писал так, как считал нужным, не оглядываясь на норму. Терпел поражения, собирал отказы, но продолжал писать — по-своему, не прогибаясь. В этом смысле он, наверно, самый настоящий homo legens.
Сразу стоит сказать одно: читать его — сложно. Он как бозон Хиггса: чтобы его понять, простого человеческого мозга недостаточно — нужен адронный коллайдер.
Его парадоксальные сюжеты — настоящая «мюнхгаузенщина» — чаще всего вращаются вокруг одной-единственной коллизии. Он был скорее мастером короткой формы, на большие вещи ему не хватало дыхания. «Возвращение Мюнхгаузена» — яркий тому пример. Текст большой, но растет как будто вглубь, а не вширь, — невротичный и неровный, как дыхание астматика, — неровный настолько, что иногда отчетливо слышишь одышку автора.
Кржижановский хорош в другом: его цель — сжать, спружинить предложения до твердого, кристаллического состояния; каждая фраза — афоризм, каждый абзац — история. И за примером далеко ходить не надо — открывай книгу на любой странице и читай любую строчку — вот тебе и афоризм.
Своей любимой книгой Кржижановский называл «Лживые и вымышленные истории барона Мюнхгаузена» Распе. И это очень важно для понимания его характера — и отношения к реальности.
Он даже написал свою «Мюнхгаузениаду»: историю о том, как достославный барон посещает СССР. Мы привыкли к тому, что истории о Мюнхгаузене должны быть забавными, но странным образом под пером Кржижановского фантасмагория перестает быть смешной.
Вот пара примеров:
«Да, мы бедны, — [говорит барону один из персонажей], — у нас как на выставке — всего по одному экземпляру, не более. (Не оттого ли мы так любим выставки?) Ведь я угадал вашу мысль, не так ли? Это правда: наши палки об одном конце, наша страна об одной партии, наш социализм об одной стране, но не следует забывать и о преимуществах палки об одном конце: по крайней мере ясно, каким концом бить».
Или вот:
«Наши европейские россказни о столице Союза Республик, изображающие ее как город наоборот, где дома строят от крыш к фундаменту, ходят подошвами по облакам, крестятся левой рукой, где первые всегда последние (например, в очередях), где официоз «Правда», потому что наоборот, и так далее — всего не припомнишь, — все это неправда: в Москве домов от крыш к фундаменту не строят (и от фундамента к крышам тоже), не крестятся ни левой, ни правой, что же до того, земля или небо у них под подметками, не знаю: москвичи, собственно, ходят без подметок. Вообще голод и нищета отовсюду протягивают тысячи ладоней. Все съедено — до церковных луковиц включительно…»
Теперь понятно, почему его не хотели печатать, — даже попытка прикрыться парадоксами Мюнхгаузена не способна в данном случае снизить градус сатиры.
А дальше происходит совсем удивительное:
«А не попробовать ли мне вернуть вчерашний день? [— думает барон].
Я тотчас же отправился в редакцию газеты и сунул в окошечко приемщика объявлений текст: «УТЕРЯН вчерашний день. Нашедшего просят за приличное вознаграждение…» ну и т. д.
— Хорошо, дня через два пустим.
— Позвольте, — загорячился я, — но через два дня это уже будет не вчерашний день!»
Советская реальность оказалась сильнее фантазии барона. Советских людей не удивляют его невероятные истории — они все это уже видели: и палки с одним концом, и надвое разрубленные, но все еще живые лошади, и перевернутая реальность. Даже когда барон решил «вернуть вчерашний день», в редакции газеты совсем не удивились его просьбе: «Если вам непременно вчерашний, — возразило окошко, — то нужно было заявить об этом третьего дня: порядка не знаете».
Бюрократическая система в России во все времена была фантасмагорией — наших чиновников не удивишь просьбами вроде «поиска вчерашнего дня». Они и не такое видели — ах, ну вы только посмотрите, нашелся тут немецкий фантазер, хочет вернуть вчерашний день. Становитесь в очередь, господин Мюнхгаузен! В Советском Союзе все хотят вернуть вчерашний день — и позавчерашний тоже, и тот, что до него. Именно поэтому у нас самые длинные очереди в мире!
Кроме того, мы — самая читающая страна в мире, и именно поэтому паровозы у нас двигаются за счет сжигаемых в топке книг.
Такие дела.
>>>
«Сон разума рождает чудовищ», — говорил Гойя.
Кржижановский мог бы сделать эту фразу эпиграфом ко всем своим текстам сразу.
«Я поднял брови и так и не опускал за все время пребывания в Москве», — это его слова.
СССР — страна, созданная «простыми людьми» ради блага «простых людей», — в итоге оказался населен чудовищами: страшными и смешными, разумными — и не очень. Страна, где все принадлежит народу и где в то же время совершенно нечего делить (ведь «все съедено — до церковных луковиц включительно»). Страна, где даже грабитель умирает с голоду, потому что у прохожих нечего отнять.
«Рядом со мной шагала мысль: два миллиона спин, спуды, жизнь, разгороженная страхом доносов и чрезвычайностей, подымешь глаза к глазам, а навстречу в упор дула, сплошное dos a dos. И опыт подтвердил мою мысль во всей ее мрачности: увидев как-то человека, быстро идущего в сторону от жилья, я остановил его вопросом:
— Куда?
В ответ я услышал:
— До ветру.
Эти исполненные горькой лирики слова на всю жизнь врезались мне в память. «Бедный, одинокий человек, — подумал я вслед уединяющемуся, — у него нет ни друга, ни возлюбленной, кому бы он мог открыться, только осталось — к вольному ветру!»
А ведь этот прохожий, ищущий ветра, — и есть Кржижановский. А приведенная выше цитата: это короткая встреча автора и главного героя — где герой сочувствует автору. Вот вам еще один парадокс: Кржижановскому посочувствовал лишь один человек, да и тот — персонаж его собственного текста.
Кончается роман так же символично — Мюнхгаузен сбегает из абсурдной реальности в книгу, в прямом смысле прячется среди страниц.
О да, каждый читатель знает это чувство.
△
Джулиан Барнс: жанр как прием
Есть такой вид пауков — узор на их брюшке идеально повторяет узор крыльев бабочки: то, что похоже на излишество, бесполезную красоту, на самом деле приманка, инструмент для охоты. Примерно так же выглядят романы Джулиана Барнса — в основе всегда лежит классический концепт: в «Метроленде» — роман воспитания, в «Попугае Флобера» — биография, в «Истории мира в 10½ главах» — историческая хроника, в «Как все было» — любовный роман. Вся штука в том, что Барнс пишет их как бы наоборот, наизнанку, и выбранная форма у него — всегда обман: в итоге автором биографии Флобера окажется его собственный персонаж, а книга с названием «История мира…» ближе к концу убедит читателя в том, что никакой истории нет, есть лишь фабуляция, смесь вымышленного с реальным: «Вы придумываете небылицу, чтобы обойти факты, о которых не знаете или которые не хотите принять. Берете несколько подлинных фактов и строите на них новый сюжет».
Иными словами, любой стандартный, заезженный сюжет Барнс как бы разбирает на составляющие и потом свинчивает заново, пытаясь найти в нем новые, неизведанные ранее пустоты и ходы. Так антиквары работают со сломанной и сданной в утиль коллекционной мебелью, комбинируя новые элементы с фрагментами старых, раритетных.
«Метроленд» (1980): роман воспитания
Лондон, 1963 год. Два школьных друга, Крис и Тони, — юные бунтари. Они в том возрасте, когда кажется, что цинизм и сарказм — это круто. В глазах напускная тоска, в руках томик стихов Артюра Рембо, в голове сотни мыслей, в основном о женской груди, но и об искусстве тоже. Своих родителей они считают неудачниками и типичными буржуа и тихо презирают их, но презирают словно понарошку, просто потому, что «сердитая молодежь» должна испытывать ненависть к старшим.
«Метроленд» — дебютный роман Джулиана Барнса, но уже здесь появляется один из самых важных его лейтмотивов: деконструкция понятия «история» и любовь как единственный способ от этой самой «истории» защититься (позже это будет раскрыто в «Истории мира в 10½ главах»).
Все знают заезженную метафору перерождения — невзрачная гусеница превращается в яркую бабочку. Проблема в том, что в жизни мы обычно наблюдаем обратный процесс: огромные амбиции юности постепенно окукливаются в статичный взрослый семейный быт. Именно это и происходит в «Метроленде»: роман о юношеском максимализме в середине делает резкий разворот — бунтарство уступает место конформизму, стихи Артюра Рембо и романтические прогулки по Монмартру уходят в прошлое, а в настоящем — дом в пригороде, жена, дочь, ипотека и непыльная работа в рекламном агентстве с 9 до 17.
Но не все так просто.
Историю взросления, воспитания чувств Барнс наполняет толстовскими мотивами. Семья здесь, в отличие от многих других классических романов, отнюдь не синоним скуки и загубленной жизни (у нас в таких случаях любят цитировать Куприна: «Мужчина в браке подобен мухе, севшей на липкую бумагу: и сладко, и скучно, и улететь нельзя») — как раз наоборот, главный герой, Кристофер, счастлив в браке.
«Кое-кто утверждает, что счастье скучно. Но только не для меня. Кое-кто утверждает, что все счастливые люди счастливы одинаково. Даже если оно и так, какая разница?!»
Барнс задает очень интересные вопросы: почему семейное счастье оказалось за бортом высокой поэзии/литературы? В какой момент семейный быт стал синонимом скуки, лицемерия, пивного пуза и глупого самодовольства? Когда, в какой момент в литературе возникла мода высмеивать людей, недостаточно сильно побитых жизнью и не склонных к затяжным депрессиям? В какой момент здоровые отношения между людьми стали неинтересны писателям?
Писать о счастье действительно невероятно сложно (навскидку можно вспомнить «Старосветских помещиков» и Толстого до «Анны Карениной»; еще, пожалуй, «Дар» и «Память, говори» Набокова, но там иногда сложно отличить счастье от самолюбования). История приучила нас к тому, что самые интересные сюжеты замешаны на ревности, жадности и смерти («если в конце не все умерли, значит, это еще не конец»), а самые ценные уроки мы извлекаем (или чаще не извлекаем) из предательств, поражений и катастроф. Счастье же по природе своей статично и самодостаточно, ему не нужны красивые метафоры и громкие слова, оно в них не нуждается, и потому оно — плохой материал для романа.
Так вот «Метроленд» в каком-то смысле вызов устоявшимся представлениям о роли счастья в западной литературе, Барнс пишет роман-ловушку: читатель ждет от него привычных постмодернистских насмешек в адрес увязшего в своем быту героя-семьянина, а он — он встает на его защиту.
«Попугай Флобера» (1984): биография
В предисловии к английскому изданию Джулиан Барнс рассказал историю возникновения этого романа. Писатель путешествовал по Франции и в одном из музеев наткнулся на чучело попугая — то самое, которое Гюстав Флобер держал у себя на рабочем столе, когда сочинял «Простую душу».
И все бы ничего, но, заглянув в следующий музей, Барнс… снова увидел чучело попугая — и, естественно, смотритель заверил его, что именно их чучело настоящее. А то, первое, — подлая подделка.
Вот так курьез послужил отправной точкой для одного из лучших псевдобиографических романов XX века.
Читая эту книгу, очень важно помнить две вещи:
а) в основе ее лежит серьезное авторское исследование;
б) Джулиан Барнс ненавидит «серьезные авторские исследования».
Поэтому он отчаянно старается сохранять дистанцию: он пишет не совсем биографию Флобера, его цель в другом — проследить ход мысли биографа, собирающего информацию о великом писателе. Он ищет ответы на вопросы: что заставляет людей охотиться за вещами давно умершего литератора? почему им не хватает его книг? почему им всегда нужно больше? где корни этой одержимости? Отсюда в романе так много цитат и выписок из писем Г. Ф., так много походов по музеям, по площадям и по местам былой славы великого реалиста. Да и вообще вся эта книга — один большой тычок под ребра всем любителям рыться в чужих вещах и раскапывать литературные могилы. Страсть к собиранию «сакрального барахла» остроумно отражена в названии: «Попугай Флобера» — простое чучело, изъеденное молью, которое поклонники писателя наделили священным статусом и которому теперь поклоняются как живому.
И, кстати, главный герой книги, Джеффри Брэйтуэйт, тоже личность весьма примечательная: врач, неудачник и рогоносец; вся его жизнь, по сути, слепок с французского романа XIX века. Попробуйте угадать какого?
Даю подсказку: на «Г» начинается, на «оспожа Бовари» заканчивается.
А что? Разве жизнь не подражает искусству?
Наверно, только Барнс мог додуматься до этого — сделать биографом Флобера одного из флоберовских персонажей.
«Можно дать определение рыболовной сети двумя способами, в зависимости от точки зрения. Скорей всего, вы скажете, что это ячеистая снасть для ловли рыбы. Но можно, не нанося особого ущерба логике, перевернуть образ и определить сеть так, как однажды сделал шутник-лексикограф: он назвал сеть совокупностью дырок, скрепленных веревкой.
То же самое можно сделать с биографией. Сеть наполняется, биограф вытягивает ее; потом сортирует, выбрасывает, укладывает, разделывает и продает. Однако подумайте и о том, что не попало в его улов: ведь наверняка много чего ускользнуло. Вот на полке стоит биография: толстая и респектабельная, по-буржуазному самодовольная. Жизнь за шиллинг — и вы узнаете все факты, за десять фунтов к этому прибавятся еще и гипотезы. Но подумайте обо всем, что осталось неизвестным, что навсегда исчезло с последним дыханием героя биографии. Ведь самый искусный биограф рискует остаться в дураках, если его предмет, видя приближение жизнеописателя, вздумает над ним подшутить»[25].
>>>
Уже прочитав и отложив книгу, все еще задаешься вопросом — почему именно «Попугай Флобера»? Шутки шутками, но ведь вариантов так много, зачем выносить в название романа образ чучела?
А очень просто: затем, что сама эта книга и есть чучело. Чучело биографии. И Барнс здесь как литературный таксидермист взял мертвый жанр, выпотрошил и набил его новым содержимым. Иными словами — переосмыслил.
«История мира в 10½ главах» (1989): историческая хроника
«История мира…» — это голос умного скептика, читающего Библию, и даже больше — это, возможно, единственная в своем роде Библия агностицизма. Книга, которая медленно и методично, подобно жуку-древоточцу, подтачивает основы истории и религиозных догматов, высмеивая фанатизм и слепую веру.
Каждая глава здесь еще и упражнение в стиле. Барнс словно бросает вызов литературе; он, кажется, поставил себе цель — создать книгу, использовав все возможные стили и приемы письма, и его метод в данном случае отлично работает на главную идею: заставить нас, читателей, взглянуть на историю иначе, под неожиданным углом, не как на строгую, облаченную в кожаный переплет энциклопедию, где все события разбиты на параграфы и пронумерованы, но как на хаотичный набор слухов и домыслов, рассказанных случайными свидетелями (как тут не вспомнить поговорку «врет как очевидец»?).
«История? Всего лишь эхо голосов во тьме. Мы лежим здесь на больничной койке настоящего (какие славные, чистые у нас нынче простыни), а рядом булькает капельница, питающая нас раствором ежедневных новостей. Мы считаем, что знаем, кто мы такие, хотя нам и неведомо, почему мы сюда попали и долго ли нам придется еще здесь оставаться. И, маясь в своих бандажах, страдая от неопределенности, — разве мы не добровольные пациенты? — мы сочиняем. Мы придумываем свою повесть, чтобы обойти факты, которых не знаем или не хотим принять…»[26]
И все же «История мира…» — это не просто постмодернистская забава. Архитектура романа гораздо сложнее и интереснее, ведь Барнс не ограничивается сатирой и отрицанием всего и вся — «не верю, не было, невозможно». Помимо прочего, он четко иллюстрирует простую мысль: время — не самый лучший показатель достоинства идеи, а устоявшиеся моральные нормы могут быть так же ошибочны, как новые веяния, и часто гораздо более жестоки. Вот в этих противоречиях Барнс пытается найти ориентир, в соответствии с которым людей не пришлось бы делить на «чистых» и «нечистых», «верных» и «неверных».
Как любой мыслящий человек, он не может жить без ответов, но стандартные отговорки его не устраивают:
Заповеди? — Сколько людей погибло ради их соблюдения?
Рай? — Ох, не смешите меня: самое скучное место на свете!
«История мира…» — как бы размышление от противного, поиск смысла за пределами протоптанных и утвержденных христианством (и вообще — догмами) дорожек. И еще попытка описать то чувство, которое испытывают люди, когда вдруг осознают, что не бессмертны; и потому мотив одинокого судна в открытом море здесь ключевая тема — куда мы плывем? А есть ли там земля вообще, за горизонтом? И если есть, то будут ли рады нам ее обитатели? И хватит ли у нас сил и, главное, смелости достичь берега и ступить на него?
Но полностью роман раскрывается ближе к концу, когда вслед за восьмью сюжетами, замешанными на дикости и малодушии, внезапно, словно в качестве контрастного душа, следует «Интермедия» — эссе о любви: мы наблюдаем за потоком сознания персонажа, который ночью проснулся рядом с любимой женщиной. И эту идиллию автор помещает в один ряд с рассказами о террористах, кораблекрушениях и инквизиции. Любовь ни с того ни сего врывается в книгу (и да, загадочная ½ главы из названия — это глава о любви), так Барнс впервые формулирует самую важную для себя мысль: история для него — огромная пустота, обросшая догмами и мифами, и если что-то и возможно ей противопоставить — это настоящее; а что еще, кроме любви, дает человеку чувство настоящего?
Вот так и получается: даже в романе, который все по праву называют вершиной английского постмодернизма, есть укромное место, свободное от пародий, иронии и деконструкции, — небольшое, всего половина главы. Но этого достаточно для того, чтобы хороший роман стал великим.
«Как все было» (1991): объективность
В романе Донны Тартт «Щегол» есть персонаж Хоби, он собирает предметы мебели, комбинируя новые элементы с фрагментами старых кресел, комодов, шкафов etc. Сам он называет их «подменыши»: любая мебель под его руками превращается в «частично антикварную», автоматически обретает ценность.
«В магазин то и дело попадали вещи музейного качества, но такие поломанные или поврежденные, что их было уже не спасти; Хоби горевал над этими изящными старинными останками, для него делом чести было сохранить все, что было можно сохранить (тут — парочку фиалов, там — элегантно изогнутые ножки), а потом, с его-то столярным и плотницким талантом, пересобрать их заново в прелестных юных детищ Франкенштейна, которые, бывало, выходили откровенно фантазийными, но, бывало, и настолько исторически верными, что ничем не отличались от подлинников»[27].
Точно такое впечатление, если продолжать метафору, производят романы Барнса. Он берет сломанный, пылящийся на свалке жанр/сюжет, отделяет от него элементы, которые еще не совсем безнадежны и могут пригодиться, и собирает из них новый сюжет, почти ничем не отличающийся от первоисточника/оригинала.
Определяющее слово здесь «почти».
Роман «Как все было» — как раз такое вот «детище Франкенштейна» (с торчащими наружу швами), существо двойной природы. Давно знакомая коллизия здесь подается через нелинейный нарратив, а любовная линия сгибается в параболу. Есть три героя: Стюарт, Роджер и Джил — и каждому из них автор дает слово. Они по очереди рассказывают одну и ту же историю, и, разумеется, их версии старательно противоречат друг другу.
Лишь ближе к концу читатель поймет, что вся эта шумиха затеяна вовсе не для того, чтобы выявить лжеца. Как раз наоборот — ни один из героев не врет, все гораздо сложнее (или проще — как посмотреть): своим текстом Барнс как бы ставит под сомнение само понятие объективности. И правда, откуда нам знать, как все было? Если даже очевидцы событий не могут найти общих точек.
«Англия, Англия» (1998): постмодернизм
В основе сюжета «Англии, Англии» лежит одно простое допущение: а что, если взять все лучшее, что дала миру Британия, все, воплощающее ее дух, — скажем, Тауэрский мост, даблдекеры, Робин Гуда, — и перевезти на новый остров, чтобы основать нечто вроде парка аттракционов с национальным колоритом?
Именно это хочет сделать придурковатый миллиардер Джек Питман. Его цель — создать на небольшом клочке земли «уменьшенную, улучшенную версию Англии». Для туристов. Слоган компании — «увидеть Англию такой, какой вы всегда себе ее воображали, только более чистой, комфортной, приветливой — словом, менее хаотичной».
>>>
Есть известная шутка: «постмодернист — это клоун, который нарисовал на арене цирка канат и ходит по нему, держа в руках портреты великих канатоходцев».
Формулировка отличная, но не исчерпывающая. Барнс идет дальше — он пишет целый роман о клоунах, возомнивших себя канатоходцами, ведь «Англия, Англия» именно об этом: о людях, которые в открытую торгуют подделками исторических фактов, всерьез убеждая клиентов в том, что подлинник сильно переоценен и вообще — это уже не модно, мы провели исследования и бла-бла-бла…
Сама идея — купить остров и выстроить на нем копию настоящей Англии — паразитическая и абсолютно постмодернистская по своей сути. Проект «Англия, Англия» — государство, целиком состоящее из отсылок, оммажей, симулякров; авторы Проекта собирают на маленьком клочке земли все самые ходовые культурные стереотипы; и даже больше — в Англии-Англии нет времени, нет истории, она упразднена, все события здесь происходят одновременно, по желанию клиента.
— Хотите побывать в Шервудском лесу и увидеть Робин Гуда? Пожалуйста! Наши специалисты специально для вас привезли из Саудовской Аравии и высадили здесь целую дубовую рощу, а дальше — пещера, стены которой специально обработали отбойными молотками для придания им правдоподобной, аутентичной рельефности.
— Биг-Бен? Тауэр? Трафальгарская площадь? Без проблем — вас ждут уменьшенные копии в масштабе один к двум; и главное — никаких очередей и пробок! Потому что мы заботимся о вас!
— Увидеть битву при Гастингсе? Один момент: толпы ряженых сейчас воссоздадут ее специально для вас! Литры клюквенного сока, профессиональные и правдоподобные предсмертные вопли и судороги прилагаются. За отдельную плату вы можете даже возглавить наступление!
Барнс тщательно каталогизирует все возможные стереотипы о Британии (только про Холмса забыл почему-то) и собирает их в одном месте, выстроенном на штампах и отсылках к «славным традициям». Уже сама по себе эта (анти)утопия выглядит как впечатляющий и истерически смешной фарс в стиле фильмов Терри Гиллиама. Но Барнсу мало, он продолжает фантазировать и сталкивает две Англии лбами: оригинал и копия выясняют отношения, концепт уровня «чудовища Франкенштейна» (еще одна культурная отсылка, на этот раз к Мэри Шелли) — монстр, сшитый из отдельных частей, поднимает руку на создателя…
Противовесом этого сюжета (назовем его: Барнс vs. постмодернизм) в романе служит история главной героини Марты Кокрейн. Марта — барышня с тяжелым детством (провинциальная школа с религиозным уклоном и сбежавший из семьи отец, куча комплексов). Она умна, в меру цинична и одинока. Она член команды Джека Питмана и вместе с ним она строит эту «империю копий», но тут — происходит нечто неожиданное: в жизнь Марты врывается настоящее. Настоящие чувства.
Два этих сюжетных ядра — поддельная История (строительство Англии-Англии) против жажды настоящего (труды и дни Марты Кокрейн) — любимая тема Джулиана Барнса еще со времен «Истории мира в 10½ главах». «Можно ли возродить простодушие? Или это все равно будет искусственный продукт, ветка, привитая к древнему недоверию?» Этот вопрос — ключ к роману. Ведь, если отсечь все лишнее, «Англия, Англия» — книга именно об этом: о тоске по настоящему. О тоске по подлинности в мире, где всем на все наплевать.
А главный антагонист здесь вовсе не одиозный миллиардер Джек Питман, главный антагонист здесь цинизм.
«Нечего бояться» (2008): автобиография
В романе Новайолет Булавайо We need new names есть сильная сцена: главные герои, дети 10–11 лет, хоронят своего друга. И один из них, глядя в могилу, спрашивает:
— Как ты думаешь, каково это — умирать?
— Откуда мне знать? — говорит другой. — Я ни разу не умирал.
Этот диалог мог бы служить эпиграфом к книге Барнса «Нечего бояться». Потому что написать такое мог только человек, который умирал. И не раз.
«Нечего бояться» — причудливая мозаика из автобиографических рассказов и философских эссе об истории самого сильного и самого человеческого страха — страха смерти. Текст у Барнса получился тяжелый и холодный, как сырой грунт. Нет, разумеется, писатель как всегда остроумен и лаконичен, но именно эта книга, в отличие от прочих, пронизана каким-то тусклым, безнадежным одиночеством. В 2008 году от рака в течение двух месяцев после постановки диагноза умерла жена Барнса, Пэт Кавана; спустя пять лет, в 2013-м, он напишет книгу «Уровни жизни», в которой расскажет, как справлялся с потерей близкого человека. «Нечего бояться» можно считать в некотором роде прологом к «Уровням…». Барнса не интересуют позолоченные, игрушечные теории о «загробной жизни» (религия для него не более чем вредная привычка), он не ищет утешения или прощения, нет, он мыслит в ином направлении: как истинный homo legens, ответы он пытается найти в первую очередь в литературе, в воспоминаниях своих предшественников: Флобера, Руссо, Ренара, Тургенева, Шостаковича и многих других — он комментирует их дневники, спорит с ними, прокладывает их своими размышлениями и сценами из собственной жизни.
Барнс всегда славился незаурядной фантазией. В его библиографии есть рассказ о судебном процессе над личинками жука-древоточца («История мира в 10½ главах» — именно из ее последней главы, кстати, растут ноги у «Нечего бояться», и читать две эти книги, пожалуй, следует в связке). И вот, когда, казалось бы, ничего более изощренного придумать уже невозможно, он пишет книгу, которая, начавшись как обыкновенная автобиография, в процессе превращается в… ворчание из могилы, в книгу, в которой автор то и дело обращается к тем, кто будет жить после него, к тем, кто придет (или не придет) взглянуть на его надгробный камень, к тем, кто прочтет (или не прочтет) его эпитафию.
«Когда вы будете читать это предложение, я, возможно, уже умру. В таком случае никакие претензии насчет книги не принимаются. С другой стороны, мы сейчас оба можем быть живы (вы — по определению), но что, если вы умрете раньше, чем я? Вы об этом думали? Извините, что напомнил, но такая возможность существует, по крайней мере, еще несколько лет. Что ж, мои соболезнования родным и близким. <…> И по-прежнему существует такой вариант, что я умру в середине написания этой книги. Что будет обидно нам обоим — если только вы не собирались в любом случае бросить ее ровно там, где обрывается повествование. Я могу умереть в середине предложения. Возможно, даже в середине сло
Шучу»[28].
Кадзуо Исигуро: как приручить банальность
Писатель — человек нервный, он вечно всего боится. Боится клише и самоповторов, боится быть банальным и сентиментальным, боится белого листа, людей и болей в спине. Боится быть непонятым. И главное — боится, что все поймут: он самозванец.
Кадзуо Исигуро в этом смысле автор уникальный. Он освоил все эти самые известные писательские страхи и сделал частью своего творческого метода. Он совершенно не боится ни повторов, ни тем более банальностей. Как раз наоборот — он, кажется, их приручил. И даже больше: его творческая траектория — яркий пример того, как автор может в течение тридцати лет из строгого и консервативного реалиста превратиться в одного из самых самобытных и жанрово-разнообразных писателей начала XXI века.
«Художник зыбкого мира» (1986)
Его первые два романа — это довольно традиционные с нарративной точки зрения истории о послевоенной Японии. «Художник зыбкого мира» (1986), например, с первых страниц выглядит как очень подробное описание предсвадебного ритуала. Главный герой, старый художник, Мацуи Оно, пытается выдать замуж одну из дочерей.
В Японии женитьба — это больше чем просто союз двух влюбленных. Это слияние семей, фамилий и кланов. Поэтому процесс знакомства у них похож скорее на подготовку к сражению, чем к бракосочетанию. И, как любое сражение, он начинается с разведки. Семьи нанимают частных детективов — и те копаются в прошлом, пытаясь выяснить, не повредит ли будущий союз репутации их клиентов.
«Художник…» — это бесстрастный портрет Японии: на дворе XX век, война закончилась, но страна застыла, увязла в средневековых традициях. Чистая репутация важнее чистого чувства. Уже здесь, во второй книге, вполне виден фирменный метод Исигуро: его романы похожи на притчи, но в них нет назидания, наоборот — автор всегда намеренно оставляет пустоту в том месте, где должен лежать ответ; свою задачу он видит в том, чтобы формулировать правильные вопросы.
Вот и в «Художнике…» под вопрос ставится необходимость ритуалов и традиций: с одной стороны, прошлое — опора для народа, с другой — бремя, мешающее развитию. Когда свадьба оказывается под угрозой, Мацуи Оно винит во всем себя. Он вспоминает молодость и подозревает, что семья жениха откладывает церемонию потому, что частный детектив раскопал в его военном прошлом что-то постыдное. Так история в стиле «моя большая японская свадьба» превращается в роман о раскаянии, и даже больше — о неуслышанной исповеди.
«Остаток дня» (1989)
Как остроумно заметил однажды сам Исигуро, первые три его романа — «Там, где в дымке холмы», «Художник зыбкого мира» и «Остаток дня» — вполне можно описать одной фразой: герой оглядывается на свою жизнь, но что-то менять уже поздно.
В одном из интервью писатель и вовсе признался, что «Остаток дня» — это ремейк «Художника зыбкого мира»: такой же роман о человеке, который оказался не на той стороне истории и теперь вынужден как-то с этим жить.
«Они отличаются только на поверхности. На уровне сеттинга. Я писал одну и ту же книгу снова и снова, или брал ту же тему, что и в предыдущем романе, и дорабатывал, улучшал ее, или старался взглянуть на проблему немного под другим углом <…> Когда я закончил [ «Художника зыбкого мира»], я понял, что это книга о жизни, потраченной впустую, — только с позиции карьеры. И мне пришло в голову, что есть еще множество неплохих способов растратить жизнь — особенно на личном фронте. «Остаток дня» — это переосмысленный «Художник». <…> Я перенес действие из Японии в Англию, и все восприняли это как качественный рывок. Но это был ремейк, или как минимум усовершенствованный вариант предыдущей книги».
Отчасти это так, но если прочесть две эти книги подряд, одну за другой, то станет ясно, что они все же отличаются. И в первую очередь ритмом и качеством отделки каждого предложения. «Художник…» — очень хороший роман, но в нем еще чувствуется неуверенность, в нем видно, как молодой писатель работает фактически вслепую, интуитивно, и некоторые сцены у него просто торчат из текста. Это совсем не плохо, даже наоборот — подобные шероховатости делают книгу живой. «Остаток дня» — другое дело: это уже очень продуманная, жесткая конструкция, которая движется к финалу уверенно и ритмично. В «Остатке дня» буквально нет ни одной лишней сцены — возможно, даже ни одного лишнего слова.
Главный герой, Стивенс, потомственный дворецкий. Впервые за много лет он получает возможность отправиться в отпуск, он едет сквозь Британию, и эта поездка — вид дороги, ощущение пути — пробуждает в нем воспоминания. 1935–1939 годы, предчувствие войны, сомнительные политические решения его хозяина — все это не волнует Стивенса, ведь смысл его жизни в другом — в сохранении порядка в доме, чистоты на кухне и мира среди слуг. Стивенс одержим поистине японским стремлением к совершенству, всего себя он отдает работе и, кажется, не замечает, что жизнь проходит мимо и что одна из его сотрудниц в него влюблена.
Именно здесь, в третьем романе, автор впервые использует прием, который позже станет важной частью его творческого метода, — склонность героев к самообману, их нежелание видеть очевидного; читатель в книгах Исигуро всегда (или чаще всего) знает и замечает гораздо больше, чем протагонист. И это знание наполняет текст напряжением и какой-то русской тоской — когда ты знаешь, что именно не так, но ничего не можешь изменить и просто наблюдаешь за тем, как главные герои совершают нелогичные поступки: будь то Стивенс, который так легко позволил Саре Кентон выйти замуж за другого, или Кристофер Бэнкс, который спустя двадцать лет все еще верит, что его родители живы, и что за эти двадцать лет с ними ничего не случилось, и что их все еще можно найти и снова стать счастливым, как в детстве; или Кэти, которая надеется, что правила, одинаковые для всех доноров, ради нее изменят, и не прикладывает совершенно никаких усилий, чтобы спастись, то есть фактически без боя принимает смерть — свою и близких. И мы, читатели, знаем, что Стивенс, Кристофер и Кэти совершают ошибку. И в то же время мы понимаем, что если бы мы были на их месте, то мы, скорее всего, поступили бы точно так же: ведь склонность к самообману и наивность — это не плохо и не хорошо; это всего лишь то, что делает нас людьми.
«Безутешные» (1995)
После успеха «Остатка дня» у Исигуро было два пути: писать очередной «ремейк» или отправиться на поиски чего-то нового. Он выбрал второе и следующие шесть лет посвятил «Безутешным» — роману, который, кажется, специально сконструирован так, чтобы всех разозлить.
От первой «трилогии» в «Безутешных» остались разве что лейтмотивы — несовершенство памяти и прошлое, которое мертвым грузом висит на каждом из героев. Сюжет романа описать непросто, во многом потому, что книга больше напоминает законспектированный сон. Знаменитый пианист мистер Райдер приезжает в неназванный европейский город и селится в отеле, в котором время и пространство не поддаются контролю, а законы логики нарушаются — причем, что важно, герои реагируют на абсурд совершенно нормально. Совсем как во сне. В одной из глав, например, мистер Райдер в кинотеатре смотрит «2001: Космическую одиссею», где главную роль почему-то играет Клинт Иствуд, который с револьвером бегает по космическому кораблю; в другой сцене хозяин отеля просит мистера Райдера съехать из номера, потому что номер ему «разонравился» и теперь он хочет его уничтожить. Буквально ликвидировать комнату. Таких деталей сотни, и сначала они раздражают, но если принять сновидческие правила игры, то сразу станет ясно, что это очень талантливый и, что еще важнее, невероятно смешной сюрреалистический роман, и потому критиковать его с позиции «там ничего не понятно» так же нелепо, как, скажем, говорить о картинах Рене Магритта «так не бывает». Конечно же, не бывает, но ведь никто не обещал вам ремейк «Остатка дня».
Сам Исигуро о своем замысле говорил так:
«Я задался вопросом: какова грамматика снов? Прямо сейчас мы с вами разговариваем в этой комнате, и в этом доме мы одни. Но, допустим, есть третий человек. В традиционном тексте раздался бы стук в дверь, и он вошел бы, и мы сказали бы «привет». Но спящий разум в этом смысле очень нетерпелив. Во сне обычно все происходит так: мы сидим в комнате и вдруг понимаем, что все это время здесь был еще один человек, сидел рядом со мной. Возможно, мы слегка удивимся тому, что до этого момента не замечали его, но, тем не менее мы просто продолжим беседу. Мне казалось, что это очень интересно. И я стал замечать параллели между памятью и сном — мы одинаково легко манипулируем и тем и другим в зависимости от своих эмоциональных нужд».
Увы, эксперимент не оценили. «Безутешные» не получили ни одной положительной рецензии, однако это, наверное, самый важный роман Исигуро; если взглянуть на эту книгу в контексте всех предыдущих его работ, то станет ясно, что это вовсе не осечка, а сознательный саботаж, попытка вырваться из амплуа реалиста. Он знал, что все ждут от него таких же аккуратных и красивых историй о дворецких-самураях, и он, конечно, мог бы продолжать писать их, но он решил иначе, решил сделать «подкоп под литературу» и выбраться за рамки, в которые сам вогнал себя первыми тремя романами. И время показало, что он был прав: книга, которую в 1995-м не пнул только ленивый, спустя одиннадцать лет едва не выиграла в голосовании за лучший британский роман 1980–2005 годов, и с тех пор «Безутешные» то и дело мелькают в списках лучших романов последних лет.
Не говоря уже о том, что именно здесь, в «Безутешных», становится ясно, что у скромного отличника Кадзуо Исигуро еще и выдающееся, абсурдистское чувство юмора. Вот, например, рассказ одного из героев о том, как он нашел мертвую собаку:
«Я опустился перед ним на колени, чтобы удостовериться, действительно ли он скончался. <…>…дело в том, что ваш Бруно, должно быть, уже некоторое время пролежал на земле, и его тело, великолепное даже в смерти, остыло и… э-э… окоченело. Да, сэр, окоченело. Простите меня, мои признания могут вас огорчить, но… но позвольте мне досказать все как есть. Чтобы захватить свертки — как я в этом раскаиваюсь, тысячу раз уже себя проклял! — желая унести с собой свертки, я взгромоздил Бруно высоко на плечо, не приняв во внимание его окоченелости. И, уже пройдя так чуть ли не всю аллею, я услышал детский возглас и остановился. Тут-то, конечно, меня и осенило, какой чудовищный промах я допустил. Леди и джентльмены, мистер Бродский, нужно ли мне объяснить точнее? Вижу, что должен. Суть в следующем. По причине окоченелости нашего друга, а еще из-за глупейшего способа транспортировки, который я избрал, взвалив его себе на плечо, — то есть поставил вертикально, практически стоймя… Дело в том, сэр, что из окон любого дома по Шильдштрассе вся верхняя часть тела Бруно могла быть видна поверх забора. Жестокость, в сущности, добавилась к жестокости: ведь именно в этот вечерний час большинство семейств собирается в задней комнате на ужин. За едой они могли созерцать свои садики и видеть, как наш благородный друг проплывает мимо с простертыми вперед лапами, — о боже, что за унижение! Сколько семейств могло это видеть!»[29]
«Не отпускай меня» (2005)
В 2000-м у Исигуро вышел пятый роман, «Когда мы были сиротами», и, хотя в целом ту книгу встретили скорее тепло, она даже попала в шорт-лист Букеровской премии, для самого автора это был шаг назад — очередной ремейк «Остатка дня», только на этот раз в оболочке детектива. Сам Исигуро почувствовал это и позже в интервью признался, что совершил ошибку, вернувшись к старым приемам.
После «Сирот» он снова замолчал на несколько лет — искал способ устроить очередной побег из британской литературы. Замысел «Не отпускай меня» возник у него еще в 90-е: он хотел написать книгу, в которой молодые люди пытаются смириться с тем, что скоро умрут. Проблема была в том, что он никак не мог придумать сюжет, оправдывающий скорую смерть персонажей. На помощь ему пришел его друг, молодой английский писатель Алекс Гарленд, автор романа «Пляж» и сценариев к фильмам Дэнни Бойла «28 дней спустя» и «Пекло». Именно Гарленд рассказал Исигуро о комиксах Алана Мура и Фрэнка Миллера.
«Еще тогда, в 90-е, — вспоминал Исигуро, — я почувствовал, как сильно изменился литературный климат. У нас появилось целое поколение молодых писателей, которые совсем иначе относились к фантастике, и этот их задор стал для меня источником вдохновения. Возможно, раньше я и разделял ворчливое предубеждение по отношению к жанровости, характерное для писателей моего поколения, но молодые авторы освободили меня. И я понял, что могу тащить в свои книги все что угодно».
Вот так букеровский лауреат снова всех удивил: он написал «Не отпускай меня» — научно-фантастический роман о клонах, которых выращивают, чтобы пустить на органы. Сюжет, который любой другой писатель назвал бы банальщиной и без сожаления бросил бы в урну, в руках у Исигуро стал, кажется, одним из самых обсуждаемых романов нулевых — второй побег из реализма удался.
«Погребенный великан» (2015)
Первые главы «Погребенного великана» Исигуро написал еще в 2005-м. История о рыцарях, ограх и драконах в декорациях VI века была так не похожа на все написанное им ранее, что даже жена Лорна, прочитав черновик, сказала: «Из этого ничего не выйдет». Писатель отложил текст и шесть лет не возвращался к нему, а когда все же решил вернуться, то писал в тайне и от жены, и от агента — боялся, что они отговорят его продолжать.
И время показало, что он был прав. «Погребенный великан» — это третий по счету саботаж британца, очередная — и вполне успешная — попытка размыть, разрушить границы между жанрами, между фантастикой, фэнтези и серьезной литературой.
Сюжет такой: где-то в средневековой Англии живет пожилая семейная пара, которая однажды решает отправиться в соседнюю деревню, к сыну. В пути они встречают саксонского воина Вистана и рыцаря Гевейна, а также узнают, что таинственный туман, из-за которого люди теряют память, — это дыхание волшебной драконихи Квериг. Затем, конечно, выясняется, что все не так просто и люди сами выбрали забвение, чтобы остановить войну. И вот на этой двойственности, размытости — в той серой зоне, где нет четких ответов, — и развивается сюжет. Один рыцарь пытается убить дракониху, чтобы вернуть людям воспоминания, второй ее защищает, потому что верит, что ее чары — это не наказание, а наоборот, спасение от кровопролития. И этот конфликт между саксами и бриттами, между Вистаном и Гевейном, вполне работает как настоящее философское эссе об исторической памяти: что делать, если отношение твоего народа к прошлому противоречит твоим моральным установкам? Возможна ли ситуация, в которой замалчивание исторических фактов и редактирование памяти будет этичным и даже необходимым? Или же все наоборот — и любая попытка замылить историю есть преступление вне зависимости от намерений? И главное — что нам делать с этой годами и поколениями накопленной ненавистью и можно ли вообще как-то изжить коллективную вину?
Кадзуо Исигуро снова в своем стиле — он написал притчу, в которой нет назидания и нет четких ответов. Только вопросы.
>>>
В 2017 году ему вручили Нобелевскую премию за то, что «в романах великой эмоциональной силы он раскрыл перед нами всю бездну того, насколько иллюзорна наша связь с реальностью». Но для меня он всегда будет писателем, который сумел приручить банальность, и даже больше — каждым новым своим романом он способствовал разрушению этой ненужной и вредной стены на границе между «высокой» и «жанровой» литературой.
Стивен Кинг: работа в сумеречной зоне
У каждого писателя, как у супергероя, есть своя история восхождения. И так уж вышло, что часто такие истории связаны с женами. В Колумбии, например, каждый знает легенду о том, как Мерседес Гарсиа Маркес заложила в ломбарде фен, соковыжималку и обогреватель, потому что ее мужу не хватало денег, чтобы отправить рукопись «Ста лет одиночества» издателю по почте.
У Кинга все примерно так же: своим успехом он фактически обязан жене Табите, которая однажды буквально из мусорной урны достала смятые первые страницы романа «Кэрри» и уговорила мужа продолжить работу: «В этой истории что-то есть. Я думаю, тебе стоит ее дописать, а там увидим». В итоге небольшой жутковатый роман о девочке-экстрасенсе принес автору славу и 200 тысяч долларов гонорара от издателя.
Уже там, в первой книге, — несмотря на довольно простой, нехитрый сюжет, — сквозит вполне узнаваемая кинговская потусторонность, которую так хорошо почувствовала Табита и позже уловил Брайан Де Пальма, автор первой экранизации «Кэрри». С тех пор за Кингом закрепилась репутация короля ужасов, ярлык, который кажется мне крайне неточным и главное — несправедливым. И пусть сам Кинг в интервью скромничает и называет себя литературным аналогом «Макдональдса», любой его внимательный постоянный читатель знает, насколько разнообразным и неожиданным может быть король ужасов. Даже романы, которые по умолчанию считаются его классическими horror stories, на деле, если приглядеться, имеют сложную внутреннюю архитектуру и часто попросту не помещаются внутри заданного жанра или используют его, жанр, как инструмент для авторского размышления — о природе насилия, о долге, о творчестве, о зависимости. А некоторые его романы и вовсе можно читать как автокомментарий писателя — о ремесле и о своем месте в литературе. Вот они.
«Противостояние» (1978)
«Противостояние» — первый по-настоящему большой и амбициозный проект Кинга, попытка написать «своего „Властелина колец”». Сюжет такой: в результате эпидемии в США вымирает 99 % населения, а те, кто остался в живых, скитаются по опустевшим городам и магистралям, сбиваются в группы и организуют новые колонии. Без сверхъестественного тоже не обошлось — за выживших сражаются мистические силы тьмы и света, и в новом, «перезагруженном» мире опять начинается противостояние — между двумя сообществами, двумя представлениями о добре; и здесь впервые ясно звучит одна из сквозных тем всех будущих романов Кинга — а именно вопрос: люди вообще способны мирно сосуществовать или мы все просто запрограммированы на насилие?
Размах и амбиции автора оценили даже критики, которые до этого считали его поставщиком бульварного чтива категории Б про вампиров и отели-призраки. Пейзажи опустевших городов произвели на читателей такое сильное впечатление, что книгу многие до сих пор считают лучшей у Кинга. И не напрасно. Шутка ли — 900 страниц мелким шрифтом, сотни персонажей, куча сюжетных линий — не очень похоже на роман, написанный «ради денег».
Да и для самого автора «Противостояние» — важная веха, работа над романом стала испытанием его таланта на прочность, и в мемуарах он подробно описывает сложности, с которыми столкнулся, пытаясь совладать с барочной архитектурой книги; он даже был готов бросить эту затею и признать поражение. В каком-то смысле «Противостояние» можно считать репетицией «Темной башни», успех 900-страничного кирпича у читателей придал ему уверенности в себе, Кинг понял, что ему вполне по силам бросить вызов тяжеловесам вроде Толкина. А главный антагонист романа, Рэнделл Флэгг, позже и вовсе переселится в «Темную башню» и встанет на пути у Роланда Дискейна, идущего по тропе Луча.
«Мертвая зона» (1979)
В «Мертвой зоне» впервые появляется еще одна важная и даже судьбоносная для Кинга тема — автокатастрофа. Строго говоря, впервые она возникла еще в «Жребии», где писатель Бэн Мирс потерял в аварии жену, но в «Мертвой зоне» покореженный автомобиль становится важным сюжетным элементом.
Сюжет простой: главный герой, Джонни Смит, после аварии обретает способность видеть будущее — стоит лишь прикоснуться к человеку. В пересказе роман похож на какой-нибудь проходной эпизод сериала «Сумеречная зона», на деле же история Джонни Смита — одна из самых больших творческих удач за всю карьеру Кинга.
Роман, который начинается как непритязательный хоррор с кровью и маньяками, ближе к середине превращается в почти библейскую историю о неотвратимости судьбы и о маленьком человеке (героя недаром зовут Джонни Смит, Кинг постоянно подчеркивает его обычность), который, как и Иона, от этой самой судьбы пытается скрыться, спрятаться.
Однажды Джонни жмет руку кандидату в президенты Грегу Стилсону и видит, как тот, в будущем, став первым лицом государства, развязывает третью мировую войну. Это и есть ядро романа — дилемма Джонни Смита — имеет ли он право на убийство и может ли он — должен ли — помешать будущему тирану? И вообще: может ли политический убийца быть прав?
«Мертвая зона» в этом смысле — роман о настоящем героизме — о героизме без прикрас, без красного плаща, роман о том, что будет, если обрушить на простого человека бремя ответственности за весь мир.
Роман был настолько популярен, что в 1983 году за экранизацию взялся сам Дэвид Кроненберг. Но, к сожалению, имея на руках один из лучших текстов Кинга, да еще Кристофера Уокена в главной роли, Кроненберг умудрился снять совершенно беззубую ленту, при этом, кажется, не заметив главную несущую конструкцию сюжета — историю о неподъемном бремени.
В романе Кинг с первых страниц подчеркивал контраст между двумя героями — Джонни Смитом и Грегом Стилсоном — и долго готовил их неизбежное столкновение. Но в фильме антагонизма нет и в помине: Стилсон в исполнении Мартина Шина появляется на экране лишь на 70-й минуте, а руку ему Джонни жмет за десять минут до конца, и затем в следующем же — форсированном и нелепом — диалоге с врачом решается на убийство. В итоге финальная сцена выглядит просто надуманной: в романе Джонни долго решался на последний шаг и даже поседел, так сильно пугала его мысль о будущем; в фильме же между решением и выстрелом проходит меньше суток, да и само решение словно бы не вызывает у героя особых моральных страданий; поиграл желваками и пошел убивать.
Короче, книга лучше. Гораздо.
«Оно» (1986)
Ничто не злит Стивена Кинга сильнее, чем заявления, которые начинаются со слов «писатель должен…» И он наверняка от души посмеялся бы над попытками критиков как-то интерпретировать его наследие, увидеть автопортрет в сюжетах его романов. Но сюжеты — они как отпечатки пальцев, по ним всегда можно найти автора, как бы он ни пытался замести следы. И все герои-писатели у Кинга действительно похожи на него — они защищают право романиста писать так, как он хочет; вот, например, слова Билла Денбро из «Оно»:
«Почему рассказ обязательно должен быть социо-каким-то? Политика, культура, история… разве все это — не естественные компоненты любого рассказа, если он хорош? <…> Почему бы рассказу не быть просто рассказом?»[30]
Это и есть главное кредо Кинга: история всегда на первом месте. Всегда. И если она хорошо сделана, мораль автоматически будет зашита в ее ДНК. «Оно», например, вполне можно прочесть как манифест против домашнего насилия, насилия над женщинами и над детьми; вообще, самые страшные эпизоды в «Оно» — это как раз истории о бытовой жестокости, об издевательствах сильного над слабым. Вы думаете, зубастый клоун — это страшно? Как бы не так. Самая мерзкая и жуткая сцена в романе — это драка Беверли с мужем-деспотом, который пытается отлупить ее пряжкой ремня за неподчинение, за то, что повысила на него голос.
Во всех книгах Кинга есть эта внутренняя ирония: они под завязку набиты монстрами, но главные чудовища в них — все равно люди. Это еще одна его суперспособность — без назидания и занудства поднимать сложные темы: право женщины распоряжаться своим телом, право заключенных на гуманное обращение, право меньшинств на самоопределение — и самое главное, Кинг никогда не выпячивает подтекст и не кричит на каждой странице: «Эй, я гуманист! Ну смотрите же, вот тут я защищаю ваши права, обратите внимание, вот прямо сейчас я их защищаю, смотрите, какой я защитник!» Все потому, что он очень скромный и терпеть не может назидание и популизм в литературе.
Вот и «Оно» — именно такой роман, здесь вроде бы на месте все стандартные тропы Кинга: призраки прошлого, маленький городок в штате Мэн, за дружелюбным фасадом скрывающий чудовищное прошлое; и школьники, вступающие в бой с потусторонним. Но под сюжетом здесь спрятаны все самые важные для Кинга темы — насилие сильного над слабым и люди, которые внутри страшнее любого чудовища.
«Мне кажется, что писатели бывают двух видов, — писал Кинг в предисловии к «Темной башне». — Те, кто относит себя к более литературным или «серьезным» сочинителям, рассматривают все сюжеты и темы в свете вопроса: «Что эта книга значит для меня?» Те, чей удел — писать популярные книжки, задаются вопросом прямо противоположным: «Что эта книга значит для других?» «Серьезные» авторы ищут ключи и разгадки в себе; «популярные» ищут читателей. И те и другие — равно эгоистичны».
Всю свою жизнь Кинг провел где-то посередине, между двумя этими полюсами, в писательской «сумеречной зоне», — недостаточно изящен, чтобы заслужить похвалу в The New York Times, и в то же время слишком умен и харизматичен, чтобы считаться автором категории Б. И потому темы раздвоения личности («Темная половина») и самозванства («Тайное окно») так часто возникают в его книгах. В романе «Мизери» главный герой, писатель Пол Шелдон, и вовсе становится жертвой безумной фанатки, которая держит его в заложниках и калечит за то, что он посмел написать что-то, что нравится лично ему, а не ей. Сюжет «Мизери» симптоматичен и легко читается как аллегория отношений коммерческого автора с аудиторией; сам Стивен Кинг точно так же уже много лет чувствует себя заложником своей многомиллионной армии поклонников, которые ждут от него жути с зубастыми клоунами и саспенсом, и в то же время — заложником критиков, которые ждут, когда же он уже «перестанет заниматься ерундой и возьмется за ум». И потому, наверно, многие его романы выглядят как сеансы самоанализа и саморазоблачения.
«Темная половина» (1989)
Если «Жребий» был попыткой Кинга написать своего «Дракулу», то «Темная половина» — очевидный оммаж «Доктору Джекилу и мистеру Хайду» Р. Л. Стивенсона; рассказ о двойственной природе ремесла писателя. Главный герой, Тадеуш Бомон, — весь такой правильный, образцовый, твидовый писатель. Его «серьезные» романы плохо продаются, и потому однажды, разозлившись, он пишет откровенно бульварную книжку, набитую жестокостью и ультранасилием, и публикует ее под псевдонимом Джордж Старк. Книга становится бестселлером, и Тадеуш на волне успеха пишет еще два романа, в которых с оттягом эксплуатирует все клише криминальных, нуарных детективов и ни в чем себе не отказывает. Тем временем книги самого Бомона — «настоящая» литература — никому не нужны, он остается нишевым писателем для знатоков; в какой-то момент раздвоение личности начинает тяготить его, и он официально объявляет о том, что Джордж Старк мертв, то есть формально убивает свой псевдоним.
А дальше — чистый хоррор: Джордж Старк выбирается из могилы, и два альтер эго Кинга — книжный гик и сумасшедший — начинают выяснять отношения.
В пересказе звучит не очень впечатляюще, но для того, чтобы увидеть в истории дополнительный слой, достаточно вспомнить творческий путь самого Кинга. Однажды пожилая женщина узнала его в супермаркете: «Я знаю, кто вы, вы автор ужастиков. Я не читала ни строчки из того, что вы написали, но я уважаю ваше право писать так, как хочется. Я-то люблю настоящую литературу, типа «Побега из Шоушенка». Кинг так и не смог убедить ее, что эту книгу тоже написал он.
Эта история (возможно, выдуманная) очень показательна — Кинг ведь действительно довольно плодовитый и разнообразный писатель: большие творческие удачи у него перемежаются с катастрофическими поражениями; но ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Поэтому и в «Темной половине» вполне можно увидеть насмешку — над критиками и над нами, читателями, над нашей привычкой вешать на авторов ярлыки: этот пишет ужастики, а этот — о высоком; не перепутай.
А почему, собственно, один писатель не может делать и то и другое одновременно?
«Надеюсь, ты не ищешь в книгах Старка какой-то подтекст или дополнительный смысл? Потому что их там нет», — говорит Тадеуш Бомон своему другу; но мы-то с вами, — те, кто читал «Противостояние», «Труп» и «Сердца в Атлантиде», — мы знаем, что автор лукавит; и в «Темной половине» он дает нам всего понемногу — и хлеба, и зрелищ — и выпускает на волю оба свои альтер эго, — и сцены, наполненные сатирой на издательский бизнес и шпильками в адрес литагентов и критиков, перемежаются здесь со всевозможными клише из фильмов категории Б.
«Как писать книги» (2001)
Почти все книги о писательстве бесполезны. Их авторы расскажут вам «притчу о солитере»[31], посоветуют «побольше гулять», а если очень повезет — поведают о трехактной структуре произведения и научат расставлять запятые. Ни одна книга о писательстве не учит главному — справляться с отказами.
Еще в детстве Стивен Кинг начал отправлять свои рассказы в журналы фантастики. Их неизменно возвращали, и бланки с отказами он нанизывал на вбитый в стену гвоздь. Когда бланков стало слишком много, Кинг заменил гвоздь на плотницкий костыль. Он не отчаивался: «Когда ты еще слишком молод, чтобы бриться, оптимизм — вполне естественная реакция на неудачу».
Мне кажется, именно эта деталь — самая важная в его мемуарах «о ремесле», а в оригинале «On Writing». В ней есть что-то от притчи, вроде того старого анекдота о Диогене, который просил милостыню у статуи, и на вопрос прохожих, что он делает, отвечал: «Приучаю себя к отказам».
Об этом Кинг и пишет в автобиографии. О том, что каждый молодой автор в самом начале пути борется не столько со словами, сколько с сомнениями; о том, что писательство — это добровольная робинзонада, и, если ты не опустил руки даже после десятка отказов, в какой-то момент ты все равно почувствуешь эту пустоту — как астронавт, которого забыли на Марсе. Из инструментов у тебя только скотч и картошка — попробуй собери из них роман, умник. В этом смысле мемуары Кинга — чтение крайне полезное, даже душеспасительное, они похожи на внезапный радиосигнал из космоса, напоминающий тебе, что ты, молодой-подающий-надежды-прозаик, не одинок. Шутка ли, автор романов «Оно» и «Противостояния» сам приходит к тебе, хлопает по плечу и говорит: «Все нормально, парень, так и надо. Мы все через это прошли. Каждый день слышать „нет” — это важная часть обряда инициации. Чтобы получить первое „да” от издателя/читателя/критика, нужно сперва собрать целую коллекцию „нет”. Соберешь двести „нет” — это и будет твой пропуск в литературу».
А потом начинается вторая часть книги, собственно — о ремесле. Стивен Кинг как бы смотрит на твои инструменты, на скотч и картошку, и говорит: «Погоди-ка, ты что, из этого хочешь собрать роман? Ну нет, дружище, так не пойдет. Романы собирают совсем из других материалов», — и объясняет, как работает язык, что такое сюжет и как сделать, чтобы твои персонажи были похожи на людей, а не на картофелины, обклеенные скотчем. И самое важное — в его советах нет ни капли снисхождения.
В этом разница между Кингом и остальными. Писательские мемуары чаще всего так плотно набиты нарциссизмом, что за их вечными «я, я, я, я» почти ничего невозможно разглядеть — только фигуру автора, дым и зеркала. Салман Рушди, например, или, скажем, Набоков, они обычно так сильно увлечены собственными ощущениями, стилем, слогом, сложной судьбой, что в их воспоминаниях («Джозеф Антон» и «Память, говори» соответственно) читатель нужен исключительно для того, чтобы быть свидетелем их исключительности. А Кинг — другой, у него все наоборот, он, кажется, единственный писатель, который не соврал, когда дал своему тексту подзаголовок «Мемуары о ремесле». Возможно, это и отличает «Как писать книги» от прочих: она совсем не об успехе, она даже не об авторе, она — об образе мышления. Она — о человеке, который просто любит рассказывать истории, который в детстве зачитывался Эдгаром По и Говардом Лавкрафтом, писал рассказы о монстрах и мечтал увидеть их напечатанными. Кинг не пытается строить книгу как «историю успеха» или «преодоления», в стиле фильма «Рокки», — вот я страдал-страдал, был андердогом, а потом всех победил, — наоборот: его внимание сконцентрировано на читателе, его цель — подбодрить молодых, внушить им, что они не одиноки. А это дорогого стоит.
Даже автобиографические главы здесь не столько о нем, сколько о людях, которые всегда были рядом и за шкирку тащили его через жизнь: он с нежностью пишет о матери, с восхищением — о брате, с юмором — о друзьях, которых обрел, работая на ткацкой фабрике и в прачечной; да что там! даже история о первом проданном романе здесь — это ода жене Табите.
Сложно сказать, намеренный это прием или нет, но он работает: Кинг словно бы самоустраняется из собственной истории и направляет софиты на любимых (и не очень) людей.
Именно здесь, в мемуарах, во всех этих бытовых зарисовках просвечивает настоящий Кинг, и именно здесь сразу становится ясно, за что его так любят миллионы. Саспенс и монстры — это ерунда, поставщиков кошмаров на рынке много, но, кажется, никто, кроме Кинга, не способен так ярко и эффектно фиксировать обыкновенный быт, цеплять читателя деталями и приметами времени. И в этом смысле он — такой американский Бальзак, в его книгах вся одноэтажная Америка 70-х — 90-х: видеокассеты, сигареты без фильтров, игровые автоматы, грайндхаус, открытые кинотеатры, велосипеды с изолентой на спицах, раздолбанные «Шевроле» со ржавыми кузовами, свисающие с дерева качели-покрышки у дома, неоновые вывески, придорожные забегаловки, полароидные снимки, автоматы с газировкой, гамбургеры, календари с девушкой месяца из «Плейбоя» в туалетах, протертый линолеум, москитные сетки на дверях в Бангоре, Касл-Роке, Дерри — и прочих кинговских провинциальных городках в штате Мэн. Вымышленных и не очень.
Уж если говорить о ярлыках, то Кинг — никакой не король ужасов, он настоящий гений места, певец одноэтажной Америки, ее летописец и землемер. Для штата Мэн он сделал столько же, сколько Фолкнер — для юга США.
Абрахам Вергезе: белые одежды
Литература и медицина — родственные дисциплины. Обе — о травмах и о близости смерти. И цель у обеих (во всяком случае, в их изначальных состояниях) — уменьшить количество боли.
Герои книг получают ранения, болеют, рожают детей и делают аборты, впадают в кому и в безумие, теряют конечности и память. Любая травма/болезнь — это всегда объект пристального внимания не только врача, но и писателя.
И все же цели у них разные: врач ищет причину болезни и способы устранения; писатель же раны не лечит, часто как раз наоборот — наносит и заставляет читателя переживать их. И это тоже хорошо. Своего рода вакцинация. В кровь вводят малые дозы вируса гриппа, чтобы организм мог выработать иммунитет и побороть болезнь в случае эпидемии. Примерно то же самое делает с нами большая литература — она дает нам иммунитет. К глупости, к подлости. К равнодушию[32].
Потому, наверно, особенное место на книжной полке истории занимают романы, в которых речь идет о медицине. И дело здесь даже не в романтических коннотациях белого халата и красного креста. Это другое. Любой рассказ об отношениях врача и пациента всегда стремится стать притчей: «Нас трое, я, ты и болезнь, на чью сторону станешь — тот и победит» (это Авиценна сказал).
И «Рассечение Стоуна» — именно такая книга: сплав медицины и литературы. История о сиамских близнецах, разделенных сразу после рождения. Семейная сага о династии хирургов в стране третьего мира.
Абрахам Вергезе, доктор медицины, профессор Стэнфордского университета, выросший в Эфиопии. Он вовсе не пытается идеализировать образ врача, как раз наоборот — методично, глава за главой, стряхивает романтическую пыль с белых халатов своих персонажей.
Лечение людей — процесс утомительный, нервный и местами безумно скучный. Всем хочется спасать жизни, но…
Вергезе как бы впускает нас в операционную — смотри, читатель, вот артериовенозные фистулы, вот пролапс митрального клапана, фиброма печени, заворот кишок и геморроидальные узлы, и вот с этим я имею дело каждый день. Это в телевизоре жизнь доктора похожа на остросюжетный детективный сериал — меткие диагнозы, озарения за секунду до смерти пациента и крики «Мы его теряем! Где дефибриллятор?». На самом деле главное в работе врача (как и в работе писателя) — полюбить свою рутину.
И в этом смысле «Рассечение Стоуна» — самое настоящее признание в любви к профессии.
Чтение романа Вергезе можно смело приравнять к курсу лекций по медицине, анатомии и истории Эфиопии. Плотность фактического материала здесь настолько высока, что читать книгу желательно с ручкой и тетрадкой — для конспектов.
Вот, например:
«Матка по-гречески — hysteria. И знаменитый психиатр Шарко полагал, что все причины женских психозов скрываются в матке».
«В Эфиопии семья умершего ничего не ест несколько дней, пока тело родственника не предадут земле. А на похоронах, опустив гроб в яму, на крышку кладут тяжелые камни, чтобы гиены, если вздумают разворошить могилу, не смогли добраться до тела».
Широчайшая эрудиция Вергезе сказывается даже на структуре романа: подробно описанный и местами жутковатый процедурал (например, сцена, где Томас Стоун сам себе ампутирует пораженный гангреной указательный палец, прописана так тщательно, что, читая, невольно чувствуешь запах операционной) сменяется острой социальной сатирой, затем следует журналистское расследование / рассказ о коррупции в эшелонах власти, потом — полемика с Ломброзо, экскурс в историю физиотерапии, а дальше снова вскрытый живот, колостома, колопексия, вазэктомия, кесарево сечение, государственный переворот, люди, повешенные на фонарях, свергнутый император, коммунизм, эмиграция, ну и, конечно, любовь — терапевта и акушерки.
Впрочем, все эти перепады текстового давления вовсе не утяжеляют «Рассечение Стоуна» — каждая отдельная глава отлично работает на общий замысел.
И вот еще что интересно: в романе нет никаких чудес — люди здесь не воскресают и не обретают сверхспособности, — наоборот, автор стремится к реализму, к максимальной натуралистичности, — и все же, читая книгу, невольно чувствуешь близость «Рассечения» к лучшим образцам магического реализма, «Ста годам одиночества» и «Детям полуночи», столько здесь удивительных вещей и открытий, столько поступков, событий и путешествий.
В «Рассечении» нет магии в общепринятом смысле этого слова, и все же если искать эпитет для романа, то на ум приходит только одно слово — волшебный.
Марлон Джеймс: шум и яркость
Марлон Джеймс родился в 1970 году в Кингстоне, столице Ямайки. Несмотря на то что действие его главного романа почти целиком происходит в гетто, набитом проститутками, бандитами и продажными копами, сам Джеймс никогда не жил в такой среде: он вырос в престижном районе города в семье полицейских (позже отец и вовсе стал адвокатом; именно он привил сыну любовь к Шекспиру и Кольриджу). Мрачная атмосфера его романов и брутальный внешний вид — на фотографиях Джеймс выглядит как рэп-исполнитель, выступающий в стиле грайм, — не раз приводили к курьезам во время интервью. Так, пару лет назад один британский журналист спросил у писателя, каково это — вырасти в гетто. «Понятия не имею, — ответил тот, — я вырос в хорошем районе, у нашей семьи было две машины».
Окончив Университет Вест-Индии в Кингстоне, Джеймс больше десяти лет работал копирайтером, затем дизайнером (среди его работ, например, обложки альбомов Шона Пола) и параллельно писал первый роман «Дьявол Джона Кроу» — историю о вражде двух христианских проповедников в вымышленном городе Гивеаф где-то в ямайской глуши. Книгу, наполненную религиозной символикой, размышлениями о природе зла и запредельным насилием, замешанным на ритуалах вуду, отвергли 78 издательств, что, разумеется, очень расстроило автора. Но он не опустил руки — и долго посещал курсы писательского мастерства в Кингстоне, которые вела американская романистка Кейли Джонс. Она прочла фрагмент его рукописи, затем книгу целиком и была так поражена талантом ямайца, что лично отредактировала текст и добилась его публикации, — но только в Великобритании; американские издатели от романа отказались. И хотя громкого успеха «Дьявол…» не имел, тот факт, что его вообще заметили, очень ободрил Джеймса.
Вторая его вещь — «Книга ночных женщин» — вышла спустя четыре года, в 2009-м. Сюжет о бунте рабынь на сахарной плантации на Ямайке XIX века понравился критикам и читателям гораздо больше. Сам Джеймс относился к «Книге ночных женщин» неоднозначно: да, она сделала его знаменитым в США, но благодаря ей автора увешали ярлыками — «писатель с национальным колоритом», «постколониальный», «постчерный», «как Тони Моррисон, только мужик и с Ямайки».
А потом, в 2014-м, он опубликовал третий роман — и стряхнул с себя все бирки.
«Краткую историю семи убийств» чаще всего описывают как историю о неудавшемся покушении на Боба Марли, но это так же справедливо, как утверждать, что «Моби Дик» — о китовом промысле; есть нюансы. Великий музыкант здесь, как и белый кит у Мелвилла, скорее символ: его называют просто Певец (с большой буквы) — он не человек, но икона, образ, мученик, которого все то и дело сравнивают с Христом. Тут есть и свой капитан Ахав — местный гангстер Джоси Уэйлс, харизматичный воротила с усами и без принципов, собирающий банду вооруженных отморозков и готовящий покушение на Певца. Но убийство для него — всего лишь способ посеять хаос в стране накануне выборов.
Хотя главных героев в романе не меньше десяти, именно Уэйлс двигает повествование; все остальные персонажи вращаются вокруг него, пересекаясь и словно бы случайно задевая друг друга. Сама по себе «Краткая история…» — если мы все же попытаемся найти в ней магистральный сюжет — это рассказ о восхождении и падении Уэйлса. Намек на это есть уже в названии, отсылающем не только к покушению на Боба Марли, но и (возможно, даже в большей степени) к бойне, которую устроил Уэйлс ближе к концу, когда положил в наркопритоне семь человек.
Нет, это не спойлер: вся прелесть книги Марлона Джеймса в том, что ее совершенно невозможно испортить пересказом. Какой бы бодрый и кровожадный сюжет ни лежал в его основе, этот роман построен в первую очередь вокруг языка. Словарный запас персонажей — лютая ямайская ругань, диалекты, канцелярит, военная терминология — и есть главный герой «Краткой истории…». Текст цепляет своей разнородностью, диапазоном авторских техник — поток сознания, множество стилизаций, почти соркиновские диалоги и даже песни; одна из ключевых сцен в книге — это вообще хип-хоп-речитатив, который в идеале надо читать под бит.
В американской прессе уже стало общим местом сравнивать «Краткую историю…» с фильмами Тарантино, и на это, конечно, есть свои причины: роман и правда очень кинематографичен — настолько, что канал НВО уже купил права на экранизацию. И все же сопоставлять Джеймса с Тарантино — сильное упрощение. Уже хотя бы потому, что ямаец гораздо тоньше и заливает свою книгу кровью совсем не из эстетских соображений.
«Краткая история…», по сути, не один, а несколько романов, насквозь прошитых общими лейтмотивами. Свои истории рассказывают не только Джоси Уэйлс и его отморозки, но и, казалось бы, совершенно сторонние люди, случайно ставшие свидетелями покушения на Певца, — здесь и репортер журнала Rolling Stone Алекс Пирс, и главный конкурент Уэйлса в борьбе за власть бандит Папа Ло, и скучающий цээрушник Барри Дифлорио, и безработная дурочка Нина Бёрджесс, мечтающая любой ценой получить визу США (кстати, один из самых интересных образов в романе). Это, конечно, удивительно: Марлону Джеймсу удалось написать книгу, в которой каждый герой — главный, ведь все они (даже те, что изначально казались проходными и не важными для сюжета) к финалу умудряются растолкать локтями остальных и вылезти на первый план, под софиты. Даже мертвые.
Ханья Янагихара: дать понять, что ты не одинок
Свой первый роман The People in the Trees Ханья Янагихара закончила в 2013 году. В основе сюжета — история из жизни Даниела Карлтона Гайдузека.
Врач-физиолог, нобелевский лауреат, человек, своим открытием изменивший историю медицины, в 1996 году он попал под суд по обвинению в растлении собственных приемных детей.
Гайдузек был другом семьи Янагихара, Ханья знала его лично и, когда он умер (в 2008-м), позаимствовала ключевые факты его биографии для своего дебюта. Она — дочь врача-гематолога — с детства интересовалась анатомией и медициной: «Болезни завораживают меня: то, что чужак может сделать с организмом хозяина, как захватчик с государством, и как инфекция…»; именно эту тему — тему паразитизма и слабости плоти — она взяла за основу, когда решила попробовать себя в литературе.
Критики хвалили книгу, называли самым амбициозным дебютом последнего времени. И было за что — в «Людях в деревьях» есть все необходимые ингредиенты Великого Американского Романа:
— масштабный замысел: сюжет вращается вокруг открытия белка, замедляющего старение, то есть фактически эликсира молодости;
— социальная критика: история о фармакологических компаниях, жадность которых стала причиной исчезновения целой культуры на острове в Микронезии;
— сюжетная рамка, отсылающая к «Лолите»: главный герой — ненадежный рассказчик — пишет мемуары, пытаясь избежать обвинений в растлении малолетних.
И все же ни похвалы критиков, ни огромный размах не обеспечили роману особый успех у читателей. Да и сама Янагихара спустя два года в интервью для The Guardian сказала: «Это не та книга, в которую можно влюбиться». И написала следующую, в которую влюбились все.
Второй роман получил название «Маленькая жизнь» (A Little Life), и хотя с дебютной книжкой он не пересекается, между ними все же есть внутренняя связь: если в «Людях в деревьях» автор дает читателю возможность заглянуть в голову к хищнику, растлителю, то в «Маленькой жизни» все наоборот — мы наблюдаем за жертвой сексуального насилия.
В центре внимания четыре друга: юрист Джуд, актер Виллем, художник Джей-Би и архитектор Малкольм. Ядро сюжета — жизнь Джуда; друзья и их истории вращаются вокруг него, как спутники. A Little Life — книга о власти прошлого, ее структура полностью отражает замысел: роман не линеен — в том смысле, что время здесь двигается одновременно вперед и назад. Все начинается, когда героям где-то по 25 лет, а дальше идет мозаика из событий прошлого и будущего. Такая композиция позволяет не только сделать историю очень динамичной, но и добавить в нее элемент тайны, квазидетективный сюжет — читатель сразу замечает белые пятна в биографии главного героя и начинает задавать вопросы: как Джуд получил свои травмы? и почему он увиливает от разговоров? Автор сама постоянно заостряет на этом внимание: «Ему нравилось делать вид, что он один из них, хотя он и знал, что это не так»; «Джуд боялся, что если не будет двигаться вперед, то соскользнет назад, в прошлое, в жизнь, которую он покинул и о которой никому из них не рассказывал»[33].
В США, несмотря на восторженные рецензии, роман много критиковали за «излишнюю жестокость», но это сильное преувеличение. Довольно странно слышать такие претензии от американских рецензентов, у них есть и более жестокие и эпатажные писатели: в «Отеле Нью-Гемпшир» Джона Ирвинга есть сцена группового изнасилования, от которой волосы встают дыбом, в его же книге «В первом лице» свою жизнь во всех подробностях пересказывает герой, которого влечет к транссексуалам. Да и вообще, по сравнению с текстами Ирвинга (или Джонатана Литтелла) работа Янагихары — образец умеренности.
Наконец самое главное: на русском языке «Маленькая жизнь» вышла в конце 2016-го, и это, кажется, идеальное время для появления такого большого, умного и провокационного романа. Когда тема замалчивания травм прошлого и сексуального насилия в России все чаще всплывает в СМИ и соцсетях, становится ясно — у нас пока просто не существует контекста, в рамках которого люди могли бы обсудить такие болезненные темы, у нас ведь «не принято выносить сор из избы»: даже робкие попытки женщин написать о своем травматичном опыте вызывают в обществе целую бурю эмоций, и в итоге вместо проработки проблемы все скатывается к обвинениям жертвы и слатшеймингу.
>>>
В 1966 году американские психологи Мелвин Лернер и Кэролайн Симмонс провели эксперимент. Суть простая: 72 студентки наблюдали за тем, как их однокурсница выполняет тест. За каждый неправильный ответ девушка получала удар током. Студентки, разумеется, сочувствовали ей — но лишь сначала. Прошло немного времени, и сочувствие сменилось обвинениями: ближе к концу теста студентки были уверены, что жертва заслужила наказание, — если б готовилась получше, могла бы избежать ударов.
Лернер и Симмонс объяснили такое поведение верой людей в справедливость мира: мы подсознательно верим, что все происходящее с человеком — результат его поступков. За хорошие дела мир награждает нас, за плохие карает.
Звучит логично, но есть одно но: эта вера — когнитивная ловушка.
Люди склонны искать оправдание тем вещам, на которые не могут повлиять. Среди таких вещей — насилие. Если тебя бьют током во время теста — сама виновата: плохо готовилась. Если тебя избили и ограбили по пути домой — сам/а виноват/а: зачем так поздно шляешься по темным переулкам? Если тебя изнасиловали — сам/а виноват/а, и не говори, что не понимала, к чему все идет. Мы подсознательно верим в справедливость мира и потому закрываем глаза на то, что способно поколебать, подточить эту нашу веру.
Поэтому «Маленькая жизнь» и подобные ей книги сейчас очень нужны — они создают контекст, в рамках которого обсуждение больных и интимных вопросов может перейти на более цивилизованный уровень. Разумеется, книга не способна заменить психотерапевта — сама Янагихара говорит об этом в интервью. И все же кое-что книга может: дать человеку понять, что он не одинок.
«Маленькая жизнь» — притча о не-одиночестве. События в ней происходят в условном «сейчас», автор сознательно стерла все приметы современности, превратила текст в огромную, жестокую сказку, которая как бы напоминает нам: время и место не важны, потому что то, о чем я вам сейчас расскажу, было всегда.
И всегда будет.
И с этим надо что-то делать. Как минимум — говорить об этом.
Айн Рэнд: ампутация самоиронии
Сюжет «Идеала» прост, как рецепт яичницы с адыгейским сыром: главную героиню, актрису Кей Гонду, обвиняют в убийстве, она скрывается от полиции и просит убежища у поклонников.
Вообще, справедливости ради стоит сказать: сюжет, может, и не тянет на премию «Тони», но в нем определенно что-то есть, и в руках талантливого и не лишенного чувства юмора драматурга — например, Майкла Фрейна или Мартина Макдоны — он мог бы стать основой для мощной драмы или комедии: пять человек в течение одной ночи по очереди встречают любимую актрису. Только представьте: сидите вы дома, и тут — стук в дверь, а на пороге Эмили Блант (Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс, Пенелопа Крус — нужное подчеркнуть). Сколько простора для бытовых зарисовок, неловких пауз и саспенса, учитывая, что пружина сюжета — убийство.
Но у меня для вас плохие новости: автор пьесы — Айн Рэнд, и если вы читали «Атланта…», то вы примерно представляете, что именно вас ждет: огромная тяжеловесная проповедь, зачем-то населенная персонажами, каждый из которых когда-то пережил ампутацию самоиронии. И даже хуже — пьеса-проповедь провисает на всех возможных уровнях, особенно на уровне диалогов: герои Рэнд не разговаривают, они обмениваются цитатами из пабликов для впечатлительных школьников вконтакте: «Минуту назад мир остановился и будет неподвижен еще три минуты. Но этот перерыв наш. Ты здесь. Я смотрю на тебя. Я видел твои глаза и в них всю правду, доступную людям. (Она роняет голову на руки.) Прямо сейчас на земле нет других людей. Только ты и я. Нет ничего, кроме мира, в котором мы живем»[34].
С персонажами тоже беда: они легко делятся на два типа — благородный и глупый. Первый настолько благороден, что, скорее всего, умеет ходить по воде, а второй — настолько глуп, что, наверное, даже банку с солеными огурцами не сможет открыть без инструкции.
И дело вовсе не в том, что они плохо прописаны, — наоборот, прописаны даже слишком детально, — но огромные утомительные монологи совсем не делают их живыми, героям Рэнд не хватает глубины: они прямолинейны, как железнодорожные рельсы, каждый носит в голове всего одну идею и яростно ее защищает. И да, я в курсе, что люди, у которых в голове всего одна идея, действительно существуют. Проблема здесь в другом: в мире Айн Рэнд существуют только и исключительно такие люди — оголтелые защитники идей. Все эти Кай Гонды и Джоны Галты после прочтения так и остаются бестелесными (даже несмотря на постельные сцены, которые у Рэнд такие, что Лавкрафт обзавидуется: «…она почувствовала, как его рот мучительно продвигается вверх по ее ноге»), смутными аллегориями — возвышенные и великодушные борются с жадными и глупыми.
В ее романах нет дилемм и конфликтов: идеи, неугодные автору, нигде, никак и никогда не раскрываются — потому что защищают их самые слабые, мелочные и мерзкие персонажи. Стоит ли говорить, насколько это неконструктивно? Читателю не оставляют выбора: «Ты или с нами, божественными и красивыми эгоистами, или вот с этими, скользкими и бесхребетными коммуняками/социалистами». «Атланта…», например, издатели позиционируют как философский роман, но при этом идеологический перекос в книге настолько очевиден, что любой разговор о «романе идей» теряет смысл. Это не «роман идей», это, увы, роман лишь одной идеи — той, что так мила сердцу Айн Рэнд, — идеи Капитализма С Человеческим Лицом. А все остальные нужны лишь для того, чтобы раздать их дуракам и посмотреть, как они их изуродуют. Очень мило, да.
Повторюсь: в основе «Идеала» лежит сюжет с большим потенциалом — актриса, обвиненная в убийстве, прячется у поклонников. Как много интересного, личного и трогательного можно рассказать через этот сюжет! Как жаль, что у Айн Рэнд не было хорошего редактора, который бил бы ее томиком пьес Бернарда Шоу по голове всякий раз, когда она начинает проповедовать, и привел бы в порядок ее беспомощные диалоги. Хорошая пьеса могла бы получиться, честное слово.
Иэн Макьюэн: сферический писатель в вакууме
Есть один верный способ отличить писателя-самоучку от выпускника литературных курсов. Вот, например, Дон Делилло и Иэн Макьюэн.
Делилло — самоучка. Он никогда не изучал литературу; сын итальянских эмигрантов, он вырос в Бронксе, в детстве подрабатывал парковщиком, в колледже получил диплом по специальности «визуальные коммуникации», затем провел восемь лет на скучной должности в рекламном агентстве и только потом решил стать писателем.
У Макьюэна все иначе, он — «дипломированный специалист». Два высших — оба филологические: первое — английская литература, второе — creative writing, элитные курсы литературного мастерства в Университете Восточной Англии.
Слон и кит. Я бы даже не стал их сравнивать, если бы не одно но: в 2003–2005 годах они написали романы с очень похожим сюжетом. У Делилло вышел «Космополис», об одном дне самодовольного миллиардера, который разъезжает по Нью-Йорку в роскошном лимузине и иногда стоит в пробке из-за того, что центр города перекрыли манифестанты (см. «Дон Делилло: язык и террор»). Макьюэн, в свою очередь, в 2005-м опубликовал «Субботу», роман об одном дне самодовольного хирурга, который разъезжает по Лондону в роскошном «Мерседесе» и иногда стоит в пробке из-за того, что центр города перекрыли манифестанты.
Речи о плагиате здесь, конечно, не идет: «Суббота» максимум оммаж, хотя, скорее всего, это случайное совпадение. Романы выглядят как разлученные в детстве близнецы: оба откликаются на трагедию 11 сентября, сквозные темы обоих — увязшее в комфорте общество и тотальная зависимость от технологий, переходящая в технофобию. Еще, что характерно, и там и там важную роль играют пробки, вызванные стихийными митингами; похоже, образ автомобильной пробки в нулевые был главным символом кризиса западных ценностей.
Но хватит о сходствах, что там с отличиями? А главное отличие между романами — атмосфера. Делилло — провокатор, Макьюэн — сноб и эстет. Характеры писателей отлично отражаются в их романах. Делилло никогда не держится за каркас сюжета, и если сюжетная рамка мешает его размышлениям, он без сожалений гнет ее и ломает, потому что для него текст — это всего лишь инструмент, способ выразить мысль. Фабульная часть у него всегда ослаблена, и ближе к концу сюжет, как правило, уступает место чистому безумию: «Космополис» заканчивается стрельбой и смертью, а, к примеру, главный герой другого его романа, «Мао II», в конце и вовсе уходит из книги, то есть по сути метафизически убивает себя.
Делилло никогда не щадит читателя: он вроде бы просто рассказывает интересную историю, а потом вдруг ка-а-ак даст правдой по морде! И ты стоишь, пытаешься остановить кровь из носа, а он пожимает плечами и говорит: ну а чего ты ждал?
Макьюэн же — эстет, ушибленный учебниками по композиции, и потому анализировать его «Субботу» на фоне «Космополиса» очень удобно. Все недостатки как на ладони: Макьюэн, типичный отличник, все всегда делает по правилам. Он, например, хорошо выучил урок, посвященный чеховскому ружью, и пользуется этим приемом постоянно — в его книгах по стенам развешаны ружья и прочая символическая мебель. Плюс в каждом романе есть отсылки к математике и физике: в «Сластене» он упоминает парадокс Монти Холла, в «Дитяти во времени» — теорию относительности; с самими текстами эти теории/парадоксы связаны весьма посредственно, просто Макьюэн где-то слышал, что в умных книгах должны быть умные мысли. Так и в «Субботе» все на месте, хоть галочки ставь: вот отсылающий к 11 сентября падающий самолет в первой главе, а вот герой смотрит на датчик системы безопасности в своем ультразащищенном доме, вот размышляет о теории Дарвина, а вот пересказывает мысленный эксперимент Эрвина Шредингера.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы по этим намекам догадаться — ближе к концу в дом ворвутся дикари, иначе к чему эти чеховские ружья? Зачем эти размышления об эволюции и безопасности?
И, разумеется, именно это и происходит: в убербезопасный, ультракомфортный дом врываются преступники «с обезьяньими лицами», и милое, успешное, зажиточное семейство Пероун переживает свое личное 11 сентября в миниатюре. Привет, самолет из первой главы; а также — кот Шредингера, запертый в коробке наедине с капсулой яда. Очень тонко, мистер Макьюэн, очень тонко.
И это главная проблема, кажется, всех романов англичанина: он так увлечен симметрией своих сюжетов, что ради нее легко жертвует всем остальным: «Дитя во времени» начинается с исчезновения ребенка и развода, а заканчивается родами и воссоединением. «Амстердам» начинается с клятвы двух героев, а завершается ее исполнением. «Закон о детях» начинается с ухода мужа, а заканчивается его возвращением. «Суббота» начинается с занятий любовью и ими же заканчивается. И так — везде! Ни шагу в сторону. Ни холоден, ни горяч. Не взрывом, но всхлипом.
Эту сюжетную симметрию он доводит подчас до причудливой забавы, насилуя при этом в угоду ей истину, обращаясь с ней, как старые французские садоводы с природой, создававшие симметричные аллеи, квадраты и треугольники, пирамидальные и шарообразные деревья и изгороди, сплетенные в правильные кривые.
Книги Макьюэна написаны настолько аккуратно, что их надо бы поместить в палату мер и весов с табличкой «Образцовый среднестатистический роман с трехактной структурой». Серьезно, любой из них (кроме, пожалуй, «Солнечной») можно легко разметить, найти завязку-кульминацию-развязку, в каждом из них есть «побуждающее событие» и некое препятствие, которое протагонист должен преодолеть, «прожить». И он преодолеет, и эта «борьба», разумеется, изменит его. Яркие примеры — «Дитя во времени» и «Закон о детях». Все строго по канону. Похоже, на литературных курсах Макьюэна так сильно ушибли теорией, что сам он теперь каждый раз подсознательно воспроизводит один и тот же нарратив, и все его романы — идеальные учебники для начинающих писателей и сценаристов, на их примере очень удобно объяснять азы сторителлинга ученикам на курсах.
Что ж, это тоже достижение — быть мастером симметрии. Проблема в том, что это достижение скорее для садовника, чем для писателя.
Впрочем, и у Макьюэна есть сильные стороны, моменты ясности и ярости; вся штука в том, что проявляются они как раз тогда, когда автор откладывает свои садовые ножницы, секатор и зеленую биоразлагаемую лейку из «Икеи». В первой главе романа «Дитя во времени» — там, где у главного героя в супермаркете пропадает дочь, — кошмара больше, чем во всех игрушечных монстрах Стивена Кинга вместе взятых. Страх, на который давит автор, — настоящий, родительский. Или «Солнечная» — один из немногих текстов, где англичанин, кажется, впервые в карьере откровенно забивает на правила и просто наблюдает за своим придурком-протагонистом — и тут же сам из зануды преображается в веселого, остроумного писателя.
И это показательно: стоит ему забыть о симметрии, тут же начинается литература. Поэтому, собственно, рядом с наполненным безумием и паранойей «Космополисом» аккуратно подстриженная «Суббота» выглядит как китайская подделка.
Хороший урок для всех начинающих авторов: стремление к симметрии — один из этапов становления писателя; но именно ее преодоление — признак зрелости.
В самом известном романе Кадзуо Исигуро «Остаток дня» главный герой — дворецкий, и он так преданно служит хозяину, что ради этой службы душит в себе все человеческое. В итоге, ближе к концу романа, дворецкий понимает, что жизнь прошла мимо, он ее проворонил, променял на идеальную сервировку стола в чужом доме (см. статью «Кадзуо Исигуро: как приручить банальность»). Вот и с Макьюэном та же история — к своим романам он относится как потомственный дворецкий к порядку в доме хозяина: тихо протирает серебро метафор и аккуратно расставляет симметричные канделябры сюжетов. Он не из тех, кто меняет привычки. Вот хоть бы раз построил крепость из диванных подушек или, не знаю, признался в любви вон той обаятельной горничной! Но нет, на такое он не способен. Ведь на курсах дворецких-писателей такому не учат.
Мартин Эмис vs Дуглас Коупленд
Начнем издалека.
В 1985 году Мартин Эмис написал самый известный свой роман «Деньги» (Money: A Suicide Note). Книга получилась уморительно смешная — жестокая сатира на кинобизнес, присыпанная фирменным цинизмом Эмиса.
Цитировать ее можно абзацами:
«Лос-Анджелес напрочь лишен подземных переходов. Здесь их просто нет. Поэтому если вы увидели клевый паб на той стороне улицы, не спешите радоваться, потому что единственный способ перейти дорогу в Лос-Анджелесе — это родиться на той стороне».
Особенно читателям запомнился главный герой, Джон Сам (John Self) — толстый, похотливый невежда; человек, о котором вообще трудно сказать что-либо хорошее; но — странным образом он не вызывал у читателя отвращения и ненависти, Эмис вывел необычный вид персонажа — disgusting-but-funny.
Джон Сам был совершенно неспособен учиться на собственных ошибках — он раз за разом совершал одни и те же глупости и всегда искренне, по-детски удивлялся своим поражениям; именно это делало его живым и иногда даже трогательным.
«Деньги» стали знаковой книгой в 80-е: энергичный стиль, искрометный юмор, узнаваемые герои плюс прикрученный к сюжету постмодернизм (Эмис сам себя вписал в роман в качестве второстепенного персонажа и в одной из сцен дал в морду главному герою). Роман даже попал в список журнала Time «100 лучших книг на английском языке с 1923 года до наших дней».
А потом, спустя почти 30 лет, Дуглас Коупленд написал «Worst. Person. Ever» — чем вызвал странное ощущение дежавю у всех, кто читал «Деньги».
Сравним:
В «Деньгах» у героя была говорящая фамилия Self, и она отлично подчеркивала его зацикленность на себе и неспособность видеть дальше собственного носа.
Худшего Человека На Свете зовут Raymond Gunt, и тут фамилия созвучна с грубым английским ругательством, что как бы намекает и задает настроение всей книге (я думаю, в русском издании фамилию перевели бы как Кондон).
Эмисовский Джон Сам был похож на большого ребенка — он попросту не замечал своих ошибок. Рэймонд тоже неврастеник, только с другим уклоном: он всегда знает, что поступает неправильно, но, накосячив, упорно отказывается признавать вину. И каждый раз получает за это пинка от реальности: за триста страниц романа он успевает обгореть на солнце, угнать два автомобиля, пережить три анафилактических шока, два раза побывать в тюрьме, довести до инфаркта одного толстяка и настроить против себя население целого острова в Тихом океане. И каждый раз, совершая очередной феерически тупой поступок, Рэймонд винит во всем окружающих — вообще его поведение очень напоминает политику современных сверхдержав и их правителей.
Итого: чем дальше по тексту, тем выше градус абсурда — вот Рэймонд пишет письмо террористам из группировки «Аль-Каида», где дает им советы по захвату самолетов; а вот он, обдолбавшись кислотой, пытается убить своего ассистента из-за куска красного пластика.
Это ужасно смешно, правда. Проблема в том, что все эти приключения Рэймонда не делают его живым, не раскрывают его — он так и остается разрозненным набором гэгов.
Да, конечно, книга называется «Худший. Человек. На свете». Чего мы еще ожидали? Но, похоже, Дуглас Коупленд слишком увлекся раскрытием сути «Худшего» и совсем забыл о «Человеке».
И в этом разница: в «Деньгах» Джон Сам действительно был живым и выпуклым персонажем — наглым и недалеким, и в то же время наивным стяжателем, мечтавшим снять кино, обмануть всех (включая автора) и сказочно разбогатеть (не обязательно в этом порядке).
А что же Рэймонд? Да ничего. Даже название здесь — сильное преувеличение. Рэймонд вовсе не худший человек на свете, он просто долбоеб.
«Адамов мост» Сергея Соловьева: роман цвета хаки
Есть такой известный трюк: стоит стол, на нем — белая скатерть и фарфоровый сервиз. К столу подходит человек и одним резким движением выдергивает скатерть так, что ни одна чашка не сдвинется с места, ни одно блюдце не звякнет.
Примерно то же самое делает Сергей Соловьев с синтаксисом: выдергивает из предложений основу — подлежащее и/или сказуемое. Причем так мастерски, что остальные части речи как бы и не замечают отсутствия взрослых.
«Адамов мост» — книга-эллипсис. Пропусков здесь больше чем слов, и все эти тире так плотно утрамбованы смыслами, что иногда теряешь грань между прозой/поэзией/проповедью — автор словно не пишет, а напевает предложения:
«Вошли в заповедник. Свет с молоком и дымом. Сновидческие деревья. Пустынная дорога. Полуутопленная коряга головы».
Сюжет тут растворен в пейзажах, в описаниях, и потому часто можно услышать жалобу от критиков, мол, «там ничего не происходит». Не верьте. Еще как происходит. Там происходит жизнь.
Потому что «Адамов мост» — это роман-зрение. Задача автора здесь — не рассказать историю, его задача — видеть и передать свое видéнье/вúденье читателю/смотрящему. И с этим он справляется отлично.
«[Псы] рвались в клочья рыхлым клокочущим лаем, мокрым от смерти, сжимавшей их ребра в горсти».
«[Цапли] в вязком мареве пекла дежурили у реки, как маленькие медсестры».
«[Слониха] Опустила хобот, трогает руку, дышит в лицо — теплом, прелой соломой, памятью».
Вообще-то сравнивать писателей — это моветон, но. Вспоминается Пришвин. Или даже (почему бы и нет?) Франциск Ассизский. Животные, растения — вот кто здесь главные герои. Описания деревьев и слонов — на одну-две страницы каждое. И каждое — шедевр (а иногда — метафора).
«А люди — а что люди? Скучные существа, придумавшие колесо, математику и — убивать себе подобных ради денег/идеалов/удовольствия.
Только сейчас мы пришли к порогу полного непониманья мира, в котором живем, точней — жили. Тысячи лет спустя нашего самозванства. Что мы знаем о них, о животных, растениях? Думаем, что мы знаем — много. А знаем что? Ничего. Собаку Павлова. Помнишь те кадры документальные: крокодил схватил антилопу, маленькую, еще подростка. Волочит в реку. И вдруг бегемот — с другого берега, бежит, таранит воду, отогнал крокодила, а они ведь живут не сталкиваясь, разинул пасть, взял антилопу так бережно — как на руках несет, положил в траву, стал на колени, дышит в лицо ей, щекой трется, трогает, а она, бездыханная, глядит на него мокрым остановившимся глазом. А он все не уходит, все тычется в ее шею. И крокодил лежит у воды, замер, смотрит на эту сцену. А тот все стоит, то к небу взгляд, то на нее, и пятится, и скользит к ней на коленях. Лир над Корделией. Зарезали мою девочку… А ту ночь двух королевских кобр, помнишь, их свадьба, — Шекспир, весь, легче укладывается в сознанье, чем это. Что мы знаем о них? Если дерево или птица не могут сложить табуретку или компьютер, значит, ниже нас по развитию? С той же логикой — если мы не можем воскресать из смерти, как зерна, или отращивать новые ноги вместо отсеченных, как саламандры, или менять пол органично, как рыбы, или владеть световой речью, как глубоководные существа, или перестраивать свой молекулярный уровень, переговариваясь на больших расстояниях, как акации, — то что?»
>>>
И еще о языке. Начну издалека.
В 1848 году английский корпусной адъютант Уильям Ходсон командовал батальоном разведчиков в Индии. Дела шли очень плохо. Одетые в ярко-красные мундиры, в зеленых джунглях солдаты британской армии были как живые мишени; индийские воины замечали их издалека и легко устраивали засады.
Но. Ходсон в молодости увлекался живописью. Чувствительный к цвету, он понимал, в чем проблема: он заказал у местного портного форму цвета хаки (в переводе с хинди «пыльный», легенда также гласит, что Хаки — это имя того самого портного).
Облаченные в новую форму, слившиеся со средой, солдаты действовали гораздо успешнее, смертность сократилась вдвое, и вскоре британская армия уже давила партизан по всем фронтам. Ходсон же за победы на индийском фронте сперва был удостоен звания генерала, а потом… насильно отправлен в отставку. Английской королеве, видите ли, не понравилась его «самодеятельность», она сочла отказ от красной формы «отступлением от традиций».
Так вот, к чему это я? Ах да.
История о хаки очень хорошо подходит для описания книги «Адамов мост». Сергей Соловьев, подобно адъютанту Ходсону, не рядит свои слова в ярко-красные мундиры модного сегодня «нового реализма», наоборот — его проза цвета природы, почти обезличенная, она как бы сливается с пейзажем, ее почти не видно на фоне описаний индийских джунглей, животных и океана.
И критики к Соловьеву относятся так же, как английская королева — к Ходсону: ругают за «самодеятельность» (Майя Кучерская даже обвинила в том, что он «пишет на эсперанто»; кто бы говорил). Пусть ругают.
Да, здесь почти нет подлежащих и местоимений — все эти «я, я, я, я, я», которых в современной прозе, как сорняков, все больше с каждым годом, здесь вырваны с корнем. Зачем? Все очень просто: эта книга не о людях и не о себе. Она — о любви, о чувстве, в котором нет места для «я».
◯
Чарли Кауфман: расширение пространства
0
1…
И вот он я, сижу в кофейне на Большой Никитской, пишу текст о Чарли Кауфмане. Уже два месяца. Написал четыре абзаца. Ну то есть написал-то я страниц сто, но в чистовик из них годится не больше четырех абзацев. Такой у меня КПД. Меньше, чем у лампочки Эдисона.
Сейчас, когда я это пишу, за соседним столиком трое корейцев — два парня и девушка — разучивают какую-то песню. Я не шучу, они сидят в кофейне и каноном поют что-то на своем языке. Кофейня расположена рядом с Консерваторией им. Чайковского, так что ничего удивительного, тут постоянно околачиваются студенты с партитурами и огромными футлярами для контрабасов. Обычно меня раздражают люди, которые шумно ведут себя в кофейнях, но сейчас я так сильно устал, что сам уже хочу подсесть к корейцам и запеть вместе с ними.
Что они там поют? Что-то из «Отверженных»?
Пытаюсь представить себе их лица, если я вдруг подсяду к ним и запою: Я ЖАААН ВАЛЬЖАААН.
И затем выдам целую партию из «Отверженных».
Вот о чем я думаю вместо того, чтобы писать текст.
Я уже говорил, что у меня КПД ниже, чем у лампочки Эдисона? Почти вся энергия уходит в бесполезное тепло, в свет — процентов пять. Иногда это ужасно бесит.
И вот, значит, мне нужно родить 2000 слов о Чарли Кауфмане. И у меня есть план: 2000 раз написать слово «бля» и так отправить редактору.
Кауфман, я думаю, оценил бы.
2. Клудж
В 1988 году Чарли Кауфману было уже 30 лет, он был женат, жил в Миннеаполисе, работал клерком в газете Star Tribune и в основном занимался тем, что отвечал на звонки недовольных подписчиков газеты. За плечами у него была нью-йоркская киношкола, а впереди — никаких перспектив.
Первую работу на телевидении будущий автор «Вечного сияния чистого разума» получил благодаря сценарию эпизода «Симпсонов». Кауфман придумал сюжет, в котором Гомеру предстояло выступить на Дне родителя в школе у Барта. Гомер осознает, что у него убогая профессия и рассказать ему особо нечего, и чтобы как-то исправить эту ситуацию, он записывается в школу секретных агентов.
Сама эта идея — недовольство собственной жизнью, желание стать кем-то другим, перестать быть собой — позже станет сквозной темой во всех работах Кауфмана. Поэтому особенно символично, что именно эпизод «Симпсонов» о кризисе идентичности Гомера стал для него входным билетом на телевидение.
Вообще, вся жизнь Кауфмана — точнее, траектория его карьеры в Голливуде — выглядит как чистой воды клудж — то есть нечто нарушающее все внутренние законы и правила системы, но при этом почему-то работающее: его первый большой сценарий «Быть Джоном Малковичем» несколько лет ходил по рукам студийных боссов, все восхищались его изобретательностью, но ни один продюсер не хотел в него вкладываться. В конце концов, кино — это бизнес, и даже в экспериментальные проекты люди инвестируют лишь в том случае, если есть хотя бы минимальные гарантии вернуть деньги. Чаще всего гарантией служит репутация автора. В начале — середине 90-х у Чарли Кауфмана не было репутации, поэтому рассчитывать он мог только на чудо.
И чудо случилось.
По чистой случайности сценарий попал в руки к Фрэнсису Форду Копполе, тот показал его своему зятю Спайку Джонзу и даже отправил самому Джону Малковичу.
Первоначальный сценарий, впрочем, довольно сильно отличался от того, что в итоге попало на экран. Кауфман уже тогда славился буйной фантазией — в одном из первых драфтов была сцена, в которой огромная марионетка Джона Малковича размером с Годзиллу сражается с Дьяволом в обличии 33-го президента США Гарри Трумэна. В руках у них были бензопилы, действие происходило на сцене гигантского театра, в конце две огромные марионетки превращались в лебедей, Гарри Трумэн побеждал Джона Малковича, захватывал его тело и получал абсолютную власть над миром[35].
Говорят, когда настоящий Джон Малкович прочел сценарий Кауфмана, он первым делом спросил у агента: «За что этот парень так меня ненавидит?»
На этом чудеса не прекратились, и после долгих переговоров Малкович согласился сыграть самого себя и даже разрешил оставить в фильме сцены, в которых его высмеивают и выставляют олухом.
>>>
Съемки «Быть Джоном Малковичем» начались в 1997-м, в том же году Чарли Кауфман заключил еще один знаковый для себя — и для истории кинематографа — контракт: он согласился адаптировать в сценарий книгу журналистки Сьюзен Орлеан The Orchid Thief. Позже он признавался, что взялся за работу лишь потому, что ему нужны были деньги. Спустя месяц он понял, что у него проблемы: «Как написать сценарий по книге, которая не книга даже, а обычный сборник статей о цветах?»
Ответ: никак. В книге Орлеан просто не было материала для сценария.
Подвох был в том, что аванс к тому времени Кауфман уже потратил и отказаться от работы спустя месяц, не предоставив материала, он не мог.
«У меня не было ни строчки. Я на стену кидался от отчаяния. И затем вдруг подумал, что можно вписать в сценарий самого себя, потому что было очевидно, что я в тупике и не могу выдавить из себя ни строчки. Я никому не рассказал об этой идее, потому что боялся, что заказчик скажет „нет”. Но других идей у меня не было. Ни одной. Ноль».
Кауфман прекрасно понимал, насколько это наглый и беспардонный ход — радикально поменять идею, не предупредив заказчика. Фактически это было карьерное самоубийство. Сценарий — не та область кинопроизводства, где поощряют самодеятельность и эксперименты. Особенно если речь идет о заранее оплаченной работе на заказ.
И вот парадокс: как только Кауфман перестал бояться за свою карьеру — смирился с тем, что его теперь почти наверняка уволят, — у него начало получаться. Когда ты понимаешь, что терять уже нечего, — это освобождает.
И он пустился во все тяжкие — если задумал совершить карьерное самоубийство, то нужно сделать это красиво: он не только вписал в сценарий самого себя, очень скоро он вписал туда еще и своего воображаемого брата-близнеца, и даже сцену, где он, Чарли, мастурбирует на портрет Сьюзен Орлеан.
Голливуд — это корпорация, и, как любая корпорация, он тяготеет к формулам, к упрощению: сценарий должен соответствовать ряду критериев — драма, сюжетные арки, четкая мотивация персонажей. Этому учит, например, Роберт Макки, автор книги Story (в русском переводе «История на миллион долларов»), самого известного в мире учебника по сценарному мастерству. Поэтому Чарли Кауфман — которому, напомню, уже совершенно нечего было терять — вписал в свой сценарий еще и Роберта Макки. И не просто вписал — он сделал его антагонистом, человеком, который воплощает в себе все то, что главный герой ненавидит в Голливуде, все то, что превращает искусство в ремесло: формулы, жанры, сюжетные арки.
Сам Кауфман говорил, что, когда закончил первый драфт и отправил его заказчику, у него не было сомнений, что это конец. Теперь-то его точно уволят.
Он ошибался: в 2002 году фильм «Адаптация» вышел на экраны, а Чарли Кауфман был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий». Очередное чудо.
3. Фильм как перформанс
Зритель и автор видят историю по-разному. Для зрителя история — это сюжет, в котором есть персонажи, драма, начало, середина и конец.
Для автора все немного сложнее — это десяток фальстартов, дюжина ампутированных тупиковых сюжетных линий и персонажей; пара ударов головой о стол или о стену в надежде наконец найти нужные слова; сто двадцать чашек кофе, тысячи матерных слов и нервный озноб при мысли о приближении дедлайна.
Всегда важно помнить: то, что в итоге зритель/читатель видит в кино или в романе, — это вершина айсберга, конструкция, из которой выкинули все лишнее, убрали строительные леса, вывезли мусор и замазали швы. И это правильно. Муки автора — это его проблемы, тянуть их в историю — неприлично.
Еще считается, что автор должен избегать очевидных, лобовых метафор и клише, должен писать так, чтобы все выглядело естественно, чтобы читатель забывал о том, что перед ним написанный текст, а зритель — что смотрит на экран.
Бывает, конечно, и наоборот — автор бунтует против «естественности» и начинает намеренно показывать читателю/зрителю изнанку своей работы.
Таков был, например, Луиджи Пиранделло — один из самых важных для Кауфмана драматургов, — который написал пьесу «Шесть персонажей в поисках автора»; ее действие происходит во время репетиции пьесы Луиджи Пиранделло.
Таков и сам Чарли Кауфман. Для него швы и белые нитки сюжета — это как раз самое интересное. Если обычно писатель даже в фантастической истории старается сохранить внутреннюю логику, то Кауфман поступает иначе — сознательно и открыто ломает реальность прямо на глазах у зрителей.
Один из самых характерных его приемов — буквализация метафоры или идиомы. Его фильмы — это всегда столкновение буквального и мифологического; такое столкновение, после которого, как после автокатастрофы, миф и реальность превращаются в груду металлолома. С одной стороны, в их основе лежит знакомая каждому человеку эмоция или идея:
— мы все иногда мечтаем побывать в шкуре знаменитости;
— мы все иногда мечтаем, чтобы о нашей жизни сняли кино или поставили пьесу;
— мы все иногда мечтаем забыть человека, которого любили, стереть его из памяти, начать жизнь заново.
Но для обработки этих сюжетов Кауфман всегда выбирает самый радикальный метод из всех возможных. Его герои буквально оказываются в шкуре знаменитости — вселяются в тело Малковича и начинают им управлять; герои «Вечного сияния чистого разума» буквально стирают себе память — для них это обычная медицинская процедура; Кейден Котар из «Синекдохи, Нью-Йорк» буквально ставит пьесу по своей собственной жизни в масштабе 1:1; ну и, конечно, в «Адаптации» Чарли Кауфман буквально вписывает самого себя в сценарий.
Иными словами, Кауфман-автор берет мифологический, универсальный концепт и максимально заземляет его до уровня повседневности, и именно это заземление[36] — резкий перепад давления между мифом и буквальностью — это то, что и трогает, и привлекает нас, зрителей, в его фильмах больше всего.
Мне кажется, в этом есть что-то от современного искусства — перформанса и акционизма. В том смысле, что Кауфман не просто рассказывает историю, он заставляет зрителя наблюдать за тем, как эта история рождается, и выставляет напоказ все самые неприглядные детали родов. Его «Адаптация» в этом смысле — самый настоящий сеанс саморазоблачения.
У художницы Марины Абрамович было много впечатляющих перформансов, один из них назывался «Расширение пространства» (1977). Она и ее коллега обнаженные выходили к зрителям, становились спиной к спине между двумя колоннами и с силой бились телами об эти колонны, пытаясь сдвинуть их, расширить пространство. Это было больно — и для художников, и для зрителей.
Примерно то же самое, мне кажется, делает Чарли Кауфман в «Адаптации» — он расширяет пространство фильма, заставляет нас, зрителей, наблюдать за тем, как он, автор, испытывает боль, пытаясь сочинить историю, которую мы смотрим. И мы испытываем боль вместе с ним.
И хотя в интервью Кауфман ни разу не упоминал акционистов[37], любая его работа всегда — или чаще всего — строится на приеме, который выглядит как цитата из манифеста современных художников, на радикальном взломе порядка вещей внутри истории. Это есть даже в его единственном спектакле «Надежда покидает театр», где главная героиня сидит прямо в зале вместе со зрителями и «мешает» им смотреть пьесу, говорит по телефону и «слишком громко думает». Это не просто разрушение четвертой стены, это нечто более сложное и опасное — стирание границы между зрителем и зрелищем. Опять же, прием из арсенала Марины Абрамович.
Сегодня много говорят о новой искренности. Но Кауфман, как мне кажется, пошел дальше. В своих работах он искренен до такой степени, что вызывает у зрителя ощущения, весьма далекие от удовольствия и узнавания. Он вызывает дискомфорт и неловкость. Это как смотреть на человека, который вышел на сцену и заживо сдирает с себя кожу и не стесняется при этом кричать от боли.
Кто-то скажет: манипуляция. Ну конечно, манипуляция. Любое искусство — манипуляция. Любой доведенный до предела прием — манипуляция. Крик боли тоже может быть искусством, если его автор не просто проверяет на прочность свои голосовые связки, но и пытается понять источник боли и разделить эту боль со зрителем.
Чарли Кауфман — именно такой автор.
Алан Мур: долгий путь из гетто в авангард
#1
В апреле 1953 года в американском журнале MAD вышел первый выпуск комикс-стрипа про Супердупермена — тщеславного и бесполезного супергероя. Пародии на известных персонажей делали и раньше, но в этот раз авторы не просто высмеивали супергероику, это была первая попытка переосмыслить самые известные сюжеты комиксов. Харви Курцман и Уолли Вуд поместили знаменитого героя в реальный мир, в котором все условности жанра просто не работали. На этом контрасте — высокий пафос сверхчеловека против скучной повседневности — и строился комический эффект. Например, в одном из выпусков Супердупермен никак не мог переодеться в свой героический красно-синий костюм, потому что кто-то занял телефонную будку.
В 1966 году 13-летний Алан Мур проводил выходные с родителями в Грейт-Ярмуте, небольшом городке на восточном побережье Англии, недалеко от родного Нортгемптона. Именно там, копаясь в стопках уцененных американских комиксов в одном из комиссионных магазинов на побережье, он нашел собрание журналов MAD за 1953 год, включая выпуски с Супердуперменом.
Спустя еще 20 лет, в восьмидесятых, работая над сценарием для очередного проекта DC, Мур вспомнил Харви Курцмана и журнал MAD и подумал, что эту идею — столкнуть героя комиксов с равнодушием мира, с реальностью, где есть пробки, простуда, долги и психические травмы, — можно было бы обыграть по-другому, развернуть на 180 градусов и сделать не смешной, а наоборот — драматичной.
Так появились «Хранители».
#2
В 1971 году Дэн О'Нилл, автор подпольного журнала Air Pirates Funnies, нарисовал порнографический комикс про Микки Мауса — в версии О'Нилла мышонок торговал наркотиками, грязно ругался и занимался сексом с Дейзи Дак. Юристы компании «Дисней» подали на автора в суд. Подвох был в том, что именно этого О'Нилл и добивался. Его комикс был протестом против диснеевской конвейерной системы производства персонажей, которая, по его мнению, своими комиксами и мультфильмами способствовала укреплению гендерных и этнических стереотипов: все женщины у них — беспомощные принцессы; все иностранцы — или антагонисты, или недотепы со «смешным» акцентом.
В суде О'Нилл утверждал, что любой художник имеет право пародировать что угодно и что «Дисней» дискриминирует своих собственных персонажей, то есть ущемляет права Микки Мауса. Вместе с другими андеграундными художниками О'Нилл даже основал общество поддержки мышонка под названием «Фронт освобождения мыши» (Mouse Liberation Front). В итоге сработал эффект Герострата (термина «эффект Стрейзанд» по очевидным причинам тогда еще не было) — попытки запретить комикс сделали его невероятно популярным.
«Дисней» выиграл суд. Но и такой исход О'Нилл предусмотрел. Как истинный панк, официально он не владел никаким имуществом, и все, что юристы компании смогли у него отсудить, — это семь долларов и банджо.
Семидесятые в США стали эпохой расцвета комиксного андеграунда. Случай Дэна О'Нилла стал самым резонансным, и после него многие читатели открыли для себя антикомиксы. Под носом у «Марвел» и DC, с их конвейерной системой производства и иногда совершенно нелепой самоцензурой, стали появляться десятки фэнзинов, в которых авторы с оттягом взламывали все возможные табу. В 1977-м в Нью-Йорк переехал Арт Шпигельман, будущий автор «Мауса». Вместе с женой/художницей Франсуазой Мули они купили печатный станок и стали издавать контркультурный журнал RAW. Главной целью журнала был подрыв канонов медиума. Девиз: чем страннее, тем лучше. Каждый номер Шпигельман пытался сделать уникальным, печатал на разных видах бумаги, по максимуму использовал все доступные тогда типографские технологии, а иногда и вовсе доводил дело до вандализма — рвал случайные страницы во всех экземплярах или простреливал их из пистолета, чтобы сделать уникальным каждый.
Тогда же, в середине семидесятых, на волне феминистского движения, в подполье стали появляться комиксы с названиями вроде Tits & Clits («Сиськи и клиторы») и It Ain't Me, Babe («Это не я, детка»), в которых художницы поднимали темы женской сексуальности, сексизма и насилия. Одной из самых ярких андеграундных художниц была Мелинда Гэбби, ее стиль рисовки был настолько ярок и узнаваем, что она быстро снискала уважение коллег по цеху.
В 1982 году Мелинда оставила андеграунд и переехала в Англию. Ей предложили поработать над анимацией для мультфильма «Когда дует ветер» по известному комиксу Рэймонда Бриггса. Несколько лет она работала иллюстратором, участвовала в небольших образовательных проектах и иногда тусовалась с британскими авторами комиксов. Одним из них был Нил Гейман. Однажды он спросил, слышала ли она про Алана Мура.
— Он хочет поговорить с тобой, — сказал Гейман. — Он ищет художницу для одного порнографического комикса.
#3
В интервью Алан Мур не раз повторял, что в отличие от литературы, которая строится на фигуре одного-единственного автора/создателя, комикс — это коллективное искусство, сотворчество, результат «перекрестного опыления идеями» между писателем и художником.
«Я хотел бы кое-что прояснить. Меня раздражает, когда люди говорят «„V — значит Vендетта” Алана Мура» или «„Марвелмен” Алана Мура» <…> Я считаю, что это несправедливо, когда люди думают, будто я — единственный автор этих комиксов. Конечный результат, стрипы, которые вы видите на страницах, — это плод наших общих усилий. Я не считаю, что мои сюжеты важнее рисунков. Они равноценны и неотделимы друг от друга».
«Хранители», строго говоря, по-настоящему начались именно с рисунка. Точнее — с одной мелкой детали на рисунке. В 1986 году Мур и его друг, художник Дэйв Гиббонс, начали делать наброски для новой истории для издательства DC. У Мура была только изначальная идея — один супергерой расследует убийство другого — плюс он держал в голове те самые выпуски журнала MAD за 1953 год, хотел обыграть идею столкновения супергероя с жестокой реальностью. Они с Гиббонсом провели много времени, обсуждая будущих персонажей — костюмы, образы, характеры. Когда придумывали Комедианта, Гиббонс нарисовал черный костюм с кожаными ремнями, он хотел сделать его похожим на настоящего комика Граучо Маркса, поэтому добавил усы и сигару. «Персонаж выглядел как-то слишком мрачно, — рассказывал художник, — и я подумал, что надо чем-то разбавить эту звериную серьезность, и, шутки ради, нарисовал у него на груди маленький значок-смайлик».
Спустя несколько дней Мур позвонил ему: «Эй, помнишь тот значок с улыбкой на костюме Комедианта? Меня сейчас осенило, это будет первый кадр, с него и начнем».
Вот так, одной деталью, художник зажег воображение писателя, нашел визуальный ключ к истории.
Примерно то же самое случилось, когда Мур и художник Дэвид Ллойд работали над комиксом «V — значит Vендетта». У Мура был лишь приблизительный план сюжета, он хотел создать антиутопию в стиле «1984», много читал об авторитарных режимах и занимался созданием мира с кучей отсылок к современной Британии и правлению Маргарет Тэтчер, но у него не было главного — героя. А потом Дэвид Ллойд вспомнил о Пороховом заговоре.
«Настоящий прорыв, — вспоминал Мур, — произошел благодаря Дэйву, хоть мне и нелегко это признавать… но это была лучшая идея из всех, что я слышал в жизни». Ллойд предложил скрыть лицо главного героя за маской Гая Фокса и даже сразу нарисовал ту самую стилизованную маску, которая затем стала символом протеста и анонимности. Рисунок все расставил по местам. «В этом образе было что-то настолько британское и настолько поразительное, что сразу разожгло мое воображение, и дальше история сложилась как бы сама собой».
История, когда один автор получает всю славу, а второго знают лишь коллеги по цеху, — обычное дело во многих сферах, но в комиксах это особенно заметно. Почти как в кино: мы все помним фамилии любимых режиссеров. Со сценаристами уже сложнее. А имена художников по костюмам и вовсе знают только люди внутри индустрии. А между тем именно художники отвечают за визуальный стиль и узнаваемость персонажей. Стиль «Матрицы», например, придумали вовсе не Вачовски, его создала художница Ким Барретт, которая лично отбирала и тестировала ткани для костюмов, чтобы они хорошо смотрелись в кадре.
Такие вещи кажутся служебными, вспомогательными, но штука в том, что без них кино и комиксы просто не работают.
#4
Взаимодействие писателя с художником — это вообще целая история. У каждого автора свой подход. Нил Гейман рассказывал, что каждый раз при работе с новым художником «Сэндмена» он первым делом задавал вопрос: «Есть ли что-то такое, что у тебя особенно хорошо получается рисовать, но как-то не было случая применить это в комиксах?» Естественно, у каждого были свои пожелания. Если художник говорил, что любит рисовать котов, то Гейман специально для него писал сценарий, где действие вращалось вокруг кота, — и наблюдал, как раскрывается талант художника, которому развязали руки.
Стэн Ли в шестидесятых, говорят, просто звонил Джеку Кёрби по телефону и кратко, в общих чертах пересказывал сюжет будущего выпуска. Кёрби за пару дней набрасывал раскадровки, затем они вместе просматривали их и правили, меняли кадры местами — и так история буквально рождалась в процессе, вдохновленная скорее фантазией художника, чем писателя.
Но даже здесь, среди своих весьма эксцентричных коллег, Мур умудрялся выделяться. Его многословность и внимание к деталям легендарны. Сценарий — это, как правило, довольно сухое описание происходящего на странице, несколько строчек на каждый кадр. Но не таков Мур. Чтобы понять, как трепетно и внимательно он относится к своим работам, достаточно взглянуть на черновик «Хранителей». Всего в романе 12 глав, в каждой из них 28 страниц — итого 336 страниц. Однако общий объем сценария и сопутствующих материалов, которые Мур на протяжении двух лет присылал Гиббонсу, — 1032 (тысяча тридцать две) страницы.
Сам Гиббонс в своей книге о создании романа (Watching the Watchmen) в качестве образца приводит первую страницу черновика. В ней Мур дает описание первого кадра, того самого — со смайликом в луже крови. И начинается это описание вот так:
«Отлично. Я готов. Руки по локоть в крови и в работе, зубы звенят, на мне шлем и наколенники, и они плотно застегнуты. Самое время выйти на поле и устроить беспредел…» — и дальше еще пятьсот слов, где он пытается описать нюансы красного, угол обзора, постановку камеры и прочие-прочие мелкие детали, вплоть до фактуры асфальта.
Художник Эдди Кэмпбелл, работавший над комиксом «Из ада», рассказывал, что весь сценарий к книге о Джеке Потрошителе был стилизован под велеречивую викторианскую переписку, — Алану было скучно просто писать комментарии к кадрам, поэтому он делал вид, что пишет другу письма из Лондона XIX века.
Стивен Биссетт вспоминает, что сценарии Мура всегда выглядели как самостоятельные художественные произведения, их было попросту весело читать, ты никогда точно не мог сказать, где он прикалывается, а где говорит всерьез. Один из сценариев, например, начинался с изображения мертвого тела в гробу, и в каждом кадре Мур просил художника нарисовать семейство жуков-могильщиков, эти жуки — муж и жена — сидели на трупе и постоянно ругались. Биссетт был уверен, что его друг от скуки опять валяет дурака, пока в описании шестого кадра он не встретил такую ремарку: «Знаешь, я решил прикончить жуков. У них как у персонажей не так уж много потенциала, я думаю, у них нет будущего в этой истории, можешь их убрать».
Легендой среди фанатов стало его письмо Брайану Болланду, художнику «Убийственной шутки», с описанием первого кадра.
Сам первый кадр — это крупный план лужи и капель дождя, и выглядит он вот так:
У Мура его описание занимает несколько страниц и выглядит как напутствие старому другу. Начало в этот раз такое: «Итак, я проверил шасси, застегнул ремень, выхлебал одним залпом сигару и затушил скотч с содовой в пепельнице, так что, пожалуй, мы готовы к взлету. Пока мы не унеслись с визгом в злые творческие небеса, откуда вполне можем вернуться лишь обугленными головешками, пожалуй, не помешает пара предварительных примечаний, так что откинься в кресле, пока я озвучиваю их под сопровождение жестикуляции нашей очаровательной стюардессы в центральном проходе…»[38] — и дальше еще три страницы такого же барочного текста. Нас ждет очень долгий путь, пишет он, поэтому «сними ботинки, носки и почеши между пальцами, расслабься», — затем, наконец, упоминает и лужу, и в скобках добавляет «видишь? А ты боялся, что у тебя не будет шанса нарисовать что-нибудь стоящее», и в конце уточняет, «хотя я не думаю, что эта информация как-то повлияет на характер твоего рисунка, я полагаю, что тебе полезно будет знать, что в первом кадре у нас середина ноября и очень холодно».
#5
В книге «Создавая комиксы» (Writing on Comics) Мур помимо прочего пишет о том, как важно выработать собственный узнаваемый стиль. И добавляет: но только для того, чтобы его преодолеть. Стиль может стать ловушкой, и автор с ярким стилем рискует увязнуть в самоповторах. «Если ваши рассказы хвалят за меланхоличный и вдумчивый тон — это повод написать что-нибудь легкомысленное и дурацкое. Если люди аплодируют вашей криминальной драме, попробуйте создать комедию <…> Если есть жанр или форма, которых вы раньше избегали, то, возможно, обращение к ним станет для вас вызовом, испытанием и поможет улучшить свои писательские навыки».
Сам он всю жизнь поступал именно так: после оглушительного успеха «Хранителей» в 1987-м он наотрез отказался делать продолжение и задумал сразу два больших проекта. Первый — «Из ада» (From Hell) — вариация на тему документального романа-расследования в викторианском Лондоне; второй «Потерянные девочки» (Lost Girls), которые в России почти неизвестны и вряд ли в ближайшее время дождутся издания на русском языке.
Объясню почему.
«Потерянных девочек» он задумал в 1988 году, когда ему предложили поучаствовать в создании эротического альманаха. С альманахом ничего не вышло, но идея осталась, Мур подумал, что можно провести эксперимент — взять детскую сказку и рассказать ее так, словно это эротическая фантазия. И даже больше — он начал искать способ выжать из этой идеи максимум: что, если взять самый низкий, самый табуированный медиум/жанр и сделать его объектом высокого искусства? Возможно ли создать комикс, в котором откровенно порнографические изображения будут этически и эстетически оправданы?
Эта идея по-настоящему захватила его, весной 1988-го он, по собственному признанию, часами разглядывал потолок и думал о том, можно ли полеты детей из «Питера Пэна» изобразить в виде эротического, сексуального танца. Тогда-то в его жизни и появилась Мелинда Гэбби. Нил Гейман дал ей телефон Мура, они созвонились, она приехала к нему в Нортгемптон, чтобы «обсудить детали», — и спустя месяц переехала к нему с вещами. Они целыми днями говорили об авангарде и порнографии, и идея комикса стала обрастать кучей новых нюансов. Например, Гэбби решила, что героинь должно быть три, — и к Венди присоединились Алиса из «Страны чудес» и Дороти из «Волшебника страны Оз».
#6
«Потерянные девочки» — это перформанс, подобный тому, что устроил Дэн О'Нилл в 1971 году в США; в том смысле, что этой работой авторы хотели спровоцировать дискуссию вокруг «шизофренического» отношения к телу и сексу в современной культуре. Тело, особенно женское, сегодня сексуализируется (поп-культура, глянец) и табуируется (религиозные догмы, цензура) одновременно — и это ненормально, поэтому об этом нужно говорить. Желательно с помощью искусства.
Как и прочие книги Алана Мура, «Девочки» корнями уходят в классическую литературу. В одном из интервью они с Гэбби признались, что, сочиняя комикс, вдохновлялись в первую очередь «Декамероном» Джованни Боккаччо и — внезапно! — «Женским Декамероном» русской писательницы Юлии Вознесенской.
Сюжетно «Девочки…» действительно напоминают классическую антологию: в мае 1914 года три женщины заселяются в роскошный отель в Австрии, знакомятся и, чтобы убить время, по очереди рассказывают друг другу истории о том, как лишились невинности и познавали свое тело. Параллельно с их историями освобождения и самопознания Мур запускает вторую сюжетную линию — об убийстве Франца Фердинанда и о начале Первой мировой войны.
Мелинда Гэбби старалась для каждой главы придумать уникальный визуальный стиль, чтобы как можно ярче с помощью цвета и фактуры передать ощущения героинь, — в книге есть очевидные визуальные отсылки к стилю Обри Бёрдслея, оммажи немецкому экспрессионисту Эгону Шиле, а главы, посвященные Алисе и ее зеркалу, — это прямые цитаты из Маурица Эшера, и вся история рассказана через отражения: в лужах, в дверной ручке, в зрачках собеседников.
В итоге проект, который изначально замышлялся как простое хулиганство, растянулся на 16 лет. Причин, почему книга так долго шла к финалу, много, одна из них — чисто техническая: несовершенство печати. Многие идеи Гэбби — игры с цветами, коллажи, переходы между кадрами — в 90-х просто невозможно было реализовать, цветная печать в типографиях была недостаточно качественной, цвета получались или слишком блеклыми, или, наоборот, кислотно-яркими, или просто не могли передать фактуру карандашного рисунка. В конце концов в начале нулевых, художница нашла подходящую типографию, и книга — к тому моменту разросшаяся до трех томов — увидела свет в 2006 году.
Спустя год, в 2007-м, Алан Мур и Мелинда Гэбби поженились. «Всем, кто желает знать, как укрепить отношения и не устать друг от друга за 16 лет, я бы посоветовал поработать над порнокомиксом. Ничто не сближает сильнее», — так Мур прокомментировал их свадьбу.
#7
В последние годы в интервью Алан Мур все чаще повторяет, что собирается уйти из индустрии комиксов. Он разорвал отношения со всеми крупными комикс-издательствами. Его непростой характер за долгие годы стал такой же важной частью его образа, как трость-змея, длинная борода или огромные металлические перстни на пальцах. Один из его бывших друзей как-то заметил: «В мире скоро не останется мостов. Алан Мур сожжет их все».
Сам писатель еще в 2012-м в интервью для ВВС говорил, что разочаровался вовсе не в комиксах. «Я разочаровался в индустрии комиксов. Это разные вещи».
Его бойкот, впрочем, вовсе не означает, что он «замолчал». Осенью 2016 года вышел уже второй его роман, «Иерусалим» — три тома, 1280 страниц. Больше, чем Библия.
Точнее всего «Иерусалим» опишет цитата из него же: «It was as if an architecture-bomb had gone off in slow motion, with countless historic forms exploding out of nothingness and into solid granite» («Словно в замедленном действии разрывалась архитектурная бомба — из пустоты незыблемым гранитом распускались несметные исторические фигуры»[39]).
Архитектурная бомба, взорвавшаяся бессчетными историческими формами, — это и есть текст Мура. Все его тексты, если быть точным.
Уильям Гибсон: портрет художника в виртуальности
Agrippa
Уильяму Гибсону было 8 лет, когда его отец — тоже Уильям — умер, подавившись во время делового ужина. В 1956 году о приеме Геймлиха еще никто не знал — свою знаменитую статью Генри Геймлих опубликовал в 1974-м, — поэтому Уильям Форд Гибсон-второй задохнулся прямо там, на полу в ресторане, пока официант вызывал скорую.
Спустя еще десять лет от инсульта умерла мать, и так Уильям Форд Гибсон-третий, едва достигнув восемнадцати, стал сиротой.
Воспоминаний об отце у него почти не осталось, но позже, разбирая вещи в опустевшем доме, он нашел отцовский фотоальбом со старыми снимками. Альбом назывался Agrippa Album — компания Kodak выпускала такие в двадцатые. Это название позже получил арт-объект, который Гибсон разработал в 1992 году вместе с художником Деннисом Ашбо.
Agrippa. A Book Of The Dead — это обшитая кевларом черная шкатулка; внутри — 93-страничная книга, которая выглядит так, будто ее бросили в печь и тут же извлекли. Последние 60 страниц намертво склеились в единый блок. Внутри этого блока — ниша, в ней дискета, а на дискете — 300 строк: поэма, посвященная умершему отцу, образ которого постепенно стирается из памяти повзрослевшего сына. С поэмой тоже все непросто: прочесть ее можно только один раз — специальная программа на дискете стирает строчки по мере их появления на экране. После прочтения дискету можно выбросить — она бесполезна.
На первых 32 страницах книги внутри кевларовой шкатулки — последовательность букв G, А, Т, С. Это закодированный набор белков из ДНК человека. Для печати использованы чернила, которые разрушаются от одного прикосновения.
Вся эта сложная, композитная инсталляция — памятник отцу, или точнее — попытка Гибсона как-то осмыслить эту утрату, сделать ее осязаемой. Медитация на тему хрупкости воспоминаний, которые все равно исчезнут и сотрутся, в какую бы прочную шкатулку ты их ни спрятал.
Внимательный читатель Гибсона сразу заметит связи между Agrippa и остальными его текстами: почти все герои его романов — сироты; и минимум в двух из них — в «Графе Ноль» и «Распознавании образов» — текст строится вокруг пустоты в том месте, где раньше был отец. Тему сиротства Гибсон никогда не выпячивает, однако очевидно, что отношения с родителями для него — это такая вот черная шкатулка, в которую лучше не заглядывать — ведь чем сильнее вглядываешься, тем меньше помнишь.
Берроуз, ножницы, бумага
Знакомство Гибсона с большой литературой началось с конфуза: он перепутал двух Берроузов — Эдгара и Уильяма — и вместо бодрой подростковой фантастики о четырехруких марсианах случайно взял в библиотеке журнал с фрагментами «Голого завтрака».
Вот так в тринадцать лет он впервые узнал о битниках, авангардной литературе и о методе нарезок (cut-up method) — и, по собственному признанию Гибсона, это перевернуло его жизнь.
«Я читал его эссе о нарезках, и от восторга у меня волосы на затылке вставали дыбом, Берроуз как будто допрашивал Вселенную с помощью ножниц и клея».
Идея тасовать абзацы и предложения, развинчивать их и собирать заново, в поисках новых случайных, смежных смыслов, в итоге стала сквозной темой и в его собственных романах, не говоря уже о дежурных отсылках к автору «Голого завтрака».
Роман «Граф Ноль» начинается со сцены, в которой одного из главных героев, Тернера, взрывом разрывает на части и затем подпольные врачи собирают его тело из новых деталей, как конструктор, закупая глаза, почки и прочие органы у разных производителей, пока сознание Тернера болтается в киберпространстве, дожидаясь шанса вернуться. Не только открывающая сцена, но и весь роман структурно выглядит как одна большая отсылка к методу нарезок, оммаж трилогии «Нова» Берроуза — взорванный изнутри и собранный заново текст.
Даже искусственный интеллект, с которым ближе к концу сталкивается другой персонаж, Марли Кружкова, использует метод нарезок для создания своих черных шкатулок (см. Agrippa).
Гибсон — художник
Хотя у многих Гибсон ассоциируется с хакерами и технологиями, важнейшей фигурой в его книгах всегда был художник — в самом широком смысле. Слик Генри из «Моны Лизы Овердрайв» собирает из металлолома кинетические скульптуры, сестры Волковы из «Распознавания образов» снимают авангардный cut-up-фильм, Бобби Чомбо из «Страны призраков» взламывает GPS-спутники ради создания локативных арт-объектов. Сложно найти еще одного писателя с такой же высокой концентрацией художников на страницу текста.
В 1999 году Гибсон написал для Wired статью под названием «Моя одержимость», где кроме прочего рассказал, как в 70-х зарабатывал на жизнь, прочесывая барахолки и блошиные рынки в поисках редких вещей — одежды, механических часов, шкатулок, — которые затем перепродавал антикварам и коллекционерам.
Именно этим герои Гибсона похожи на него: любовью к штучным, редким вещам. Умение увидеть уникальность, интуитивно отличить оригинал от фальшивки, реальное от виртуального — в его романах это всегда самая ценная способность персонажа. Такова, например, Марли Кружкова из «Графа Ноль» — искусствовед, которая пытается найти автора шкатулок Корнелла. Таков и Колин Лэйни из «Идору» — специалист по обработке данных, способный найти узловые точки в белом шуме информационных потоков. И такова Кейс Поллард из «Распознавания образов» — эксперт в области брендов и логотипов, способная интуитивно отличить настоящие вещи от симулякров.
Художники в романах Гибсона — это лишние люди, в том смысле, что они выбиваются из реальности, в которой живут; модернистские персонажи, застрявшие внутри постмодернистских текстов. Неироничные, человечные, настоящие. Запертые в мире победивших симуляций. И занимаются они самым неблагодарным и ненужным в постмодернистском романе делом: ищут смысл, точнее — создают его.
Еще один важный нюанс гибсоновской философии: искусство в его романах — это не бегство от реальности, наоборот, это единственный для героев способ сохранить чувство реального, понять себя и окружающий мир. Например, Слик Генри из «Моны Лизы Овердрайв» создает скульптуру Судьи из металлолома:
«Слик ненавидел Судью. Нет, само создание Судьи, без сомнения, принесло ему некоторое удовлетворение. Но важнее другое — то, что, построив эту штуку, он выкорчевал Судью из себя, перенес боль и страх туда, где их можно было видеть, наблюдать за ними и, наконец, освободиться от самой идеи Судьи».
И позже, ближе к концу романа, именно скульптуры-роботы спасают ему жизнь.
Томассоны
Любовь Гибсона к авангарду не ограничивается методом нарезок, он сам не раз участвовал в создании арт-объектов, а его книги, написанные после 1993-го, — трилогии «Моста» и «Бигенда», — вполне можно читать как теоретические работы о современных композитных видах искусства и их влиянии на общество. Роман «Виртуальный свет» он и вовсе задумал, когда писал статью о выставке «Воображаемый Сан-Франциско» для SFMOMA в 1990 году. В отличие от многих коллег-писателей, которые так любят предаваться ностальгии и, кажется, автоматически начинают ворчать при виде чего-то современного, особенно в области искусства, Гибсон всегда с удовольствием тащит в свои романы все самые интересные авангардные техноидеи.
В «Стране призраков», например, есть художник Альберто Кораллес, который создает локативные скульптуры — невидимые арт-объекты. Их можно разглядеть и оценить, только надев специальный шлем. Кораллес находит на карте места гибели знаменитых писателей и артистов и, с помощью привязки к GPS-координатам, воссоздает сцену смерти внутри дополненной реальности, с детальной прорисовкой каждой текстуры. Невидимость скульптур для простого глаза — важнейшее их свойство, которое, по мнению Кораллеса, и делает их произведениями искусства.
Эта идея — о том, что арт-объектом может быть все что угодно, даже невидимый предмет, — звучит и в «Виртуальном свете». Один из героев романа — японский студент Ямадзаки, типичный гибсоновский модернистский персонаж, засланный в постмодернистскую реальность, — приезжает в США, чтобы изучить сообщество, захватившее мост между Сан-Франциско и Оклендом и основавшее там целый отдельный город, новую стихийную экосистему. Важную роль в исследовании Ямадзаки играют «томассоны» — случайно найденные в городе предметы, которые утратили свой изначальный смысл. Томассоном может быть, например, ведущая в никуда лестница или мост, перекинутый через канаву, которую позже засыпали землей.
«Исходный Томассон был игроком в бейсбол. Американец, очень сильный и красивый. В 1982 году он перешел в „Иомиури Джайантс”, за огромные деньги. Вскоре выяснилось, что он не может попасть битой по мячу. Писатель и художник Гемпей Акасегава стал использовать его фамилию для обозначения определенного класса бесполезных и непонятных сооружений, бессмысленных элементов городского пейзажа, странным образом превращающихся в произведения искусства»[40].
Вокруг этой идеи — о непростых отношениях между предметом и вложенными в него смыслами, или, точнее, о новых смыслах, которые изменяют саму суть предмета, делают его произведением искусства или товаром, — Гибсон выстраивает все свое позднее, зрелое творчество, трилогии «Моста» и «Бигенда».
Действие «Виртуального света» и его продолжений развивается в реальности, где медиамифы окончательно подчинили себе действительность, где «на рекламу продукта тратят больше денег, чем на его производство», а кумирами миллионов становятся идору, искусственные музыканты, симулякры, созданные специально с учетом всех запросов аудитории.
Но даже в этом новом — и до жути похожем на наше сегодня — мире у Гибсона всегда есть чудаки-художники-исследователи, вроде Синдзи Ямадзаки, Колина Лэйни или Кейс Поллард, которые пытаются внести в хаос немного порядка, осмыслить его. Сизифов труд, конечно, — но оно того стоит.
Кто такой Мартин Макдона
Весной 1995-го в театр «Друид», в Гэлоуэе (Ирландия) доставили бандероль, внутри — рукопись пьесы со странным названием «Череп из Коннемара», на титульном листе имя автора — Мартин Макдона. Режиссер театра Гарри Хайнс (Garry Hynes) взяла ее домой из чистого любопытства, решила прочесть вечером перед сном. Начав, она очень скоро обнаружила, что смеется в голос и вслух произносит реплики персонажей, пытаясь представить себе, как они будут звучать со сцены. Гарри позвонила Макдоне и попросила выслать все, что у него есть. Спустя год, в феврале 1996-го, состоялась премьера пьесы «Королева красоты из Линейна». На тот момент ее автору было 26 лет.
>>>
Родители Мартина Макдоны переехали в Лондон в 60-е, на заработки. Они жили в ирландском районе Камберуэлл. Мартин и его старший брат Джон ходили в католическую школу, в которой учителя так старательно утюжили детей религией, что оба — и Джон, и Мартин — в итоге выросли атеистами. С тех пор утративший веру священник — сквозной образ почти во всех фильмах братьев Макдона.
В 16 лет старший брат, Джон, решил стать писателем и бросил школу. Мартин последовал его примеру, и следующие восемь лет они жили вместе, в съемной квартире, на пособие по безработице.
«Мне казалось, что писатель — самая крутая профессия на свете, — говорил Мартин в интервью. — Если ты писатель, тебе не надо вставать рано утром, одеваться и идти на работу, ты можешь работать дома». Вот так бывает — лень разбудила в человеке страсть к литературе. Иногда, впрочем, чтобы не огорчать маму, Мартин пытался устроиться куда-нибудь — мусорщиком или сборщиком мебели, — но надолго его не хватало, он увольнялся и вновь целыми днями сидел дома, пытался писать и постоянно что-то читал; особенно любил Борхеса и Набокова.
А потом наступил 1994 год. Его старший брат Джон добился первого успеха — получил стипендию на обучение в Лос-Анджелесе и уехал в США учиться на киносценариста. Родители к тому моменту уже вышли на пенсию и вернулись в Ирландию, и Мартин остался один в Лондоне, в их общей с братом съемной квартире в Камберуэлле. Он вдруг понял, что в их негласном соревновании — кто быстрее станет писателем — старший брат резко вырвался вперед. Разумеется, Мартин не мог этого допустить. Он поставил перед собой цель — написать, наконец, хоть что-нибудь стоящее. Он решил, что будет каждый день писать по несколько страниц, что бы ни случилось. Строгая дисциплина — вот что ему нужно. Даже если за окном начнется война и танки будут обстреливать здание — его планов это не изменит: он не выйдет из-за стола, он будет писать.
«Я очень любил кино и фанател от Мартина Скорсезе, уже тогда пытался писать сценарии, но получалась полная херня. Поэтому я решил попробовать писать пьесы — на тот момент это был единственный вид искусства, в котором я еще не успел облажаться. Была только одна проблема: я считал театр худшим из искусств». Пожалуй, будет преувеличением утверждать, будто зависть к первому успеху брата помогла Мартину стать драматургом. И все же брат сыграл здесь свою роль: как минимум в 1994 году он освободил квартиру. И за те девять месяцев, пока Джон учился в США, Мартин написал семь пьес. Одна из них, «Сиротливый Запад» (Lonesome West), это история о двух безработных братьях, которые живут на страховку от смерти отца и отравляют друг другу жизнь до тех пор, пока один из них не хватается за ружье, а второй — за нож. Мартин утверждает, что у них с братом замечательные отношения — «много-много-много любви и капелька ненависти». Но их общий друг рассказал корреспонденту The New Yorker, как братья Макдона однажды чуть не подрались на вечеринке из-за сэндвича с сыром.
Взрывной характер обычно очень мешает в жизни, но помогает в литературе, и потому, наверное, пьесы Макдоны так сильно захватывают зрителя, недостатки сюжета он всегда компенсирует харизмой, яростью и безумием своих героев. Они, его герои, могут быть какими угодно — утрированными, глупыми, нереалистичными, — но только не скучными.
Однако пьесы Макдоны, под завязку набитые черным юмором и ультранасилием, нравятся далеко не всем. В конце 90-х скандал вызвала рукопись «Лейтенанта с острова Инишмор», в которой речь идет о ячейке партизан из ИРА (Ирландской республиканской армии); в основе сюжета — пытки: поехавший умом террорист калечит людей прямо на сцене — выдергивает ногти, отрезает соски и стреляет жертвам в глаза. Театр в Гэлоуэе ставить «Лейтенанта…» отказался, опасаясь проблем с властями и мести ИРА. Ирония здесь в том, что эту пьесу Макдона, по собственному признанию, сочинил как раз для того, чтобы позлить ИРА. «Я пытался написать пьесу, за которую меня убьют, — рассказывал он в интервью. — Я особо не парился на этот счет, потому что знал, что террористы обычно не ходят в театр, но я специально писал так, чтобы занять первую строчку в списке их врагов».
Споры вокруг творческого метода Макдоны продолжались долго — его обвиняли в «эстетизации насилия», «порнографическом изображении пыток» и в «пропаганде жестокости». Поэтому написанную в 2003-м пьесу «Человек-подушка» в каком-то смысле можно считать его манифестом художника, ответом на обвинения. Символично, что в России «Человека-подушку» поставил Кирилл Серебренников.
Пьеса специально построена так, чтобы своим содержанием довести до истерики любого блюстителя морали и общественных норм. На сцене двое полицейских пытают писателя. Его зовут Катуриан К. Катуриан, он работает на скотобойне и в свободное время пишет рассказы, полные насилия и жестокости. Арестовали писателя как раз потому, что описанное в его рассказах странным образом стало сбываться: в округе начали погибать дети, и полицейские считают, что именно он своей писаниной и спровоцировал эти убийства, вдохновив маньяка. Сцены допросов и избиений иногда перемежаются с чтением рассказов Катуриана, от которых волосы встают дыбом. А Человек-подушка — абсурдный супергерой, он приходит к детям, которых мучают взрослые, чтобы прекратить их страдания и помочь им покончить с собой.
«Человек-подушка» — это история о навязанном чувстве вины. Полицейские заставляют Катуриана взять на себя ответственность за то, что сюжеты его рассказов сбываются, а он пытается найти во всем этом хоть какую-то логику: «Вы полагаете, что я должен прекратить писать рассказы об убийстве детей только потому, что в реальном мире завелся настоящий детоубийца?» Макдона со сцены устами героя напрямую обращается к цензорам, которые уверены, что мир черно-белый и что искусство может показывать только белую его сторону. А еще — к чиновникам, которые запрещают фильмы и театральные постановки на том основании, что они могут кого-то оскорбить. Макдона отвечает им: искусство ничего вам не должно, а долг писателя — рассказывать истории, желательно интересные. Других долгов у писателя нет.
>>>
Впрочем, даже став самым известным в Британии драматургом, Макдона продолжал считать театр «худшим из искусств» и все еще не оставлял надежды уйти в кино, прорваться в Голливуд. В 2004-м он написал свой первый сценарий и для съемок привлек театральных актеров, с которыми познакомился во время репетиций. И снова внезапный успех — 30-минутная черная комедия «Шестизарядник» (Six shooter) взяла «Оскара» в номинации «Лучший короткометражный фильм».
В 2008 году на экраны вышел первый полнометражный фильм Макдоны-режиссера «Залечь на дно в Брюгге» (в оригинале просто «В Брюгге») о двух наемных убийцах, которые скрываются в тихом бельгийском городке после того, как один из них случайно застрелил ребенка в церкви. Структурно фильм почти ничем не отличается от пьес ирландца — единство места и времени, минимум персонажей. Сценарий «В Брюгге» и вовсе читается как самая настоящая пьеса.
Впрочем, уже здесь, в первой серьезной картине, видно, что более гибкая и свободная форма фильма нравится автору гораздо больше, чем полный искусственных ограничений формат пьесы. Да и вообще для него это важный шаг вперед. Вроде бы те же образы и мысли, но на экране они работают гораздо лучше. Если в ранних своих текстах религиозные символы и священников Макдона вводил в сюжет в основном из хулиганских соображений, чтобы добавить фарса, поиздеваться над догматами, то фильм «В Брюгге», возможно, даже вопреки воле автора, похож скорее на религиозное высказывание, чем на сатиру или на фарс. В нем много юмора, жестокости и ярких диалогов, и тем не менее в основе ленты лежит очень грустная история о мучительном ожидании наказания, о том, как нелепо на самом деле верить в то, что мир справедлив. И даже хуже — о том, что вера в судьбу, карму и справедливость может превратить в ад даже такой красивый город, как Брюгге.
К своим любимым темам — возмездию, которого нет, и равнодушию, которого слишком много, — Макдона возвращается и в своем недавнем фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Самое удивительное, что даже здесь он умудрился провалиться на метауровень, на котором реальность начинает подражать его пьесам, — картина вызвала локальный скандал в США. Совсем как двадцать лет назад в Ирландии и Англии, где он столкнулся с самоцензурой со стороны театров, не желавших ставить пьесу из-за сцен насилия с участием террористов ИРА. В этот раз все еще интереснее — фильм обвиняли в том, что в нем «неправильный расист». Актер Сэм Рокуэлл играет копа Диксона, который раньше участвовал в пытках афроамериканцев. Макдоне пеняют на то, что персонаж Рокуэлла изображен в фильме недостаточно плохим, а ближе к концу у него и вовсе есть свой небольшой момент искупления. Похоже, по мнению некоторых критиков в США, расисты в кино не имеют права быть сложными и интересными персонажами.
В целом суть конфликта ясна: из-за громких скандалов американская киноиндустрия сейчас самое настоящее минное поле политкорректности, и режиссер-ирландец Макдона подорвался на одном из местных табу. Что ж, интересно будет увидеть, чем все это закончится. В прошлый раз в ответ на обвинения в эстетизации насилия Макдона написал свою лучшую пьесу «Человек-подушка»; посмотрим, как он теперь ответит на скандал вокруг «недостаточно плохого расиста».
А он ответит, не сомневайтесь.
«Фарго», Ной Хоули и проблема главного героя
Фильм «Фарго» многие считают одной из лучших работ братьев Коэнов. В 2006 году, спустя двадцать лет после выхода, картина была признана национальным достоянием и включена в Национальный реестр фильмов США. На этом, впрочем, история «Фарго» не закончилась — в 2014-м канал FX запустил одноименный сериал. Шоураннером проекта стал Ной Хоули, который не только занимался производством, но и был единственным сценаристом. И в первых двух сезонах он в целом старался сохранить структуру оригинала и верность братьям Коэнам: в них фигурировал типичный бестолковый дурень, который своей дуростью запускает цепочку страшных событий, еще там была сотрудница полиции, с виду наивная и безобидная, которая идет по следу из трупов и пытается понять, что здесь, черт возьми, происходит.
Но в третьем Хоули отказался от коэновских лекал и, как мне кажется, совершил финт, достойный Чарли Кауфмана, — он создал совершенно уникального главного героя.
Попробую объяснить.
Как мы вообще определяем, кто из героев в книге — главный?
Самый простой и очевидный ответ: у главного больше всего «экранного времени», вокруг него вращаются все остальные персонажи.
Более сложный ответ: все решает драматургия, ведь хорошая история — это всегда столкновение героя; с обстоятельствами и/или с антагонистом (антигероем), его эволюция.
Ergo: главный герой — тот, без кого история не работает. Он — несущая конструкция нарратива, убери его — и все рухнет.
Яркий пример: фильм Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира» (на мой взгляд, лучший его фильм), где автор обыгрывает именно эту идею. Главный герой у Аллена в какой-то момент ломает четвертую стену и сходит с экрана в «реальный мир». И фильм, который он покидает, просто останавливается: все остальные персонажи не знают, что делать.
Отсюда новый вопрос: возможно ли сочинить историю, которая будет отлично работать без главного героя? При том что главный герой там все же есть, но он ничего не решает и вечно опаздывает?
Только подумайте: финальная схватка без главного героя; и даже больше: возможно ли создать историю, в которой все самые важные сюжетные повороты происходят без участия протагониста?
Ной Хоули создал именно такую историю.
В кратком пересказе сюжет третьего сезона «Фарго» звучит довольно просто: есть два брата, у них сложные отношения, менее успешный брат нанимает вора-домушника, чтобы тот проник в дом к более успешному брату и украл коллекционную марку. Но вор-домушник не блещет умом, он теряет записку с адресом, едет не в тот город, врывается не в тот дом и — что самое страшное — случайно убивает хозяина. Это убийство запускает цепочку довольно жутких событий, настолько жутких, что ближе к концу город будет завален трупами; погибнут все, включая братьев.
По всем законам криминальной драмы в этой истории должен быть полицейский/детектив, который будет распутывать дело. И он тут есть. Точнее — она; детектив Глория Бергл. И именно она — тот самый главный герой, который ничего не решает. На сюжетном уровне. Глория очень умна, она талантливый, прирожденный полицейский, умеет работать с уликами и видеть связи, она постоянно преследует антагонистов и все никак не может их настигнуть — и эта ее борьба очень напоминает апорию Зенона об Ахиллесе и черепахе; черепаха всегда на шаг впереди.
Надо сразу сказать: убрать главного героя за скобки — это невероятно смелый ход. Я прочел много сценариев, и большинство из них держится на стандартных приемах; есть главный герой, у него есть две цели — ложная и настоящая, то есть то, чего он хочет (want), и то, что ему действительно нужно, хотя он об этом пока и не знает (need). Обычно где-то в начале третьего или в конце второго акта герой добивается ложной цели и вдруг понимает, что ах какой же он был дурак, он ведь хотел совсем не этого; а дальше — катарсис и стремление к настоящей цели, затемнение, титры.
Вы много раз видели этот прием в кино. Такая структура хорошо видна, например, в семейных и романтических комедиях: герой хочет разбогатеть и на этой почве портит отношения с семьей; в конце он понимает, что деньги ничего не значат, если у тебя нет дома, где тебя ждут. Что-то такое.
Поэтому я и заостряю ваше внимание на Глории Бергл, героине «Фарго». Глория — уникальный персонаж, потому что она борется не с антагонистом. Она борется с сюжетом, то есть постоянно пытается настичь основную историю, стать ее частью, сыграть в ней важную роль; но история ускользает от нее. В каком-то смысле она борется с автором.
Кстати, обратите внимание: даже у Коэнов в оригинальном фильме главная героиня, Мардж, в итоге собственноручно поймала последнего преступника. То есть формально канон был на месте — главный герой ловит злодея. В случае с Глорией нет даже этого — Ной Хоули демонстративно выбрасывает учебник по сценарному мастерству в мусорку. Особенно четко это видно ближе к концу, когда антагонисты сами расстреливают друг друга, Глория приезжает уже на готовое место преступления и молча наблюдает за тем, как судмедэксперты упаковывают трупы тех, кого она должна была поймать.
В третьей серии есть вставная новелла — об андроиде, который ходит по миру и каждому встречному говорит единственную фразу: «Я могу помочь!» — это все, что он может сказать, и это очень грустно и иронично, потому что помочь он, очевидно, никому не может, даже самому себе, ему ведь так и не объяснили, зачем его создали.
Эта история — ключ к пониманию роли Глории; сама Глория в конце как раз говорит: «Я чувствую себя как тот андроид, иногда я сомневаюсь, что я нужна для чего-то, что я вообще существую».
Вот так, одним коротким диалогом в конце, сценарист Ной Хоули превращает обычную криминальную драму в беккетовскую метапьесу, в которой герой вполне осознает свое бессилие и свою неспособность повлиять на сюжет.
«Бледный огонь»: метароман Набокова
Есть два типа людей: одни любят Толстого, другие — Достоевского. Все остальные варианты сортировки людей обычно кончаются плохо.
Странное дело: в русской (и не только) литературе невозможно найти двух других столь же масштабных и столь же идеологически/эстетически разных писателей-современников: подвалы сознания против диалектики души.
Даже их личные отношения (точнее — отсутствие оных) отдают мистикой: Достоевский и Толстой жили в одно время и очень высоко ценили прозу друг друга и тем не менее умудрились ни разу не встретиться лицом к лицу.
Однажды они оказались в одном зале, в 1878 году, в Петербурге, на лекции Соловьева. Но даже это совпадение места и времени не превратилось для них в полноценную встречу. Их общий друг, критик/философ Николай Страхов, тоже был там и вполне мог их познакомить. Но — не стал. Почему — непонятно.
И вот еще интересный факт: незадолго до смерти Достоевский активно читал Толстого; и сам Толстой перед тем, как уйти из Ясной Поляны, перечитывал «Братьев Карамазовых».
>>>
В XX веке такой же причудливый, симметричный тандем составили, мне кажется, Хорхе Луис Борхес и Владимир Набоков. Они родились в разных странах, но в один год; а умерли в разные годы, но — в одной стране. В Швейцарии.
И чем громче звучали их имена, тем больше смысловых перекличек появлялось в их текстах и биографиях.
Как и Толстой — Достоевский, эти двое ни разу не пересекались лично, даже в одной аудитории не бывали (а жаль), не вели переписку и совсем ничего не написали друг о друге (что очень-очень странно). Борхес упомянул Набокова лишь однажды, да и то (какая ирония) в своем предисловии к «Бесам» Достоевского (это забавно еще и потому, что Борхес, конечно, знал об отношении Набокова к последнему; сам Борхес, к слову, был в команде Достоевского). Набоков несколько раз упоминал Борхеса в своих интервью. Впрочем, делал он это в присущем ему крипто-поди-разберись-что-имеется-в-виду-стиле.
Вот, например: «Упомянутых драматурга (Беккета) и эссеиста (Борхеса) воспринимают в наши дни с таким религиозным трепетом, что в этом триптихе я чувствовал бы себя разбойником меж двух Христосов».
Ну или вот такой факт из биографии: в романе Набокова «Ада» автором «Лолиты» числится писатель Осберх.
Оба писателя много лет посвятили преподавательской деятельности, читали лекции по литературе и написали сотни страниц толкований и комментариев к классике. Особый интерес оба питали к Сервантесу и Джойсу.
И все же к книгам они относились по-разному.
Неплохой иллюстрацией их отношений (точнее — отсутствия оных) может служить роман Набокова «Бледный огонь».
Роман входит в сотню самых важных текстов XX века по версии журнала Time (вместе с «Улиссом», «Радугой тяготения» и «Бесконечной шуткой»). И все же в России именно этот текст мастера почти — или совсем — не знают: у нас Набоков — автор «Лолиты», иногда — «Дара», «Защиты Лужина», «Других берегов» и «Приглашения на казнь». Остальных книг он словно бы и не писал.
И это странно. Ведь «Бледный огонь», пожалуй, один из самых хитроумных, необычных и мастерски сделанных романов за всю историю литературы. И слово «роман» я здесь использую лишь за неимением более точного определения.
На первый взгляд «Огонь» кажется по-настоящему борхесовским текстом. Ведь, строго говоря, именно Борхес изобрел (или — сделал модным) жанр под названием «комментарий к вымышленному/ненаписанному роману»[41].
«Бледный огонь» — это построчный комментарий к поэме вымышленного поэта, написанный — скорее всего — вымышленным (если не вымышленным, то уж точно сумасшедшим) человеком.
Идея написать роман-комментарий пришла к Набокову в конце 50-х, когда он работал над подробным англоязычным комментарием к «Евгению Онегину».
В. В. был ужасно недоволен корявыми английскими переводами Пушкина, и раздражали его не столько утраченные интонации оригинала (хотя и они, конечно, тоже), сколько банальные ляпы в местах, где переводчики жертвовали сутью стиха ради хорошей, яркой рифмы и смысл строки при переводе часто менялся чуть ли не на противоположный[42].
И в этом контексте «Бледный огонь» выглядит именно как попытка Набокова обыграть (и спародировать) идею художественного перевода и толкования/комментирования книг (в особенности — поэзии).
Структурно роман (точнее — его сюжет и замысел) построен именно на этом — на ложных толкованиях и корявых переводах, иногда до неузнаваемости искажающих смысл текста.
Намек на это есть уже в названии, которое отсылает нас к строчке Шекспира: «The moon's an arrant thief, / And her pale fire she snatches from the sun» («Луна — это наглый вор, / И свой бледный огонь она крадет у солнца»).
Название можно понимать двояко. С одной стороны — это мотив кражи чужой славы, зависти и противостояния автора и толкователя в борьбе за смыслы. С другой стороны, под «бледным огнем» здесь понимается переведенный и/или «откомментированный до неузнаваемости» текст, утративший свой настоящий свет/смысл.
Сам роман состоит из двух частей:
1. Поэма из 999 строк за авторством Джона Шейда;
2. Построчный комментарий к поэме, написанный университетским коллегой Шейда, Чарльзом Кинботом.
Набоков безжалостен к своему герою-комментатору-филологу (даром, что сам много лет зарабатывал на жизнь именно этим).
Кинбот — поклонник, близкий друг и толкователь творчества Джона Шейда, без конца хвастается/бравирует своей дружбой с великим поэтом, но при этом, комментируя его стихи, допускает досаднейшие ошибки, цитирует не те источники и, ослепленный собственной самоуверенностью, делает очевидно неверные выводы. Даже когда речь идет о названии поэмы (собственно, «Pale fire»), он умудряется накосячить и не замечает отсылки, потому что использует не оригинальный текст Шекспира, а корявый перевод с английского на свой родной (зембляндский) язык.
Набоков всю жизнь получал (и до сих пор получает) от критиков упреки в том, что его проза симметрична, как математическая теорема, а сюжеты настолько продуманны, что напоминают скорее шахматные задачи, чем жизненные ситуации.
«Бледный огонь» изначально производит такое же впечатление — он кажется чисто филологическим текстом, лабиринтом аллюзий, насмешкой над нерадивыми толкователями/переводчиками. Во всех этих интертекстуальных играх разума, помимо прочего, можно увидеть, конечно, и тычок локтем в ребра Борхесу — главному (и самому известному) в XX веке специалисту по толкованию чужих текстов.
И все же при внимательном чтении (и особенно — при перечитывании) «Бледный огонь» вовсе не кажется «холодным» и «безжизненным» (а эти ярлыки преследуют его с самого момента публикации).
Было бы нечестно и глупо трактовать эту книгу лишь как издевку над переводчиками и толкователями. Ну подумайте сами: разве станет писатель сочинять огромную поэму и создавать вокруг нее сложнейшую мифологию лишь для того, чтобы досадить кому-то? Я думаю, нет. В конце концов, есть миллион более простых и менее энергозатратных способов послать своих комментаторов в жопу.
На деле же (какую бы цель ни ставил перед собой Набоков) «Бледный огонь» — это в первую очередь история о непостижимости настоящего, история об искажениях и ложных смыслах, которые всегда неизбежно возникают между автором и его по/читателями. История грустная и даже трагическая (напоминающая притчу о Вавилонской башне). И очень жизненная, что бы там ни говорили критики и нелюбители Владимира Набокова[43].
Дэвид Митчелл и искусство не быть мудаком
В очерке о Толстом Максим Горький приводит такие слова Л. Н. об «Идиоте» Достоевского:
«Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин — эпилептик. Будь он здоров — его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен…»
Эта проблема знакома многим романистам (да и читателям тоже). Персонаж, у которого нет патологии, невроза или хотя бы вредной привычки, часто выглядит недописанным и плоским, читателю довольно сложно с ним себя ассоциировать. Особенно когда в книге есть харизматичный антагонист. Еще Вальтер Скотт (кажется) жаловался на то, как сложно создавать положительных героев. Злодея, подлеца — проще простого: оглянись вокруг и рисуй с натуры. Но вот с благородными всегда проблемы, они в лучшем случае выглядят наивными дурачками, в худшем — напоминают скорее аллегории, гипсовых святых.
(Кто-то из классиков заметил, что если бы из «Идиота» извлечь главного героя, то книга закончилась бы хеппи-эндом, никто бы не погиб и не сошел с ума: Настасья Филипповна поистерила бы, да и вышла бы замуж за Рогожина, нарожала бы детей; но нет — приходит Мышкин, и давай утюжить всех своей добротой; одни проблемы от него.)
Способность создать образ положительного человека, без кавычек, без иронии, — это всегда проверка на прочность для любого писателя.
В XIX веке такие характеры лучше всех получались у Толстого. Мне кажется, он вообще единственный писатель, которому удавались по-настоящему объемные и благородные люди, не отягощенные эпилепсией; самый яркий пример — князь Андрей.
В XX веке положительных героев становилось все меньше, а постмодернисты вообще перестали использовать слово «благородный» без кавычек.
А потом пришел Дэвид Митчелл и написал роман «Тысяча осеней Якоба де Зута». Роман исторический, конец XVIII века, место действия: остров Дэдзима, голландская колония в Японии.
Эту книгу можно долго хвалить за атмосферность и точность деталей, но мне хотелось бы заострить внимание на другом — на главном герое, Якобе де Зуте. Митчелл обладает редким талантом: он умеет описывать положительных людей и делает это так, что наблюдать за ними подчас гораздо интереснее, чем за негодяями из каких-нибудь «Игр престолов» или, я не знаю, сериала «Во все тяжкие».
Якоб де Зут — простой клерк, служащий канцелярии. Он не владеет восточными единоборствами, не играет на скрипке, не ширяется морфином, не пытается изжить психическую травму детства; по ночам он не варит синий мет в мобильной лаборатории; у него нет латексного костюма супергероя; за весь роман он не раскрыл ни одного преступления века и не спас от вымирания ни одной панды. У него вообще нет тайной жизни. Его работа — переписывать бумаги и следить за тем, чтобы цифры сходились.
И все же, под пером Митчелла, этот простой, прыщавый, рыжеволосый клерк превращается в настоящего героя — и совершает множество больших и благородных поступков. Без всяких кавычек.
И знаете, это и правда впечатляет — когда в толпе литературных недогениев, невротиков, мстителей, мошенников и сверхлюдей ты встречаешь человека, чья единственная суперспособность — не быть мудаком.
Видимо, что-то с нами не так, если «не быть мудаком» теперь проходит по классу суперспособности.
☐ curriculum vitae
Как я стал читателем
Мне было 14, и я мечтал стать великим кинорежиссером. На день рождения мне подарили видеомагнитофон «Панасоник», и я целыми днями смотрел кино, в основном фильмы Джеки Чана, которого считал лучшим актером всех времен и народов, и, как и он, я собирался самостоятельно исполнять все трюки в собственных фильмах, чтобы потом на фоне финальных титров пускать нарезку с неудавшимися дублями — как я ломаю ноги и получаю травмы, но героически, превозмогая боль, продолжаю съемку. Однажды маме все это надоело, и она выдернула видак из розетки, — что вообще-то на нее не похоже, на меня в детстве даже голос редко повышали, — но именно в тот день она сделала мне предложение, от которого я не мог отказаться: для разнообразия мог бы книжку прочесть, сказала она.
Читать что-то из школьного списка страшно не хотелось, и я полез на верхние полки в шкафу, там, как я знал, за аккуратными, солидными собраниями сочинений Гюго и Толстого, которые пугали меня своим мелким убористым шрифтом и длиннющими абзацами, лежали НФ-романы с уродливыми иллюстрациями на обложках. Я вытащил первую попавшуюся. Это был Роберт Хайнлайн. Крупный, дружелюбный шрифт, множество диалогов, еще и сборник рассказов — прям то, что надо школьнику-лентяю и будущему великому кинорежиссеру, автору революционно-авангардных фильмов, подумал я.
Я полистал оглавление и выбрал рассказ с самым крутым названием: «Все вы — зомби». Так мог бы называться мой будущий фильм, в котором обязательно было бы камео моего друга и наставника Джеки Чана.
И начал читать.
Спустя пять страниц я уже был самым большим поклонником Хайнлайна на планете Земля.
До этого я не подозревал, что так бывает, что автор может вот так просто за пять страниц вызвать короткое замыкание в мозгу читателя и обратить его в свою веру. Вот так запросто.
Я перестал хотеть быть великим кинорежиссером и решил, что теперь буду хотеть стать великим писателем.
Тогда-то и произошла моя инициация.
В то лето я прочел все пять томов Хайнлайна, все, что нашел в шкафу. И даже начал писать свой первый — и, разумеется, гениальный — роман, который — опять же, разумеется — почти дословно повторял сюжет рассказа «Все вы — зомби», с одной лишь разницей — теперь там было камео Джеки Чана.
И тут моя история делает новый — весьма неожиданный — виток.
Поскольку мою маму сложно было заподозрить в любви к американским фантастам, — да и книжки их были не на виду, как Гюго и Толстой, а в самом дальнем углу на самой верхней полке, — я спросил у нее, откуда у нас дома взялся Хайнлайн.
— Это Улугбека, — сказала мама. Таким тоном, как будто это все объясняет.
Улугбек жил по соседству. С женой и дочкой. Мы на девятом этаже, они на восьмом. Мы дружили семьями, и они часто оставляли свою дочь, Чимиту, у нас дома, когда уезжали в родную Бурятию «по делам».
А потом они исчезли. Были люди — и нет их.
Недавно я увидел в книжном роман Хайнлайна, и вспомнил про Улугбека, и написал маме, спросил, что с ним случилось.
Улугбек, ответила мама, задумал бизнес, но с ним случились 90-е. Он хотел наладить поставки подсолнечного масла в Бурятию, взял деньги не у тех людей и прогорел. Его стали навещать «серьезные ребята», братки — такие, знаете, короткостриженые, в спортивных костюмах с тремя полосками, за ухом у каждого по сигарете, — я полагаю, сигарета за ухом — это у них какой-то условный маркер «свой-чужой». Короче, начались угрозы: братки с чувством зачитывали Улугбеку перечень костей, которые обещали ему сломать в случае невыплаты долга. В костях они разбирались: знали все от clavicula до os sphenoidale.
И Улугбек сбежал. Однажды ночью взял семью в охапку и укатил в Бурятию. Совсем без вещей, так сильно торопился.
Потом была какая-то чехарда с их квартирой; ее, кажется, переоформили на себя и перепродали те самые трехполосные братки, а новые хозяева решили выкинуть и/или раздать бедным все личные вещи прошлых жильцов. Моя мама не позволила выкинуть книги, забрала их себе. И спрятала в стеллаже, за Гюго и Толстым. Они лежали там — не знаю сколько: три года? пять? — и ждали своего читателя; ждали, когда я решу стать великим кинорежиссером и моя попытка посмотреть «все фильмы в мире» заставит маму выдернуть видак из розетки, ждали, пока моя природная лень и боязнь мелких шрифтов не вынудят меня искать «самую легкую книгу из всех возможных».
>>>
Дальше — мне 22. Я, наконец, отрастил хребет, съехал от мамы, перебрался в Москву. Из вещей у меня всего одна сумка — это довольно странное чувство: собрать все свои вещи, оглядеться и вдруг понять, как мало места ты занимаешь в мире. Кроме одежды в сумке всего одна книга — Андрей Платонов. Мое второе странное знакомство. Мне было лет 19, я добирался на автобусе до университета, какая-то незнакомка читала книгу, я заглянул ей через плечо и тут же понял — с текстом что-то не так. Он весь кривой и угловатый. «Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду». В смысле «жалела одежду»? Ну кто так пишет-то? Похоже на кривой перевод или на стилизацию под кривой перевод.
Тайком посмотрел на обложку — Андрей Платонов, «Фро, рассказы».
Я до сих пор считаю, что книги Платонова так странно написаны именно потому, что это перевод — с какого-то изначального протоязыка на русский, который, очевидно, недостаточно вместителен, чтобы передавать все смыслы и нюансы, поэтому Платонов гнет его, лупит, растягивает, чтобы хоть как-то затолкать внутрь все свои изначальные истории.
Книга, которую хочется не только читать, но и петь — большая редкость. Платонов только такие и писал.
«Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко и не допустит крушения».
Потом были первые попытки писать «под Платонова», довольно жалкие, мертворожденные. Но это был полезный опыт, Платонов показал мне, что язык — это вовсе не свод правил/законов/запретов, вроде Уголовного кодекса, — туда не ходи, того не делай, а вот это выдели запятыми, — язык скорее экосистема, которую вполне можно и даже нужно менять, дополнять и наращивать, — главное: знать, чего хочешь.
>>>
Дальше — 2011 год, я привыкаю к Москве, общаюсь в основном с рыбами и немного с людьми — работаю в аквариумной компании. Один клиент, пока я ковыряюсь в фильтре, рассказывает мне смешную притчу:
«Плывут как-то две молодые рыбки, а навстречу им — старая рыба, кивает и говорит: «Привет, молодежь, как вам вода сегодня?» Рыбки плывут дальше, и вдруг одна из них поворачивается к другой и спрашивает: „Что еще, мать твою, за вода?”».
Притча так мне понравилась, что я решил узнать, кто ее автор. Гугл ссылался не на какого-нибудь китайского мудреца, а на американского писателя — Дэвида Фостера Уоллеса.
Первое, что я сделал, дочитав статью в Википедии о нем, — заказал на Амазоне его роман Infinite Jest. Книга приехала через месяц, я распаковал ее (тяжелая, теплая, синяя), открыл и — забуксовал на четвертой странице.
Роман долго лежал и собирал пыль на рабочем столе, служил ковриком для мыши, мухобойкой, подстаканником, пресс-папье для курсовых работ, переезжал со мной из одной съемной квартиры в другую — мы с ним много чего пережили.
Со стороны это выглядело так, словно я сдался, — на самом деле я просто лежал по направлению к цели. Я заказал путеводитель по «Бесконечной шутке», потом — еще один, потом — скачал себе в читалку все остальные книги Уоллеса (они гораздо проще) и потихоньку, кусками читал одну за другой.
Я готовился к штурму.
Штурма не получилось. Ни в первый раз, ни во второй, ни в третий. Ни в четвертый.
В итоге мне пришлось сменить тактику: зачем штурмовать крепость, когда можно найти ворота и мирно в них постучать.
Это было первое откровение: я понял, что у каждой книги есть своя архитектура, свои арки, залы, коридоры — и свои точки входа. Одни книги похожи на серию комнат, анфиладу — и в них довольно сложно заблудиться — ты просто входишь в открытую автором дверь и ступаешь из одной комнаты/главы в другую. Таких большинство. Но есть другие книги — они спланированы, спроектированы так, чтобы отпугивать читателя, они как дома с привидениями: сначала ты переселяешься в них, а потом они — в тебя.
Книга весила почти два килограмма — почти два килограмма слов, — я читал я ее больше двух лет, всюду таская с собой в рюкзаке. Довольно тяжелое бремя, учитывая, что и без книги рюкзак мой всегда под завязку набит барахлом. Барахла было больше чем слов, но слова — тяжелее. Они всегда тяжелее. Особенно если речь идет о книге, которую ты никак не можешь добить. Как там говорят? Ничто не мучает сильнее, чем неоконченное дело. Правильно говорят.
Но я перефразирую: сильнее неоконченного дела могут мучить только боли в спине, вызванные тяжестью неоконченного дела. В какой-то момент я решил, что буду всегда и везде носить эту книгу с собой, пока не дочитаю. Это решение хорошо сказалось на скорости чтения и плохо — на позвоночнике (мои межпозвоночные диски передают тебе привет, Уоллес; они тебя ненавидят).
Знакомые видели талмуд и спрашивали:
— Почему ты так хочешь прочитать эту книгу?
Ответ был один (он всегда один):
— Потому что она существует.
Я запойный читатель. Плюс сам кое-что пишу, перевожу. Довольно странно теперь вспоминать детство и думать о том, с чего начался этот мой читательский «путь самурая».
А начался он с того, что один ушлый, но не очень удачливый бурят в конце 90-х пытался протащить в Бурятию фуру с подсолнечным маслом, но что-то пошло не так.
И это не шутка.
Манифест читателя (вместо послесловия)
Писатель и критик соотносятся примерно так же, как астроном и астролог. Можете мне поверить, я был по обе стороны баррикад. Очень часто там, где автор фиксирует сверхновую, толкователь видит нечто, напоминающее скорее гороскоп: «Козерога завтра ожидает тяжелый день, опасайтесь конфликтов на работе, светофоров и овсяной каши».
Все мы помним эту «астрологию» еще со школы: черное/лиловое платье Анны Карениной, высокое, бесконечное небо Аустерлица, а «Базаров с помощью розы иносказательно просил о любви, хоть небольшой, хоть на краткий миг» (про Базарова — это не шутка, а реальная цитата из пособия для учителей).
Писатель указывает им на луну, а они смотрят на палец. Мало того — смотрят, так еще умудряются этот палец комментировать: «Так, он указывает пальцем на луну, это символ! Это что-то значит! Палец — это перст указующий, отсылка к Библии, Иов, глава двадцать пятая, стих семнадцатый, точно!»
Але, придурок, я луну тебе показываю, перестань анализировать мой палец.
Поймите меня правильно: я и сам люблю поискать аллюзии, отсылки, символы. Любой хороший текст наполнен такими штуками под завязку. И, разумеется, высокое, бесконечное небо Аустерлица и черное платье Анны — очень важные детали, Толстой не просто так прикрутил их к сюжету. Проблема в другом. Чтобы любить Бетховена, не обязательно знать, что такое фуга, и чем увертюра отличается от сонаты, и почему ноктюрн — это не то же самое, что и квартет. С литературой точно так же — вы удивитесь, но ее можно просто читать. Ради удовольствия. Без всей этой филологической «астрологии», иносказательной символики и прочего. Серьезно.
Есть такой роман: его главный герой — офицер; за сто страниц текста он успевает: а) похитить женщину; б) застрелить приятеля; в) почти погибнуть от рук контрабандистки; г) поучаствовать в облаве и собственноручно задержать убийцу.
А, и еще — повествование там нелинейное. Порядок у глав существует, но он не соответствует датам публикации.
Знаете, что это за книга?
«Герой нашего времени».
Недавно я провел такой эксперимент: пересказал сюжет «Героя…» своим знакомым и попросил угадать книгу. Правильный ответ дали всего два человека из десяти.
«Я помню, что Печорин — лишний человек, только не помню — почему…»
«Так, постой, я забыл, а Печорин — он лишний или маленький человек? Или, может быть, он „низкий человек”?»
«Я в школе был уверен, что Печорин — врач, потому что учительница постоянно повторяла, что он поставил эпохе диагноз».
«Там были контрабандисты? Если да, то я уверен — они занимались контрабандой скуки?»
Все это реальные цитаты. Из них ясно одно: сегодня мало кто воспринимает «Героя…» как цельную историю, наполненную живыми характерами и грустью; роман Лермонтова у многих устойчиво ассоциируется со вторичными околошкольными воспоминаниями: с заметками Белинского о «лишнем человеке», «социальной критикой», отношениями с императором Николаем, с Пушкиным.
Настоящие «лишние люди» — это дети на уроках литературы. Их интересами пренебрегают.
Та же проблема с «Шинелью». В школе вам расскажут про важнейшую идею «маленького человека», «социальную сатиру», «сострадание» и вообще «все мы вышли из гоголевской шинели» ©. Мозги детей так старательно фаршируют «историческими/социальными контекстами» и «литературным процессом», что в итоге от них ускользает самое главное: удовольствие. А ведь «Шинель» — очень странный, а иногда и вовсе смешной рассказ. Правда. Вот, например, сцена смерти Акакия Акакиевича:
«Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: „Виноват, ваше превосходительство!” — то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более что слова эти следовали непосредственно за словом „ваше превосходительство”. Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух».
Мне кажется, это одно из самых оригинальных описаний предсмертных мук в литературе. И тем не менее детей до сих пор убеждают в том, что Гоголь призывал «пожалеть „маленького человека”» и что из этой его шинели вышел Достоевский.
Я постоянно слышу от людей: «я боюсь читать Джойса/Данте/Пинчона, он слишком умный, там комментариев и толкований больше, чем самой книги, я ничего не пойму, я чувствую себя тупым/тупой, когда открываю его книгу, я не потяну его».
Этот невроз знаком многим: нас с детства запугивали маленькими людьми и Большими Идеями, приучали к тому, что классика — это ого-го-го (потрясая пальцем в воздухе)! К ней просто так не подступишься! Это вам не в носу ковыряться, это «заглянем в лицо трагедии, увидим ее морщины», а если ты не понял, что символизирует черное платье, расщепленный молнией дуб, и небо Аустерлица, и роза Базарова, и почему фамилия главного героя Дедал, и при чем здесь бананы и ракеты Фау-2, то тебе должно быть стыдно.
А вот и нет.
Не знать — не стыдно.
Стыдно — не хотеть знать.
Этот комплекс неполноценности — «ты все равно не поймешь» — похож на зеленые очки, которые носили жители Изумрудного города.
Я завидую людям, читавшим «Анну Каренину» в 1877 году, по мере того как она выходила в журнале «Русский вестник». Они читали с чистого листа, ради удовольствия, ради самой истории, они еще не знали, что у Толстого есть какая-то там «мысль семейная» и что образ металла в книге очень важен. Я иногда представляю себе шок первого читателя: «О Господи! Анна, не надо, не делай этого!» Сегодня ее поступок уже давно не спойлер. Но как же хочется увидеть лицо человека в 1877 году, дочитавшего до сцены на вокзале.
На самом деле именно так в первый раз надо читать классическую литературу: так, словно книга только что из типографии, словно еще не существует огромного корпуса сопутствующих текстов, толкований, диссертаций, анекдотов, домыслов и прочих зеленых очков Филологического Изумрудного Города. Эти очки вы всегда успеете надеть, не торопитесь.
Ведь если вы откроете Данте, Кафку, Рабле, Толстого, Джойса, Пинчона просто так, ради удовольствия, то рано или поздно вы почувствуете, что книги «сложных писателей» хороши — невыносимо хороши — даже без комментариев. Особенно без комментариев.
Школа должна воспитывать в детях любопытство, а не священный трепет перед громкими именами и великими идеями. Потому что настоящий учитель — это человек, беседуя с которым, ты кажешься себе умнее, чем ты есть на самом деле. Не наоборот.
Благодарности
Я хотел бы выразить огромную благодарность всем своим друзьям и коллегам, которые всегда терпеливо слушают мои жалобы, читают мои черновики, дают советы о том, как их улучшить, и подбадривают в трудные времена. Я многим обязан Евгении Гофман, Микаэлю Дессе, Сергею Карпову, Игорю Кириенкову, Ксюше Лукиной, Ольге Любарской, Егору Михайлову, Константину Мильчину, Марии Пирсон, Владимиру Вертинскому и, конечно, редактору этой книги Павлу Грозному, который помог объединить и собрать все эти очень важные для меня тексты под одной обложкой.
Примечания
1
daily.afisha.ru
(обратно)2
gorky.media
(обратно)3
dystopia.me
(обратно)4
Тут, конечно, надо упомянуть еще и об «обратном снобизме» — когда представители «гетто» сами пытаются отмежеваться от «основной» культуры — «мы — фантасты, у нас есть реактивные ранцы, и все реалисты нам завидуют». На мой взгляд, это тоже не очень здоровое поведение, но сейчас не об этом.
(обратно)5
У названия здесь двойное дно. Во-первых, в самой книге идея «метлы» обыгрывается как логическая/языковая задача в стиле Витгенштейна, а во-вторых, «метла» — семейная шутка Уоллесов: бабушка Дэвида пыталась убедить его есть больше яблок, и ее главный аргумент звучал так: «Come on, it's the broom of the system» («Ну же, это метла системы» — здесь имеется в виду, что яблочная клетчатка прочищает ЖКТ).
(обратно)6
Есть известная байка (скорее всего, правдивая): когда менеджеры издательства «Литтл, Браун» собрались на совещание, посвященное грядущему изданию «Шутки», директор на полном серьезе спросил: «Скажите, а кто-нибудь вообще прочитал эту книгу дальше 70-й страницы?» Руку поднял только редактор Уоллеса Майкл Питч.
(обратно)7
Сам Уоллес относился к реакции критиков с юмором. Вот, например, фрагмент из интервью 1996 года: Уоллес: Вы прочли книгу? Журналист: У меня пока не было возможности, но наш рецензент только что закончил ее читать. Уоллес: Снимаю перед ним шляпу. Скажите ему, что «Экседрин» лучше всего помогает при переутомлении глаз.
(обратно)8
И да, у Уоллеса, как и у Пинчона и Геймана, есть камео в «Симпсонах» (e19s23).
(обратно)9
Вообще, я не планировал делать здесь сноску, но редактор попросил все же объяснить это слово, так что начнем: Википедия утверждает, что термин «макгаффин» ввел в оборот Альфред Хичкок. В интервью Франсуа Трюффо он сказал так: «макгаффин — это в сущности ничто (McGuffin is nothing at all). He важно, что это за вещь; главное — что все хотят ею обладать». То есть, говоря совсем просто: макгаффин — это предмет, который нужен исключительно для того, чтобы двигать сюжет фильма или романа. Примеры макгаффинов: бриллианты в «Бриллиантовой руке», стулья в «Двенадцати стульях», ковер в «Большом Лебовски». И именно поэтому картридж с фильмом «Бесконечная шутка» в романе «Бесконечная шутка» — это тоже макгаффин. А теперь вернемся к основному тексту. — Прим. авт.
(обратно)10
Если вы считаете, что это пояснение не нужно, — или, наоборот, что оно недостаточно или ошибочно, — напишите нам письмо на адрес what.is.mcguffin@gmail.com, и мы обязательно исправим примечание в следующем издании книги. — Прим. ред.
(обратно)11
Перевод Сергея Карпова.
(обратно)12
Французский философ Анри Бергсон писал, что «смех — это временная анестезия сердца». Уоллес смотрел на юмор немного иначе. В одном из своих интервью он говорил, что существует два вида юмора: тот, что облегчает боль, и тот, что причиняет ее. И юмор ДФУ как раз второго вида — жестокий и абсурдный, во многом кафкианский («Я думаю, мы должны читать лишь те книги, что кусают и жалят нас»). Смех для него — это вовсе не способ защититься от реальности, как раз наоборот — способ принять ее и описать более детально (яркий пример: исповеди наркоманов в «Бесконечной шутке» или история об украденном сердце (там же)).
(обратно)13
Здесь, кстати, будет уместна еще одна надпись со стены в Париже 1968 года: «С 1936 года я боролся за повышение зарплаты. Раньше за это же боролся мой отец. Теперь у меня есть телевизор, холодильник и „фольксваген”, и все же я прожил жизнь как козел. Не торгуйтесь с боссами! Упраздните их!»
(обратно)14
Перевод Максима Немцова.
(обратно)15
И напоследок: одну из лучших статей о «Внутреннем пороке» написал Томас Джонс (журнал London Review of Books), концовка его текста настолько прекрасна, что я просто процитирую тут последний абзац (перевод мой): «Наверно, самое странное, что есть во «Внутреннем пороке», — причудливое пятно света в этом смоге отчаяния, — это мысль о том, что где-то там, в одном из городков на побережье округа Лос-Анджелес, неподалеку от тех мест, где Док проводит свои бессвязные расследования, где-то среди наркош, серферов и дамочек-хиппи, среди дантистов, адвокатов и ростовщиков, среди тех, кто своим голосом помог Никсону попасть в Белый дом и Рейгану — в поместье губернатора в Сакраменто, где-то там в уединении за печатной машинкой сидит Томас Пинчон и пишет „Радугу тяготения”».
(обратно)16
Перевод Виктора Когана.
(обратно)17
Я не случайно упомянул фильм Эммериха. Дэвид Фостер Уоллес в своем эссе 9/11: The View From the Midwest (Rolling Stone, октябрь 25, 2001) приводит воспоминание одной американки: «Мои дети думали, что это какой-то фильм типа „Дня независимости”, пока не обнаружили, что этот „фильм” идет по всем каналам одновременно». Многие американцы позже признавались, что, включив утром 11 сентября телевизор, первые пару минут были уверены, что на экране очередная поделка Роланда Эммериха.
(обратно)18
На эту фразу Теодора Адорно поэт Уистен Хью Оден (кажется) ответил ехидным вопросом: «А после инквизиции, стало быть, можно? А после крестовых походов — это не варварство, да?»
(обратно)19
После падения башен-близнецов Джерри Ховард, редакционный директор Broadway Books, заметил: «По-моему, кто-то обязан сделать памятник с надписью „Ирония умерла 9-11-01”».
(обратно)20
Здесь — раздвоение смысла: «Debarking» может означать как «сдирание коры с дерева» (то есть обнажение), так и «покинуть борт самолета» (здравствуй, первая отсылка к 11 сентября). Плюс третий смысл названия: у главного героя есть неприятная черта — он груб с людьми: «You bark at them» («Ты на них гавкаешь»), — упрекает его бывшая жена.
(обратно)21
Перевод Е. С. Новожиловой.
(обратно)22
Перевод Михаила Пчелинцева.
(обратно)23
А может быть, и дольше, ведь если очень захотеть, то зарождение жанра можно начать отсчитывать и от «Франкенштейна» Мэри Шелли. Там тоже вполне себе трансгуманизм.
(обратно)24
Перевод Сергея Скорвида.
(обратно)25
Перевод Виктора Сонькина и Александры Борисенко.
(обратно)26
Перевод Владимира Бабкова.
(обратно)27
Перевод Анастасии Завозовой.
(обратно)28
Перевод Дмитрия Симановского.
(обратно)29
Перевод Сергея Сухарева.
(обратно)30
Перевод Сергея Леднева.
(обратно)31
См. книгу Марио Варгаса Льосы «Письма молодому романисту».
(обратно)32
Иосиф Бродский в своей Нобелевской речи сказал: «…я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего». Впрочем, из истории видно, что это, увы, далеко не всегда так. Джонатан Литтелл в своих „Благоволительницах” этот тезис Бродского с легкостью опровергает. Но сейчас не об этом…
(обратно)33
Перевод Виктора Сонькина, Александры Борисенко, Анастасии Завозовой.
(обратно)34
Перевод Юрия Соколова, Татьяны Ребиндер.
(обратно)35
Это не шутка, сцена описана Дорин Александр Чайлд в книге Charlie Kaufman: Confessions of an Original Mind.
(обратно)36
Термин «заземление» не мой, я подсмотрел его у Александра Талала в книге «Миф и реальность в кино».
(обратно)37
Или я просто читал не те интервью.
(обратно)38
Перевод Сергея Карпова.
(обратно)39
Перевод Сергея Карпова.
(обратно)40
Перевод Михаила Пчелинцева.
(обратно)41
См. «Тлён, Укбар, Orbis Tertius», «Приближение к Альмутасиму», «Пьер Менар, автор „Дон Кихота”» и «Анализ творчества Герберта Куэйна».
(обратно)42
Бродский, кстати, тоже в свое время пришел в ужас от американских переводов русской литературы в исполнении Констанс Гарнетт: «Причина того, что англоговорящие читатели едва ли могут объяснить разницу между Толстым и Достоевским, заключается в том, что они читают не прозу первого или второго. Они читают Констанс Гарнетт».
(обратно)43
В одном из интервью, сразу после публикации «Бледного огня», Набоков заметил: «Можно, так сказать, подбираться ближе и ближе к реальности; но вы никогда не подберетесь к ней достаточно близко, потому что реальность — это бесконечная череда ступенек, уровней восприятия, тайников, а потому она непостижима, недостижима».
(обратно)

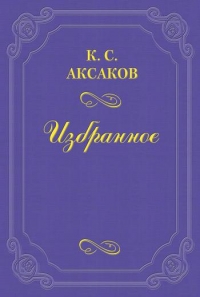

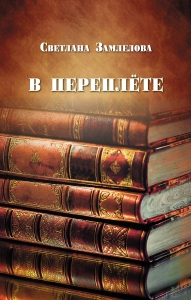


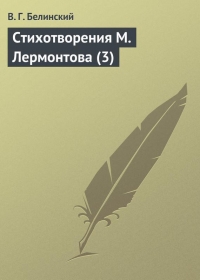
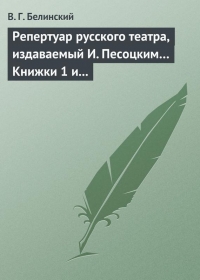
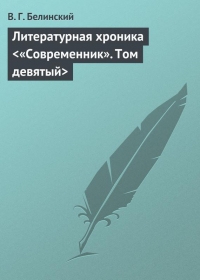
Комментарии к книге «Почти два килограмма слов», Алексей Валерьевич Поляринов
Всего 0 комментариев