Глеб Струве Тихий ад. О поэзии Ходасевича *)
Возстает мой тихий ад
В стройности первоначальной.
«Собрание стихов» Владислава Ходасевича составилось из двух его последних книг — «Путем зерна» (1920) и «Тяжелая лира» (1923), к которым автор присоединил под общим названием «Европейская ночь» стихи последних лет (1923 — 27). Мы можем быть только благодарны автору за то, что он собрал воедино все свои зрелые стихи: таким образом выростает перед нами цельная и интересная поэтическая личность, к которой стоит внимательно присмотреться.
Я не буду останавливаться сейчас подробно на поэтическом мастерстве Ходасевича: это мастерство высокой и полноценной марки. В нем в своеобразной индивидуальной форме претворились лучшие традиции русской классической поэзии — поэзии Пушкина, Баратынскаго, Тютчева: их четкость, их прозрачность, их бережное отношение со словом, их насыщенность мыслью. Последнее свойство делает Ходасевича особенно близким в известном отношении к Баратынскому и Тютчеву: как и они, Ходасевич — «умный» поэт. Для Ходасевича, вне всякаго сомнения, логическая стихия слова первенствует над звуковой. Он сам это четко выразил в стихотворении «Жив Бог! Умен, а не заумен», где он сравнивает себя — поэта — с «непоблажливым игумном» а стихи свои — со «смиренными чернецами»:
…Умен, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как непоблажливый игумен
Среди смиренных чернецов.
Ходасевич любит
… из рода в род мне данный
Мой человеческий язык.
Он любит и его «суровую свободу», и его «извилистый закон» и мечтает:
О если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую лиру!
Этим Ходасевич совершенно чужд Блоку — поэту-певцу, одержимому — и близок (но только этим Гумилеву (Блок и Гумилев — характерныя полярности в русской поэзии последних десятилетий).
Но подчинение звуковой стихии — логической, обуздание словесных возможностей суровыми законами языка и смысла отнюдь не мешает тому, что стихи Ходасевича поражают изысканностью поэтических приемов, богатством словесной инструментовки, высоким качеством мастерства.
Этим общим суждением я ограничу разбор поэтической техники Ходасевича: он заслуживал бы отдельной статьи. Перейду к содержанию его поэзии.
* * *
Два основных мотива пронизывает всю поэзию Ходасевича: мотив раздвоения души и тела и мотив смерти. Причем, если брать поэзию Ходасевича в ея развитии во времени, мы заметим последовательное и параллельное наростание этих мотивов. Мотив раздвоения «я», развиваясь, переходит в тему полнаго раздробления, почти небытия личности, сливаясь с мотивом смерти, который обростает побочной темой прижизненнаго тления и становится доминирующим, заслоняет все другие.
Мотив разлада души и тела… Не можем ему не верить, когда он разсказывает нам, как
. . Самого себя
Увидел я в тот миг, как этот берег;
Увидел вдруг со стороны, как еслиб
Смотреть немного сверху, слева. Я сидел,
Закинув ногу на ногу, глубоко
Уйдя в диван, с потухшей папиросой
Меж пальцами, совсем худой и бледный.
Глаза открыты были, но какое
В них было выраженье — я не видел
(«Эпизод»)
Это самолицезрение продолжалось всего мгновенье —
. . вероятно,
И четверти положеннаго круга
Секундная не обежала стрелка.
И поэт так же не по своей воле возвратился в покинутую им оболочку —
. . Но только свершилось это тягостно, с усильем,
Которое мне вспомнить неприятно.
В другом стихотворении из «Путем зерна» повторяется этот мотив:
. . Я смотрю как бы обратным взором
В себя
И так пленительна души живая влага,
Что, как Нарцисс, я с берега земного
Срываюсь и лечу туда, где я один,
В моем родном, первоначальном мире,
Лицом к лицу с собой, потерянном когда-то
И обретенном вновь…
В «Тяжелой лире» этот мотив углубляется, обобщается и звучит все настойчивее. Поэт разговаривает со своей душой — «Психеей бедной» — как с неким особым и отдельным существом, вне его живущим предметом его любви.
Тема любви почти только в этой форме — влюбленности поэта в свою Психею — и встречается в стихах Ходасевича.
Душа мой! Любовь моя!
обращается он к своей Психее.
Легкая моя, падучая,
Милая моя душа! —
называет он ее в замечательном стихотворении, где «ощущение кручи» — ночного пробуждения — падения — великолепно передано ритмическим рисунком и перебойными женско-дактилическими рифмами («почему-то — откуда-то», «только — столика», «кручи — падучая»). Душе поэта «невнятен» «стон (его) страстей». Как йод раз’едает пробку, так
… и душа незримо
Жжет и разъедает тело.
Но если душе невнятен стон земных страстей, то не нужно ей и «ни утешений, ни услад». Она
Глядит безстрашными очами
В тысячелетия свои,
Летит широкими крылами
В огнекрылатые рои.
Не нужен ей и сам ея носитель:
И навсегда уж ей не надо
Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронверкскаго сада
Бредет в ничтожестве своем.
Именно из этого разлада, из этой раздвоенности возникает сознание ничтожности мира и человека, презрение к тому и другому. Жизнь скучна, а человек ничтожен — на все лады повторяет Ходасевич.
А человек — иль не затем он,
Чтобы забыть его могли? —
восклицает поэт.
В другом месте он говорит:
Лучше спать, чем слушать речи
Злобной жизни человечьей,
Малых правд пустую прю
Люди для него — «бесы юркие» жизнь человеческая — блистательная кутерьма, «дурные сны», «серенькая ночка», «тихий ад», в котором душе ничего не надо:
Мне каждый звук терзает слух
И каждый луч глазам несносен.
Это по новому и с гораздо большей остротой и правдоподобностью выраженное Гумилевское (у Гумилева оно было мимолетное) «презрение к миру и усталость слов» порождает непреодолимое желание нарушить равновесие этого «тихаго ада», разстроить скучный мировой порядок, метафизически набедокурить, если можно так выразиться. И поэт все с той же правдивостью самообнажения, доходящей до цинизма, признается:
Все жду, кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бедный окровавит
Торцовую сухую пыль.
И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется
И станет горькою вода.
Прорвутся сны, что душу душат.
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.
Это страшное жуткое стихотворение особенно жутко потому, что мы до конца верим поэту: мы знаем, что он именно этого хочет, об этом томится, ибо не верит он в «красоту земную» и не хочет «здешней правды», зная, что
Пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплачешь земные очи —
Не станешь духом…
Себя поэт презирает и безпощадно сравнивает с червяком:
Смотрю в окно — и презираю.
Смотрю в себя — презрен я сам
. . .
Дневным сиянием об’ятый,
Один беззвездный вижу мрак…
Так вьется на гряде червяк…
Разсечен тяжелою лопатой.
Жизнь это — «косная, нищая скудость». Понятно поэтому, что
Ни жить, ни петь почти не стоит.
* * *
Из такого отношения к миру выростает у поэта мотив смерти. У Ходасевича это даже не предчувствие смерти, а уже «горькое предсмертье».
Смерть для него — обыденное, близкое, свое:
… Уж давно меня клонит к смерти,
Как вас под вечер клонит ко сну.
Смерть — «долгожданный гость», она близко вот тут, у ворот:
Не странно-ль жить, почти что осязая,
Как ты близка?
И дальше:
Еще томят земныя разстоянья,
Еще болит рука,
Но все ясней, уверенней сознанье,
Что ты близка.
Поэт ощущает себя «яблонью, отягощенною плодами» и говорит:
И не постигнуть, юным, вам,
Всей нежности неодолимой,
С какою хочется ветвям
Коснуться вновь земли родимой.
Уже в этом «горьком предсмертье» наступает тление, то «дыхание распада», которое Люцифер — «первый дачник на расцветающей земле» — «в долину мирных райских роз… на крыльях дымчатых принес» и про которое Ходасевич, противопоставляя его мирной сельской жизни с ея «простыми затеями», где
… радуга высоким сводом
Церковный покрывает крест
И каждый праздник по приходам
Справляют ярмарку невест —
говорит
А я росистыя поляны
Топчу тяжелым башмаком,
Я петербургские туманы
Таю любовно под плащем,
И к девушкам, румяным розам,
Склоняюсь томною главой,
Дышу на них туберкулезом,
И вдохновеньем, и Невой.
* * *
До сих пор я цитировал стихи почти исключительно из «Путем зерна» и «Тяжелой лиры», т. е. стихи 1914 — 22 гг. В последних стихах Ходасевича, в «Европейской ночи»(1923 — 27) все его основныя темы получают предельное воплощение и заострение. Если раньше мы видели раздвоение «я» поэта, теперь это «я» — по крайней мере, в мечтах поэта — раздробляется на множество частиц. Поэту в этой жизни «дороже всех гармонических красот» —
Дрожь, пробежавшая по коже,
Иль ужаса холодный поэт,
Иль сон, где некогда единый, —
Взрываясь, разлетаюсь я,
Как грязь, разбрызганная шиной
По чуждым сферам бытия.
Отсюда недалеко до того, чтобы воскликнуть — может быть, с затаенным ужасом, с болью — что «я» вообще нет:
Я, я, я. Что за дикое слово!?
Неужели но тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желтосераго, полуседого,
И всезнающаго как змея?
Кстати, это змеиное всезнание еще раньше отчетливо ощущалось поэтом как неот’емлемый аттрибут жизннаго роста. Он не раз говорит о своих «пресыщенных глазах», повторяет:
Все я знаю, все я вижу (стр. 86)
Я много знаю, много вижу (88)
Для распыленнаго, всезнающаго и многомудраго «я» конкретный мир, как он есть, предстает какой-то страшной, жуткой карикатурой, каким-то беспросветным уродством, где «все высвистано, прособачено», где обитают «уродики, уродища, уроды», где — сплошная «ночная гнилость». «Все каменное» — в этом мире, в изображении котораго Ходасевич сочетает жуткий, цинический реализм с какой-то страшной фантастикой, напоминая и тем и другим Бодлэра («Окна во двор», «Под землей», «An Mariechen», «Берлинское», «Дачное», «Баллада», «У моря», «Звезды»). Олицетворение этого мира — модернизированный и опошленный Каин «с экземою между бровей», в широкополом канотье и с желтыми зубами (цикл «У моря»).
В этом уродливом мире, отраженном и искаженном в безчисленных осколках расколовшейся души, поэту не мило ничто: ему претит от истин и красот», его не радует «человечий гений», который «все бьется… то вверх, то вниз», ему «тяжко» и «больно» жить душою в творениях художников, и после прогулки по музею его утешает лишь мысль
… что в аптеке
Есть кисленький пирамидон.
Люди для него, с их «непреложным законом» и «заповедным смиреньем» — только жалкие «пузырьки в сифоне», и ему хочется ударить по миру кулаком или сойти с ума, когда он встречает безрукаго с беременной женой в синема — в этом образе для Ходасевича воплощается жалкая людская пошлость. И он не выносит:
Ременный бич я достаю
С протяжным окриком тогда
И ангелов наотмашь бью,
И ангелы сквозь провода
Взлетают в городскую высь.
Иногда кажется, что для Ходасевича весь Божий мир отражается в «грошевом казино», где
… под двуспальные напевы
На полинялый небосвод
Ведут сомнительные девы
Свой непотребный хоровод.
* * *
Ходасевич не приемлет мира, его гармонии, его мнимой устроенности (в этом он внутренно глубоко чужд и Пушкину, и Тютчеву и, пожалуй, даже Баратынскому). Но его устремленность к духу — лишь тщетная устремленность, не окончательное достижение. Как мы уже видели, духом не стать — «пока вся кровь не выступит из пор».
В минуту творческаго вдохновения пошлый мир может вдруг стать «прозрачен как стекло», но
… ту прозрачную, но прочную плеву
Не прободать крылом остроугольным,
Не выпорхнуть туда, за синеву,
Ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным.
И за стеклом вдруг с отвращением узнает поэт
Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою.
Стихи «Европейской ночи», по строению резко отличные от стихов «Тяжелой лиры» — те гораздо ровней, размеренней, эти отрывисты, перебойны, почти судорожны в своем ритме — таят себе и глубокое внутреннее отличие. Устремленный к духовному, поэт, отчаявшись «прободать прозрачную, но прочную плеву», обратился вновь к миру, но не с тем чтобы принять его, а чтобы еще пуще его заклеймить, избичевать, обрушить на него всю свою злобу и ненависть. Поэзия «Европейской ночи» — страшная и жуткая — это подлинная поэзия разложения, распада, тления. Поэт клеймит пошлость мира, но вместе с тем с каким-то сладострастием в ней купается. Он вожделеет распада, ибо путь распада, путь тления — это путь к духу. В тлении он черпает вдохновение. В одном из последних стихотворений Ходасевича, уже не вошедшем в сборник, но всецело примыкающем к «Европейской ночи» (оно напечатано в кн. XXXIV «Совр. Записок») об этом сказано очень ясно:
Когда в душе все чистое мертво,
Здесь, где разит скотством и тленьем,
Живит меня заклятым вдохновеньем
Дыханье века моего.
Но не есть ли эта поэзия разложения начало разложения поэзии? Не зашел ли поэт в духовно-поэтический тупик, из котораго он не найдет выхода, пока не сбросит «личины низкой и ехидной», которую по собственному слову носит, пока не взглянет на мир иными глазами? Ибо не тот ли только поэт, кто, по слову Гумилева, «любит мир и верит в Бога», и не в этом ли тот заветный Ходасевичевский «утешный ключ», который один спасает от двуединой соблазнительной язвы порока и смерти и превращает «тихий ад», в «невероятный Божий подарок»?
*) В. Ходасевич. Собрание стихов. Кн-во «Возрождение». Париж 1927. Стр. 183.
Глеб Струве
Глеб Струве. Тихий ад. О поэзии Ходасевича // За Свободу! 1928. № 59 (2391), 11 марта. С. 6.
Павел Лавринец (Вильнюс), 2010.
Версия с модернизированной орфографией.
Публикация © Русские творческие ресурсы Балтии, 2010.




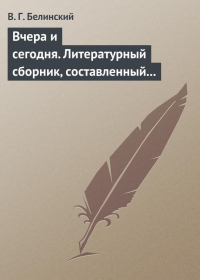
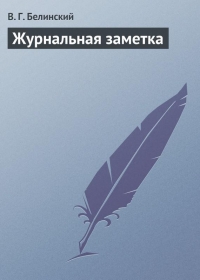
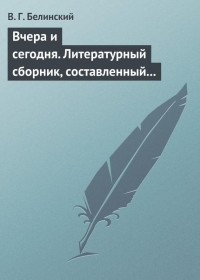
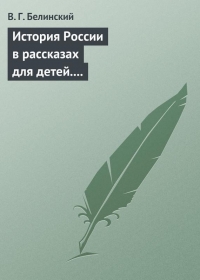
Комментарии к книге «Тихий ад. О поэзии Ходасевича», Глеб Петрович Струве
Всего 0 комментариев