Дмитрий Быков Быков о Пелевине. Лекция вторая
Этой лекции сопутствует добрый дух скандала, как сказал когда-то Набоков о книге Годунова-Чердынцева, потому что без скандала нет успеха.
Дело в том, что наша предыдущая лекция сподобилась вызвать гнев сообщества «РУ. Пелевин». И они даже обещали сегодня обязательно прислать кого-нибудь из своих людей, чтобы дать мне по лбу, не знаю только – морально или физически. В любом случае, я вас, ребята, приветствую, потому что благодаря вам я многое понял.
Гнев этот мне понятен, потому что, коль скоро у нас есть святыня, любое прикосновение к этой святыне, ласкательное или, наоборот, грозное, является для нас оскорбительным – мы одни понимаем то, о чем идет речь. Сходная ситуация царит, например, в сообществе фанатов Михаила Щербакова, пелевинского ровесника, очень близкого ему, на мой взгляд, по духу, и мало кто сделал больше для дискредитации Щербакова, нежели это сообщество. Как всегда, такое сообщество невелико, в нем два десятка активных, с позволения сказать, членов, каждый из которых, естественно, настаивает на единственности своей концепции. Но именно благодаря этому сообществу я понял генеральную вещь о Пелевине.
Именно поэтому лекция № 2 будет так мало похожа на лекцию № 1.
Я понял, что фундаментальная задача Пелевина в позднем его периоде, – который я отсчитываю от «Священной книги оборотня», а вовсе не от контракта с «Эксмо», как думают многие, – главная фундаментальная задача это именно создание секты. Когда-то довольно изящно выразился создатель сайентологии Рон Хаббард, или ему приписывается эта мысль, потому что она довольно откровенна, и вряд ли Рон Хаббард проговорился бы так даже перед узким кругом: «Хотите денег – создайте новую религию». Я не уверен, что Пелевин создает религию, это не входит в его задачи, потому что он достаточно скептически относится к большинству религий, как я думаю.
Пелевин создает секту именно потому, что главная цель любой религии и уж точно любой секты – это повышать самоуважение дураков. Мне очень горько это говорить. Пожалуй, исключение здесь составляет христианство.
Повышать самоуважение дураков может любая религия, кроме христианства, потому что в христианстве для повышения самоуважения приходится делать слишком много разных опасных вещей, которые постепенно делают тебя умным. Что же касается большинства остальных религий и тем более сект, их главная задача – сделать так, чтобы человек, сильно не меняя своего образа жизни, вдруг начал тем не менее считать, что он умнее остальных, потому что ему нечто открыто.
Все последние книги Пелевина преследуют очень простую задачу: дать основной категории читателя, то есть той «таргет-группе», которая исчерпывающе описана еще в «ДПП (NN)», сознание, что они чем-то лучше остальных. Именно поэтому каждый в сообществе «РУ. Пелевин» считает себя единственным настоящим понимателем Пелевина, а ко всем остальным обращается в лучших традициях этого автора, как сам Пелевин сказал, «кидаясь калом со дня своих ям».
Это правильное состояние. Надо только помнить, и Пелевин это прекрасно помнит, как самый умный писатель нашего времени, что создание секты всегда предусматривает создание трех категорий потребителя. Без того, чтобы эти три категории создать, ни одно сектантское мероприятие не может быть по-настоящему успешным. Увы, это касается и русской оппозиции, которая тоже, в сущности, являет собой секту, только не самую опасную, не самую вредную.
Значит, во-первых, нужно создать иллюзию, что существует некая всеобъясняющая идея, и скормить эту идею большинству. Во-вторых, нужно создать круг близких, которые, так сказать, допущены – и в каждой секте обязательно есть круг допущенных, которые понимают, что скрамливаемая большинству идея неверна, что она являет собою лишь софистику и манипуляцию, зато вот они в своем тесном круге понимают все правильным образом: людям надо дать великую обманку, чтобы они не отвлекали немногих избранных. Есть, наконец, третья категория – это те, кто верит всерьез, это святые.
Без этих трех категорий: условное «быдло», условная «элита» и условные «святые» – никакая секта не может существовать. Вера, религия предполагает более широкий спектр категорий, и мы могли бы об этом поговорить на отдельной лекции, ну, например, когда будем говорить о Гарри Потере, что тоже, в сущности, есть религия, в отличие от пелевинской секты. Именно поэтому книги Пелевина пока еще не достигают поттеровских тиражей. Просто, видимо, потому, что Роулинг обладает какими-то человеческими эмоциями, а Пелевин не обладает, поэтому на секту его хватило, а на религию – нет.
Но важно при этом именно то, что мир Пелевина, мир «баблоса», мир вампиров, как он у него описан, он структурирован ровно так: есть люди, есть халдеи и есть вампиры, которые верят в то, что они – вампиры, которые верят в свою абсолютную исключительность. Я абсолютно убежден, что у «Бэтмана Аполло» появится продолжение, трилогия дорастет тем самым до классической гегелевской триады, и мы получим полное разоблачение самой идеи вампиризма, то есть мы узнаем, что Рама еще вдобавок и не вампир.
Пелевинская секта дает самоудовлетворение дуракам, и Пелевин прекрасно это сознает, он понимает, что главная цель всякого современного человека, в отличие от человека советского, – это поиск высшего смысла, который бы наполнил его жизнь. У советского человека этот смысл был. Пусть он был довольно примитивен, но это был смысл – либо совпадать с системой, либо бороться против нее, либо, как вариант, уходить от нее в сторону, но тоже при этом, разумеется, имея ее в виду. Так или иначе советская власть давала человеку либо смыл, либо антисмысл, она вписывала человека в исторический контекст, кстати, гораздо более широкий, нежели история России с 1917 года: мы все осознавали себя наследниками Просвещения, в каком-то смысле наследниками Джордано Бруно и даже, в самом широком смысле, наследниками Прометея, поскольку мы несли миру огонь. И, как совершенно правильно пишет Денис Драгунский, просвещение, хотим мы того или нет, было главной концепцией советской власти. Борьба с просвещением, которая наступила потом, абсолютно лишила человека смысла. Стало непонятно, зачем он, собственно, живет. И мысль Озириса, которую высказывает он в «Empire V» как раз и состоит в том, что сразу после нашей смерти весь мусор наших представлений сметается и исчезает стремительно.
Я полагаю, что решение Пелевина построить секту – это решение, во-первых, вполне осознанное, а, во-вторых, единственно верное в его ситуации, поскольку его выдающиеся литературные и интеллектуальные способности были совершенно исчерпаны тем, что он сделал до «Поколения…», ну, может быть, включая еще «Числа», дальше нужен был очень серьезный качественный скачок.
Этот скачок мог достигаться либо через радикальное обновление формы, через какую-то гениальную техническую догадку, через появление совершенно нового нарратива, через невероятное эмоциональное богатство, – словом, через какую-то литературную революцию; и был второй вариант – вариант перехода к трактату, вариант перехода из литературы, которая казалась исчерпанной, к поиску новых средств воздействия, внехудожественных. И в этом, на мой взгляд, заключалась главная ошибка.
Дело в том, что для Пелевина очень много значит Гоголь как один из предшественников сатириков и мистиков, и еще больше значит Толстой, потому что Толстой не просто герой «t», конечно, он, может быть, вообще любимый пелевинский автор. В том числе и потому, что толстовское учение с его радикальным отрицанием современности, с его ненавистью к быту – оно близко отчасти к мировоззрению Пелевина. Но в еще большей степени потому, что Толстой, чего уж там говорить, это все-таки самый удачливый российский автор. Толстой – это самый крупный, и с Буниным здесь невозможно поспорить, самый крупный когда-либо рождавшийся в России художественный талант. И если конкурировать – то с ним.
И вот здесь, как мне кажется, произошел роковой сбой в прицеле. Вследствие чего вместо позднего Толстого получился поздний Пелевин. Вот как это, собственно, вышло…
Существует довольно наивная, очень распространенная точка зрения, что в творчестве Толстого, в его биографии произошел философский переворот, вследствие которого Толстой начал писать иначе. На самом деле все произошло совершенно не так. Была исчерпана одна художественная манера, была написана самая совершенная книга – «Анна Каренина». В поисках художественной манеры Толстой пришел к радикальному опрощению, не путать с упрощением, к прямому высказыванию, к полному отсутствию всяческих сюжетных и стилистических фиоритур, то есть к новому типу голой прозы, которая к тому же щедро разбавлена авторской публицистикой. Это новый стиль. И, обретя этот новый стиль к 1882 году, Толстой вынужден был под него подогнать свое философское учение. Художник опередил философа, а не философ продиктовал художнику.
Вообще, так никогда не бывает, чтобы автор мыслил, а после этого внутренний его художник начинал писать. Всегда бывает наоборот. Всегда художник, тот вампир, который внутри нас сидит, – об этом мы сейчас подробно поговорим, – он всегда чувствует недостаточность прежних художественных средств, а философию он подбивает под них потом. Точно так же Пушкин, приходя к «каменноостровскому циклу», под эволюцию своего стиля, под эволюцию своих жанров подгонял свое мировоззрение и не успел закончить этой работы. Пушкин не умер государственником, Пушкин умер религиозным поэтом, а религиозный поэт, естественно, мыслит иначе.
Вот здесь, на мой взгляд, телега была поставлена впереди лошади. Мыслитель в некотором смысле опередил художника. Потому что стилистически Пелевин остался прежним. У него и так было очень много рассуждений, была всегда тяга превратить роман в трактат, всегда было общение учителя и ученика, всегда были прекрасные уколы точности, афоризмы, издевательские описания, всегда недоставало пластики и всегда недоставало эмоций. Никакого стилистического рывка в «Священной книге оборотня» не происходит, не происходит его и потом в романе о Толстом. А вот эмоциональный и философский рывок, да, он произошел. Вместо доминирующей интонации ностальгии, сострадания, несколько высокомерной, но все-таки жалости, появилась интонация тотального презрения, тотальной ненависти, причем ненависти брюзгливой, ненависти к самому проекту «человек».
Это может дать замечательные результаты в смысле привлечения к себе адептов.
Мы все глядим в наполеоны; Двуногих тварей миллионы Для нас орудие одно…Всякий самый затхлый представитель офисного планктона, прочитав Пелевина, начинает искренне и от души презирать офисный планктон. Причем презирать его весь, вместе даже с его оппозиционными стремлениями: «Это все так мелко, это все так смешно, ведь существует только один поток бесконечно белого света, а весь этот офисный планктон – такая мерзость!» – думает офисный планктон. И это, безусловно, выдающееся открытие, нельзя назвать его только художественным открытием, потому что это открытие маркетинговое.
В том-то и проблема, что Толстой в своем прыжке через стиль, через поиски новой художественности, через поиски нового синтетического романа, который включает в себя и документальное расследование, и публицистическое обличение, и любовную историю – Толстой придумал то, в чем впоследствии так преуспел Трумен Капоте, Толстой написал «Воскресение», а после этого вся череда документальных, детективных, криминальных романов ХХ века стала возможной.
Толстой, совершив этот рывок, сделал прежде всего стилистическое открытие: он стал прямо говорить все, о чем до этого умалчивали, он обнажил прием, в этом обнажении приема он дошел до прямого кощунства, разоблачая даже религиозные приемы: у него священник стал «пить кровь Бога и есть его тело». Сцена причастия в тюрьме – это самое страшное и кощунственное, что есть в русской литературе, потому что, между нами говоря, причастие в тюрьме – это тоже страшно и кощунственно.
Иными словами, мировоззренческая эволюция Толстого была отражением его радикальных поздних художественных поисков. Но в том-то и беда, что все поиски, начиная с «Empire V», перестали быть сколько-нибудь художественными, и объяснить это тоже очень просто: а зачем? Зачем, собственно, ради этих людишек, которые так или иначе разводимы вампирами, разводимы в обоих смыслах – в блатном и в биологическом – зачем ради них напрягаться?
Им можно подкинуть череду тяжеловесных софизмов, и из этих софизмов они будут делать сколь угодно глубокие выводы. Надо сказать, что уже в ««Empire V» упомянута набоковская «Ада», упомянута в достаточно негативном контексте: там мы видим голую двенадцатилетнюю нимфетку с головой старого Набокова, и, может быть, это действительно самое точное изображение стилистики «Ады», «адской» стилистики. И в «Аде», которую, конечно, Пелевин внимательно прочел, есть замечательная четвертая часть – это трактат Вана Вина «Ткань времени» – 40 страниц практически непереводимого бреда о природе времени, после которого читатель остается в абсолютном недоумении, ничего не запомнив, ясно только, что ему только что рассказывали что-то очень умное, но совершенно бессмысленное, потому что ни одержать победу над временем, ни правильно соотнести его с пространством, ни преодолеть смерть и увидеть то, что за ней, этот текст не помогает – он повышает самоуважение автора и читателя.
Нужно сказать, что стилистика «Текстуры времени» предельно похожа на стилистику такого, например, диалога. Я, кстати говоря, с большим наслаждением это читаю именно потому, что на моих глазах работает профессиональный фокусник, который вместо того, чтобы вынуть кролика из шляпы, чем занимается художник, доказывает мне, что шляпы не существует.
Смотрим. Вот о чем, собственно, речь.
– Это недоступно человеческому уму, так что не старайся этого понять, просто поверь мне на слово. Нам кажется, что слова отражают мир, в котором мы живем, но в действительности они его создают. Точно так же слова создают Бога. Именно поэтому Бог так сильно меняется с диалектами языка.
– Все дело в словах?
– Конечно, так говорится даже в человеческих священных книгах… «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог… Все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть…» Ты понимаешь, о чем это?
– Я понимаю, что значит «и дух Божий носился над водою», – ответил я. Эниль Маркович показал. А про это мы не говорили.
– Эти слова объясняют принцип работы ума «Б». Ключевая фраза здесь «и слово было у Бога, и слово было Бог». Она означает, что ум «Б» состоит из двух отражающих друг друга зеркал. Неужели непонятно? «Бог» – это слово, которое создает Бога».
(Это идет разговор на уровне: «Где эта лошадь?» – «Да вот же она!» Помните, из «Чапаева и пустоты»?)
– То, что люди называют Богом, появляется в уме Б точно так же, как образ кирпича появляется, когда раздается слово «кирпич». Разница в том, что кирпич имеет форму, а Бог – нет.
(«Ну да, конечно, – кричит офисный планктон, – я всегда о чем-то подобном догадывался!» Но сформулировать, о чем он догадывался, он, разумеется, не может).
– Но когда мы говорим «Бог», у нас появляется образ чего-то такого, у чего нет формы. Именно эта особенность ума «Бог» и делает Бога условно видимым.
– Мне кажется, – сказал я, – что теологи понимают фразу «и слово было Бог» несколько глубже.
(Рама, в бытность свою вампиром, уже научился косить под умного)
– Никакой глубины там нет.
(Естественно, мы всегда об этом знали, все это одна только чистая объе…вка, а вот Пелевин – это серьезно).
– Есть только слово «глубина», и то, что ты проделываешь над собой, когда его слышишь. Зря проделываешь, между прочим. Вампир должен быть начальником дискурса, а не его жертвой».
– А можно я задам глупый вопрос? – спросил я.
– Будем считать что все остальные твои вопросы были умными, – отвечает Озирис и этим окончательно дезавуирует как себя, так и автора.
В сущности, афоризмы типа «Глубины там нет, есть только слово «глубина» – можно в коммерческих объемах производить на любой стадии посвящения, и любой поклонник Пелевина, прочитавший две-три его последних книги, может это делать абсолютно профессионально, отсекая всех остальных, которые, конечно, ничего не поняли. Но не видеть этого очевидного приема нельзя. Точно так же, как практически нельзя не видеть главного, совершенно, почему-то от всех ускользающего смысла, главной метафоры, которая лежит в основе «Empire V». Я уж не говорю про «Бэтман Аполло», потому что это, на мой взгляд, слишком очевидная художественная неудача, там слишком много всего происходит и при этом не происходит ничего, софизмы отсутствуют, а вместо них какие-то натянутые шутки, но, во всяком случае, я понимаю, что это мнение чисто субъективное, мне даже очень понравилось, как в том же сообществе «РУ. Пелевин» кто-то из сектантов спрашивает: «Неужели каждый вот так вот может выйти на сцену и стричь бабло на Пелевине?» Попробуйте, не так-то это просто. (аплодисменты). Так вот, мне кажется, что достаточно очевидный и достаточно лобовой смысл «Empire V» я тем не менее понимаю. И вы сейчас его поймете. Почему-то вся критика мимо этого прошла. Здесь я уже впадаю в любимую крайность, утверждая, что я единственный так понял гения, а ведь гений, собственно, для того так и пишет, так обтекаемо, размыто и натянуто, с такими надутыми щеками, чтобы, как в «Шлеме ужаса», каждый искренне полагал, что он один правильно понял все, тогда как только они все вместе и есть единое существо.
Мне кажется, что метафора довольно очевидна. Есть язык, который существует независимо от своих носителей. Есть носители этого языка, которые все время с его помощью постигают мир. По-моему, совершенно ясно после этого, кто такие вампиры. Кто это? Особенно если учесть, что Рама – персонаж с довольно сильной внутренней линией. Пропагандист. Персонаж, очень напоминающий мне Вилена Татарского, у которого из-под ног вдруг ушла вечность.
Кто же эти люди? Носители языка, которые с помощью языка постигают мир? Ну конечно, видите, как все просто! Достаточно оказалось пересказать человеческим языком.
Это исповедь писателя. Это то, что с ним происходит. Писатель вынужден питаться баблосом, потому что иначе ему жить не на что, но свое откровение он получает не от баблоса. Я думаю, что Пелевин, как писатель, который чувствует себя существующим только тогда, когда он пишет, когда он генерирует текст, а в остальное время существует чисто машинально, Пелевин подарил нам одно из самых точных описаний писательского труда. Когда Рама (где-то на последних двадцати страницах книги, впервые попробовавший баблос) чувствует себя пролетающим сквозь мыльные пузыри чужих душ, чужих представлений, чужих умов, он пролетает через них, выхватывая ту капельку смысла, которая есть в этих существованиях – помните?
Конечно, писатель – вампир. И, конечно, эта мысль о писательском вампиризме восходит к Андрею Синявскому, который так точно написал о вампиризме Пушкина. Почему Пушкин так любит вампиров? Почему он с таким восторгом взялся переводить несуществующего, выдуманного Мериме Иакинфа Маглановича? Почему «Вурдалак»? Почему вурдалак так занимает его воображение? Да потому что Пушкин, как пишет Синявский, полон пустотой, содержимое Пушкина – пустота, он насасывается чужими жизнями, как всякий истинный автор, он никогда не сопереживает одной стороне, а всегда сочувствует двум, именно потому, что это амбивалентность, амбивалентность всякой пустоты. И поэтому Пушкин был так страшен Энгельгардту, поэтому Энгельгардт, второй директор Лицея, писал о нем: «Это самая пустая душа, которая мне встречалась!» Да, совершенно верно! Писатель и есть пустая душа, потому что иначе он не наполнится другими. Вампир, который всасывает чужую жизнь, который питается чужой кровью, и есть писатель, это отчасти для нас, кстати говоря, объясняет привлекательность волка-оборотня в «Священной книге оборотня». Многие из тех, кто послушал первую лекцию, задали потом вопрос: «Почему же волк такое воплощение зла?» На самом деле он злой именно потому, что он – оборотень, начнем с этого. Оборотень не может иметь особо позитивных коннотаций. И еще он зло потому, что он ничего не производит, а только сосет, но, к сожалению, это и есть внутренняя линия, которая Пелевину чрезвычайно близка, он всасывает чужую жизнь, потому что он доит эту корову, доящуюся нефтью, как вампиры доят людей, а нефть – это кровь земли, что мы уже с вами читали в «Македонской критике французской мысли».
Вот эта чужая кровь, или чужая нефть, она в пелевинской системе ценностей сближает, как это ни ужасно, силовика-оборотня с писателем-вампиром. И тот, и другой сосут. Но при этом, конечно, полагают, что рулят.
Вот эта удивительная способность вбирать чужую жизнь и делать из этой чужой жизни тексты, созидать художественные миры – это и есть внутренний сюжет «Empire V». В этой книге есть еще по-настоящему живая эмоция, эта эмоция – бесконечная тоска от того, что никакого внутреннего содержания у героя нет, а он мучительно его хочет, он неспособен любить, а способен только думать, как он в этот момент выглядит, но ему присуща страстная тоска по любви, и его отношение к Гере – это именно тоска по любви: он мучительно хочет что-то выдумать, но выдумать ничего он не может, лишь бесконечно всасывает чужое содержание, он не может ничего породить. Он и в прежней своей жизни, в человеческой-то, ничего особо творческого из себя не представлял, мы знаем только одно его вступительное сочинение, когда он мечтал поступить в Институт стран Азии и Африки, и там что-то человеческое, возможно, было, все же остальное время он, в принципе, только поглощает.
И вот эта страшная драма человека, который изображает жизнь, вместо того, чтобы жить, это горе пустоты, которая рыдает, которая мечтает наполниться, но никогда не может этого сделать, – это очень яркая, очень значительная внутренняя тема «Empire V».
И, собственно, вся Россия, которую Пелевин, безусловно, любит, просто потому, что она, как и он, носитель языка, вся Россия в его последних текстах, особенно это заметно в «Бэтмане Аполло», тоже мучительно страдает от собственной пустоты, ведь она ничего, кроме нефти, не производит, ведь она ничем, кроме сосания, не занята, ведь она и есть как раз такой вампир.
Это мука холодного ума, который все понимает и ничего не может, мука холодного одинокого интеллектуала, бесконечно рыдающего и над этой судьбой, и над этим временем. Главное же, он помнит, что когда-то он был полон волшебного вещества, и мы с вами об этом говорили применительно к «Generation P», – главный герой помнит, что когда-то он состоял из этого облака, и этот мир детского сада или школьного ада, или пионерлагеря, где рассказывают страшилки, – этот мир остается его раем, он вечно о нем ностальгирует, о нем мечтает. Это было чувство наполненности каким-то странным, полуоблачным, размытым веществом мечты.
И вот когда оно закончилось, когда люди, рассаженные по своим клеткам в московской 18-этажке – это образ из «Empire V» – люди, рассаженные по свои клеткам, почувствовали, что никакие нити больше ими не управляют, – вот здесь и наступила та страшная пустота, которая, еще в «Чапаеве и Пустоте», начала свистеть в пелевинском творчестве. Огромная полость, которая ничем не может быть заполнена.
Были ли здесь альтернативы? Мог ли этот автор пойти по другому пути? Вот здесь возникает довольно печальный вопрос, потому что ведь мы прекрасно знаем огромные способности Пелевина, знаем огромные его возможности. Но понимаем мы и то, что путь всякого сколько-нибудь серьезного автора всегда пролегает через роковой перелом. Не может быть так, чтобы этого перелома не было. Автор достигает в чем-то совершенства и после этого начинает новую жизнь. Как правило, на этом происходит его роковая разлука с читателем, его любящим: появляется или новый читатель, или толпа ненавистников.
Так в 1830 году отчетливо переломился путь Пушкина, и Пушкина стала больше интересовать история и меньше стала интересовать выдуманная фабула. Лермонтов до такого перелома не дожил, однако в поздних стихах мы видим предвестие такого совершенства, за которым неизбежно наступает молчание, и после этого молчания – выход на какой-то новый уровень. У Толстого мы знаем этот перелом. Про гоголевский я уж не говорю. Достоевский умер в процессе этого перелома, который должен был разделять две части «Братьев Карамазовых». Мы знаем, к сожалению, страшный перелом в творчестве Горького, который привел его к полной деградации.
И вот, пожалуй, на примере Пелевина мы наблюдаем этот перелом наиболее наглядно. Вот здесь, посмотрите, какая возникает страшная закономерность: я понимаю, что эта закономерность, наверное, чересчур социологична, что эта закономерность чересчур пряма, но тем не менее ничего не поделаешь: влияние атмосферы в обществе на писателя всегда сохраняется. Если общество стоит перед рывком вперед – происходит выбор со знаком плюс. Если общество стоит на грани деградации – происходит деградация. Как это было, например, с Мережковским в начале 20-х, когда вместо великого автора мы получили автора, на глазах глупеющего. Это катастрофа, ничего не поделаешь. Потому что мир впал в это же состояние.
Пелевин придумал гениальную формулу: «У вампира есть девиз – в темноту, назад и вниз!». Надо сказать, что замена девиза «Excelsior!», («Все выше!»), замена вечного девиза просветителей – «К свету, вперед и вверх» – осуществилась именно тогда, когда произошла метаморфоза с Пелевиным, когда советское просветительство, каким бы оно ни было, закончилось, когда закончился культ подвига, культ героизма, культ знания и наступил культ примитива, «баблоса» и всяческого мракобесия. Потому что, как совершенно правильно писал Пелевин в одном из ранних своих эссе, советская власть, как бульдозер, разгребала под собою все новые слои почвы и проваливалась все глубже от христианства в оккультизм. Сейчас от оккультизма, добавим мы от себя, оно провалилось еще глубже – в секту вампиров, в секту тотального потребления.
Как всякий большой писатель, Пелевин абсолютно точно следовал вектору своего читателя. Этому читателю все нужнее было думать, что он самый умный, и все нужнее было учиться презирать, потому что без презрения его самооценка не выдерживала больше напора обстоятельств.
Мне очень грустно об этом говорить, но я, пожалуй, больше всего не люблю именно презрение, потому что презрение – это то априорное высокомерие, на которое никто из нас не имеет права. Все мы кого-то презираем. Это наше ежедневное упражнение для того, чтобы просто вставать с постели, чистить зубы и как-то продолжать жить.
Кто-то презирает, – и, кстати говоря, это великолепное презрение очень сказалось в «Бэтмане», – кто-то презирает оппозицию. Необязательно для этого считать ее предательницей, иначе придется считать предателями практически всех, кто еще не воюет, но, по крайней мере, приятно говорить, что все эти люди просто захотели остроты, захотели оживить свой быт, захотели, чтоб уволили с работы, кого-нибудь чтобы посадили, ну все это только ради остроты, ради пикантности, все эти люди на самом деле любители госдеповских печенек на ментальном уровне и фуа-гра – на гастрономическом.
Мы презираем власть, если мы стоим, наоборот, на стороне оппозиции: все эти люди умеют только сосать нефть и не умеют дать стране настоящую задачу.
Мы презираем родню, потому что родня вечно отстает от наших высоких запросов: жена всегда не вовремя лезет с требованием что-то купить, мать всегда не вовремя лезет с вопросом «как дела?», дети не вовремя лезут со своими школьными проблемами – как будто мы все время заняты чем-то действительно серьезным, как будто нас можно от чего-то отвлечь… Хотя даже если всех нас уничтожить в один прекрасный день, мир этого просто не заметит. Как замечательно сказал Борис Борисович Гребенщиков: «Когда смотришь на число людей, погибших во время стихийного бедствия, как бы от щелчка пальцами – всегда понимаешь: но ведь это как “тьфу”…» И это очень точная формула. Действительно, вот просто щелкнули пальцами – и нет 10 000 человек. И мир как-то продолжает жить совершенно спокойно. А мы все презираем окружающих за то, что они нам мешают заняться чем-то единственно важным.
Вот эта интонация презрения к человеку, которая не базируется на самом деле ни на какой религии, потому что ни в каком буддизме, ни в каком христианстве, ни в каком исламе нет презрения к частному человеку – эта интонация стала преобладающей. И не только у Пелевина. Трагедия в том, что когда человеку не за что себя уважать, он обязан презирать, у него нет другого выхода. На этом основано его, по-пушкински говоря, «самостоянье». Для того чтобы себя приподнять, он обязан других опустить. И поэтому люди у Пелевина начинают становиться персонажами компьютерной игры или сериала, как в «t», тлями, муравьями, животными, которых разводят вампиры для своего удовольствия, или компьютерными проекциями чужого воображения, как происходит в «Любви к трем цукербринам», потому что там как раз мы особенно остро чувствуем, что не осталось уже ничего, кроме компьютерных сценариев. Ну, осталась, как мы говорили, девочка Надя, как говорили мы на предыдущей лекции, чистое, доброе, святое существо, но опять-таки, что поделать, после пяти лет деградации очень трудно написать что-нибудь живое.
Девочка Надя, которая рассаживает пластмассовых животных под цветами, – это такое безнадежное сю-сю, что, право, «чтоб до истин этих доискаться, не надо в преисподнюю спускаться», как писала Новелла Матвеева. Если девочка Надя с ее растениями, с ее растительной жизнью – это все, что мы можем противопоставить офисному планктону, то это бесконечно грустно. Потому что раньше символом какого-никакого добра у Пелевина были все-таки насекомые и навозные жуки, а теперь еще глубже, теперь растения. И чем растительней, тем лучше. Потому что Надя и сама ведь абсолютное растение и жизнь она ведет растительную. Поэтому с растениями ей так по пути, она умеет с ними разговаривать, она к ним добра, они ее любят. Но, к сожалению, это тот самый толстовский идеал, о котором Лев Шестов сказал: «Всеобщая кроткая животность». Боюсь, что здесь уже пошла всеобщая кроткая растительность.
Какова же могла бы быть альтернатива? К сожалению или к счастью, художественная литература потому и является художественной, она потому и противостоит в известном смысле религии или, во всяком случае, выступает ее альтернативой, что поиски художественной культуры лежат в иной сфере. Мы знаем, что должна делать любая религия, любая секта. Ровно три вещи должна она делать, и все эти три вещи мы наблюдаем у Пелевина.
Во-первых, она должна давать, как мы уже говорили, источник самоуважения, ощущение продвинутости. Во-вторых, она должна давать концепцию бессмертия. Концепция бессмертия у Пелевина появилась немедленно, появилось лимбо, в котором можно соприкоснуться со всем былым опытом, со всеми былыми ощущениями – такое безвременье, такой Аид своего рода. И третья вещь, которая совершенно необходима для секты или религии: она должна давать единую всеобъясняющую картину мира, а в этой всеобъясняющей картине мира у Пелевина как раз все понятно: есть тотальное потребление и больше ничего.
Художественная литература, вот что удивительно, лежит совершенно в иной сфере. И вот в чем, собственно, причина главной неудачи толстовской секты. Я скажу сейчас очень важную вещь, я боюсь, что многие ее просто не то что не поймут, а не услышат, дело в том, что толстовство – это не та сфера, которая занимает сегодня многих. А напрасно – есть о чем подумать. Толстовская секта не удалась потому, что толстовцы искренне надеялись получить от участия в ней то же художественное наслаждение, которое они получали от толстовских текстов.
Ничего подобного не произошло. Толстовская секта в идеале должна была приводить – вследствие колки дров или размешивания глины босиком, или строительства крестьянских жилищ – приводить к тем же тонким, прекрасным эмоциям, приводить к той же эйфории, к которой приводило чтение некоторых эпизодов «Анны Карениной» или первый бал Наташи из «Войны и мира», или нехлюдовский сон в последней части «Воскресения».
Ничего этого не получалось. Люди месили глину и уставали, кололи дрова и сердились на себя за то, что они не умеют этого делать. А экстаза не было, эйфории не было. Им казалось, что путь через толстовскую секту – это путь к толстовскому художественному гению. И никак они не желали признать, что секта есть побочный результат художественной деятельности Толстого. Ему нужна была эта секта, чтобы оправдать новую художественную манеру. Но сам он о себе говорил: «Я не толстовец». Сам он очень любил, когда к нему кто-нибудь приезжал и начинал рассказывать, как ему стало хорошо в толстовской секте, любил встать и, перегнувшись через стол к другому художнику, в данном случае Горькому, очень громким, демонстративным шепотом сказать: «Все врет подлец! Но это он для того, чтобы сделать мне приятное». Классический толстовский ход.
Когда мы читаем дневники и воспоминания Черткова, мы с ужасом понимаем, что Толстой-мыслитель Черткова совершенно не интересовал, его интересовал Толстой-художник. Ему так нравилась толстовская проза, что к этому источнику абсолютной творческой силы ему хотелось быть поближе. А способ быть поближе оказался всего один – помочь ему в организации издательства «Посредник», и он начал этим заниматься без любви, без интереса. Он просто очень любил читать Толстого. И думал: «Если этот человек так титанически пишет, ну уж, наверное, он что-то знает!»
Но оказалось, что это совершенно другое дело, что художественная сила, медвежья толстовская мощь – это не та вещь, которой можно поделиться, это не та мощь, которую можно обрести, даже переколов весь яснополянский лес.
И вот главная-то проблема заключается в том, что художественное озарение, художественный талант дают нам куда больше, дают нам ту эйфорию, которую у Пелевина герои получают от «баблоса». Но прийти к этому путем строительства секты невозможно. Невозможно достичь наслаждения через презрение. Невозможно получить источник художественной силы, просто манипулируя такими понятиями, как гламур и дискурс.
И обратите внимание, что пока Пелевин рассказывает про трех китов, на которых стояла советская власть, пока он замечательно остроумно и с большим состраданием описывает мать главного героя, неумную несчастную диссидентку, – все хорошо, перед нами литература. Но как только он начинает рассуждать о гламуре и дискурсе, перед нами хороший фельетон, и ничего больше. Блаженны те немногие люди, не будем уж их называть, которые умеют каким-то чудом сочетать художественное творчество с фельетонным, но это делается разными половинами мозга, разными его участками. Попытка совместить это в пределах одного текста приводит к тому, что текст утрачивает и ту немногую художественность, которая была в него заложена изначально.
По замечательной формуле Алексея Константиновича Толстого, бессмысленно сажать огурцы посредством геометрических вычислений. Точно так же бессмысленно путем отвлеченных рассуждений прийти к эйфории. Одно описание молящегося богомола, насекомого, на последних двух страницах «t» перевешивает всю эту книгу с ее тяжеловесной иронией. Но, к сожалению, время не располагает к таким текстам. Время располагает к тем текстам, которые бы раскупались читателями ради чувства своей принадлежности к интеллектуальной элите. До тех пор, пока это время не закончится, фабрика под маркой «Пелевин» будет выдавать тексты, повышающие самоуважение ничтожеств, тесты, которые позволяют этим ничтожествам настаивать на своей единственно верной картине мира, хотя в этой картине мира нет ничего, кроме жадности, зависти и отвращения. Но время изменится, и художник, я верю, последует за ним.
Вот на этой оптимистической ноте, как заканчивается и «Шлем ужаса», я бы закончил то, что хочу сказать я, и выслушал то, что хотите сказать вы.
Вопросы
– «Фабрика» – это словесный оборот, или вы действительно считаете, что «Пелевин» это проект?
– Нет, «фабрика» – это не обязательно коллективный труд. Я имел в виду другое. То, что все эти романы строятся по одинаковой схеме и по давно известному рецепту, – это у меня никаких сомнений не вызывает. Я не вижу художественной новизны в «Любви к трем цукербринам». Я вижу в ней некоторый шаг вперед – прочь от вечной борьбы с офисным планктоном.
Понимаете, в чем штука в «Цукербринах»? Почему «фабричность»? Я понимаю, что этот роман написан для Кеши, главного героя, Кеша там очень много занимается онанизмом, ну, просматривая разные вещи в интернете. И когда он видит следы, так сказать, этих занятий, он думает, что пора бы, наверное, заканчивать с виртуальным сексом или хотя бы сделать генеральную уборку. В чем штука вот этого вот точного уподобления? Дело в том, что когда человеку говорят о смешном и стыдном пороке, человек, как правило, не обижается, потому что он понимает: оказывается, все у всех так. И вот чтобы Кеша, который это читает, почувствовал укол, в буквальном смысле, самоудовлетворения, укол того, что он не один такой, а значит, он все делает правильно, – вот ради этого, собственно, и написана книга.
Но это не позволяет читателю прыгнуть выше головы. Это не позволяет ему выпрыгнуть из себя. Читая Пелевина, мы все время себе признаемся в низком и мерзком – это верно. Признаемся радостно, потому что оказывается, не мы одни такие. Но вот то, что мы за это низкое и мерзкое пытаемся себя уважать, – это как раз очень дурной тон.
Почему эти книги – «фабрика»? Потому что конвейер не предполагает никакого разнообразия. Маркетинговая стратегия – не требует разнообразия. И дальше это все будет превращаться в бесконечные джинсы со стразами. Вот один раз получились джинсы со стразами – теперь со стразами будет все: джинсы, трусы, стринги, ботинки… Так вот я о том и говорю, что как раз фабричного в этих произведениях то, что это произведения трендовые.
– Пелевин не занимается художественными поисками – он занимается высказыванием личного мнения.
– Ради Бога, но тогда зачем это называть романом? Тогда честно напишите: рубрика «Сокровища философской мысли» – маркетинговый результат будет соответствующий.
– Писатель не высасывает жизни, а накачивает читателя дополнительными жизнями. В идеале.
Так это в идеале, ребята… Это в идеале он насыщает его чем-то. А обычно, будем говорить правду, конечно, писатель сосет окружающих, он высасывает их жизни – эта метафора присутствует и у нашего любимца, нашего недавнего героя Стивена Кинга. Ведь что такое его экстрасенс Смит в «Мертвой зоне»? Это прообраз писателя, авторская карикатура. Помните, что чувствует Грег Стилсон, когда Джонни Смит прикасается к нему? Чувствует, что из него высасывают то-то, что-то вытягивают. И больше того, у нас и о Толстом есть подобная ужасная запись, когда то ли брат Мечникова, то ли кто-то из родственников Фета, я не помню точно, кого он посещал на смертном одре, говорил: «Пусть он больше не приходит. Он приходит смотреть, как я умираю. Ему это нужно для художественного наблюдения». А помните, как у Набокова Мартын, посетив писателя, через две недели в его рассказе увидел такой же свой галстук «серый с розовым» и почувствовал себя ограбленным?
Да, ничего не поделаешь, всякий, кто общается с писателем, чувствует себя высосанным, использованным. Это проклятие писателя, но это не значит, что офисный планктон должен приравнивать себя к этой проклятой касте. Вы, ребята, даже и сосать толком не можете – вы только смотрите с завистью, как это делают другие.
– Как вы относитесь к тому высказыванию, что Пелевин просто подмечает какие-то вещи, которые происходят в современном российском обществе и отражает их, как зеркало, а не пытается это генерировать, так сказать, самостоятельно?
– Пелевин делает всю жизнь одно и то же. Он не просто подмечает – он типизирует. Он умеет очень точно увидеть в водонапорной башне сходство с вавилонским зиккуратом, он умеет увидеть в детском саду сходство с тюрьмой, умеет увидеть в биографиях цепочку сходств-реинкарнаций – иными словами, он умеет замечательно нанизать реальность на шампур концепта.
Но фокус литературы состоит в том, чтобы прыгнуть за грань реальности. Когда Пелевин описывает покои Иштар Борисовны, мы чувствуем мучительную попытку выпрыгнуть за реальность, но, к сожалению, эти покои, эти анфилады пещерные так же скучны, как сама пещера.
Для того чтобы понять, чем отличается писатель созидающий от писателя креативящего, достаточно перечитать Александра Грина, который не обладает ни пелевинским остроумием, ни пелевинской афористичностью, ни пелевинской точностью, но обладает способностью как-то надуть ваши легкие кислородом, обладает способностью внушить вам, что жизнь не сводится к тому, что вы видите, в ней есть небесные краски. А весь Пелевин – это страшный вой волка-оборотня, который умеет быстро бегать, но летать не умеет. Это страшный вой человека, лишенного каких бы то ни было способностей. У него крылья нетопырьи. Это настоящая трагедия недохудожника. Трагедия великого, может быть, мыслителя, человека, который слишком сознает свои барьеры и не может выпрыгнуть за них.
И этот вой – он всегда подлинно художественный, очень музыкальный. Понимаете, отчаянье прыгуна, который не может прыгнуть, – это иногда замечательней самого высокого прыжка. Но все-таки это не прыжок. Сам Пелевин замечательно сказал о постмодернизме в «ДПП (NN)»: «Это когда ты делаешь куклу куклы. И сам при этом кукла». Это очень точная формула. Но, к сожалению, здесь есть и некий автопортрет, потому что Пелевин – это великий летописец упущенных возможностей. Это мучительный крик летучей мыши о том, что она не птица. Вот этот афоризм я вам, так сказать, дарю.
Но что поделать, если ты родился летучей мышью? Ну ничего не поделаешь. А что делать, если ты хочешь приблизиться к Толстому? Разумеется, вступать в толстовскую секту, потому что писать как Толстой ты не будешь все равно. Но должен вам сказать, что летучих мышей я люблю в некотором смысле даже больше, чем птиц. Заметьте, что в «Цукербринах» птицы – носители зла. И это не просто скачано с игры «Злые птички», это летучая мышь завидует птичке, а бог у нее свинья. Потому что он другого бога не видел. Ну что поделать…
Это не значит, что Пелевин хуже кого-то, наоборот, Пелевин честнее кого-то, потому что Пелевин, по крайней мере, летучая мышь, которая все-таки как летучая мышь летает. Но когда 90 % современных российских писателей, будучи лягушками, имитируют летучую мышь только на том основании, что у них есть перепонки, Пелевин на этом фоне высится как вавилонский зиккурат.
Просто подождите, изменится время, и появятся другие животные.
– Кому адресованы пелевинские тексты на Западе? Очень много переводится, в том числе и на Азию, на китайский, на японский.
– Это Восток.
Конечно, понимание текстов Пелевина на Западе крайне затруднено. Потому что главная проблема современной России – пустотность, героически осмысливаемая Пелевиным – вряд ли так понятна на Западе. Может быть, она более понятна на Востоке, где интерпретируется в буддистских терминах. Это долгая, трудная тема.
Я думаю, что воспринимают эти люди у Пелевина примерно, то же, что они воспринимают у всех писателей «поколения Х»: у Коупленда, у покойного Уоллеса, у Паланика в особенности – чувство великого замаха и огромного разочарования. Стране пообещали – и она вот во что превратилась. Это ведь и Запад пережил. Я говорил на предыдущей лекции, это тенденция общемировая. Харуки Мураками рефлексирует ее в Японии. ведь во всех текстах Мураками, обратите внимание, присутствует великое ожидание и великое разочарование. Особенно в последнем трехтомном романе про 84-й год. К сожалению, и тексты Мураками всегда оставляют ровно такое же впечатление. Ты думал, что сейчас тебе будет какое-то величие, а вместо него очередной пшик. И судьба Мураками пока отражает эту же ситуацию: ты думал, тебе сейчас Нобелевская премия, а она уходит к Модиано, который, при всем моем уважении к нему, написал, во-первых, меньше, а во-вторых, ну все-таки это далеко не так увлекательно, как «Охота на овец».
Мураками – это тот же вой, бесконечный вой человека о том, что он не овца. Или бесконечный вой человека о том, что он не Кафка. Этот вой ценен сам по себе. Но Нобелевскую премию дают за более оптимистический художественный результат. Вы думаете, они там не люди сидят? Они тоже люди. Им тоже хочется получать от литературы то, что должна давать литература – намек на возможность жизни.
А если литература вместо этого все время говорит: «Ну да, ну вот так вот, зато все остальные еще большее говно, чем ты» – это все-таки не совсем то.
Но подождите, я не теряю надежды, я уверен, что Пелевин к 60-ти напишет что-то ослепительно светлое, что русская действительность даст ему для этого толчок. И ему дадут Нобелевскую премию, которую он, безусловно, заслуживает. А мы все, как всегда, будем утираться.
– Смысл творчества Пелевина не в том, чтобы создать секту. Это побочный эффект, так же, как и толстовство. И, наверное, не в том, чтобы заработать бабло, которое, наверное, с таким талантом можно заработать больше, производя более тиражную продукцию.
– Не факт, не факт…
– А так вот, если серьезно, я себе задавал вопрос и не могу на него ответить. Много в его творчестве я увидел приколов и метафор, которые меня настолько поразили, что мне было приятно это читать и потом на эту тему подумать. А скажите вы, вот серьезно, а в чем его месседж? Есть у него месседж, помимо создания секты? И в чем он есть, с вашей точки зрения?
– Отвечаю еще раз совершенно сознательно. Все, что относилось к пелевинскому месседжу, было высказано до «Чисел» включительно. «Числа» написаны еще на этой прежней инерции. Это месседж довольно сложный, масштабный, связанный опять-таки с бесконечным рыданием по отвратительной, но грандиозной сущности, которая закончилась. Я понимаю под этим не Советский Союз, а ХХ век.
После этого, как я уже говорил, у писателя было две возможности: вырасти или превратиться в эксплуататора своих способностей. Рост пока не происходит. Происходит талантливая и иногда гениальная эксплуатация своих способностей и особенно – своих недостатков, потому что гениален тот писатель, который из своих недостатков умеет сделать выдающийся художественный результат. Не умеешь выдумывать – пиши такие трактаты, чтобы нельзя было оторваться. Не умеешь внушать ощущение чуда – внушай ощущение маразма, и внушай его убедительно. Не умеешь созидать – разрушай гениально. Это можно сделать.
Сейчас месседж Пелевина совершенно очевиден: вот вам плохой текст, которого этот плохой мир заслуживает, а ничего другого он не заслуживает. Ты – дрянь, а вокруг тебя все еще большие дряни. Это довольно понятный месседж, довольно убедительный. В мире нет ничего хорошего, кроме сосания, халдейства и тупости. Вампиры сосут, халдеи рулят, люди тупят – вот, собственно, весь набор. Есть ли в этом мире что-то человеческое, кроме прекрасной девушки, беседующей с цветочными горшками, представить очень трудно. Наверное, эта девушка добрая, я понимаю, что автора заинтересовало добро, он полюбил добро. Но это добро такого горшкового вида…
Понимаете, бывает ужасно обидно, когда человек смотрит на мир сквозь черные очки. Когда-то Кушнер мне сказал, не знаю, обидится он или нет, что я буду это цитировать вслух, он сказал: «Поздний Бродский напоминает мне человека, который все время рассматривает косточку от персика, совершенно забывая, что есть еще и персик. И ценен персик не косточкой». Вот это очень точная мысль. Действительно, Бродский умеет гениально доказать, что в жизни нет ничего, кроме смерти. Но ведь что-то все-таки есть. И сама энергия, с которой он это доказывает, уже как-то намекает на то, что есть еще и жизнь. Сам процесс, совершенно верно.
Хотя… «Я детей не люблю, но сам процесс…» – классическая фраза Жванецкого. Ведь мы понимаем, что все умрут, но от этого процесс размножения не делается менее приятным. Больше того, в жизни иногда бывают минуты, когда ты понимаешь совершенно отчетливо, что умрут не все, и, более того, что и ты, может быть, не умрешь и со всеми встретишься. Или уж во всяком случае получишь хоть какой-то ответ на свои вопросы.
Но совершенно очевидно, что эти минуты наступают не вследствие баблоса, а вследствие каких-то особенных стихов, какой-то прекрасной прозы. И даже у Пелевина есть несколько текстов, которые способны вызвать такое ощущение. Например, «Бубен Верхнего мира» или гениальный и трогательный рассказ «Онтология детства», или «История сарая», или «Вести из Непала». И даже «Зигмунд в кафе» – вы помните, конечно, попугай, который кричит все время «ага-ага» при виде тех или иных фрейдистских деталей, а потом говорят: «Да что вы на него обижаетесь, он же свою клетку загадил, а не вашу!» И хочется как-то вздохнуть и подумать: «Ну, действительно…»
То есть Пелевин – гениальный разрушитель клеток. Вопрос в том, что вместо них он строит клетки чуть повыше, пошире, повсемирнее. Точно так же, как Сорокин, его ровесник, с которым его вечно соотносят, гениально разрушает чужие, деконструирует чужие идеи, а при попытке построить свою пишет «Лед». Ну, некоторым нравится.
– Можно вопрос по поводу того, что Пелевин не смог выдать ничего в качестве хороших образов, кроме как уход за растениями? В «Ананасной воде» есть эпизод, когда человек отошел от больших дел и пробовал завести себе свинью, но она сдохла от тоски. Может быть, просто это веление времени?
– Да, может быть… Вы правильно упомянули «Ананасную воду», я хотел о ней поговорить, но уж не стал: «Ананасная вода» как раз прекрасный пример очень больших способностей, растраченных на доказательства каких-то скучных и необязательных вещей. Операция «Burning Bush» – очаровательная идея. Вот, действительно, внушают Бушу мысль о том, что он богоподобен. Но гнездящаяся глубже идея – это идея, что Богу в мире нечего было бы делать, кроме набора скучных жестоких глупостей.
Это неправда. Бог являет себя не через этику – Бог являет себя через эстетику. Достаточно посмотреть на закаты, которые почти никогда не повторяются, и почерк становится виден.
Чудо не в том, что кто-то кому-то дал денег или не дал денег. Чудо не в благотворительности, не в добре, не в зле, чудо – в красоте. Красота спасет мир и так далее. Красота – страшная вещь, – говорит об этом все время Достоевский. Красота необъяснима, она к этике не сводится. И вообще этика придумана для дураков, чтобы они делали меньше глупостей. Вот и все. На самом деле у этики нет никакой задачи и у нее нет божественного происхождения.
Господь, он же хочет от нас не послушания, Господь хочет, чтобы ему было интересно. Насколько ему интересно смотреть на вампиров и халдеев – большой вопрос. И, может быть, прав Пелевин, когда говорит, что скоро в наш дом придет огромный белый свет, который просто перестанет нас помнить, сделает нас несуществующими. Другое дело, что это не огромный белый свет, а что-нибудь бесконечно красивое, бесконечно прекрасное. По определению БГ, Бог – это лучшее, что вы можете себе представить.
Вот, может быть, и стоит представить себе что-нибудь хорошее, а не что-нибудь умное. И не что-нибудь смешное. Просто даже не что-нибудь хорошее, а что-нибудь красивое.
И если бы меня спросили, о чем бы я сказал бы Богу, появись у меня такая возможность, прежде всего я сказал бы: «Спасибо, с художественной точки зрения это было великолепно!»
Вспомните, где у Пелевина есть драматическое напряжение, где у него есть острый фабульный какой-то толчок? Где у него есть сильная эмоция, которую вы готовы почувствовать? Где там есть какая-то любовь, какое-то удовлетворение? Просто тех людей, которые не умеют любить, Пелевин очень утешает, утешает по Лермонтову: «любить… на время не стоит труда, а вечно любить невозможно». Это такая испепеленность людей, которые даже еще не горели, даже еще не пробовали гореть.
Я бы даже еще сказал, что это испепеленность негорючих веществ. Глина воображает себе, что она – пепел. Какой ты пепел? Ты вообще не горишь! Ты вообще органика сплошная, мокрая, сырая, неинтересная. И я не думаю, что невозможность любви, неспособность к любви может заменить любовь. Все, что говорит Пелевин об оппозиции, о власти, о гламуре, о дискурсе, – это очень убедительные разговоры человека, ну, скажем так, давно охладевшего к женщинам, не будем употреблять более грубого слова, разговоры о том, какая напрасная вещь – любовь и какие все бабы дуры. Они, безусловно, дуры, но ценность их не в этом. (смех в зале) Да, и мужики тоже, в общем… дуры… (смех в зале)
– Я поняла с ваших слов, что эйфории невозможно достичь за счет презрения…
– Нет, невозможно.
– Я хотела спросить, какую благую цель вы преследовали в этой лекции?
– Ну, уж во всяком случае – не вызвать презрение к Пелевину. Моя благая цель очень простая. Я пытаюсь понять, что такое хорошо и что такое плохо. В частности, в литературе. Проще всего мне это удается либо в процессе письма, либо в процессе размышления вслух. Как вы понимаете, лекции не являются основным источником моего дохода. Равно как и грантов от правительства США я тоже не получаю. Я это делаю во многом для своего и вашего удовольствия. Во многом для ощущения того, что моя жизнь не бессмысленна. Вон сколько умных людей пришло поговорить на интересную тему. Ура-ура! Значит, легенда о 84 % опять не срабатывает.
Но поймите просто, что я… Как бы это так сформулировать? Я не пытаюсь вызвать презрение к Пелевину или, боже упаси, отомстить ему за образ поэта Гугина, который пишет поэтическую летопись эпохи. Гугин, будь он Дугин или я, или кто угодно другой, будь он сколь угодно «бычкоообразен» – это лишний раз доказывает, что во внутреннем мире Пелевина я занимаю серьезное место, он рассматривает меня как серьезного конкурента. Это лестно, приятно и непременно будет отвечено. То есть просто не сомневайтесь! (смех в зале) У меня тоже есть какие-то художественные возможности. Появится у меня и адекватный ответ. (аплодисменты)
Но я не к тому… Я не хочу ни к кому вызвать презрение. Я анализирую в данном случае феномен писательского успеха. Это мне интересно. Пелевин вообще как феномен заслуживает анализа. Потому что когда человек воет от тоски – это тоже искусство. Чувствовать эту тоску тоже надо уметь. Потому что есть люди, которые, например, воют от счастья, от радости. Таких много, не буду о них говорить. А есть люди, которые вообще не воют. Есть люди, которые хихикают, умиляются, много чего делают, не буду перечислять. Так что Пелевин – это лучшее, что, может быть, есть сегодня.
– Вы сказали, что в творчестве писателя бывает перелом. А есть ли такие писатели, у которых было два перелома? (смех в зале)
– Открытый перелом?
– И был ли такой перелом в творчестве Маяковского и, может быть, их было два?
– В творчестве Маяковского был совершенно конкретный перелом в 1923 году. Я об этом в книге подробно пишу. «Про это» стало последней его великой поэмой, последним его великим текстом. Дальше произошел перелом в сторону промышленной поэзии, рекламной. Тынянов справедливо писал, что это не растрата таланта, а поиск новых средств. И, наверное, к 1930 году Маяковский аккумулировал эти новые средства, чтобы написать новую вещь. Но «Во весь голос» – первая проба художественного текста после долгой паузы – стала, на мой взгляд, художественной неудачей. Настоящую свою автоэпитафию он написал в 1927 году в «Разговоре с фининспектором о поэзии», там уже практически все сказано.
Что касается двух и более переломов… Как у Бродского: «…но забыть одну жизнь – человеку нужна, как минимум, еще одна жизнь. И я эту долю прожил». Надо очень долго жить писателю, чтобы пережить два подобных перелома. Пастернак мне кажется единственным таким примером. Человек, который пережил огромной силы перелом в 1930 году и не меньшей силы – в 1958-м. «Слепая красавица» – это обещание совершенно нового этапа в его творчестве. Он начинает всегда с плохих вещей, для того чтобы написать потом гениальные.
Перелом 1930 года привел к появлению таких чудовищных стихотворений, как, например, «Я понял: все живо. Векам не пропасть…» и так далее, а разрешился он высшей точкой пастернаковского взлета – стихами из «Доктора Живаго». Вот в Пастернаке я вижу такой перелом.
У меня есть сильное подозрение, что Мандельштам умер накануне второго перелома. Первый перелом, конечно, стихи 1934 года. Некоторые считают, что «Tristia» тоже достаточно переломная книга. Но мне кажется, что настоящий перелом: от акмеистической ясности к воронежскому безумию – осуществился именно в 1934 году. Возможно, в 1938-39 было бы иначе. Есть свидетельства, что Заболоцкий в последние месяцы жизни пытался на новом уровне вернуться к манере «Столбцов». Он, скажем так, тяжелый перелом перенес в 1937 году. До ареста. Но «Горийская симфония» и «Лесное озеро», написанное уже после ареста, – это уже, конечно, другой Заболоцкий. Потом появились гениальные стихи «В этой роще березовой», весь цикл «Последняя любовь», «Рубрук в Монголии». А вот в последние годы опять начался такой божественный абсурд. Заболоцкий – один из самых моих любимых поэтов. Я думаю, это было бы что-то столь великое, что люди просто поняли бы больше, чем надо, и Господь его просто убрал, чтобы эти небесные звуки как-то до нас не долетели. Но у поэтов вообще все сложнее.
Интересная, кстати, штука с Чеховым, потому что не совсем понятно, где пролегает граница между Чеховым поздним и Чеховым ранним. Обычно считается, что это 1891-92 годы. После Сахалинского путешествия. Но я думаю, что после 1903 года началось бы тоже что-то другое. Потому что «Архиерей» – это рассказ, написанный уже вопреки всем правилам, совершенно в новой манере. Когда вместо чередования событий мы наблюдаем чередование сложных лейтмотивов. Нет сюжета, а есть несколько музыкальных тем. Старуха с гитарой. Девочка, которая все время что-то разбивает. Мать, которая не знает, на «ты» или на «вы» его называть. Ну, несколько сквозных мотивов, грубо говоря. Мне кажется, Чехов умер накануне чего-то гениального. Чего-то такого, что Толстой бы обзавидовался.
Но вообще жить в России надо долго. Чтобы развиваться, нужно застать несколько общественных эпох.
И чтобы уж закончить с этим бесконечно длинным ответом на достаточно внятный вопрос: понимаете, вот с Пушкиным как было? Большинство ведь считает, что в 1823 году тоже был перелом, в 1824-м, потому что «Свободы сеятель пустынный…» – это стихи и о прощании с собой, и это у него подчеркнуто: смерть Ленского – это прощание с собой молодым. Прежним не буду больше. Наивность, щенячество, храбрость – все умерло. Пришел умный, сильный конформист. Кончился атеист – начался державник. Кончился летописец современности – начался историк. Но когда в 1836 году он кричит Сологубу: «Я изменюсь, я опять уйду в оппозицию!» Сологуб ему говорит: «Куда? Куда вы уйдете? Нет никакой оппозиции». Что-то будет другое… Мне кажется, что Пушкин – это два перелома. Что каменноостровский цикл – это тоже скачок куда-то в сторону. И даже, знаете, что я вам скажу? Может быть, даже вампирские «Песни западных славян» – это какой-то… Вот, вот! Вот ваш вопрос меня заставил сделать для себя некое открытие: ведь мое любимое стихотворение Пушкина – «Похоронная песня Иакинфа Манглановича» – это какой-то прыжок в совершенно другую сторону. К какой-то абсолютно новой простоте.
Деду в честь он назван Яном, Славный мальчик у меня, Уж владеет ятаганом И стреляет из ружья. Дочь моя живет в Лизгоре; С мужем ей не скучно там Тварк ушел давно уж в море; Жив иль нет, – узнаешь сам. С богом, в дальнюю дорогу! Путь найдешь ты, слава богу. Светит месяц; ночь ясна; Чарка выпита до дна.Это какой-то совершенно новый Пушкин – такой фольклорной предельной простоты. И я думаю, что «Песни западных славян» с их дольником – это прыжок вообще вон из русской литературы к каким-то совершенно новым достижениям. Так что прав, прав был Жуковский, который сказал: «Он только еще созревал…» Но, к сожалению, поэта в России успевают либо купить, либо убить, прежде чем он успевает увидеть Бога и рассказать остальным. Может быть, поэтому мы до сих пор Его и не видим. Поэтому берегите друг друга.
– Когда я подростком начала читать Пелевина, мне, может быть, ввиду моей небольшой начитанности к тому моменту, показалось, что это первый русский писатель, который так всесторонне начал разбирать тему свободы, ее достижений, преодоление всех ограничений.
Сейчас, когда читаешь поздние тексты, такое впечатление, что и в этой несущей стене своего мировоззрения Пелевин очень сильно разочаровался. Так ли это? И была ли, действительно, эта свобода в его текстах?
Просто он за этой несущей стеной увидел следующую клетку. О чем предупреждал еще Станислав Ежи Лец: «Ну пробьешь ты головою стену – что ты будешь делать в соседней камере?» Боюсь, что это не разочарование. Это твердое осознание того, что свобода и есть пустота.
Пелевин, конечно, самый свободный художник в русской традиции: циник, ничего святого, «солидный Господь для солидных господ», но он понимает и то, что за этим страшная пустота.
Я бы сказал иначе: Пелевин – это, конечно, великий христианский автор. Не скажу – писатель, но автор, у него есть истинно христианское отвращение к миру. Но в христианстве есть и ряд других составляющих, которых у Пелевина нет. Мы отрицаем мир, потому что мы любим что-то другое. Конечно, мы любим Бога, это безусловно. А как видит Пелевин Бога, мы узнали: это бессильный, очень добрый и прекрасный, но все-таки зеленый свин. Образ бессильного Бога появляется у него постоянно.
Я боюсь, что здесь, страшная какая-то эмоциональная недостаточность. Ну как бывает сердечная недостаточность. Человеку любая эмоция кажется пошлостью. Я вам скажу: да, и жизнь – пошлость, и смерть – пошлость, и деторождение – пошлость, при определенном взгляде на вещи. Но просто пошлее такого взгляда нет уже, действительно, ничего.
– Вы говорите о способности и неспособности любить, в писательском случае – о способности и неспособности создавать какие-то миры собственные. Как вам кажется, это какая-то уже данность такая? Либо это некоторый путь, на котором неизбежны потери?
– Я хотел бы это знать. Я знаю, что было много писателей, которые начинали отвратительно, а потом выработались почти в гениев. Пример Каверина, который вдруг после 60-ти начал вдруг писать прекрасную прозу. Еще Шварц об этом пишет в дневниках, что мы-то все к Вене относились несерьезно, а Веня оказался большой писатель.
Бывали другие примеры, когда вдруг с человеком что-то случалось. Не в жизни. Жизнь здесь не при чем. А у него срабатывал какой-то внутренний барьер… Да чего там далеко ходить? Я иногда перечитываю свои ранние сочинения, думаю: «Господи! Какая беспросветная тупость!» Перечитываю поздние: «Не-е-ет, не беспросветная!» (смех в зале) К сожалению, чаще бывает наоборот.
Чаще бывает, когда человек что-то умеет. Например, снимает «Пять вечеров», а потом разучивается. Но бывает же и другая зависимость. Бывает, когда абсолютно писатель, ничего из себя не представляющий, создает на ровном месте шедевр. Или писатель талантливый вдруг становится гением. Вот Шарль де Костер выпустил «Барбандские сказки» – отличная книга. «Фламандские легенды». Еще лучше. И вдруг «Легенда об Уленшпигеле», после которой вообще непонятно: а где границы художественного гения? Взял написал в 70-е годы XIX века великую средневековую мистерию, лучше которой в Европе вообще нет книги. Просто нету, не бывает. Шекспир отдыхает. А он взял и написал. Потом умер в 52 года, потому что все его силы на это ушли. Такое бывает.
– А как вы думаете, вампирская природа писателей – это какое-то общее ваше размышление или есть писатели-вампиры?
– Это у всех так, но проблема в том, что этот вампиризм не сводится к потреблению. Да, мы всасываем. Вот так вот всасываем жизнь. Самые плохие из нас и самые хорошие из нас. Но вопрос же в том, что мы из этого делаем. Если мы потом отрыгиваем всосанное в таком же виде, (помните, как там главного героя все время тошнит в «Креативе о Тесее и Минотавре» в «Шлеме ужаса», да?). Если писателя вырвало реальностью – это одно. А если он внутри себя превратил ее в драгоценный камень, как в одной сказке Шарова, это совсем другое. У Пелевина же описана ротожопа, оранус, главная задача которого – как можно больше всосать и выпустить.
Вот если у него на входе кровь, а на выходе – понятно что, то это одна разновидность творчества. А если у него на входе кровь, а на выходе спирт, допустим, или одеколон – это совсем другое дело. Каждый из своего вампиризма делает то, что может.
– Как волк Пелевина соотносится с волком Гессе?
– По одной линии. Очень существенно. Для Пелевина вообще существенен Гессе. С его буддизмом, с его индуистскими увлечениями, с его паломничеством в страны Востока. По одному критерию эти два волка похожи. Они не люди среди людей. Вот в чем дело. Пустота, одиночество голимое. Я очень не люблю роман «Степной волк». Это, по-моему, ужасно скучная книга. Но ведь большинство людей после этого романа радостно называет себя «степными волками», забывая о том, что волк – это не самое доброе существо. Может быть, волк лучше, чем зая, такой туповатый, ушастый зая, но все-таки волк хуже, чем «медвед», например. «Медвед» – оборотень – представляете ужас, да? «Превед, медвед», – говорим мы весело. Но можем ли мы так же весело сказать: «Превед, волчара»?
– Почему книги Пелевина так плохо запоминаются?
– А чтобы хотелось перечитать. Но если говорить серьезно, тут мы уже в физиологию упираемся, ведь память наша эмоциональна: мы помним острые ощущения. А книги Пелевина острых ощущений не дают. Они ласкательные, они ненавязчивые. Их читаешь – как будто массируют тебя в СПА – не слишком больно. Там нет эмоционального шока, который есть иногда у Сорокина. Сорокин же сказал: «Пелевин – это марихуана, а я – героин». Это гораздо более тяжелый наркотик. Вот Сорокин запоминается, Сорокин оставляет эмоциональный шок, и тем не менее его хочется перечитывать, чтобы этот эмоциональный шок переживать опять и опять. Ну какое удовольствие перечитать, например, «Сердца четырех»! Просто, чтобы посмотреть, как автор с советскими штампами разбирается, какое наслаждение! И с реальностью 1994 года. Или там «Заседание завкома». Всегда приятно, когда на твоих глазах вот так ногами крушат, как в рассказе «Падёж» крушат макеты. Это всегда приятно. Жестокие вещи, но запоминаются. Пелевин не запоминается именно потому, что он ненавязчив. Я бы даже рискнул сказать, что он деликатен. Эмоциональный его спектр – это спектр от насмешки к презрению, а не от ужаса к восторгу, как у Чехова, например.
– Бытовой вопрос. А вы точно знаете, что Пелевин в «Эксмо» в рабстве? Или Виктор Олегович не продается?
– Нет, во-первых, я этого не говорил. Во-вторых, я этого не знаю. А в-третьих, мне это не важно. Писатель же пишет не обязательно для того, чтобы ему в «Эксмо» платили. Писатель занимается аутотерапией. Ему очень плохо или, наоборот, очень хорошо, и он старается этим поделиться, чтобы не лопнуть. Если за это еще платят деньги, то это большая удача.
У Юлия Черсановича Кима замечательные были слова: «Я пишу свои песенки лёгко, // не хочу я их в муках рожать, // а что деньги дают как за доблестный труд, // так не буду же я возражать!» (смех в зале) Мне кажется, случай Пелевина отчасти этому сродни. Во всяком случае, больше, чем баблос, ему доставляет удовольствие тот факт, что в сообществе РУ.ПЕЛЕВИН к его текстам относятся как к священным. Как к священным книгам оборотня. Это серьезное достижение.
– Планируете ли вы лекции по советской литературе 20–40 годов? Может быть, писатели второго плана? Ну, например, тот же Симонов.
– Симонов не второго ряда. Я вот, например, про Фурманова бы с удовольствием прочел.
– Еще Соболева и Вишневского.
– Соболева боже упаси! Потому что хуже «Капитального ремонта» я просто не знаю книги. Хотя есть хуже, безусловно. Донцова хуже.
Вишневский интересен. Знаете, в каком аспекте интересен? Ведь «Оптимистическая трагедия» – это классическая символистская драма. Она начинается монологом к залу, который дословно копирует два главных монолога из символистских драм. Первый – «Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха» из «Жизни человека» Леонида Андреева и второй, конечно, «люди, львы, орлы и куропатки» Чехова.
Можно и так: «Вот вы, люди, львы, орлы и куропатки, пришедшие сюда для забавы и смеха, смотрите и слушайте, вот пройдет перед вами жизнь женщины-комиссара с ее темным началом и темным концом». Это просто один в один Андреев и Чехов. И он вообще символист, Вишневский. Его любимый писатель был Джойс. Он считал, что надо технологии потока сознания насаждать в русской литературе. И не случайно пародия Александра Архангельского называется «Искатели Джемчуга Джойса». И Вишневский был вообще любитель авангарда. При этом он был, как все символисты, отвратительно самоупоенный тип. Он писал сотруднику «Знамени», который его редактировал, подробнейшие записки с датами и документировал свою жизнь, свои распоряжения, вел подробнейший дневник. Он относился к себе с той же серьезностью, с какой все символисты к своему жизнетворчеству. Если представить при этом, что это был маленький, апоплексический, короткий, толстый военный моряк, автор пьесы «Незабываемый 1919-й», то возникает абсолютно гротескная фигура. Я бы с удовольствием по Вишневскому прошелся.
– Я бы еще Бабеля хотел назвать…
– Бабель – великий писатель, про Бабеля уже столько сделано, что… А вот Вишневский – хорошая тема. Вот это интересно, вот это вы мне подсказали мысль. Тем более, что и сам он был такой Вишневский, такой бордовый, налитой, такая вишня русской литературы… Начисто лишенный вкуса, но не лишенный при этом таланта. Это довольно часто бывает.
Разобрать «Оптимистическую трагедию» было бы очень хорошо. Ведь из нее некоторые реплики ушли все-таки в речь. «Давайте, товарищ, женимся!», «Тратить время на половые проблемы преступно!» «Вот я думаю: “Почему – такая баба – и не моя?!“» Сколько раз я с помощью этой реплики (смех в зале) объяснялся в любви! То есть проговаривал то, что невозможно сказать. Ну как вот сказать: «Поехали ко мне!»? Это стыдно… А так вот: «Почему – такая баба – и не моя?» – вы тем самым делаете ей большой комплимент, и при этом она понимает, что если она не поедет с вами, то она уже не «такая» баба. (смех в зале)
Вишневский, товарищи! Да, «Пессимистическая комедия», да.




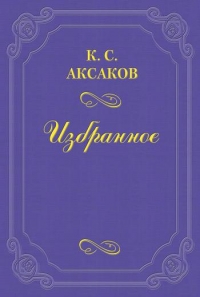
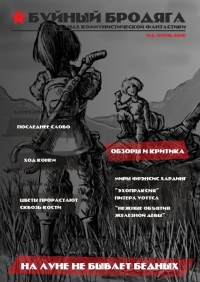
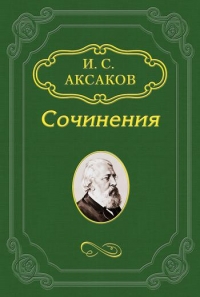
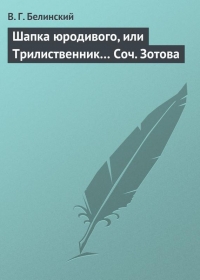
Комментарии к книге «Быков о Пелевине. Лекция вторая», Дмитрий Львович Быков
Всего 0 комментариев