Дмитрий Быков Маяковский. Самоубийство, которого не было
Нам, скромным школьным учителям, гораздо приличнее и привычнее аудитория класса для разговора о русской классике, и вообще, честно вам сказать, собираясь сюда и узнав, что это Большой зал, а не Малый, я несколько заробел. Но тут же по привычке утешился цитатой из Маяковского: «Хер цена этому дому Герцена» – и понял, что все не так страшно.
Вообще удивительна эта способность Маяковского какими-то цитатами, словами, приемами по-прежнему утешать страждущее человечество. При том, что, казалось бы, эпоха Маяковского ушла безвозвратно, сам он большинством современников, а уж тем более, потомков, благополучно похоронен, и даже главным аргументом против любых социальных преобразований стало его самоубийство, которое сделалось если не главным фактом его биографии, то главным его произведением.
Может быть, сегодня редкий школьник вспомнит две строки из Маяковского, кроме «Послушайте!», но будет помнить, что он, увлекшись слишком сильно революцией, покончил с собой и тем самым расплатился. Вот в мою задачу и в книге о Маяковском, и в сегодняшнем разговоре входит, прежде всего, доказать, что как раз самоубийство Маяковского – это эксцесс его биографии и далеко не главное в ней. И что права Цветаева, сказавшая, что Маяковский на своих длинных ногах ушагал от нас куда-то далеко за поворот и долго еще будет нас там поджидать. И мы, безусловно, туда придем.
Придем не так, как у Ахматовой: «По Таганцевке, по Есенинке иль большим Маяковским путем». А придем той столбовой дорогой человечества, которую давно в ХХ веке проложили, скомпрометировали, забыли, и вот сейчас она дожидается нас, как взорванный храм, может быть… Но вспомним, как у Лермонтова сказано: «Так храм оставленный – всё храм, кумир поверженный – всё бог». И в конце концов та магистральная дорога, с которой мы ошибочно и предательски свернули, рано или поздно, я уверен, опять станет нашей. В этом-то, собственно, и заключается главный урок биографии Маяковского.
Прежде чем о нем говорить в этот раз, я прочел впервые давно мне мечтавшуюся и наконец приобретенную книгу Уильяма Стайрона «Darkness Visible», «Зримая тьма», его последний художественный текст 1986 года, опыт отчета о собственной депрессии. Стайрон пережил действительно тяжелую, с медикаментами, с лечением в больницах клиническую депрессию, и для страдающих ею американцев (это как была, так и осталась самая модная болезнь) описал бегло опыт борьбы с нею. Он абсолютно откровенно пишет в этой книге, что бороться с депрессией нельзя. Можно принять ее как норму и с этим жить.
Там есть одна замечательная фраза, которая когда-нибудь, мне кажется, послужит некоторым эмоциональным камертоном правильного отношения к Маяковскому. Перечисляя великих самоубийц ХХ века, Стайрон упоминает Есенина и Маяковского – все-таки человек он был просвещенный, в отличие от большинства современников и сограждан, – и пишет: «Маяковский проводил Есенина довольно желчной эпитафией, осудив самоубийство. Пять лет спустя он последовал его примеру. Сие да послужит уроком всем, кто осуждает самоубийц, понятия не имея о душевной боли единственного другого среди многих одинаковых».
Вот эта абсолютно точная формулировка – «душевная боль единственного другого среди многих одинаковых» – на самом деле очень оптимистична. Она показывает нам, что Маяковский был тем представителем нового человечества, о котором, кстати говоря, в «Охранной грамоте» говорил и Пастернак: «Он был этому государству единственным гражданином». Но это не значит, что болен был он, это значит, что, скорее всего, больно было остальное человечество, не прошедшее еще этого эволюционного пути.
Что такое феномен Маяковского и феномен большинства его друзей, сверстников, современников, которые вместе с ним трагическим образом в начале 1910 годов ХХ века осознали себя «другими среди многих одинаковых»? Это результат во многих отношениях европейского, а в большей части, наверное, русского XIX века, который подарил миру невероятный эмоциональный и интеллектуальный взрыв. И этот взрыв, разумеется, не мог пройти бесследно.
Те новые люди, которых пока еще не столько видел вокруг себя, сколько декретировал Чернышевский, должны были появиться. Не случайно настольной книгой Маяковского было «Что делать?» Чернышевского. Маяковский был, прямо скажем, не большой читатель. Трудно представить его с книгой. Есть знаменитая фотография Пастернака, сделанная Горнунгом в 1936 году. Пастернак держит «Новые стихотворения» Рильке (разумеется, к тому времени никаких новых стихотворений быть не могло, это книга так называется), ухватившись за огромную книгу, он словно заслоняется ею от мира. Так вот Маяковского мы ни в этой позе, ни с этой книгой представить себе не можем. Чтоб Маяковский книгой заслонялся от чего-либо – немыслимая ситуация.
Начитан он не был, я с трудом могу себе представить Маяковского, дочитывающего до конца «Войну и мир». Во всяком случае, человек, дочитавший до конца «Войну и мир», никогда не сказал бы: «С неба смотрела какая-то дрянь величественно, как Лев Толстой». Думаю, что отношение Маяковского к мировой культуре было сугубо утилитарным – он брал то, что ему было нужно. От Толстого он взял название «Война и мир» и назвал так собственную поэму. Достоевского, думаю, читал, но, по многочисленным свидетельствам, ограничивался «Преступлением и наказанием», а вот «Что делать?» перечитывал за два дня до смерти. И в дневниках Лили Брик, опубликованных ныне, в дневниках 1930-31 годов часто встречается: «Перечитывала Чернышевского, поняла Володю. Как удивителен этот ум среди нынешней глупости!»
И действительно, к числу немногих, хотя очень значимых эстетических добродетелей Чернышевского можно отнести хитрый, извилистый, несколько казуистический, «плошавший», как писал Набоков, но безупречно сильный ум. И вот этим безупречно сильным умом он почувствовал одним из первых, что Россия, перепрыгнув через несколько этапов сразу, готовит миру нового человека – сверхчеловека, ставящего под вопрос множество скомпрометированных ценностей.
И вышло так, что почти все ценности в России, не знаю, благодарить за это русскую историю или ужасаться, оказались капитально скомпрометированы. Это ценности патриотизма, народности, православия, твердой государственной руки – в общем, всего того, благодаря чему Николай I, к году эдак к 1855-му, году своей смерти, довел страну почти до полной деградации по всем параметрам и в довершение всего проиграл Крымскую войну. Вот в это время начинают появляться в России новые люди, которые с невероятной решимостью отвергают эти ценности, ценности, все еще святые для европейского буржуа. Для них семья – ничтожность, и они устраивают слепцовскую коммуну, все со всеми, но под знаменем новой семьи и новых идей; они устраивают государственный террор и полагают это тоже признаком нового человека, поскольку ни страх, ни сентиментальность им не свойственны; они отвергают веру, а если уж приходят к вере, как герои Достоевского, то через невероятные падения или страшный опыт, поставленный на себе; отвергают они любые традиционные ценности, как, например, любовь, и не случайно герой Чернышевского, узнав об измене, говорит: «Прежде я тебя только любил, а теперь еще и уважаю». Разумеется, на вкус нормального человека все это смехотворно. Но на вкус этих людей смехотворен нормальный человек. И если вдуматься, то ничего смехотворнее мещанина, с его семьишкой, веришкой, работишкой, сбереженьицами, разумеется, нет. Это смешно, жалко и лопнет при первом катаклизме.
Великие катаклизмы ХХ века, неизбежные катаклизмы, вполне материалистически объяснимые, требуют новой генерации людей. И эта новая генерация людей появилась именно в России, хотя была она и в Европе, и русский футуризм не был бы мыслим без итальянского. Маяковский мог сколько угодно, например, измываться над д’Аннунцио: «Фазан красив, ума ни унции. Фиуме спьяну взял д’Аннунцио», однако Габриеле д'Аннунцио, взяв Фиуме, она же Риека, три месяца устанавливал там прекрасную эстетическую диктатуру, все его обожали, всем было очень интересно наблюдать эти кожаные плащи, римские приветствия, факельные шествия. Маринетти тоже по-своему замечательная фигура, я уже не говорю о множестве французских прекрасных футуристов, сюрреалистов, безумцев, травивших себя то абсентом, то наркотиками.
Вся эта публика была естественным следствием бурного XIX века, который сначала описал этих людей, а потом они появились. Сначала появился Дезесент Гюйсманса, а потом множество таких дезесентов в реальности начали выстраивать свою жизнь по сугубо эстетским образцам. Сначала Чернышевский описал Рахметова, по всей вероятности, имея в виду русского шведа Петра Баллода, который на Чернышевского и на Рахметова был похож только невероятным умственным напряжением и физической силой. А потом тысячи Рахметовых появились по всей России. Не было в этом ничего удивительного.
Маяковский – это результат той антропологической революции, которая была естественным следствием взлета русской культуры в XIX веке. И вот очень интересно, по какой линии пошла эта эволюция. Первым делом она пошла по линии расчеловечивания. Потому что всё человеческое оказалось слабо, скомпрометировано.
Чтобы жить в России, с ее властью, с ее государственным управлением, с ее традицией, с ее победоносцевыми и победоносиковыми, нужно быть сверхчеловеком. А сверхчеловечность понимается этими людьми прежде всего как отсутствие всего, привязывающего к жизни, как отказ от быта и ненависть к нему, как отказ от ценности семьи, потому что с помощью семьи человека можно повязать и сделать его рабом стабильности, как отказ от сентиментальности, потому что если не убить в себе сентиментальность, невозможно вырастить из себя полноценного борца. Это отказ от веры, от религии или понимание религии столь радикальное, что это граничит уже не с христианством, а с самурайством, с предельной в своей строгости самурайской этикой.
Много много говорят о своеобразном христианстве Маяковского. Но это можно выдумать только как попытку его оправдать перед современниками. Сейчас, когда христианство уже донельзя скомпрометировано его брадатыми служителями, которые с трудом два слова связывают и очень верят в российскую государственность, Маяковский очень нуждается в такого рода оправданиях. Да, вот тоже был христианский поэт. Разумеется, никаким христианским поэтом он не был. Сказал «гвоздями слов прибит к бумаге», а это не более чем нормальное риторическое использование христианской мифологии. В этом смысле Маяковский – полноценный, полновесный атеист. Разумеется, все церковное ему отвратительно, разумеется, в библейской легенде ему дорого только самопожертвование, самоуничтожение, опять-таки самурайство. В этом смысле он не больший христианин, чем Савинков, например, или Желябов, которых тоже можно назвать христианами-практиками, хотя террор имеет с христианством очень мало общего.
Ну и разумеется, что особенно интересно, новый человек свободен от очень многих этических ограничений, которые налагает на него прежняя жизнь. Он свободен, например, от всех корпоративных ценностей. Если его друг и коллега, другой писатель, идет против него по идеологическим мотивам – никакой пощады такому писателю и никаких корпоративных ценностей. Если Замятин и Пильняк, талантливые люди, печатаются за границей, если Булгаков пишет пьесу, в которой жалко белогвардейцев – долой булгаковщину! долой пильняковщину!
И Маяковский в этих совсем не корпоративных мероприятиях засветился по полной программе: и Пильняка травил, и Замятина ругал, и о Булгакове писал гадости.
… гнусят на диване тети Мани да дяди Вани…Я уж не говорю о том, что в его знаменитом «Приказе по армии искусства» всё, кроме футуризма, объявлялось контрреволюционным и чуждым. И это тоже не корпоративно, потому что люди-то всё были талантливые, и он это понимал. И кстати говоря, Луначарский сам на него жестоко обижался за эту попытку быть не первым, а единственным. Ну какие ж тут корпоративные ценности, когда есть искусство, служащее интересам момента? А что может быть выше интересов момента? Вот так странно выглядела эта новая ступень человеческой эволюции.
Но, пожалуй, главной отличительной и самой обаятельной чертой этого нового человека является его удивительная зависимость от собственного ума. Полная подчиненность интересов его тела интересам его духа. Это огромный, гиперболизированный, самому себе служащий, сам себя только и понимающий мозг.
Всё, что идет от тела, все интересы тела, все его требования должны быть решительно отодвинуты на второй план. Это не значит, что телом не нужно заниматься, Маяковский занимался боксом, мучил себя гимнастикой и любил об этом говорить, но вот ударить человека было для него совершенно неприемлемым. Тогда как в стихах своих он раздает эти оплеухи налево и направо.
Самое удивительное, что все баталии, все духовные события в жизни этого человека, вся его эволюция происходит только в ментальной сфере. В сфере физической, в сфере бытовой он совершенно беспомощен. Я понимаю, что о Ленине трудно говорить хорошо, именно Ленину мы обязаны многими омерзительными событиями нашей истории, чудовищными жестокостями, хриплым картавым «р-гхастрелять», которое над всей русской историей звучит до сих пор, но не можем мы отрицать одного: Ленин – первый продукт этой эволюции и продукт чрезвычайно честный, последовательный. Ничего человеческого, огромная голова, полная подчиненность всего тела этому мозгу, абсолютное бескорыстие, никакой сентиментальности, отсутствие человеческих эмоций – сам себя сделал. Ни личной мести, ни личного достоинства. Например, эпизод, когда он под Парижем по первому требованию отдает грабителю велосипед, Ленин объясняет товарищам по партии так: конечно, можно было бы вступать с грабителем в драку, что-то ему доказывать, но был бы риск и погибла бы российская революция – проще отдать велосипед. Мысль о том, что достоинство страдает, ему не приходит. Какое достоинство? О чем вы говорите? Если бы от Ленина потребовалось уйти, переодевшись в женское платье, как в легенде о Керенском, которую запустили большевики (не было ничего подобного), ушел бы и не комплексовал. Нет понятия о достоинстве. Нет предрассудка. Ровно так же, как нет и корысти. Как нет и никаких чисто человеческих предпочтений. Есть интересы дела. Им подчинено всё.
И именно Ленин, сделавший себя в этом смысле абсолютно неуязвимым, был идеалом и для Маяковского, и для его сверстников, и, страшно сказать, для Блока, который тоже в «Крушении гуманизма» призывает к отказу от всего человеческого. Ведь именно Блок – предтеча Маяковского, и очень хорошо это понимает. Потому что именно в случае Блока тело точно так же подчинено душе, и точно так же есть предчувствие грядущего сверхчеловека, который придет и их растопчет. И не зря Блок при первой встрече говорит Маяковскому: «Я давно вас ждал. Вы должны были прийти». Именно поэтому, кстати говоря, он так оскорбился, когда Маяковский в конце этой встречи попросил автограф не для себя, а для Лили Брик, но это тоже вполне естественно, потому что себя надо забывать, себя надо оттеснять на второй план.
Вот эта удивительная плеяда, эта замечательная когорта, в которой Маяковский был не одинок, погибла точно так же, как вымерли неандертальцы. В нашем сегодняшнем положении, когда мы вернулись ко всему человеческому и презрели все сверхчеловеческое, в нашем нынешнем откате в болото, когда любая идея вызывает враждебность, вызывает подозрение в тиранстве, в диктаторстве, когда даже вера кажется нам слишком авторитарной, а в мировоззрении господствует сплошной постмодернизм, для нас Маяковский не просто непонятен – он нам враждебен. И эта живая враждебность к нему сохранилась очень во многих. Не случайно книжка Карабчиевского «Воскресение Маяковского» – я не говорю сейчас лично о Карабчиевском, я оговорю о его лирическом герое, о его агенте письма – это как раз и есть классический такой вопль маленького человека, вопль обывателя на глазах у которого из почвы вырастает нечто совершенно нечеловеческое, нечто, что угрожает всей его системе ценностей. Помилуйте, но ведь это зверство! Помилуйте, но ведь это бестактно!
Разумеется, это бестактно, как всякая эволюция. Эволюция вообще-то не спрашивает, когда происходит. И человек, вероятно, казался обезьяне точно таким же попранием всех основ, если только эволюция шла по Дарвину.
Этот странный прыжок из людей в сверхлюди, который произошел во всей русской культуре начала ХХ века, не мог не вызывать у современников самого жаркого отторжения. Когда мы смотрим на биографию Гумилева, этого еще одного последовательного сверхчеловека, который сделал из себя такого же гения и героя, будучи хлипким и болезненным мальчиком, мы не можем не повторить издевательских слов Блока: «Все люди едут в Париж – этот в Африку. Все ходят в шляпе – он в цилиндре. Ну и стихи такие же – в цилиндре». Мы не можем не вспомнить и рассказа о себе самого Гумилева, который говорит, что в альбоме сестры, в анкете все писали «любимый цветок – фиалка», а он писал «рододендрон», все писали «любимый писатель – Боборыкин», а он – «Оскар Уальд», все писали «любимое блюдо – мороженое», а он – «канандер», и только ночью в ужасе вспомнил, что пишется, оказывается, «камамбер» и побежал вырывать этот листочек.
Мы можем сколько угодно над этими мемуарами Одоевцевой умиляться, улыбаться, но мы должны понимать, что это усилие сделать из себя что-то, хоть как-то выламываться из среды, из нормы – это и есть уже та описанная впоследствии Гумилевым эволюция.
Как некогда в разросшихся хвощах Ревела от сознания бессилья Тварь скользкая, почуя на плечах Еще не распустившиеся крылья.Вот эти еще не распустившиеся крылья – они есть и в Маяковском, и в Гумилеве, может быть, поэтому оба они воспринимаются современниками всегда с таким злорадством. Каждую их неудачу так радостно приветствуют, ведь каждая их неудача – это доказательство, что мы-то с вами живем правильно. С нашим самоваром, с нашим вечерним чаем. С нашим ежедневным скучным трудом. А эти, один из которых всё едет в Африку, а другой всё мечтает об этой Африке и рисует каких-то странных жирафов, оба они, разумеется, уроды, и не зря Маяковский в ответ уже в 1916 году выкрикивает: «Я не твой, снеговая уродина!» Не зря Маяковский уже в 1915 году совершенно отчетливо говорит: «Какими голиафами я зачат – такой большой и такой ненужный?»
Эти голиафы, которыми он зачат, – это и есть титаны русского XIX века, к которым он относился, кстати, без пренебрежения, с высочайшим уважением. Это и Чернышевский, это и его кумир Тургенев, потому что в Базарове он узнавал себя и мечтал его сыграть. Это и Писарев, которого он любил и вечно перечитывал. Душевнобольной Писарев, безусловно, но ведь именно душевнобольные особенно чутки к эволюции.
Я думаю, что главный текст Маяковского – «Про это». Поэма, в которой очень четко обозначено и прошлое этого типа и его, к сожалению, беспросветное будущее. Дело в том, что вся жизнь Маяковского, начиная примерно с 1923 года – это мучительные попытки человека вернуться в прежнее дочеловеческое состояние.
Великий скачок не состоялся. Мир плюхнулся обратно, скатился в НЭП. И Маяковский, который еще в 1922–1923 годах с презрением называл Унтер ден Линден Нэпским проспектом, вдруг увидел этот Нэпский проспект вокруг себя, более того, увидел, что он торжествует. Новая жизнь не состоялась. Прежняя жизнь брала его за горло. Футуристы оказались никому не нужны. Откат в культуре случился гораздо быстрее, чем в политике. И Булгакова, и булгаковщину, и МХАТ он воспринимал именно как этот реванш.
Кстати говоря, в доказательство идеи о том, что Маяковский живет только огромным этим мозгом, этим эстетическим чувством, а вовсе не какими-то личными обстоятельствами, можно привести его замечательную фразу, сказанную Веронике Полонской: «Я не покончу с собой, не доставлю этого удовольствия Художественному театру». Казалось бы, причем здесь Художественный театр? Речь идет о самоубийстве, о вычитании себя из мира – нет! Художественный театр остается главным врагом. А за ним, собственно говоря, всё, что он персонифицирует. Прежде всего, традиция.
Маяковский, который вечно этой традиции противопоставлен, который ее ненавидит до гроба, стал первой ее наиболее очевидной жертвой. А ведь множество людей, и в том числе умнейший Пастернак, восторженно, радостно приветствуют возвращение к ней. Пастернак пишет о том, что предшествующего пробел, разрыв ликвидирован. Как хорошо, что Сталин и сталинизм «не взвился небесным телом»! Как хорошо, что вместо эксцесса наконец восстановлена норма! Тогда еще не всем было понятно, что эта норма на самом деле страшнее любой революции.
В 1936 году, когда Пастернак начинает принимать этот новый мир, когда появляется бухаринская конституция, когда появляются стихи Пастернака «Художник» и так далее, в 1936 году еще не было понятно, что эта контрреволюция страшнее любой революции и результаты ее будут гораздо кровавее. Нет, всем казалось, что восстановилась прекрасная последовательность. Тогда казалось, что Маяковский болен. Может быть, лет через двести будет казаться, что он был, несмотря на всю свою вечную болезнь, вечную болезненность, неврозы и прочее, единственным здоровым человеком. Потому что он-то чувствовал, куда идет эволюция, и слишком ее опередил.
Много говорят и о том, что Маяковский в последние пять-семь лет жизни особенно сильно страдает от игромании. Действительно, есть за ним такая страшная беда: он все время играет во что-то, загадывает. Играет на трамвайные билетики, спорит с друзьями, сколько шагов до того столба, постоянно пытается угадать, сколько строчек в книге на странице, я уж не говорю о картах, которые с 1922 года стали одним из камней преткновения между ним и Бриками.
Между тем причина очень проста: игромания – это попытка доказать самому себе, что ты имеешь право на существование. Всё время загадывать: а есть я или нет? Всё время находить в природе, в окружающем мире какую-то поддерживающую тебя цифру, что у Пелевина в «Числах» описано замечательно, какой-то знак, намек – в общем, какой-то костыль со стороны мироздания, какую-то надежду, что, может быть, ты здесь не зря, что ты не случаен.
И вот эта игромания как раз подчеркивает ощущение своей страшной неуместности в мире, которое нарастает, начиная с «Нескольких слов обо мне самом» и достигая невероятной мощи в «Про это». «Про это» – поэма сложная, симфоническая, мы не будем сейчас разбирать ее всю, но давайте вспомним ее третью часть – пронзительный и мучительный финал, который, собственно, и заключает в себе завещание тогда еще тридцатилетнего Маяковского.
Чтобы с полюсов по всем жильям лаву раскатил, горящ и каменист, так хотел бы разрыдаться я, медведь-коммунист. Столбовой отец мой дворянин, кожа на моих руках тонка. Может, я стихами выхлебаю дни, и не увидав токарного станка. Но дыханием моим, сердцебиеньем, голосом, каждым острием издыбленного в ужас волоса, дырами ноздрей, гвоздями глаз, зубом, исскрежещенным в звериный лязг, ёжью кожи, гнева брови сборами, триллионом пор, дословно – всеми порами в осень, в зиму, в весну, в лето, в день, в сон не приемлю, ненавижу это всё.Такого манифеста жизнеотрицания ни русская, ни мировая поэзия еще не видала. Не приемлю! Ненавижу ЭТО ВСЁ! Это чрезвычайно расширяет смысловые границы названия «ПРО ЭТО». Надо сказать, что у Маяковского существовали две расшифровки этого названия. Одна – самая простая, в автобиографии 1922 года он пишет: «Пишу громадную поэму о любви»; впоследствии, когда «Про это» уже закончено, вы помните, при каких трагических обстоятельствах оно закончено, мы к этим обстоятельствам вернемся, он пишет: «По личным мотивам об общем быте».
Конечно, «ненавижу это всё» – это ненавижу ту самую жизнь, то, что называют жизнью, и «Про это» именно поэма про жизнь, а не про любовь, потому что про любовь-то в ней очень мало.
Знаменитое вступление «Имя этой теме – любовь…», кстати, самая слабая часть поэмы, самая декларативная,
Если Марс, и на нем хоть один сердцелюдый то и он сейчас скрипит про то ж.Ну что интересного скрипеть про то, о чем скрипят все? Конечно, она не о любви, конечно, она о норме жизни, о том, как эта норма засасывает, о том, как это болото смыкается, о том, как великое обещание не состоялось.
Здесь у Маяковского впервые появляется его любимая впоследствии тема: не просто неуверенность в сегодняшней уместности здесь, а уверенность в том, что надо смотреть уже в будущее, уверенность в том, что отсюда надо бежать любой ценой, здесь уже ничего не получилось.
Поэтому поздний Маяковский обращается к потомкам всё чаще напрямую. И не только в самом, наверное, несовершенном, в самом декларативном, громокипучем из поздних своих сочинений, не только «Во весь голос», в котором, к сожалению, так сильна уже лозунговость, почему эта вещь и растаскана на лозунги, но прежде всего в «Про это». Где он обращается к будущим воскресителям и просит их любой ценой обратить взоры и на него нынешнего.
Воздух в воздух, будто камень в камень, недоступная для тленов и прошений, рассиявшись, высится веками мастерская человечьих воскрешений. Вот он, большелобый тихий химик, перед опытом наморщил лоб. Книга – "Вся з", – выискивает имя. Век двадцатый. Воскресить кого б? – Маяковский вот… Поищем ярче лица – недостаточно поэт красив. – Крикну я вот с этой, с нынешней страницы: – Не листай страницы! Воскреси! Надежда Сердце мне вложи! Кровищу – до последних жил. в череп мысль вдолби! Я свое, земное, не дожил, на земле свое не долюбил. Был я сажень ростом. А на что мне сажень? Для таких работ годна и тля. Перышком скрипел я, в комнатенку всажен, вплющился очками в комнатный футляр. Что хотите, буду делать даром – чистить, мыть, стеречь, мотаться, месть. Я могу служить у вас хотя б швейцаром. Швейцары у вас есть?Вот что касается трактовки этого потрясающего фрагмента, который идет дальше, это, примерно, с 1700-й по 1800-ю строчку, то главная ошибка комментаторов была в том, что в нем видели лирику, что-то такое нежное, жалобное, тогда как на самом деле это отчаяннейшая, зверская, жестокая сатира, когда гений, сознающий себя гением и об этом написавший, собственно, всю поэму, просится к потомкам швейцаром или сторожем в зоопарк, этим он наглядно показывает, до какой степени он не нужен здесь и сейчас. До какой степени эта утопия его перемолола, пережевала и выплюнула. Вот это знаменитое:
Был я весел – толк веселым есть ли, если горе наше непролазно? Нынче обнажают зубы если, только чтоб хватить, чтоб лязгнуть. Мало ль что бывает – тяжесть или горе… Позовите! Пригодится шутка дурья. Я шарадами гипербол, аллегорий буду развлекать, стихами балагуря. Я любил… Не стоит в старом рыться. Больно? Пусть… Живешь и болью дорожась. Я зверье еще люблю – у вас зверинцы есть? Пустите к зверю в сторожа. Я люблю зверье. Увидишь собачонку – тут у булочной одна – сплошная плешь, – из себя и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая, ешь!До какой глухоты нужно было дойти, чтобы эти отчаянные и крайне желчные стихи воспринимать как вопль совершенно не свойственной Маяковскому сентиментальности? Если поэт сгодился только для того, чтобы своей печенкой кормить собаку, то это говорит о времени весьма дурно. Конечно, вся эта утилитарщина лишь подчеркивает то, до какой степени он не нужен тут.
Настоящее, самое пронизительное, самое мощное – оно дальше:
Может, может быть, когда-нибудь, дорожкой зоологических аллей и она – она зверей любила – тоже ступит в сад, улыбаясь, вот такая, как на карточке в столе. Она красивая – ее, наверно, воскресят.Это ненависть к самому понятию красоты, красивости, к тому, что только красивый и может понадобится. «Недостаточно поэт красив». И в этом, кстати говоря, значительная доля отвращения и к собственной превосходной внешности. Маяковский, этот аполлон революции, как называли его, Маяковский, которого Репин хотел писать читающим стихи красавцем, явился к Репину демонстративно наголо обритый. И Репин в ужасе вынужден был писать эту голую голову, слава богу, затерялся этот набросок, хотя хотел-то он писать на самом деле полет черных роскошных волос во время чтения «Облака в штанах».
«Она красивая – ее, наверное, воскресят». Здесь страшное неверие в то, что потомки будут любить за что-нибудь настоящее. Они тоже, как нынешние, будут любить за красоту, за соответствие своему критерию.
И вот этот ужас, которым переполнено «Про это», ужас от засасывающего болота традиций, к сожалению, так и остается главной нотой завещания Маяковского. Потому что никакой надежды на то, что будущее пойдет по сценарию этой эволюции, у него нет.
Мы привыкли к мысли, что Маяковский – трагический поэт. Мы привыкли, что Маяковский – поэт отчужденности, поэт «адища города», поэт вот этих урбанистических кошмаров 1913-15 годов. Но ведь Маяковский, если вдуматься, одна из самых радостных, веселых и безоблачных фигур русской литературы, но только когда? – в то самое время, которое для большинства современников становится самым чудовищным – в 1918-19 годах.
Нет ничего более безоблачного, восторженного и триумфального, чем стихи Маяковского примерно с 1918-го по 1920-й. Когда Пастернак пишет чудовищный «Разрыв», когда почти не пишет Асеев, только два поэта пишут вещи радостные. Вот как ни странно: Цветаева на своем московском чердаке в Борисоглебском пишет прелестнейший, лучший, любимый романтический цикл, потому что поэт попал в свою романтическую среду:
Что ж, – мы проживем и без хлеба! Недолго ведь с крыши – на небо.Вот этот упоительный борисоглебский цикл, стихи к Але, пьесы для Сонечки, радостнейшие, смешные, романтические три пьесы про Казанову – вот эта веселая, голодная, нищая Цветаева, у которой муж без вести пропал, у которой младший ребенок умирает и умрет скоро, у которой старший ребенок вечно некормлен, непонятно, что будет, – вот она переживает самое большое, самое сумасшедшее, самое эгоистическое счастье. Поэт попал в свою среду, во французскую революцию, в романтизм.
И ту же безумную эйфорию, внезапную радость чувствует Маяковский. Я не говорю уже о том, что в это время написаны просто самые веселые его стихи – «Гейнеобразное», «Тучкины штучки», «Стихи о разнице вкусов»:
Лошадь сказала, взглянув на верблюда: "Какая гигантская лошадь-ублюдок". Верблюд же вскричал: "Да лошадь разве ты?! Ты просто-напросто – верблюд недоразвитый". И знал лишь бог седобородый, что это – животные разной породы.Ну, чего? Праздник! Всё же отлично! Я уж не говорю о том, какой эйфорией на самом деле веет от «Мистерии-буфф». Вот если из всех сочинений Маяковского взять самое веселое, самое безоблачно смешное – это, конечно, «Мистерия-буфф», которую сам он ставил и сам же в ней играл, потому что половина актеров не явилась, и сам же приколачивал гвоздями декорации.
А какой финал в «Мистерии» – изумительный совершенно, действительно мистериальный, действительно ослепительно праздничный – как человек верит в то, что настала новая жизнь. Я даже зачитаю.
Все вещи
Прости, рабочий! Рабочий, прости! Рубля рабы, рабы рабовладельца были. Заставил цепными делаться! Берегла прилавки, сторублева и зла, в окна скалила зубья зарев. Купцовы щупальцы лезли из лавок. Билось злобой сердце базаров! Революция, прачка святая, с мылом всю грязь лица земного смыла. Для вас, пока блуждали в высях, обмытый мир расцвел и высох!Но тут он уже даже «ямбом подсюсюкнул» (его собственное выражение) от счастья!
Свое берите! Берите! Идите! Рабочий, иди! Иди, победитель! Голоса Нога не бритва, авось не ступим. Давайте, братцы, попробуем, ступим! Нечистые ступают.Батрак
(трогает землю)
Землица! Пила Она! Пила Родимая землица! ПилаВсе
Запеть бы теперь! Закричать! Замолиться!Помилуй Бог, кто это пишет? От кого мы это ждем? От человека, который только что обещал Господу раскроить его отсюда до Аляски. Но тем не менее здесь, после «Облака», после этого сплошного вопля искусства «Долой вашу любовь!» – сплошная эйфория.
Этой эйфорией лучатся все тексты Маяковского с 1918-го по 1921-й год. Сплошной восторг, который слышен и в «Левом марше»… Есть, кстати, замечательные воспоминания о том, как Ленин слушал «Левый марш». Вот человек с невероятной эстетической глухотой. Уж он-то должен был действительно понять, что Маяковский не просто за него, что Маяковский это его мечта, идеальный гражданин будущего, но, как вспоминали потом многие очевидцы, Гзовская, читая это стихотворение, так азартно, так яростно наступала на Ленина, что он, сидящий в первом ряду, вжался в кресло и долго потом жалобно, испуганно говорил: «Я не понимаю, что это такое? Что это за поэзия?» И действительно, очень легко представить себе испуганного Ленина мещанином. Что поделать? Его эстетические вкусы остановились на Пушкине. Для него уже Надсон – авангардист. И когда до него доносится: «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой, // Клячу истории загоним левой! Левой! Левой!» – это же его тексты, переписанные в рифму, но он, слыша это, вжимается в кресло. И после того как выходит 3-тысячным тиражом «150 000 000», лучшая, наверное, революционная поэма, тоже полная невероятной эйфории, восторга, каких-то детских совершенно, прелестных шуток, Ленин пишет: «А Луначарского сечь за футуризм!» И в ужасе говорит о том колоссальном тираже, которым издана эта футуристическая бредятина. Вот это как раз классический случай непонимания.
Но если упразднить, если отмести это непонимание, следует признать, что, пожалуй, счастливых людей в 1919-20 году очень мало в России – это или вожди, которым досталось наконец совершать революцию, а не писать о ней, и голодные поэты, которым очень мало надо, которым надо только почувствовать, что их утопия сбывается на глазах.
И сама по себе «Мистерия-буфф» – это, пожалуй, самое веселое, самое смешное сочинение, в то время написанное. Мы сейчас об этом несколько уже забываем, потому что мало кто ее перечитывает, мало кто вспоминает, что сам Маяковский, когда читал ее публично, переходил на разные голоса и даже принимался петь на мотив матчиша:
Хоть чуть чернее снегу-с, но тем не менее я – абиссинский негус. Мое почтение!Но сама сцена потопа – как она великолепна! Кстати говоря, в этой сцене есть замечательный автопортрет. Это дама-истерика, в чьих репликах очень сильны интонации ранних поэм Маяковского.
Дама-истерика
(ломая руки, отделяется от толпы)
Послушайте, я не могу! Не могу я среди звериных рыл! Отпустите меня к любви, к игре. Кто эти перила? Эти тени перил, стоящие берегами кровавых рек? Послушайте, я не могу! Даже как любить, я забыла уже. Отпустите! Не надо! Мимо я! Я хочу детей, я хочу мужей, не могу я жить нелюбимая. Послушайте, я не могу!Это просто почти дословно переписанные куски из «Флейты-позвоночника», впоследствии то же самое звучало в «Про это», где герой, обращаясь к маме и сестрам, кричит: «Ведь вы меня любите? Любите? Да?»
Но вот на смену этой даме-истерике приходит наконец вожделенное душевное здоровье. Пришел всемирный потоп и смыл все. Все самое ужасное. И началась изумительная жизнь.
Студент
Сначала все было просто: день сменила ночь, и только заря чересчур разнебесилась ало. Потом – законы, понятия, веры, гранитные кучи столиц и самого солнца недвижная рыжина – все стало как будто немного текуче, ползуче немного, немного разжижено. Потом как прольется! Улицы льются, растопленный дом низвергается на дом. Весь мир, в доменных печах революций расплавленный, льется сплошным водопадом… Голос китайца Господа, внимание! Сюда моросят.Жена австралийца
Хорошенькое моросят! Измочило, как поросят.Перс
Может, конец мира близок, а мы митингуем, орем и ржем.Итальянец
(жмется к полюсу)
Становитесь сюда! Теснее! Здесь не закапает.Купец
(наддавая коленкой зажимающего дыру с присущим этому народу терпением эскимоса)
Эй, ты! Пошел к моржам!Всем радостно, всем приятно. Чего уж там…
Поп
Братие! Лишаемся последнего вершка. Последний дюйм заливает водой. Голоса нечистых(тихо)
Кто это? Кто этот шкаф с бородой?Поп
Сие на сорок ночей и на сорок ден…Купец
Правильно! Господь надоумил умно его!Студент
В истории был подобный прецедент. Вспомните знаменитое приключение Ноево.Купец
(водворяясь на место попа)
Это глупости – и история, и прецедент, и воопче…Голоса
Ближе к делу!Купец
Давайте, братцы, построим копчег!Для купца ковчег звучит как копчег, потому что он любит копчености. И вот когда они строят этот ковчег, когда они ловят моржонка, когда нечистые начинают его жрать, – все это очень весело, в этом есть какой-то страшный, невероятный азарт творения нового мира. И даже афористичность Маяковского, его каламбуры, чаще всего несколько навязчивые и утомительные, здесь становятся удивительно свежи, милы и немедленно уходят в речь. «Одному бублик, другому дырка от бублика – это и есть демократическая республика». Мы это запомнили и повторяем это всегда, когда наша демократическая республика нам преподносит какой-нибудь очередное фи.
Так вот удивительнее всего, что в самое несчастное время эта генерация людей чувствует себя на своем месте. Означает ли это, что они больны, что они патологичны, что им в нормальной жизни не место? Нет. Это означает, что самое понятие нормы размылось и что нам сегодняшним до этих людей как до звезды. Потому что, в сущности, всемирный потоп революции – это и есть нормальное состояние мира. Не когда у всех всё есть и все ходят на работу, и не когда все товары на весь мир производят в Китае, а остальные жируют за счет нефти, и даже не тогда, когда кто-то манипулирует голосами. Нормальное состояние мира – это когда, по Гёте, «Лишь тот достоин мира и свободы, // Кто каждый день идет за них на бой!»
Нормальное состояние – это состояние кризиса, поиска, ломки, состояния, когда что-то происходит, только оно достойно человека или сверхчеловека как новой эволюционной ступени. А если всего этого нет, то люди превращаются в зверьков, а сверхчеловеку остается сначала писать агитки, а потом просто исчезать из этого мира. Потому что он перестал быть в нем на месте.
Нужно сказать, что легенда о последних семи годах Маяковского, якобы посвященных сплошным «лучше сосок не было и нет», сплошному Моссельпрому, сплошной газетчине, это бред. На самом деле Маяковский поздний тоже достаточно силен, просто у него мало в это время по-настоящему великих стихов. Он не позволяет себе этого. Да у него и нет сил заглянуть в себя. Как раз его прежняя главная тенденция, тенденция центростремительная, когда поэт все-таки старается заглянуть в свою глубину, заменяется тенденцией центробежной, когда для того, чтобы сбежать от себя, поэт делает все возможное, начиная ездить по Союзу. Вот эта книга «Маяковский ездит по Союзу» – замечательная хроника Лавута Павла Ильича, «тихого еврея», – это довольно страшная хроника. Потому что она показывает: в какие только места не заносит поэта, для того чтобы перестать быть собой, чтобы перестать думать о себе.
Поздний Маяковский – это беспрерывные разъезды, это экстенсивная тактика вместо интенсивной, это постоянная смена географических поясов, стран, эпох, Америка, Мексика, Таганрог, Крым, Мурманск – вместо того, чтобы попытаться заглянуть внутрь себя.
Но когда он все-таки заглядывает, увиденное его поражает. И тогда появляются настоящие шедевры. Такие, как, может быть, последнее его по-настоящему великое стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии». В котором звучит страшный приговор собственному поколению.
И когда это солнце разжиревшим боровом взойдет над грядущим без нищих и калек, – я уже сгнию, умерший под забором, рядом с десятком моих коллег. Подведите мой посмертный баланс! Я утверждаю и – знаю – не налгу: на фоне сегодняшних дельцов и пролаз я буду – один! – в непролазном долгу. Долг наш – реветь медногорлой сиреной в тумане мещанья, у бурь в кипенье. Поэт всегда должник вселенной, платящий на горе проценты и пени. Я в долгу перед Бродвейской лампионией, перед вами, багдадские небеса, перед Красной Армией, перед вишнями Японии – перед всем, про что не успел написать.И не успеет уже, и сознает это прекрасно. Конечно, это очень страшные стихи. Именно поэтому они венчаются таким странным, искусственным жизнерадостным финалом:
А если вам кажется, что всего делов – это пользоваться чужими словесами, то вот вам, товарищи, мое стило, и можете писать сами!Это уже нечто компромиссное. На самом деле мощное, бронзовое, трагическое звучание этих предсмертных стихов – вот настоящее поэтическое завещание. Потому что «Во весь голос» – это уже газетчина. Это уже вечная трагедия поэта, который уверен: «Ну, ничего, мое-то ремесло со мной, мое-то перо не заржавело! Вот захочу написать лирику и напишу такую лирику, что все обалдеют!» Берешься за нее, а уже одно жестяное громыхание, уже голосовой аппарат утрачен безвозвратно. Вот это была настоящая трагедия Маяковского. Потому что в поэме «Во весь голос» уже нет ни одного живого звука, как это ни ужасно, это всё уже медь, гранит, жесть и, более того, это попытка писать ямбом, о которой он говорит: «Асейчиков, если ЦК скажет писать ямбом, вы что будете делать?» – «Я брошу писать», – говорит Асеев. – «А я буду писать ямбом!» – отвечает Маяковский. Он чувствует, что время этого требует, и начинается этот ямб, в котором его поэтическая мысль чувствует себя как нога дикаря в сапоге. Она не привыкла тесно ставить пальцы, поэтому получаются какие-то идиотские стихи-уродцы, какие-то странные, недоговоренные мысли, не говоря уже о совершенно очевидных ошибках, которых он просто не видит.
Стихи стоят свинцово-тяжело, готовые и к смерти и к бессмертной славе. Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло нацеленных зияющих заглавий.Но, помилуй Бог, орудия, прижатые к жерлу жерло, будут стрелять друг в друга! Он этого уже не слышит. И самое страшное, что заглавия его поэм действительно стреляют друг в друга. «Облако в штанах», этот крик сплошной, стреляет в «Хорошо!». «Владимир Ильич Ленин» стреляет в «Человека», потому что или «Человек», или «Владимир Ильич Ленин» – это совершенно очевидно. И вот эта стрельба к жерлу жерло, эта самоубийственная стратегия, она в этой поэме очень видна. Я уже не говорю о каких-то странных речевых оборотах, ему совершенно не свойственных. «Поэт вылизывал чахоткины плевки», естественно, что в дольнике можно сказать «слизывал», – это будет нормально, а «вылизывать», то есть доводить чахоткины плевки до лоска, до хорошего вида, ни один поэт не станет.
Это то самое разлаживание, дребезжание, порча стихового аппарата, что и губит Маяковского в конце концов. Вот здесь самоубийство, вот здесь настоящее вычитание себя из мира. Настоящее же завещание Маяковского – это «Разговор с фининспектором», в котором впервые сказано открытым текстом о своем мучительном несоответствии миру. И новому миру, уже построенному. Второе такое заявление – это «Баня». Очень интересно, что «Баню» и «Клопа» разделяют всего два года – 1927 и 1929. Обе вещи – о том, как современный человек попадает в будущее. И в «Клопе» мы видим светлое будущее, неуместность в нем Присыпкина, 927 год – это Присыпкин, которого извергает настоящее, как бы выблевывает его на пятьдесят лет вперед, и он попадает в стерильный мир через пятьдесят лет и там все смотрят на него как на уродца. А 1929 год, «Баня», – это уже совсем другая история. Это настоящее, которое выбрасывает из себя Велосипедкина, Двойкина, Тройкина, это мир, в котором нет больше места изобретателю, поэту, мыслителю, и они сбегают в панике. Сбегают, между прочим, в 2030 год.
Сейчас я приписал бы к «Бане» 7-е действие. В «Бане» их шесть, Маяковский хотел, чтобы его драма отличалась от прочих. Он спрашивал Катаева, сколько может быть максимум действий, Катаев честно отвечал: пять. Ну, так у меня будет шесть, – решил Маяковский.
Так вот пора приписать седьмое. Седьмое действие – это то, где Велосипедкин, Двойкин, Тройкин и Фоскин в панике возвращаются из 2030 года и кидаются радостно обнимать Победоносикова, говоря: «Нет, уж лучше вы!» Вот это был бы, наверное, спасительный вариант.
Но ясно одно: что герои 1930 года в своем времени больше не живут. Они просят, чтобы Фосфорическая женщина взяла их в какое-то прекрасное далеко. Но иногда, честно говоря, я думаю, что ведь 2030-й тоже еще довольно далеко и нет никакой гарантии, что к этому времени мы не вернемся на путь, с которого свернули. Россия, так она устроена, она может быть либо страной сверхлюдей, либо страной недолюдей.
Страной недолюдей она уже побыла, хватит. И после страшного своего опыта, после изуродовавших идею 30-х, после диких 50-х, после сонных 70-х ей, может быть, пора вернуться на этот путь сверхчеловечности и попробовать как-нибудь зайти на него с другой стороны. Не говорить вечно о том, что «новый человек» – это Шариков, не считать Маяковского несчастным уродом, не поминать его страшные семейные обстоятельства, а подумать о том, что только благодаря этому великому эксперименту она и дала все великое, что в ней было.
Россия может, к сожалению, либо лежать в болоте, либо лететь в космос – третьего ей не дано, не та это немного страна, чтобы в ней была нормальная жизнь. Здесь для того, чтобы спустить ноги с кровати в зимний холод, и то уже нужен сверхчеловеческий стимул. Никакими деньгами эта проблема, к сожалению, не решается. Решается она только верой в свою исключительность.
И вот на этом-то пути, на пути отвращения к норме, на пути обожествления великого, на пути сверхчеловечества Маяковский может быть нам, как ни странно, добрым подспорьем. Человек, для которого жизнь – пытка, может из любой пытки сделать праздник. И, может быть, поэтому сегодня полузабытый, оболганный, низведенный до пошлости и сплетен, он может стать для нас тем самым необходимым витамином роста. Потому что, в конце концов, как ни относись мы к его поэтике, к его опыту, к его исчезновению, к его самоубийству, как ни относись мы к трагической атмосфере его лирики, мы должны понимать, что он-то всем своим опытом доказывает возможность будущего, а будущее всегда кроваво и мучительно, будущее всегда непросто, будущее всегда пугает обывателя.
Но если мы хотим, чтобы мир продолжался, нам надо выбрать его.
В заключение вот этих очень предварительных соображений, потому что, я думаю, при ответах на вопросы мы проговорим больше и важней, я вспомнил бы один очень тоже не корпоративный и очень, к сожалению, нетоварищеский шаг. Я вспомнил бы некролог Ходасевича, которым Ходасевич Маяковского проводил. Наверное, я буду не прав, сказав, что самое точное определение Ходасевича дал в свое время Максим Горький – «человек, всю жизнь проходивший с несессером, делая вид, что это чемодан». Это очень похоже на правду. Я думаю, что предположение, будто Ходасевич был прототипом горьковского Самгина, нуждается еще в обоснованиях. Давняя моя идея, может, я ее сумею доказать, может, нет. Но мне кажется, что это именно он – человек, умудряющийся всегда сохранять лицо. Я думаю, что Ходасевич, при всех своих чертах замечательного поэта, страдает от той же игромании, что и Маяковский, от того же сознания своей неуместности и, кстати, по воспоминаниям Пастернака, во время всех своих встреч с Маяковским они немедленно принимались играть в орлянку вместо того, чтобы дискутировать о поэзии.
Надо сказать, что Ходасевич в этом своем мемуаре-некрологе в значительной степени погрешил против собственной, такой непогрешимой литературной репутации. Мы привыкли, что Ходасевич всегда умнее всех своих современников, ведь когда мы перечитываем «Некрополь», наше первое ощущение: «Какие они все были дураки и дети!» И этот Брюсов, и эта Рената, и этот Белый, и все эти Алексеи Толстые, и даже Гершензон – все они в сравнении с автором глуповаты.
А про Маяковского он вообще не нашел других слов, кроме как сказать: «Пятнадцать лет – лошадиный век». Но вот я боюсь, что именно эта злоба Ходасевича против Маяковского – это очень точное доказательство. Ходасевич ведь прекрасно понимает, кто он и кто Маяковский, он понимает, что человек, написавший «Хорошее отношение к лошадям» или то же «Про это», или даже «Разговор с товарищем Лениным», просто по энергии стиха, просто по невероятной чистоте и оригинальности своих приемов, безусловно, себя в литературу уже вписал, а что там будет с автором «Европейской ночи» – это на тот момент еще вопрос. Хотя, безусловно, Ходасевич – поэт первого ряда. И сейчас не нужно меня упрекать в недооценке его великого дара, хотя для меня лично это самая проблематичная фигура русского Серебряного века, поэт чрезвычайно вторичный и, чего уж там говорить, слабый на фоне великих. Но как бы мы к нему ни относились, все-таки надо понимать и то, что сама злоба, которую вызывает Маяковский, – это свидетельство величия. Плохую вещь так сильно ненавидеть не будут.
Разумеется, верно и то, что он по преимуществу риторик, что он поэт риторический, что он поэт приема, что в любви к Владимиру Ильичу Ленину и Лиличке он объясняется более-менее одними же и теми же словами и одними и теми же приемами, но зато уж в ненависти он бесконечно убедителен и разнообразен. А ненависть нам сейчас, пожалуй, нужней.
Вот на этой оптимистической ноте я бы перешел к вопросам и ответам.
Вопросы
– В чем главное различие между мужчиной и женщиной?
Как говорят в школе в таких случаях, вопрос не по теме. Но если говорить применительно к теме, мне кажется, женщины очень любят стабильность и уют, а мужчине в какой-то момент надоедает. Вот это главная проблема. Физиологические различия здесь уже, к сожалению, вторичны.
Понимаете, установился такой образ Лили, может быть, с легкой руки Ваксберга, может быть, с легкой руки Катаняна, – такая Лиля, которая вечно тянет Маяка к каким-то новым свершениям, не дает ему омещаниться, нахлестывает его. Это, безусловно, так. Женщина она исключительная, и ее воспитательная роль в его судьбе огромна, ведь тот Маяковский, который попал в руки Бриков, – это весьма неотесанный малый, дурно одетый, с плохими зубами, совершенно не следящий за собой, а Маяковский год спустя – это уже франт с прекрасно изданными книгами, с хорошо организованными концертами и с семьей. Семьи никогда не было, и вот она завелась.
Но при этом не будем забывать вот чего: ведь именно Лиля написала когда-то Маяковскому вот это знаменитое письмо: «Я сейчас очень хочу с тобой пожить. Неужели ты бы не хотел пожить со мной в хорошей квартире, полежать после ванной на чистых простынях?» Вот это Лиля – противница мещанства. Она была противницей мещанства, только когда ей нужно было оправдывать свой промискуитет. Во всех остальных отношениях она очень любила как раз и уют, и хорошие чулки, и серенькую машину «реношку», а вот Маяковскому, к сожалению, всего этого было мало. Поэтому, видимо, мужчина – это то, что противостоит уюту, рушит его каким-то образом.
Я понимаю, что найдется очень много желающих подверстать под это какие-нибудь собственные пороки, например, бегая изменять, такой мужчина будет говорить, что он – противник мещанского уюта. Ну, если он при этом будет писать как Маяковский, я думаю, это простительно.
– Расскажите же про Лилю Брик.
– Вот видите, я ответил на этот вопрос загодя, гениальной интуицией предвидя его.
Что касается Лили Брик. Кто-нибудь наверняка скажет, что в моем отношении к Брикам верх берет еврейская солидарность. Это не так. Потому что уж меня упрекнуть в избытке еврейской солидарности очень трудно, особенно тем, кто знает контекст. Мне кажется, что выдавив из себя сначала еврея, а потом русского, только и можно начинать писать.
Лиля Брик как раз очень космополитическая фигура. Это замечательный пример сверхчеловека того же поколения. Из ее мемуаров это вполне ясно. Она очень умна. Она очень любила Маяковского. Вот этот потрясающей силы дневник 1931 года, когда он ей все время снится и когда она все время пишет: «Не могу его вспомнить целиком, а вспоминаю все время какие-то детали: розовые пятки, блестящие ногти и то, как, вымыв руки, он нес их перед собой, большие и красные». Вот здесь чувствуется невероятная нежность. И чувствуется это во всех воспоминаниях: «Не могу, Волосик, после тебя не могу ни с кем разговаривать. Все мелки, все дураки….Снился, вкладывал мне в руки маленький пистолетик, говорил: “Ты ведь то же самое сделаешь”…» Кстати, не ошибся.
Вот эта нежность, которая между ними была, она для меня очень значима. Есть воспоминания замечательной художницы Лавинской, матери еще одного ребенка Маяковского, ведь, собственно, и Лиля признавала, что Глеб-Никита Лавинский – вот это «дитя монстра и эльфа», как она называет ее в дневниках, – действительно сын Маяковского, и, кстати, она не ревновала к Лавинской ничуть. Я, кстати, очень рад, что внучка Маяковского, сравнительно молодая, красивая и талантливая Лиза Лавинская где-то в этой аудитории этой сидит и, не знаю, одобрительно или нет, все это слушает, но вот как раз она-то очень похожа. Вот, действительно, такой женский вариант Маяковского, с ростом высоким, с лицом скульптурной лепки…
– Здорово, Лавинская! Да сиди… (аплодисменты в зале) в желтой кофте, да.
Ну вот единственные мемуары о Лиле, которые написаны с настоящей ненавистью, – это мемуары Лизиной бабушки, тоже Елизаветы Лавинской, которая пишет: «Там, на крыше, Лиля Юрьевна принимала солнечные ванны и одновременно гостей и говорила: “В чем разница между Володей и извозчиком? Володя управляет рифмой, извозчик – лошадью, а так все то же самое”». Ну, под горячую руку о любимом человеке чего не скажешь?! Тем более принимая солнечные ванны…
Конечно, она была язвительная женщина, конечно, он иногда ее дико раздражал. А вспомните, сколько мы говорим друг о друге гадостей, не будучи при этом ни Маяковским, ни Лилей.
Но я должен сказать, что ей тоже, в лучшие ее минуты, сквозь все ее женское, мещанское, каганское (Каган – девичья ее фамилия), ей очень была присуща вот эта радость нового мира. Вот это один из самых моих любимых, честно говоря, эпизодов. Тоже меня всегда упрекают в некоторой симпатии к Ленину, но у него были тоже хорошие какие-то поползновения. Вот, значит, «Окна РОСТа». Маяк, для того чтобы делать эти окна – ну, в общем, никому особо не нужные, кто верил в эту агитацию? но кто-то все же верил – и вот Маяк, для того чтобы быстрее их делать, спал, положив под голову полено, чтобы проспать не больше трех часов – на полене больше не проспишь. На спор с Черемных они рисовали плакаты, кто быстрее, кто больше в единицу времени. И вот однажды в РОСТе раздается звонок телефонный: «Позовите начальника». Лиля отвечает в трубку: «Начальника нет». – «А кто есть?» – «Только художники». – «А кто ответственный?» – «Ответственного нет». – «Ну, здорово!» Лиля спрашивает: «А кто говорит?» – «Ленин, до свидания».
Вот этот приведенный Лилей разговор: «А кто ответственный? – «Ответственного нет». – «Ну, здорово!» – вот это очень хорошо, знаете.
Когда в нынешней, до предела забюрокраченной несоветской, никаким величием уже не оправданной России раздастся звонок, спросит: «Кто ответственный?», а ему ответят: «Нет», – вот это и будет начало новой жизни. И это будет здорово.
– Как Вы думаете, осудил или поддержал Маяковский Путина бы?
(смех в зале)
– Знаете, у меня какое есть ощущение? У меня есть ощущение, что поддержал бы и застрелился. Причем практически сразу.
– Разве есть кто-то еще, сравнимый по энергетике и новаторству в другой эпохе?
– Есть два поэта: одного точно обозначил Карабчиевский, это, конечно, Бродский, который в плане риторики у Маяковского очень многому научился. Я думаю, что риторика Бродского очень похожа. Обратите внимание, что о государстве и о любви он говорит почти одними и теми же словами. И то, и другое обмануло. И стихи к М.Б., и стихи к родине строятся по одной схеме чаще всего. Отсюда «Пятая годовщина» и многие другие замечательные тексты. Второй такой поэт, конечно, Слуцкий, которого Бродский всегда очень выделял, считал одним из учителей. Слуцкий, который так замечательно выработал интонацию, что его голосом можно прогноз погоды зачитывать, и это будет убедительно, и это будет поэзия. Конечно, настоящий, да, несравнимый, безусловно…
– Как вам кажется, нынешнее раскультуривание – неизбежность, предопределенная ХХ веком?
– Да, конечно. В очень понятном, в очень простом смысле, потому что культура стала восприниматься как движение вперед, а движение вперед как обязательная кровь и ГУЛАГ. Получилась в сознании обывателя такая связь между Маяковским и ГУЛагом, что ГУЛаг – это следствие Серебряного века. Но ведь это не так, конечно. ГУЛаг – это эксцесс этого развития, точно так же, как самоубийство Маяковского – эксцесс его душевной жизни, просто депрессивный человек попался, просто попалась такая страна, которая из всего делает ГУЛаг. Она может это сделать из разведения помидоров, может это сделать из всеобщей свободы, может это сделать из фонда «Подари жизнь» – совершенно не важно, она это будет делать из всего. Просто надо некоторые матрицы этой страны видоизменить, и тогда на ее почве все будет цвести и сверкать.
– Кто, на ваш взгляд, лучше всего читает стихи из нынешних актеров?
– Ефремов. (аплодисменты)
– Могло ли все быть иначе и что именно?
– Очень многое могло быть иначе. Социалистическая идея, которая так действовала на сверхчеловека начала ХХ века, могла дать совершенно другие плоды. И дала их. В Америке. В Скандинавии. Во Франции. Совершенно другие. В Кампучии дала Пол Пота. Тут очень многое зависти, к сожалению, от почвы.
– Маяковский – ваш любимый поэт?
– Я не назвал бы его любимым. Маяковский – поэт, к которому я чувствую самое жаркое сострадание. Я никому так не сочувствую из поэтов ХХ века, ни даже Цветаевой, ни даже Мандельштаму… Хотя судьба Мандельштама страшнее, судьба Цветаевой страшнее.
Но у меня есть чувство, что Маяковский близок мне в какой-то очень странной и очень болезненной, и очень редкой ноте – вот в этой ненависти к общечеловеческому, в этом невстраивании в человеческий быт. И особенно его реплика в феврале 1930 года. Он собирается делать выставку, проходит мимо одного из помещений, и там идет товарищеский суд. И он говорит Катаняну: «Самое страшное – это судить и быть судимым». Вот в этом он мне близок невероятно. В этом неприятии любой несвободы. В этом парализующем страхе перед государственной институцией. Еще мне очень нравится другой эпизод – я не очень люблю его остроты на вечерах, зачастую довольно тривиальные, но мне ужасно нравится вот это: когда кто-то из чиновников в Госиздате на него заорал, и он, постепенно наращивая голос, сказал: [тихо] «Если Вы… [громче] дорогой товарищ [еще громче] позволите себе еще раз РАЗМАХИВАТЬ ПЕРЕДО МНОЙ ВАШИМИ ПАЛЬЧИКАМИ – я оборву Вам эти пальчики, вложу их в портбукет и ПОШЛЮ УПАКОВАННЫМИ ВАШЕЙ ЖЕНЕ!!!» Вот это мне очень нравится. Это всем бы нам так.
– Что есть сверхчеловек сегодня?
– Да то же самое, что и всегда. Он мало зависит от сентиментальности, он сильно зависит от своего ума и совсем не зависит от своего тела, я боюсь и надеюсь, что некоторые черты сверхчеловека есть в Лимонове и лимоновцах. Восхищает меня это? Да. Ужасает? Да. Я же скромный обыватель. Куда мне? В Борисе Стругацком, чей день рождения мы отмечаем, привет ему, если слышит, да, огромные черты сверхчеловека, разумеется. И черты сверхума, очень мало сантиментов и очень много провидческой мощи. Да во многих людях есть уже сегодня. В литературе очень много. В режиссере Сергее Лобане, по-моему, они совершенно отчетливы.
– Как сходятся и различаются представления о сверхчеловеке у Маяковского и Горького?
– Хороший вопрос. Он требует долгого ответа, а вас уже жаль, но попробуем коротко. Однажды один мой школьник высказал мысль, меня поразившую. Я рассказывал им про «На дне». Ведь «На дне» – гениальная пьеса, получившаяся у Горького случайно. Он рассказывал Толстому сюжет своих сцен, у него же всегда не вот такое вот развитие, не телескопическое как бы, не ствол растет, а несколько сучьев сложены в ряд – вот у него такие не связанные общим сюжетом сцены. Он собирался писать драму о ночлежке, там сидят такие обычные для него босяки, сверхлюди горьковские, они ссорятся-ругаются, тут приходит весна, они выходят благоустраивать свой участок, мирятся, умиляются – все хорошо. И Горький начал это читать. И Толстой уже после первых сцен сказал: «Господи! Какая гадость! Ну, зачем, зачем вы все это пишете? Зачем это надо вытаскивать? Кому это нужно? Все эти мерзости?»
Горький очень обиделся. Он вообще был человек обидчивый. Ему однажды Короленко в долг дал три рубля. Так он вместо того, чтобы поблагодарить – обиделся, потому что он ему, видите ли, подал их боком. А надо было, наверное, развернуться, сказать: «Вот, пожалуйста, спасибо вам большое! Какое одолжение!». Кстати, Короленко ему говорил: «Хорошо, что вы обидчивый, а то у нас все терпят». В общем, Горький обиделся и не нашел ничего лучшего, как вставить Толстого в пьесу. Если внимательно прочитать «На дне», то нельзя не увидеть, что Лука – это довольно похожий портрет Толстого. Дробный старческий говорок, толстовские идеи, толстовское утешительство. Он же говорит потом, что Лука утешает, чтобы не тревожили покоя ко всему притерпевшейся холодной души. Глупость ужасная, конечно, но вот он так видел Толстого.
Появилась такая мстительная вещь, появился этот Лука, не верящий в человека и говорящий, что человеку нужна жалость, а правда не нужна. И вот один ребенок у меня в классе сказал: «Значит, Толстой не верил в человека». И я, задумавшись, пришел к выводу: да, не верил. Он считал, что человеку, чтобы не сойти с ума, нужны два костыля: или религия, или семья. А если их нет, человек превращается в злобное и тщеславное животное. Вот это очень чувствуется у Толстого.
Горький сначала верил в сверхчеловека, а потом резко изменил отношение к нему. Случился крах этой концепции. Горький 1918 года уже ни в какого сверхчеловека не верит, а верит только в культуру. Более того, он обрастает вещами, у него появляется коллекция ваз. А Маяковского, которого он сначала так полюбил, он сопровождает грубейшей клеветой, рассказывает подхваченную от Чуковского случайную сплетню про какой-то сифилис, какой-то аборт, и тянется эта история, и он даже грозится назвать адрес одесского врача, который может это подтвердить. Лиля приходит к нему, говорит: «Давайте быстро адрес одесского врача, или я объявлю, что вы – клеветник». Он начинает рыться в бумагах. Ищет адрес одесского врача. Ну и так далее. В общем, глупые какие-то истории.
На самом деле, совершенно очевидно, что Маяковский – это тот сверхчеловек, о котором Горький мечтал и которого испугался. Это тот его герой, который осуществился, а осуществившись, заставил его трепетать.
Чуковский вспоминает, как Горький в 1915 году, Горький картинный всегда, рисующийся, говорит в вагоне дачного поезда: «Им всем, и Маяковскому, Библию надо читать. Библию». Зачем же читать? Они ее уже пишут! Они уже пишут «Тринадцатого апостола» (если помните, так поначалу называлось «Облако в штанах»). Конечно, поздний Горький вполне заслужил от Маяка письмо на Капри, письмо во многих отношениях доносительское, конечно, но заслужил.
Очень жалко мне, товарищ Горький, что не видно Вас на стройке наших дней. Думаете – с Капри, с горки Вам видней?Не говоря уже о том, что там же содержится замечательный этот диагноз:
Продают "Цемент" со всех лотков. Вы такую книгу, что ли, цените? Нет нигде цемента, а Гладков написал благодарственный молебен о цементе.Замечательно сказано! И, конечно, то, что Маяковский сказал: «Я ушел, блестя потертыми штанами; // взяли вас международные рессоры» – это тоже все точно. Горький умер советским вельможей. А Маяковский умер неуместным, деклассированным, презираемым, с вырезанным из «Печати и революции» портретом, с бойкотированной выставкой.
Так что мне кажется, что Маяковский есть та осуществленная мечта, которой Горький испугался, увидев ее наяву. Горький, к сожалению, стал в конце жизни филистером, правда, оплачено это филистерство было великим романом, ради которого он всем жертвовал, но Маяковский ведь тоже неплохо писал, однако особняк Рябушинского ему не дали.
– Расскажите о друзьях В.В., в том числе и о Гринберге.
Я не могу ничего персонально сообщить о Гринберге, потому что я им мало занимался. А другие друзья… ну, видите ли, меня интересуют прежде всего люди его класса, такие, как Силлов, погибший в 1930 году, такие, как Асеев, который все-таки нес в себе очень сильную закваску этой маяковщины, поэтому и не скурвился до конца. Такие, как Брик, который был, конечно, первоклассным исследователем языка. Есть известная эпиграмма, приписываемая Есенину:
Вы думаете, здесь живёт Брик – Исследователь языка? Здесь живёт шпик И следователь ЧК.Но тогда между исследователями языка и следователями ЧК не было уж такого принципиального барьера. Даже товарищ Нетте «напролет болтал о Ромке Якобсоне». О Романе Якобсоне могут болтать разные люди.
У меня есть ощущение, что друзья Маяковского – это прекрасная среда. Трагическая возникла коллизия, когда ему пришлось вступить в РАПП, потому что его стратегия жизненная такова, он, раз сделав выбор, верен ему до конца. Если страна поворачивает к РАППу, и он поворачивает к РАППу. Конечно, и трагическое одиночество его в ЛЕФе было очевидно. И поведение его друзей очень трагично в это время, когда Сема Кирсанов, к которому он относился по-отечески, из которого он, в общем, человека сделал, который в Одессе рылся в его мусорной корзине в поисках черновиков, чтобы чему-нибудь поучиться на этом примере, Сема Кирсанов пишет в 1930 году, что хочет соскрести с руки все рукопожатия учителя. Ну, при всей моей любви к Семену Исааковичу Кирсанову, это все-таки не очень хорошо, это не очень по-человечески.
Но главные друзья с ним под конец примирились. И одиннадцатого апреля он все-таки звонил Асееву, но не застал дома. Думаю, что если бы застал, все повернулось бы иначе.
– Приходилось ли вам применять на практике статью Маяковского «Как делать стихи»?
– Нет, не приходилось. Потому что мне никогда не приходилось их делать. Вот этот конструктивистский принцип их свинчивания мне немного непонятен. Видите ли, все советы великого человека годятся только для него самого.
– Как вы относитесь к предположениям о сотрудничестве Маяковского с НКВД?
– Резко отрицательно. Он не сотрудничал, он дружил со многими чекистами – дружил с впоследствии расстрелянным Аграновым, Блюмкину он надписывал книгу «Товарищу Блюмочке», и Лиля неоднократно говорила, в том числе Бенедикту Сарнову, что для них для всех чекисты были святые люди. Но до сотрудничества с НКВД там было крайне далеко. Я думаю, что сотрудничал он с НКВД не больше, чем Мандельштам, вырвавший расстрельные ордера у Блюмкина. Я думаю, не больше. Знакомы-то они все были.
– От лекции до лекции сквозит ваше сложное отношение к Бродскому. Можно ли несколько слов? Мне тоже сложно.
– Да какое сложное отношение? Это был замечательный поэт с чертами гения, безусловными, но и с чертами очень опасными, которые и ему самому были очевидны. Поэт, который во многом ответственен, к сожалению, за ту генерацию самовлюбленных снобов, которые ему подражают, которые его приемами лепят себе пьедестал. Приемы очень посредственные и, по-моему, совершенно очевидные.
Точно так же, простите, и Маяковский ответственен за своих эпигонов. В его творчестве тоже много есть дурного, опасного, есть и плакатность, есть и банальность, есть и то, что Пастернак называл «буйством с мандатом на буйство». Конечно, все это есть. Но, ничего не поделаешь, гений есть гений. Гений же не пряник, не червонец. У меня эпиграфом книги о Маяковском идут слова Томаса Манна, слова, кстати, сказанные о Ницше: «… и если они не переносят своих великих людей, то пусть больше их не рождают». Что, кажется, и сбывается.
– Отдельно, без связи. Бродский и Кушнер – друзья, современники и такая разная судьба.
– Они друзья и современники, но они во многом противоположны. Я думаю, что они своеобразные реинкарнации Баратынского и Тютчева. А никакой принципиальной разницы в масштабе и никакой принципиально-личностной вражды там нет, хотя были многие шероховатости. Для меня Кушнер, автор книг «Письмо», «Приметы», «Голос», «Живая изгородь», «Холодный май» – этот Кушнер для меня ничуть не хуже Бродского. И многие стихи Кушнера, в частности, его римские вещи, для меня важнее Бродского. Может быть, потому что я смотрю с позиции немного обывательской, а Бродский грохочет с позиций всемирного одиночества, отвращения, безмерной демонической самовлюбленности, его позиция более притягательна, а наша, рискну сказать, более скромна, менее выигрышна. Но в ней есть свой трагизм.
Вот, знаете, у Кушнера были гениальные стихи:
Вид в Тиволи на римскую Кампанью Был так широк и залит синевой, Взывал к такому зренью и вниманью, Каких не знал я раньше за собой, Как будто к небу я пришел с повинной: Зачем так был рассеян и уныл? – И на минуту если не орлиный, То римский взгляд на мир я уловил. Нужна готовность к действию и сила, Желанье жить и мужественный дух. Оратор прав: волчица нас вскормила. Стих тоже должен сдержан быть и сух. Гори, звезда! Пари, стихотворенье! Мани, Дунай, притягивай нас, Нил! И повелительное наклоненье, Впервые не смутясь, употребил.По-моему, это блестяще.
– Общался ли Маяковский с Хармсом?
– К счастью, нет.
– В чем уникальность просодии Маяковского и Шершеневича?
– Про Шершеневича ничего не могу сказать, поскольку никакой уникальности просодии в нем не нахожу. Это нормальная уитменовщина, нормальная прозаизация. Шершеневич мне кажется очень слабым поэтом, простите меня, и очень противным человеком. В отличие от Мариенгофа. Вот Мариенгоф был прекрасный человек, а Шершеневича я активно не люблю. Кощунство его мне не нравится. Демоническая фигура такая. С несколько бурлюковским желанием лидировать любой ценой и организовывать литературные процессы, а все-таки это в поэте дело двадцать пятое.
Что касается просодии Маяковского, то прав совершенно был Шкловский, возводя ее к Надсону, действительно, почти всегда у Маяковского можно анапестную структуру проследить. Но просто это ораторский дольник, свобода интонации, свобода разговора, на фоне страшной зажатости личности, все время неуверенной в себе, как бы компенсирующая гипертрофированная свобода и органика речи, невероятная естественность, ее разговорность, демонстративная прямота высказывания. Потому что Маяковский-лирик как раз тяготеет, особенно в ранних текстах, к просодии традиционной.
Проезжие – прохожих реже. Еще храпит Москва деляг. Тверскую жрет, Тверскую режет сорокасильный «Каделяк».Замечательно сказано! Но именно эта естественность речи как бы компенсирует крайнюю зажатость внутренней позиции, крайний надрыв, ее такое постоянное истекание кровью. Потому что если бы зажата была и речь поэтическая, то тут уже вообще всех святых выноси.
Просодия очень убедительная, очень многими подхваченная, очень удобная для выражения мыслей. Ужасно удобная. Когда долго читаешь Маяковского, хочется говорить им, так же, как после Гребенщикова хочется говорить Гребенщиковым. Я помню, как мы с приятелем вышли с концерта Гребенщикова и поспешили в столовую, и я ему говорю: «Если ты хочешь взять борщ, ты можешь взять этот борщ…» (смех в зале) И Маяковского хочется так же сразу же. Пойду направо – очень хорошо!
– Нужен ли в школьной программе Маяковский?
– Конечно нужен.
– Что делать?
– Что делать? У меня в школе была замечательная сцена, когдая читал им «Облако в штанах» – без всякой надежды, что они это прочтут, я решил им сам прочесть, весь урок под это отдал. И один мальчик крикнул с задней парты: «Мать моя! И это напечатали!» (смех в зале) Действует!
– Как Маяковский относился к философии Федорова насчет будущего в детях и «Философии общего дела»? А к Платонову?
– Я не думаю, что Маяковский читал «Философию общего дела». Потому что я не видел пока еще ни одного человека, который бы ее читал. Ведь «Философия общего дела» это набор довольно произвольных текстов. Основу его составляет «К людям ученым от людей неученых» – вот это главный, основополагающий текст Федорова, в котором сквозит полноценное настоящее безумие.
Что касается усвоения, перцепции какой-то Маяковским этого текста, я думаю, что он знал об этом из разговоров, как и большинство вещей, которые он знал, от Бриков, может быть, от кого-то из космистов, забредавших на огонек. Конечно, он это воспринимал на уровне слухов, я думаю. Но идея бессмертия, идея переустройства мира биологического была ему чрезвычайно близка, она сказалась и в «Летающем пролетарии».
Что касается Платонова, я думаю, если бы Маяковский его прочел, этот автор показался бы ему очень близким. Даже хотя бы по манере ставить слова. Я уверен, что если бы он прочел «Епифанские шлюзы», это была бы одна из любимых его книг.
Тут в записке есть еще вопрос об отношении Маяковского и Платонова к детям, о попытке зайти с детей – это было, да. Маяковский поздний уже думает, что надо идти к молодым, к самым молодым, поэтому и кружок Маяковского в последние годы, «Бригада Маяковского», которая делала это – всю выставку – это люди 15–16 лет. И бабушка моя 14-летняя бегала к нему на концерты. И Ростислав Терский, который был другом нашего дома, тоже 15-летний тогда, ходил к нему и с ним разговаривал. Вот в 15-летних он находил какую-то опору. Как, кстати, и Пастернак поздний. И не случайно Лиза Лавинская сейчас ведет детский художественный кружок, в который практически не попасть. Мастерская для малолетних совсем, для трехлетних. Видимо, 14-летние уже испорчены безнадежно.
– Расскажите про отношение Маяковского к Цветаевой.
– Знаете, мне проще рассказать про отношение Цветаевой к Маяковскому, поскольку оно документировано. Существует по крайней мере два документа. Есть реплика Цветаевой, когда она была переводчицей на выступлении Маяковского в Париже и потом ему написала: «Знаете чем кончилось мое приветствование Вас в «Евразии»?! Изъятием меня из «Последних новостей», единственной газеты, где меня печатали – да и то стихи 10–12 лет назад! (NB! Последние новости!) … Оцените взрывчатую силу Вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку и еще кому сочтете нужным». Маяковский экспонировал эту записку на своей выставке.
Кроме того, есть ее газетная реплика, опубликованная в газете «Евразия» в 1928 году:
«Маяковскому
28-го апреля накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.
– Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе?
– Что правда – здесь.
7 ноября 1928 г., поздним вечером, выйдя из Cafe Voltaire, я на вопрос:
– Что же скажете о России после чтения Маяковского?
Не задумываясь ответила:
– Что сила – там».
Очень интересное смещение акцента, она понимает, что правда не там, но сила – там.
У меня сложное отношение к их, так сказать, возможному партнерству, потому что как раз стихи Цветаевой на смерть Маяковского очень бестактны. Вот этот воображаемый диалог Есенина и Маяковского «Заложим, Сережа! – Заложим, Володя!» Дикая двусмысленность совершенно, так и представляешь, как они на том свете закладывают за воротник. Странные какие-то, неприятные стихи, неживые, в них мало живого чувства. Формула «враг ты мой родной» кажется мне несколько искусственной.
Мне кажется, что они – люди очень разного темперамента. Цветаева, хотя во многих отношениях тоже ему равна и тоже так же надчеловечна, все же обладала лучшим вкусом и подозреваю, что Цветаева была милосерднее. Есть вещи, которые Цветаева сказать не могла. Сказать: «Мы отца обольем керосином и в улицы пустим для иллюминации…» или «Стал убивать на пепельнице черепа» – это не по-цветаевски. Я думаю, что там сидела внешняя большая друг к другу тяга при глубоком внутреннем отторжении. Как поэты они, я думаю, сопоставимы. Как прозаик Цветаева выше в разы, конечно. Кроме того, она была его умней гораздо.
– Неужели семейная неустроенность не подтолкнула поэта к смерти?
– Да какого поэта к смерти может подтолкнуть семейная неустроенность? Что вы! Поэты очень живучие существа… Их критика-то не заставляет кончать с собой, а вы говорите «семейная неустроенность»…
– Сегодня в метрополитене на рекламном щите увидела слово «черночеткий». Как вы можете прокомментировать падение грамотности?
– Понимаете как… Не в грамотности проблема. Если бы это было главным… Это следствие. Следствие общего неуважения к проблеме духа как такового, к духу вообще. Это следствие общего увязания в болоте, общего сползания в XVIII век, общего отката от идей Просвещения и так далее. Если бы Маяковский очнулся сегодня, то тут только щепки бы полетели, а вы говорите «грамотность»… Маяковский сам был человек, кстати, не шибко грамотный.
– Как вы считаете, встреча с Бриками продлила или сократила жизнь Маяковского?
– Абсолютно убежден, что продлила. Думаю, что если бы не эта встреча и если бы не революция, то все шло к тому, что он осуществил бы свои суицидальные намерения гораздо раньше.
– Не кажется ли вам, что неоднократные попытки самоубийства, как минимум, еще две [думаю, еще шесть, как минимум] говорят в том числе и о давнем психологическом нездоровье?
– Конечно, говорят, конечно… А человек, по сравнению с обезьяной, тоже болен, что же говорить…
– Какими вы видите сегодняшних школьников в будущем?
– Да примерно, такими же, как сейчас. Я надеюсь на одно: всегда есть великие события, которые формируют поколения. Такие великие события у нас, безусловно, впереди. Я бы очень хотел, чтобы их не было, но у нас не остается выбора.
– Без сервильного, имманентного, энигматичного, эсхатологического, амбивалентного нарратива и так далее не получилось бы у вас книжки о Пастернаке?
– То есть имеется в виду, не могу ли я употреблять меньше умных слов. Ну, могу… Понимаете, «хорошилище грядет по гульбищу» – этого слога никто не отменял, могу, наверное. Но это и мне будет неинтересно, и вы лишний раз не выучите умное слово. Зачем же?
– Каково ваше отношение к поэме «Владимир Ильич Ленин»?
– Замечательный пример поэтической риторики. Очень интересное, странное мировоззрение. Ну, такая немножко литература инопланетян. Человеческого в ней нет ничего, но сделано очень интересно.
– Окажись он вне России, мог бы быть другим конец?
– Я думаю, что как раз это и было бы формой самоубийства, если бы он оказался вне России, это бы значило расписаться в провале собственной поэтической стратегии. А для него это было смерти равносильно.
– Маяковский и Хлебников. Прокомментируйте.
– Понимаете, если говорить о Хлебникове, то здесь как раз, по-моему, не случай сверхчеловека, а случай довольно заурядной паранойи, хотя очень творческой, очень позитивной. Мы мало знаем гениальных шизофреников, но гениальных параноиков много.
Я думаю, что Хлебников был, безусловно, гений и, безусловно, душевнобольной.
Разговоры о том, что Маяковский якобы был плагиатором, воспользовался архивом – все, что так активно распускали друзья и спутники Хлебникова, такие, как Митурич, это, по-моему, бред. Не случайно, сам Хлебников его любил.
А? Вова! В звезды стучится! Друг! Дай пожму твое благородное копытце!И так далее. Я думаю, что он любил его. Но как бы сказать? Маяковский очень точно говорил, что Хлебников – поэт для поэтов, и хлебниковские гениальные находки он очень хорошо абсорбировал и использовал. Я думаю, что в зале сегодня трудно найти хоть одного человека, который хоть бы один текст Хлебникова рассказал наизусть, кроме «у колодца расколоться так хотела бы вода».
Пересекаются ли идеи Маяковского с идеями Оруэлла и Замятина?
Хороший вопрос. У Оруэлла не пересекаются. Оруэлл после «Памяти Каталонии» уже в идее любого сверхчеловечества разочарован очень сильно. А вот с Замятиным пересекаются, конечно…

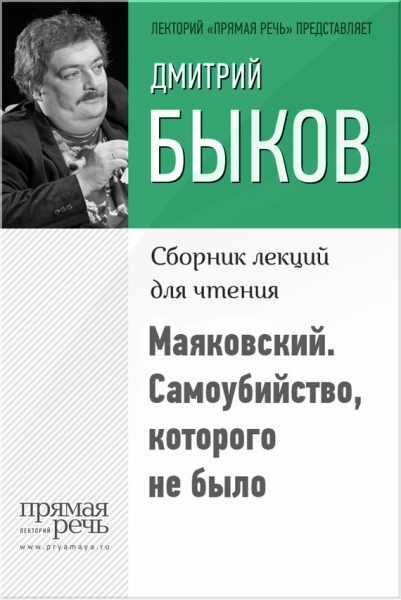
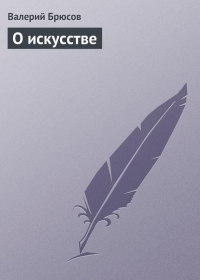





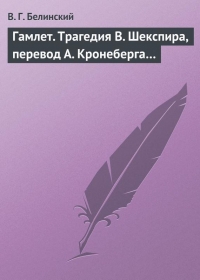
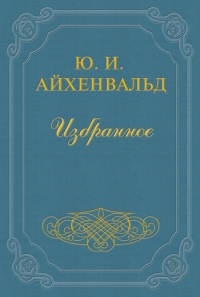

Комментарии к книге «Маяковский. Самоубийство, которого не было», Дмитрий Львович Быков
Всего 0 комментариев