Дмитрий Быков Пушкин как наш Христос
Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно. Иногда они существуют отдельно друг от друга, как «Илиада» и «Одиссея», иногда сливаются в один, как в случае Сервантеса, когда Санчо Панса – это странствующий хитрец, а Дон Кихот – вечно воюющий рыцарь. Иногда происходят с запозданием и в обратном порядке, как, например, в русской литературе, где странствия хитреца, чичиковские странствия, явно ориентированные на «Одиссею», предшествуют русской «Илиаде», написанной с огромным опозданием и называемой «Война и мир».
А вот дальше приходит сюжет новозаветный. Сюжет, который, называется у Борхеса «самоубийством бога». К сожалению, до сих пор ни в структурализме, ни тем более в любой другой литературной школе толком не разработан этот христологический сюжет, хотя на его существование с очень ранних пор намекали самые разные авторы.
Еще Лессинг заметил, что в истории Сократа есть уже все элементы истории Христа: круг учеников, предание себя на смерть, абсолютное бескорыстие, учение идеалистическое, учение притом, безусловно, о свободе. В сущности, Христос стал такой фигурой номер один, что не отменяет величия других христологических фигур в истории, а их довольно много, как это ни странно… Я прошу вас не слишком серьезно относиться ко всему говоримому, а воспринять это с некоторой долей литературоведческой рефлексии. В конце концов, Библия тоже художественный текст, подлежащий формальному анализу.
Христос стал фигурой номер один по аналогии с классическим анекдотом, когда встречаются пастор и раввин и раввин с гордостью говорит: «Вот если Вам очень повезет, падре, каков может быть венец Вашей карьеры?» – «Я могу стать кардиналом». – «А если ОЧЕНЬ повезет?» – «Могу стать папой». – «Но Богом Вы стать не можете?» – «Нет, Богом не могу». – «А вот наш все-таки пробился!» Это совершенно справедливая точка зрения. И, строго говоря, воскресение Христа – это единственное, по сути дела, отличие главной христианской концепции от всех остальных христологических мифов, которые в мире существуют. И с большой долей вероятности можно утверждать, что у Христа действительно получилось.
В основании почти каждой большой мировой культуры лежит миф о самоубийстве Бога. Некоторые такие мифы проследил сам Борхес, в частности, изучая историю Скандинавии и скандинавскую мифологию. Можно и у итальянцев проследить такую фигуру. Это фигура довольно очевидная, которая, кстати говоря, продолжает и копирует в некотором смысле основные этапы эволюции Христа, – это, разумеется, Данте, фигура изгнанническая, которая спускается в ад и, кроме того, выполняет еще одну важнейшую функцию – мы прекрасно понимаем, что фигура христианского типа никогда не свидетельствует сама о себе. За ней всегда есть некто, пославший ее, на которого она всегда и ссылается. В случае Данте это Вергилий, на которого он ссылается прямо и который есть транслятор великих доблестей Рима, как бы непосредственный мотив преемственности вводится здесь сразу же.
То, что фигура христианского плана никогда не может ссылаться на себя как на источник собственного учения, происходит не только потому, что ей нужна какая-то высшая небесная легитимация, а потому что это всегда очень скромная фигура, которая всегда вполне намеренно и сознательно переводит главный свет на стоящего за ней. И вот в этом главное отличие христианства от сектанства. Потому что вождь любой секты всегда есть фигура центропупическая, и в этом именно залог гибели этой секты. Тогда как основатель культуры – фигура по-настоящему божественная, всегда переводит свет на того, кто стоит за ним. И, естественно, в случае Пушкина мы наблюдаем точно такой же перевод. И Бог-Отец в случае Пушкина вполне очевиден – это тот самый Петр Великий, который и принес нам божественного младенца. Уж потом от этого божественного младенца, что очень важно – пришедшего из колыбели человечества, из самого Чада, – он как раз и ведет род русской поэзии.
Но самое интересно: там, откуда, собственно, и вышел пушкинский миф и пушкинские корни, где-то далеко, на границе Чада, где, по всей видимости, по современным данным, и жил когда-то первые 11 лет своей жизни маленький Абрагам Ганнибал, – вот там занятия поэзией считаются чрезвычайно престижными, более того, мужчина, не умеющий сложить песни, там считается таким же ничтожеством, как у нас, допустим, мужчина, не умеющий плавать. И Пушкин, конечно, носитель этой высшей воинской добродетели. Более того, в этом таинственном султанате Логон, там именно воин считается главной поэтической фигурой, и, более того, если воин не может спеть песнь о своей победе, победа тем самым совершенно обесценивается.
Поскольку очень долго бытовал миф об эфиопском происхождении Пушкина, миф, ни на чем не основанный, опровергнутый только в ХХ веке, его корни принято было искать в Эритрее. Но именно потом, когда, наконец, делегация от Пушкинского Дома добралась до Логона, мы узнали многие корни, многие причины пушкинского отношения к своей лире, его абсолютно героического, в некотором смысле самурайского отношения к поэзии. Там, где боевые слоны до сих пор существенный вид транспорта, там спеть о победе, может быть, даже более важная вещь, чем победить.
Если говорить уж совсем серьезно и проводить вот эти структуралистские аналогии с пушкинским мифом, можно заметить одну совершенно феноменальную вещь. Пушкин, безусловно, создал нравственное учение, как создал его и Алигьеридля итальянцев, как создал его Христос для всей европейской культуры. Но нравственное учение Пушкина находится в удивительной гармонии с его жизнью и в удивительном разладе с традиционными, навязанными нам представлениями о морали. Мне кажется, что самая высокая и самая гордая в каком-то смысле задача пушкинистики – это прочитать нравственные заповеди Пушкина, попытаться вывести ту настоящую русскую религию, которая у нас, по большому счету, заменена литературой. Ведь совершенно очевидно, что русская литература, корпус ее текстов – это и есть наша русская Библия. Сказать, что эта Библия учит исключительно добру или, Боже упаси, правильному поведению, было бы совершенно неправильно. Но тем не менее определенные моральные запреты, очень своеобразные, очень нестандартные на фоне любых традиционных этических учений, там содержатся, и, более того, тот, кто соблюдает этот пушкинский нравственный кодекс, тот в России чувствует себя прекрасно, тому и уезжать никуда не надо. Он может, конечно, под небом сумрачной России вечно вздыхать о своей далекой Африке, но тем не менее ему здесь хорошо. Правила жизни пушкинские – это правила такой жизни, чтобы в России было хорошо, чтобы страна была наша, а не эта.
Пушкин оставил нам удивительно точный нравственный свод, который полностью вмещается в шесть строчек:
Душа моя Павел,(обращается он к сыну своего друга Вяземского)
Держись моих правил: Люби то-то, то-то, Не делай того-то. Кажись, это ясно. Прощай, мой прекрасный.Здесь есть уже как минимум две существенные нравственные заповеди. Пушкин нигде не говорит: делай так-то. Кодекс поведения в России может быть определен только, так сказать, апофатически – нет обязательных вещей, которые надо делать, но есть вещи, делать которые ни в коем случае нельзя. И на самом деле это и есть главное определение интеллигенции. Интеллигент – это не тот человек, который делает то-то, то-то и то-то, это человек, который не делает нескольких очень простых вещей, но их он не делает никогда. Он не предает себя, свои принципы, ближнего. Он не ходит к власти на поклон и отстаивает право разговаривать с ней на равных, что есть его главная заповедь. И, наконец, он не руководствуется в своем поведении прагматическими соображениями. Все это чрезвычайно ясно и легко вытекает из пушкинской судьбы.
«Люби то-то, то-то» – это тоже непременно нужно, потому что если мы не будем чего-нибудь любить, все наши дела и поползновения ничего не стоят. Можно любить водку, можно любить женщину, можно любить даже карточную игру, но надо любить обязательно и очень сильно, без этого ничто не имеет смысла.
Именно точное соответствие биографии и заповедей, как правило, делает христологическую фигуру лежащей в основании конкретной культуры.
Если она отступает от своих заповедей, мы получаем прекрасного поэта, в лучшем случае. Иногда посредственного поэта, иногда выдающегося злодея. Но христологию создает гармония между учением и личностью. Это как раз случай Сократа, наиболее наглядный. Случай Христа. Идеальный практически случай Пушкина, где каждое слово подкреплено поведенчески, где любой отход от себя просто немыслим, потому что автор не сможет далее писать.
И вот на этом фоне самое интересное – это те добродетели, которые выделяет Пушкин. В одном из его писем сказано: «Мщение есть христианская добродетель». И, безусловно, умение соблюсти свое достоинство, умение соблюсти личную честь – это для Пушкина добродетель главная.
Мережковский в свое время в лучшей, навероное, статье о Пушкине, которая существует в русской литературе, в цикле «Вечные спутники» прослеживает две линии русской поэзии: первая линия, восходящая к Пушкину, аристократическая; вторая линия, восходящая к разночинцам, к Некрасову, линия интеллигентская, линия недворянская.
Я вообще думаю, что наше полузнание о Мережковском, наше безразличие к нему – это всего лишь следствие нашей духовной замшелости, отсталости. Я убежден, что лет через двести-триста Мережковский будет признан главным, если не писателем, то мыслителем ХХ века.
Так вот, в этом различении Мережковский совершенно справедливо замечает, что русская литература Пушкина предала. Почему? Потому что для Пушкина нет интереса в пользе, нет интереса в цели, нет другого целеполагания, кроме «звуков сладких и молитв». А польза называется «презренной».
Русская же литература в своем неаристократическом, «презренном» служении какому-то никому не нужному благу предпочла поставить словесность на службу идеям, на службу нравственной проповеди, а иногда, что есть худший случай, на пользу государству.
Пушкин весь в ужасе передергивается от этой идеи. Знаменитый диалог «Поэт и толпа», а вернее было бы «Поэт и чернь», потому что у Пушкина это чернь однозначно, – это ведь не диалог поэта с народом, это диалог поэта с идиотами, которые пытаются приспособить Божий дар к яичнице, то есть к изготовлению пищи.
Ты пользы, пользы в нем не зришь,(говорит он о бельведерском кумире)
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же? Печной горшок тебе дороже: Ты пищу в нем себе варишь!Писарев, человек, в общем, неглупый и даже остроумный, но очень многого не понимавший в силу своей душевной болезни, отвечает на это репликой: «Ну а ты, возвышенный кретин, ты, сын небес, ты в чем варишь себе пищу? В горшке или бельведерском кумире? Или ты питаешься той амброзиею, которая ни в чем не варится, а посылается тебе в готовом виде из твоей небесной родины?»
«Совершенно верно, ты угадал, милый кретин, – хотелось бы сказать ему, – да, той амброзией, которая ни в чем не варится». Потому что для Пушкина забота о нуждах низкой жизни, забота о презренной пользе – абсолютный идиотизм, поэта Бог питает, поэт лучше птиц небесных. И здесь, кстати говоря, Пушкин абсолютно следует учению Христа. Прекрасная праздность, великолепная вольность, непривязанность ни к какой обязанности – «вот счастье, вот права».
По прихоти своей скитаться здесь и там, Дивясь божественным природы красотам, И пред созданьями искусств и вдохновенья Трепеща радостно в восторгах умиленья. Вот счастье! вот права…Все, кто лезет с интересами презренной пользы, политики, нравственного воспитания масс, могут отправляться лесом, потому что культура совершенно не для того, молния не для того, чтобы на ней варили суп. И вот это прекрасное сознание бесполезности, любовь к праздности – это тоже еще одна очень существенная русская заповедь.
Я думаю, многие люди, живущие в России, иногда замечали: чем тяжелее и мучительнее их труд, тем меньше они за него получают. Нужно сказать откровенно, я многажды наблюдал: оплачивается в России только тот труд, который ничего не стоит. Или, более того, тот, который совершается в удовольствие и потому не замечается. В России ничего нельзя заработать систематическими, ненужными, страшно вредными и при этом отчаянными усилиями. Любой человек, который каждый день ходит на нелюбимую работу, рано или поздно окажется в положении того несчастного дурака, который вдруг увидел перед собой своего приятеля, никогда ничего не делавшего, просто пинавшего балду, по-русски говоря, и вдруг отрывшего у себя на огороде золотой самородок. Это типично русская история. Въехать в счастье на печи. И Пушкин это прекрасно понимает.
Пушкин – великий труженик, по десять раз переписывавший, бывало, одну строфу, в этом труде не видящий ничего обременительного, считающий его легким (Рифма – звучная подруга//Вдохновенного досуга), числящий этот адский труд по части досуга, Пушкин никогда в жизни не мог бы заниматься никакой систематической работой, а если бы он ею занимался, у него бы ничего не выходило.
На одной из лекций мне приходилось уже развивать мое чрезвычайно субъективное, но, думаю, верное определение гения, вернее, отличие гения от таланта. Нет ничего более враждебного гению, чем талант. У таланта все получается одинаково неплохо. Гений безобразно, отвратительно делает все, кроме чего-то одного, зато в этом одном он лучше всех. Больше того, гений может вообще ничего не писать. Об этом замечательно сказал Давид Самойлов:
В этот час гений садится писать стихи… В этот час сто талантов садятся писать стихи. В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи. В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи. В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи. В этот час десять миллионов влюбленных юнцов садятся писать стихи. В результате этого грандиозного мероприятия Рождается одно стихотворение. Или гений, зачеркнув написанное, Отправляется в гости.Вот это совершенно справедливо. Гений больше делает для литературы, перечеркнув написанное и отправившись в гости, нежели выдавив из себя четыре никому не нужные строчки. Великолепная праздность, великолепная легкость отношения к труду – вот это как раз в Пушкине есть. Более того, любые попытки заставить Пушкина работать на благо отечества, как мы помним, заканчивались чем-то вроде отчета о саранче:
Саранча летела, летела И села. Сидела, сидела, Все съела И вновь улетела.И более точного отчета о борьбе с саранчой не мог бы выдумать никто, ведь так оно и было.
Есть еще одна очень существенная заповедь, которая осталась у нас от Пушкина, вот это, пожалуй, заповедь самая трудная к исполнению. Мы прекрасно помним стихотворение «Коварность», обращенное к Александру Раевскому, мы знаем, почему оно к нему обращено, мы знаем механизм появления Онегина, правда, к сожалению, многие из нас по-прежнему думают, что Онегин – это лишний человек, страдающий титан, умница, которому вдруг, именно потому что он умен, надоело предаваться однообразным наслаждениям, и вот он вдруг вырос над породившей его средой.
Ничего подобного. На самом деле, если мы вчитаемся в роман, мы заметим удивительную особенность – Пушкин никогда, если он сам называет свое произведение, а не когда публикаторы дают ему имя, Пушкин никогда не называет вещь в соответствии с главной идеей, пушкинская мысль, как правильно пишет Синявский, всегда съезжает по диагонали. «Капитанская дочка» не про капитанскую дочку. «Пиковая дама» не про пиковую даму. И уж конечно «Евгений Онегин» не про Евгения Онегина.
Евгений Онегин не более чем спусковой механизм сюжета, персонаж, с которым автор намерен свести счеты, потому что ему надели молодые бездельники, считавшие себя выше его. Он решает им показать, кто на самом деле чего-то стоит. Весь роман – это отчаянная и вполне удавшаяся попытка свести счеты с молодым хлыщом, выдающим себя за что-то.
Нужно заметить, что Евгений Онегин во всей галерее российских лишних людей наиболее неприятная личность. Мало того, что это, грубо говоря, дурак, который знает из «Энеиды» два стиха и в конце письма может поставить «vale», что современный школьник интерпретирует как обращение к некоей Валентине, потому что он и этого не знает.
Евгений Онегин – «ученый малый, но педант» именно потому, что он может потолковать о Ювенале, которого сроду не читал. Евгений Онегин не может дочитать до конца ни одной книги и «полку с пыльной их семьей» задергивает «траурной тафтой». «Труд упорный» литературный ему тошен. «И ничего не вышло из пера его».
Более того, это хладнокровный убийца, который убивает Ленского единственно из страха перед совершенным ничтожеством – «вмешался старый дуэлист; // Он зол, он сплетник, он речист», но если он такая дрянь, то почему же ты так его боишься? Тем не менее страх перед ним оказывается сильнее любых нравственных тормозов, и, как совершенно справедливо на этот раз замечает Писарев, из этого мы видим, что Онегин – человек безнадежно пустой и совершенно ничтожный.
Я уж не говорю о том, как он поговорил с Татьяной, «очень мило поступил с печальной Таней наш приятель», замечает автор, и трудно не понять этой авторской ремарки.
Так вот, совершенно очевидно, что главным героем романа ни при какой погоде не мог быть Евгений Онегин. Главная героиня романа, протагонистка, о которой сам Пушкин говорит, что у нее было десть женских прототипов и один мужской, – это, разумеется, Татьяна Ларина, в которой узнаем мы и собственно пушкинские черты, ту же прелестную способность писать французские стихи, ту же задумчивость, ту же совершенно иррациональную любовь к русской природе, ту же любовь к гаданиям, то же пугливое воображение, ту же женскую, даже гермафродитическую сущность, потому что иначе Пушкин не может быть так всевместителен: когда он пишет о Татьяне, он – Татьяна; и женственная, робкая, застенчивая природа поэта здесь дана как нигде.
Татьяна, разумеется, и есть главная героиня, с ее приятием судьбы, с ее памятью о долге, с ее мстительностью, потому что «сегодня очередь моя» – это никак не слова всепрощения. Она будет сейчас «размазывать» героя, и поэтому такой пошлостью выглядит предположение Набокова, что сразу после этого она должна, по идее, броситься в его объятия. Ничего подобного. Там не во что бросаться. Потому что Онегин – это совершенное и законченное ничтожество.
Может быть, по этой же причине Пушкин изымает из романа дневник Онегина, все же не чуждый некоего остроумия. Об Онегине сказано: «Слов модных полный лексикон,// уж не пародия ли он?» И вот пародия он именно потому, что овладел в совершенстве единственным навыком, и это не «наука страсти нежной», поскольку «наука страсти нежной», как видим, ему оказалась в конце концов недоступна. Он не умеет уговаривать, ничего не поделаешь.
Он овладел единственным навыком – он умеет презирать. А вот презрение для Пушкина – главный грех, который сравним с убийством и даже хуже убийства. Коварность, предательство, но в особенности презрение, высокомерный снобизм, умение ни за что поставить себя выше, умение быть всегда правым – это то, что Пушкину ненавистно особенно. И все его отрицательные герои – а их довольно много, рискну я не согласиться с теми, кто говорит, что у Пушкина нет подлецов, у Пушкина есть свои подлецы, безусловно, но это не молчалины, молчалиных в пушкинском мире вовсе не принимают всерьез, это даже не скупердяи вроде Барона – все его отрицательные герои это прежде всего демонические сверхлюди, которые обожают презирать малых сих, а сами ничего из себя не представляют.
И вот местью этим демоническим сверхлюдям по большому счету и занят Пушкин, когда он пишет «Онегина». «Не презирай!» – вот главная пушкинская заповедь. Сострадай или не сострадай, если не можешь, издевайся, если хочешь, даже ненавидь, если хочешь, но не презирай. Это не прощается. Может быть, именно поэтому Пушкин – единственный в Лицее, кто не дразнит Кюхельбеккера. Он если уж и злится на него, то злится всерьез. Но именно он отказывается в него стрелять на дуэли, сказав прелестную фразу: «Брат, ты стоишь дружбы без эпиграммы, но пороху не стоишь». И после этого, естественно, остается только обняться.
Вот еще очень существенная черта пушкинского таланта, пушкинской нравственности, пушкинской морали, которая тоже нам заповедана. Мы прекрасно понимаем, что Дон Жуан, например, пушкинский Дон Гуан – это уж никак не образец нравственности. Тем не менее все-таки сострадание читателя на его стороне. Далеко не образец нравственности Татьяна, как мы понимаем. Потому что и у Татьяны есть свои пристрастия, есть своя мстительность. Да, и попробуй найди у Пушкина… Дубровский, что ли, какой-то образец морали? Да нет, конечно. Тоже типично романтический герой с теми же вспышками ярости и с теми же великолепными и бессмысленными жестами вроде появления в облике француза.
Но тем не менее есть еще одна очень существенная пушкинская заповедь, которую чрезвычайно трудно сформулировать. Зато следовать ей легко и приятно. В русской литературе есть еще один архитепический сюжет, который появляется впервые именно у Пушкина, потом наиболее подробно развивается у Достоевского, потом появляется множество раз в советской литературе. Правильнее всего охарактеризовать этот сюжет как убийство старухи, которую не жалко.
Это довольно странная история: почему-то в русской литературе чаще, чем в любой другой возникает мотив убийства лишнего человека, как бы ненужного, как бы мешающего. Ну вот давайте мы его убьем, и как нам будет хорошо. Та же история с «Пиковой дамой». Именно «Пиковая дама» есть как бы прасюжет «Преступления и наказания», который дословно потом реализован Достоевским, с той только разницей, что Пушкин, как автор аристократический, работающий гораздо более тонко, не снисходит до топора. «Дама ваша убита». Но убита она в процессе игры в фараон. И тут ничего такого, собственно, не происходит. Если старуха и умирает, то умирает от личного страха – представить Германа с топором мы не можем.
Но возникает один очень принципиальный вопрос. «Пиковая дама, – гласит знаменитый эпиграф, – означает тайную недоброжелательность». Что такое эта страшная старуха, под недоброжелательным, брюзгливым взглядом которой протекает вся русская жизнь? Эта тайная недоброжелательность пронизывает нас всех, мы все как будто находимся под пристальным, нелюбящим, злым, прицельным глазом. Очень часто, что греха таить, мы сами друг на друга так смотрим.
Тайная недоброжелательность, разлитая в воздухе и персонифицированная в образе этой старухи, так же естественна в нашем воздухе, как влага в Петербурге. Невозможно вдохнуть, чтобы не принять дозу этой тайной недоброжелательности. Те немногие мазохисты, которые иногда вступают в дискуссии в Интернете, почему-то поражаются, почему на них сразу, после первого их слова выливается такое количество ненависти. А потому что «Пиковая дама» – главная карта русской литературы. И убить эту «даму» невозможно. Эта страшная старуха повсюду. Обратите внимание, что Пушкин заставляет свою «Пиковую даму» произносить довольно гадкие вещи даже о русской литературе. Когда она спрашивает своего внука: «Да разве бывают русские романы?» А прочитав эти русские романы, говорит: «Отошли это князю Павлу и вели благодарить». В то время как уже в России существует и сам Пушкин, и «Юрий Милославский» и недурные романы Лажечникова – было бы из чего выбрать. Нет. «Отошли князю Павлу и вели благодарить». Презрение, тайная недоброжелательность и здесь разлиты в воздухе.
Почему же нельзя убить старуху? Вот вопрос, которым задаются автор и герой. И получают ответ: потому что нельзя. Потому что это нравственная аксиома. Вот и все. Старуху, сколь бы отвратительна она ни была, приходится терпеть.
Как раз сейчас мне приходится десятиклассникам давать «Преступление и наказание», потому что это уникальный в своем роде роман, в котором действие завязывается в одной плоскости, сугубо умозрительной, теоретической, а разрешается в другой – бытовой, реалистической.
Достоевский ставит, в общем, теоретические вопросы. Можно ли ответить на теорию Раскольникова чем-нибудь вменяемым, чем-нибудь внятным? Нельзя. С точки зрения здравой логики, старуху надо убить обязательно. Алена Ивановна ужасная женщина, она третирует свою кроткую сестру Елизавету; кстати, а как же звали воспитанницу, которую третировала старая графиня в «Пиковой даме»? Для того чтобы мы уже окончательно получили архетипическую модель. Разумеется, Лизанька.
В обоих случаях это старуха, третирующая родню, старуха, дающая деньги в рост или, что еще хуже, утаивающая страшную денежную тайну. Старуха, которую ненавидит все ее окружение. Не случайно и Пушкин с такой брезгливостью пишет о постыдных тайнах туалета графини. С точки зрения теоретической, старуху не просто надо убить, это есть моральный долг всякого приличного человека. Но все последующие пять частей романа Достоевского на антропологическом уровне доказывают нам: нельзя. Нельзя, хотя и очень хочется. С убийством старухи в мир входит гораздо более страшное зло, чем старуха. И «Пиковая дама» тоже написана именно об этом.
Мы и рады бы уничтожить то отвратительное, что есть в нашей жизни. Но уничтожив это отвратительное, мы уничтожим в себе человеческое. И вся наша дальнейшая жизнь сделается бессмысленна. И будем мы сидеть в Обуховской больнице, бормоча: «Тройка, семерка, туз». Ну, правда, повезло и Лизаньке, она взяла себе воспитанницу и скоро будет такой же старухой.
Пушкинская мысль о том, что отвратительное убивать нельзя, потому что иначе мы убьем в себе человеческое, теснейшим образом связана с другой пушкинской мыслью, тоже заповеданной нам и тоже глубоко христианской в своей сущности. Это мысль о неприемлемости, постыдности, губительности бунта. Русский бунт для него бесмысленен и беспощаден. Хотя нам очень бы хотелось приписать Пушкина к любым ниспровергателям режима. Как, черт возьми, как это соблазнительно! Как Христа приписывали к революционерам на французских баррикадах. Ужасно хочется приписать Пушкина к декабристам. Как замечательно в свое время говорила Тамара Габбе: «Книга Милицы Васильевны Нечкиной «Пушкин и декабристы» замечательна тем, что в ней нет ни Пушкина, ни декабристов, но есть одно огромное И на семьсот пятьдесят страниц». Ужасно хочется это И растянуть, ужасно хочется привлечь Пушкина на свою сторону.
Но, к сожалению, это невозможно. Никакой русский бунт у Пушкина никогда не получает оправдания. Скажу больше, ситуация бунта, наиболее наглядно отраженная в «Медном всаднике», не только отвратительна, но и неизбежна, и она будет неизбежна ровно до тех пор, пока русская государственность будет состоять из этих двух составляющих: хладный гранит, угнетающий болото, и само это болото, подавляемое гранитом. Между ними нет ни контакта, ни диалога, они существуют независимо друг от друга. Сто лет гранит давит на болото, раз в сто лет порабощенная стихия бунтует и сносит всех, в первую очередь неповинных. Таких, как несчастный Евгений и его возлюбленная, живущая в маленьком домике на острове.
Вот в этом-то и есть пушкинское понимание стихии. Стихия неуправляема и не права. Я не сказал бы, что это аристократический взгляд на проблему, хотя, разумеется, у аристократа есть не убеждения, а предрассудки, и Пушкин эти предрассудки защищает. Но здесь дело не в сословном предрассудке. Здесь дело в ином.
Пушкину одинаково омерзительны и давление на это болото, и бунт этого болота, потому что это явления одной природы. А вот какой-то продуктивный вариант мог бы найтись, если бы между этим «гранитом» и «болотом» или между Поклоном и Болотом, говоря в сегодняшней терминологии, наметился диалог, наметилось бы какое-нибудь взаимопонимание. Более того, наметилось какое-нибудь общее дело. Но ничего подобного не происходит. И вот это еще одна заповедь Пушкина, за которую, к сожалению, ему пришлось дорого заплатить.
Сотрудничество «гранита» и «болота» – это иллюзия. Пушкин эту иллюзию полностью на себе опробовал, в отличие от многих своих друзей, которые с характерным, тоже априорным презрением говорили: «Нет, с этой властью никогда ничего общего…» Это говорил, например, Вяземский, который возмущался пушкинскими «Стансами», возмущался стихотворением «Друзьям», и возмущался стихотворением «Клеветникам России», однако, как справедливо замечала Ахматова, он этим возмущался в дневнике, а Пушкин сказал свое вслух и публично, а Вяземскому вся его хваленая фронда не помешала нацепить на задницу камергерский ключ. «Любезный Вяземский, поэт и камергер, ‹…› На заднице твоей сияет дивный ключ…» Действительно, сиял, несмотря на всю фронду.
Так вот пушкинский урок заключается, безусловно, в том, что лояльность к власти опасна, что лояльность к власти губительна, но тем не менее лучше проделать этот опыт на себе, чем с презрением отвергать любые возможности делать добро. Здесь тоже сказалось пушкинское нежелание презирать.
И когда Бенкендорф предлагает ему в абсолютно провальной для него ситуации подать записку о народном просвещении, о народном образовании, Пушкин говорит: «Не должно упускать случая сделать добро». И идет делать это добро, после чего, как он сообщает, «мне вымыли голову». И, в общем, всякая искренняя попытка сделать добро на государственном уровне в России заканчивается примерно так же.
Тут, понимаете, все, к сожалению, очень упирается в текущий момент. Все происходит буквально рядом с нами. Я помню, как я интервьюировал Пиотровского, директора Эрмитажа, и спросил, зачем он вошел в совет директоров ОРТ, хотя с ОРТ все понятно. На что он мне ответил: «Не должно упускать случая сделать добро». Как видим, Первому каналу от этого было ни горячо ни холодно, а Пиотровскому все-таки очень неприятно, потому что своя фамилия в таких списках – это, конечно, катастрофа. Сегодня мы присутствуем при другом мощном обсуждении: следовало ли Чулпан Хаматовой голосовать за Путина, если таким образом она, может быть, спасает жизнь больным детям? Разумеется, это глубоко ложная дилемма, потому что сначала, когда государство одной рукой делает все, чтобы невозможно было лечиться, а другой благотворительствует, участвовать в его играх по определению нельзя. Но у нас есть мощный аргумент – у нас есть наш Пушкин, который не нашел в себе сил презрительно отвергнуть эту возможность, который честно попробовал, который, едучи в Москву на коронационные торжества в сентябре 1826 года, имеет при себе только что законченного «Пророка», гипотетически с последней строфой: «Восстань, восстань, пророк России, //в позорны ризы облекись, // восстань, и с вервием на вые убийце гнусному явись!» – он едет к «убийце гнусному» и через три часа разговора выходит вместе с ним к подданным и слышит о себе: «Теперь это мой Пушкин».
Разумеется, найдется очень много людей, готовых его за это осудить. Но тем не менее нравственная заповедь Пушкина нам говорит в этом случае «не осуждай». Пробуй и надейся.
Почему же, собственно говоря? Ведь мы прекрасно понимаем, что сотрудничество с этой властью никого не спасет, а поэта замарает. Потому что тот, кто это знает, тот, кто априори презирает и не верит, – это не наш человек, не наша фигура. Потому что без веры, детской, наивной, бессмысленной, не может быть гения. Мне скажут, что это идиотизм. Очень может быть. В таком случае гений не может быть без идиотизма. На этот случай Пушкин нам оставил еще одну совершенно конкретную заповедь – «поэзия, прости Господи, должна быть глуповата».
Разумеется, когда я говорю о себе, мне самому совершенно неприемлемо с этой властью сотрудничать ни в чем, хотя позыв очень силен, желание сильно, сильно сознание значимости своей, которая появилась бы. Это значит только, что я еще недостаточно смиренная личность и недостаточно хорошо еще следую пушкинским заповедям, в конце концов, много ли мы можем назвать людей, которые бы им следовали?
А вот другая удивительно точная, удивительно пророческая пушкинская заповедь. О ней говорить сложнее всего, потому что она не формулируется словами. Нормальное состояние в России – это состояние незнания, непонимания, состояние мучительного выбора, состояние зависания между двумя полюсами.
Тот, кто знает, на самом деле не знает ничего. Тот, в ком происходит вечная буря, смятение и поиск, тот наш человек, и тот живет правильно, не приемлет никакой окончательности.
Протагонист в «Пире во время чумы», безусловно, Председатель. Но, как совершенно точно заметил Рассадин, а до него еще Непомнящий, композиционно лучшее стихотворение русской литературы – «Песня Председателя». Все сходятся, от Ходасевича до Цветаевой в том, что лучшего лирического шедевра не порождала русская литература.
«Песня Председателя» зажата между «Жалобной песней Мери» и появлением священника. За Предесдателем нет правоты. Председатель говорит священнику: «Святой отец, оставь меня». И вот этот-то как раз самое страшное. За лучшим текстом в русской литературе нравственной правоты нет. Но тем не менее мы понимаем и то, что изложенная в нем истина не окончательна. Правда Пушкина не в гордом презрении к смерти и не в милосердии, а в зависании между этими двумя полюсами. И тот, кто между ними болтается, из того никогда ничего не получится. Грубо говоря, тот, кто в России знает, как жить, на самом деле ничего не понимает и проживет неправильно.
Вспомним этот гениальный текст, который так соблазнителен, который неотразим как всякий соблазн.
Когда могущая Зима, Как бодрый вождь, ведет сама На нас косматые дружины Своих морозов и снегов, – Навстречу ей трещат камины, И весел зимний жар пиров. Царица грозная, Чума Теперь идет на нас сама И льстится жатвою богатой; И к нам в окошко день и ночь Стучит могильною лопатой…. Что делать нам? и чем помочь? Как от проказницы Зимы, Запремся также от Чумы! Зажжем огни, нальем бокалы, Утопим весело умы И, заварив пиры да балы, Восславим царствие Чумы. Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы. Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья – Бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог.И дальше эти четыре страшных ямбических удара:
Итак, – хвала тебе, Чума, Нам не страшна могилы тьма, Нас не смутит твое призванье! Бокалы пеним дружно мы И девы-розы пьем дыханье, – Быть может… полное Чумы!За этим гениальным текстом стоит страшная моральная неправота. Потому что произносит его тот самый Вальсингам, который только что на коленях «труп матери, рыдая, обнимал».
И вот в этом, в кураже над гробом, в вечном сомнении в упоении, в этом лежит высшая мудрость Пушкина. Упивайся и всегда помни, что ты при этом не прав. Как это еще объяснить – я не знаю. Для этого, наверное, нет формулировки. Собственно, лучшая формула русской жизни это и есть упоение и раскаяние. Может быть, поэтому самое знакомое нам состояние – это похмелье. Состояние, в котором замечательно сочетаются память о вчерашнем восторге и нынешнее горькое покаяние. Кстати говоря, и Пушкин всегда считал это состояние весьма нравственно благотворным, а потому впадал в него весьма охотно.
Есть еще одна очень важная пушкинская заповедь, которая и есть основа вот этой странной русской христологии, русской версии христианства, – Пушкин прожил жизнь в тяжелейшем сомнении, более того, в уверенности в некоторой неправильности и своего образа жизни, и своих взглядов, Пушкин прожил в твердом убеждении, что где-то есть другие правильные люди, настоящие люди.
Кто в жизни шел большой дорогой, Большой дорогой столбовой, – Кто цель имел и к ней стремился, Кто знал, зачем он в свет явился…А сам он считал, что живет неизвестно как, неизвестно зачем, «дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» – и после этого, когда митрополит Дроздов бездарной, прости Господи, рукою поправляет эти стихи и говорит:
Не напрасно, не случайно Жизнь от Бога мне дана… –Пушкин отвечает на это, на мой взгляд, убийственной иронией, хотя некоторые почему-то трактуют эти стихи очень серьезно.
И внемлет арфе серафимов В священном ужасе поэт.Разумеется, понятно, с каким чувством внимал поэт этой небрежной переделке. Дело в том, что «не напрасно, не случайно» – это тоже версия самодовольных, туповатых, ограниченных людей. При самой искренней вере в Бога надо все-таки помнить, что, к великому сожалению, мы не знаем, зачем она дана, и никогда этого не узнаем, во всяком случае, пока она нам дана. И если мы считаем, что знаем, то тут-то нам и карачун, вот тут-то нас и пора уже, действительно, пристрелить: «Аня, как только я начну пасти народы – придуши меня», как говорил Гумилев.
Это самое странное в Пушкине. Пушкин, который так верит своему предназначению, который так бережет этот огонь, при этом полон сомнений в своей нужности, полезности, своевременности.
А отношение к чуду жизни и к тайне смерти у него поэтому простое и домашнее, как к тайне, которую разгадать все равно невозможно. И, наверное, лучше всего это сказалось в лучшем из его поздних стихотворений и наименее известном, к сожалению, в «Погребальной песне Иакинфа Маглановича» – лучше которой ничего нет ни в «Песнях западных славян» в целом, ни во всем каменноостровском цикле.
Надо сказать, что евангельский каменноостровский цикл Пушкина («Отцы-пустынники и жены непорочны…», «Когда за городом задумчив я брожу…» или «Из Пиндемонти» и т. д.), что говорить, это гениальные стихи. Но все-таки насколько лучше и насколько в высшем смысле религиозней, полней, полнозвучней, радостней «Песни западных славян», которые и есть его лучшее завещание – это завещание и в формальном отношении – завещание русской поэзии отказаться наконец от скучных ямбов и хореев и попробовать веселый дольник. И, кроме того, это завещание правильно, по-домашнему интимно относиться к тайне жизни и смерти. Мы все равно их не поймем, поэтому лучше делать их бытовыми, простыми, без лишнего пафоса.
С богом, в дальнюю дорогу! Путь найдешь ты, слава богу… Светит месяц. Ночь ясна. Чарка выпита до дна.Конечно, это не от панибратства со смертью. Это от высшего доверия к жизни и к Богу, от нежелания искать разгадку и от тайной веры, что все равно все будет хорошо, что бы мы об этом ни думали. Вот это ощущение мира как дома, в котором все без нас предусмотрено и без наших усилий будет хорошо, – это тоже очень пушкинское и очень существенное. И это нам тоже заповедано. Не надо слишком много думать – всё устроится. Отсюда вот этот великолепный фатализм.
Наконец нельзя не сказать об одной очень важной черте всякого христианского мифа: во всяком христианском мифе обязательно есть Иуда. Без Иуды не бывает ничего. Это не обязательно предатель. Это не обязательно человек, который лично предает Христа. Это враг, потому что он его имманентный противник по всем линиям, он его полная противоположность.
И такая противоположность в нашем христологическом мифе есть, это очень хорошо и наглядно. И это Булгарин. Удивительная фигура, которая в русской литературе и всегда стоит с клеймом предателя, потому что он доносит на своих коллег и дает советы правительству, как именно их должно преследовать.
У Булгарина много недурных черт. Во-первых, Булгарин – человек довольно большой храбрости. Если Пушкин все время говорит о «пугливом воображении» поэта, то в Булгарине нет никакой пугливости, он храбрый малый. Он – вор, безусловно, он – отчаянный рубака. Он – предатель несколько раз. «Россию предает Фаддей// и уж не в первый раз, злодей!» – говорил о нем Лермонтов. Его биография весьма точно изложена в гениальной пушкинской пародии «Настоящий Выжигин»: Глава I. Рождение Выжигина в кудлашкиной конуре. Воспитание ради Христа. Глава II. Первый пасквиль Выжигина. Гарнизон. Глава III. Драка в кабаке. Ваше благородие! Дайте опохмелиться! Глава IV. Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство. Глава V. Ubi bene, ibi patria <см. перевод>. Глава VI. Московский пожар. Выжигин грабит Москву. Глава VII. Выжигин перебегает. Глава VIII. Выжигин без куска хлеба. Выжигин ябедник. Выжигин торгаш. Глава IX. Выжигин игрок. Выжигин и отставной квартальный. Глава X. Встреча Выжигина с Высухиным. Глава XI. Веселая компания. Курьезный куплет и письмо-аноним к знатной особе. Глава XII. Танта. Выжигин попадается в дураки. Глава XIII. Свадьба Выжигина. Бедный племянничек! Ай да дядюшка! Глава XIV. Господин и госпожа Выжигины покупают на трудовые денежки деревню и с благодарностию объявляют о том почтенной публике. Глава XV. Семейственные неприятности. Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы. Глава XVI. Видок, или Маску долой! Глава XVII. Выжигин раскаивается и делается порядочным человеком. Глава XVIII и последняя. Мышь в сыре.
Всё это, разумеется, было. Булгарин был перебежчиком от Наполеона, потом еще несколько раз предавал, врал, доносил, клеветал. Замечателен его ответ Дельвигу на дуэльный вызов: «Я видывал на своей жизни более крови, нежели г-н Дельвиг чернил». И думаю, что это правда. Думаю, что это не бегство от вызова, а вполне нормальное нежелание вляпываться в лишнюю историю. Булгарин храбр как всегда храбр подонок. У него есть такая храбрость, не только храбрость молодца против овцы, это вообще физическая храбрость наглого, безнаказанного человека. Есть и трусость. Трусость перед властью, трусость перед любым проявлением силы, трусость перед Богом, отсюда его робкая, заискивающая религиозность. И самое главное, что Булгарин – самая ненавистная в русской литературе фигура – это популярный писатель.
Вот ведь какая у нас в этом смысле удивительная страна: популярность у нас не гарантирует любви. Более того, все популярные фигуры масскульта прекрасно понимают, что народ их втайне ненавидит, все популярные властители, которым народ кадит, прекрасно знают, что народ после их смерти скажет о них самое худшее. Популярность в России – это залог народной ненависти. Высоким рейтингом у нас пользуется только то, что мы презираем. И мы потому и даем этому такой высокий рейтинг, что на его фоне мы превосходны. Мы только потому смотрим сегодня телевизор, чтобы на его фоне ощутить себя титанами, больше у нас, к сожалению, нет для этого никаких оснований.
Но именно то, что рейтингово, то и ненавистно. Дарья Донцова – этот Булгарин сегодня – не должна обольщаться тем, что народ ее любит. Огромные тиражи ее книг – это залог того, что ее ненавидят в России. И чем больше тираж, тем сильнее ненависть. Трех- и пятитысячные максимальные тиражи русских гениев в диапазоне от Пушкина до Некрасова как раз и доказывают, что хорошо может быть только то, чего мало. Мы любим только элитное, только превосходное, только доступное немногим, как, например, Рублевка.
Мы прекрасно понимаем, что чем общедоступнее фастфуд, тем хуже его качество. Булгарин, гордившийся тем, что первое издание «Выжигина» допечатывалось 7 раз и тираж достиг 28 тысяч экземпляров, прекрасно понимал, что эти 28 тысяч – это бумага для того костра, на котором он будет жарится в бесконечности, потому что имя его, конечно, забыто не будет.
Более того, Булгарин у нас проповедник обыденной нравственности в самом простом ее смысле: он трезвенник, с определенного, разумеется, момента, он моногамен, потому что кому он такой нужен? Он верноподданный слуга царя и отечества, а о Пушкине он пишет: «Можно ли было любить его, в особенности пьяного?» Разумеется, Пушкин для него синоним человека безнравственного. Кстати, и Николай Первый, тоже хорошая гадина, любил поговорить о том, что Пушкина привезли к нему 9 сентября 1926 года, покрытого язвами от дурной болезни, – ложь, конечно, ни на чем не основанная, но, с другой стороны, не проверишь…
И вот эта демонстративная нравственность, подобострастие, если угодно, даже и гуманизм заведомо прожженных сволочей – это и есть черта русского Иуды. Он всегда лицемер, всегда государственник и всегда создатель массовой культуры.
Что же такое тот таинственный народ, который и придает у Пушкина окончательную легитимность всему? А вот это, пожалуй, показано наиболее наглядно в самом темном, в самом загадочном произведении Пушкина, которое можно перечитывать бесконечно и все равно не понять, потому что уж об очень непонятной материи оно написано. Не зря «солнце наше» кричало после этого: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»
Разумеется, «Борис Годунов» – произведение, которое не просто так не поддается ни одной постановке. И даже замечательный, по-моему, во многих отношениях конгениальный оригиналу фильм Мирзоева все-таки не более, чем остроумный экзерсис на общеизвестную и все-таки таинственную тему.
«Евгений Онегин» – понятное сочинение. «Дубровский», «Пиковая дама» – всё более-менее логично. «Борис Годунов» тоже назван по диагонали и тоже не про Бориса Годунова. Разумеется, в драме два главных героя: Отрепьев и народ. И вот народ ведет себя как функция очень загадочная, и более того, Пушкин сам не знал, как закончить вещь. Вы все знаете, что беловой автограф заканчивается словами: «Народ. Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Народ послушно кричал бы то, чего от него хотят: «Что ж вы молчите? Кричите: «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» – «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!»
Только в последней авторской воле, в единственном прижизненном вот этом тексте, появляется ремарка «Народ безмолвствует». Все-таки неожиданно в сознании Пушкина весы склонились на сторону этого самого народа. И вот, пожалуй, здесь Пушкин дал самое точное определение нам с вами.
Мы – люди лицемерные («Нет ли луку? Потрем глаза» – «Нет, я слюней помажу»), мы люди двуличные, мы готовы кадить этой власти, требовать от нее чего-то, лишь бы она нас не трогала, мы готовы откупаться от нее. И когда мы говорим, что любим ее, нам верить не следует. «Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых». Но вот одного у нас у всех не отнять – это глубокого, глубоко запрятанного нравственного чувства, той нравственной легитимности, той нравственной санкции, которую мы или даем им, или не даем.
И вот как только мы перестанем ее давать, тут же сразу «кровь хлынула из уст и из ушей». Тут очень странная закономерность. Но закономерность эта, безусловно, есть. Народ не просто гигантская амеба, которая сегодня кричит: «Ура, наш царь! Да здравствует Борис!», а завтра: «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» – нет. Это все-таки темная, лицемерная, жестокая, фальшивая, какая хотите, но это сила, которая в определенный момент вдруг безмолвствует.
И тогда ничего не поделаешь. Тогда кранты. Вот это удивительное пушкинское прозрение о том, что вся власть в России принадлежит только этой загадочной нравственной легитимности, когда –
Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов? Не войском, нет, не польскою помогой, А мнением; да! мнением народным.Это, конечно, и фальшивое мнение, и покупающееся мнение, и часто меняющееся, и, более того, это мнение народа, который ни за что не хочет отвечать, который вечно делегирует свои права кому-то.
Но однажды вдруг наступает момент, когда он безмолвствует, когда вдруг в нем просыпается вот это вечное нравственное начало. И тогда с ним невозможно сделать ничего. И тогда после этого сразу Минин и Пожарский. И тогда высочайший взлет народного вдохновения и конец смуты, и начало нового этапа российской истории.
Вот страстная вера Пушкина в то, что этот темный, фальшивый, малый, как мы, мерзкий, как мы, – какой угодно – народ все-таки обладает непрошибаемым нравственным чувством и владеет правом отозвать свою любовь, когда ему надоедает эксплуатация, – вот это, пожалуй, и есть самый светлый оставленный нам урок.
Мы можем сказать, что мы и малы, и мерзки, но иногда мы начинаем безмолвствовать, и тогда все становится правильным. И в этом залог того, что Пушкин с нами; всегда же мы верим в то, что наш Христос встретит нас на небесах, как все христиане надеются встретиться во Христе, так все русские начиная с Гоголя надеются встретиться в Пушкине. Пушкин это тот человек, который явится в полном своем развитии через двести или триста лет. Эти двести и триста лет от нас бесконечно отодвигаются. Но тем не менее мы знаем, что наше будущее – Пушкин. И это дает нам радость и уверенность.
Вопросы
У вас сразу появились вопросы? Вспомним, как
сказано Христом: «Откроюсь не искавшим меня». Пушкин очень редко открывается профессиональным пушкинистам, как Христос – профессиональным священникам. Он, как правило, открывается людям, которые думают над ним самостоятельно, поэтому у нас с вами хорошие шансы.
Что будет с нашей культурой в ближайшие 10 лет?
Будет Пушкин, это ее неизбежное и светлое будущее.
Хотелось бы услышать ваше мнение на тему: Пушкин как персонаж «Евгения Онегина».
Блистательный вопрос! Пушкин как персонаж «Евгения Онегина», собственно, задан уже одним из отброшенных эпиграфов: «Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное различение». «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной». «Я был озлоблен, он угрюм». Пушкину присуща живая злоба, иногда даже арапское бешенство, а вот хладнокровное пренебрежительное угрюмство ему чуждо.
Я думаю, что Пушкин оттеняет Онегина именно тем, что он в связи со своей удивительной способностью любить всех и любит всех. Это совершенно верная мысль Синявского: Пушкин любит всех. Он вмещает всех героев своего текста. Чем ярче герой, даже если он злодей, тем больше любит его Пушкин. Он восхищается ими. Пушкин любит всех, Онегин не любит никого. И это очень наглядно. Пушкин все время говорит «мой Ленский», «моя Татьяна» и даже «мой Онегин». Онегин ни о ком не может сказать ничего подобного.
При жизни Пушкина Гоголь сказал о нем как о национальном поэте. То есть Пушкина при жизни отлили в бронзе?
Да нет. Это не в бронзе, конечно, что вы… Наоборот, сказать «национальный поэт» – это значит в огромной степени принизить его. Тургенев, напротив, доказывал, что мы узко трактуем Пушкина, мы видим в нем слишком национальное, тогда как на самом деле надо любить его всемирность, его европейскость, его открытость и так далее.
Сказать «национальный поэт» – это очень сомнительный комплимент. Я думаю, что Гоголь сильно преувеличивал свою близость с Пушкиным, при том, что, конечно, он – равновеликая ему фигура. И при этом, я думаю, Пушкин относился к нему с немалою досадою. Назвать его национальным поэтом – ну это как сегодня сделать комплимент, сказав: «Ты – настоящий верный путинец». Что-то в этом роде… Я думаю, это слишком узкая характеристика, это как раз не в бронзе он отлит. Пушкин – явление абсолютно всемирное, и в этом как раз его русская душа.
С какого возраста и что в первую очередь следует читать детям у Пушкина?
Я думаю, что «Пиковую даму» обязательно, «Повести Белкина» обязательно, из драматических произведений и из поэтических «Маленькие трагедии» и «Песни западных славян», лучше которых я вообще ничего не могу найти.
Если бы Пушкин воспитывался сегодня, то что было бы с Лицеем?
Интересный вопрос, на самом деле. Я сильно подозреваю, что такой частной школы, очень сильно напоминающей Хогвартс, в России сегодня нет. Нет среды, которая воспитала бы Пушкина. Почему? Потому что Пушкина воспитывали несостоявшиеся реформаторы. Пушкина воспитывал Куницын, которому «дань сердца и вина». Лицей был построен для наследников, а достался в результате такой аристократии обедневшей.
По большому счету, если бы у нас сейчас был Лицей, в котором преподавали бы бывшие гайдаровцы, при условии, разумеется, что они были бы под строгим правительственным надзором, и над ними был бы какой-нибудь Энгельгардт, и они не слишком бы увлекались, и если бы при этом еще шла Отечественная война, то вот тут для Пушкина был бы хороший инкубатор.
Но думаю, что все это не за горами так или иначе… Особенно Отечественная война.
Кто, на ваш взгляд, пророчестововал о Пушкине?
Можно ли назвать Марину Цветаеву апостолом?
Очень интересная точка зрения. У нас, если уж продолжать структуралистские аналогии, есть сретение, и все легко поймут, когда это сретение состоялось. Когда в Лицей в 1815 году приехал Державин, когда он еще спросил: «Где у вас нужник?», чем страшно разочаровал Дельвига. Пушкин прочел ему стихи, и после этого Державин сказал: «Оставьте его поэтом!» И была еще знаменитая фраза: «Скоро явится свету другой Державин: это Пушкин, который уже в Лицее перещеголял всех писателей». Дождался наследника.
Другое дело, что это сретение не сопровождалось пророчествами о Пушкине напрямую. Но тем не менее, пророчество о том, что в России будет национальный гений, будут свои гении – вот, пожалуйста, ломоносовское пророчество чем вам не Иоанн Предтеча? И тоже дитя Петра, не видевшее Петра.
Дерзайте ныне ободренны Раченьем вашим показать, Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать.И она тут же родила… Вот он напророчестовал. Кстати говоря, Ломоносов – это очень в таком смысле предтеченская фигура. Не зря его Пушкин называет первым нашим университетом. И тут уж, если продолжать эти аналогии, можно много до чего договориться, до чего я договариваться не хотел бы. Тут появляется своя «Иродиада», это все, конечно, не нужно.
А как раз черты определенные у Ломоносова есть. Это быстроумие невероятное, универсальность, невероятная широта интересов и абсолютно пушкинская гармоничность развития. Ведь Ломоносов не просто первый наш университет, это силач, верзила, мне в ломоносовской биографии безумно нравится эпизод, когда Ломоносов идет по пустынному еще Большому проспекту Васильевского острова, обдумывая некое физическое явление, кажется, как раз северное сияние, и тут на него нападают три иностранных матроса, одного он валит с ног, двое других убегают в панике, а он, узнав от упавшего, что они собирались его ограбить, говорит: «Ах, каналья, так я тебя ограблю», сдирает с него одежду и радостно идет домой с трофеем. Вот в этом есть какая-то великолепная пушкинская задиристость. Легкость, вечное детство и, простите, неубиваемое физическое здоровье, потому что Пушкин это еще и образец замечательного физического совершенства, замечательной гармонии, неубиваемости. И это делает Ломоносова фигурой абсолютно предтеченского масштаба.
Что касается апостолов… Пушкин был окружен этими апостолами, этими учениками, этими младшими современниками. Иногда это прямое апостольство. Иногда он открывается им, как Христос открылся Савлу, который становится Павлом на этом пути. Думаю, что с Тютчевым произошло нечто подобное. И разумеется, Языков, Баратынский, Лермонтов, в огромной степени Гоголь – эта среда ученическая существует, конечно. Существуют и близкие друзья, которые тоже с ним ходят рядом, но ничего не понимают. Такова фигура Вяземского, который только после смерти Пушкина понял, с кем он рядом находился.
Чем вы объясняете такое количество постановок Чехова и не очень большое, по сравнению с ним, постановок Пушкина?
Чехов льстит слушателю, зрителю, потому что можно вчитать любую интерпретацию. Про чеховские драмы Толстой, по-моему, сказал очень верно: «Шекспир писал плохо, а вы еще хуже». Я очень люблю чеховские пьесы, но при этом испытываю к ним глубочайшую, вот такую толстовскую онтологическую враждебность.
Это пьесы, которые если не до трагедии, то до элегии, до чего-то музыкального, акварельного, прекрасного поднимают нашу жизнь. Мы все говорим: «В Москву, в Москву!» Мы все думаем, что мы поедем в Москву. «Музыка играет так весело!» Ну, вместо того, чтобы сказать там: «Чего это мы, на самом деле, сидим?» Разумеется, у Чехова мы этого не найдем. Мы найдем это в его прозе. Но пьесы у него возвышенные, прелестные.
Кстати говоря, «Вишневый сад» самая, наверное, пушкинская пьеса. Потому что мы прекрасно понимаем, что будет с Лопахиным в очень скором времени, и Чехов понимал. Трудящийся, энергичный Лопахин… Даже еще революции ждать не надо – придут недобросовестные конкуренты и настучат на него в налоговую.
А кто будет вечен? А вечен будет Симеонов-Пищик, который никогда ничего не делает, но у него на участке нашли какую-то удивительную белую глину, и эта белая глина помогла ему выплатить все долги – не надо ничего делать, и Господь все тебе даст. Вот в этом смысле, пожалуй, да, Чехов, конечно, пушкинский драматург.
Чехова гораздо легче ставить. А попробуйте поставить, например, «Каменного гостя», и вы увидите, что сокровенный смысл пьесы все время ускользает. Вот та самая амбивалентность, то самое зависание между упоением и раскаянием: Дон Гуан – постоянно кающийся мерзавец. Кто мог бы такое сыграть? Я думаю, только Колтаков.
Что нам читать из современной литературы и западной, и нашей? Очень много всего…
Ну здесь я могу вам только позавидовать, потому что на самом деле не так уж и много, но если вам кажется, что много, то и слава Богу… Мне кажется, что самое интересное сейчас – это американская большая литература. Это и последний роман Уоллеса «Бледный король», это и роман Франзена «Свобода», это и Каннингем, да много, в общем… Много есть хороших авторов. Британцы есть замечательные.
Вот поступил чрезвычайно интересный вопрос: «О Наталии Гончаровой расскажите, пожалуйста…»
Что касается Наталии Гончаровой… Это тоже удивительная, в некотором отношении христологическая фигура. Я далек от того, чтобы видеть в ней Магдалину, но «кто из вас без греха, тот бросьте в нее камень». Вот это пожалуй, верно.
Дело в том, что в семейных отношениях, в этих вот межчеловеческих делах Пушкин тоже для нас очень важный ориентир. «Мой идеал теперь – хозяйка, // Мои желания – покой, // Да щей горшок, да сам большой». Вот это, наверное, зачем-то нужно… Пушкин – образцовый семьянин, что нам важно. Семьянин из раскаявшихся, из перегулявших, из отгулявших. Поэтому относящийся к семье с должной долей свободы, которую он разрешает, но и при этом блюдущий свою честь, говорящий: «Женка, охота тебе, чтобы всякие бегали за тобою, понюхивая тебе задницу?» То есть все-таки это такое несколько патриархальное отношение к семье. Пушкин, безусловно, Христос семейственный, Христос, у которого есть дети, о которых он заботится, который перед смертью говорит: «Я должен устроить мои домашние дела, я должен привести в порядок мой дом».
Более того, ведь Пушкин перед смертью прощает блудницу, что тоже очень точно и очень по-христиански. И когда Наталья в соседней комнате кричит: «Tu vivras!» («Ты будешь жить!»), рыдает, он говорит ей: «Ну, ничего, слава Богу, все хорошо». Просит: «Пусть она меня покормит», когда ему принесли по его просьбе последнее в его жизни лакомство – морошку. Вот это как раз прощение блудницы, это, безусловно, очень христологическая тема.
Ну и то, что после этого она так удобно, так готовно воспользовалась этим прощением, это тоже очень по-русски
Как погиб Пушкин?
Ну, вы это знаете, я думаю, лучше меня. Очень интересно другое: Пушкин был жертвой действительно очень масштабного заговора. Пушкин погиб в результате заговора, в нем участвовали самые грязные, самые мерзкие люди, которые были в тот момент при дворе, не говоря уже о том, что пружиной этого заговора были два гомосексуалиста. Я не хочу, чтобы меня заподозрили в гомофобии, но, видимо, Пушкин заповедовал нам, как минимум, довольно осторожное отношение к этим людям, может быть, еще и потому, что он всю жизнь становился жертвой именно их ненависти.
В Академии наук Заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь; Почему ж он заседает? Потому что <жопа> есть.Как вы помните. Дундуков-Корсаков был именно этим известен, как и Вигель, так что это тоже очень важная заповедь.
Чувствуете ли вы на себе народную ненависть?
Народную – нет. Она не народная.
Каково ваше отношение к мнению Бродского о том, что Пушкин выбран нашим поэтом, а при этом менее известный Баратынский более сильный поэт?
Бродский считал лучшим поэтом Баратынского, а не Пушкина, потому что, как Баратынский он мог, а как Пушкин – нет.
Знаете, это всегда такая вечная ревность Баратынского к Пушкину, кстати, и к Лермонтову тоже. У нас есть два симметричных поэта. Есть Кушнер, продолжающий Фета очень точно, и есть Бродский, продолжающий Баратынского. Вот они так рядом и стоят – симметричные две фигуры. Хотя Кушнер, может быть, Тютчева продолжает в большей степени.
Маленький, сухонький Кушнер и вечно отчаянный и мизантропичный Бродский – это вот такая пара. Но то, что рядом с Пушкиным никто из них и близко не стоял, по-моему, совершенно очевидно.
А Пушкин в это время странным образом раздвоился, я думаю, на Слуцкого и Самойлова.
Как на ваш взгляд сочетается нравственная легитимность и сталинизм?
Good question. Они сочетаются довольно прямым образом. Я могу по-разному относиться к книгам Радзинского, хотя очень люблю его самого, и он человек хороший, достойный. Вот как раз сегодня я его интервьюировал на «Коммерсанте», и выйдет в воскресенье это интервью на радио, там он много дельного говорит о Сталине. Конечно, гибель Сталина была предопределена тем, что он эту самую народную легитимность утратил. Утратил он ее после 1949 года. И еще немного – бунты начались бы. Они уже начинались. Начинались они сначала с ГУЛАГа, где людям было нечего терять. Потом они бы распространились. Не нужно думать, что наш народ – вечный раб. Сталин просто помер вовремя, а если бы не помер, то кончил бы совершенно определенным путем.
Я думаю, что сталинизм и нравственная легитимность напрямую соотносятся: до войны еще была эта нравственная легитимность, после войны она была утрачена почти сразу.
Как вы думаете, с чем связано постоянное упоминание Пушкина как внука Ганнибалов, в то время как у него еще трое бабушек и дедушек?
Понимаете, вот как бы это сказать… на своих других трех бабушек и дедушек он не был так вызывающе похож. И потом, если перед вами посадить трех персонажей, один из которых негр, ваше внимание будет приковано к негру. Назовем его афроамериканцем, если кому-то так больше нравится, но именно арапские черты личности Пушкина нам чрезвычайно дороги – и как залог нашей всемирности, и как прямое преемство от Петра, и как африканский темперамент, и как, простите, глубокое родство между Россией и Африкой. Примерно тот же уровень трайбализма, примерно тот же уровень парламентаризма, тот же уровень каннибализма.
Правда ли, что Татьяне, когда она пишет письмо, тринадцать лет?
Неправда.
Некий доктор полагает, что Онегин просто не может любить ребенка.
Ну… Я понимаю, откуда пошло это заблуждение. От слов няни:
Мой Ваня Моложе был меня, мой свет, А было мне тринадцать лет.Мол, что же ты-то, дура, дылда, в свои тринадцать мучаешься?
Наоборот. К сожалению, Татьяне такие прочные семнадцать-восемнадцать, поэтому она, может быть, и не представляла для него особого интереса, а то глядишь…
Смотрели ли вы «Маленькие трагедии» в «Сатириконе»?
Да. Мне очень понравилось. Я вообще очень люблю «Сатирикон».
Какая театральная постановка больше всего про Пушкина?
Знаете, я видел пробы, где Колтаков играет Пушкина для хуциевского фильма, и лучше этого ничего себе нельзя представить. Наиболее близкое, как мне кажется, приближение к пушкинской эстетике – это Высоцкий в роли Дон Гуана, типологически очень близкая фигура. Но я не теряю надежды поставить когда-нибудь своего «Каменного гостя» и знаю, как бы я его поставил.
Это, наверное, кощунство ужасное, но мой Дон Гуан был бы отвратительный тип, Лаура была бы толстая, вульгарная баба и пела бы она не «Я здесь, Инезилья…», как поет она у Швейцера, а пела бы она «Вишню», тоже пушкинское стихотворение.
И вмиг зарезвился амур в их ногах, Пастух очутился на полных грудях.И дальше бы они совокуплялись при мертвом, это бы их очень возбуждало. «Постой… при мертвом!.. что нам делать с ним?» В этом слышится какое-то: «А! А мы сейчас с ним что-нибудь сделаем!» Да? И после этого они бы, раздеваясь, завешивали бы его мантильями, шляпами, наряжали бы всячески. Это было бы очень весело. Такая некрофилическая порнушка. И потом Дон Гуан с Донной Анной тоже вел бы такой очень сальный диалог.
Так, разврата Я долго был покорный ученик…Как бы говоря: «Иди сюда, сейчас я тебе покажу такие французские штучки!»
А потом появлялся бы невысокий, сухонький, без всякого звука громкого, без всяких каменных шагов, очень маленький Командор, который бы просто говорил: «Дрожишь ты, Дон Гуан?» И тот бы, весь трясясь: «Я? Нет! Я звал тебя…» Очень здорово можно было бы сделать.
Более того, вот эта прелестная амбивалентность пушкинских текстов меня так мучает: была у меня идея, и она до сих пор обсуждается довольно интенсивно, правильно поставить наконец «Моцарта и Сальери». Потому что Моцарт, вечно порхающий, ликующий – ну, что это такое?! Моцарт – серьезный, мрачный гений, тяжелый человек, который, конечно, издевается над Сальери и наводит разговор на отравление совершенно сознательно, когда он ему говорит:
«Да! Бомарше ведь был тебе приятель; Ты для него «Тарара» сочинил, Вещь славную. Там есть один мотив… Я всё твержу его, когда я счастлив…А после этого:
Правда ли, Сальери [пододвигая ему рюмочку], Что Бомарше кого-то отравил?Тот в ужасе:
Не думаю, он слишком был смешон Для ремесла такого.И Моцарт бы саркастически отвечал:
Он же гений, Как ты да я. А гений и злодейство – Две вещи несовместные. Не правда ль?Вот это чистый соблазн, чистое самоубийство, потому что гений не может быть дураком. Моцарт – мрачный человек, который в конце говорит: «Слушай же, Сальери, мой «Реквием»» и после этого Сальери медленно сползает под стол. Вот это можно было бы здорово сделать. Поставить две такие части: в одной части «Моцарт и Сальери», в другой – «Маленькие трагедии», ровно наоборот обычной трактовке, доказав, что гениальный в своей амбивалентности пушкинский текст выдерживает и так и эдак.
Ну, если мне когда-нибудь захочется подставиться окончательно и окончательно нарыть над своей репутацией курган, я, может быть, так и поступлю.
Нравится ли вам постановка «Медведя» в Театре современной пьесы»?
Понимаете, корпоративность не разрешает мне правильно вам ответить. Я считаю, что пьесу надо играть так, как она написана. И тогда, может быть, что-нибудь получится. Но вот, как говорит тот же Радзинский совершенно точно:
«… есть три пьесы: одна, которую пишет автор; вторая, которую ставит режиссер и третья, которую видит идиот-критик». Вот, к сожалению, это все, что я могу сказать…
Стихи какого поэта, по вашему мнению, максимально приближены по сложности конструкции и богатству мыслей к стихам Пушкина?
Я бы не сказал, что стихи Пушкина уж очень сложно сконструированы. Наоборот, они довольно прозрачны. Я думаю, что по ходу мысли, по логике развития образа ближе всего Пастернак, но именно по тому, как выстраивается внутренний поэтический сюжет.
Почему Гончарова? Чем она покорила гениального человека?
Мне кажется, она выглядела очень хорошо.
Осознают ли гениальные люди масштаб своего дара?
Да. Обязательно. Если не осознает, то это не то. Это тоже очень по-русски. Мы же всегда сознаем масштаб своей гениальности. Мы же понимаем, что если бы нам не мешали, мы бы давно уже ТАК жили! (смех в зале)
Как сегодня относиться к няне в судьбе Пушкина? Нас воспитывали в понимании, что няня – представитель народа.
Вы знаете, это так и есть. Она, безусловно, представитель народа, и, более того, именно благодаря ей он впитал тот великолепный цинизм, ту великолепную нравственную амбивалентность, которая есть в народе и народных песнях и которая есть в «Песнях западных славян» вышеупомянутых, – домашнее отношение к миру, домашнее отношение к Богу, легкость отношения к смерти, доверие к судьбе, доверие к Богу, «не думай, все устроится», суеверие, приметы («Татьяна верила преданьям простонародной старины…»), знаменитый заяц, знаменитый поп, с которыми нельзя встречаться, – все это, конечно, от няни. И потом, разумеется, «Выпьем с горя; где же кружка?» Где вы еще найдет такого милого собутыльника, как добрая русская старуха?
Есть ли проблема в том, что некоторые уже не могут читать стихи Пушкина без словаря?
Да, собственно, некоторые и не ходят без помочей, да что же поделать? На самом деле он как раз самый понятный поэт. Я думаю, что первый русский поэт, которого можно читать без словаря, это Державин, а дальше шло все понятнее и понятнее.
Это современного поэта трудно читать без словаря, потому что, например, что такое «хедхантер», я так и не знаю до сих пор. Но это поправимо.
Как вы прокомментируете ежегодное широко освещаемое десятое февраля как дату смерти поэта, на этом фоне летом отмечаются только юбилейные даты рождения.
Знаете, у меня была такая гипотеза, в «ЖД» изложенная, что у всякого народа, здесь живущего, есть два праздника, которые соблюдает коренное население. Они были и у большевиков, они были до этого у христиан, условно говоря, «день жара» и «день дыма»: главный зимний праздник и главный летний праздник. Ну, так, условно говоря, Первое мая и седьмое ноября. Пасха и Рождество. Ну, и Пушкин очень вписывается в эту христологическую традицию. Вот летний день рождения, шестое июня – день пробуждающейся природы, и зимний день смерти – десятое февраля. Он в «день жара» и «день дыма» вписывается как раз очень точно.
Но даже и в смерти есть какой-то оптимизм, какое-то завещание, свет морального торжества, который всегда разлит в таком удивительном воскресении. Не говоря о том, что февраль – это уже канун весны. Даже и сейчас, когда мы в феврале отмечаем еще раз день смерти Пушкина, мы отмечаем его в совершенно другой стране, где народ уже безмолвствует, а там, глядишь, что-нибудь и скажет. Кстати говоря, есть у Пушкина замечательные совершенно стихи, очень подходящие к текущему моменту, – «Эхо». Помните, да?
Ты внемлешь грохоту громов, И гласу бури и валов, И крику сельских пастухов – И шлешь ответ; Тебе ж нет отзыва… Таков И ты, поэт!Вот «Эхо Москвы» столько сделало для того, чтобы защищать разных людей, а сейчас ему «нет отзыва», сейчас, когда его гнобят все остальные: «Да ладно, да они договорились… да все обойдется…» Так что пушкинское «Эхо» – это тоже великое пророческое стихотворение. «Тебе ж нет отзыва».
Почему в Европе Пушкин менее популярен, чем Чехов и Достоевский?
Ну, знаете, Христос в христианских странах тоже более популярен, чем, например, в исламских. Это совершенно естественно.
Почему Пушкин завещал детям не писать стихов? Если это правда…
Он завещал немножко иначе. Он писал жене: «Кем-то будет Сашка? Не дай Бог ему, как отец, писать стихи да ссорится с царями. В стихах он батьку не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет». Это замечательные слова.
У меня есть такая теория, довольно глупая: я думаю, что дети осуществляют наши неосуществленные мечты. Пушкин мечтал о военной карьере, и один из его сыновей был военным. Пушкин мечтал быть красавцем и всех пленять, и Мария была красавица. Пушкин мечтал быть домоседом и правильным семьянином, и Григорий был правильным семьянином, хранителем очага. Иногда я думаю, что Пушкин мечтал быть ничтожеством, чтобы его никто не замечал, и эта мечта тоже в детях воплотилась с достаточной полнотой.
Вы не находите, что от только что прозвучавшего «Манифеста русского интеллигента» уже недалеко до единой политической платформы?
Да очень близко, понимаете? Достаточно всей русской оппозиции подписаться под словами «Люби то-то, то-то, // Не делай того-то». Но «пиковая дама», тайная недоброжелательность так сильна во всех этих людях, что даже представить их собравшимися в одном месте, вот как сейчас, мне очень трудно. Уже обязательно кого-нибудь объявили бы предателем.
А так-то, Господи – провозгласить, что Пушкин лучше всех и под это дело создать платформу, и не было бы проблем.
Кого читать из современных поэтов?
Пушкина, разумеется. Но если говорить серьезно, то как раз сейчас время стихов, и в этом смысле у нас еще все успешно. Я мог бы назвать очень многих авторов в диапазоне от Новеллы Матвеевой, которая, слава Богу, продолжает прекрасно работать, до Кушнера, который тоже к нашим услугам. Аля Кудряшева – замечательный петербургский поэт. Игорь Караулов – замечательный поэт, живущий в Москве. Да много хороших-то. Меня можно почитать для разнообразия.
Как Пушкин выстраивал сюжет будущего драматургического произведения в голове? Были схемы, сетка? Известно ли нам что-нибудь?
Очень многое известно. Известны планы, вот эти стремительные черновые наброски, где каждый переход, каждое действие обозначены одним коротким словом, вот эти бесконечные тире. Все это написано, все это издано.
Кстати, интересная вещь – как возникало стихотворение? как возникала мысль? Я думаю, что как только возникало странное, трудноуловимое чувство гармонии, чувство своей уместности на свете, чувство очень христианское, чувство божественного равновесия между собой и миром – вот тогда появлялся текст. Потому что Пушкин как раз и есть поэт этого божественного равновесия. Чего, собственно, я вам всем и желаю.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


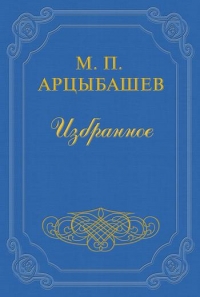
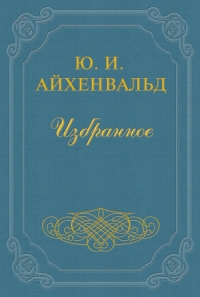


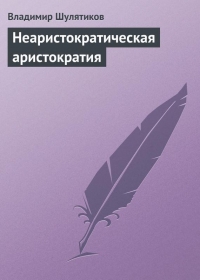
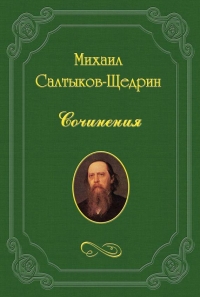
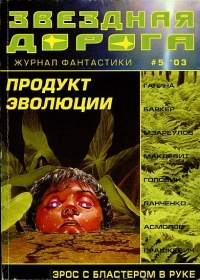
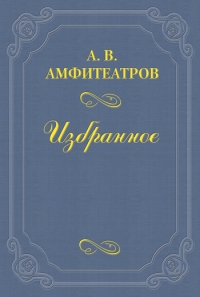
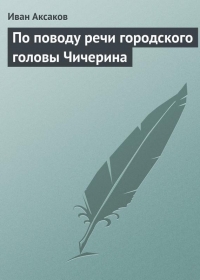
Комментарии к книге «Пушкин как наш Христос», Дмитрий Львович Быков
Всего 0 комментариев