Дмитрий Быков Символика еды в мировой литературе
Сегодня мы поговорим с вами о символике еды в мировой литературе, и тому есть три причины. Первая – довольно очевидная. В кризисные времена человека должно выручать воображение, он должен уметь думать о еде абстрактно и с помощью нейролингвистического программирования насыщать себя. В свое время Диоген – как известно, человек кинического склада – публично мастурбировал, говоря: «Вот бы и над голодом получить такую власть». Утолять голод простым поглаживанием брюха. На самом деле это возможно. В свое время я перестал пить именно благодаря этому. Один хороший очень врач научил меня так себя программировать, что я могу живо представить себе ощущения опьянения (а если надо, то и похмелья), не прибегая к алкоголю. Мозг всесилен. Он даже левитацию нам может обеспечить. Что уж какие-то там жалкие похмельные ощущения! В эпоху, которая всех нас ждет, искусство говорить о еде и от этого насыщаться будет дорого стоить, уверяю вас.
Вторая причина, по которой я хочу к этому обратиться. Я давно уже занимаюсь социальной и интеллектуальной реабилитацией толстых, потому что я знаю, что такое в России быть толстым человеком. Все время какое-то чувство, что ты своего соседа лично объел. Это неправда. Ему бы все равно не досталось. И, кроме того, что очень важно: эта странная точка зрения (ее отстаивают обычно идиоты в Интернете), что толстый человек, как правило, глуп, раздражителен, – это все зависть. Потому что пока толстый сохнет, худой сдохнет. В мире давно подробно разработана теория, что человек думает всем телом. Чем он больше, чем обширнее, тем больше его память. Известны случаи, когда после липосакции человек память терял по-настоящему. Отсюда следует, что она, безусловно, в жире. И посмотрите, сколько я всего помню наизусть. И это я еще далеко-далеко не самый толстый человек. Есть люди гораздо толще меня – такие, как Михаил Успенский, которого наш друг Андрей Лазарчук все время подкалывает строчкой из Мандельштама: «Успенский, дивно округленный…». Успенский хранит в голове практически всю энциклопедию мировой мифологии.
Третья причина достаточно серьезна. Дело в том, что есть две темы, на которых проверяется писатель, – это секс и еда. Тот же Михаил Успенский когда-то замечательно сказал, что описать хороший обед гораздо труднее, чем хороший половой акт, потому что хороший половой акт очень сильно впечатляет сам по себе и читатель легко может привлечь личные воспоминания. А обед можно описать или очень хорошо, или очень плохо. Сошлюсь на мнение Веллера: «Есть единицы писателей, которые могут неаппетитно описать голую студентку, выходящую из воды». Он называл только Людмилу Петрушевскую как человека, который может с помощью этой картины вызвать отвращение у читателя, – гораздо проще вызвать восторг, для этого особенных умений не требуется. А вот описать обед – это действительно задача.
И в русской литературе таких гедонистов, которые умели это делать, начиная с Державина, с «Жизни Званской», – единицы. Это связано отчасти с тем, что еда – это как бы символ некоторой бездуховности, духовной отсталости.
Реабилитация еды началась у нас с Гоголя. Реабилитация толстяка – помещика Петуха. В огромной степени реабилитация повара – человека, который доставляет нам сложные гастрономические чудеса. Во Франции, скажем, такой же реабилитацией еды занимался Дюма, а впоследствии Виан, у которого именно повар в «Пене дней» главный герой – главный организатор всего. Ведь что такое, в сущности, повар? Это тот колдун, который соединяет в одно съедобное и прекрасное разномастные и сложные ингредиенты бытия. Кашеварить, поварёшничать, создавать блюда из, казалось бы, несъедобного – это главная задача писателя, главная задача человека. Алхимический опыт соединения несоединимого, соединения невкусного во вкусное – этим мы должны заниматься.
Мы сегодня очень поверхностно поговорим, потому что тема-то огромная, тема для отдельного исследования. Я и собирался делать такой сборник статей (может, еще и сделаю) именно об описаниях еды у разных авторов – литературная кухня. Но не так, как у Вайля и Гениса, а с точки зрения трех главных функций еды в мировой литературе.
Первая функция еды в литературе, безусловно, символическая. Потому что человек есть то, что он ест. С помощью еды мы, как правило, тем или иным способом или пересказываем сюжет, или сюжет этот организуем. Метафорика еды намекает на дальнейшее развитие событий. Так это, во всяком случае, всегда обстоит в лучших образцах русской литературы.
Мы знаем два наиболее развернутых обеда. Это знаменитый обед в «Анне Карениной», о котором мы позже поговорим подробнее, и трапеза Обломова. С Обломовым вообще все сложно, потому что «Обломов» – это символистский роман. Мы прекрасно понимаем, что его постоянные лежания, пассивность, то, что он проводит целые часы, дни и месяцы на диване, – это тоже метафора. Любой человек от такой жизни уже заработал бы пролежни, просто уже не существовал бы. Точно так же и обломовское меню несет на себе некоторый оттенок символизма. Когда Обломов влюбляется, он начинает заказывать Захару утонченную еду: белое мясо, виноград, дорогие сорта рыбы. Он даже обращается к вину, потому что вино в русской литературе имеет, как правило, коннотации самые положительные. Вино ведь не сивуха, вином не сопьешься. Вино – это:
«…В лета красные мои, В лета юности безумной, Поэтический Аи Нравился мне пеной шумной, Сим подобием любви!..»Аи для Пушкина – это вспышка чувственности. Шампанское – символ отваги, в том числе смертельной, как у Чехова, который перед смертью спокойно выпивает свой бокал шампанского, по традиции преподнесенный ему коллегой-врачом. Шампанское – это героизм, удаль. И Обломов впервые в жизни обращается к шампанскому потому, что он полюбил. А вот дальнейшая жизнь Обломова вся представляет собою опускание в бездну, в то, что Кира Муратова так точно назвала «поглощается чревом мира». Вот это «поглощение чревом мира» осуществляется женщиной со знаковой фамилией. Собственно, все фамилии у Гончарова знаковые, он в этом смысле чистый классицист: Пенкин – это пенка, поверхность жизни, Судьбинский – карьерист; и только благодаря судьбе, попаданию в случай можно что-то сделать. Штольц – надменность, гордость… Обломов – человек, который тотально обломался. Ольга Ильинская – та, что предназначена Илье. Все очень понятно. И Пшеницына – героиня, которая олицетворяет собою сытость. Причем сытость хлебную, простую, дешевую. Конечно, во времена голода и корка хлеба – очень духовный продукт. Как замечательно сказал Шендерович: «А что, римляне, буханка хлеба вам еще не зрелище?» Но Пшеницына – это сытость приземленная, она очень добрая, очень пухлая. Для Гончарова пухлость отождествляется с добротой и любовью. И не случайно у Обломова «ожирение сердца». Как говорит о нем Штольц: «хрустальная, прозрачная душа». Видимо, ее можно сохранить, только обложив жиром со всех сторон. Но при этом Пшеницына – это еще и олицетворение тупости. И ведь Обломов влюбляется не в Пшеницыну, он влюбляется в ее белую пухлую руку, которая протягивает ему кусок пирога. Он влюбляется в этот жест щедрости, в старательность, с которой этот пирог испечен, в заботу. «Он глядел на нее с легким волнением, но глаза не блистали у него, не наполнялись слезами, не рвался дух на высоту, на подвиги. Ему только хотелось сесть на диван и не спускать глаз с ее локтей». Дух не рвется больше на высоту. И Обломов перестает заботиться об эстетической функции еды. Еда становится для него смыслом жизни. Какая уж тут эстетика!
Вторая сюжетная метафора замечательная, очень красочная – это, конечно, знаменитый обед Стивы и Левина в «Анне Карениной». Я рискну сказать, что «Анна Каренина» – лучший русский роман. А раз лучший русский, то, наверное, и лучший когда-либо написанный в мире, потому что русскую литературу, как айсберг, до сих пор не с чем сравнить. Она так и возвышается до сих пор над морской поверхностью, притягивая все «Титаники». И о русскую литературу разбивается до сих пор любая попытка прагматического подхода к жизни. Прочел человек Достоевского – да и стал Мышкиным либо Рогожиным. Да, вот это в русской литературе есть. «Анна Каренина» – самый совершенный русский роман. Роман, как говорил Толстой, где «своды сведены так, что шва не видно». И действительно, история Кити, Анны и Левина так точно сведены, так точно запараллелены, так много символов в романе, такой гениальный сквозной лейтмотив железной дороги, возникающей, если помните, даже когда Сережа играет в железную дорогу. Страшный эпизод, когда он кричит: «Что вы все ко мне пристали?! Оставьте меня в покое!»
Это все выдает, конечно, гениального художника на пике своих возможностей. После этого может пойти уже только разрушение жанра. Потому что «Анна Каренина» – это роман на грани маньеризма, на грани совершенства, уходящего уже куда-то в стилистическое упражнение. Поэтому после него написано «Воскресение» – роман грубый, с предельным обнажением приема. Толстой до 1878 года все время приемы маскирует, прячет, а в «Воскресении» он открыт как Брехт. Все сказано открытым текстом, все занавеси сдернуты.
Талантливый литературный критик Ленин так и называл это «срыванием всех и всяческих масок». Я, кстати, тут давеча спросил своих школьников, читали ли они литературную критику Ленина. Все были поражены. А ведь Ленин – талантливый литературный критик, который, кстати, тоже элегантно увязал тему еды с эволюцией Толстого. Помещик, юродствующий во Христе, который кричит «я не ем больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». Да, замечательная метафора поздних толстовских статей, которые по сравнению с прежним его творчеством действительно напоминают рисовые котлетки.
Так вот, «Анна Каренина» – роман предельного совершенства и глубокой символистской зашифрованности – стал, по справедливому замечанию Сергея Александровича Соловьева, первым романом русского Серебряного века. Романом, где символизм буквально прет из всех щелей. И самая символистская деталь – это, конечно, обед, который задают друг другу Стива и Левин. Левин предпочитает что-нибудь очень простое: хлеб, сыр, кашу. Но Стива – гурман. Стива вообще мой любимый герой, надо сказать. Я всегда мечтал на него походить. Мне нравится его свежесть, румяность, доброта, с которой он протягивает жене грушу, пытаясь как-то после театра ее задобрить, а она в это время прочла несчастную записку. И груша эта тоже играет замечательную роль. Ведь груша такая бесформенная и сочная, как, собственно, и сам Стива. И мы долго ассоциируем его с этой грушей. Так вот Стива относится к заказу обеда очень серьезно: облизывает сочные, румяные губы, представляет себе еду, с великолепным небрежением относится к татарину, не доставляя ему удовольствия назвать супы по-французски: «суп прентаньер», говорит просто: «Супу, значит, с кореньями». Обед этот состоит из блюд, которые косвенно или прямо отражают весь сюжет романа, его атмосферу. Толстой прекрасно знал символику еды, может быть, как никто. И именно поэтому так точно подобраны блюда. Начинается все с устриц.
«Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?» – говорит Стива.
И действительно, устрицы меняют весь план жизни героев. Мы знаем (я уж не стал об этом говорить детям, когда читал им лекцию о символике еды, она сейчас довольно широко гуляет по Интернету, но там примерно треть того, что я мог бы сказать), какова символическая роль устрицы в литературе. О том, что устрица в символистском плане довольно тесно связана с вагиной, труды написаны. Кстати говоря, замечательно это описано у Валерия Попова в романе «Будни гарема», когда он попробовал впервые в жизни устрицу, почувствовал поразительно знакомый вкус и понял, за что их так любят. Устрица являет собою даже внешне до некоторой степени модель вот того самого, откуда все мы вышли и куда мы все так стремимся. Устрица – символ любви, символ страсти. Она же довольно сильный афродизиак, как мы все знаем, некоторые даже по личному опыту. Кому-то посчастливилось есть устриц. Устрицы – символ малодоступной роскоши. Даже дед Щукарь знал, что устрица, когда ее побрызгаешь, она пищит, не хочет. И, кстати говоря, она и в жизни так делает довольно часто – пищит, не хочет, а потом все хорошо. Раковина, которая во всем мире является символом и синонимом… раковинка, да?.. как в знаменитой испанской сказке про conchas… (раковинка). Не буду пересказывать этот тост, хотя он довольно известен. Так вот как раз раковина, которая появляется в начале обеда, показывает, что дальше она переменит весь план. Устриц привезли, и они очень хороши, очень свежи. И дальше весь план обеда пошел под откос из-за устриц. Затем суп-прентаньер, олицетворяющий собой весенний, расцветающий период любви (printemps), все знают, что это такое, даже с моим убогим произношением. Суп-весна, суп весенний, который олицетворяет собою цветочный, как это называют, первый, еще девственный период любви. Период любви Кити, которую любит Левин. Период любви Анны и Вронского, который вначале так пленителен, а потом превращается в убийство. И мы помним у Толстого эти страшные слова: «И с озлоблением, как будто с безумной страстью, бросается убийца на это тело и тащит, и режет его; так он покрывал поцелуями ее лицо и плечи…».
Конечно, такая метафора, что уж после нее не знаешь, как жить.
Суп-прентаньер олицетворяет безмятежность, весну, расцветание. А после этого появляются два главных блюда, две главных линии романа – это пулярка в эстрагоновом соусе и тюрбо под соусом майонез. Как мы понимаем, пулярка – это тоже в европейской кулинарии, в кулинарии средневековой, в кулинарии Нового времени символ женщины, любящей женщины, часто символ материнства. И Анна, конечно, и есть та самая пулярка под эстрагоновым соусом, а эстрагон в средневековом цветнике всегда обозначает страсть. И неслучайно эстрагон упоминается в большинстве словников именно как цветок биологический – символ страсти. Пулярка под соусом эстрагон при всей приземленности этого символа – женщина, охваченная страстью. Причем женщина-мать.
Теперь что касается рыбы тюрбо под густым соусом, совершенно ей не свойственным. Тюрбо – это крупная, сильная, пресноватая рыба, которая, конечно, олицетворяет тут Левина, а Левин под густым соусом типа майонеза – это Левин в не свойственной ему среде. Потому что вообще-то эту рыбу надо подавать даже без соуса, ее надо подавать под прованским маслом или сбрызнув лимоном (под чем-нибудь очень простым), она густого соуса не выносит. И это тот слишком густой соус, который наложен на Левина в чуждом ему обществе. Я боюсь, что только Гармаш хорошо по-настоящему сыграл все эти эпизоды. Потому что видно, до какой степени этот Левин с его лопатообразной бородой неловок, неумел, он хорошо себя чувствует только на катке. Все остальное время ему очень некомфортно. И рыба тюрбо под майонезом, рыба достаточно дорогая и изысканная, но при этом крупная и широкая, – это как раз и есть Левин. Простой аристократ, аристократ-мужик.
А увенчивается вся эта история салатом «Маседуан», консервированными фруктами – салатом по-македонски, как это называется. Так вводится тема Македонии, тема Балкан и тема войны, на которую поедет потом Вронский.
Вы можете меня спросить: имел ли это Толстой в виду? Толстой имел в виду такое, что нам с вами и не снилось. Я думаю, что расшифровывать и декодировать «Анну Каренину» нам с вами придется очень долго. Он предполагал написать этот роман (сначала как повесть) за две недели. Потом за месяц, потом за два года. В результате ухлопал пять. И он работал над ним не припадками, не запоями, как над «Воскресением» или над «Войной и миром», когда он год не писал, а потом три года писал как сумасшедший. Нет. Здесь все было чрезвычайно равномерно. Он работал над этим романом как резчик над очень драгоценным камнем, над очень хорошим мрамором. И драгоценный получился роман. Тут, конечно, ничего не поделаешь, нам приходится расшифровывать и считывать его чрезвычайно подробно.
Итак, первая функция еды в русской прозе и вообще в классической прозе – это функция символическая, подпирающая сюжет, позволяющая сюжет каким-то образом разъяснить.
Вторая функция, тоже, по-моему, чрезвычайно важная: еда это существеннейший штрих в образе персонажа. Это важная психологическая характеристика. Развращенные русской прозой, особенно прозой советской, мы почему-то все время обращаем внимание на то, как человек работает. А между тем работника-то в русской деревне нанимали, посмотрев, как он ест. Если он хорошо ест, то он и работать будет прилично. Известно, что аппетит к жизни и внимание человека к тому, что он ест, все-таки выдает какой-то вкус, по крайней мере, и наличие правил. Если человеку не все равно, если он не будет есть поднятое с пола, если он не будет есть требуху… Как говорил в свое время Окуджава: «Я человек требовательный. Если чай жидкий, я лучше выпью воды. А если чай – он должен быть хорошо заварен». Так вот и здесь: черта, через которую персонаж раскрывается, – это не профессия и даже не секс, потому что в сексе все ведут себя более или менее одинаково, пусть у нас существует пятьсот сексуальных позиций, но сводятся-то они к одному. И точно так же и с работой. А вот что касается еды, здесь у нас есть серьезное разнообразие. И конечно, самый интересный персонаж здесь это помещик Петух из второго тома «Мертвых душ».
Мне кажется, что второй том «Мертвых душ» написан не хуже, а иногда и лучше первого. Он ненавязчивее, потому что там тоньше все проработано, автор больше доверяет читателю, появляется больше новых прекрасных типажей. Тентетников – это не какой-нибудь гротескный Манилов, а настоящий реалистический персонаж, в котором очень много всего намешано. Это же касается и Улиньки. И вообще, как я уже говорил не раз, во втором томе «Мертвых душ» Гоголь предпринял титаническую попытку написать всю русскую прозу, которая будет после него. Попытку написать тургеневскую девушку. Костанжогло – это, конечно, Левин. Тентетников – Обломов. Муразов – русский положительный персонаж, которого пытался написать и не написал весь русский реализм и даже Серебряный век, идеальный благостный руководитель. Генерал Бетрищев, в котором уже есть черты толстовских генералов и толстовского дядюшки из «Войны и мира». Все это присутствует там.
Петр Петрович Петух – это персонаж, который олицетворяет собой очень важную часть русского менталитета. На лекции про Муми-троллей мы говорили о том, что для Муми-мамы весь мир может стоять вверх дном, может быть полный бардак везде и наводнение в гостиной, но кофе с утра надо выпить. Русский человек может очень пренебрежительно относиться ко многому, но свои ритуалы он соблюдает неукоснительно. Это вопрос чести. Петух не думает об абстрактных материях. Но заказ обеда для Петуха – это симфония. Петух не знает скуки. Вот Платонов как раз – это образец такого русского денди, прошедший через определенные эволюции Онегин, в будущем это классический лишний персонаж 1860-70-х годов, это человек, который всегда скучает. Он не может даже всерьез полюбить. Ему всегда грустно, скучно. Это герой нашего времени, написанный хотя и чуть попозже, но зато бескомпромисснее, без всякого умиления и любования. Красавец, которому всегда тухло, скучно жить, немножко автопортрет Гоголя, потому что Гоголь, может быть, и не красавец, но пресыщенный, скучающий, все уже знающий. А Петух говорит ему:
«Помилуйте! ‹…› Никогда! Да и не знаю, даже и времени нет для скучанья. Поутру проснешься – ведь тут сейчас повар, нужно заказывать обед. Тут чай, тут приказчик, там на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть – опять повар, нужно заказывать ужин. Когда же скучать?»
И действительно, для Петуха заказ еды – это знаменитая сцена «приготовь ты мне кулебяку», которая ведь на самом деле изобличает огромную сложность его внутренней жизни. Чичиков не может уснуть за стеной, потому что Петух так перечисляет компоненты, что у Чичикова, только что очень плотно пообедавшего, вскипают слюнки. Чичиков, собираясь ложиться спать после обеда у гостеприимного Петуха с его абсолютно лукулловскими пиршествами стучит себя по животу: «Барабан! – сказал, – никакой городничий не взойдет!». Здесь, конечно, Гоголь цитирует известную шутку Крылова, который, когда сытно был накормлен, говорил, что «вот теперь уж никто не войдет». Но когда внесли любимые им песочные пирожки французские с печенкой, воскликнул: «О! Ну, теперь вся эта шваль потеснится. Генерал пришел».
(смех в зале)
Крыловское объедение на самом деле не более чем метафора, когда он говорит: «Да, главным интересом в жизни стало обжорство». Это вызывающий образ жизни. Мы-то помним с вами раннего Крылова, который был злобным сатириком, который разрыдался, слушая «Горе от ума», сказал: «О! При матушке Екатерине меня бы за такую пьесу в Нарым бы закатали. Да?! А ты-то что? Ты сетуешь еще, ты жалуешься. Да мы рта не могли открыть». И конечно, поздний Крылов, который так боялся Нарыма и Тобола, символом и смыслом своей жизни сделал чревоугодие – демонстративное, подчеркнутое.
Я думаю, что он далеко не был таким гедонистом в душе. И фразу Крылова хорошо знавший его, во всяком случае бывавший у него, Гоголь цитирует из первых уст. Вот Чичиков со своим животом, куда не пройдет городничий, тугим, как барабан, ложится спать и вдруг слушает за стеной, как Петух говорит:
«Да кулебяку сделай на четыре угла. ‹…› В один угол положи ты мне щеки осетра да визиги, в другой гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого, какого-нибудь там того. Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то, пропеки ее так, чтобы всю ее прососало, проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, этак растого – не то, чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту как снег какой, так чтобы и не услышал. ‹…› Но и сквозь одеяло было слышно: “А в обкладку к осетру подпусти свеклу звездочкой, да сняточков, да груздочков, да там, знаешь, репушки, да морковки, да бобков, там чего-нибудь этакого, знаешь, того растого, чтобы гарниру, гарниру всякого побольше. Да в свиной сычуг положи ледку, чтобы он взбухнул хорошенько”.
Много еще Петух заказывал блюд. Только и раздавалось: “Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть хорошенько”. Заснул Чичиков уже на каком-то индюке».
(смех в зале)
Естественно, представить себе, что все это Петух делает из чревоугодия, было бы неправильно. Петух, который во многих отношениях списан с Крылова. Здесь, кстати, неслучайно этакое обыгрывание родства фамилий – крыло, петух – это у Гоголя вообще неслучайно всегда. А Гоголь ведь тоже птица, как мы знаем. Так вот для Петуха, который Гоголю в каком-то смысле синонимичен, это способ занять безвременье, это способ занять себя. Все тоскуют, жалуются. Но, помилуйте, действие «Мертвых душ» происходит в 1840-е годы и пишутся они в 1840-е годы, да и 1830-е в этом смысле не очень хороши. Время вдруг переломилось, исчезли люди 1820-х годов с их прыгающей походкой. Как Тынянов пишет: «Мертвое время. А что делать в это время? Ну, жрать. А хоть бы и жрать». И у Стругацких Виктор Банев говорит: «История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать квантум сатис». И мне кажется, что образ Петуха – это образ не просто положительный, хотя и компромиссный, но глубоко привлекательный. Занять себя приготовлением еды – не худшее дело, потому что Петух еще и бешено гостеприимен, он постоянно всех закармливает. И когда Чичиков садится в коляску, он замечает, как известная принцесса, что со всех сторон какие-то появились какие-то «горошины», на что бы он ни сел, он упирается в какое-то ребро. Он думает: «Господи, неужели я так разъелся?» – Нет, – ему объясняют. – Это просто в коляску напихали подарков от Петуха. – «Добрый, прелюбезный барин, – говорит Селифан, – такой прелюбезный, что даже и шампанского вынес». Да, слугу шампанским угостил. Петух добр, он на всех пытается распространить (и кстати, на замечательной иллюстрации Боклевского он именно такой) распространить свою щедрость, свою избыточность, и эта избыточность привлекательна по-своему. Что мы помним про Лукулла? Помним, что он закатывал пиры, но ведь про других богачей Римской империи мы и этого не помним. Мы знаем, что Рим погиб от разврата, но чревоугодие, ей-богу, еще далеко не худший разврат. И как раз то, что Петух так широко вокруг себя распространяет эти избытки, – вот это делает Гоголя великим реабилитатором чревоугодия в глазах нации. Потому что именно у Гоголя еда, причем знатная еда, интерес к еде, – это впервые стало признаком положительного героя. Можно вспомнить Тараса Бульбу, который кричит:
«Козак не на то, чтобы возиться с бабами. ‹…› Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков[1]; тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками[2], а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела как бешеная».
Да! И вспомним кабана с капустой и сливами, которыми угощают пани Катерина и пан Данила своего неожиданного тестя в «Страшной мести». Данила говорит:
«Отчего же, тесть, ‹…› ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетьману редко достается есть такие. А брезгать ими нечего. Это христианское кушанье! Все святые люди и угодники божии едали галушки».
А кто не ест галушек, тот, выходит, не христианская душа. Очень интересно, как у Гоголя украинское язычество сочетается с христианством. Ведь когда один из гоголевских героев поедает галушки, которые сами прыгают в сметану и обмакивают себя в ней, и в таком виде прыгают к нему в рот, – это доброе колдовство, понимаете? Это колдовство, в котором нет никаких негативных коннотаций. Потому что где еда – там хорошо. Когда гоголевские герои едят, они тем самым как бы выполняют некий добрый религиозный обряд: преломить хлеб на самом деле – это чрезвычайно важная функция, объединительная функция. Отец пани Катерины не ест галушек: «Только одну лемишку с молоком и ел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду».
И самая, наверное, страшная сцена Тараса Бульбы – где Андрий приносит хлеб в осажденный город, и умирающий от голода человек, получив у него буханку, изгрыз, искусал этот хлеб и не в силах откусить от него умер, сжимая эту буханку. Голод у Гоголя – это всегда спутник злобы, агрессии, страдания. И когда Андрий приносит хлеб, Гоголь в душе во многом, конечно, на стороне Андрия, потому что принести хлеб голодным, принести хлеб осажденным – это не предательство, это акт милосердия. И мы Андрия горячо жалеем.
Замечательная статья Бориса Кузьминского «Памяти Андрия» как раз доказывает амбивалентность гоголевского отношения. Конечно, Остап и сух, и жесток, и его терпение героическое оборачивается недостатком душевной тонкости. А Андрий, который приносит хлеб голодным, – это все-таки персонаж, за чью душу можно и помолиться.
Гоголь сам большой кулинар, но не чревоугодник. Это очень интересно, что мы знаем Гоголя как человека, который обожает кормить, обожает угощать, а сам ест очень мало. Гоголь приготовлял макароны итальянские по одному, ему ведомому, рецепту, намешивая туда оливок, томатного соуса, сыра в очень точных пропорциях, долго перемешивал двумя деревянными ложками. И у Кушнера правильно о нем сказано:
«Не то что раздеться – куска проглотить Не мог при свидетелях – скульптором голый Поставлен. Приятно ли классиком быть?»Он действительно не мог есть при людях, но всех очень щедро окормлял. Как страшно, как трагически обернулось это в судьбе человека, который уморил себя голодом, который в буквальном смысле умер от голода – у него позвоночник прощупывался через живот. Эта искусственная аскеза, которой он себя уморил, конечно, метафора литературного самоубийства. А метафора расцвета, сочности и прекрасности – это кулебяка Петуха.
Еще один очень важный и, я думаю, в европейской литературе определяющий сюжет, – это сюжет Уленшпигеля, который не просто ест, который к еде относится чрезвычайно серьезно и в каком-то смысле молитвенно, потому что у него рядом есть действительно ходячий «горшок для поглощения еды», ходячий сычуг – это Ламме Гудзак, наверное, главный персонаж-спутник всей европейской словесности со времен Санчо Пансы. Вечная парочка: голодный безумец, худой, с безумными пророческими очами и при нем толстоватый простак (или простоватый толстяк). Пара, которая со времен Сервантеса странствует через всю мировую словесность.
Это и Дон Гуан со своим Сганарелем, и Уленшпигель с Ламме, и воплощающий обоих в одном лице Швейк, который сам себе и Дон Кихот, и Санчо Панса. Но во всех этих текстах принципиально важно, что именно герои едят. Важно, что Уленшпигель, – в отличие от Санчо Панса, который любит фасоль, холодец, все расплывчатое, – Уленшпигель предпочитает колбасу с ее отчетливо фаллическими значениями. Вспомним, что там есть очень важный символ: «ищи Семерых», семь грехов смертных оборачиваются семью добродетелями. Чревоугодие переходит в аппетит, уныние в здравомыслие и т. д. Так вот, Уленшпигель раздираем страстями противоположного свойства: он и жесток и добр; и насмешлив, и сострадателен; он беспощаден и он же очень сентиментален. И поэтому две главные страсти в жизни Уленшпигеля – это «черная» колбаса и «белая» колбаса. Надо вам сказать, что когда я читал «Легенду об Уленшпигеле» (а она была моей абсолютно любимой книгой с 7-летнего возраста и ею осталась, до сих пор среди величайших произведений Европы я всегда на первое место ставлю этот гениальный симфонический роман, эту «библию» XIX века, поэтическую, мудрую, тонкую, изумительную) – тогда меня очень волновали две проблемы: как бы мне попробовать «черной» колбасы и «белой» колбасы. Разумеется, в советское время колбаса тоже была почти эротическим символом, в известном смысле запретным. Уж во всяком случае, она возбуждала больше, чем любая эротика. В замечательном фильме Владимира Меньшова «Зависть богов» герои смотрят эпизод из «Последнего танго в Париже» с анальным сексом со сливочным маслом, и конечно, сливочное масло волнует их гораздо больше, чем анальный секс, потому что без анального секса можно жить, а без сливочного масла нелегко, хотя тоже, в общем, можно. Подумаешь. И вот колбаса, конечно, волновала не эротически, но дело в том, что палочная, фаллическая символика колбасы в «Легенде об Уленшпигеле» заявлена абсолютно прямо. Там он хочет похитить палку колбасы. «Вот уж дам я тебе другой палкой!» – кричит хозяйка. «Так возьми мою», – говорит Уленшпигель.
И это прелестно. Но и на этом они отчасти примиряются, хотя она все равно его прогоняет. Одержимость «черной» и «белой» колбасой была мне с детства очень знакома, и я знал, что «черная» колбаса – это кровяная, самая вкусная. Уленшпигель любит ее больше. А «белая» – это копченое сало, которое он тоже, впрочем, любит. Мне случай попробовать кровяную колбасу впервые представился в 13 лет, когда дед повез меня в Киев к друзьям-однополчанам. Там продавалась кровяная колбаса. Представить вы себе не можете, с каким пылом я на нее набросился. И вот изумительное подтверждение того, что в человеке важнее всего не физиология, а мозг. Мне эта колбаса показалась ужасно вкусной именно потому, что это было то, что ел Уленшпигель. И впоследствии безумно я полюбил эту колбасу: жареную, естественно, политую кетчупом, если есть возможность. Потому что с ней мы как бы приобщаемся, конечно, не к свиной жизни, не к свиной крови и не к поэтике бойни, а мы с ней приобщаемся к веселым и жизнерадостным гёзам – персонажам, которые каким-то удивительным образом умудрились создать эту оранжевую символику свободы за 300–400 лет до всякого Майдана. И для людей моего поколения Уленшпигель был не только символом свободы, но и символом радости, символом простых радостей жизни. Мы понимаем, что Ламме Гудзак ему необходим. «Веселое брюхо Фландрии», – говорит о нем автор. И действительно, что была бы Фландрия без своего веселого брюха? Точно так же все мы детьми читали гениальную книгу Сергиенко «Кеес Адмирал Тюльпанов», которую я мог бы поставить рядом с «Уленшпигелем…». И больше всего нас восхищали эти колбасы, которые щедро там упоминаются, жаренная на сале фасоль, и, конечно, пиво. Сергиенко понимал, что книга его рассчитана на детей и поэтому пиво пьют, в основном, отрицательные персонажи (Железный Зуб, например), но делают они это так аппетитно, что до сих пор этот звук «буль-буль-буль! хрр-р-р!» для меня олицетворяет блаженство. Помню, когда я впервые попробовал пиво, я сделал это исключительно по наводке Кееса Адмирала Тюльпанов. Тоже, должен признаться, мне очень это понравилось. Хотя я не стал бы это списывать только на счет литературы.
Третья, довольно забавная функция еды в литературе, которая у нас воплощена главным образом Чеховым, – это противопоставление искусственности, абстракции. Это та живая плоть, живая ткань жизни, от которой мы почему-то все время презрительно отворачиваемся. Вспомним знаменитое письмо декана Свифта: «как подумать, что Стелла мочится…» Да вот точно так же подумать, что принцесса ест. Это для романтического сознания немыслимо. Однако на самом-то деле любая принцесса ест с большим аппетитом. «Не стану есть, не буду слушать, умру среди твоих садов! Подумала – и стала кушать». Это мы помним из «Руслана и Людмилы».
Чехов противопоставляет поэтику еды поэтике романтических отвлеченностей, всяких абстрактных условностей именно потому, что его ужасно раздражает в русском человеке его готовность все время размышлять и неготовность делать, неготовность работать. По Чехову, еда – это очень большая ценность. Вот как он пишет о пении красавицы: «И пока она пела – мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню».
Казалось бы, это снижающее сравнение, но, как совершенно справедливо заметил Бродский, в постромантической литературе снижающее сравнение иногда придает образу неповторимую свежесть. «Твои глаза как бирюза» уже никого не возбуждает. А «твои глаза как тормоза» – это повод задуматься.
Вот точно так же и здесь: сказать, что «это было как соловей» – никто не обратит внимания, да и кто слушал того соловья! Надо сказать, что еще и в средневековой поэтике пение соловьев нередко интерпретировалось иронически. Как в «Декамероне»: Прелестная девушка пошла ночевать на балкон с тем, чтобы к ней проник любовник. Отцу она сказала, что пошла слушать соловьев. Когда отец ворвался, она была полностью обнажена, а «соловья» как раз сжимала в руке. Это прелестная метафора.
Пение соловьев уже не восхищает, а дыня! – это может подействовать. Особенно в России – стране, где еды всегда маловато. Правильно заметил прекрасный писатель Алексей Иванов: почему русские так редко радуются друг другу? Потому что понимают: всего мало и сейчас начнется конкуренция. Даже когда ты идешь по снежной равнине, где снега, казалось бы, завались, все время есть ощущение, что сейчас подойдет новый человек и отнимет даже то, что есть. Это справедливо очень. Поэтому еда для русского человека – это, что ни говори, серьезная ценность в часто голодающей стране.
Конечно, все знают знаменитый ответ Чехова: «А вы за кого – за греков или за турок? Вы кого больше любите?» – «Я больше всего люблю мармелад, в особенности сливочный».
Именно у Чехова мы находим слова, что «ни одна бесконечная степь так не утомит, как скучный собеседник, с которым полчаса едешь в поезде». Мережковский вспоминал, как он приехал к Чехову и донимал его разговорами о смысле жизни. И Чехов докторским баском ему говорит: «А кстати, голубчик, что я вам хотел сказать: как будете в Москве, ступайте-ка к Тестову, закажите селянку, – превосходно готовят – да не забудьте, что к ней большая водка нужна».
Вот это прекрасный, чисто медицинский рецепт. В конце концов, именно Чехов автор самой циничной медицинской поговорки: «Легкие болезни сами пройдут, а тяжелые неизлечимы. Поэтому обращаться к врачам не следует ни в каком случае».
И Чехов, который действительно достаточно цинично относился к физиологии и понимал, что от нее очень многое зависит, тот самый Чехов, который всем жаждущим получить у него автограф и обращавшимся за рецептом выписывал исключительно пурген, именно этот Чехов понимает, что через еду можно достичь гораздо большего психологического эффекта. Описание еды лучше, чем описание метафизики. Поэтому он любит еду, обожает ее описывать. Она у него, как у Гоголя, несет серьезную символическую и нравственную нагрузку. Конечно, самый знаменитый рассказ в этой области – это «Сирена». Чеховская «Сирена» имеет гораздо более глубокий смысл, чем ей принято приписывать. «Сирена» прописывается всегда, как вы знаете, просто медицински прописывается больным, которые страдают ангедонией – отсутствием всякой радости жизни, которые страдают абулией, страдают отсутствием аппетита. Человек, прочитавший этот рассказ, начинает жрать неудержимо, неукротимо. Умение хорошо, вкусно описать еду – это одна из тех чеховских черт, которые выдают действительно великий талант. Что происходит в «Сирене»? В суде после заседания председатель пишет особое мнение, но никак не может сосредоточиться, потому что в это время секретарь суда рассказывает, как это бывает хорошо пообедать, и во всех подробностях описывает разные блюда. И слушающий его рядом один из судейских брюзжит: «Чёрт его знает, только об еде и думает! Неужели, кроме грибов да кулебяки, нет других интересов в жизни?»
Как Чичиков, слушая Петуха: «Только о еде и может думать». Секретарь, улыбаясь, говорит: «Слушаю-с». И начинает рассказывать все то же самое, но гораздо тише. Но удержаться не может, потому что речь зашла о какой-то поистине великой страсти. Он перечисляет случаи, когда сам он едва не сошел с ума от аппетита. Там замечательная фраза: «Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном, так со мной от аппетита истерика сделалась». Понимаете? Истерика от аппетита – это практически небывалое состояние.
Один из присяжных, мечтательно шевеля пальцами, говорит: «Жареные гуси мастера пахнуть!». И мечтательно шевелит в воздухе пальцами, воображая гуся. Другой (да тот же самый секретарь) говорит: «Нет, ну что вы. В гусином букете нет нежности и деликатности»… «Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух… даже слеза прошибает иной раз!»
И седьмой лист портит пишущий свой «votum separatum», свое особое мнение.
Обратите внимание, что алкоголь играет в этом обеде ничтожную роль. Подать рюмочки… Извольте выкушать… «Да ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью “его же и монаси приемлют”». Да?!
А дальше он начинает описывать суп. После этого, естественно, дело переходит на карпия. Из рыб бессловесных лучше есть карпий, запеченный, естественно, в сметане. И после этого мы начинаем понимать, что все дела, которыми занят в этом суде и сам секретарь, и все остальные судейские, – это такая бездушная бюрократия, такая пустота. Вся чудовищность и глупость судебной машины раскрываются по контрасту со жратвой и достигается этот эффект простейшими средствами, а не так, как у Толстого в «Воскресении», хотя там это тоже очень хорошо. Но в «Воскресении» Толстой берет себе задачу действительно измотать читателя. Там ничего хорошего нет. Там ни разу вкусно не поели! А роскошь там всегда вызывает негативные ощущения, имеет негативные коннотации.
Не то Чехов: бездушность, скелетность, тупость этой машины он умудряется изобразить, противопоставляя ей обычный обед, простые радости жизни. И мы понимаем, что в простом обеде гораздо больше смысла и счастья. С глубокой тоской я должен заметить, что для позднего Чехова, который все меньше радовался, меньше зависел от красивых женщин, вкусной еды, вина и другого, для него еда постепенно становилась символом пошлости. В рассказе «Володя большой и Володя маленький» появляется эта реплика: «А может, хотите конституции? Или, может, севрюжины с хреном?»
А потом, наконец, самая страшная реплика, олицетворяющая всю пошлость жизни, это, конечно, в «Даме с собачкой», когда Гуров хочет с кем-то поговорить о своей любви, о ее прелести, мы слышим: «Осетрина-то была с душком, Дмитрий Иванович…» И эта осетрина с душком становится символом такой же протухшей, несчастной, зловонной жизни.
Поздние чеховские герои не едят, и это огромное их заблуждение. Это очень важный перелом в Чехове, единственное, что в нем по-настоящему изменилось. Поздние чеховские чревоугодники всегда неприятны. Если они хотят поесть крыжовника, то это уже преступление. Я помню, каких я сподобился критических стрел за статью «Господи, спрячь меня в крыжовник», где речь шла о том, что ничего нет греховного в желании завести свой крыжовник, ничего нет дурного в том, что у тебя есть вишневый сад и пусть ты при этом человек прошлого, пусть ты вымирающий класс. А как хорошо было, когда вишню и сушили, и мариновали, и варили, и чего с ней только ни делали! А как хорошо, когда ты мечтаешь иметь свой крыжовник! Конечно, там герой уморил жену, и он этим сильно скомпрометирован в наших глазах. Но как это хорошо, понимаете, мечтать в жизни о том, чтобы у тебя была скромная «фазенда», скромная дачка. Конечно, он мерзавец, потому что он говорит: «Мы, как дворяне, мы, как землевладельцы…» Но если бы он этого не говорил, если бы он просто обустроил кусок земли, если бы каждый обустроил свой кусок земли, разве это было бы нехорошо? А разве прав Чимша-Гималайский, который в этой же трилогии «Крыжовник. О любви. Человек в футляре» говорит: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные…»
Ну и стучат эти люди своими молоточками и пробивают головы насквозь. И в 1917 году пробили всю страну таким образом. Да, есть несчастные. Поэтому и ты не смей быть счастливым. Но ничего хорошего не вышло. Просто это все к тому, что когда у Чехова мы читаем про Чимшу-Гималайского, мы ни на секунду не забываем, что от его трубочки исходит очень неприятный запах, не дающий уснуть. И он противно, тоненько сопит носом, спать около него невозможно. Это не храп, а сипение.
У Чехова всегда герои, произносящие такие пафосные сентенции, снабжены какой-то неприятной чертой. Помните, Саша из «Невесты», например? Какой положительный герой умирает от чахотки! Революционер. Борется. Но он длинно и многословно шутит, а когда говорит, все время тыкает собеседника в грудь двумя пальцами для убедительности. То, что Олеша называл «железные пальцы идиота». Ничего приятного в этом нет. И поэтому у Чехова «Крыжовник» – самый амбивалентный, наверно, рассказ. Человека в футляре и то жалко, хотя там сказаны страшные слова: «Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, – это большое удовольствие». Действительно. Но в «Крыжовнике» жалко этого человека, который, накрывшись одеялом, похож на свинью, которая вот сейчас хрюкнет. И он вытягивает губы, ест этот крыжовник и говорит: «Посмотри, как вкусно». А на самом деле и жестко, и кисло. И в это ушла вся жизнь. Но он был бесконечно умилен: «Это мой крыжовник».
Ну и что плохого? Есть у человека его крыжовник. Он же не хочет себе каких-то наполеоновских планов, он хочет, чтобы у него был крыжовник! Теперь уже и этого, оказывается, нельзя.
Конечно, я понимаю, что Турков, который на меня тогда набросился, заслуженный «новомирский» критик, и, как ученик Твардовского, он имеет право раздавать любые ярлыки, я его люблю очень. Но какая-то правда, наверное, была тогда и за мной, потому что жесткий и кислый крыжовник – это все-таки лучше, чем человечина, которой готовы питаться борцы за всеобщее счастье.
Естественно, тут возникает вопрос: как изменилась поэтика еды в ХХ веке? В ХХ веке еды стало мало. И поэтому умение вызвать у читателя судорогу голода стало цениться очень высоко. Солженицына многие оценили именно потому, что в «Одном дне Ивана Денисовича» судороги голода, муки голода описаны так, что отдыхает любой Гамсун. Все люди, которые впервые читали «Один день Ивана Денисовича», неудержимо рвались на кухню, отрезали себе кусок хлеба, посыпали его солью и немедленно сжирали. Об этом эффекте вспоминал Твардовский, который на ночь взял полистать рукопись и не оторвался от нее до утра. А среди ночи побежал на кухню за черным хлебом. И об этом же эффекте рассказывала мне Слепакова. Она рассказывала о том, как она матери дала почитать 9-й номер «Нового мира» за 1962 год и ночью услышала, как мать тяжело ходит по кухне и отрезает себе кусок буханки. Невозможно, читая «Один день Ивана Денисовича», не сожрать кусок хлеба. Кстати, подобное ощущение было у меня в свое время от «Республики ШКИД», где тоже муки голода описаны, я вам скажу, неслабо. А Солженицын умудрился так описать вот этот один кусочек колбасы (твердой копченой), который из посылки Цезаря Марковича достался Ивану Денисовичу, и он полчаса его на ночь катает во рту, высасывая мясные соки, – он умудрился описать это с такой физиологической достоверностью, что это, как было сказано у Багрицкого: «Рычи, желудочный сок!». Здесь еда, как ни странно, стала представать универсальной ценностью. Мало того, что это всех нас роднит, но это еще в огромной степени делает человека человеком. Когда он лишен еды, он превращается в зверя.
Мы знаем многие примеры того, как люди во время блокады умудрялись героически преодолевать голод и вообще не думать о нем. Есть дневник Островской, железной женщины, между прочим, осведомительницы НКВД, которую приставили к Ахматовой, но при этом дневник великолепный. Она все время говорит: «Как это унизительно быть все время голодной, как унизительно думать о еде. Нет, я не буду думать о еде, я не превращу себя в этого голодного волка, в этот скелет. Я буду думать, о чем угодно другом: о психических патологиях, о литературе, о музыке. Я буду вспоминать, но я не буду голодать…» Это героический позыв. Я думаю, только женщине это доступно. Потому что, скажем, бедный подросток Юра Рябинин из потрясающего дневника «Блокадной книги» не сумел задавить в себе эту физиологию, и голод в какой-то момент действительно отнял у него разум. А Островская выжила. Выживал тот, кто умел отвлечься на абстракцию. Гениально это описано у Лидии Гинзбург в «Записках блокадного человека». И там же высказана страшная мысль о том, что еда стала не просто делом, по-настоящему достойным делом, героическим, еда стала делом интимным. Невозможно есть при другом. Потому что другой испепеляет глазами твой кусок хлеба, твою кружку болтанки из сырой муки. Вот это, на самом деле, очень важная черта литературы ХХ века. Еда стала сакральна и интимна. Раньше можно было посмеяться над человеком, который хочет только жрать, но в ХХ веке человек, который хочет есть, – это почти всегда положительный герой. Потому что огромные слои населения оказались выброшены из жизни и вынуждены бороться за существование, потому что война поставила на грань выживания огромное количество народа. И вообще борьба за еду перестала быть делом эгоистическим, она стала так же сакральна, как борьба за огонь. Вот это главная тенденция литературы ХХ века. Что будет с XXI веком? Я пока не очень понял, потому что очень мало текстов. Очень многие авторы выдают свое неумение писать за литературную изобретательность, за поэтику новую и т. д. Пока я не встретил ни одной книги – кроме, может быть, Валерия Попова, – в которой еда была бы по-настоящему убедительна, в которой еда была бы написана так, чтобы хотелось есть. Я не знаю, по каким причинам это произошло – то ли человечество зажралось. Но оно ведь и про секс уже так убедительно не пишет. Нет такой книги, после которой хотелось бы немедленно бежать и это сделать, как после «Лолиты». Да? Нет такой книги, которая заставила бы… Может быть, это уже возраст у меня такой. Нет такой книги, которая спровоцировала бы немедленно эрекцию. С другой стороны, когда перечитываешь хорошую литературу, все по-прежнему мгновенно реагирует. То есть, я боюсь, что здесь просто огромный кризис писательского мастерства. Я думаю, что XXI век готовит нам еще нешуточные испытания, после которых мы поймем, как прекрасна еда, и вернемся к ее описанию с новыми силами.
Вот то, что я хотел сказать, а дальше говорите сами.
Вопросы
Я, к сожалению, не вызвал у вас настоящего голода, настоящего аппетита, потому что все больше теоретизировал. Сейчас мы можем поговорить о жратве уже поконкретнее. У меня очень простые, к сожалению, вкусы.
Нет, нет, к сожалению. Вы же знаете, что мое любимое место – это «Рюмочная» на Большой Никитской, а любимая вещь в «Рюмочной» – фаршированные кабачки. Но вы же знаете: я не пью. Я в основном закусываю. Мне в выпивке больше всего нравится закуска.
Кстати, вот еще о чем хотел упомянуть: в книге «Малыш и Карлсон» (помните, у нас была лекция?) символика еды тоже занимает огромное место, потому что там есть эпизод, когда Карлсон созидает своего рода алтарь: строит башню из кубиков и кладет наверх тефтельку. Для Карлсона ведь еда тоже имеет очень большое значение, его обжорство символично.
Что касается моих пищевых пристрастий, они очень просты. Я очень люблю пельмени. Наверное, в этом есть определенный смысл, потому что пельмени являют собой совершенное произведение. В нем есть идеальная тестовая форма и густое мясное содержание. И потом, пельмени – это быстро, вот что очень важно. Я люблю сосиски, особенно в томатном соусе. Это русские такие вещи. Русская диетическая сосиска была довольно доступна. Дачные какие-то воспоминания: сосиска в томате. Отчасти, может, через Булгакова это пришло: «Открыли кастрюлю – в ней оказались сосиски в томате». Вот такие вещи.
Булгаков-то как раз был гурман, большой любитель сочной ветчины, каких-то таких штук. Но у меня, повторяю, вкусы чрезвычайно простые, основанные на впечатлениях советского детства. Сосиски, если удавалось. Да! А чаще пельмени – те, помните, в красных пачках, которые всегда разваливались. И поэтому тесто плавало отдельно, мясо отдельно. Но это не портило удовольствия.
– Мясо теряло форму…
Мясо не теряло форму, оно осталось подушечкой. А если еще туда, знаете, сливочного масла запустить, то это вообще было чудо! Да не голодали, Господи. Хорошо все было.
Скажите, пожалуйста, что, по-вашему, символизировало седло барашка Форсайтов?
Ну, братцы, я так глубоко не залезал в это дело.
(смех в зале)
Но, понимаете, какая штука: честно вам скажу, я не люблю «Сагу о Форсайтах», я гораздо больше люблю «Конец главы», где, по крайней мере, во втором томе поставлена действительно серьезная проблема: имел ли он право отречься от христианства ради спасения своей жизни? Но там еды нет. А вот что касается седла барашка, мне видится вот что: баранина вообще для англичанина – это очень серьезная вещь. Это символ мужественности. Баранья похлебка, часто с чеснокоме, почти как у итальянцев, жареная баранина, бараний стейк. Мы уж не стали об этом говорить, но вспомните рассказ Моэма «Ланч», где к нему приехала поклонница и он рассчитывает ее угостить, а у него осталось на полмесяца сколько-то гиней, и он рассчитывает съесть простую телячью или баранью котлету. Это символ суровой простоты. А ей надо чего-то утонченного, ей надо лосося, ей надо персик… И он потратил всё. У него даже не хватило на чаевые. И последняя фраза: «But I have had my revenge at last. Today she weighs twenty-one stone. («Теперь я отомщен, она весит 300 фунтов»). Утонченная еда в английском понимании всегда противопоставлена простой, грубой, надежной пище. Баранья котлета – вот пища писателя! И тогда у него будет мужественный стиль. Так что, видимо, седло барашка у Форсайтов играет некоторую роль отсылки к воинственной традиции, к аристократической доблести. Хотя, убей меня Бог, я не помню, что Сомс ел. Совершенно это ушло. Я помню, кого он…
Устрицы, спаржа…
Ну, об устрицах мы уже говорили. С устрицами понятно: Ирэн, все дела… Насчет спаржи – вот здесь сложно. Мы думаем, что спаржа – это что-то утонченное. Но спаржа – это, по-моему, абсолютно обычная еда для XIX века. Если помните, в начале «Денег» у Золя главный герой, поскольку у него очень туго со средствами, заказывает спаржу. Это, может быть, по нашим временам какая-то безумная экзотика, а тогда это самое простое дело.
В вашу довольно-таки стройную систему, по моему мнению, можно вписать не художественную, но очень популярную в свое время книгу «О вкусной и здоровой пище»?
Действительно, очень интересно. Книга «О вкусной и здоровой пище» важна не как текст художественный, а как артефакт, как примета нашего детства. У всех она была пухлая от вписанных туда рецептов и вложенных листков календарей с кулинарными секретами. Конечно, эта книга, изданная под контролем Микояна, знаменует собой наступившую оттепель гораздо отчетливее, нагляднее, чем в политике. Людям стало можно задумываться о вкусной пище. Стало понятно, что вкусно есть – это добродетель. Ведь эта книга с ее знаменитым тисненым – либо зеленым, либо кремовым, шоколадным переплетом – появилась одновременно с первыми дачными участками в 1954–1955 годах. Это уже означало, что немножко можно. Немножко можно своего, немножко можно крыжовник. Она такой же артефакт, как «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец, в котором, как вы помните, советы в духе «отжимки отдайте на кухню людям» и есть самая характерная примета времени. Вкусный обед за полчаса. Скажите прислуге взять в погребе то-то и то-то – и будет у вас вкусный обед за полчаса. Книга «О вкусной и здоровой пище» могла бы иметь подзаголовок «Голь на выдумки хитра». Это способность из простейших продуктов сделать вкусное. И я помню, что эта книга во многих советских домах, в том числе нашем, была серьезным руководством в жизни. Она, как вам сказать, для советского человека во многом метафизична, потому что стало понятно, что заботиться об уюте, комфорте, вкусе, эстетике, – это не последнее дело. Коммунист 1920-30-х годов считал буржуазным даже сервиз, считал буржуазной полированную мебель. А тут оказывается, что правильно разложить картофель, правильно вычистить и замочить сельдь (если помните, ее замачивали в заварке), правильным образом изготовить винегрет – это вовсе не второстепенно. От этого зависит дизайн жизни, ее иконика, ее изобразительный ряд. Книга «О вкусной и здоровой пище» была любимым студенческим чтением, когда нечем было закусить.
(смех в зале)
Я прекрасно помню времена, когда вместо закуски (как правило, крайне скромной) просто зачитывалось на выбор то или иное блюдо. И подробно обсуждалось.
(смех в зале)
И это было очень хорошо. Книга хорошо написана, надо вам сказать. Она стилистически целостно выдержана. И главное, что она очень оптимистична. Я вообще Советский Союз люблю больше, чем то, что сейчас, за что всю жизнь и получаю. Но, помяните мое слово, это было лучше. Вот сегодня могла бы быть написана только книга о вкусной и здоровой кровавой пище, чем, собственно, мы все и занимаемся.
Я хотел узнать лично ваше мнение об описании еды в творчестве М.М. Жванецкого.
«Мешать, мешать…» Тут, я думаю, не столько Жванецкий, сколько Карцев и Ильченко. Жванецкий – это последний представитель южной школы, юго-западной школы, а юго-западная школа всегда отличалась фантастическим чревоугодием. Вспомните описание «синеньких», блюда из баклажанов, у Катаева в первой главе совершенно нечитабельной книги «За власть Советов». Как они борются в катакомбах – читать совершенно нельзя. Но как они готовят жареные «синенькие» – это еще можно. Катаев вообще чревоугодник. Вспомните воду «Фиалка», после нее хочется выпить даже воду «Байкал» немедленно, кстати, Байкал не худший вариант. Но эта лиловая вода, над которой лиловый дымок восходит, и серебристые искры в ней бегают… Я думаю, что Жванецкий, как наследник южной школы – гедонист, ценитель всего вкусного, женщин молодых красивых, баклажанов, правильно приготовленных, салата. Кончено, Жванецкий пластически не так убедителен, как его предшественники. Но у Жванецкого что важно: у него к вкусности еды примешивается ее социальная ценность. То есть мы понимаем, по Жванецкому, ну что такое раки? Раки – это, в общем, обычная вещь. Но сказать применительно к 1980-м годам (я хорошо это помню): «Я вчера раков видел» – это «я видел Ленина» фактически. Да?
«Я вчера раков видел, но по три… А сегодня очень большие, но по пять. А вчера маленькие, но по три»…
Вот это можно повторять до бесконечности, потому что, как и у героев Зощенко, совершенно подавлена мысль, нет никаких других:
«И вот она едет к мужу. Все как полагается: на руках у ней малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск.
Едет она к мужу в Новороссийск».
В десятке предложений он развивает эту мысль, потому что ему нечем себя занять. Это от бедности, от страшной скудости жизни.
Еда у Жванецкого, помимо значения символического, получила значение социальное. И не зря у него один из лучших монологов заканчивается словами: «Прошу к столу – вскипело!». Почему? Потому что за столом разрешаются все противоречия. Вот только что мы спорили, но мы все пошли к столу и нам так хочется есть, что мы забыли о всех разделяющих нас социальных и идеологических барьерах.
Кроме «Евгения Онегина», есть в поэзии описание еды?
Я не стал уже об этом говорить, потому что все и так знают. Но, конечно, «Евгений Онегин» вырос из «Жизни Званской», которую я упомянул:
«Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером, Там щука пестрая: прекрасны!»Державин у нас первый, кто дерзнул в забавном русском слоге не только о добродетелях Фелицы возгласить, но и о стерляди. Конечно, Державин – гений такого простого сельского гедонизма. Он показал, что может быть высоким приемом еда. И посмотрите, как это выродилось. Я, конечно, высоко уважаю Липкина, ценю его, но «Жизнь Переделкинская», которая является ответом на «Жизнь Званскую», уже не содержит в себе никаких аппетитностей. Это уже чистый перечень довольно скучных событий или, во всяком случае, визитов к разным прекрасным людям.
«Давай-ка к Лидии Корнеевне зайдем.
К ней можно: час пошел девятый…»
Нет бы сказать: «Пойдем-ка поедим чего-нибудь такого». Да? Там этого совершенно нет. Духовные люди. А вот Державин позволял себе, будучи человеком простым. Я считаю, что в стихах еде самое место, но просто это должны быть действительно хорошие стихи. Как у Окуджавы:
«Храмули – серая рыбка с белым брюшком. А хвост у нее как у кильки, а нос – пирожком. ‹…› Ее не едят, а смакуют в вечерней тиши, как будто беседуют с ней о спасенье души».Конечно, не очень понятно, нравится ли самой рыбке такая беседа и подает ли она реплики. Но несомненно то, что еда в текстах Окуджавы по-грузински обрела свою сакральность. Давайте вспомним «Свидание с Бонапартом» – самое поразительное описание обеда в русской литературе ХХ века, где генерал Опочинин планирует убийство Бонапарта за обедом и тщательно продумывает меню: оленина настроит гостя на высокий лад, он расслабится, и можно будет его убить.
Это гениально, конечно! Он встречает его, как победителя, заказывает шикарные блюда, потому что стерлядь внушит нам нежность, потому что оленина внушит нам дружественность. Потому что капуста подарит нам тоже напоминание о воинских добродетелях. А потом в этот момент я выхвачу пистолет и убью узурпатора.
Для Окуджавы еда – часть ритуала дружбы. Ведь почему «…белый буйвол и синий орел и форель золотая», да? Это все участники повседневного ритуала жизни, сельского ритуала. И, конечно, форель золотая здесь далеко не последняя, да, ее действительно едят в порядке диалога с ней о спасении души. Именно поэтому Окуджава так любил готовить. Любил готовить суп, например. Белла Ахмадулина вспоминала: «Как странно было позвонить Булату и услышать: – Булат, что ты делаешь? – Я варю суп. – Как это можно?! Булат, который слышит небесные звуки, варит суп!».
А для него суп был делом очень важным. Еще Окуджава обожал сам мыть посуду. И когда его спрашивали, почему, он отвечал: «У нас не так много возможностей сделать мир чище».
(смех в зале)
Дима, скажите, в вашей новой книге есть ли описание еды и, если можно, процитируйте, пожалуйста.
Подождите. Мне для этого надо ее разрезать. Понимаете, в ней есть соответствующая лексика. Я наизусть не все помню. Я эту книгу еще в руках держу…
Своими словами.
Нет уж, слушайте. Ничего не поделаешь.
Дмитрий Львович сейчас продемонстрирует, как феноменально он ориентируется в своей книге…
Я не продемонстрирую. Я не все там помню. У меня в этой книге практически нет еды. А, нет! Есть одно стихотворение про ресторан. Я его прочту, и на этой оптимистической ноте мы с вами разбежимся раскупать, напоминаю, книгу…
В Берлине, в многолюдном кабаке, Особенно легко себе представить, Как тут сидишь году в тридцать четвертом, Свободных мест нету, воскресенье, Сияя, входит пара молодая, Лет по семнадцати, по восемнадцати, Распространяя запах юной похоти, Две юных особи, друг у друга первые, Любовь, но хорошо и как гимнастика, Заходят, кабак битком, видят еврея, Сидит на лучшем месте у окна, Пьет пиво – опрокидывают пиво, Выкидывают еврея, садятся сами, Года два спустя могли убить, Но нет, еще нельзя: смели, как грязь.С каким бы чувством я на них смотрел?
А вот с таким, с каким смотрю на всё: Понимание и даже любованье, И окажись со мною пистолет, Я, кажется, не смог бы их убить: Жаль нарушать такое совершенство, Такой набор физических кондиций, Не омраченных никакой душой. Кровь бьется, легкие дышат, кожа туга, Фирменная секреция, секрет фирмы, Вьются бестиальные белокудри, И главное – их все равно убьют. Вот так бы я смотрел на них и знал, Что этот сгинет на восточном фронте, А эта под бомбежками в тылу: Такая особь долго не живет. Пища богов должна быть молодой, Нежирною и лучше белокурой. А я еще, пожалуй, уцелею, Сбегу, куплю спасенье за коронку, Успею на последний пароход И выплыву, когда он подорвется: Мир вечно хочет перекрыть мне воздух, Однако никогда не до конца: То ли еще я в пищу не гожусь, То ли я, правду сказать, вообще не пища. Мир будет умирать и возрождаться, Неутомимо на моих глазах, А я – именно я, такой, как есть, Не просто еврей, и дело не в еврействе, Живой осколок самой древней правды, Душимый всеми, даже и своими, Вечно бегущий из огня в огонь, Неуязвимый, словно в центре бури, – Буду смотреть, как и сейчас смотрю: Не бог, не пища, так, другое дело.Довольно сложный комплекс ощущений,
Но не сказать, чтоб вовсе неприятных.
(аплодисменты)
Спасибо.
Сноски
1
Пундики – сладости.
(обратно)2
Вытребеньки – причуды.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

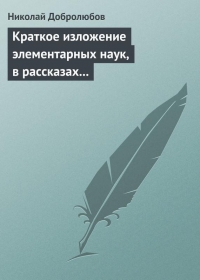


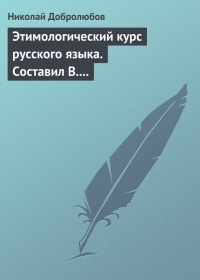

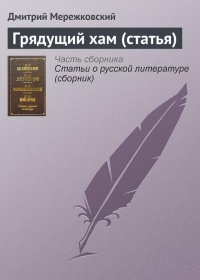
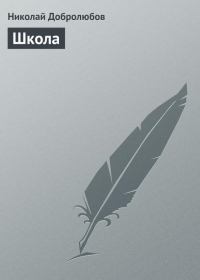
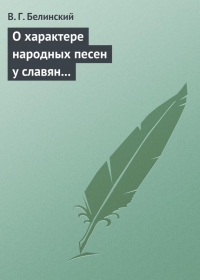
Комментарии к книге «Символика еды в мировой литературе», Дмитрий Львович Быков
Всего 0 комментариев