Алексей Колобродов Здравые смыслы. Настоящая литература настоящего времени
© А. Ю. Колобродов, 2017
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2017
© «Центрполиграф», 2017
Шкурный мужицкий интерес
Назвать Алексея Колобродова «литературным критиком» язык не поворачивается, он про что-то другое.
Хотя внешне – именно про это: точные и точечные высказывания чаще всего о книгах, реже о фильмах и музыке, но даже если про эти соседствующие сферы искусства, все равно с литературной точки зрения.
«Я – по самоощущению – в литературе дилетант», – признается Колобродов, и он не лукавит.
Такое самоощущение дорогого стоит. Оно позволяет каждую книжку читать с искренним, почти детским чувством первооткрывателя: а вдруг будет чудо? – а не с тем вот тошнотворным скепсисом, характерным для ряда «профессиональных критиков»: «Ну чего тут еще? Опять понаписали какую-нибудь галиматью? Никакого покоя от вас нет, мерзавцы!»
При своей, скажем так, строгой, не слишком падкой на развернутые комплименты интонации Колобродов доброжелателен какой-то внутренней, физически ему присущей доброжелательностью. Он доброжелателен не к определенным авторам, а в целом к литературе, просто потому, что чтение для него – форма осмысления мира и радость. На кого ж тут злиться?
С подобным подходом и не самая удачная книжка не станет помехой или раздражителем.
В другом месте Колобродов употребляет по поводу своей читательской заинтересованности забавное определение: «шкурный интерес». Ну да, именно.
Дабы хоть как-то отблагодарить мир за свой реализованный «шкурный интерес», Колобродов пишет литературно-философские очерки, периодически перетекающие в социальную диагностику. Следить за течением его мысли – дело увлекательное само по себе. Это как следить за движением шахмат: ход пешкой, ход пешкой, а потом вдруг стремительный перелет через все поле офицера, неожиданный рывок конем – и картина уже иная.
Особый эффект при чтении этой книжки создается еще вот почему. Колобродов при всем своем, конечно же условном, «дилетантстве» отлично владеет всем профессиональным филологическим инструментарием, однако использовать его не слишком торопится.
Литература здесь в кои-то веки рассматривается не с точки зрения прекрасной филологической девушки или дамы, не с точки зрения старого филологического брюзги или пусть даже и не брюзги, а умудренного филолога – но с точки зрения пожившего мужика, к тому же из провинции, который вообще другими вещами занимается, но обладает, как часто водится у русских людей, какими-то совсем неожиданными талантами.
Этот вот сменивший сорок работ трудяга, выросший на заводских окраинах, не понаслышке знакомый с криминальной средой и т. д. и т. п. – всю жизнь много читал. Я о Колобродове. О конкретном человеке Колобродове.
Такие мужики как тип есть и сегодня, а в Советском Союзе их были миллионы. У Колобродова от них маленькое, но весомое отличие – он может отлично порассуждать на тему прочитанного. Не просто порассуждать, а еще и записать свои рассуждения. «Вывести мораль». Причем зачастую вывести эту мораль туда, куда рассматриваемый Колобродовым автор даже не предполагал ее выводить.
Но выводит ее Колобродов, руководствуясь исключительно здравым смыслом. Понятиями нормы! В наши смутные дни, когда за каждым вторым пишущим подозреваешь явные признаки психической деформации, которая к тому же используется как навязчивый прием, здравый смысл стал товаром дорогим и долгожданным.
Отдельное наше честное совпадение с Колобродовым: интерес к одним и тем же фигурам. На меня, как и на него, определяющее – даже не литературное, а человеческое – влияние оказали, как минимум, два наших современника: Эдуард Лимонов и Леонид Юзефович. (Причем с годами опыт второго становится для меня неожиданно важнее опыта первого.)
Или, опять же, мы с Колобродовым с удивлением и смешанным чувством долгое время смотрели за разнообразными движениями Дмитрия Быкова. Я вот уже насмотрелся, а Колобродов еще нет.
Леха, он добрый. Как всякий сильный русский мужик.
По крайней мере, до какого-то последнего непростительного момента.
Но этот момент, видимо, еще не наступил.
Захар Прилепин
От автора
Есть профессии, не так много, в которые можно попасть только случайно, сугубо волей судьбы. Литературная критика, по моему убеждению, возглавляет их невеликий список.
Исключения случаются и традиционно подтверждают правило. Помню, меня поразила повесть Павла Басинского «Московский пленник», где автор страстно, талантливо и чуть иронично рассказывает о своей мечте сделаться литературным критиком, как грезилась ему собственная фамилия на первых полосах «Литературки» рядом с тем же типографским шрифтом набранными «Игорем Золотусским» и «Львом Аннинским», сколь извилист и жертвен был начальный путь к этому полиграфическому идеалу… Уже на момент выхода повести («Октябрь», 1997 г.) все у Павла Валерьевича сложилось в профессии прекрасно, через тернии к звездности, но… Всегда с интересом читая знаменитого критика, до сих пор не могу отделаться от тревожного ощущения беседы с инопланетянином.
Представляется, что мой опыт – более релевантен, что ли… В литературную критику меня «окрестил» Сергей Боровиков – тогдашний лучший и многолетний редактор толстого журнала «Волга», сам великолепный литкритик и на сегодняшний день – один из лучших в России эссеистов. Даже так – писателей о литературе. (По отношению к себе я эту дефиницию, разумеется, не употребляю – поскольку слаб и недостоин.)
Занятие это, естественно, было последним, о котором я мог помышлять в этой, тем паче в той жизни. Был 95-й или 96-й год, я уже имел некий разнообразный жизненный опыт и брутальный look; только что, после серии пролетарских работ, устроился в областную газету, в том числе на криминальные сюжеты. Все это, по моему жизненному плану, должно было стать топливом будущей прозы – мускулистой (лимоновский эпитет сделался с тех пор достоянием литературоведения), сюжетной, жесткой и в то же время совершенной стилистически.
Сергей Григорьевич выудил из редакционного самотека мои рассказы и пригласил на беседу. На огромном редакторском столе лежали листочки с моей скверной машинописью и румяные яблоки, назначение которых (легкая, быстрая и универсальная закуска водки) я определил уже позже, когда мне довелось испытать одно из главных в жизни удовольствий – совместной выпивки с Боровиковым, выдающимся специалистом этого дела.
Сергей Григорьевич рассказики мои обещал напечатать (и напечатал, по толстожурнальным меркам, быстро), но без обиняков заявил, что с большой прозой у меня получится вряд ли. Не то дыхание, скорее спринтерское, слишком развитый для беллетристики интеллект (и это не было комплиментом). А вот для критики он обнаружил у меня подобающий набор: весь перечислять не буду, но среди прочего были названы ирония и злость. Боровиков дал мне что-то вроде урока (книги и журналы на рецензию). Стал регулярно печатать в критическом разделе «Волги», ну я и втянулся, а там и другие «толстяки» заинтересовались, бывшие тогда слабеющим, но все же магнитом распадающейся на улусы советской литературной империи.
Видимо, как раз в этом, 2016 году – двадцатилетний юбилей моего пребывания на этом странном и вредном производстве. Впрочем, с перерывами, – в книжке «Захар» я писал, что в начале нулевых решил с литературной критикой завязать, – по причине той среднерусской и постмодернистской тоски, которая тогда в руслите разлилась и нависла. Казалось, навеки. Однако появление новых реалистов и новых же смыслов, равно как и наступившая собственная интеллектуальная зрелость, заставили совершить камбэк.
Тут я, собственно, перехожу непосредственно к презентации. Книжку «Здравые смыслы» составляют тексты этого самого камбэка, то есть написанные в последние пять-шесть лет. Печатавшиеся по всему сужающемуся спектру литературной периодики – от толстых журналов до специализированных интернет-площадок («Лиterraтура», «Открытая критика», «Перемены» и пр.) – чем дальше, тем безоговорочней я предпочитаю сетевые варианты.
Здесь далеко не все, написанное мной о литературе, и вовсе не the best по самоощущению. Принцип отбора, мне кажется, точно отражен в издательском подзаголовке – «Настоящая литература настоящего времени». Как минимум, есть оправданная претензия на качество если не авторского прочтения, то его объектов и характеристика литературного календаря – время не только «современное нам», но имеющее самостоятельную ценность: честное, сложное, литературно насыщенное и полнокровное.
Первый раздел «Пограничья величия» – подборка эссе о классиках и на сегодняшний день классических текстах; объединяет их, на мой взгляд, неожиданный ракурс интерпретации – не отрицающий общепринятых канонов, но обходящий их по скандальной подчас траектории. Скандальность эта, разумеется, для меня не самоцель, но всегда с удивлением обнаруживаемое свойство как собственного мышления, так и многих классических имен и текстов.
Раздел «Замеры» – даром что собран из произведений жанра довольно скучного, рецензий, – получился наиболее концептуальным. Он построен по принципу «одна книга (публикация, вещь etc) – один писатель». Это позволяет избежать иерархий, естественного зазора между признанными писателями и литературной молодежью, зрелыми текстами и дебютами и представить в той или иной степени целостную картину общего производства.
Финальная часть, «Страна сближений», разворачивает мой давний и спорный тезис: таланты ходят парами, а вовсе не стайками, как виделось Юрию Олеше. Во всяком случае, по России. В разделе сделана попытка исследовать эту парность в качестве важной приметы национальной идентичности и художественной состоятельности.
Словом, приятного всем чтения. Как говорил Михаил Зощенко и любил повторять, завершая письма, Сергей Довлатов, «литература продолжается».
Часть первая. Приличия и величия
Первый вор. Александр Пушкин и криминальная футурология
Как будто пробку из людей вытащили расстрелом Деда Хасана. Пишут невообразимое количество чепухи. Колумнисты-эссеисты либерального направления срочно переквалифицировались в криминальные репортеры.
Да что там, бери выше – в серьезные исследователи традиций и практики воровского мира. Люди, которые, подозреваю, и в пионерлагере-то не были, важно рассуждают о сроках, ходках и сходках.
Персонажи, видевшие суд снаружи, а тюрьму – из трамвая, квалифицированно спорят о нерушимости моральных принципов в сообществе, сходясь во мнении, что от воровской короны нельзя отказаться, ее можно только потерять. Вместе с головой.
Но больше всего умиляет рефрен про 90-е. Ах, 90-е возвращаются! Ах, они и не проходили! Ах, слишком рано мы забыли эти 90-е!
Ну ясно, что это снова «от нашего столика – вашему столу», воплощенная укоризна власти, которая среди своих геракловых подвигов числит обуздание и приручение отечественного криминала, преодоление «лихих 90-х». Отнюдь не календарное. Но тут есть тонкий момент – власти нигде не отчитывались о победе над воровским миром. Может, из скромности. Если даже у Сталина не вышло – где уж нам там…
Помимо всего прочего, товарищи писатели, а в чем связь 90-х с профессиональным криминалитетом «воровского хода» вообще и конкретным Дедом Хасаном в частности? Ну да, обнаружились тогда у блатных конкуренты – бригады «новых», «спортсменов», «братков». Где-то конфликтовали, иногда договаривались, подчас сами «новые» шли на союз с ворами – тактический и стратегический, памятуя, что от тюрьмы да сумы…
Ничего особо принципиального, бывало куда круче:
– 20 – 30-е – возникновение воровского сообщества в его более или менее институциализированном виде, на стыке традиций и предания дореволюционного каторжанства и массовой беспризорщины. (Другой мощный поток рекрутов – дети ссыльных раскулаченных крестьян.) Появление скрижалей воровского закона;
– поздние 40-е – «сучья война»;
– конец 50-х – начало 60-х – хрущевские репрессии старейших и уважаемых воров в законе;
– 70 – 80-е – засилье «лаврушников» (воров грузинского и – шире – кавказского происхождения), либерализация «понятий», появление «апельсинов» (людей, коронованных за деньги или по бартеру – реальные или потенциальные услуги сообществу).
Источник нынешних знаний цивильной публики о криминальном подполье определяется невооруженным глазом. Это полицейская мифология.
Я своими глазами лет десяток назад видел у одного весьма неглупого опера список «воров в законе». Который наполняли городские бригадиры – от мала до велика (малые, впрочем, преобладали), к классическому блатному миру никакого отношения не имевшие.
Как это часто бывает в России – отечественная литература заметно опережает ведомственную информацию – не только, что естественно, в художественном плане, но и по уровню достоверности и документализма.
Убедительнейший срез криминальной ментальности дает Михаил Гиголашвили в книге «Чертово колесо», где один из многих драматичных сюжетов – попытка отказа тбилисского вора в законе Нугзара от воровского звания, продиктованная желанием начать новую жизнь в тихой Европе в логике «романа воспитания». (Кстати, привет всем заявляющим о пожизненном ношении короны – у Гиголавшвили описана юридически безупречная процедура отречения.)
Пример несколько иного рода – писатель и сценарист, «киевский Тарантино», Владимир «Адольфыч» Нестеренко. В его сценариях «Чужая» и, главным образом, «Огненное погребение» блатная жизнь предстает своеобразной йогой, не столько радикальной социальной, сколько мистической практикой. Адольфыч намеренно не выделяет людей «воровского хода» из общей разбойной массы – его персонажи объединяются не по кастовому принципу, а скорее через общность биографий и приверженность «понятиям».
Собственно, в 90-е так оно и выглядело. Чему доказательством – некоторые рассказы Виктора Пелевина, содержательно примыкающие к известному эпизоду грибного трипа из «Чапаева и Пустоты»: «Краткая история пейнтбола в Москве», «Греческий вариант», Time out и пр.
Впрочем, Пелевин и Адольфыч демонстрируют стилистические полюса, переходящие в мировоззренческие: игровое начало и условности у Виктора Олеговича вкупе с наспех припрятанной моралью (за которую подчас выдается сведение литературных счетов) заставляет вспомнить не Вильяма нашего Шекспира, а Карабаса-Барабаса, тогда как мрачные сцены Адольфыча – задуматься о реалиях адской пересылки накануне этапа.
Впрочем, нынешние звезды околокриминальной публицистики едва ли могут похвастать знакомством даже с классическими образцами: «антиворовскими» памфлетами Варлама Шаламова или как раз апологетическими в отношении воров лагерными записками Синявского-Терца.
Однако наверняка все читали «Капитанскую дочку», где впервые в русской литературе появляется убедительный образ настоящего блатного, прописанный, может, и на скорости (фабула и хронотоп небольшой повести не оставляли иных вариантов), но со множеством видовых признаков. Довольно близкий к современному представлению о князьях преступного мира. Мифологизация и романтизация (как изнутри, так и снаружи) – центральный элемент в этом комплекте.
***
Многие замечательные авторы вставали перед парадоксом: в «Истории Пугачева» Александр Сергеевич изобразил пугачевцев и вождя их настоящими зверьми (что, кстати, вполне согласуется с манифестами Емельяна Ивановича – написанными, надо сказать, близко к стилистике и орфографии современных «маляв»: «И бутте подобными степным зверям»). И вообще пафос ИП – даже не лоялистский, но верноподданнический; так хроника и задумывалась, это был пушкинский бизнес-проект: «Пугачев пропущен, и я печатаю его на счет государя… Государь позволил мне печатать Пугачева: мне возвращена моя рукопись с его замечаниями (очень дельными)». (Одно из «дельных» замечаний: переименование «Истории Пугачева» в «Историю пугаческого бунта».)
Тогда как в «Капитанской дочке» уровень авторской симпатии к Пугачеву заметно превышает фольклорную снисходительность к серому волку, которого не надо губить, поскольку он сумеет когда-нибудь сделаться полезным.
Известны на сей счет эмоциональные заметки Марины Цветаевой; Сергей Довлатов подает реплику о том, что изобразить в пушкинские времена Пугачева сочувственно – все равно что сегодня восславить Берию… (Сергей Донатович не дожил, но мы-то знаем, что ныне – это практически мейнстрим.) Сравнение мятежного казака с эффективным госчиновником кажется неуклюжим, но стоит вспомнить хрущевские разоблачения Берии, где настойчиво звучал пропущенный через тогдашний официоз мотив самозванчества.
Наконец, недавно на «Свободной прессе» было опубликовано отличное эссе Льва Пирогова «Пушкин как Акунин», посвященное аналогичной проблематике.
***
У меня здесь не очень оригинальная версия: Пушкин писал «Капитанскую дочку» исходя не только из фольклорных архетипов (пресловутый серый волк), но и по лекалам современного ему европейского исторического романа, прежде всего Вальтера Скотта (Виктор Топоров в комментариях в «Фейсбуке» проводит параллель КД с «Роб Роем»), где благородный разбойник становится центральной и влиятельной фигурой.
Интересней другое: чужую легенду о благородном разбойнике российский воровский мир также присвоил для нужд собственной мифологии.
(Западные исследователи часто проводят аналогию между российским сословным криминалом и мафией, сравнивая воров в законе с сицилийско-нью-йоркскими донами; параллель явно хромает не столько в историческом плане – деятельность Тори Гильяно, сицилийского Робин Гуда, по времени совпадает с «сучьей войной» 40-х годов, сколько в плане социальном: для российских воров семейные ценности несли, в значительной степени, отрицательные коннотации, кланы формировались по иному принципу. Скорее мафиозные голливудские эпосы – «Крестный отец» и др. – оказали серьезное влияние на идеологию «новых», «спортсменов», «братков» в 90-х, бригады которых, кстати, тоже формировались не по-семейному, а территориально и национально.)
Пушкин гениальным художественным чутьем предвосхитил подобные процессы на целый век, дал в пугачевской линии КД замечательный микс фольклорной архаики, современного ему романтического экшна и криминальной футурологии.
Давайте поподробней.
Эпизод № 1. Феня
После бурана, застигнувшего в яицкой степи кибитку Петра Гринева, герои благодаря «сметливости и тонкости чутья» вожатого (Пугачев) оказываются на постоялом дворе (в хозяине которого угадывается исторически достоверный персонаж – казак Степан Оболяев).
«– Где же вожатый? – спросил я у Савельича.
– Здесь, ваше благородие, – отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза». (Это уже практически Достоевский.)
Далее Пугачев обменивается репликами с хозяином постоялого двора.
«– В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком, да мимо. Ну, а что ваши?
– Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. – Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит; поп в гостях, черти на погосте.
– Молчи, дядя, – возразил мой бродяга (кстати, весьма уважаемый в воровской иерархии статус. – А. К.), – будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит».
Юный Гринев, натурально, не просекает смысла этого почти тарантиновского диалога, но чувствует его функционал: «Я ничего тогда не мог понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. (…) Постоялый двор… очень походил на разбойническую пристань».
Классическая, или «старая», феня сложилась в качестве самостоятельного арго гораздо позднее, во многом под влиянием идиша («блат», «фраер» и т. д.), но основной ее принцип – новый и скрытый смысл в прежних грамматических конструкциях – Александром Сергеевичем зафиксирован.
Следует отметить еще два момента. Место Пугачева в криминальной иерархии – он, будучи моложе хозяина по возрасту (у Пушкина на этот счет точные указания), общается с ним, как старший по статусу. И – афористичность воровской речи: «Чай не наше казацкое питье»; «Кто не поп, тот батька».
Эпизод № 2. Татуировки
Пугачев захватывает Белогорскую крепость, казнит офицеров и милует Петрушу. Гринева разыскивает посыльный казак:
«Великий государь требует тебя к себе. (…) Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные… А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиной с пятак, а на другой персона его».
Речь явно идет о татуировках, призванных продемонстрировать высокое положение их носителя, – чисто воровская история. Любопытно, что двуглавый пугачевский орел у воров советского времени превращается в звезды (пятиконечные, естественно, причем воры славянского происхождения делали их на плечах и груди). С «персоной» – аналогичный процесс в развитии, на левой стороне груди блатные кололи Ленина (ВОР – вождь Октябрьской революции) и Сталина (бытовал миф, что «персона» Иосифа Виссарионовича – своего рода, по выражению Мандельштама, «прививка от расстрела»). Впрочем, последнее, благодаря известной песне Владимира Высоцкого, уже не сословная, а национальная легенда.
Эпизод № 3. Шансон
Гринев приглашен на пирушку к Пугачеву, участники которой «…сидели, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами».
Здесь показателен демократизм воровской сходки: «Все обходились между собой как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. (…) Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева».
В завершение «странного военного совета» Пугачев просит свою «любимую песенку»: «Чумаков! Начинай!»
Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати. Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос идти Перед грозного судью, самого царя. Еще станет государь-царь меня спрашивать: Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын, Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал, Еще много ли с тобой было товарищей? Я скажу тебе, надежа православный царь. Всю правду скажу тебе, всю истину, Что товарищей у меня было четверо: Еще первый мой товарищ – темная ночь, А второй мой товарищ – булатный нож, А как третий-то товарищ – то мой добрый конь, А четвертый мой товарищ – то тугой лук, Что рассыльщики мои – то калены стрелы. Что возговорит надежа православный царь: Исполать тебе, детинушка крестьянский сын, Что умел ты воровать, умел ответ держать! Я за то тебе, детинушка, пожалую Середи поля хоромами высокими, Что двумя ли столбами с перекладиной.Интересен и комментарий героя: «Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, – все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом».
Перед нами песня – прообраз современного шансона, однако явно не того направления, что регулярно звучит в эфире одноименного радио, таксомоторах и привокзальных киосках. Не случайно экономный в средствах Александр Сергеевич не жалеет для нее двух знаковых эпитетов – «бурлацкая» и «простонародная».
И то верно: в коммерческом шансоне сюжет со смертной казнью практически не встречается – как в голливудском кино обязателен хеппи-энд, так в поп-музыке, даже подобного извода, нельзя сильно травмировать слушателя.
Зато расстрел как аналог виселицы полнокровно прописан в дворовой лирике явно лагерного происхождения: знаменитые «Голуби летят над нашей зоной»; «Седой» («Где-то на Севере, там, в отдаленном районе»); «За окном кудрявая, белая акация» («Завтра расстреляют, дорогая мама»); «В кепке набок и зуб золотой».
Есть стилизованная под фольклор «Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела», известная более всего в исполнении Аркадия Северного.
А вот из шансона, так сказать, авторского, с ходу вспоминается лишь «Мне пел-нашептывал начальник их сыскной» из первого магнитоальбома Александра Розенбаума. Там (впрочем, как и много где, если считать от «Мати зеленой дубровушки») звучит мотив воровской омерты:
А на суде я брал все на себя! Откуда ж знать им, как все это было…Показательно, что именно эту песню горланят под гитару персонажи «Бригады».
Но вернемся к протошансону. «Детинушка крестьянский сын» предвосхищает рекрутинг преступного мира в эпоху коллективизации. И другое странное сближение: ведь осуществился же во времена Никиты Хрущева казавшийся сугубо умозрительным разговор «царя» с вором. Между прочим, в наши времена травестированный известным сетевым фотофейком «Путин и Дед Хасан».
Эпизод № 4. Разборка
Гринев, получив неприятные известия из Белогорской крепости, отправляется спасать невесту – Машу Миронову. В ставке Пугачева, Бердской слободе, его задерживают и препровождают «во дворец».
Здесь пушкинский герой становится свидетелем и косвенным участником настоящей разборки «по понятиям», которую начинает сам Пугачев, знаменитой предъявой:
«Кто из моих людей смеет обижать сироту? – закричал он. – Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»
Авторитеты или, согласно Пугачеву, «господа енаралы»: беглый капрал Белобородов, «тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою» и голубой лентой, надетой через плечо по серому армяку, и «Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников» (Пушкин акцентирует количество Хлопушиных «ходок» и побегов) – схватываются, «закусываются», по всей видимости, не в первый раз. Отношение к оренбургскому офицеру – лишь удобный повод.
Белобородов настаивает на пытке и казни Гринева. Хлопуша не то чтобы заступается за фраерка, но отстаивает некий поведенческий кодекс, «закон»:
«– Полно, Наумыч, – сказал он ему. – Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?
– Да ты что за угодник? – возразил Белобородов. – У тебя-то откуда жалость взялась?
– Конечно, – отвечал Хлопуша, – и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором».
Если разложить словесную стычку авторитетов «по понятиям», контекст конфликта проясняется. Белобородов – типичное «автоматное рыло», человек, не имеющий прав на высшие статусы криминальной иерархии, поскольку живет с очевидным «косяком» – служил государству в армии. Как всякий неофит, «апельсин», он, однако, стремится перещеголять коллег жестокостью и кровью, переиродить ирода.
Хлопуша, бандит с безупречной криминальной биографией, во-первых, свободен от подобного соблазна, во-вторых, демонстрирует традиционное для воров неприятие «мокрухи» на пустом месте. Понятно, что без нее не обойтись никак, но если обстоятельства тому способствуют, лучше избежать.
Пугачев же в разборке выполняет роль третейского судьи. Словесная стычка, по его предложению, заканчивается выпивкой и открытым финалом: не приняв ничьей стороны, он в отношении Гринева поступает по-своему.
Отмечу, что слепо на милость Емельяна Ивановича Гринев не уповает: достаточно изучив нравы воровского сообщества, он понимает, что расположение авторитета к его персоне может смениться полной противоположностью. Более того, каких-то переходов и границ между подобными состояниями просто не существует: еще один знаковый извод криминальной ментальности.
Проиллюстрирую тезис, для разнообразия, отрывком из другого автора:
«Вообще, Эди начинает понимать, что Тузик не так прост, как ему показалось вначале. Во всяком случае, искусством повелевать своими подданными он владеет прекрасно. Все, что он говорит, как бы имеет двойной смысл, в одно и то же время таит и угрозу, и поощрение, заставляет нервничать и недоумевать» (Эдуард Лимонов. «Подросток Савенко»).
Эпизод № 5. Пограничье
Пугачев устраивает счастие Гринева: Петр и Маша отправляются в симбирское имение родителей, и тут, как бы походя, проговаривается чрезвычайно принципиальный для нашей темы момент:
«Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали, как придворного временщика».
Это же абсолютно сегодняшняя история, когда безусловный социальный антагонист, офицер (мент) может пользоваться в среде блатных авторитетом и уважением, восприниматься не как «начальник», но начальник если не прямой, то непосредственный.
Существует известный афоризм, родом из тех же 90-х: наступает момент, когда каждый должен определиться, с кем он: с ментами или с братвой.
Красиво, но неактуально, да и коллизия подобная существует только на первый и непосвященный взгляд. Нынешняя российская власть своей поведенческой практикой сняла проблему вовсе, показав, что вполне себе можно и нужно соединять в себе самые яркие и жесткие черты мента и блатного. Более того, такая жизненная стратегия обречена на успех и как пример для подражания. Далеко не у всякого выходит, но если получилось – обо всем остальном можно особо и не париться.
Вся властная практика (и отчасти идеология) нулевых стоит на таких вот кентаврах, микшированных ворах-полицейских, мешанины из закона и понятий.
Гениальное же прозрение Александра Пушкина в том, что отсутствие ярко выраженных (а подчас и штрихпунктирных) границ между ментами и блатными есть один из главных признаков русской смуты.
И подобному критерию «смутного времени» стабильные нулевые и турбулентные десятые отвечают гораздо в большей степени, нежели «лихие 90-е».
P. S. Сергей Есенин создал драматическую поэму «Пугачев», во многом опираясь на пушкинскую «Историю Пугачева».
Любопытно, что Есенин, «единственный поэт, канонизированный блатным миром» (Шаламов), обошелся в «Пугачеве» без мало-мальски заметной блатной ноты. Причина, видимо, не столько в имажинистской поэтике (местами отчаянно-гениальной), сколько в недавнем опыте русской революции, Кронштадтского мятежа, тамбовской «антоновщины», близости поэта к левым эсерам, которую он застенчиво именовал «крестьянским уклоном».
Есенинский Пугачев – отнюдь не вор и разбойник, а скорее партийный вождь, тогдашний левый эсер или сегодняшний нацбол, с романтизмом, рефлексиями и ореолом жертвенности.
Даже профессиональный криминал Хлопуша сделан у Есенина в родственном, хоть и более брутальном ключе – не эсер, но анархист, темпераментом напоминающий Нестора Махно, биографией – Григория Котовского.
Следует признать, что аристократ Пушкин оказался дальновиднее крестьянина Есенина.
Неактуальный юбиляр. Новые сюжеты покойного писателя (к 70-летию Сергея Довлатова)
Сергей Довлатов, как всякий советский человек, был неравнодушен к пузатым юбилейным цифрам. Один из лучших своих рассказов он назвал «Юбилейный мальчик», вспоминаются также не слишком удачный каламбур о «ленинском ебулее» и заклинание – с традиционным довлатовским сдвигом в сторону абсурда и черного, настоянного горечью, юмора – из письма к бывшему товарищу Игорю Ефимову: «Я готовлю сейчас сборник рассказов, как бы – избранное за 20 лет, но это я попытаюсь выпустить года через два – к пятидесяти годам, если доживу, а если не доживу – тем более».
Между тем нынешнее 70-летие писателя, в отличие от прежних его круглых дат, как-то не располагает говорить о Сергее Донатовиче в сугубо юбилейном контексте. Слишком уж драматично сложились для писателя эти двадцать с небольшим посмертных лет, головокружителен и масштабен их сюжет – относительно человеческой и прижизненно-литературной судьбы Сергея Донатовича. Как будто Довлатов, всегда декларировавший свою биографическую и писательскую усредненность, но втайне полагавший обратное, вдруг, находясь в иных измерениях, решил добрать свое на грешной земле. И не только в славе…
***
Заманчиво сравнить посмертное существование СД с протеканием запоев – их пиками и спадами, переменой напитков и впечатлений, внезапными и неожиданными маршрутами, вовлечением все новых персонажей в этот карнавал, воспоминаниями «вчерашнего» и скандалами дома, клиническими пограничьями и прочими, слишком известными, приметами многодневной гульбы. А в финале – возможно, промежуточном – депрессия, усталость, иссякание, нетвердое движение по вдруг пересохшему руслу.
***
Буквально на следующий день после смерти – настоящая оглушительная популярность. Даже не писательски-посмертная, но артистическая, эстрадная. «Культовость». Публикации, книги, собрание сочинений, регулярно дополняемое и многократно переиздаваемое. Мемуары, которые брали не качеством, но количеством воспоминателей, удивительным для нынешних литературных нравов. Невероятный, выражаясь, под стать явлению, социологически, – индекс цитируемости. Довлатовские цитаты действительно разлетелись и сделались цикадами, растворившись не только в языке, но и в самой природе, когда постоянное наличие звука снимает вопрос о его происхождении и производителе.
Не где-нибудь в университетских аудиториях или народного формата пивных, но в хай-тек-офисах на полном серьезе и скандале спорили – какая из книжек писателя лучше – «Зона» или «Заповедник», «Филиал» или «Чемодан». Волны подражателей – не столько стилистике, сколько стилю «джунглей безумной жизни». Канонизация в ее национально-литературном изводе: причисление к классикам. Кинематограф.
Биографический бум – книги Игоря Сухих, Людмилы Штерн, Анны Коваловой – Льва Лурье, избыточные мемуары Аси Пекуровской, филологический роман Александра Гениса «Довлатов и окрестности». Серия ЖЗЛ – где, словно в унисон к нелепостям довлатовских жизненных обстоятельств, Валерий Попов ухитрился состряпать книжку одновременно претенциозную, жалкую и скандальную. Два тома писем – один из которых запрещен судом к распространению. Сайты, посвященные жизни и творчеству.
(И разумеется, присутствие довлатовских текстов в Сети – множество опечаток, пропусков, несуразностей, что для вольной стихии Интернета скорее правило. Легко представить, сколько витиеватых проклятий досталось бы равнодушному сетевому пространству от педанта Довлатова, которого любая опечатка в чужом тексте надолго и беспокойно цепляла, а в собственном – навсегда портила настроение. К терминам типа «сетевая проза» Довлатов, отличавшийся известным консерватизмом в делах литературных и полиграфических, отнесся бы наверняка с плохо скрываемым раздражением и подозрительностью.)
Снова публикации, книги, переиздания. Авторская воля ни при каких обстоятельствах на недопущение в печать отдельных художественных текстов пока не нарушается, зато любовно собраны под одной обложкой редакторские колонки для «Нового американца» – довольно унылое чтение. Однако – безошибочно довлатовское, и дело даже не в стилистической эквилибристике с неповторяющимися буквами в одной фразе. «Новый «Компромисс» можно написать», – точно заметил Игорь Сухих.
Две мемориальных доски – в Питере и Таллине.
***
И вдруг – сначала исподволь, незаметно, а потом и явно – волна пошла на спад. Довлатов становится малоактуален. Если не для широких читательских, то для не слишком узких в России литературных кругов. В принципе обычное для любой громкой писательской славы явление, на фоне успевших кардинально измениться эпох и стран, но, согласитесь, в преддверии 70-летнего юбилея (мог бы жить и жить, да) – явление весьма несвоевременное. Странное.
Можно рискнуть и обозначить причины.
Одна из основных: довлатовские штудии оказались монополизированы.
Андрей Арьев, друг, биограф, исследователь и комментатор Довлатова – задал им высокий изначальный уровень. (Кстати, на фоне многолетней работы Арьева опус Попова в ЖЗЛ кажется особенно, вопиюще убогим; однако показательно, что по поводу поповской ЖЗЛ-книжки демонстративно отмолчались и Андрей Арьев, и, скажем, Александр Генис.) Но здесь есть и обратная сторона – топтание одних и тех же довлатовских окрестностей, бег по кругу, ставший со временем состязанием вхолостую. Отсюда изъяны, возможно имеющие общее, географическое, питерско-нью-йоркское происхождение: ограниченный круг «посвященных», единый биографический канон и общая стилистика, изысканная и строгая, но скучноватая, без увлекательности; наличие табу и белых пятен.
На этом фоне прямо-таки первозданно свежими выглядят безыскусные записки Вадима Белоцерковского и Евгения Рубина, Виктории Беломлинской, равно как недавний уничижительный и ревнивый мемуар Эдуарда Лимонова в «Книге мертвых – 2».
Например, как это ни странно, мало известно о солдатской службе СД в СА. Несмотря на «Зону» и опубликованную переписку с отцом. А ведь в Коми АССР, непосредственно в лагерной охране, Довлатов служил меньше года. Потом, хлопотами Доната Мечика, перевелся ближе к Ленинграду, и об этом периоде – везде глухо. Хотя, минуточку, именно в питерский период службы СД познакомился с Еленой Довлатовой.
Довлатов и бокс – тема увлекательная, но совершенно неисследованная. Миф или реальность? Бокса в текстах СД немало; он не опубликовал, но написал роман (!) «Один на ринге», работал над повестью «Записки тренера». Довлатов всегда горделиво, маскируя брутальность самоиронией, упоминал о занятиях боксом, «уроках тренера Шарафутдинова» и «перспективном тяжеловесе», что смотрелось наследственными хемингуэевскими бантиками. Однако в том же «Филиале» СД обнаруживает известное знание боксерского дела.
Словом, нынешний, хочется надеяться, временный спад интереса к Довлатову (причем на фоне явного подъема интереса к отечественной словесности) мне кажется обратной стороной глубокого бурения при ограниченности зоны изысканий. Запасов словесной руды хватит многим, но страх отдалиться от общего дома заставляет разрабатывать единственную шахту до полной потери смыслов.
Есть во всем этом некая рифма к прозаическому корпусу Довлатова, в котором автор, по выражению Игоря Ефимова, «гонит и гонит колонну одних и тех же персонажей по разным строительно-мемориальным (то есть воспоминательным) объектам». Но сегодня и объекты примелькались.
***
Я рискнул бы обозначить несколько относительно свежих сюжетов, связанных с Довлатовым и довлатоведением. Причем, будучи человеком совершенно неакадемическим и лишенным всяких претензий на глубокое бурение, просто осмелюсь предположить, что какой-либо из них заинтересует более серьезного исследователя.
Семидесятые. Сплетник-сатирик. Довлатов и Высоцкий
Историко-географическая канва довлатовской литературы сегодня кажется далекой и архаичной – «ленинградская жизнь» 70-х и эмигрантский быт 80-х, для современного читателя, суть одно и то же, как «советское» и «антисоветское», согласно знаменитому афоризму самого Сергея Донатовича. Все, разумеется, не так грубо и схематично – просто в «околонулевых» для многих источником исторической энергии является советский проект, во всей его, нередко мифологизированной, трагической мощи. Времен расцвета, но не угасания, которое спустя десятилетия в описаниях Довлатова предстает куда более элегическим, чем было в реальности и чем предполагал он сам – юмор и абсурд отступают перед печалью и самоиронией.
(Довлатов, наименее «антисоветский» из эмигрантских авторов, конечно, поразился бы сегодня эдакой метаморфозе общественных восприятий. А может, и нет – его драматические отношения с эмигрантски-«антисоветским» мейнстримом могут составить отдельный роман-документ, полный страстей, бесплодного кипения и неопрятного российского безумия. Сам Сергей Донатович в многочисленных письмах подробно хвастался ярлыками «красного», «агента КГБ», «розового либерала», «антисемита» и пр.)
Собственно, не раз отмечалось, что Довлатов в описании советских глупостей и паскудств никакой не сатирик – проблемы и ситуации, фиксируемые им, имманентны, присущи России и человеческой природе вообще.
***
Однако отказывать писателю Сергею Довлатову в звании сатирика – ошибочно.
Даже поверхностный анализ доступного сегодня эпистолярного корпуса СД с ходу выявляет в писателе точного исследователя человеческих, литературных, не в последнюю очередь – социальных нравов. Драма его отношений с окружающими, накаляясь, доходит до сатирического градуса. Литературный дар и юмористическое (но не хохмаческое), пополам с горечью, отношение к жизни выводит даже мимолетные обобщения на уровень сатиры эпической.
Игорь Ефимов в своем последнем письме Довлатову, ставящем точку в истории многолетней дружбы и долгой распри, точно фиксирует: «Ваши отношения с людьми полны бурных и неподдельных чувств», главное из них – «раздражение на грани ненависти». И далее – «сплетни-самоходки», «клевета с моторчиком»; вывод – «Д. неисправимый, заядлый, порой даже бескорыстный, талантливый, увлеченный своим делом очернитель».
Если бы Игорь Ефимов избавился от комплекса жертвы довлатовского «очернительства» и сумел бы взглянуть на ситуацию не изнутри, он бы легко убедился, что общества, правители и государства регулярно шили подобный набор ярлыков и обвинений своим сатирикам. Следствия – подчас в виде уголовных дел, реальных сроков и казней – слишком известны.
В последнюю, полновесную стадию своей драмы отношений, разрешившуюся сатирическим романом-пунктиром, Довлатов вступил именно в эмигрантский период. Возможно, причинами стали как свобода высказывания, так и возраст – не слишком уютная зрелость. Случившийся наконец писательский статус, позволяющий, по советской традиции, некое подсознательное (в случае демократа СД) высокомерие. Плюс – предположение не вполне юмористическое – разыгравшаяся болезнь печени.
Но главное – трагическое несоответствие между свободной жизнью муз в зарубежье, как представлял ее советский маргинал Довлатов, и нравами литературно-журналистского гетто. Провинциальными в худшем смысле, когда уже не ясно, кто прав, кто виноват и «кто кого козлом впервые обозвал». К тому же чем мельче и провинциальней обстоятельства, тем сложней их излагать прямо и последовательно. Это как рулон туалетной бумаги – размотать просто, а попробуй, при всей примитивности операции, скатать обратно до товарного вида…
Сатирик тем и отличается от юмориста, что он не только жертва и заложник подобных обстоятельств, но и автор их – поскольку обладает слишком долгой инерцией восприятия людей и событий в соответствии с когда-то установленным идеалом. А потом, наконец прозрев и обломавшись, скрипя зубами, мстит за поруганный идеал. Пусть даже идеал на поверку обернулся стереотипом.
«Максимов оказался интриганом и бабой. Я-то думал, что он вроде Демиденки с Кутузовым, или хотя бы вроде Пикуля, то есть, отчасти шпана, отчасти широкий русский тип, плаксивый, бесстрашный, похожий на солидного уголовника, но все оказалось по-другому. (…) Он – мелкий, завистливый и абсолютно сумасшедший человек. Он мне писал раз двадцать, и все эти бумаги надо отдать психиатру».
Сатирик, обладая цельным мировоззрением (а в случае Довлатова его можно свести к афоризму «ад – это мы сами»), сражается за него не на переднем крае, а в тылу врага, в спецподразделении. Чтобы, неизбежно проиграв войну, закончить в санитарной, а то и похоронной команде: «К сожалению, я убедился, что в мире правят не тоталитаристы и демократы, а зло, мизантропия и низость. Конфликт Маскимова с Эткиндом – это не конфликт авторитариста с либералом, а конфликт жлоба с профессором, конфронтация Максимова с Синявским – это не конфронтация почвенника с западником, а конфронтация скучного писателя с не очень скучным. Разлад Максимова с Михайловым – это не разлад патриота с «планетаристом», а разлад бывшего уголовника с бывшим политическим».
Такого рода «сплетен-самоходок», черного жемчуга, от характеристик с остаточными блестками юмора до сатирического прямоговорения в письмах СД – на отдельный «Антикомпромисс».
Не приходилось слышать, чтобы Сергей Донатович, находясь в самых разных стадиях отношений с корреспондентами и портретируемыми, взял бы хоть одно слово из этих беглых зарисовок обратно.
***
Прежде чем вернуться в семидесятые, надо сказать, что у Сергея Донатовича отношения со временем гибкие.
Его тридцатилетний, плюс-минус, герой часто и запальчиво заявляет, что уже «двадцать лет пишет рассказы», и нам остается поражаться эдакому литературному вундеркиндерству.
В «Филиале» – бродячий довлатовский бантик: таксист везет рассказчика из аэропорта в Лос-Анджелес, приглядывается, интересуясь – не служил ли тот «попкой» в Устьвымлаге в 60-м? Далее, из ближайшего отступления в прошлое мы узнаем, что автор в том же 60-м только поступил в университет, чтобы через пару лет быть отчисленным и попасть на службу в лагерную охрану…
Еще интересней случай, когда его буквально сносит на десятилетие вперед в семидесятые.
В «Представлении» (рассказе из «Зоны», выходившем отдельной публикацией) центральный сюжет – подготовка спектакля, силами офицеров и надзирателей, заключенных и вольнонаемных, к 60-летию советской власти. Кульминация – и халтурной пьесы (сочиненной СД вместе с автором для нужд повествования), и рассказа – слова Ильича, обращенные к «молодежи семидесятых».
То есть речь идет о 1977 годе, Довлатов (и его протагонист Алиханов) десять с хвостиком лет как дембельнулись, а играющий Ленина зэк Гурин (лет около пятидесяти), «с колыбели – упорный вор», утверждает, будто кликуха Артист – у него еще с довоенных времен. То есть с календарем здесь явные и едва ли случайные нелады.
***
«Застой», при всей очевидной сегодня, особенно в культурном плане, условности и неточности термина, исторически кажется слишком одномерным и малопривлекательным. При этом именно «совок» (вот в этом обозначении сходятся либералы с имперцами; первые – громогласно, вторые – не проговаривая стыдной тайны вслух), не без шестидесятнических трогательных родимых пятен, является постоянным, хоть и движущимся фоном главных вещей Довлатова (включая «Филиал», сделанный, казалось бы, на сугубо эмигрантском материале, но сильный именно русским флешбэком).
Но писателем советского (или антисоветского) «застоя», с тем или иным знаком, Довлатова назвать вряд ли повернется самый бескостный язык.
СД – писатель именно советских 70-х, времени тихого экзистенциального взрыва, с голым человеком на голой земле, реализующийся в интонации и языке, вместе, однако не в хоре, с аналогично неприкаянными русскими талантами-современниками.
«Зона», близкая к недосягаемому для него «романному» идеалу материалом, наличием «мыслей» и разноголосицей персонажей, стилистически ориентирована на Хемингуэя, интонационно – на Шаламова. (Довлатов, писавший первые лагерные рассказы в 60-х, с Шаламовым был знаком едва ли, но Довлатов, переписывавший «Зону» для первого русского издания в 1982 году, опыт Шаламова, разумеется, чтил и учитывал.) Лексически – на блатной фольклор (получивший широкое распространение, кстати, именно в постгулаговское время).
Однако наиболее близка «Зона» городским романсам Владимира Высоцкого, не обязательно блатного цикла. Общее здесь – не только декларируемая Довлатовым и протоколируемая Высоцким взаимозаменяемость зэков и охранников (а точнее, конечно, декораций и масок). Но прежде всего – ситуативный экзистенциализм, когда органика и могутная энергетика славных парней не растворяется в пьяном кураже, а плавает в проруби мутного безвременья, – ни потонуть, ни на берег выбраться. Девиз стихийных экзистенциалистов «Время выбрало нас» – советское пропагандистское клише, ставшее названием тогдашнего сериала; ну, и не обойтись без банальности о Высоцком – наиболее ярком персонаже и кумире советских 70-х. Владимир Семенович довлатовскую коллизию между блатным и вохровцем разрешал не задумываясь, сменой обличий, но не характеров:
Побудьте день вы в милицейской шкуре, Вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в МУРе, За тех, кто в МУРе, никто не пьет.А сыгранный им капитан Жеглов словно иллюстрирует довлатовскую мысль о единстве социальных противоположностей. Мысль, заметим, не Довлатовым открытую – мне сразу напомнили «Остров Сахалин» Чехова. Однако Чехов побывал на каторге в иную историческую, социальную и пенитенциарную эпоху, да и ОС – нон-фикшн в гораздо большей степени, чем «Зона», документализм которой весьма условен. Чехов обращался к властям, в своей, пусть и беспафосной, манере отстаивая гуманистическую модель «милости к падшим»; Довлатов полностью игнорировал государство, объясняя подсознание советского мира через его физиологию, параллельно разрушая интеллигентские мифы.
Высоцкий, всю жизнь страдавший от отсутствия официального признания, и Довлатов, до конца так и не сумевший понять, отчего его не печатают в Союзе, образуют по этому поводу своеобразный дуэт одной эмоции – горького недоумения. В случае Высоцкого и задним числом официальное замалчивание по-прежнему кажется странным, но объяснимым. Причина неприятия Высоцкого тогдашней системой – его первый блатной цикл. Не заявленным способом самовыражения, но в качестве образа мышления, переходящего в образ жизни. Фронда ведь не в понтовой строчке «мою фамилью, имя, отчество, прекрасно знали в КГБ».
Гораздо страшней для общества: «Я, например, на свете лучшей книгой считаю Кодекс уголовный наш». Такому сплаву книжности и криминала нельзя доверять. Да что там! Ему невозможно внимать изначально. Собственно, в статьях вроде «О чем поет Высоцкий» Владимиру Семеновичу все это дали понять еще в 60-х.
Довлатову – много лет спустя объяснил Владимир Бондаренко в очерке «Плебейская проза Довлатова»:
«Плитой, перегородившей путь Довлатова в соцреализм, стала его первая книга «Зона». Был бы он поумнее, мог бы предвидеть сразу, что после «Зоны» все его компромиссы и заигрывания напрасны. Он не был злодеем-антисоветчиком. Просто у него оказался не тот жизненный опыт. Не случись у него неудачи с университетом, закончи он его спокойно, без авантюр любовных и жизненных, начни он с Пушкинского заповедника, с каких-нибудь записок мэнээса, в конце концов, с битовских горожан, со спортивных историй, и судьба пошла бы по-другому. Опыт конвойных войск для брежневского времени был явно нелитературен. Правильно сказал сам же писатель – как бы несуществующим».
(Бондаренко – человек и критик, во всем противоположный «довлатовскому кругу», – морализаторствуя в заметках о СД до смешного, попадает во все капканы, расставленные писателем-мифологизатором на тропинках от героев к прототипам, лукавит и сам в угоду родному направлению; деловито прищуриваясь, прикидывает, где можно было б при жизни автора напечатать то, а где это… Но во многих оценках он весьма и показательно точен.)
О личном знакомстве СД и ВВ свидетельств нет (при этом известно, что Довлатов пересекался со знаменитым шансонье Аркадием Северным, впрочем, Питер и образ жизни обоих к тому располагали). Однако Довлатов Высоцкого-поэта знал и понимал (не только на уровне зачина знаменитой байки: «Не спалось мне как-то перед запоем»):
«Текстов же Высоцкого слишком много, так что не все замечательные» (из письма Игорю Ефимову, 25 ноября 1982 г.).
«Я уже три года слышу о каком-то немыслимо популярном в Союзе Александре Розенбауме. И вот мне дали его кассету – это страшная дешевка. Пародия на Высоцкого – но без точности, без юмора, а главное – без боли. Вырисовывается какой-то ряженый уголовник Милославский в роли Хлопуши» (Из письма Владимовым, 15 мая 1986 г.).
«Точность, юмор, боль» – это ведь очищенная от эпитетов характеристика лучшей прозы Довлатова. И тут больше родства с Высоцким, чем в объемах и градусах посмертной славы, равно как в схожей алкогольной и посталкогольной симптоматике.
Темпераменты, конечно, почти полярные, «ряженость» наверняка раздражала СД и в Высоцком, но ведь первую в Союзе статью о Довлатове, ненавидевшем аффекты и эффекты, его друг и биограф Андрей Арьев назвал «Театральным реализмом».
«Хочу воспроизвести финальную песенку из этой пьесы (СД тогда, с подачи Льва Лосева, пытался написать кукольную пьесу. – А. К.). Ее все хвалят. Прямо Высоцкий» (Из письма Тамаре Зибуновой – 1975 г., лето).
Есть и еще одна деталь, сегодня кажущаяся скорей забавной, а на самом деле печальная, во многом судьбоносная для наших героев, – как Высоцкого свысока похлопывали по плечу поэты-шестидесятники (даже у трезвого Аксенова в «общепримиряющем» романе «Таинственная страсть» заметна эта снисходительность к «Владу Вертикалову»), так и Довлатова матерые писатели-диссиденты, «борцы с тоталитаризмом», полагали скорей журналистом и рассказчиком баек, в быту – пьющим талантливым парнем с тяжелым характером.
«Алешковский и Соколов представляли русскую прозу, я, увы, – журналистику».
«Довлатов, конечно, ничтожество, но рассказ смешной, и мы его опубликуем…»
Говорил влиятельнейший Владимир Максимов эти слова, нет – вопрос второй. Важней, как расставляет Довлатов акценты уничижительности – один из лучших его, глубокий, трагичный рассказ «Представление», где постулируется равный знак не только между зэками и охраной, но их единство с огромной, сильной и страшной страной – просто «смешной» пустячок, юмореска. «Ничтожество» в качестве личной характеристики от одного из эмигрантских боссов уравновешено двусмысленным литературным комплиментом…
Интересно: литераторы-эмигранты сгинули (как явление), а тон их писаний о Довлатове остался.
Важное исключение здесь составляют Виктор Некрасов и Георгий Владимов. Первого, несмотря на случившиеся как-то разборки вокруг все той же тяжеловесной максимовской фигуры, Довлатов ценил за легкомыслие и общий стиль жизни. (Симпатичнейший Панаев в «Филиале».) Второй, едва попав в эмиграцию, энергично похвалил СД – («мастер»), что произвело на того неизгладимое и пожизненное впечатление. Видимо, на общем фоне владимовская похвала звучала для СД не только гласом вопиющего. Укрепляло качество вопиющего.
Тут даже не так показателен, как информативен знаменитый анекдот о Коржавине, обозвавшем Довлатова «говном». И где сейчас Коржавин? Да и прочие звезды «антисоветской» литературы? Из эмигрантских когда-то писателей – в читательском топе Довлатов и еще менее антисоветский, даже просоветский тогда Лимонов.
Дело не столько в политике (хотя идеи «антисоветских» писателей оказались не так устаревшими, как скомпрометированными), сколько в чистой литературе: мере таланта, точности высказывания. Обаянии текста и автора – в случае Довлатова; в умении, что называется, «подсадить на себя» – это вариант Лимонова.
И здесь тоже – материал для небольшого сопоставления.
Довлатов и Лимонов: филология из физиологии
Писатели они, конечно, совершенно разные, в массе ключевых позиций противоположные, но общее поколение и география эмигрантского Нью-Йорка в переломный момент жизни обоих сегодня их объединяют в ряде любопытных контекстов.
Эдуард Вениаминович высказался о Довлатове трижды, нон-фикшн – «В плену у мертвецов» (тюремные дневники), «Священные монстры», «Книга мертвых – 2. Некрологи».
В первом случае в ходе диалога с издателем (реального или додуманного) Довлатов мелькает полемическим эпизодом, как образец «политкорректного автора».
В «Священных монстрах» Довлатов – эдакая бытовая метафора, возникшая как бы случайно (так вспоминают давнего знакомого или соседа), но вполне показательно, в связи с Хемингуэем (Лимонов говорит – «Хэмингвэй») и боксом: «Я не думаю, что Хэмингвэй был способным боксером. Просто он был сырой верзила, такой по комплекции, как Довлатов, так что если он замахивался, да еще знал два-три удара, то вот и боксер».
Образ «сырого верзилы» в «Некрологах» раскрыт еще уничижительней: «Довлатова помню, как такое сырое бревно человека. Его формат – почти под два метра в высоту, неширокие плечи, отсутствие какой бы то ни было талии – сообщал его фигуре именно статус неотделанного ствола. (…) Он обычно носил вельветовые заношенные джинсы, ремешок обязательно свисал соплею в сторону и вниз. Красноватое лицо с бульбой носа, неармянского (он говорил, что наполовину армянин), но бульбой, вокруг черепа – бесформенный ореол коротких неаккуратных волос. (…) Он умудрялся всегда быть с краю поля зрения. И всегда стоять. Именно сиротливым сырым бревном».
Затруднительно представить себе Лимонова, читающего «запрещенную» переписку Довлатова с Игорем Ефимовым (хотя почему нет? Есенин без всяких яндексов ухитрялся знать все, что и где о нем пишут). Именно Ефимову Довлатов рассказывает о знакомстве с ЭЛ, также начиная с одежды.
(И если уж пришелся к слову Есенин, вспомним, что и их знакомство с Маяковским началось с одежды, «одежи», по версии Маяка.)
«Лимонов оказался жалким, тихим и совершенно ничтожным человеком. Его тут обижают… (…) Он действительно забитый и несчастный человек. Бледный, трезвый, худенький, в мятом галстучке».
Это, конечно, чистый Расемон, но довлатовские эти наблюдения, от 19 апреля и 4 мая 1979 г., хронологически совпадают с романом «Эдичка», и портрет очень даже «бьется»… «Талантлив, но отвратен».
Казалось бы, Лимонов сейчас вспоминает как бог на душу положит, однако, начиная внешностью, кольцует ее финальными мыслями о довлатовской литературе. Через забавные фразы «Довлатов осторожно поддержал меня», «Довлатов, видимо, производил впечатление на людей с деньгами».
«…Полная хохм бытовая литература. В ней, по моему мнению, отсутствовал трагизм. Так называемый приветливый юмор, мягкое остроумие, оптимистичное, пусть и с «грустинкой», общее настроение».
Забавно тут не то, что Лимонов не заметил трагизма в Довлатове, а то, как он исчерпывающе высказался о кавээнно-каэспэшном изводе отечественной масскультуры…
Довлатов писал о Лимонове не только в письмах (а завершая эпистолярную тему, нельзя не процитировать: «Лимонов написал похабную книгу о своей несчастной, голодной жене, личико которой усыпано выпавшими ресницами»). Есть известное эссе «Дезертир Лимонов», его беллетризированный вариант в «Филиале» (анекдот, где ЭЛ уступает регламент выступления своему ругателю – поэту Ковригину), существуют варианты, где Ковригин становится реальным Коржавиным. Важно, как СД делает вещество литературы из бытового сырья, филологию из физиологии: лишившись жены и мятого галстучка, Лимонов становится довлатовским героем в типичных обстоятельствах: экстравагантный талантливый тип на фоне ильфо-петровских эмигрантских разборок.
Вернемся к лимоновскому некрологу. Он хвалит Довлатова, естественно, за отношение к себе: «мне хватило его высказывания на несколько месяцев хорошего настроения», за хохму о себе и Коржавине – «Довлатов верно передал ее». Да и вообще, интонация и лексика краткого мемуара о СД разительно отличаются друг от друга: тон воспоминаний о СД теплый, и делает его таким не герой, конечно, но клубок ассоциаций, чем-то воспоминателя цепляющий. Это Централ-парк в Нью-Йорке, давняя любовница и даже эмигрантские газеты (Лимонов, впрочем, путает название «Нового американца», называя издание «Русским американцем», что при еврейских спонсорах НА и еврейской же, многократно осмеянной Довлатовым цензуре звучит особенно комично. Кстати, любопытно, что довлатовские байки вокруг еврейской темы похожи на сегодняшние повсеместные истории о «голубых»). Но главный вопрос, конечно – чем обусловлена столь нелицеприятная характеристика внешности и литературы СД?
Явно не самой природой лимоновской мемуаристики – как раз в некрологах главный эгоцентрик русской литературы нередко предстает автором трогательно-объективным, хотя неизменно снисходительным.
На мой взгляд, Лимонов, многие годы полагавший своим личным соперником в литературе одного Иосифа Бродского (Геннадий Шмаков, напутствуя ЭЛ, добавлял к ИБ Сашу Соколова), с удивлением обнаружил, вернувшись на родину, шумный читательско-издательский посмертный успех Довлатова, особенно рельефный на фоне разрушения национальной химеры литературоцентризма.
«Когда впоследствии, уже после своей смерти, Довлатов сделался популярен в России, то я этому не удивился. Массовый обыватель не любит, чтобы его ранили трагизмом, он предпочитает такой вот уравновешенный компот, как у Довлатова…»
На самом деле удивился, и, похоже, сильно. Но, опять же, интересней другое: ЭЛ близоруко противопоставляет собственную литературу довлатовской: между тем магистральная тема – «нового лишнего человека» – у них практически общая. Хотя и разрабатывается с противоположных позиций («Мой «Эдичка» большинству обывателей был неприятен, чрезмерен, за него было стыдно, а герои Довлатова спокойны без излишеств»). Я уже не говорю о сплошь и рядом, массово пересекающемся русском читателе обоих. Впрочем, Лимонов и раньше, в эмиграции, как выясняется, не терял СД из виду: «Довлатов управлялся со своим новым местом очень неплохо, много врагов не нажил, всех старался ублажить, и все более-менее были им довольны в Нью-Йорке. У него оказался талант к налаживанию существования, Бродский отнес его рассказ в «Нью-Йоркер», и легендарный журнал, печатавший в 20-е и 30-е годы на своих страницах лучших авторов Америки, опубликовал Довлатова. Потом Бродский устроил ему английскую книгу. (После чего Бродский возревновал все-таки Довлатова к американскому читателю и прекратил ему помогать.) Об успехах Довлатова я узнавал уже в Paris, куда переехал вслед за судьбой своего первого романа в мае 1980 года. Вести об успехах привозили наши общие знакомые».
Впрочем, и Довлатов того периода в частном порядке склонен был объяснять лимоновский успех внелитературными обстоятельствами: «Эдик Лимонов уехал в Париж, где его оценили как антиамериканца» (из письма Тамаре Зибуновой – 20.04.85).
Лимоновские оценки резко противоречат как биографическому канону «американского Довлатова», так и эпистолярным жалобам самого СД на редакторскую и писательскую судьбу (о природе и искренности этих жалоб ниже), но любопытней всего здесь насмешливо-ревнивая интонация, заготовленная давно и как бы впрок. Чтобы лет через тридцать превратиться в оставленное за собой последнее слово: «Тот, кто не работает в жанре трагедии, обречен на второстепенность, хоть издавай его и переиздавай до дыр. И хоть ты уложи его могилу цветами».
Тут ревность клокочет уже не хронологическая, но метафизическая. Показательно, однако, что Эдуард Вениаминович, пополнивший корпус русской арестантской литературы («По тюрьмам», «В плену у мертвецов», «Торжество метафизики»), весьма близок довлатовской концепции «Зоны» – зэки и охранники в тюремном мире Лимонова – существа одного порядка, пребывающие в единой внеморальной, но кармической плоскости.
Довлатов, водка и большая литература
Следующая, на мой взгляд, причина падения интереса к СД кроется в литературных запросах нашего времени. В стране, где оказались сначала размыты, а после разрушены базовые ценности, где заявления вроде «лошади едят овес» и «свобода больше, чем несвобода» выглядят глубоко дискуссионными, в литературу пошли, как ходоки «за правдой», – не во второе Правительство, но в Арбитраж. В народном понимании Арбитраж немыслим без наличия Авторитета. Вот его-то и кинулась искать литература в своих рядах. Хотя традиция не нова – таким Авторитетом был в свое время Горький – и Сталин, зазывавший пролетарского классика в Союз, мыслил союз несколько иной – государства с неконтролируемым блатным (литературным) миром для осуществления контроля сначала умеренного, а потом тотального. Ментальность обоих вождей – партийного и писательского – имела изводы, резонировавшие с криминальными понятиями.
***
Вообще-то поэт как вор – старая спекулятивная концепция. Терц-Синявский (а следом Тимур Кибиров) выставляли вором самого Пушкина, а почтенный структуралист Игорь Смирнов, рассуждая о преступной природе творчества, писал, что, не будь у юного Иосифа попытки угона самолета и арестов, не было бы и Бродского.
Все это в разной степени веселые попытки разыскать мозг в заднице.
Но ведь любопытно: в перестроечном кинематографе («Гений» с Абдуловым и пр.) образ старого российского вора (прототипы, по всей видимости, – легендарные Бриллиант, Монгол etc.) доносил до публики великий Иннокентий Смоктуновский. И больше всего в ролях этих Иннокентий Михайлович напоминал не отечественный аналог голливудских донов, а… Иосифа Александровича Бродского. Причем осмелюсь предположить: Монгола с Бриллиантом Смоктуновский едва ли наблюдал, а вот образ поэта-лауреата был перед глазами.
В этом, представляется мне, есть что-то глубокое и загадочное. В одном из интервью, отвечая на вопрос Дмитрия Савицкого, что бы с ним было, останься он в России, Бродский ответил: в творческом плане, наверное, без изменений, а в бытовом… Ну посадили бы еще раз или два.
Фатализм, вытекающий отнюдь не из диссидентской модели поведения, но прямиком из российского воровского закона. Еще один мемуарист вспоминает: ожидая второй посадки, Бродский просил ни в коем случае не хлопотать за него. И чуть ли не прямо запретил материальную поддержку, посылки, «грев». Касаемо же Смоктуновского – Бродский, оказывается, про него знал. В диалогах с Соломоном Волковым упомянул эдак вскользь и небрежно: это как сравнивать Лоуренса Оливье со Смоктуновским… Хотя Смоктуновский еще ладно – с Кадочниковым…
***
Если вернуться в относительную современность: согласие по фигуре Солженицына между либералами и патриотами продиктовано ведь тоже не литературными произведениями Александра Исаича. В нем увидели именно такого Авторитета – вот только сам классик видел другое: то ли ставил перед собой задачи глобальнее, то ли собрался на покой. А может, все вместе.
Авторитетом и Учителем (первое тут важнее) для молодой литературы последнего десятилетия несколько неожиданно сделался все тот же вечный изгой Эдуард Лимонов, а смотрящим Его – в ранге уже не беззаконной кометы, но полноценной звезды – Захар Прилепин. С его прагматическим миссионерством, цельным мировоззрением, выдвинувшими Захара на роль вожака своего литературного поколения. Он и не сопротивляется (см. мою статью «Время Прилепина» // Волга. 2010. № 9—10).
А вот Довлатов на Авторитета не потянул. И не только потому, что умер ко времени эдакой востребованности. Мертвый Авторитет иногда бывает даже полезнее. Сергей Донатович заранее взял самоотвод, еще когда столбил свою литературную нишу. Нишу среднего литератора – с достоинством, но без особых претензий.
Об этом написано немало, больше всего, и явно больше, чем необходимо, написал сам Сергей Довлатов. Концентрация приниженности в его текстах, и особенно письмах столь густа и обильна, что в какой-то момент благородно-смиренная осанка литературного схимника начинает явственно отдавать дурновкусием. Установка на нишевость и усредненность оборачивается плохим, но достигающим цели пиаром.
Цитаты на данную тему даже не нуждаются в точности и закавычивании.
Тут и мазохистские благодарности судьбе за пятнадцать лет непечатанья и вынужденного ученичества. И ранжирование коллег (себя по низшему разряду) на рассказчиков, прозаиков и писателей с фальшивой толстовской нотой: «Писатель говорит о том, ради чего живут люди». Позерская аналогия с Куприным – в которой нет ничего дурного, кроме объяснений – почему именно Куприн, а не…
И явно вымученные и оттого преувеличенные восторги в адрес печатающихся, со временем обернувшиеся тяжелой драмой отношений.
И постоянный мотив: я просил у Бога одного – сделать меня средним литератором… Я получил за свою литературу того, чего она заслуживает, и даже больше… Выяснилось, что я претендую на большее… Увы, у Бога добавки не просят…
И т. д.
Довлатов-человек, да и Довлатов-автор (повторюсь, особенно писем) – был бы благодарным материалом для психолога. В подобном рассчитанном самоуничижении я вижу две основные причины.
Ну, личная и писательская скромность – это понятно. Рыцарственное отношение к литературе, как к прекрасной и взбалмошной даме. Включающее защиту от посягательств и амикошонства. Тут не пожалеешь и отца – и вовсе не ради красного словца:
«Мой папаша, получив книгу и перелистав ее, сказал:
– Цвет обложки мне не нравится, но внутри книга – великолепная, искренняя, темпераментная!..
И за ужином несколько раз повторил:
– Книга состоялась!» (из письма Игорю Ефимову, 18 августа 1984 г.).
Но суть явления глубже: в основе середняцких комплексов Довлатова – своеобразный стокгольмский синдром. Литературное изгойство в Союзе, похоже, породило в нем странную тревогу: не только советская власть, но и кое-кто повыше заинтересован в том, чтобы рассказы СД как можно дольше добирались до читателя. Или вовсе к нему не попадали. И когда все, наконец, произошло и случилось, СД счел за благо не только возблагодарить, но и заговорить судьбу. При отсутствии серьезных амбиций всегда можно сказать вдогонку захлопнувшейся форточке нечто противоположное по смыслу, но схожее по интонации: что ж, не больно-то и хотелось… Спасибо, что дали подышать…
И конечно, СД, человек и писатель отнюдь не монолога (отсюда его эпистолярная страсть), очень рассчитывал получить в ответ на свое самоунижение паче кокетства: да ты что, старина! кто, если не ты, настоящий писатель! это и есть большая литература!
Иногда (редко) получал: «это хотя бы можно читать» (Бродский); «с похмелья могу читать только Бунина и Вас» (Виктор Некрасов, то бишь «Панаев»). Впрочем, обе цитаты из самого Довлатова, точней, снова звучит его больной, как зуб, комплекс.
Чаще бывало другое – людские и тем более литературные иерархии – производные самопиаров. «Сам себя не похвалишь». Если он сам столь невысокого о себе мнения, значит, это мы обольщаемся. Довлатов-то адекватен. «Адекватность» всегда считалась высшей похвалой в литературных кругах.
***
У Довлатова было две страсти – литература и водка. Поразительно, что в описании и того и другого он использует одинаковый метод. И сходный инструментарий. Уменьшить масштабы явления. Снизить планку. Заузить перспективу. Не дразнить судьбу.
В прозе Сергея Донатовича запой – мероприятие чаще карнавальное, иногда с драматическим сюжетом, но никогда – с трагическим финалом. Параллельная реальность, примиряющая с безумием жизни. Где политура и одеколон – функциональны во благо, вроде фольклорной живой и мертвой воды, а питье из футляра для очков и сон в гинекологическом кресле – инициации романтического героя. А когда приходят делирий и галлюцинации – это намек на необходимость сменить не образ жизни и не родину, но географию.
В письмах Довлатов откровеннее – но и здесь установка на заговаривание судьбы и зубов – случился запой, но я его прервал… пью я все меньше… пить здесь абсолютно не с кем… слухи о моем алкоголизме преувеличены… они тут пьяных не видели… больше 4 месяцев не пью… сорвал передачи, нахамил, но перед всеми извинился… пьянство мое затихло…
Даже в самых откровенных описаниях срывов – оптимистические финалы: об участии и понимании родных…
Виктория Беломлинская:
«Жил он ужасно: он боялся своих домочадцев, а они боялись его. Их жизнь тоже была нескончаемым кошмаром. Во время запоев он гонял по квартире и мать, и жену, и сына. Если удавалось вырваться, они сбегали к Тоне Козловой, иногда несколько дней отсиживались у нее. (…)
Одним прекрасным днем встретили мы Сережу в Манхэттене и взялись довести его до дома. По дороге он рассказал, что не был дома уже много дней, вышел, наконец, из запоя, чувствует себя отвратительно, а когда подъехали, стал умолять нас подняться с ним, ну, хоть на минуточку, только войти с ним, хоть пять минут побыть в доме, не дать сразу начаться скандалу.
«Я боюсь, я сам себя боюсь. Я впадаю в ярость. Я знаю, что страшен. Но, знаете, как меня проклинает моя мать: «Чтоб ты сдох и твой сизый х…й, наконец, сгнил в земле!» Вы можете представить, чтобы родная мать так проклинала сына?» Я смеюсь. «Сережа, – говорю, – проклятья армянской матери не считаются. Бог их не слышит, Он знает, как она на самом деле любит тебя».
***
Бойтесь своих не только желаний, но и заклинаний.
Помимо прочего, Довлатов стал своеобразной жертвой интеллектуального читательского снобизма. Который он хорошо знал и в себе, и в других: «Книжку Крепса я читал сначала с воодушевлением и благодарностью, потому что она вполне доступная и простая, а затем по тем же причинам ее невзлюбил. Видимо, подлость моей натуры такова, что абсолютно доступные книги меня не устраивают. Раз я все понимаю, значит, что-то тут не так» (из письма Игорю Ефимову, 4 октября 1984 г.).
«Потом я услышал:
– Вот, например, Хемингуэй…
– Средний писатель, – вставил Гольц.
– Какое свинство, – вдруг рассердился поэт.
– Хемингуэй умер. Всем нравились его романы, а затем мы их якобы переросли. Однако романы Хемингуэя не меняются. Меняешься ты сам. Это гнусно – взваливать на Хемингуэя ответственность за собственные перемены.
– Может, и Ремарк хороший писатель?
– Конечно.
– И какой-нибудь Жюль Верн?
– Еще бы.
– И этот? Как его? Майн Рид?
– Разумеется» («Филиал»).
Всех как-то очень быстро устроило, что Довлатов возвел анекдот в ранг большой литературы, и это его главная перед ней заслуга. Однако для среднего читателя-интеллектуала, который льстит себе всегда и по любому поводу, довлатовская литература выглядит большой лишь на фоне анекдота, а сам Сергей Донатович застрял на пути от застольного рассказа к Литераторским мосткам.
Попробуем разобраться. Хотя где и в чем они, подлинные критерии большой литературы?
Прозаические вещи СД с прокламируемой им точностью попадают в жанровую высшую лигу. «Зона», помимо всего прочего, еще и великолепный роман воспитания. Преображения, рождения литератора из надзирателя. В несколько ином роде в эту воронку ложится и «Заповедник» – «на фоне Пушкина».
«Компромисс» и «Невидимая газета», при всей разнице качества, в жанровом смысле образуют единый производственный роман – остродефицитный в сегодняшней литературе. Кто еще увидел в журналистике зеркало общественной безнравственности по обе стороны океана и отнес к профессиональным достоинствам легкомыслие и цинизм? Поскольку и то и другое – эффективное оружие не только от жизни, но и от соблазна думать, что способен ею – своей и чужой – управлять?
У «Компромисса» получились неожиданные параллели.
Есть «Последняя газета» Николая Климонтовича с вялым половодьем довольно мелких чувств, инфантильными претензиями к новой жизни и детским взглядом на производство через замочную скважину (речь о «Коммерсанте» 90-х). «Generation «П» Виктора Пелевина, где обаятельный цинизм довлатовских персонажей разрастается до злокачественной опухоли, поражающей времена и смыслы…
«Невидимую книгу» можно было назвать «филологическим романом», если бы, густонаселенная, как коммуналка, легкая и увлекательная, она не оппонировала унылой автоапологетике кондиционных «филологических» (в чем отличается один из героев «Невидимой книги» – Анатолий Найман). «Наших» – чье действие начинается во Владивостоке, а завершается в Нью-Йорке – три четверти глобуса, пройденных за сотню лет с остановками – закономерно можно вести по ведомству «семейной хроники». А можно рассматривать как пародию на пухлых соцреалистических форсайтов, которые тоже, как правило, начинались в Сибири, а победный финал наступал то в Кремле, то в космосе…
***
Можно спорить, был ли Довлатов новатором формы (пресловутая метаморфоза анекдота) или стиля (хотя сознательно выбравший пушкинскую манеру явно не эпигон).
Для меня очевидно, что до Сергея Донатовича, так просто изложившего в «Зоне» идею об онтологическом единстве полярных социальных типов («моя консепсия бытия», – где-то цитирует он Шемякина), в литературе не было единого взгляда на пространство вокруг запретки.
А распространять это пространство, согласно известной метафоре, можно максимально широко…
В двух выдающихся книгах последнего десятилетия – романах Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет» и «Чертово колесо» Михаила Гиголашвили – подобный авторский взгляд – уже позиция, ни в каких «консепсиях» не нуждающаяся.
У Гиголашвили парад грешников (при тотальном, я бы сказал, отсутствии оценок за поведение) – от некоего «Большого Чина» до законченных морфинистов намеренно и показательно закольцован фигурами идейного вора в законе и капитана угрозыска (как у Довлатова – Купцовым и Алихановым в «Зоне»). Общие поведенческие мотивации, синхронное желание радикально поменять жизнь (вплоть до отказа от наркотиков) и – одинаково (не)удавшийся опыт сотворить добро из зла.
В романе Рубанова главный герой – сам по себе запретка. Он социально завис между администрацией и заключенными – банкир, «коммерс», попав в лефортовскую камеру, а затем в «Матроску», в итоге прибивается к блатным, но так и не обзаводится набором необходимых антагонизмов.
Показательно, что с «Зоной» обе книги объединяет и мотив рождения писателя…
В «Заповеднике» Довлатов (отчасти оппонируя «деревенской» прозе) описывает сельскую жизнь с довольно неожиданной стороны. Получается нечто противоположное и «деревенщикам», и «горожанам». Ибо это взгляд городского маргинала, городом, в силу обстоятельств, пусть и временно, отторгнутого. Идиотизм сельской жизни, резонируя с внутренним состоянием героя, рождает гармонию растительного скорее свойства. Пока новости из города не провоцируют новый душевный конфликт…
Аналогичный прием, развернувшийся в притчу, я обнаружил в сильном и беспощадном романе «Елтышевы» Романа Сенчина. Его герои – семья уволенного из милиции капитана – вышвырнуты из города и вынуждены поселиться в деревне, которая чужда им на химическом уровне. Отсюда – физиологичность романа, парад смертей, хронология семейного вымирания. У Сенчина уже нет места довлатовским сельским оригиналам (на полпути от Шукшина к обэриутам), равно как «симпатичному и непутевому малому» Алиханову, способному донести до нас их пасторальную феноменологию.
***
Вообще-то убедительные картины крупнооптовых, по Мандельштаму, смертей – тоже один из неформализованных признаков большой литературы. Тот же Роман Сенчин к финалу «Елтышевых» выходит на какую-то надсадную скорость умерщвления, обходясь уже без подробностей и особых мотиваций.
Чтобы далеко не ходить – мы, конечно, и при каждом перечитывании бываем снова поражены мощью авторов «Графа Монте-Кристо» и «Тихого Дона», однако не можем избавиться от ощущения, будто присутствуешь при соревнованиях по кладбищенскому многоборью среди литературных персонажей – и финиш у них общий. Не преодолеть здесь болельщицкого азарта, в котором, к нашему оправданию, по-прежнему преобладает «боль».
У Довлатова еще никто не умирал.
Точнее – никто из главных персонажей. У второстепенных случалось. Машинистка Рая из «Чемодана». «В обрубке прижмурился зэк» («Зона»). Номенклатурный Ильвес (рассказ «Чья-то смерть и другие заботы» из «Компромисса». Впрочем, там сюжет образует не покойник, а церемония. Персонажи и в гробу взаимозаменяемы). Старик Панаев из «Филиала» – вместе со своим прототипом Виктором Некрасовым.
Даже в «Наших», где без этого, казалось, не обойтись (и не обошлось – в случае тетки Мары и дяди Арона), деды – Исаак и Степан – не умирают. Они уходят, растворяются. Исаак – во времени («десять лет без права переписки»). Степан – в ландшафте:
«Сквозь неумолкающий шум ручья, огибавшего мрачные валуны, донеслось презрительное и грозное:
– К-А-А-КЭМ! АБАНАМАТ!»
И кстати, семейная хроника завершается рождением сына Коли… Такая вот литературная демография.
Лев Лосев, хорошо представлявший Довлатова и его персонажей, афористично высказался о прозе СД: «Крупнее, чем в жизни».
Очень похоже на определение Анатолия Мариенгофа: «Хорошие писатели поступают так: берут живых людей и всаживают их в свою книгу. Потом те вылезают из книги и снова уходят в жизнь, только в несколько ином виде, я бы сказал, менее смертном».
Довлатов этот тезис, вряд ли ему известный, воплотил со свойственными ему точностью и педантизмом. Снижение смертности в его прозе – следствие писательского мастерства, уже не нуждающегося в сильных внешних эффектах. Иосиф Бродский: «Не думаю, что Сережина жизнь могла быть прожита иначе, думаю только, что конец ее мог быть иным, менее ужасным. Столь кошмарного конца – в удушливый летний день в машине скорой помощи в Бруклине, с хлынувшей горлом кровью и двумя пуэрто-риканскими придурками в качестве санитаров – он бы сам никогда не написал…»
А ведь и действительно…
Василий Шукшин, старый пират
Говорят о Шукшине сегодня мало. Едва ли стоит рассчитывать, будто даже год двух его юбилеев – 85 лет со дня рождения и сорокалетия смерти (Василий Макарович скоропостижно скончался 2 октября 1974 на теплоходе «Дунай» во время съемок «Они сражались за Родину») – как-то сломает тенденцию.
Для серьезных разговоров явно не то время (одно из немногих исключений – «шукшинские» эссе и вообще мотивы – у Льва Пирогова). А сплетни – кончились.
Но, собственно, канон шукшинских штудий сформировался давно, как в «либеральном», так и «патриотическом» вариантах; при всей условности эпитетов разделение вновь делается актуальным.
Канон «патриотический»: Шукшин – гениальный самородок, певец Русской Правды и русского человека во всей его полноте, широте и отзывчивости, а какие-то пограничные, а подчас клинические проявления, в описании которых Шукшин был избыточно щедр, объясняются трагедиями века и неизбывной болью автора за народ и страну.
«Либеральная» версия отводит Шукшину роль скорее «нишевую», дабы исключить попадание его в групповые святцы: в тесной привязке к советским семидесятым (повыше Юрия Казакова, пониже Высоцкого), с упором на актерский, игровой стержень его прозы. Отсюда чудики, микроскопы, генералы малафейкины и прочая карнавализация и экзотика национального характера. Почти Мамлеев. Чехонте, не реализовавшийся в Чехова.
Впрочем, немалая часть «прогрессистов» солидарна и с запоздало опубликованным некрологом-памфлетом Фридриха Горенштейна.
«В нем худшие черты алтайского провинциала, привезенные с собой и сохраненные, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приемными отцами. Кстати, среди приемных отцов были и порядочные, но слепые люди, не понимающие, что учить добру злодея – только портить его. В нем было природное бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья, сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему на себя не похожему, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массовости явления, необычному юдофобству».
Отмечу справедливости ради, что и в противоположном лагере существует отнюдь не единичное мнение о Шукшине – авторе вреднейших кляуз на русского мужика.
Об уникальности его, исключительности, говорят торопливо, на скорости, глотая формулировки. Ну, как бы «Волга впадает в Каспийское что?» (Довлатов). Так, чтобы становилось ясно: никому подобные констатации невыгодны.
***
Естественно, со временем острота виртуальных дискуссий сошла практически на нет: сейчас в шукшинистике (уместен подобный термин?) преобладают тенденции объединительные: связать обе трактовки, роль с болью, а сапожки с Солженицыным.
Как о классиках и положено.
Яркий пример такого подхода – эссе Алексея Варламова «Жизнь без грима» в третьей «Литературной матрице». Работа, к слову, вполне достойная, разве что портят ее немного пафосные и дежурные какие-то недоумения, сообщающие Василию Макаровичу чуть ли не второсортность относительно другого писателя-современника, борца и бодальщика: «Перечитывая сегодня Шукшина, поражаешься тому, как этому писателю, современнику Солженицына, как раз в пору жесточайшей травли последнего, было позволено в условиях советской цензуры и идеологических ограничений выразить суть своего времени, получить при жизни все возможные почести и награды, ни в чем не слукавив и не пойдя ни на какой компромисс. Это ведь тоже было своего рода бодание теленка с дубом, противостояние официозу и лжи, и тоже абсолютная победа, когда с волевой личностью ничего сделать не могли».
Надо сказать, что и само попадание Василия Шукшина в коллективку под названием «Советская Атлантида» выглядит чрезвычайно пикантно. «Она утонула».
Однако эта океаническая ассоциация (к слову, Василий Макарович служил срочную на флоте, Балтийском, затем Черноморском, откуда комиссовался по болезни) подвигла меня рискнуть и высказать на публику некоторые соображения о морских и пиратских (шире – разбойничьих) мотивах в шукшинской прозе.
То есть не вообще о «криминальном у Шукшина», а в узком случае параллелей с эталоном жанра (как любой эталон, перерастающем и отменяющем жанр) – романом Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ».
Ну да, неожиданно.
Однако и не ново. Литературоведы Олег Лекманов и Михаил Свердлов в биографии Сергея Есенина («лучшей на русском языке», по аттестации Гордона Маквея) использовали в качестве иллюстрации полярных состояний поэта стивенсоновскую «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда». Надо ли акцентировать принципиальность есенинской поэзии для Шукшина и его персонажей?
***
Даже поверхностное сравнение биографий (где наша структуралистская метода не пропадала) двух литераторов и бунтарей (биограф Стивенсона, Ричард Олдингтон, назвал книгу «Портрет бунтаря») обнаруживает едва ли случайные параллели.
Оба были провинциалами, выходцами с периферии огромных империй, на пике их могущества – шотландец из хорошей семьи инженеров – смотрителей маяков (Роберт Луис пытался вписать в эту генеалогию клан разбойных мятежников, Мак-Грегоров, но без особого успеха). И сын алтайского крестьянина, расстрелянного в коллективизацию. Разбойные связи Шукшину придумывать не было нужды: «Я про своих родных и думать-то боюсь: дядя из тюрьмы не вылезает, брат – двоюродный – рецидивист в строгом смысле этого слова, другой – допился, развелся с женой, поделил и дом, свою половину он пропил, теперь – или петля, или тюрьма…» (из письма Василию Белову).
Обоим немало огорчений принесли конфликты как раз по семейной, племенной линии, растянувшиеся почти на целую жизнь, – Стивенсон страдал от деспотии отца, Шукшин, помимо чисто бытовых историй (семья первой, оставленной на Алтае жены), до последнего жаловался на непонимание и неприятие земляков. Притом что и тот и другой стали известны достаточно рано – на нынешние деньги, и непозволительно рано – после тридцати, хотя, конечно, оглушительной посмертной славы никто не мог предположить.
И умерли-то они в одинаковом возрасте: Стивенсон не дожил до 45-летия, Шукшин немного его пережил, и скончались не от тех хворей, которые преследовали их с юности. Страдавший язвой желудка Василий Макарыч умер, по официальной версии, от остановки сердца; Стивенсон, с его слабыми больными легкими, – от кровоизлияния в мозг.
Оба были многостаночниками в искусстве: зрелый Шукшин, впрочем, склонялся завязать с актерством и режиссурой, целиком посвятив себя литературе. И товарищи настаивали: тот же Василий Белов. Литературный гуру Михаил Шолохов говорил, что пора, дескать, «Васе» ехать уже в «одной телеге».
Но дело, собственно, не в этом, а в жанровом разбеге. Вот три самые известные вещи Стивенсона – «Остров сокровищ» (приключенческий роман), повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (психологический триллер, с нее и начался популярный жанр), «Вересковый мед» (героическая баллада). Нет, я не к тому, что «как будто разной рукой написано», понятно, что одна трудилась, просто тут не столько универсальность и профессионализм, та самая набитая рука, сколько великолепное, редкое и безошибочное умение найти и войти в форму. Как в спортивном, так и в опоязовском смысле.
Разместим в тех же координатах роман «Я пришел дать вам волю», киноповесть «Калина красная» и балладу в прозе «Сураз» (или, немного в ином роде, «Дядя Емельян», с оппозицией короля и матроса) и удивимся разительности сходств.
***
Кстати, считается, что роман о Стеньке Разине не удался Василию Макаровичу, и вообще крупная форма не была его коньком (а фильм не случился, а если б случился – получился бы?).
Но для нас принципиально, что Разин, русский пират, занимал Шукшина длительно и навязчиво, начиная с раннего, 1960-го, рассказа «Стенька Разин» – о сельском художнике-маргинале, сбитом с круга самой фигурой атамана. Преследовал даже в смысле теологическом. «Как Разин мог рубить икону, он ведь был христианин?» – вспоминают мемуаристы шукшинское мучительное недоумение.
А в завершенной незадолго до смерти повести-сказке «До третьих петухов» (в версии Шукшина – «Ванька, смотри») имеется важный для сюжета персонаж – волжский гулевой атаман, архетип Стеньки. Или вот: «Видали мы таких… разбойников! Стенька Разин нашелся» – реплика старика из «Калины красной» по адресу Егора-рецидивиста.
Разин был именно пиратом, просто, в силу естественных причин, русские казаки не делились на морских и лесных гезов, как это делалось в Европе. Персидский поход разинского отряда 1668–1669 годов выглядит классической пиратской экспедицией, аналогичной тем, что в сопоставимую эпоху предпринимали их коллеги в Вест– и Ост-Индии. Собственно, другой поход, который принято называть «крестьянской войной» 1670–1671 годов, был по-своему логичным продолжением внешних разбоев: когда флибустьерство перерастает в чистое пиратство – прекращаются всякие контакты с властями и поднимается «веселый Роджер».
Можно добавить и о совершенно зеркальном устройстве казачьих и пиратских сообществ, так называемой «военной демократии» с неписаным и жестким сводом законов – «понятий», как это называется в русском криминальном мире, и – «обычаев» – в трактовке пиратов Стивенсона.
***
У «Острова сокровищ», культовой книжки детей всего мира, имеются любопытные русскоязычные интерпретации. Прежде всего назову великолепное по своим ревизионистским кондициям расследование Виктора Точинова «Остров без сокровищ». А с легкой руки Михаила Веллера пошли гулять свежие версии о статусе Джона Сильвера. И о штатном расписании пиратского корабля.
Но сначала хотелось не поверить глазам. Начало маленького эссе Веллера про ОС: «Все нормальные люди читали (уже нет?..) в детстве «Остров сокровищ». Мы его знаем в классическом и отличном переводе Корнея Чуковского. (Знаток английского был известный и Стивенсона любил.)»
Перепутать отца с сыном, Корнея и Николая Чуковских – это сильно.
Забавно, что «классический и отличный» перевод в разных изданиях менялся в важнейших нюансах.
«Все доктора – сухопутные швабры, – сказал он…»
«Все доктора – бездельники, – сказал он…»
Как будто Билли Бонс страдает не только гипертонией, но и внезапно обрел беззубость.
Или: «Я вовсе не желаю, чтобы ко мне, когда я стану членом парламента и буду разъезжать в золоченой карете, ввалился, как черт к монаху, один из этих тонконогих стрекулистов».
(Мой приятель, Леня Ш., душа пьяных компаний с гитарой и Высоцким, цитировал эту фразу великолепно, всегда к месту и с хриплым клекотом.)
Сравним: «Я вовсе не желаю, чтобы ко мне, когда я стану членом парламента и буду разъезжать в карете, ввалился, как черт к монаху, один из этих выскочек».
Карета утратила цвет, подобно свиной коже из Андерсена, ноги истончились до полного исчезновения… Кто такие, кстати, «стрекулисты»? Вот и я не знаю. Но энтропия налицо.
По Веллеру (кстати, перевравшему до полного ничтожества крутейшее резюме Сильвера. В оригинале: «Одни боялись Пью, другие Флинта. А меня боялся сам Флинт. Боялся меня и гордился мною…»), Окорок не мог быть квартирмейстером – какие, дескать, на пиратском «Морже» квартиры? – но «он командовал отборными головорезами, авангардом, морским десантом, группой захвата!».
Дело, оказывается, в мелких различиях немецкого и английского правописания: «Квартермастер» Джон Сильвер был командиром квартердека, то есть абордажной команды! (…) Еще молодой, с двумя ногами».
…Михаил Иосифович просто давно не перечитывал ОС. Сам Сильвер все объяснил на пальцах, или на костылях, если угодно. «Капитаном был Флинт. А я был квартирмейстером, потому что у меня нога деревянная».
Сильвер был по должности чем-то вроде завхоза, а по статусу – главным старшиной. Распространенная история – когда в понимании рядовых старшина ничуть не меньше командира, да и сам командир побаивается этого старшего прапорщика, как правило хохла. Который железной рукой рулит ротой – как в части материального обеспечения, так и кадрами, решающими все.
«Ты меня знаешь, я хвастать не стану, я добродушный и веселый человек, но когда я был квартирмейстером, старые пираты Флинта слушались меня, как овечки. Ого-го-го, какая дисциплина была на судне у старого Джона!»
Известное дело. Можно, излишне вольничая, припомнить и пристрастие Флинта к рому – на берегу с выпивкой у него проблем не было, а в море… Да, приходилось идти на поклон к квартирмейстеру. И Сильвер рядил – налить или оставить капитана без горького…
А вот о чисто литературных находках и достоинствах «Острова сокровищ» у нас говорить почему-то не принято.
***
Но прежде я попробую обозначить (штрихпунктирно) особый, уникальный статус Василия Шукшина в русской литературе.
Я его начал читать рано, чуть ли не первым из «взрослых» авторов. И чистым, не разбодяженным еще подсознанием юного читателя он воспринимался как безусловно легкий жанр. Не легковесный, не детско-юношеский, а именно легкий: увлекательно, остро, сюжетно, понятно. Пряно – с долгим послевкусием. Очень узнаваемо. Ну, всюду жизнь.
Интересно, что на книжных полках известных мне домашних библиотечек он (помню сборнички «Беседы при ясной луне», «Характеры», какой-то очень толстый и очень желтый том, видимо, «Любавины» плюс рассказы) стоял рядом с книжками узорчатой серии приключений и научной фантастики. (Конечно, научной – другой не было.)
Не скажу, что подобных деликатесов на полках провинциальных работяг и итээров там бывало много, но были, были. И мушкетеры, и «Записки о Шерлоке Холмсе», и «Тайна двух океанов» какая-нибудь.
А вот как вспоминает оператор Анатолий Заболоцкий, шукшинский товарищ и соратник (речь о советских 70-х, после смерти Василия Макаровича): «Судя по объявлениям в Москве у центральных книжных магазинов, за 20 килограммов макулатуры можно приобрести Дюма, Хейли или Шукшина».
Ряд знаковый.
Тут самое время вернуться к недоумениям Алексея Варламова в «Советской Атлантиде» – почему, дескать, когда Солженицына высылали из страны, Шукшина печатали почти в полном объеме? Ведь по масштабам сказанной правды и высказанной боли они рядом и вровень?
(На самом деле Шукшин по этим, вполне декларативным параметрам, не говоря о чисто художественных достоинствах, Солжа легко делает, однако в приличных литературных домах этого проговаривать не принято, а я проговорю.)
Но разговор такой на самом деле есть, и он не на одну бутылку.
Пресловутая лояльность тут отойдет, пожалуй, только на третью позицию, а первой окажется полярность писательских стратегий Солженицына и Шукшина.
А вот на втором месте – эта самая шукшинская легкость – как по форме, манере, так и по локальному вроде бы уровню конфликтности (семья, соседи, «погнали наши городских»). Вовсе не исключавшая, конечно, зудящего нерва, злой горечи и пессимизма большинства его вещей.
Советская власть (назовем это явление так) оперировала в те времена не так идеологией, как психологией. И технологией – ценила совершенство формы (при ее желательной простоте). Уважала хороших работников, умных, усталых профи – при условии, что они не станут повсеместно демонстрировать пупочную грыжу и кисляк на вечнозеленой физии.
В литературном смысле – предпочитала анекдот проповеди, «случаи» – эпосам, некоторую условность – избыточной конкретике.
Вот потому Шукшину и разрешалось больше, хотя и не декларировалось, какой он тут особенный.
Многие мои ровесники свидетельствуют, что мат в напечатанном виде, т. е. легализованном как бы, встретили впервые у Шукшина. Охотно подтверждаю. Но это был какой-то особый мат, не с целью выругаться или шокировать, а сшить литературу и обычную жизнь: «пидор» (рассказ «Сураз»), «долбо. б» («Танцующий Шива», «Штрихи к портрету», правда, без последнего ударного слога, но все и так ясно). «Курва», а то и «курва с котелком» («Суд»). Или такие никак не книжные, дворово-криминальные выражения: «очко играет», «очко не железное».
Правда, выглядело это совершенно не вульгарно; обескураживало, конечно, однако и не так, чтоб впадать в ступор.
Словом, Василий Макарович был нашим криминальным чтивом – в том числе и в тарантиновском смысле.
Кстати, ничуть не удивлюсь, если феноменально насмотренный Квентин Тарантино смотрел «Калину красную» и ею вдохновлялся. Конечно, допущение чересчур смелое (тем не менее Р.В. Фассбиндер называл «Калину» среди своих любимых фильмов), но сюжетные линии у Квентина легли как-то очень по-шукшински: мотив «завязки» и расплаты в гангстерском мире. Образ работяги-подкаблучника. Ну, и свежая, взрывающая фабулу музыкальная тема – та, что в «Калине» обозначена Василием Макаровичем как тревожно-бравурный марш, «славная музыка из славного ящичка» – транзисторного магнитофона.
Интересны и мнения упомянутых нами авторов – относительно принадлежности ВМ к легкому жанру. Алексей Варламов: «При всем его юморе, при всей той кажущейся легкости и увлекательности, с какой он писал или снимал кино, почти все его рассказы и фильмы – это всегда надрыв. Иногда более очевидный, иногда менее, но никакого покоя, гармонии, лада в его прозе нет или почти нет. Тревога, SOS, спасите наши души. Ни у кого из его современников не встречались так часто убийства, самоубийства, суды, расправы, драки, ссоры».
Все очень верно, только вот оппозиция между «легкостью, увлекательностью» (почему кажущимися?) и «спасите наши души» представляется явно надуманной. Собственно, Шукшин на свой особый манер попал в чаемый русскими литературными поколениями идеал – прозы высокого качества при остром, авантюрном сюжете. Снова припомню моих сверстников, которые, тогда же, в 70-х, оценивали фильмы по количеству драк. «Надо сходить, говоришь? А драки есть?»
Драки есть, а никакого противоречия нет.
Лев Пирогов, в эссе «Живые позавидуют мертвым», которое как раз оппонирует «Жизни без грима» Варламова: «Если бы Алексеем Варламовым был я, я бы не нагнетал духовность (это приводит к обратному результату), а заметил бы, что рассказы Шукшина похожи на лубок, комикс, карикатуру. Это рассказы-анекдоты. Простые, внятные, яркие. Часто смешные. Обыденная жизнь в его рассказах всегда немножечко экзотична, остранена за счет чудинки героя или необычности обстоятельств. Он не пишет «вообще про жизнь». Всегда – в связи с каким-то случаем. «А вот случай был…» Обтанцовывает текстом конкретное действие, поступок, рассуждает мало. Много показывает. Кто ближе всего к Шукшину из классиков? Чехов».
Ключевое понятие тут – остранение. То самое – из Шкловского, формальной школы, 20-х годов.
Поэтика Василия Макаровича – и впрямь родом из той былинной эпохи, настоянной на русской революции, русском фольклоре и русском авангарде. Он, по сути, идеальный «серапионов брат». Как эстетически – изящество, совершенство формы при острой и напряженной фабуле, так и политически. Фразу Михаила Зощенко «я не коммунист, не монархист, не эс-эр, а просто русский» Василий Шукшин, член КПСС с 1955 года, в тех или иных вариантах, повторял много раз.
Для большинства «серапионов» их принципы остались декларацией, а вот Шукшин неумолимо воплощал их в жизнь в другую эпоху, едва ли сколько-нибудь рефлексируя на сей счет.
Однако показательно другое: Василий Макарыч энергично протестовал, когда его причисляли к «деревенщикам». Мнения мемуаристов расходятся – на ранних этапах или всегда, но сам факт зафиксирован. Думаю, различие ощущал он, разумеется, не идейное, а именно жанровое, относил себя к иной литературной генеалогии.
И обозначал ее, великолепно используя метод остранения – не «чудинкой» единой. Точнее сказать, отчуждения. Иногда в лоб, через происхождение, подчеркивая чужеродность персонажей: «Глеб был родом из соседней деревни и здешних людей знал мало» («Срезал»).
Есть рассказ, который так и называется – «Залетный».
«Нездешний бригадир» из «Танцующего Шивы»: «Мерзкое искусство бригадира ошеломило всех: так в деревне не дрались. Дрались хуже – страшней, но так подло – нет».
Рассказ «Ораторский прием», некто Александр Щиблетов, «из первых партий целинников, оставшийся здесь, кажется, навсегда»: «В летние месяцы к нему приезжала жена… или кто она ему – непонятно. (…) Сельские люди не понимали этого, но с расспросами не лезли».
Отмечу, что появление во первых строках «Острова сокровищ» чужака – старого пирата Билли Бонса, страшно далекого от «народа» – хозяев и гостей трактира «Адмирал Бенбоу», запускает мотор романа, мотивируя все дальнейшие путешествия и авантюры. У Бонса, как и у Глеба Капустина, появляются поклонники, в схожем ключе «опытного кулачного бойца», которого ведут на стрелку, поскольку стало известно, что «на враждебной улице объявился силач».
«Среди молодежи нашлись даже поклонники капитана, заявлявшие, что они восхищаются им. «Настоящий морской волк, насквозь просоленный морем!» – говорили они.
По их словам, именно благодаря таким людям Англия и стала грозою морей».
Иногда «остраняет» Шукшин куда тоньше, хирургическим способом, так сказать, через физическое увечье: хромой Венька Зяблицкий («Мой зять украл машину дров»): «Когда ему напоминали об этом – что не красавец, – Веню трясло».
Незрячий музыкант и певец Ганя («В воскресенье мать-старушка»), инвалид и неудавшийся самоубийца Колька («Нечаянный выстрел»).
Ефим Валиков, рассказ «Суд»: «…в войну он, демобилизованный инвалид, без ноги, пьяный, возил костылем тогдашнего председателя Митьку Трифонова и предлагал ему свои ордена, а взамен себе – его ногу».
И конечно, Бронька Пупков («Миль пардон, мадам»): «Оба пальца – указательный и средний – принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:
– Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.
Хотел крест поставить, отец не дал».
Вспомним галерею увечных из «Острова сокровищ»: одноногий Джон Сильвер, слепой Пью; у Черного Пса, пиратского почтальона, совсем как у Броньки Пупкова, отсутствуют два пальца… Да и у Билли Бонса – сабельный шрам во всю щеку.
***
У Шукшина немало чисто «городских» вещей, но и это не так принципиально, поскольку сама «деревня» – пространство весьма условное. Шукшинская оптика вроде театрального бинокля: укрупняет людей, отдельные детали; при этом общий ландшафт как бы отдаляется, сливается и затуманивается. Можно попробовать объяснить этот феномен почти повсеместной у него межеумочностью, пограничностью – его персонажи застыли на полпути от деревни к городу, многие уже не крестьяне, а сельские, что ли, пролетарии: в большинстве шофера́, как Пашка Колокольников, Гринька Малюгин, Веня Зяблицкий etc. Глеб Капустин работает на пилораме, часто встречаются бригады кочующих шабашников, плотников, лесозаготовитей. Целая галерея складских. Даже Бронька Пупков, «скот лесной», сельский маргинал – охотник и бродяга. И сходятся они все, как правило, не на пашне и покосе, а на пьянке. В сельпо или шалмане.
Безусловно, Василий Макарович знал и глубоко понимал деревенскую жизнь, быт и работу, но даже для сугубо буколических текстов он приберегает авантюрный ход, стремительно отрывающий персонажей от почвы. И – что поразительно – эту свежую скорость писатель включает далеко не сразу, где-то после сюжетного экватора, когда, казалось бы, все уже ясно. Таков великолепный рассказ «Земляки» с рискованным, в духе индийского кинематографа, сюжетным поворотом о брате, не узнавшем брата, «сгинувшего» будто бы еще в «ту войну».
Или хрестоматийные «Сельские жители» – бабка с внуком сочиняют письмо сыну и дяде, летчику, Герою Советского Союза, но читатель прежде всего ловит негероическое и не сельское – какое забористое пиво варит бабка и аллюзию на юмористический рассказ «серапиона» Зощенко «Агитатор».
Дело, однако, не в одной пограничности – для того же среднего русского читателя Алтай – Сростки, Катунь, Чуйский тракт – terra incognita, пространство почти мифологическое. Волшебный остров из узорчатой серии.
Кстати, именно с карты острова, придуманного пасынком Стивенсона – Ллойдом Осборном, – и начался знаменитый роман. При всей прописанности пейзажей этот остров тоже погружен в некий морок, малярийный туман. А для довольно непростой композиции романа «Остров сокровищ» принципиальны сновидческие, в начале и конце, галлюцинации:
Зачин: «Он (одноногий моряк. – А. К.) преследовал меня даже во сне. (…) Он снился мне на тысячу ладов, в виде тысячи разных дьяволов. Нога была отрезана у него то по колено, то по самое бедро. Порою он казался мне каким-то страшным чудовищем, у которого одна-единственная нога растет из самой середины туловища». Он гонялся за мной на этой одной ноге, перепрыгивая через плетни и канавы».
Финал: «До сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся о его берега, и я вскакиваю с постели, когда мне чудится хриплый голос Капитана Флинта: «Пиастры! Пиастры! Пиастры!»
***
Сергей Боровиков, рассуждая о «русском алкоголе» в литературных категориях, остроумно заметил: у Шукшина алкогольный мир строг и двуцветен: белое и красное.
То есть водка (спирт, самогонка; Шукшин к тому же водку, в отличие от последних, почти не конкретизирует, говорит: бутылка. Иногда указывая объем, в случае «четвертинок»). И – «красное»: советские версии портвейна, вермута, «плодово-выгодные».
На самом деле алкогольная палитра, конечно, шире: в «Калине красной» пьют шампанское (которое Губошлеп называет ужасным словом «шампанзе») и коньяк – двадцать пять рублей бутылка. Сугубо коньячные застолья в «Энергичных людях» – о водке торгаши отзываются презрительно.
Точность наблюдения С. Боровикова, однако, в том, что экзотические (по Шукшину) виды алкоголя обозначают социальный контраст, переходящий в бытийный. Абсолютный разрыв. Застольные нравы воровского мира и торговой мафии для крестьянина и работяги – не предмет зависти, но бином Ньютона. Аналогичную роль играют поездки на такси. Вот бухгалтерия старика из «Калины красной»: «Это ж сколько они на такси-то прокатывают? (…) Три шестьдесят да три шестьдесят – семь двадцать. Семь двадцать – только туда-сюда съездить. А я, бывало, за семь двадцать-то месяц работал».
«Острову сокровищ» можно атрибутировать ровно такое же алкогольное наблюдение о двух цветах. И двух видах – преобладает, естественно, ром (в романе он льется через край, кажется, весь текст пропитан его тяжелым запахом). И – во множественном числе, «вина». Есть, эпизодически, бренди – в рифму к шукшинскому коньяку.
А социально-алкогольная линия так даже спрямлена. Боцман Израэль Хендс: «Клянусь громом, мне до смерти надоел капитан! Довольно ему мной командовать! Я хочу жить в капитанской каюте, мне нужны ихние разносолы и вина».
Джон Сильвер умеет осадить разжигателя социальной розни. Из тактических, впрочем, соображений: «Ты будешь спать по-прежнему в кубрике, ты будешь есть грубую пищу, ты будешь послушен, ты будешь учтив, и ты не выпьешь ни капли вина до тех пор, покуда я не скажу тебе нужного слова. (…) Знаю я вашего брата. Налакаетесь рома – и на виселицу».
Вообще, фиаско команды покойного Флинта предопределено прежде всего алкогольной невоздержанностью. Нравоучительно-антиалкогольный пафос (проповедником ЗОЖ выступает, впрочем, преимущественно Сильвер), красной нитью проходящий через роман Стивенсона, явно недооценен.
У Шукшина, имевшего свою долгую и разнообразную драму отношений с зеленым змием, подобных лобовых моралите нет, они уходят глубоко в подтекст.
Ничего подобного строчке пиратской песни «Пей, и дьявол тебя доведет до конца» мы у него не встретим.
***
Кстати, о песнях.
Лейтмотив «Острова сокровищ» – своеобразная матросская «дубинушка»:
Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!У Стивенсона она существует только в подобном – четыре строчки – виде, ее впоследствии дописывали и цитировали в разных вариантах разноязычные деятели искусств. Википедия приводит аутентичный якобы текст из семи куплетов, там же, надо думать, задним числом, дописана история ее возникновения. Где фигурируют Эдвард Тич (Черная Борода – один из прототипов капитана Флинта) и Уильям Томас Боунс (прототип Билли Бонса), а Сундук Мертвеца – кусочек суши в группе Виргинских островов.
Может быть.
Песня странноватая, иноязычие первоисточника странность эту все же до конца не растворяет. Марш – не марш… (Шукшин: «Не то это у него марш, не то подзаборный жиганистый выверт – не поймешь сразу».)
Заклинание? Глоссолалия?
А теперь посмотрим, о чем поют у Шукшина.
В книге Александра Кабакова и Евгения Попова «Аксенов» первый из соавторов заявляет: «У него джазовая проза, она звучит особым образом. Это очень существенно. Таких музыкальных, а не «о музыке писателей» вообще мало – не только в России – в России он точно один, – но таких писателей мало и где бы то ни было».
Мне уже приходилось оппонировать этому слишком категоричному утверждению, попробую еще раз – на шукшинском примере.
Василий Макарыч, конечно, один из самых музыкальных русских писателей – об особом вкусе к музыке в кино я уже говорил вскользь, и как-то даже излишним будет напоминать, как много музыки у него в прозе, правда, музыки совершенно особой. Я о песнях и пляске. Которые – «от так вот!» (сказал бы кто-нибудь из его персонажей) на читательском миру и создаются.
Если перефразировать А. Варламова, ни у кого из современников Шукшина так много не поют, не пляшут, стуча штиблетами, не играют на гитарах и гармонях, утробно не выкрикивают «оп-тирдар-пупия!», никогда еще в русской литературе песня так не направляла сюжет, не программировала жизнь и смерть персонажей.
«Пела, пела и вдруг умерла» – хармсовская хохма у Шукшина теряет камуфляж черного юмора и остается голой констатацией.
Достаточно проследить последовательность действий Кольки – героя рассказа «Жена мужа в Париж провожала».
Нигде персонажи так плотно не заняты песенным творчеством (хороший рассказ, байка – тоже песня).
И странные же это, в большинстве своем, песенки!
Нездешние, галлюцинаторные: даже не всегда строчки, а отдельные сбежавшие слоги, обрывки людского подсознания, из мяса и прожилок, почти не сшитые смыслами, созвучиями, рифмой. Что-то между детским творчеством, шаманскими камланиями, хлыстовскими радениями…
Хрестоматийный Чудик, выпив с братом, поет песню из одного слова:
– Тополя-а…
Алеша Бесконвойный распевает что-то непоправимо свое, менее лирическое:
Догоню, догоню, догоню, Хабибу догоню!Иван («В профиль и анфас») импровизирует в духе черных рэперов:
«Вот живу я с женщиной, Ум-па-ра-ра-ра! А вот уходит женщина Д от меня. Напугалась, лапушка? Кончена игра!..Старик все так же спокойно слушал.
– Сам сочиняю, – сказал Иван. – На ходу прямо. Могу всю ночь петь.
А мы не будем кланяться — В профиль и анфас; В золотой оправушке…»Другой автор-исполнитель, Гена Пройдисвет из одноименного рассказа, ближе к американским битникам и психоделии:
Я же помню этот бег — Небо содрогалось, Ваши гривы об зарю Красную Трепались. Я же знаю, Мы хотели Заарканить месяц. Почему же он теперь, Сволочь, Светится?!На эдаком песенном фоне (вполне коррелирующем, однако, с шукшинскими условностями и остранениями) пиратское «йо-хо-хо» выглядит чуть ли не образцом ясности.
С лейтмотивами у Василия Макаровича своя история.
Народная, распевная «Калина красная», давшая название и киноповести, и фильму. Но как она возникает? А ее на «хазе», куда приходит Егор сразу после «звонка», запевает маруха Люсьен – та самая, которую когда-то Горе не поделил с Губошлепом (апеллирую к тексту, в кино эта линия практически ампутирована). А дальше песня сопровождает сюжет и Егора – до могилы.
Шукшин любил такие игры и капканы – в духе ревизионистского литературоведения. Финал первого тома «Мертвых душ», несущаяся Русь-тройка обгоняет другие народы и государства, а едет в ней Чичиков – плут, арап и жулик. Василий Макарыч строит вокруг этого гоголевского парадокса целый рассказ «Забуксовал» с канонически-соцреалистической первой фразой: «Совхозный механик Роман Звягин любил после работы полежать на самодельном диване, послушать, как сын Валерка учит уроки».
Великий ненавистник Гоголя – Василий Розанов – сглатывает на том свете завистливую слюну. Если допустить, что она у Василия Васильевича там вырабатывается.
***
Роберт Луис Стивенсон ценен матери-литературе, согласно общепринятому мнению, прежде всего новаторской повестью «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Эта парочка, Джекил и Хайд, как декабристы Герцена, вызвала к жизни Фрейда, психоанализ и целые голливудские жанры.
Примерно такие же родительские заслуги – с основаниями куда весомей – принято атрибутировать Федору Достоевскому.
К слову, Стивенсон читал «Преступление и наказание» (во французском переводе); Достоевского ценил, признавал влияние – помимо «Странной истории», повесть «Маркхейм» несомненно навеяна Федором Михайловичем.
Мне было любопытно, мог ли Роберт Луис читать «Бесов» до или во время написания «Острова сокровищ», поскольку в подтекстах обнаруживались мотивы, сближавшие роман о нигилистах с романом о пиратах.
Увы. Уважаемый и компетентный Игорь Волгин сообщил: роман «Бесы» не переводился до 1886 года. Первыми появились голландский и датский переводы. На немецком «Бесы» вышли в 1888 году, английский и французский, с которыми мог оперативно ознакомиться Стивенсон, появились и того позже.
Между тем «Остров сокровищ» завершен в 1882 году.
Версия о прямом влиянии умерла, не успев как следует появиться, но возникла другая, еще интереснее – два писателя, независимо друг от друга, нашли и презентовали мощный литературный ход, придающий текстам новые, стереоскопичные и подчас зловещие измерения. Штука революционная – может, и не сильнее «Фауста» Гете, но явно не уступающая Обломову, пролежавшему на диване весь первый том гончаровского романа, или щелястым, продуваемым композициям пьес Антона Чехова.
Речь про общий бэкграунд, связывающий персонажей. Не ностальгическим дымком и флером, а идеями, кровью и преступлением. Они вынуждены пребывать не только здесь и сейчас, но и навсегда оставаться в некоем параллельном закрытом времени-пространстве, которое программирует все мысли и поступки уже в романной хронологии.
Это напоминает представления о Сиде – потустороннем мире в кельтской мифологии. Официально он вроде бы располагался за морем (в Америке?), но его население – фоморы – бывают среди людей и могут забирать их с собой, не умерщвляя, – в теневой мир, двери в который обнаруживаются всюду.
У окружения Николая Ставрогина – утописта-мошенника Петра Верховенского, славянофила Шатова и его жены, брата и сестры Лебядкиных, инженера-самоубийцы Кириллова и пр. – имеется общее петербургское и заграничное (у Шатова и Кириллова – Америка) прошлое, их преследующее и не отпускающее.
У Стивенсона еще круче – главным героем становится мертвец. Точнее, мы имеем дело с тандемом двух главных героев – мертвым капитаном Флинтом и живым Джоном Сильвером. Собственно, второй, помимо экспедиции за сокровищами, сюжет романа – противостояние Сильвера и тени Флинта. Они соперничают в авторитете, лидерстве, обаянии, влиянии на команду. И этот конфликт в книге – основной, который и уводит «Остров сокровищ» далеко за пределы авантюрного жанра.
В сферу, например, политологического трактата – Сильвер предстает распространенным типом политика, который утверждается во власти и влиянии на умы за счет проклятий мертвому вождю.
Это, помимо прочего, еще и очень российский тип – разительны в иных моментах сходства тактики Джона Сильвера и Никиты, положим, Хрущева.
Главное – вот это преображающее реальность, по-своему трогательное, свирепое желание найти волшебный рычаг, с помощью которого случилось бы разом перескочить из кровавого пиратского прошлого в добропорядочное настоящее разрядки и сосуществования, из правой руки Флинта в доброго дядюшку, джентльмена при достатке и власти, седые букли парика, выезд в золоченых каретах. (Дались им эти золоченые кареты – еще один лейтмотив ОС, вроде пиратского «Йо-хо-хо» и призрака капитана Флинта.)
А как легко представить себе такую сцену при обсуждении предстоящего закрытого доклада товарища Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и преодолении его последствий».
Идет, так сказать, дискуссия. С одной стороны – решившийся Хрущев.
С другой – обделавшиеся Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шепилов.
«Потом взял себя в руки и крикнул:
– Послушайте! Я пришел сюда, чтобы вырыть клад, и никто – ни человек, ни дьявол – не остановит меня. Я не боялся Флинта, когда он был живой, и, черт его возьми, не испугаюсь мертвого. В четверти мили от нас лежат семьсот тысяч фунтов стерлингов. Неужели хоть один джентльмен удачи способен повернуться кормой перед такой кучей денег из-за какого-то синерожего пьяницы, да к тому же еще и дохлого?
Но его слова не вернули разбойникам мужества. Напротив, непочтительное отношение к призраку только усилило их панический ужас.
– Молчи, Джон! – сказал Мерри. – Не оскорбляй привидение.
Остальные были до такой степени скованы страхом, что не могли произнести ни слова. У них даже не хватало смелости разбежаться в разные стороны. Страх заставлял их тесниться друг к другу, поближе к Сильверу, потому что он был храбрее их всех. А ему уже удалось до известной степени освободиться от страха».
Пиратов, конечно, можно понять. Флинт для них – символический магнит огромной мощи.
Само его имя обладает, пожалуй, куда более сильным излучением, чем зарытые Флинтом сокровища. Им клянутся, божатся, за него пьют, его продолжают бояться (может, и больше, чем при жизни).
В алкогольных галлюцинациях Билли Бонса он – первый гость.
«Кое-что я уже видел, ей-богу! Я видел старого Флинта, вон там, в углу, у себя за спиной. Видел его ясно, как живого».
Флинт становится жупелом патриотической пропаганды: «Слыхал ли я о Флинте?! – воскликнул сквайр. – Вы спрашиваете, слыхал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный пират из всех, какие когда-либо плавали по морю. Черная Борода перед Флинтом младенец. Испанцы так боялись его, что, признаюсь вам, сэр, я порой гордился, что он англичанин».
И предметом поклонения молодежи: «Эх, – услышал я восхищенный голос самого молчаливого из наших матросов, – что за молодец этот Флинт!»
Даже главный оппонент Сильвер вынужден уступать обаянию этого имени: «Вот капитан Флинт… я назвал моего попугая Капитаном Флинтом в честь знаменитого пирата… так вот, Капитан Флинт предсказывает, что наше плавание окончится удачей…»
Экс-пират Бен Ганн, который, согласно мнению повествователя Джима Хокинса, был не так прост, как казался: «Это Флинт поставил частокол. Много лет назад. Что за голова был этот Флинт! Только ром мог его сокрушить. Никого он не боялся, кроме Сильвера. А Сильвера он побаивался, надо правду сказать».
Пираты отправляются на поиск сокровищ и ведут такой духоподъемный разговор:
«– Да, дорогие друзья, но только если бы Флинт был жив, не гулять бы нам в этих местах. Нас шестеро, и тех было шестеро, а теперь от них остались только кости.
– Нет, будь покоен, он умер: я собственными глазами видел его мертвым, – отозвался Морган. – Билли водил меня к его мертвому телу. Он лежал с медяками на глазах».
(Замечательная литературная деталь – медяки. Попутно разъясняется еще одна загадка романа – каким образом бумаги Флинта с подробной картой острова и крестиками на месте хранения кладов оказались у Билли Бонса. Похоже, душегуб и алкоголик Бонс был самым преданным капитану человеком, до последнего дежурившим у его постели, а потом ставший распорядителем похорон. Однако и выбор наследника у Флинта невелик – Бонс или Сильвер, которого он побаивался и которому не доверял.)
Но продолжим ударную цитату:
«– Конечно, он умер, – подтвердил пират с повязкой на голове. – Но только если кому и бродить по земле после смерти, так это, конечно, Флинту. Ведь до чего тяжело умирал человек!
– Да, умирал он скверно, – заметил другой. – То приходил в бешенство, то требовал рому, то начинал горланить «Пятнадцать человек на сундук мертвеца». Кроме «Пятнадцати человек», он ничего другого не пел никогда. И скажу вам по правде, с тех пор я не люблю этой песни. Было страшно жарко. Окно было открыто. Флинт распевал во всю мочь, и песня сливалась с предсмертным хрипеньем…»
Отметим этот несколько неожиданный ракурс – «как умирал?». А не традиционное «отчего умирал?» (хотя нам на него ответили раньше – «от рома в Саванне»).
Отметим, поскольку у Шукшина есть рассказ «Как помирал старик» и это удобный случай перейти к нашему главному герою.
***
У Василия Макаровича, если рассматривать интертекстуальные связи его прозы, тоже заметна ситуация общего бэкграунда, но в виде менее концентрированном, не столь определенном. Ближе к матрице «Бесов». Это не корпоративный или идейный бэкграунд, а скорее исторический. Как правило, война, фронт («На фронте приходилось бывать? – интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте»).
Голод, коллективизация.
Собственно, никаких фронтовых камбэков с боевой работой у Шукшина нет. Исключение – эпизод из новеллы «Мой зять украл машину дров», и тот в пересказе. Обычно фронт – просто неизбывный бытийный фон, повод вспомнить анекдотически-драматический случай («Алеша Бесконвойный», «Залетный»). Или самому сочинить байку («Миль пардон, мадам»). Впрочем, есть у него отличный рассказ «Начальник», где общее лагерное прошлое работяги и начальника как раз и составляет интригу (статью свою начальник иронически шифрует «сто шестнадцать пополам») в почти пиратском духе.
Вообще, команды сильных, здоровых мужчин, спаянные каким-то тяжелым, не то чтобы криминальным, но не всегда законным бизнесом, – тоже его постоянный коллективный персонаж. Тут можно вспомнить плотников удачи из «Танцующего Шивы», лесорубов-флибустьеров из того же «Начальника» или ватагу их коллег из «Ораторского приема», где они распевают как бы пиратскую песню «К нам в гавань заходили корабли»…
Самый распространенный эпитет в романе Стивенсона – «старый». «Старый пират», «старик Флинт», «старый Джон», «старая песня». Между тем людям Флинта во время экспедиции «Эспаньолы» от сорока до пятидесяти. Джордж Мерри, неудачный претендент на капитанский статус, тридцати пяти лет, успел, однако, послужить у Флинта. Сильверу – пятьдесят. Самому возрастному из джентльменов удачи, Тому Моргану – надо думать, немногим больше пятидесяти. Оно конечно, по меркам XVIII века и характеру ремесла они и впрямь немолодые ребята. Но, похоже, старит их и совместный трудный опыт.
Интересно, что большинство персонажей Шукшина также выглядят старше своих лет. У него нет никаких акцентирующих эпитетов, но русский читатель такие вещи чувствует и о причинах – вроде того же коллективного опыта войн, потерь, бродяжничества, слома традиционного жизненного уклада – догадывается без авторских пояснений.
***
Игра в параллели – увлекательна, и между корпусом прозы Василия Шукшина и «Островом сокровищ» можно перекинуть еще несколько мостиков.
Хотя бы бегущей строкой.
Мотив кощунства – иронический у Стивенсона: из последней страницы Библии вырезается кружок бумаги для «черной метки»; Библия принадлежит матросу Дику, который вырос в набожной семье. Сильвер издевательски балагурит:
«– Что же делать с этой черной меткой, приятели? Теперь она как будто ни к чему. Дик загубил свою душу, изгадил свою Библию, и все понапрасну.
– А может быть, она еще годится для присяги? – спросил Дик, которого, видимо, сильно тревожило совершенное им кощунство.
– Библия с отрезанной страницей! – ужаснулся Сильвер. – Ни за что! В ней не больше святости, чем в песеннике».
У Шукшина этот мотив («мог ли Разин рубить икону?») регулярен и горек, ярче всего заявлен в рассказе «Крепкий мужик», где лихой бригадир разрушает церковь XVII века. И получает возмездие стремительное, очень шукшинское: в сельпо ему отказываются продать «бутылку».
Или явление, которое Лев Пирогов называет «мизогинией». Конечно, у Шукшина «женоненавистничество» диктуется не биологическими, а социальными фобиями: «Эпоха великого наступления мещан. И в первых рядах этой страшной армии – женщина». Тотальное недоверие женщине, жене, исключение здесь составляют матери и старухи, а лучше бы вместе: мать-старушка.
Стивенсон еще радикальнее – он в своей прозе старался обойтись вовсе без дамского общества, а если уж никак не выходило, переодевал девушек в мужское платье.
Юного читателя «Острова сокровищ» (помню по себе) обескураживает, заставляет цепенеть момент, когда мать Джима, движимая алчностью и порядочностью одновременно («я знаю свои права»), подвергает себя и сына смертельной опасности. Но читательский шок провоцирует следующая фраза: «Как сердился я на свою бедную мать и за ее честность, и за ее жадность, за ее прошлую смелость и за ее теперешнюю слабость!»
Злоба на мать – прием запрещенный, даже у безоглядного Шукшина. Но вспомним, что мать Джима – трактирщица, буфетчица, то есть существо, ненавидимое Шукшиным безоговорочно: «А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает… Она и меня-то тоже ненавидит – что я не ответственный, из деревни».
***
И напоследок – о некоторых якобы нестыковках в «Калине красной».
Мне всегда этот фильм казался странноватым для своей эпохи, эдаким слоеным пирогом, предвосхитившим постмодерн, где выдающийся результат обеспечивает нелинейный, авангардистский монтаж и сильнейшая нюансировка, нежели лобовое моралите.
Так, позднейший – и замечательный – фильм «4» Ильи Хржановского по сценарию Владимира Сорокина вышел из двух эпизодов «Калины красной», поданных как документальные, – застолья с пением в доме Байкаловых и пронзительной сцены со старушкой – матерью Егора.
Эдакий авангардизм – на фоне пасторального сюжета, несколько архаичного даже для времен расцвета «деревенской прозы».
Раньше раздражал финал с убийством – сословным, так сказать, неправдоподобием. Василий Макарович блатным миром интересовался чрезвычайно и, как все интересующиеся, глубоко его мифологизировал.
Русское криминальное сообщество никогда не преследовало «завязавших», если, конечно, за «соскочившим» не числилось каких-либо долгов и косяков.
В «Калине красной» между тем акцентируется, что Егор «гроши» вернул.
Более того, вопреки распространенной легенде о том, что воровская корона снимается вместе с головой, существовала юридически выверенная процедура отказа от высшего криминального статуса.
Если не в литературе и кино (хотя есть, есть в «Джентльменах удачи» момент, когда Доцента спускает с лестницы именно «завязавший» экс-коллега), то в масскульте ситуация соскока представлена щедро. В ранних, к примеру, альбомах «Лесоповала» – песни «Когда я приду», «Кореша», «Черные пальчики». Михаил Танич, при всей разнице творческих, да и человеческих, наверное, масштабов, разбирался в русской блатной жизни лучше Василия Шукшина.
И вот наконец я понял – модель да и технологию расплаты Губошлепа и его кентов с Егором Прокудиным взял Шукшин не у русских блатных, а у английских пиратов.
Вернее, в романе про пиратов – Роберта Л. Стивенсона «Остров сокровищ».
Вспомним: перед тем как к герою Шукшина нагрянула на разбор вся малина, его посещает приблатненный парень Шура, которого Егор представляет как «Васю». Разговор у них выходит очень напряженным: Егор отхлестал курьера по лицу привезенными деньгами.
К Билли Бонсу, бывшему штурману капитана Флинта, который залег на дно в трактире «Адмирал Бенбоу», является посланник от команды Флинта по прозвищу Черный Пес. Беседа идет на повышенных тонах; скандал, драка, Бонс гонится за визитером с кортиком.
Всем известный финал «Калины красной» – по душу Егора является сам Губошлеп со свитой и герой Шукшина получает пулю.
Капитан Флинт мертв: и разбираться с Билли Бонсом приходит его как бы заместитель – слепой Пью. («Одни боялись Пью, другие Флинта».) Пираты – народ юридически щепетильный: экс-штурману сначала вручается черная метка («это вроде повестки, приятель»), а уж потом головорезы во главе с Пью штурмуют трактир.
Бонс, впрочем, гибнет чуть раньше – от припадка, спровоцированного ромом и ожиданием неизбежной расплаты.
***
Традиционное российское некрофильское прогнозирование, актуальное в связи с букетом социально-политических катаклизмов рубежа веков: а что бы делал, где и с кем оказался бы имярек, доживи до…?
Тут у нас прямой аналог капитана Флинта – Владимир Высоцкий, самый харизматичный мертвец страны. Но и тень Шукшина подвергается историческому дознанию.
Своего рода оселок, момент истины – октябрь 1993 года. Вот и Алексей Варламов начинает свое эссе с этого теста – оказался бы Василий Макарович среди защитников Белого дома или, напротив, одним из подписантов письма «раздавить гадину».
На этом довольно умозрительном фоне как-то не находится охотников говорить о литературной эволюции Шукшина, проживи он хотя бы на десяток лет больше. А ведь она обещала шедевры и прорывы, причем (судя по исходникам), при всем национальном своеобразии, магистрального, мирового значения.
Между тем наследство Шукшина отнюдь не промотано, а скорее приумножено. Писатели, которых принято не совсем точно называть «новыми реалистами» (назову Захара Прилепина, Михаила Елизарова, Андрея Рубанова), ведут генеалогию из 20-х годов, непосредственно через Шукшина. Установка на острый сюжет, напряженное действие, с героями – поэтами и авантюристами. Экспрессионистская поэтика, позволяющая укрупнять лица и детали и размывать, затуманивать фон. Боль и надрыв. Несомненный патриотизм – как в художественном, так и мировоззренческом поле.
«Каждый из нас получил свою долю сокровищ. Одни распорядились богатством умно, а другие, напротив, глупо, в соответствии со своим темпераментом. (…) Грей не только сберег свои деньги, но, внезапно решив добиться успеха в жизни, занялся прилежным изучением морского дела. Теперь он штурман и совладелец одного превосходного и хорошо оснащенного судна».
Ад и Рай Алексея Балабанова
Наивно предполагаю: в неснятом Алексеем Балабановым фильме о юности Сталина молодое поколение страны получило бы нового героя, сравнимого с Данилой Багровым.
Известна реплика Сталина по поводу булгаковской пьесы «Батум»: «Все дети и все молодые люди одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом Сталине». Алексей Октябринович, снявший кино «Морфий» (одна из самых тонких и точных экранизаций Булгакова, у которого вообще на фоне русских классиков самая завидная судьба в отечественном кино), естественно, рекомендацию вождя помнил…
Однако, избегая опасного метафизического поворота, остановимся на мотиве личного сходства.
Сергей Бодров в «Братьях» и молодой подпольщик Иосиф (на знаменитой фотографии с клетчатым шарфиком) похожи разительно: шапка непокорных волос, как любили выражаться детские соцреалисты, прямой открытый взгляд; у Бодрова, впрочем, под курткой – не шарфик, а свитер с воротом.
Реплики Данилы (вообще, у Балабанова почти нет диалогов в классическом смысле, монологов тем паче; его персонажи общаются репликами, и даже не друг с другом, а будто целя, а то и плюя, в яблочко невидимого смысла). Так вот, разговорная манера Данилы – не так содержательно, как интонационно – ложится рядом с анекдотами и байками о вожде.
Вокруг героев реалии, изменившиеся мало: безотцовщина, мать-прачка (сравните: «Лучше б ты стал священником» и «Лучше б ты в армии остался. Пропадешь в тюрьме, как отец твой непутевый»). Арсенал – самопальный или добытый в «эксах»… Продвинутый эстетический вкус (у Данилы – в музыке, у Сталина – к литературе). Есть много свидетельств о том, как магнетически умел обаять красавиц эпохи Коба-революционер, поэтому ничего удивительного в мимолетных романах Данилы с эстрадной блондинкой и темнокожей телезвездой…
Остановлюсь, однако. Не будет фильма, и не получится героя. Балабанов был последним в нашем кино, кто умел делать героев. И героинь – проститутка-философиня в «Я тоже хочу». Кончина Алексея Октябриновича, и без того символичная, сообщила о нашем времени не меньше, чем все его фильмы… Среди последних месседжей – полная невозможность героев.
Я, было дело, как-то предложил классификацию творцов. Есть художники, которым подвластно время, и есть художники, которые умеют совладать с пространствами. Это примитивно, прямолинейно, но это работает. В данной классификации Балабанов, конечно, из художников времени – премьер-министр Дмитрий Медведев определил бюрократически точно: «Его фильмы – коллективный портрет страны в самые драматические периоды ее истории». Любопытно, что первая короткометражка, режиссерский дебют, называлась «Раньше было другое время».
«Брат», «Груз 200», «Морфий» – это не только самые сильные и точные, но и единственные в своем роде – прав Александр Гаррос – высказывания о 90-х, 84-м – Афганистан, рок-клуб, маньяк, Черненко; наркотической вьюге революции… Сейчас уже ясно – высказывания окончательные.
У него были свои, почти интимные, отношения со временем. Он его дразнил, путал, заговаривал. Рецензенты выкусывали накладки и неточности: футболка «СССР», песня «На маленьком плоту», латино-гитара Дидюли, немыслимая в девяностые…
Вообще, балабановские саундтреки еще станут предметом подробного изучения: отчего «Наутилус» с эстетскими «Крыльями» и «Яблокитаем» в брутальном «Брате»? Зачем «Плот», если у того же автора есть куда более подходящие случаю «Исполнительный лист» и «Ты подойдешь, большой и теплый», к тому же и записанные в 1984 году? Как монтируются поэтика не то что малобюджетного, но безбюджетного примитива с изощреннейшим альбомом «Аукцыона» «Безондерс» на стихи обэриута Александра Введенского («Я тоже хочу»)? Почему у Балабанова, само имя которого сделалось символом и синонимом русского рока, ни разу не звучат «Калинов мост» и «Гражданская оборона»?
…Главные фильмы Алексея Октябриновича построены так же, как великие альбомы рока, – в них есть точный расчет на многократный просмотр-прослушивание, тревожное послевкусие, заставляющее возвращаться к ним снова и снова. На периферию сюжета и кадра, вновь снимая хрупкие слои с этой луковицы – до финальных горечи и слез.
Он знал, что время – субстанция неровная, видел его разломы, спускался в черные дыры, прозревал за ландшафтом – звенящую пустоту, за каждым словом – сдвиг материи, за гламурным прикидом – зэковское исподнее. Понимал, что время стихийно и нелинейно, и в каких-то точках, кадрах могут собираться вместе прошлое, современность и проблематичное будущее, как три девицы под окном.
И конечно, лыком в строку его особых со временем отношений будут всегда вспоминать смертно-пророческий финал «Я тоже хочу», и последнее, пронзительное интервью «Вечерней Москве».
Вместе с тем Балабанов был и художником пространств, дело тут даже не в путешествиях его героев и вечном мотиве дороги – его пространственное мышление располагалось в иных мирах.
Я в свое время, сразу по выходе, рецензировал его 13-й и предпоследний фильм «Кочегар». Занялся подсчетами:
«Это – отечественный аналог Данте, не по масштабу, естественно, а по функционалу – Балабанов последовательно демонстрирует круги русского Ада. Адовых кругов, как известно, девять, «Кочегар» – 13-й фильм Балабанова, но если не считать работ 80-х и коммерческого, хотя и отнюдь не попсового «Брата-2», циферки аккуратно бьются.
Адские дни открытых зверей, натурально, приходятся на распад не столько страны, сколько привычных смыслов – будь то декадентский Петербург («Про уродов и людей»), кафкианский реализм в «Замке», мутный закат Совка («Груз 200», естественно), наркотическая музыка революции («Морфий»), ну и, конечно, гражданская война в столь притягательных для Алексея 90-х. «Брат», «Жмурки», «Война», теперь вот «Кочегар».
Кстати, жил в русском мире еще один художник, на полном серьезе и пафосе претендовавший на лавры национального Данте. Звали его Николай Гоголь, а его ремейк «Божественной комедии» – «Мертвыми душами». Все строго по канону: первый том – «Ад», второй – «Чистилище» и т. д. Причем «Аду» в глобальном своем замысле Николай Васильевич отводил скорее служебную роль, главными должны были стать следующие части поэмы.
Все знают, что получилось у Гоголя то, что получилось.
Словом, интересно, куда после девяти фильмов-кругов устремится Алексей Балабанов…»
Теперь мы знаем куда. В русский Рай – «Я тоже хочу». Всего один фильм и единственный путь («водка плохая, но выбора нет»): остывающий черный Land Cruiser, костер, снег, лед, мерзлые трупы соотечественников, назойливый рефрен «тоже хочу». Режиссер-сталкер, визионер со сломанной рукой и огромным сердцем, обрушившимся, как сверхчуткий лайнер, под невыносимой нагрузкой.
Нефть поэта. Фильтры забитые и люди заезжие
Снова придется говорить про антисемитизм (не взять ли в кавычки?) Есенина, поскольку нашлась к нему неожиданная и убедительная рифма.
И – привычно отмечаю: очень возможно, что все это, так или иначе, уже известно (опись, протокол), а дилетанту мне просто не попадалось на глаза.
Но ведь и не попалось, потому что есениноведение, с которым я имею дело, – наука идеологическая. Процентов на восемьдесят. Раньше была на все сто, но сейчас ситуация выправляется.
Итак, исследователи, которым почему-то очень хочется представить Сергея Александровича идейным юдофобом, в качестве аргументов выдвигают:
Строки из знаменитого стихотворения «Снова пьют здесь, дерутся и плачут»:
Защити меня, влага нежная, Май мой синий, июнь голубой. Одолели нас люди заезжие, А своих не пускают домой. Жалко им, что Октябрь суровый Обманул их в своей пурге. И уж удалью точится новый, Крепко спрятанный нож в сапоге.Строфы эти, в канонический текст не вошедшие, десятилетия спустя приобрели нешуточную популярность.
Вторая, про Октябрь и нож, впрочем, печаталась в берлинской книге «Стихов скандалиста» (изд. И. Т. Благова, 1923 г.).
А вот первую из них и принято интерпретировать как антисемитскую. «Свои» – «чужие», а кто тогда считался чужими, более чем понятно. Однако все не так просто.
Прежде всего, впрочем, признаем, что строфа эта поэтически довольно слаба. К «идеологическим» строчкам две первые, «лирические», явно подрифмованы (Есенин, глагольных рифм не уважавший, далеко здесь не ушел), да еще взяты из давних заготовок. Консервов.
Впрочем, и прошлые, и нынешние юдофобы (сейчас шире – националисты всех профилей) цитируют себе по случаю лишь две последних строки. Весело и плакатно, пытаясь придать «людям заезжим» афористичность и смак, которых там особо и не было.
На мой взгляд, не было там и антисемитизма, бытового как минимум.
Известно, что цикл «Москва кабацкая» Есенин привез из заграничного вояжа 1922–1923 годов. Так же, как легенду о пении «Интернационала».
Она широко распространена: в берлинских и парижских кабаках русский поэт Сергей Есенин вскакивает на стол и запевает «Интернационал».
Наверное, надо уже напоминать, что это такой пролетарский гимн. Текст французского коммунара Эжена Потье, музыка Пьера Дегейтера, впервые исполнен в 1888 году; на момент заграничного вояжа Есенина был официальным гимном РСФСР. Дальше легенда обрастает подробностями и разночтениями, в единой, впрочем, канве «есенинских скандалов». Часть посетителей подхватывает, часть возмущенно свистит и топает, кому-то засадили виноградной кистью по морде… Далее одна легенда плавно переходит в другую: халдеи, из русских белоэмигрантов, выговаривают поэту за «большевизм», Есенин огрызается: «Вы здесь находитесь в качестве официантов! Выполняйте свои обязанности молча».
Историю активно продвигал сам Сергей Александрович. В очерке «Железный Миргород» упоминает как о событии, всем известном: «Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это сделал я в Берлине». (Условие властей для пребывания Сергея Есенина и Айседоры Дункан в США.)
Есть, на ту же тему, множество мемуарных свидетельств; разговор с официантами, скажем, передает Августа Миклашевская со ссылкой на Айседору Дункан. Любопытно, что по возвращении Есенина в Советскую Россию (август 1923 г.) поэт удостоился нешуточных знаков официального внимания: вызов в Кремль, аудиенция у Л. Д. Троцкого, предложение делать «свой» журнал… Пиар срабатывал, увеличиваясь в объемах, как любое российское представление о «заграничном».
Словом, кабацкое исполнение «Интернационала» – один из ключевых элементов есенинской мифологии.
В тексте «Снова пьют», конечно, нет указаний на конкретную географию, но взгляд на родину как бы извне, издалека, ощущается явственно.
И даже ставит в тупик читателей, полагающих, будто «Москва кабацкая» писалась непосредственно за столиком в московско-нэповском «логове жутком». Где-нибудь в «Стойле» или «Яме».
Есенина меньше всего интересовали почтовые подробности, но художественные детали вполне красноречивы.
«Вспоминают московскую Русь» – речь явно идет не о конгрессе историков – знатоков допетровского времени, обсуждающих за кружкой моссельпромовского пива Ивана Калиту и Дмитрия Шемяку…
«Им про Волгу поет и про Чека» – в нэповской Москве ранних 20-х, хоть времена и были вегетарианскими в сравнении с последующей эпохой, петь про Чека – уже опасно. Хотя «Яблочко», наверное, пели – тот же герой «Собачьего сердца», промышлявший на балалайке по трактирам.
«В Губчека попадешь – не воротисси…»
«Жалко им тех дурашливых, юных, /Что сгубили свою жизнь сгоряча», – возможно, меня поднимут на смех серьезные литературоведы, но я уверен, что здесь у Есенина аллюзия на знаменитый «Реквием юнкерам» Александра Вертинского, бешено популярный у Белого движения (см. мемуары самого Вертинского) и, соответственно, в эмигрантских столицах на русских корпоративах.
Об интересе и симпатии Есенина к Вертинскому хорошо известно; необходимо, впрочем, отметить именно здесь, что Есенин ломает ритмический строй стихотворения как бы в подражание Вертинскому. Его кабацкий репортаж, и без того в большой степени рассчитанный на эстрадный эффект, именно в этой строфе звучит как злое эхо предпоследнего куплета песенных «Юнкеров»:
Закидали их елками, замесили их грязью И пошли по домам под шумок толковать, Что пора положить бы конец безобразию, Что и так уже скоро мы начнем голодать.И есенинское:
Что-то злое во взорах безумных, Непокорное в громких речах. Жалко им тех дурашливых, юных, Что сгубили свою жизнь сгоряча.Лыко в ту же берлинскую строку – и какие-то, по-европейски напыщенные «россы» (возможна, впрочем, полемика с блоковскими «скифами»), и вовсе прозрачное «своих не пускают домой».
Другое дело, что понты вроде подписи под стихотворением «Берлин (Париж, Нью-Йорк), такого-то дня, такого-то месяца» Есенина не занимали, ему надо было дать картину всемирного русского кабака. Отсюда чисто отечественные нюансы вроде «самогонного спирта река» (в России продолжает действовать сухой закон, введенный царским правительством и пролонгированный Совнаркомом).
На мой взгляд, строчка о «людях заезжих» направлена не против евреев, и даже не против коммунистов (что тогда многие полагали синонимами). Пафос ее скорее антиинтернационалистский: известно, сколько иностранцев после Октября 1917-го ринулись в Россию строить новый мир (В. В. Кожинов приводит цифру в 5 миллионов!). Были среди них, разумеется, не только евреи, да и люди левых убеждений вовсе не преобладали, обыкновенных авантюристов и банальных карьеристов, «на ловлю счастья и чинов», тоже хватало.
Показательно, что два персонажа-коммуниста из «Страны негодяев» имеют эмигрантский бэкграунд – Чекистов: «Я гражданин из Веймара, / И приехал сюда не как еврей, / А как обладающий даром / Укрощать дураков и зверей». И Никандр Рассветов, который, подобно героям «Бесов», устраивал самому себе кастинг на роль американского пролетария. Весьма красноречив его монолог об Америке с рефреном, восходящим к Гоголю: «Все курьеры, курьеры, курьеры, / Маклера, маклера, маклера…»
(Вообще, гоголевские мотивы в есенинских «америках» – тема отдельного исследования.)
Уместно предположить, что Есенин (возможно, под влиянием эмигрантских разговоров) дает в знаменитых строках поэтическое сальдо тогдашних миграционных процессов. С политическим подтекстом.
А как же исполнение «Интернационала» верхом на ресторанном столике, фраппированные экс-белогвардейцы?
Ну, во-первых, «Интернационал» был для Есенина гимном его страны, поэтическим посланцем которой он себя понимал (хотя бы даже и в пику газетному статусу «молодого русского мужа знаменитой Дункан»).
Во-вторых, Есенин – профессионал эпатажа, да что там – один из основателей школы имажинистского скандального продвижения, магистр литературного пиара, безошибочно бьющий в самые эрогенные зоны общества.
А третье, и, пожалуй, главное – и пение «Интернационала» параллельно с инвективами «людям заезжим» – это очень по-есенински. Здесь снова в полный рост перед нами его двойственность, амбивалентность, переменчивость.
Авторы относительно свежей (2007 г.) и очень качественной, «внеиделогической» литературной биографии Есенина – Олег Лекманов и Михаил Свердлов – объясняют перемену состояний у Сергея Александровича с помощью известной метафоры, взятой из «Подлинной истории доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Л. Стивенсона. Контрапунктом превращения добропорядочного благородного Джекила в злобного и порочного Хайда является принятие зелья, в есенинском случае – алкоголя. «Иногда, впрочем, – оговариваются биографы, – поэт мог превратиться в «Хайда» и без принятия зелья. Часто он накручивал себя трезвого до циничных выходок и опасной истерики».
Последняя констатация заставляет задаваться предсказуемым вопросом: а не были ли подобные состояния чем-то изначально, априори, присущим есенинской психике? Естественно, они обострялись под воздействием алкоголя, возраста, житейских невзгод (хотя тут в причинах и следствиях немудрено запутаться), но сущности, которые я бы рискнул обозначить «поэтической бисексуальностью» и «политической двуствольностью», кроются в самой онтологии есенинского творчества (а творчество и физиология были у него практически неразделимы, см. у Мариенгофа, Горького и пр.).
Да и вообще пьянка есенинская или, скажем, перманентная установка на скандал с мировоззрением поэта могут соотноситься вполне опосредованно. Трудно оспорить фольклорную мудрость «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».
Тут самое время обратиться к следующему аргументу в пользу есенинского якобы юдофобства.
Комиссар Чекистов-Лейбман в драматической поэме «Страна негодяев». В этом персонаже, не применяя особых шифров, разглядели Льва Троцкого, и уже здесь «антисемитская» версия буксует: многие мемуаристы зафиксировали буквально восторженное отношение Есенина к наркомвоенмору (согласно В. Наседкину, полагал Льва Давидовича «идеальным, законченным типом человека»).
В свою очередь, любовь Троцкого к Есенину заметно осложнила посмертную судьбу Сергея Александровича: бухаринские «Злые заметки» (1927) были запоздалой ответкой на прочувствованный некролог Троцкого (1926).
Впрочем (все в ту же тему есенинской амбивалентности), существуют воспоминания Романа Гуля:
«И мы вышли втроем из Дома немецких летчиков. Было часов пять утра. Фонари уж не горели. Берлин был коричнев. Где-то в полях, вероятно, уже рассветало. Мы шли медленно. Алексеев держал Есенина под руку. Но на воздухе он быстро трезвел, шел тверже и вдруг пробормотал:
– Не поеду я в Москву… не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн.
– Да что ты, Сережа? Ты что – антисемит? – проговорил Алексеев.
И вдруг Есенин остановился. И с какой-то невероятной злобой, просто с яростью закричал на Алексеева:
– Я – антисемит?! Дурак ты, вот что! Да я тебя, белого, вместе с каким-нибудь евреем зарезать могу… и зарежу… понимаешь ты это? А Лейба Бронштейн – это совсем другое, он правит Россией, а не он должен ей править… Дурак ты, ничего ты этого не понимаешь…»
Строго говоря, и вопреки названию (которое еще имеет черты имажинистского радикализма «купи книгу, а не то в морду»), в «Стране негодяев» нет отрицательных персонажей. А образ Чекистова, еврея-комиссара, вполне соприроден таким коллегам и одноплеменникам, как Левинсон в «Разгроме» Фадеева и Коган в «Думе про Опанаса» Багрицкого. О близости «Страны негодяев» и «Думы про Опанаса» я как-нибудь еще напишу, а пока отметим: там, где якобы отрицательный Чекистов резонерствует да иронизирует (пусть даже над русским народом, хотя тут никакой не сионизм, а скорей расизм: «Дьявол нас, знать, занес / К этой грязной мордве / И вонючим черемисам»; на самом деле поливы Чекистова следует рассматривать в том же контексте «Интернационал против национального»), положительный Коган этот народ трясет и жучит:
По оврагам и по скатам Коган волком рыщет, Залезает носом в хаты, Которые чище! Глянет влево, глянет вправо, Засопит сердито: «Выгребайте из канавы Спрятанное жито!» Ну, а кто подымет бучу — Не шуми, братишка: Усом в мусорную кучу, Расстрелять – и крышка!Есенин мог бы предоставить Чекистову работенку посерьезней, чем охрана зимней станции (комиссар тянет ту же солдатскую лямку, что и простой красноармеец Замарашкин). Но нет, никакого геноцида русского народа; вместо продразверстки и расстрелов Чекистов вдруг дезавуирует свои русофобские якобы телеги:
Мне нравится околесина. Видишь ли… я в жизни Был бедней церковного мыша И глодал вместо хлеба камни. Но у меня была душа, Которая хотела быть Гамлетом.Словом, русофобия Чекистова свойства столь же сомнительного, что антисемитизм самого Есенина. Да и о каком-либо сатирическом подтексте в изображении комиссара говорить не приходится. Чекистов если не проговаривает мысли самого поэта времен заграничного вояжа (а на мой взгляд, это именно есенинские размышления), то в любом случае инвективы его спровоцированы причинами не политическими, но физиологическими:
Я ругаюсь и буду упорно Проклинать вас хоть тысячи лет, Потому что… Потому что хочу в уборную, А уборных в России нет.Хотя цивилизаторский пафос в устах деятеля, который мучается «кровавым поносом», выглядит не столько избыточным, сколько неуместным. Но такова вся драматическая поэма «Страна негодяев» – рыхлая, водянистая, странная, с множеством ярких строк и целым рядом причудливых персонажей (уместней было бы название «Страна чудаков»). В которых, судя по цивилизаторской «околесине», больше от нынешних фейсбучных мечтателей, чем от современных Есенину комиссаров:
Странный и смешной вы народ! Жили весь век свой нищими И строили храмы Божии… Да я б их давным-давно Перестроил в места отхожие.Среди либеральных фанатов Pussy Riot Чекистов собрал бы кучу лайков и перепостов.
И наконец, последний довод в пользу нелюбви русского поэта к евреям.
Регулярные есенинские скандалы (неизменно пьяные) с назойливым юдофобским угаром. «Жиды проклятые», «засилье», «ненавижу», «распинайте меня» и пр.
Довод убедительный: тут не одни мемуары, но пресса тех лет и милицейские протоколы – жанр, укрепляющий авторский миф, но отрицающий поэтическую легенду.
Галина Бениславская и Анна Назарова приписывают есенинский алкоантисемитизм целиком влиянию Николая Клюева, гостившего у Есенина (т. е. у Бениславской) в сентябре – октябре 1923 г.
Бениславская: «Клюев с его иезуитской тонкостью преподнес Е. пилюлю с «жидами» (ссылаясь на то, что его, мол, Клюева, они тоже загубили)».
Назарова: «Клюев рассказывал, как ему тяжело живется: «Жиды правят Россией, – потому не люблю жидов», – не раз повторял он. У С.А. что-то оборвалось, – казалось, он сделался юдофобом, не будучи им по натуре. «Жид» стал для него чем-то вроде красного для быка».
Есть соблазн принять подобную клюевоцентристскую трактовку (при всех кульбитах в их отношениях Есенин до конца продолжал именовать Клюева «учителем»), но ей снова противоречат факты.
Да и общие соображения: Есенин осенью 23-го мальчик уже большой, вернувшийся из-за границы, наблюдавший революцию внимательно и с близкого расстояния. При всей подверженности влияниям и нестабильности психики (вследствие уже тогда бурно развивавшейся болезни), подсадить его на какое-либо универсальное объяснение общих невзгод и горестей – дело безнадежное. Разве что заронить в его мятущейся душе очередное противоречие – но тут сама действительность справлялась куда успешней Клюева.
А факты таковы, что примерно за полгода до клюевских нашептываний, перед отъездом из Америки, Есенин в Бронксе, на вечеринке у поэта Мани-Лейба Брагинского устраивает один из самых знаменитых своих скандалов – начав с матерной разборки с Айседорой, русский поэт продолжил «жидами», был связан и получил пощечину…
Любопытно, что Владимир Высоцкий в своей известной песне «Ох, где был я вчера» воспроизвел сюжет и атмосферу нью-йоркского дебоша Есенина (причем явно обходясь без изучения мемуаров о пребывании Сергея Александровича за океаном). Правда, у Высоцкого отсутствует центральный элемент скандала – антисемитский.
Да и есть ли смысл гадать, где и когда подхватил Есенин всепроникающую бациллу? Не вижу также никаких резонов выкладывать рядом с милицейскими протоколами мемуарные свидетельства и есенинские письма, где он если не признается в любви к евреям, то высказывается с иронической подчас приязнью… («Есенин говорил, что он «этого жида любит» – о Мандельштаме.) Есть его запальчивые, протестующие реплики: дескать, снова ославили как юдофоба… Можно говорить о евреях в окружении поэта, о количестве (немалом даже по тем временам) девушек, друзей и собутыльников, но и это вряд ли прояснит картину.
Интересней найти аналогию, параллель есенинскому «антисемитизму», которая способна объяснить парадоксы и аномалии его мировосприятия.
Обнаруживается она в довольно неожиданном месте – русской деревне.
Сено-солома популярного есениноведения предполагает следующую схему: евреев Сергей Александрович не любил, а любил он русского крестьянина.
У Василия Шукшина, в рассказе «Верую!», есть к тому трагикомическая иллюстрация, оппонирующая (или нет?) поливам Чекистова про «храмы Божии»:
«И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда – защемило в груди. На словах «ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий» поп ударил кулаком в столешницу и заплакал.
– Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Справедливо. Поздно? Поздно…»
Отметим, что шукшинский поп, даже на ритмическом уровне, невольно цитирует «Сорокоуста», вслед за самим Есениным сопоставляя поэта с красногривым жеребенком.
Но в пафосе своем явно заблуждается – Есенин крестьянина не любил и не жалел.
Куда проницательней оказался вечный недоброжелатель Есенина (и соратник его поклонника Троцкого), функционер по ведомству печати Лев Сосновский: «Меня всегда поражало, что никто из критиков не заметил антикрестьянской сущности поэзии Есенина и Ко. У Есенина никогда не фигурирует труд крестьян».
«Крестьянство» для Есенина слишком часто было маской, центральным элементом имиджмейкинга, даже свои политические предпочтения (близость к левым эсерам) он застенчиво именовал «крестьянским уклоном». В «Черном человеке» поэт подводит безжалостный итог собственной игре с личинами – трость, брошенная в «скверного гостя» (на самом деле в зеркало), – это и уничтожение масок, разгром имижмейкерской гримерной.
Бухгалтерия относительно поэтического корпуса, сравнение антикрестьянских выпадов с антиеврейскими не имеет смысла, поскольку мы убедились, что последних там нет вовсе. Впрочем, первые в стихах тоже практически отсутствуют, но есть другое, весьма для Есенина характерное – недобрый взгляд со стороны.
Жесткие (какое там умиление) высказывания о крестьянах, «мужиках», рассыпаны в «Сорокоусте», «Пугачеве», той же «Стране негодяев». В «Анне Снегиной» отношение к односельчанам и деревенскому народу вообще варьируется от скуки и равнодушия до скабрезной ухмылки:
Эх, удаль! Цветение в далях! Недаром чумазый сброд Играл по дворам на роялях Коровам тамбовский фокстрот. За хлеб, за овес, за картошку Мужик залучил граммофон, — Слюнявя козлиную ножку, Танго себе слушает он. Сжимая от прибыли руки, Ругаясь на всякий налог, Он мыслит до дури о штуке, Катающейся между ног. Шли годы Размашисто, пылко… Удел хлебороба гас. Немало попрело в бутылках «Керенок» и «ходей» у нас. Фефела! Кормилец! Касатик! Владелец землей и скотом, За пару измызганных «катек» Он даст себя выдрать кнутом.В той же поэме Прон Оглоблин, вроде как крестьянский вожак, отдалившийся от своего класса каторжным прошлым и тем самым как бы приблизившийся к Есенину (большому любителю «воровских душ», блатной мир позже заплатил поэту за эту любовь – канонизацией), – персонаж глубоко несимпатичный. Даже расстрел Прона деникинскими казаками оставляет лирического героя равнодушным – ни одной сочувственной ремарки. В изображении оглобинского брательника Есенин и вовсе неожиданно становится сатириком, орудующим черной малярной кистью.
Надо сказать, любимые герои Сергея Александровича – вовсе не крестьяне, а вожди – партийные или криминальные.
Ленин – не в «Песни о великой походе», где имена вождей перечислены и зарифмованы с конъюнктурной лихостью, и не в святочном «Капитане Земли», а в отрывке «Ленин» из поэмы «Гуляй-поле» – где настоящая поэзия, масштаб, мистический трепет перед чужой тайной.
И в тему – фрагмент из мемуара партийного литератора Тарасова-Родионова, чей разговор с Есениным произошел накануне отъезда поэта в Ленинград, за несколько дней до финальной есенинской трагедии: «В деревню?! О нет, только не в деревню. – И в глазах его метнулись искорки страха. – В деревне, кацо, мне все бы напоминало то, что мне омерзительно опротивело. О, если бы [ты] только знал, какая это дикая и тупая, чисто звериная гадость, эти крестьяне. Из-за медного семишника они готовы глотки перегрызть друг другу. О, как я же ненавижу эти тупые и жадные жестокие морды. Как прав Ленин, когда он всю эту мразь жадную, мужичью, согнул в бараний рог. Как я люблю за это Ленина и преклоняюсь перед ним».
…Пугачев – который у Есенина дан как партийный вождь, тогдашний левый эсер или сегодняшний нацбол, с романтизмом, рефлексиями и печатью жертвенности.
Хлопуша сделан в родственном ключе – анархист, напоминающий Нестора Махно.
Кстати, о Махно. Бандит и идеолог революционного бандитизма Номах из «Страны негодяев» продолжает, вслед за Чекистовым-Лейбманом-«Троцким», разговор о Гамлете:
Гамлет восстал против лжи, В которой варился королевский двор. Но если б теперь он жил, То был бы бандит и вор.Номах, в своей интерпретации Гамлета, подхватывает эстафету поэта Есенина:
Если б не был бы я поэтом, То, наверно, был мошенник и вор.Есенин делает исключение для собственной семьи, но и ее люди – крестьяне лишь по происхождению да его поэтическому чувству. Когда плоскость поэзии переходит в бытовую, мы поражаемся тому же набору есенинских дихотомий – от любви до ненависти и проклятий, от трогательной заботы – к полному игнору. (Этот пласт отношений в семье убедительно и подробно описывают О. Лекманов и М. Свердлов.)
Вообще, иногда кажется: своеобразный «мужицкий рай» Есенина – это патриархальная русская деревня, каким-то образом лишенная «мужиков», крестьянства. Идеал, восходящий не столько к Руссо, сколько к сказке Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик».
Отметим, что, когда Есенин пьян, бухгалтерия вдруг приобретает смысл: антисемитские инвективы смыкаются с антикрестьянскими: «Пьяный он был заносчив, груб, матерщинничал, кричал… Он непременно кого-либо ругал, чаще всего писателей и поэтов и еще чаще мужиков, находя для них самые чудовищные определения. Он иронизировал насчет Советской власти или смачно и с жаром юдофобствовал, произнося слово «жид» с каким-то озлоблением и презрением» (из воспоминаний издательского работника Ивана Евдокимова).
Весь этот пестрый и горький материал может быть использован как аргумент:
а) Для сближения полярных явлений – интернационального еврейства и русского крестьянства – в есенинском сознании. Схожий клубок мотиваций при разнообразных претензиях к объектам; своеобразный комплекс любви/ненависти на фоне огромного одиночества, неустроенности, непопадании не только во время, выпавшее поэту, но ни в одну сколько-нибудь заметную социальную среду.
б) Для очередной поляризации: притом что в отношении Есенина к «инородцам» и «своим» есть, безусловно, общие черты, принципиальны именно различия: антисемитизм появился позже, как следствие внешних влияний и, как правило, измененного сознания. Тогда как антикрестьянский настрой есть пунктик, присутствовавший у Есенина изначально.
Однако все это представляется излишним. Поскольку те коллизии, которые я пытался разобрать выше, иллюстрируют проблематику куда более высокого, даже высшего порядка – и показывают, как устроена природа национального гения. Какие механизмы работают у него внутри, чтобы вся грязь этого мира, пропущенная через душу и ум, не выводилась наружу… Какие горят и выходят из строя фильтры, ибо на выходе – только искусство, моцартианский артистизм, гений без злодейства.
Чапаев на сеновале в окаянные дни. Иван Бунин и Виктор Пелевин: историософия родства
В знаменитом романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота», разобранном на цитаты, – притом что писатель тогда еще не наладил массовое производство фирменных афоризмов, одна из самых эффектных фраз – о «трипперных бунинских сеновалах».
В молодости, когда роман о поэтах-буддистах-кавалеристах глотается на одном дыхании, оборотом восхищаешься – и только. Но при неоднократном взрослом перечитывании начинаешь понимать, насколько сочленение это искусственно, более того – противоестественно. Против резьбы и «добрых нравов литературы» (А. Ахматова).
Понятно, что тут в сознании постмодерниста как-то соединились «Деревня» и «Темные аллеи», равно как отравленный воздух свободы. Через всю литературу о русской революции красной нитью (сыпью!) проходит линия-метафора венерических инфекций. Однако детская болезнь гонореи – это скорее мировая война (бравый солдат Швейк), тогда как русская революция – безусловно, сифилис (Есенин, Маяковский, Шолохов и пр.).
Тем не менее национальный классик Иван Бунин воспринимается почти вне данных контекстов. Очевидцем и пристрастным свидетелем революции он был, суровым аналитиком русской деревни – тоже, как ностальгический певец плотской любви и сегодня более всего воспринимаем читателями. Но «триппер» и даже «сеновал» – не из его мировосприятия и словаря.
Некролог какого-то Яшеньки:
«И ты погиб, умер, прекрасный Яшенька… как пышный цветок, только что пустивший свои лепестки… как зимний луч солнца… возмущавшийся малейшей несправедливостью, возмущавшийся против угнетения, насилия, стал жервой дикой орды, разрушающей все, что есть ценного в человечестве… Спи спокойно, Яшенька, мы отомстим за тебя!»
Какой орды? За что и кому мстить? Там же сказано, что Яшенька – «жертва всемирного бича, венеризма» («Окаянные дни»).
Впрочем, если приглядеться, пелевинский оборот восходит к известному свойству литератора Бунина – раздраженного, на грани ярости, полива в адрес коллег. Хлестко и несправедливо: «запойный трагик Андреев», «необыкновенно противная душонка» (о З. Гиппиус), «лживая, писарская поэзия этого сукина сына Есенина» и мн. др.
Но, собственно, заметки эти затеяны отнюдь не для разоблачения классиков; интересней проследить родство Бунина и Пелевина, которое – в «Чапаеве и Пустоте» – венеризмом, сеновалами, эффектностью и несправедливостью – вовсе не исчерпывается.
Тренер ревизионизма
Неоднократно отмечалось: Пелевин – продвинутый романист, предвосхитивший многие современные реалии, весьма традиционен по форме и консервативен в своих литературных пристрастиях. Авторы первой биографии писателя «Пелевин и поколение пустоты», Сергей Полотовский и Роман Казак, говорят о прямо-таки нежности, которую испытывает Виктор Олегович к Владимиру Набокову. «Главный писатель пелевинского иконостаса», – безапелляционно заявляют биографы.
Возражать тут не хочется, однако, по моему убеждению, место в иконостасе у Владимира Владимировича мог бы оспорить Михаил Афанасьевич. Во всяком случае, заставить эстета и стилиста потесниться.
Если Набоков – научный руководитель, то Булгаков – любимый школьный учитель или первый тренер. Пелевин перенял у него главный механизм защиты от недружественной реальности: спасительный цинизм мировосприятия. У Булгакова это шло от исторического и жизненного опыта, у Пелевина – идет от опыта интеллектуального. У обоих еще есть место лирике и подвигу, но разница в опыте дает себя знать: мир Булгакова конечен, тогда как у Пелевина в каждом новом романе он заходит на очередной виток сансары (литературно выражаясь, сиквел).
Общее у писателей – весьма поверхностное, прикладное отношение к религиям; Божественное – не свойство духа, а предмет познания (или объект сверхзнания) и умножения скорби. Еще – мальчишеское удовольствие потусторонних странствий, эзотерика – как оружие возмездия…
Памфлет «Собачье сердце» – этот концентрированный и канонизированный обывательский Булгаков, снабдил Виктора Пелевина не только второстепенным персонажем-фантомом для «Священной книги оборотня» (Полиграф Шариков – московский антропософ), но козырной (ударение – на усмотрение читателя) интонацией. Прочитайте монолог любого пелевинского гуру в манере проф. Преображенского – сварливо, надменно, через губу. Да и робкие ученики нередко играют с дядькою в интеллектуальные поддавки а-ля д-р Борменталь… Пары Берлиоз – Бездомный, Бомбардов – Максудов и пр. без труда проецируются на пелевинские сюжетообразующие тандемы.
Общее для обоих постоянное, назойливое сведение литературных счетов.
Булгаков (посмертно) стал наиболее удачно экранизированным из русских классиков, у Пелевина – все впереди, и, наверное, скоро; киношный потенциал огромен, претензия на блокбастер – повсеместна. Фильм покойного Алексея Балабанова «Морфий» – не только одна из лучших булгаковских экранизаций; концепция революции как череды наркотических приходов-отходняков чрезвычайно близка пелевинскому рассказу «Хрустальный мир», с его знаменитым зачином: «Каждый, кому 24 октября 1917 года доводилось нюхать кокаин на безлюдных и бесчеловечных петроградских проспектах, знает, что человек вовсе не царь природы».
Кадриль литературы
Словом, куда в этот ряд скромному нобелиату Ивану Алексеевичу.
Надо сказать, штудии на тему «Бунин и Пелевин» для филологических кругов – не экзотика, популярно сопоставление пелевинского рассказа «Ника» – тонкого и сильного – при всей обнаженности приема и механической заданности финала – с бунинским «Легким дыханием». А вот «Чапаев и Пустота», насколько я могу судить (и, возможно, ошибаюсь), в интересующем нас ракурсе пока не рассматривался.
Тем не менее давайте присмотримся. Вчитаемся.
Первые главы «Чапаева и Пустоты» преувеличенно, насквозь литературны. Что неудивительно: главный герой романа – поэт, автор имеет репутацию постмодерниста. (Впрочем, в годы написания ЧиП репутация эта доставалась легко: критики, чисто сороки, хватались за все блестящее и звучащее, таща в гнездо под названием «русский постмодерн».) Любопытно, однако, что по мере развития сюжета литературщина практически исчезает и заменяется фольклором и масскультом, как то: анекдоты о Чапаеве, латино-сериалы и Голливуд (Шварценеггер с Тарантино), самурайский экшн и аниме, русский шансон. Писатель укрепляет репутацию постмодерниста, хотя Петр Пустота остается поэтом.
Более того, герои и легенды русской литературы на старте «Чапаева и Пустоты», как в пионерлагере, разбиваются по парам, нестройно гомоня и устремляясь за Пелевиным-вожатым.
«Танка поэта Пушкина», как и сам Александр Сергеевич на Тверском бульваре, бронзовым монументом, выполняют роль эпиграфов. (Впрочем, ближе к середине романа в пару ему возникает Лермонтов, написавший «поэму о каком-то летающем гусарском полковнике».)
Затем появляется «граф Толстой в черном трико», пересекающий на коньках заледенелый русский Стикс, и – через несколько страниц – «темная достоевщина». Чуть позже дефиниция развернута: «…черт бы взял эту вечную достоевщину, преследующую русского человека! И черт бы взял русского человека, который только ее и видит вокруг!»
Федор Михайлович, парный Льву Николаевичу, во многом определяет всю атмосферу начальных глав «Чапаева» – маленькая трагедия «Раскольников и Мармеладов», разыгранная в арт-кафе «Музыкальная табакерка», детонирует стрельбой и погромом; Петр и революционные матросы Жербунов с Барболиным проводят в исторически достоверном кабаре «нашу линию».
Между бородатыми гениями пару образуют минорные поэты: «Он писал стихи, напоминавшие не то предавшегося содомии Некрасова, не то поверившего Марксу Надсона». Их саженными шагами догоняет Маяковский: «…учуяв явно адский характер новой власти, поспешили предложить ей свои услуги. Я, кстати, думаю, что ими двигал не сознательный сатанизм – для этого они были слишком инфантильны, – а эстетический инстинкт: красная пентаграмма великолепно дополняет желтую кофту».
(По сути, это основной тезис очерка Ивана Бунина о Маяковском, и, кстати, несомненно более яркий литературно – у Бунина, конечно, никакой не мемуар, а скучный и банальный ко времени написания очерка набор проклятий.)
Пару Маяковскому массовое сознание давно определило – но кто Пелевин и где Есенин? Однако Виктор Олегович написал роман о криэйторе, способном срифмовать штаны хоть с Шекспиром, хоть с русской историей… Так что Маяковский с Есениным – плевое дело: «Недалеко от эстрады сидел Иоанн Павлухин, длинноволосый урод с моноклем; рядом с ним жевала пирожок прыщавая толстуха с огромными красными бантами в пегих волосах…»
Ну, разумеется:
…Как прыщавой курсистке Длинноволосый урод Говорит о мирах, Половой истекая истомою. (Сергей Есенин. Черный человек)Дальше – не менее густо: ежеминутно поминаемый автор «Двенадцати» («опять Блок, подумал я»). Стихотворение главного героя, сочиненное автором для нужд повествования: «Они собрались в старой бане, надели запонки и гетры и застучали в стену лбами, считая дни и километры… Мне так не нравились их морды, что я не мог без их компаний – когда вокруг воняет моргом, ясней язык напоминаний», – пародирует, с уклоном в обэриутов, блоковских «Сытых»:
Они давно меня томили: В разгаре девственной мечты Они скучали, и не жили, И мяли белые цветы. И вот – в столовых и гостиных, Над грудой рюмок, дам, старух, Над скукой их обедов чинных — Свет электрический потух. К чему-то вносят, ставят свечи, На лицах – желтые круги, Шипят пергаментные речи, С трудом шевелятся мозги (…).Далее – промельк Бальмонта. Герцен и Чернышевский. Принимающие активное участие в сюжете Валерий Брюсов и Алексей Толстой. Последнему Пелевин тоже немало обязан: сам Виктор Олегович в одном из немногочисленных интервью признавался: рецепт «балтийского чая» (водка, в которой размешан кокаин) обнаружен им у красного графа… Кроме того, фраза-размышление относительно идиомы «пришел в себя» – «кто именно пришел? куда пришел? и, что самое занимательное, откуда? – одним словом, сплошное передергивание, как за карточным столом на волжском пароходе», прямо восходит к названию повести А. Н. Толстого «Необычайные приключения на волжском пароходе».
Надо сказать, «Чапаева и Пустоту» критики просто не досматривали на предмет литературных имен и аллюзий, иначе было бы несложно убедиться, что этот роман – просто-напросто очередная энциклопедия русской словесности. Субъективная, но не пародийно-издевательская, подобно «Голубому салу»; ограниченная по времени – XIX и т. н. Серебряным веком.
«Энциклопедия» здесь – конечно, клише, ближе сравнение с литературной гостиной, превращенной в коммуналку, где уплотняет писателей революционный матрос Пелевин. Собственно, всю меру комиссарского произвола можно определить в его отношении к фигуре Ивана Бунина.
Тут тоже не обошлось без парности: можно прикинуть, кого планировал автор «Чапаева» в связку к Ивану Алексеевичу. Упоминаются Горький, Чехов и Набоков – литераторы, с которыми Бунина связывали отношения причудливые и разнообразные.
Персонаж «Чапаева и Пустоты», чекист и бывший поэт Григорий фон Эрнен дважды упоминает о «звонке Алексею Максимовичу» как о событии, несущем судьбоносные последствия.
Этот важный созвон мы встречаем и у Бунина в мемуарах: «Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю отношения с ним навсегда конченными» («Горький»).
Впрочем, судя по «Окаянным дням», Бунин и после Октября продолжает общаться с Екатериной Павловной, равно как близким Горькому (у Бунина – «вечный прихлебатель Горького») издателем А. Тихоновым – «по делу издания моих сочинений «Парусом», – важно сообщает Иван Алексеевич. «Парус» – основанное Горьким издательство. Явная двусмысленность в свете полного разрыва отношений.
Антон Чехов появляется в «Чапаеве и Пустоте» благодаря Ленину, который, в свою очередь, возникает самым мистическим образом. Чапаев устраивает эзотерический телемост посредством собственной шашки:
«Я понял, что он (Ленин. – А. К.) видит меня – в его глазах на секунду мелькнул испуг, а затем они стали хитрыми и как бы виноватыми; он с кривой улыбкой погрозил мне пальцем и сказал:
– Мисюсь! Где ты?
(…)
Зажегся свет. Я изумленно поглядел на Чапаева, который уже вложил шашку в ножны.
– Владимир Ильич перечитывает Чехова, – сказал он».
Любопытно: именно Бунин в свое время сосватал Чехова в декадентские издания, по просьбе самого Антона Павловича, который, видимо, был вовсе не прочь попасть в струю тогдашнего гламура. Разочаровался, впрочем, быстро и первым соединил литературную моду с каторгой, сострив по поводу символистов: «Здоровенные мужики, их в арестантские роты отдать». Собственно, все дальнейшие витиеватые проклятия Бунина в адрес Блока, Маяковского и других выросли из чеховских «арестантских рот»; известные его инвективы в адрес Ленина звучат в той же тональности, разве что с повышением градуса ругани.
Биографы Пелевина, Полотовский и Казак, мотивируя близость своего героя Владимиру Набокову, вспоминают пассаж из «Чапаева и Пустоты», восходящий к «Камере-обскура». Предварительно оговариваются: «Сначала приветы любимому автору Пелевин посылал осторожно, исподтишка». Это не совсем так (а фейковую лексику оставим на совести авторов): немногими страницами ранее г-н Набоков в романе появляется собственной персоной, пусть и опосредованно:
«Возьмите хотя бы Набокова. (…)
– Простите, вы о каком Набокове? – перебил я. – О лидере конституционных демократов?
Тимур Тимурович с подчеркнутым терпением улыбнулся.
– Нет, – сказал он, – я о его сыне.
– Это о Вовке из Тенишевского? Вы что, его тоже взяли? Но ведь он же в Крыму! И при чем тут девочки? Что вы несете?
– Хорошо, хорошо. В Крыму».
Иван Бунин в «Чапаеве», как в хорошо знакомой компании, где-нибудь в ресторане «Медведь»: «Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского…» («Горький»).
Камера-обскура
Впрочем, если рубить правду-матку, то Бунин в романе Пелевина как дома. Вот только благости от этого мало: Иван Алексеевич, своеобразный архетип русского эмигранта, попадает в ситуацию типическую: когда в доме все еще твое, а хозяева – уже чужие. И не самое сильное утешение: чужакам достало вкуса и такта решиться на ремонт сугубо косметический.
Как бы так поаккуратнее выразиться? Ивану Бунину, его «Окаянным дням» и примыкающему к ним циклу («Горький», «Третий Толстой», «Волошин» и др.) Пелевин обязан не только содержанием первых глав романа, его фактурным мясом. Половина успеха «Чапаева» – оттуда, из «Окаянных дней»: даже не столько сама атмосфера русской революции и точность социальных диагнозов, сколько умение найти верные слова для той зыбкой грани, когда прошлое уже кончилось, а будущее не началось. Да что там – сама не раз отмеченная нами подкупающая и размашистая несправедливость суждений, ученически воспринятая Пелевиным, сообщила роману известную долю мрачного обаяния.
Кладем рядом тексты.
«Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» – сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гавриилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне, – большой гонорар, говорит, дадим» (Бунин. «Окаянные дни»).
«Музыкальная табакерка» в пелевинской версии:
«Тотчас откуда-то вынырнул половой с подносом в одной руке и медным чайником в другой. (…) На подносе помещалось блюдо с пирожками. (…) Половой расставил перед нами чашки, наполнил их из чайника и замер в ожидании. (…) Это была ханжа, плохая китайская водка из гаоляна. Я принялся жевать пирожок. (…)
– С чем пирожки-то? – нежно спросил Барболин. – Говорят, тут люди пропадают. Как бы не оскоромиться.
– А я ел, – просто сказал Жербунов. – Как говядина».
И еще: «Публика была самая разношерстная, но больше всего было, как это часто встречается в истории человечества, свинорылых спекулянтов и дорого одетых бл…ей. За одним столиком с Брюсовым сидел заметно потолстевший с тех пор, как я его последний раз видел, Алексей Толстой с большим бантом вместо галстука. Казалось, наросший на нем жир был выкачан из скелетопобного Брюсова. Вместе они выглядели жутко» («Чапаев и Пустота»).
Метод понятен: в бунинские дневники добавляются деталь-страшилка (пирожки с человечиной), составной эпитет («свинорылые», «скелетоподобный»), толика экспрессионизма («выглядели жутко»). Получаем рельефную прозу с претензией на глубокое бурение эпохи.
Бунинское «выбирая наиболее похабные» развернуто Пелевиным в историософское обобщение, впрочем, вокруг ключевого эпитета «похабный»:
«Дело было в том, что выступавший, этот самый Сраминский, или как его там, чутьем понял, что только что-то похабное способно вызвать к себе живой интерес этой публики. Само по себе его умение было в этом смысле вполне нейтральным… поэтому и понадобилось его выдать за что-то непристойно-омерзительное.
О, как я пожалел в эту секунду, что рядом не было кого-нибудь из символистов, Сологуба например! Или, еще лучше, Мережковского. Разве можно было бы найти символ глубже? Или, лучше сказать, шире? Такова, с горечью думал я, окажется судьба всех искусств в том тупиковом тоннеле, куда нас тащит локомотив истории. Если даже балаганному чревовещателю приходится прибегать к таким трюкам, чтобы поддержать интерес к себе, то что же ждет поэзию? Ей совсем не останется места в новом мире – или, точнее, место будет, но стихи станут интересны только в том случае, если будет известно и документально заверено, что у их автора два х…я или что он, на худой конец, способен прочитать их жопой. Почему, думал я, почему любой социальный катаклизм в этом мире ведет к тому, что наверх всплывает это темное быдло и заставляет всех остальных жить по своим подлым и законспирированным законам?»
Бунин, надо признать, куда суше и тезисней, а ведь «Окаянные дни» посвящены ровно той же проблематике – которую нетрудно спроецировать и на последующие русские революции.
Пелевин, обращающийся с первоисточником довольно бережно (правда, бережность медбрата в дорогой клинике то и дело переходит в бережность ловкого карманника на вокзале, оба персонажа, впрочем, обаятельны), – все-таки не удерживается, чтобы не нахамить. Ибо Петр Пустота, размышляя о женской красоте, снисходительно набредает на «объясненьице на уровне Ивана Бунина» и по этой причине мысль пренебрежительно отбрасывает.
Собственно, этот контрапункт и мешает оскорбиться за Ивана Алексеевича, заподозрив Виктора Олеговича в неблагодарности и злом умысле. Полагаю, речь идет всего лишь о литературном инфантилизме – несколько глав спустя он угощает нас объясненьицем на аналогичном уровне (приведенный пассаж о похабщине) и совершенно не рефлексирует.
Бунин упоминает некую Малиновскую:
«Жена архитектора Малиновского, тупая, лобастая, за всю свою жизнь не имевшая ни малейшего отношения к театру, теперь комиссар театров: только потому, что они с мужем друзья Горького по Нижнему».
Встречаем мадам и у Виктора Олеговича, в «Музыкальной табакерке» и в окружении уже знакомых аллюзий:
«Рядом с ним жевала пирожок прыщавая толстуха с огромными красными бантами в пегих волосах – кажется, это и была комиссар театров мадам Малиновская. Как я ненавидел их всех в эту долгую секунду!»
На этом увлекательный процесс сопоставлений можно остановить, а заканчивая о Пелевине, упомяну, что даже гардеробом для первых глав «Чапаева» он обзавелся у Ивана Бунина. То самое английское пальто, во многом создавшее сюжет романа, и шапка «вроде той, что носил Александр Второй». В «Окаянных днях» попадается и то и другое, правда, шапку Бунин атрибутирует Александру Третьему.
Что же до баллов за литературное поведение – их не будет. Виктор Пелевин – замечательный писатель и талантливый ученик; «Чапаев и Пустота», на мой взгляд, лучший из его многочисленных уже романов, которому близкое знакомство с источниками пошло в несомненный плюс…
Если же и необходимо дать вывод, он может быть следующим: Виктор Пелевин – человек насквозь литературный, и русский традиционалист Иван Бунин так же близок ему, как американский эзотерик Карлос Кастанеда. А может, и ближе.
Декаденты и приспособленцы
Интересно здесь, пожалуй, что Пелевин, однообразными ссылками на Бунина (пресловутые «трипперные сеновалы» и «объясненьице»), застенчиво отдает должное классику. Чем выгодно отличается от тех персонажей литературы, которых принято именовать «советскими писателями».
Для некоторых из них «Окаянные дни» (с прицепом) стали могучим источником познания русской жизни, как свадьба у товарища Полянского для Никиты Хрущева – в известной миниатюре Сергея Довлатова.
Из детства помнится, в серии Политиздата «Пламенные революционеры», книжка про большевика Федора Сергеева, известного как товарищ Артем. Автор, Ник. Кузьмин, попятил у Бунина слухи о Ленине, которые в «Окаянных днях» воспроизводятся с таким смаком. О том, как вождь нажил миллион прямо в остроге, или что того, настоящего, Ленина уже нету, убили, и пр.
Много забавней случай прославленного литератора Владимира Солоухина. В свое время, видимо, на этого писателя оглушительное впечатление произвело жанровое новаторство Александра Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» – «опыт художественного исследования». Со всем его безоглядным размахом и произволом в цифрах и фактах. И очарованный Владимир Алексеевич взбодрил в аналогичном духе несколько художественно-публицистических вещей, одна из которых – памфлет о Владимире Ленине «При свете дня». Среди эпиграфов, кстати, есть из «Окаянных дней» – «О, какое это животное!» – Бунин о Ленине. И даже с указанием страницы.
Уместней было бы, полагаю, что-то из бунинского очерка «Третий Толстой», где есть такой эпизод:
«Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора «Двенадцати» (возникает глупая мысль о том, что в начале 1918 года вся Россия только тем и занималась, что чтением и разбором «Двенадцати». – А. К.), пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню, кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания: «Изумительно! Замечательно!» Я взял текст «Двенадцати» и, перелистывая его, сказал приблизительно так:
– Господа, вы знаете, что происходит в России на позор всему человечеству вот уже целый год. Имени нет тем бессмысленным зверствам, которые творит русский народ с начала февраля прошлого года, с февральской революции, которую все еще называют совершенно бесстыдно «бескровной». Число убитых и замученных людей, почти сплошь ни в чем не повинных, достигло, вероятно, уже миллиона, целое море слез вдов и сирот заливает русскую землю
(…)
В такие дни Блок кричит на нас: «Слушайте, слушайте музыку революции!» и сочиняет «Двенадцать»… это произведение и впрямь изумительно, но только в том смысле, до чего оно дурно во всех отношениях. Блок нестерпимо поэтичный поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного словечка в простоте, все сверх всякой меры красиво, красноречиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все можно опошлить. Но вот после великого множества нарочито загадочных, почти сплошь совершенно никому не понятных, литературно выдуманных символических, мистических стихов он написал наконец нечто уж слишком понятное. (…) Почему Святая Русь оказалась у Блока избяной да еще и толстозадой? Очевидно, потому, что большевики, лютые враги народников, все свои революционные планы и надежды поставившие не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетариата, на кабацкую голь, на босяков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением «грабить награбленное». И вот Блок пошло издевается над этой избяной Русью, над Учредительным собранием, которое они обещали народу до октября, но разогнали, захватив власть, над «буржуем», над обывателем, над священником»… и т. д., пространная политинформация Ивана Алексеевича переходит в квалифицированный, хотя, разумеется, тенденциозный разбор поэмы Блока.
«При свете дня» начинается ностальгически: Солоухин повествует об очередной декаде русской литературы в Грузии. Была пирушка на даче Георгия Леонидзе, вспоминает дотошный Владимир Алексеевич, поэты начали вдруг читать по кругу стихи (не свои, а чужие), встал Сергей Васильев, «выдвинул вперед тяжелый свой подбородок, оперся кулаками (а рукава засучены) о край стола и в своей манере (то есть немного гнусавя в нос) заговорил:
– Да, дорогие друзья, да, да и да. Как только мы начинаем читать любимые стихи, сразу идут Гумилев и Блок. Хорошо, что прозвучали тут милые наши, можно сказать, современники: и Коля Дементьев, и Боря Корнилов, и Паша Васильев. Но я вам сейчас прочитаю одно прекрасное, воистину хрестоматийное стихотворение поэта, имя которого никогда, к сожалению, не возникает уже много лет в наших поэтических разговорах. Что-то вроде дурного тона. А между тем – напрасно. И я сейчас, идя наперекор установившейся традиции, назову это имя – Демьян Бедный».
Васильев читает стихотворение с таким финалом:
Никто не знал, Россия вся Не знала, крест неся привычный, Что в этот день, такой обычный, В России… Ленин родился!Ну, собственно, мало ли было писательских собраний с чтением и разбором стихов и поэм, – до Бунина и Солоухина, при них и после них… Но вот дальше начинается отменное литературное дежавю:
«Но я уже встал, и стакан, как я успел заметить, отнюдь не дрожал в моей руке.
Персонаж только что прочитанного пасквиля на Россию назвал однажды Льва Толстого срывателем всех и всяческих масок. Очень ему нравился этот процесс, включая и ту стадию, когда вместо «масок» начинают срывать уже одежды со своей собственной матери, стремясь обнажать и показывать всему свету ее наиболее язвенные места. Для родного сына занятие не очень-то благородное и похвальное. Но Толстой был хоть гений. Тот, еще до того, как заняться срыванием всех и всяческих масок, чем заслужил от главного ненавистника России похвалу и даже звание зеркала революции, тот хоть успел нарисовать нам образ великой и просвещенной, красивой и одухотворенной России. (…) Что же мы услышали здесь, извергнутое в свое время, если не ошибаюсь, в 1927 году, грязными и словоблудными устами Демьяна Бедного, который по сравнению со Львом Толстым не заслуживает, конечно, другого названия, кроме жалкой шавки, тявкающей из подворотни?»
Там, как и у Бунина, есть и дальше, речь довольно пространная, и особо любопытный читатель может убедиться не только в интонационном, но и лексическом повторе с самоподзаводом. «Распишу туда-сюда по трафарету», как пел Высоцкий.
Иван Алексеевич, естественно, куда скромнее, он не снабжает свое выступление психологией с прелюдией. (Солоухин: «…то ли я насупился угрюмо над своим бокалом, не поднимая глаз, то ли какие-то особенные ледяные эманации, флюиды излучались от меня на все застолье, но только все как-то вдруг замолчали и уставились на меня выжидающе, вопросительно, словно предчувствуя, что я сейчас могу встать и высказаться. Хозяин дома, как чуткий и опытный тамада, тотчас и дал мне слово».)
Не отвлекается Бунин и на реакцию зала. (Солоухин: «Рокот недоумения и возмущения прошелестел по застолью. Но, как видно, соскучились они в своем сиропе по острому, никто не оборвал, не пресек, давая возможность высказаться».)
Впрочем, оба писателя как-то обходят ожидаемые эмоции финала: что же последовало дальше, какова реакция была на столь радикальные выступления? Бунин уезжает в Одессу «довольно законно», а Солоухин – в статистику, долженствующую показать процветание дореволюционной России. Тем паче, что все претензии относительно достоверности эпизода он снял в самом начале. Дескать, на нет – и суда нет: «Разве что звонить участникам и расспрашивать. Но участников-то, если не большинства, то многих, уж нет на свете. Твардовского – нет. Суркова – нет, Сергея Васильева – нет, Георгия Леонидзе, на даче которого происходила та пирушка, тоже на этом свете – нет. Не знаю, жив ли Василий Павлович Мжаванадзе. Едва ли».
Я снова не берусь судить, кто здесь порядочней в отношении к Бунину: постмодернист Пелевин или почвенник и монархист Солоухин. Возможно, для моралиста ориентиром здесь могло бы служить различие литературных стратегий.
Если Пелевин, работая над историко-литературной реконструкцией эпохи, действует по принципу «возьму свое там, где увижу свое» (и не без криминального ухарства), то советский писатель прямо заимствует манеру поведения писателя-антисоветчика, полагая ее неким образцом честности и мужества-несгибаемости. Пелевина интересует постреволюционная «Музыкальная табакерка»; Солоухина – Иван Бунин в оной, и даже не он сам, а внутриписательский конфликт, приправленный политикой. Пикантности в том, что Владимир Алексеевич играет роль литератора-разоблачителя в совершенно иных интерьерах, щедро предоставленных самой разоблачаемой властью, советский писатель не видит.
Не так устроено внешнее и внутреннее зрение.
Бунин бы привычно, впрочем, проклял обоих. Ему что декаденты, что приспособленцы.
P. S. Кстати, случаются литературные дежавю совершенно особого свойства: иногда у писателей, в изысках стиля сроду не замеченных, находишь перлы, прославившие будущих виртуозов.
Александр Куприн, «Штабс-капитан Рыбников», написанный в 1905 году: «Он, конечно, держит себя индифферентно – валяет дурака».
Михаил Зощенко, «Аристократка», 1923 год: «А хозяин держится индифферентно – ваньку валяет».
Лимонов, Ахматова, Высоцкий. Снова о странных сближениях
Вещи, меня в литературе по-настоящему интересующие, всегда назывались маргиналиями.
А занимают меня, положим, не столько реальные, сколько виртуальные, гипотетические, штрихпунктирные взаимоотношения классиков, звезд и идолов.
Те самые странные сближения, которые делают прошлое – вечностью, а жизненный мусор – надежнейшим стройматериалом.
Анну Ахматову и Эдуарда Лимонова русская тюрьма объединила в большей степени, чем русская литература. Интонация здесь куда важнее фактуры.
«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
– А это вы можете описать?
И я сказала:
– Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом» (Анна Ахматова. «Реквием»).
«Как-то Сочан стоял в одной клетке со мной. Его должны были везти на приговор. Но, проведя через медосмотр и шмон, объявили, что подымут наверх, суд не состоится. Сочан вдруг сказал мне серьезно: «Ты напиши за нас, Лимон. Чтоб люди знали, как мы тут. Напиши. Мы-то не можем. Ты – умеешь». Прокурор уже запросил к тому времени энгельсовской группе два пыжа. Один пыж – Хитрому, и один – Сочану. «Ты напиши за нас», – звучит в моих ушах.
Много их, сильных, веселых и злых, убивавших людей, прошли мимо меня, чтобы быть замученными государством.
Ты видишь, Андрей Сочан, я написал о тебе. Я обещал» (Эдуард Лимонов. «По тюрьмам»).
Лимонов, даже смягчившийся с возрастом, включивший в свой походный иконостас и Сахарова, и Солженицына (первого – по рекомендации сокамерника – «он помогал»; второго – дождавшись ухода старца), почитающий отца и сына Гумилевых, Ахматову не жалует: «Еще в 70-е годы, живя в России, я забраковал поэзию… Анны Ахматовой. Я был согласен со Ждановым, охарактеризовавшим ее стихи как стихи буржуазной дамочки, мечущейся между алтарем и будуаром. (…) молодой Бродский и поэты питерской школы поклонялись вульгарной советской старухе Ахматовой, а не ее высокородному мужу» («Священные монстры»).
Иосиф Бродский и впрямь говорил о Гумилеве как о «плохом поэте», а Лимонов, как всегда, проницателен: речь идет о разнице не литературных вкусов, а темпераментов и мировоззрений.
Грубо и схематично: Ахматова – женское, страдательное, старческое, либеральное (последнее отнюдь не отменяет авторитаризма самой Анны Андреевны и тоталитарных основ ее культа, см. эссе Виктора Топорова «Жена, ты девушкой слыла…» Институт литературного вдовства»).
Гумилев – мужское, героически-безжалостное, молодое и наступательное, имперское, с метафизическими прозрениями (эссе о нем в «Священных монстрах» имеет подзаголовок «Мистический фашист»).
Литературные вкусы и пристрастия Эдуарда Вениаминовича определяются его взглядами – это слишком известно; точнее, происходит процесс взаимной подгонки с регулярной коррекцией.
Ахматова ей не подвергалась, тем любопытней еще одно странное сближение. Иван Толстой публикует в «Русской жизни» мини-эссе «Стамбул для бедных» – об уничтожении русской топонимики в сегодняшнем Ташкенте («город, где в 1943-м вышел сборник стихов Ахматовой»):
«Смотрю по гуглу на ташкентскую карту. Тормозные колодки (улица Ахматовой, 7), Инфинбанк (Ахматовой, 3), таможенный склад (угол Ахматовой и Проектной), сельхозинвентарь (дом 22), производство лапши «Вкусняшка» (дом 7а), Центр пропаганды духовности (Ахматовой, 1)». Она сама предчувствовала:
Эти рысьи глаза твои, Азия, Что-то высмотрели во мне.Кстати, очевидный перифраз гумилевского «Вступления»:
Оглушенная ревом и топотом, Облеченная в пламя и дымы, О тебе, моя Африка, шепотом В небесах говорят серафимы. (…) Про деянья свои и фантазии, Про звериную душу послушай, Ты, на дереве древней Евразии Исполинской висящая грушей. Обреченный тебе, я поведаю О вождях в леопардовых шкурах…А у Лимонова есть строчки:
Боже мой! Куда ни убегай! Пули получать. Стрелять. Бороться. Свой внутри нас мучает Китай И глазами желтыми смеется.Ахматову в старости называли «королева-бродяга».
А вот как завершает свой пятисотстраничный бестселлер «Лимонов» Эммануэль Каррер:
«Лучше всего он чувствует себя в Средней Азии, объяснил Эдуард. В городах вроде Самарканда или Барнаула. Раздавленных солнцем, пыльных, медлительных, неистовых. Там, в тени мечетей, под высокими зубчатыми стенами, сидят нищие. Изможденные, старые люди, с обветренными лицами, без зубов, часто слепые. Они одеты в туники и черные от грязи тюрбаны, перед каждым – обрывок бархатной тряпки, куда им бросают милостыню, и если ее бросают – они не благодарят. Никто не знает, что за жизнь они прожили, но всем известно, что их похоронят в общей могиле. У них больше нет возраста, нет вообще ничего, если даже раньше они чем-то владели. Даже имя у них есть не всегда. На земле их уже ничто не удерживает. Они – человеческие отбросы. Они – владыки мира.
Пожалуй, он прав: это ему подойдет».
***
Отношение Лимонова к Ахматовой детерминировано разрывом мировоззренческим и поколенческим (сюда же фольклорное «ради красного словца»), и лишь в малой степени – «личняками» (вечное соперничество с «ахматовской сиротой» Иосифом Бродским, не прекратившееся и со смертью нобелиата).
Случай вроде бы обратный, однако типологически близкий – восприятие Лимоновым другого большого поэта – Владимира Высоцкого. Тут скорее преобладает личное, поскольку идейное родство, определенное сходство жизненного опыта и поколенческую близость отрицать сегодня бессмысленно.
В свое время версию о «личных счетах» высказал блогер dondanillo; я попробую ее развить и кое в чем оспорить. Мнение о сугубой неприязни Эдуарда Вениаминовича к Владимиру Семеновичу базируется на известном пассаже из «Русского реванша»:
«Всякий советский человек знает множество крылатых выражений из кинокомедий. «А нам все равно!» – поют дурные зайцы. «Вроде не бездельники и могли бы жить!» – поет Андрюша Миронов – символ своей эпохи, красавчик, игравший бездельников, фарцовщиков и прочих, симпатичных в его исполнении, негодяев. А потом пришел Высоцкий.
Этот потрудился над ниспровержением героя в поте лица своего. Лирический герой В. Высоцкого – алкаш, спортсмен-неудачник, проще говоря, говнюк – разложил всю страну. Высоцкого, Вицина, Никулина, Моргунова можно зачислить вместе с Сахаровым и Солженицыным в число людей, лично ответственных за гибель Советской империи. И еще неизвестно, кто более разложил, переделал сознание людей: Солженицын или Высоцкий, Сахаров или помятая физиономия Никулина. Книги Солженицына до 1986 г. читали очень немногие. А надрывали животики над персонажами Никулина миллионы. Анекдот свирепствовал в последние годы советской власти. Появились даже анекдоты о Павлике Морозове, погибших мучительной смертью Зое Космодемьянской, генерале Карбышеве и Сергее Лазо. Вот какая злобная ненависть к героям пылала в обывателе. Следует сказать, что подобных анекдотов, садистски высмеивающих физические страдания своих героев, нет ни у одного народа в мире, а если таковые существуют, то близка гибель государственности этого народа. В конце концов винтовка Чапаева захлебнулась перед ненавистью обывателя к героям».
Сразу отметим в этом чрезвычайно сильном тексте не только публицистический пережим, но и элемент литературной игры – неявно процитированного воронежского Мандельштама, которого тоже не отнесешь к лимоновским любимцам.
Текст впервые появился в «Лимонке», по свидетельству dondanillo, в 1995 году; тринадцать лет спустя, на «Эхе Москвы», в эфире, посвященном героям современной России или ее именам-символам (не помню, как назывался этот шумный телевизионный конкурс), Лимонов говорит о Высоцком: «Я, например, не очень верю в его популярность, потому что вижу молодежь, которая достаточно далека от него, – он выдыхается, его забывают. Невозможно быть все время. Он потрясающий был, действительно, народный певец – но определенной эпохи. Сейчас эпоха эта уходит, и сейчас поют другие песни, героем сейчас становится какой-нибудь Егор Летов для других поколений. Но уже и это поколение уходит».
Показательно, что негатива в адрес комедийной троицы Никулин – Вицин – Моргунов (которые, к слову сказать, и сами были героями анекдотов) Лимонов никак за годы не изменил – достаточно перелистать его тюремную эссеистику.
Далее в том же «эховском» эфире Лимонов сравнивает Высоцкого с Гоголем, не по гамбургскому, естественно, счету, но в контексте тех же телевизионных праймериз: «Ну, не будем его ни возвеличивать, никак не трогать, но все-таки это у него была поза. По жизни он был один, а это как театральная роль – у него была такая роль – говорящего правду. (…) Я его читал – конечно, он с Гоголем не выдерживает, не выдерживает ни с кем рядом. Если это человеческий герой – хорошо, что он есть».
Тут, конечно, глупо бы было Эдуарда Вениаминовича оспаривать, но откуда вообще взялся у него Гоголь?
Из разговора о героях – для Лимонова чуть ли не единственный подлинно героический текст в русской литературе – «Тарас Бульба».
А вот две «бьющиеся» цитаты:
«Архангел нам скажет: В раю будет туго! / Но только ворота щелк, / Мы Бога попросим: / Впишите нас с другом в какой-нибудь ангельский полк! / И я попрошу Бога, Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою – / Пусть вечно мой друг защищает мне спину, / Как в этом последнем бою» («Песня о воздушном бое»).
«И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы на руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную меня! – скажет ему Христос. – Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь» (Николай Гоголь. «Тарас Бульба»).
У Высоцкого есть знаменитая «Баллада о борьбе» (или «Баллада о книжных детях»), которая сегодня звучит как поэтический концентрат национал-большевистской идеологии: средневековая архаика и авангард, жертвенность («Да, смерть!»); противопоставление реальной боевой работы кабинетным философствованиям…
Вообще, тексты песен Высоцкого «Черные бушлаты», «Звезды», «В дорогу живо или в гроб ложись» (из кинофильма «Единственная дорога», снимавшегося в Югославии, отметим этот соприродный Лимонову балканский мотив) вполне могли быть опубликованы в «Лимонке» и великолепно вписались бы в ее причудливый черно-красный антураж.
«Не следует забывать, что юные расп… – герои романа «Молодой негодяй» маршировали по Харькову 60-х, распевая песню Высоцкого «Солдат всегда здоров, солдат на все готов…» – делится наблюдением блогер dondanillo.
Теперь о личном.
Обе главные женщины лимоновской мифологии – Елена Щапова и Наталия Медведева – утверждали, будто были хорошо знакомы с Высоцким.
В случае Елены в это легко поверить – московская богема, общий круг, спектакли Таганки, Одесса и Крым, рестораны и квартирники. Тем более что героиня «Эдички» на каких-либо отношениях, кроме приятельских, не настаивает.
Наталья Медведева намекнула в одном из интервью (опубликованном в «МК» посмертно) о своем романе с Высоцким: «У нас были очень тесные отношения, даже более того… Это была интересная жизнь. Я столько лет молчала… Если расскажу вам, вы сделаете себе имя, а я опять останусь за бортом. Поэтому я сама все напишу в собственных воспоминаниях».
Все, кому доводилось знать, даже коротко, эту удивительную женщину, отметят, полагаю, странную, жалковатую, немедведевскую интонацию.
Данное свидетельство было растираживано в желтой прессе и подхвачено некоторыми биографами Высоцкого (явно не самыми добросовестными; так, Ю. Сушко в книге «Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Женщины в жизни Владимира Высоцкого» давит на читательские слезные железы: «В Москве ее (Медведевой. – А. К.) тело кремировали, прах перевезли в Питер, похоронив рядом с могилой отца. Он умер, узнав о смерти дочери…» Во-первых, как такое вообще возможно хронологически, если отец «умер, узнав»? А во-вторых, отец Наталии Георгиевны скончался буквально через пару дней после ее рождения, в 1959 году).
Других свидетельств о любовной якобы связи ресторанной певицы и знаменитого барда – не существует. В конце 70-х – начале 80-х Наталия Медведева жила в Лос-Анджелесе; теоретически они могли встречаться – Высоцкий в Калифорнии бывал именно в те годы. Но – всегда в сопровождении Марины Влади, и какие-то интрижки на стороне при подобном раскладе представляются сомнительными. Владимир Семенович охотно общался с русскими эмигрантами в Париже (Синявские), Нью-Йорке (Бродский, Барышников), а вот о встречах с соотечественниками на Западном побережье Штатов практически ничего не известно. В то время Медведева пела в русском ресторане «Миша», и круг ее был преимущественно эмигрантским.
Единственный краткий период, когда Владимир Семенович оказался в Лос-Анджелесе без Марины, – это две недели в декабре 1979 года. «Нас огорчает твоя телеграмма: ты не получил визы на Таити и ждешь нас в Лос-Анджелесе» (Марина Влади. «Владимир, или Прерванный полет»).
Валерий Перевозчиков – куда более серьезный исследователь жизни Высоцкого – сообщает: «Эти две недели В. В. проводит у Майкла Миша – певца и композитора – в доме на берегу океана. (М. Миш был в гостях у Высоцкого летом 1978 года – В. В. пробовал «пробить» его диск на фирме «Мелодия».) По всей вероятности, отказ в визе – только предлог. Причина в другом – в болезни, от которой одинаково страдают и Высоцкий, и Майкл Миш. После свадьбы прилетает Марина, – и хотя Высоцкий ведет себя более чем странно, она еще ни о чем не догадывается…»
Попробуем дополнить застенчивое свидетельство биографа. Если товарищи по зависимости – Высоцкий и Миш – устроили себе в эти две недели героиновый марафон, вряд ли в искусственном раю было место иным страстям… Впрочем, кто знает.
Сам Эдуард Лимонов, ныне воспринимающий собственных жен скорее в качестве литературных и исторических персонажей, предельно откровенный в воспоминаниях («медведевская» глава «Некрологов» раскрывает подробности нападения на Наталию в Париже в 1992 году), ничего не говорит о таинственном романе.
Хотя Высоцкий в их собственных – Наталии и Эдуарда – отношениях проявлялся: довольно бесцеремонным и занятным образом.
Есть в романе «Укрощение тигра в Париже», написанном о Медведевой и для Медведевой, главка «Порнолюди»: певица Наташа везет писателя Эдварда – они уже стали любовниками, девушка приглашена в Париж – в компанию своих друзей.
«Однажды пришлось писателю заглянуть и туда, где она провела последний период своей жизни, где она чувствовала себя королевой и, очевидно, была (что, впрочем, не умаляет зверя и его значения в жизни писателя) легкодоступной пи… Пройдя меж пальм во дворе и мимо бассейна, они поднялись туда, откуда пел Высоцкий. Их встретили хозяева дома: она – вульгарная полная блондинка, он – ее е… – человек, сбежавший с киносъемок советского фильма в Мексике. Здоровый, надутый, как клоп, водкой и жратвой, полупьяный, с каменными бицепсами, накачанными ежедневной строительной работой, с усами полицейского и бесформенным носом русского мужика. (…)
Высоцкий все пел. (…)
Писатель поймал себя на том, что вся компания кажется ему порнографичной. (Впоследствии оказалось, что, хотя бы в отношении Дикого, писатель был прав. Дикий таки снялся через год в порнофильме. А через три был арестован по обвинению в убийстве «Девочки».) Глядя писателю в глаза, Наташа обняла порнографического за розовую шею и стала целовать его в ухо. (…)
«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», – радостно пел мертвый Высоцкий».
В «Укрощении тигра» литературное мастерство Лимонова практически абсолютно: сцена, по сути драматическая, поданная комедийно, вместившая в себя потенциальный конфликт, возможную измену и едва не случившуюся групповушку, благодаря тройному упоминанию Высоцкого, приобретает свежее измерение – саундтрек и радость триумфа. «Мертвый Высоцкий» – это не констатация, а преодоление – писатель победил враждебную среду, забрав у нее женщину.
Вообще, очень любопытно: Высоцкий в литературе Лимонова появляется именно нюансом, знаковой деталью, в разговоре о людях, с которыми у Эдуарда сложный комплекс отношений: близости/отторжения/любви/вражды. Высоцкий возникает в контексте двух персонажей – Наталии Медведевой и Михаила Шемякина.
Вот рассказ On The Wild Side, сюжетная первооснова которого – ссора с Шемякиным («художник Алекс»), перебравшимся в Нью-Йорк (куда автор прибыл из Парижа, «неожиданно мы обменялись столицами»):
«Он оправдался:
«Ой, Лимон, какой же ты обидчивый. Я же тебя люблю, Лимон! Я твой брат. Ты помнишь, ты сам сказал мне после смерти Володи: «Хочешь, Алекс, я заменю тебе Володю?»
«Хитрый ты, Алекс… – сказал я. – Все помнишь, что тебе выгодно».
В позднейших, мемуарных упоминаниях, тон уже другой – добродушная ирония:
«По смущенным и хмурым комментариям самого Шемякина, дебош случился в результате совместного запоя с его другом Владимиром Высоцким. Оба запойных таланта (…) допились в этот раз до того, что Шемякин влез на крышу движущегося такси и якобы размахивал на крыше саблей, требуя, чтобы его везли на Rue Jacob, в галерею Дины» («Книга мертвых – 2. Некрологи»).
Главное тут, конечно, не пьянка и сабля, эка невидаль, а дефиниция – «таланты». Лимонов всегда иронизировал над богемными ярлыками, согласно которым все в компании напропалую «гении»; потому «талант» – у него дорогого стоит. Даже с эпитетом «запойный» и тридцать с хвостиком лет как посмертно.
Эдуард в последние годы только и делает, что сближается и смягчается: «Сочтемся славою, ведь мы свои же люди».
Действительно, свои. Поэты русские и уже, наверное, вечные.
Европа Шарикова и Преображенского. О главном учебнике народной политологии
Отечественная интеллигенция весьма преуспела, подсадив народ на одно из главных своих евангелий – повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце».
С другими прослоечными евангелистами так не получилось. Давайте навскидку. Дилогия Ильфа-Петрова? Но за полвека (считая от советских 60-х) романы про Остапа Бендера так прочно укрепились в народном сознании, что интеллигенции остается лишь конфузливо морщиться. «Совок, совок!» – попрекала меня одна живописная старая хиппи за обороненную в беседе цитату.
Стругацкие? Но тут скорей обратный процесс – увод вполне популярных книжек в высоколобые сферы; процесс убедительно иллюстрирует посмертный фильм Германа-старшего «Трудно быть богом». И процесс по-своему закономерный: дабы убедительней звучало мелкое философствование на глубоких местах (про торжество серости как условие прихода к власти черных, про орла нашего дона Рэбу; про то, что умные не нужны, а надобны верные) – круг должен быть узок, а далекость от народа – страшной.
«Доктор Живаго»? Не смешите. «Архипелаг ГУЛАГ»? Народ не читал, но знает, что много вранья. Да что там, даже «Иван Денисович» из евангелия превратился в тему для сочинений.
Остается, пожалуй, «Мастер и Маргарита», но ненадолго, снижение культового статуса налицо, равно как и возрастная миграция – в разряд литературы для юношества. А там и до детского разряда недалеко, что справедливо: детская книжка «Мастер и Маргарита» пусть и уступает, на мой взгляд, таким детским книжкам, как «Остров сокровищ» и, скажем, «Приключения Гекльберри Финна», все равно чудо как хороша. Если не путать ее с настоящим Евангелием и не отвлекаться на общий генезис 20-х годов. Иначе от мифа об уникальности «МиМ» мало чего останется.
Таким образом, «Собачье сердце» в рассуждении национального согласия – явление практически безальтернативное. И тем загадочное.
Впрочем, такую всеохватность наблюдатели связывают не с повестью Булгакова как таковой (впервые опубликованной в СССР в журнале «Знамя», № 6, 1987 г.), а с одноименным телевизионным фильмом Владимира Бортко («Ленфильм», 1988 г.; мало кто знает, что была еще экранизация итальянского режиссера Альберто Латтуады, с Максом фон Зюдовом в роли профессора Преображенского).
Однако после шумного успеха комедии Леонида Гайдая никто не кинулся перечитывать пьесу «Иван Васильевич» и микшировать пивную аналитику с историческими обобщениями.
Сериальная экранизация «Белой гвардии» (а до этого были фильмы Алова и Наумова, Владимира Басова – «Бег» и «Дни Турбиных» соответственно) никак не актуализовала лучшую булгаковскую прозу даже на фоне украинского политического кризиса.
Между тем уже более трех десятилетий «Собачье сердце» уверенно лидирует во всех индексах цитируемости. Является учебником народной политологии. Отдувается за русскую литературу в социальных сетях и диагнозах.
Самый знаменитый саратовский губернатор (я не Столыпина имею в виду) без устали цитирует повесть Булгакова и призывает перечитывать ее, как Библию. Иногда столь навязчиво, что хочется адресовать Дмитрию Федорычу Аяцкову реплику учителя истории Мельникова (Вячеслав Тихонов) из отличного советского фильма «Доживем до понедельника»: «В твоем возрасте люди читают и другие книжки…»
Но Аяцков, как ни крути, натура уходящая, а вот в актуальный политический контекст «Собачье сердце» неустанно вводит Николай Васильевич Панков – крупнейшая величина современной саратовской политики, видный единоросс и депутат Госдумы.
Симпатичная и умненькая радиоведущая, дискутируя со мною на «Серебряном дожде», соединила нежелание профессора Преображенского помочь детям Германии с насильственной благотворительностью в адрес обновленного Крыма. И долго не желала принять мой аргумент о том, что профессор мог просто пожертвовать германским детям полтинник, не покупая журнала.
Это я только своими земляками ограничиваюсь…
Были, конечно, и ревизионистские вылазки. Эдуард Лимонов, с присущей ему категоричностью обозвал «Собачье сердце» – «гнусным антипролетарским памфлетом» (едва ли Эдуард Вениаминович знал о рецензии Льва Каменева: «Этот острый памфлет на современность печатать ни в коем случае нельзя»). А питерский прозаик Сергей Носов в замечательном эссе «О нравственном превосходстве Шарикова над профессором Преображенским» прямо обвиняет повесть в антигуманизме, а главного ее «положительного» героя именует не иначе, как «инакофоб, биорасист, безответственный вивисектор», который «демонстрирует поразительную нравственную глухоту».
Тем не менее литераторы-ревизионисты продолжают видеть в профессоре медицины Филиппе Преображенском и муниципальном служащем Полиграфе Шарикове прямых социальных антагонистов. Как, собственно, и читатели-зрители.
Ф. Ф. Преображенский воспринимается читателем-зрителем как стопроцентный европеец, носитель буржуазных морали и ценностей. Более того, сам писатель твердит нам об этом едва ли не на каждой странице. Устами учеников, пациентов, друзей и недругов, газетчиков… «Если б вы не были европейским светилом»; «Не имеет равных в Европе… ей-богу!»; «вы величина мирового значения» и т. д.
Филиппу Филипповичу так надули в уши, что он и сам видит в себе персонифицированный образ этой самой Европы в Советской России 1924–1925 годов.
А если европеец, то стопроцентный русский интеллигент, а следовательно, убежденный либерал. Так получилось, что у нас все это практически синонимы.
Напротив, в Полиграфе Шарикове, при всей научно-фантастичности, прямо-таки футуристичности его происхождения, нам предлагают узреть эдакий вполне народный типаж, вышедший из самых архаичных глубин национальной подсознанки. Грянувшего хама, готового оседлать Революцию и новые порядки при поддержке властей, ибо руками шариковых можно душить не одних котов… Бездельника и демагога, выдающего низость, неразвитость и грубость за некое новое пролетарское сознание.
В современном фейково-дискуссионном стиле Шариков «ватник-москаль», «кацап-портянка», оккупант, зомбипатриот и беркутовец.
Впрочем, если мы начнем разбираться в европейских рейтингах профессора Преображенского, обнаружим, что они вполне могут оказаться мифом. Медицина развивалась в начале XX века стремительно, а научные контакты (конференции, симпозиумы, публикации в специализированной периодике, стажировки в ведущих клиниках) Филиппа Филипповича с Западом, надо полагать, прервались в 1914 году – с началом мировой войны. Революция и вовсе вырвала практику и опыты Преображенского из европейского контекста. Итого – десять лет, пусть и неполной изоляции. В 1924–1925 годах речи о железном занавесе еще не идет, какие-то дискретные связи могут сохраняться, но то, что Россия – отрезанный от Европы ломоть в цивилизационном смысле – достаточно очевидно.
Это ни в коей мере не умаляет заслуг и научных талантов Преображенского. Просто все разговоры о европейском значении профессора весьма субъективны. Причем с двух сторон. Мотивации поклонников и пациентов Преображенского понятны, но и Советской власти лестно, когда такое светило, пусть и балансируя на грани лояльности, не эмигрировало на Запад, но осталось работать в Москве. Филипп Филиппович еще и действенное орудие советского пиара, к тому же – в экспортном применении.
Любопытна и стилистика этих умозрительных рейтингов. Она вполне архаична и народна. Наш-то, наш-то… Утер нос немчуре и лягушатникам!.. Так в пролетарских гаражных застольях говорят о знакомом башковитом рационализаторе – мастере цеха. «В Америке Степаныч давно бы стал миллионером»…
Собственно, через двадцать лет эта стилистика стала государственной политикой – в сталинской борьбе с низкопоклонством перед Западом, идейный толчок которому дало письмо вождю от академика П. Л. Капицы…
И собственно, «европейские» восторги по адресу Преображенского – априорное признание чужих приоритетов при не очень, зачастую, глубоком знании предмета – калька с сегодняшних либеральных настроений.
Но есть пространство пиара, а есть – быт, реальность, человеческие отношения.
Уже первое появление профессора в повести сопровождается поступком, мягко говоря, не европейским. Преображенский покупает в кооперативе краковской колбасы: приманить бродячего пса. «Размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель…» У профессора, европейского светила, даже не возникло мысли утилизировать обертку в карман роскошной шубы, чтобы донести до урны. Или мусорного ведра дома.
Известный эпизод с приходом домкомовцев. Когда на профессора начинает очень уж наезжать с «уплотнением» Швондер, Филипп Филиппович прибегает к «телефонному праву». Он звонит своему пациенту, большому начальнику (в тексте повести его зовут Виталий Александрович, в фильме – Петр Александрович, «Петр» – «камень», то есть Каменев, тогдашний московский градоначальник, актер, однако, напоминает Сталина). И по сути, шантажирует пациента невозможностью провести операцию. Громко и демонстративно. Тут ведь не одни «понты» – разумеется, профессор решил бы свой вопрос, не прибегая к публичным имиджевым эффектам. Пахнет и разглашением врачебной тайны – собственно, ни для кого не секрет, что Филипп Филиппович делает «операции по омоложению», то есть возвращению сексуальной потенции.
Но это цветочки. Вот что говорит профессор пациентке:
– Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого – пятьдесят червонцев.
Из этой реплики можно вывести всю историю совкового дефицита, теневой сферы услуг и бесчинств торговой мафии в годы «застоя». Вспомним жуликоватого персонажа Андрея Миронова из фильма «Берегись автомобиля», делягу из комиссионки. Да, имеется магнитофон, который вам нужен, но это будет стоить дороже, у меня вдруг изменились обстоятельства…
А собственно, почему «лишь в крайних случаях»? Да потому, что у профессора нет лицензии для врачебной деятельности в домашних условиях. С кучей разрешительной документации, строгой банковской отчетностью, возможностью контроля соответствующими ведомствами… Перед нами целый уголовный букет: вымогательство, незаконное предпринимательство, связанное с угрозами жизни и здоровью, уклонение от уплаты налогов, преступная группа (ассистент доктор Борменталь, медицинская сестра Зина) и пр.
И это при советской власти, которую Преображенский несет и хвост и в гриву, явно наслаждаясь собственными инвективами. Да любая европейская фемида при таких исходниках ущучила бы профессора по всей строгости, не посмотрев на мировое – если даже оно и впрямь имеется – имя…
Далее профессор открыто предлагает Швондеру взятку – поскольку в тогдашней Москве «купить комнату» непосредственно через домоуправление можно было только одним способом.
Собственно, интерпретировать «Собачье сердце» как вдохновенный гимн рвачеству и коррупции можно с куда более существенными основаниями, нежели в качестве притчи о социальном антагонизме. Или баллады о скромном обаянии и несгибаемом достоинстве буржуазного спеца-интеллигента.
А если бы Швондер поддался на профессорские соблазны и коррумпировался? У меня относительно дальнейшего нет сомнений: Филипп Филиппович снова снял бы телефонную трубку и сигнализировал бы куда следует… И перспектива перед бытовым разложенцем замаячила бы вполне соловецкая. Не спасло бы ни социальное, ни национальное происхождение. Вот вам и социально близкие… А Преображенский не получил бы даже читательского осуждения. А только одобрение. И не от одних фанатов Навального и проекта «Роспил».
Вот любопытно, почему незамеченной остается «коррупционная составляющая» знаменитой повести? А надо полагать, слишком естественным (а никак не революционным) кажется читателю декларируемое в СС положение вещей. Кроме того, Филипп Филиппович Преображенский и его модель поведения – настоящий идеал российского прогрессиста. Кто из них не мечтает о таком положении в социуме, которое позволит иметь неприкосновенный статус, деньги и связи, возможность «решать вопросы», «зарабатывать», нести по кочкам власть и народ в «Фейсбуке» и демонстрировать превосходство и первородство? Нет, можно, конечно, поменять и идеологию вслед за сменой пункта служебной прописки – за нами и это не заржавеет, далеко не каждый креакл имеет уникальную специальность и европейское имя… Но предпочтительней все же высокое социальное положение, коррупционность и оппозиционность в одном флаконе – по-преображенски.
А народ, натурально, воспринимает эту модель как естественную уже без всяких рефлексий.
Но продолжим, галопом по европейству. В знаменитых монологах о разрухе нет ничего интеллигентного, они глубоко национальны и восходят к определенному фольклорному полю. Это жанр устного народного творчества, называется «поливом»; признанным мастером полива является, например, В. В. Жириновский. В свое время в каждой пивной и рабочей бендежке имелся такой народный резонер-работяга, разоблачавший по любому поводу известные ему власти – от сменного нормировщика до предсовмина Косыгина… Вот и профессор свой полив начинает не с критики чистого разума, а с калош – чисто персонаж Зощенко.
Ни в какую, конечно, интеллигентскую традицию не вписывается бесконечное третирование Шарикова. Это скорее разрыв – и оглушительный – с мейнстримом русского разночинного народолюбия.
И только единожды профессор Преображенский звучит в унисон с некоторыми деятелями тогдашней Европы: «Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы».
Знакомо, да? Именно тогда в Германии делает успешную политическую карьеру некий Адольф Алоизович Г., будущий хозяин материковой Европы и людоед, озабоченный примерно тем же набором из вульгарного прогрессизма, обернувшимся лютым расизмом.
Несколько слов о своеобразном единстве и борьбе социальных якобы антагонистов.
Полиграф Шариков с трудом обживает новое для него пространство: грубит (а хамские «поливы» Преображенского, конечно, образец политкорректности); выпивает (но и Филипп Филиппович вовсе не пример трезвости), дает волю естественным проявлениям полового инстинкта (медицинское светило делает на этих инстинктах нехилый бизнес).
Еще он читает книги, играет на музыкальных инструментах, посещает зрелищные мероприятия, пытается следить за собственной внешностью… Так ведь и у Преображенского схожий культурный багаж и досуг. В чем отличие? Разве что во вполне условной границе между «попсовым» и «продвинутым»…
А помимо этого Полиграф Полиграфович, вполне по-европейски, едва став человеком, озабочен своими правами. Более того, он переводит развитие собственной индивидуальности в цивилизованную, юридическую плоскость (вплоть до подачи судебного иска). Требует документов, встает на воинский учет, настаивает на решении жилищного вопроса, поступает на службу. Может, не слишком благородную, но важную и нужную в плане инфраструктурного благоустройства.
Таким образом, в свете непредвзятого анализа, мы видим, что популярная повесть Михаила Афанасьевича – не только памфлет и гимн, но убедительный манифест социал-дарвинизма. Когда взаимная ненависть в обществе не имеет ни четкой социальной природы, ни рациональных обоснований, ни внятных мотиваций, ни нравственных ориентиров, а лишь глубоко индивидуальные (или групповые) представления о мире и прогрессе.
Но дело не только в этом – Булгаков нащупал механизмы будущих гражданских войн. Михаил Афанасьевич вел свою писательскую генеалогию от Гоголя и, конечно, помнил «Тараса Бульбу» – «Я тебя породил, я тебя и убью». Причина была веской и окончательной – предательство веры и родины. А какова она в трагическом конфликте Преображенский – Шариков?
Вот именно.
Не «Плотом» единым, или Юрий Лоза как репортер подсознания
Мое личное, не скажу – потрясение, аккуратнее замечу – недоумение, по результатам прошумевшего в Сети «лозагейта».
Оказывается, из всего не слишком обширного, но знакового для определенной эпохи творчества музыканта и певца культурное сообщество помнит только одну песню – «Плот». Тут очень хотелось бы сказать – «главным образом благодаря фильму Алексея Балабанова «Груз 200». Но нет, «Плот» – явно добалабановские пласты коллективной памяти.
Если адвокаты «роллингов» и «Лед зеппелин» припоминали Юрию Лозе исключительно «Плот», то адвокаты самого Юрия Эдуардовича (они, куда малочисленнее, тоже были) ностальгически добавляли в топ «Мать пишет» и «Я умею мечтать» – фигурантов той же кустарной флотилии. Ну, как у мальчишек из «Школы» Аркадия Гайдара, которые играли в морские сражения в тихих арзамасских прудах, был «дредноут» – массивный плот, а в фарватере шла «миноноска» – опрокинутая на воду садовая калитка.
Вообще-то, если даже единственная вещь отдельного художника столь намертво впечатана в национальное (под) сознание – само по себе результат выдающийся. Но сводить Лозу исключительно к «Плоту» – неправильно даже не по отношению к самому певцу, от него не убудет (в конце концов, тут извод пожизненной, преследующей его невезухи, о чем ниже); это системная ошибка, препятствующая целостному пониманию страны и нескольких ее поколений.
Пару лет назад Юрию Лозе исполнилось шестьдесят, а сам юбиляр продолжал на тот момент навсегда оставаться в советских восьмидесятых.
Сопоставление этих цифр неожиданно дает эффект совершенно шекспировский, «порвалась дней связующая нить»; то небывалое десятилетие с его Афганом, русским роком и нерусским диско, хет-триком генсеков в гробу, Чернобылем, перестройкой, антиалкогольной кампанией, «Огоньком» и всем оглушительно затем последовавшим – оказывается совсем рядом.
Легендарный первый альбом, «Путешествие в рок-н-ролл», он записал в 1983 году, своеобразный итог десятилетию подвел в 88-м, альбомом «Что сказано, то сказано». И кажется, с тех пор почти не писал новых песен, во всяком случае, хитов и шлягеров, стремительно уходивших если не в народ, то во двор.
И гимнов.
Потому что «Девочка в баре» была именно гимном, а народные вокруг нее дискуссии – сугубо идеологическими, как и положено гимнам. Официоз в лице учителей и родителей, комсомола и статей в «Комсомолке» влиял здесь опосредованно, чистого творчества масс было больше.
Стоило на школьном «дискаче» дождаться частичной утраты взрослыми бдительности, погасить верхний свет и врубить «Девочку» (в неизменно плохом качестве), как до трети сверстников возмущенно покидали спортзал, превращенный в танцпол. То же сопутствовало и вечеринкам «на хатах» – девчонки протестовали хором, и вместо танцев с обжиманцами начинался долгий и бесплодный русский спор вокруг героев и формулировок.
Пожалуй, сейчас уже надо напоминать, о чем идет речь – и это тоже в традициях русских гимнов.
Пустячок, на нынешние деньги, зарисовка в три куплета; принципиальны, собственно, первый и второй, третий – уже повторение пройденного:
Девочка сегодня в баре, девочке пятнадцать лет. Рядом худосочный парень – на двоих один билет. «Завтраки» за всю неделю, невзирая на запрет, Уместились в два коктейля и полпачки сигарет. Девочка, конечно, рада, что на ней крутые штаны. Девочку щекочут взгляды, те, что пониже спины. Девочка глядит устало – ей как будто все равно, Мол, узнала, испытала все уже давным-давно.Прежде всего, наблюдение лингвистическое: одно из первых в масскультуре появление эпитета «крутой», общеупотребимого с тех пор уже три десятилетия. А смущал тогдашних сверстников героини, конечно, не ее возраст – все мы ощущали себя не менее взрослыми. И не сигареты – по сходным причинам. Даже не бар с его антуражем и намеки на прыщавый тинейджерский эрос. Тоже знали: пусть злачное одновременно манит и стремает, но предстоит в самом ближайшем будущем, никуда не деться.
Напрягало вот это: «Все узнала, испытала, мол, уже давным-давно».
Ну, ясно же, что именно она узнала-испытала. Вопрос, когда начинать половую жизнь и кто из знакомых (преимущественно барышень) ее уже начал, стоял тогда необычайно остро.
Лоза, предусмотрительный, расставил по фразе маячки маркеров («как будто», «мол»), да и вообще выражение пресыщенного «кисляка» – первое в арсенале провинциальной кокетки, будь ей хоть пятнадцать, хоть сорок пять. (Мелирование и прическа одинаковы, аналогично же первоначальное внимание всегда достается заднице.)
Но абсолютно в нравах той эпохи было путать имитацию с констатацией.
В припеве было про маму-папу («мама, держись, папа, дрожи, / если будет каждый вечер такая жизнь»), а «такая» жизнь предсказуемо переходила в жизнь «сладкую». И эта тревожная русская дольчевита явно оппонировала безмятежной итальянской «феличите», сверхпопулярной в те же года глухие.
Юрию Лозе страшно не везло с идентификацией.
«Путешествие в рок-н-ролл», альбом (тогда, естественно, говорили – «концерт») абсолютно авторский и записанный, что называется, в одно лицо, присвоили люди из полувиртуального ансамбля «Примус». (См. соответствующую главу из книги Александра Кушнира «100 магнитоальбомов советского рока».) И под этим лейблом, стремительно становящимся брендом и символом всего лихого и запретного, он разлетался по стране.
Лучший его, 1984 года, альбом «Концерт для друзей», тоже поначалу атрибутировали «Примусу». Потом, сообразив, что звучание отнюдь не рок-н-ролльное, а практически бардовское, подписывали на кассетах или совсем простецкое – «Лазарев», или, с шансонно-эмигрантским привкусом – «Лозоновский». По поводу «Юрия» разночтений, впрочем, не было. Баллада «На маленьком плоту» еще не прозвучала ни в телевизоре (передача «Мир и молодежь»? или в самом «Взгляде»?), ни в балабановском «Грузе 200».
Кривились и эстеты, адепты чистого рок-искусства. Артемий Троицкий приклеил материалу Лозы ярлык «паб-рока» и остроумно обозвал его песни «Зоопарком» для бедных…
Тогдашний снобизм оборачивается сегодняшним либерал-дарвинизмом; собственно, Троицкий уже тридцать лет назад разделил свой мир на «креативный класс» и «быдло» с «анчоусами».
Принципиален тут не «Зоопарк», а именно «бедные», то есть мы – ребята из малых промышленно-криминальных городов, скоро и болезненно мужавшие в своих общеобразовательных школах, во дворах и секциях единоборств.
Наверное, героями и иконами для нас работали парни, которых к року отнести можно с известной натяжкой и поправкой на время. Но сказали б вы про это нам тогда…
Конечно, «Аквариум», «Зоопарк», ДДТ и пр. появились, как им и положено, в свое время, то есть чуть позже. Но с Лозой они и тогда не пересеклись, вернее, совпав эпохой, разошлись в географии. Коллизия и сегодня актуальна: в тех самых городках, утративших промышленность, но приумноживших криминал, можно попасть и в 50-е, и в 70-е. Преобладают, однако, 80-е, опрокинувшиеся в вечность.
Лоза оставался и на этом фоне самым загадочным и одновременно очень своим.
Понятно, что другим он быть и не мог – окраинное детство на окраине империи (Казахстан, Алма-Ата), двор, футбол, победившая футбол гитара, армия… Где, чтобы избежать казарменных лютых будней, отыскал «нычку» и в две недели выучился играть на трубе… Суматошная жизнь ресторанного лабуха, миграция с провинциальными ВИА по филармониям (с удовольствием отмечаю саратовский след – пятилетку в знаменитом «Интеграле»).
Но, собственно, дело не в биографии.
Каждый из нас наблюдал сцены у магазинов (с конфузливой вывеской «Вино») перед открытием. У всех была своя «баба Люба»; знали, что если чей-то «папа к подъезду пригнал «жигули», праздник у семьи будет недолог. Догадывались, на какое там «Веселье новогоднее», расфуфыренные, предвкушая, отправляются «родичи» и старшие братья-сестры.
У всех по соседству жила, грешная и независимая, в регулярных пересудах, героиня песни «Ты подойдешь, большой и теплый».
Лоза был даже не очеркистом, а репортером, однако присутствовал в его простецких, казалось, репортажах, дополнительный слой – злой и штрихпунктирный голосишко народного подсознания. Который вел свой мотив – стремительно обессмысливающегося существования, неизбывной, как зубовная боль, тоски, надрыва, который прорывом не обернется никогда.
Он возникал в «Исполнительном листе», когда за побулькиванием какого-нибудь синтезатора «Соловушка» отчетливо слышался стук апокалипсических копыт. В «Большом и теплом» блатной клавишный проигрыш звучал саунд-треком общего дурного сна. Интересно, что Лоза, умевший неплохо, а подчас и лихо рифмовать, не смог обеспечить рифмами последний куплет этой песни – и в финале сновидческое и подсознательное ощущалось почти вещественно.
Я не раз писал: две эти вещи адекватнейше вписались бы в «Груз 200» Алексея Балабанова. Великий режиссер выбрал лейтмотивом позднесоветского распада и клиники нейтральный и даже оптимистично звучащий «Маленький плот». Видимо, Алексей Октябринович гениальным своим чутьем угадал вещи, имманентно свойственные творчеству Лозы. Не только его «подпольных» альбомов.
В последующие несколько лет, уже в составе ансамбля «Зодчие» (среднепопулярного в 80-х, несмотря на Лозу, Юрия Давыдова и Валерия Сюткина в составе) он пытается либо повторить успех прежних хитов, либо нащупать свежие темы.
Задуманная как мужской вариант «Девочки в баре» песенка «Ах, какие ножки» гимном не стала; сильный репортаж (с похорон!) «Она лежала на столе» не сделался откровением, но, собственно, ставку в альбоме «Любовь, любовь» Юрий Эдуардович делал не на повтор, а на прорыв – он сочинил несколько эротических песен.
Как бы про них сказать необидно? В общем-то, тут опять случился примус (уже в латинском понимании, «первый», – все же творчество группы «Оберманекен» не выходило за пределы узкой столичной тусовки, а «Розовых двустволок» придумал журнал «Урлайт»). И вульгарными эти песни не были, вкус и мера автору не изменили, однако ощущение было как от ребенка, который пытается произносить взрослые слова розовым неумелым язычком. Родители умиляются, все прочие – нет.
Хорошо, что этих песен почти не заметили.
Сегодня Юрий Эдуардович – популярный блогер, и тут нечего добавить, кроме того, что он оказался в знаковом ряду: положим, и Юз Алешковский в песнях умнее самого себя-прозаика.
По сути, карнавальный и по-своему бескомпромиссный наезд в передаче «Соль» на монстров рока – попытка камбэка, трогательное желание опрокинуться опять в родные 80-е. Собственно, нехитрую мысль про роллингов и зеппелинов (равно как про их оппонентов «Битлз» и «Дип перпл») мне приходилось слышать десятки раз, и не обязательно от музыкантов. Это вообще элемент русского застольного фольклора, а ключевая черта перестроечной эпохи – перенос пьяного трепа («радикализма за стаканом», по выражению Карла Радека) в публичное пространство, с десакрализацией икон, символов, авторитетов и самого этого пространства.
Однако, исключая вполне штучный выпад, сама по себе жизненная стратегия Юрия Лозы – активно поучаствовать в формировании одной эпохи, чтобы наблюдать, уже посторонним, эпохи последующие, – непривычна и оригинальна. Почему-то она представляется весьма достойной.
Четвертый брак Михаила Булгакова (вокруг авторства «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка»)
Дмитрий Галковский, в представлениях не нуждающийся, написал по-своему выдающийся букет постов, укрепляющих идею «Михаил Булгаков – подлинный автор «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка».
Тема, кстати, не нова, что-то подобное несколько лет назад обсуждали в «Литературной России», довольно хило, и, конечно, размаха и безумия масштабных проектов вроде «Плагиат «Тихого Дона» и «Убийство Есенина» это близко не достигало. Так, побулькивание.
Не достигает, впрочем, и при деятельном участии Галковского, хотя его работа сделана местами блестяще, на том самом уровне, на котором единственно может быть осуществим жанр «телеги» (расшифровать его, и весьма приблизительно, можно как интеллектуальную спекуляцию).
Странно, но в «Фейсбуке» мне пока не попалось сколько-нибудь заметных откликов на галковскую «булгаковиану»; но, может, не теми тропами здесь хожу.
Зато понятно, почему Дмитрий Евгеньевич вытащил из интеллигентского мейнстрима эту, в общем, довольно заурядную версию. Как раз заурядность ее обсуждения, видимо, подвигла мастера «реально все накрыть и объяснить». Типа: щас я вам тут наслесарю.
Но главное, она вписывается в одну из его магистральных концепций: сумрачный русский гений из-под глыб умеет сделать в невозможных условиях все по-настоящему великое, включая культовые романы советской (в подтексте – «еврейской») интеллигенции. Сделаться в этом проекте одновременно Бендером и Корейко.
Выскажу по этому поводу несколько соображений.
Можно долго заниматься текстологическим анализом – и результат будет всегда неокончателен, можно говорить серьезные вещи о контексте эпохи (но Галковский сам, великолепно спекулируя, отрабатывает сей инструментарий). Можно ловить его на фактических ошибках и ляпах (имеются в достатке).
Но кажется, лучше обойтись здравым смыслом и – отчасти – психосоматикой.
Во-первых, оба романа явно написаны двумя людьми, маленькой бригадой (ну и Катаев, от бригадирства отказавшийся, как Потапов от премии) и соответствующим подрядом.
Заметен именно проектный, инженерный, промышленный подход. Дело даже не в разнице талантов, отпущенных каждому из авторов, важен сам феномен игры в четыре руки.
Доказательство чему – необычайная плотность текстов и одинаковая архитектура романов. В «Мастере и Маргарите» тоже сделана ставка на штучную, эрегированную фразу, но такой плотности и близко нет, целые страницы идут «белым шумом» – писал один человек, с трудом удерживавший тяжесть романа всего в двух усталых жилистых руках. А словесная ткань романов Ильфа – Петрова – сверхплотное и, главное, монохромное вещество.
Может, единственный в мировой литературе пример такой урановой плотности.
А то, что Ильф и Петров потом писали в газетах всякую чушь, ни о чем не говорит. (Фельетонистика Булгакова двадцатых тоже ничем шедевры его не напоминает.) Зато они в 32-м придумали в качестве псевдонима мем «Толстоевский», которым потом многие, включая Набокова, пользовались.
Во-вторых, мало того что эти романы написаны людьми совершенно лояльными (Булгаков, конечно, вовсе не был чужд актерства, но на таком градусе лояльность не подделаешь, он и в «Батуме» не пытался), важнее, что писали эти вещи люди, искренне верящие в «прогресс», ироничные левые либералы, и такой строй мысли и речи глубокому консерватору Булгакову был чужд онтологически.
Кроме того, писали «Стулья» и «Теленка» совершенно здоровые ребята, крепкие душевно и психологически. (Надежда Мандельштам обозвала Ильфа и Петрова «молодыми дикарями», очевидно имея в виду и физическую мощь, наготу с толикой гимнастики и жеребятины.)
Булгаков к 27-му году – тяжелый невротик, диагностировавший у себя неврастению, в состоянии, близком к патологии, с морфинизмом в бэкграунде. И представить себе, что он одновременно пишет «Золотого теленка»: «Жулики притаились в траве у самой дороги и, внезапно потеряв обычную наглость, молча смотрели на проходящую колонну. Полотнища ослепительного света полоскались на дороге. Машины мягко скрипели, пробегая мимо поверженных антилоповцев. Прах летел из-под колес. Протяжно завывали клаксоны. Ветер метался во все стороны. В минуту все исчезло, и только долго колебался и прыгал в темноте рубиновый фонарик последней машины. Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями», – и письмо Сталину, где характеризует собственное состояние как «ужас и черный гроб», – просто невозможно.
А если принять версию Галковского (и не только его) о Михаиле Булгакове как авторе «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», придется признать, что куратор сего проекта не Валентин Катаев, а Иосиф Сталин.
Вот что писал вождь справедливо забытому литератору В. Билль-Белоцерковскому (тот написал донос на Булгакова, плохо закамуфлированный заботой о судьбах советской драматургии).
Сталин его увещевает:
«…Или, например, «Бег» Булгакова, который тоже нельзя считать проявлением ни «левой», ни «правой» опасности. «Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, – стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. «Бег», в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление.
Впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему «честные» Серафимы и всякие приват-доценты, оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою «честность»), что большевики, изгоняя вон этих «честных» сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно».
01.02.1929 г. – обращаем внимание на дату и понимаем, что «первый сон», предвосхищая пожелания вождя, «Булгаков» уже написал – «Двенадцать стульев» (и отметим, как мощно там заявлена эмигрантско-белогвардейская тема, и отчаянно высмеяна). А второй – «Золотой теленок» – с изображением «внутренних социальных пружин гражданской войны в СССР» и изгнания вон «сторонников эксплуатации» – как раз тогда, видимо, и продумывался.
Конечно, сталинский замысел разросся и отчасти трансформировался, но так ведь на то и «Булгаков». Великий писатель.
«Двенадцать стульев» / «Золотой теленок» & «Мастер и Маргарита» – безусловно, явления кое в чем созвучные – и не зря чрезвычайно чуткий Эдуард Лимонов ставил их в один ряд, вовсе не имея в виду версию общего авторства.
Парадокс здесь в том, что это не из «Мастера» вышли «Стулья» с «Теленком» (то есть не Михаил Афанасьевич сочинил авантюрно-юмористические романы под псевдонимом «Ильф и Петров»), а, напротив, «Мастер и Маргарита» писался под явным влиянием дилогии о Бендере.
Возьмем два лучших, на мой субъективный взгляд, прозаических текста Булгакова – «Белую гвардию» и «Театральный роман (Записки покойника)».
Что-нибудь в них напоминает ДС и ЗТ? Помилуйте! Это явления инопланетного порядка.
Во всем – в генезисе, разворачивании фабул, способе повествования, настроении, персонажах и пр. Любопытно, что писались внутренне очень близкие «Белая гвардия» и «Театральный роман» с разницей в дюжину лет.
Эпоха, в середке которой как раз поместились триумфы Ильфа – Петрова.
Возьмем две самые знаменитые сатиры Булгакова 20-х – памфлет «Собачье сердце» и неаппетитную фантастику «Роковые яйца».
О первой сказано много, вторая менее раскручена; сюжет ее восходит к мегапопулярному тогда Уэллсу. И эти вещи ничем не напоминают «Стулья» и «Теленка», генезис которых, при всей фабульной зависимости от тогдашнего западного бульварного чтива («Шесть наполеонов», это понятно, но мальчиками Илья Ильф и Евгений Петров во множестве читали авантюрные романы с продолжениями в «Синем журнале», «Вокруг света» и пр.), вполне национален – юмористика одесситов стилистически растет из Тэффи и Дорошевича, оригинальной ее делают лошадиные дозы не столько одесско-еврейского, сколько вообще южнорусского колорита.
А вот «Мастер и Маргарита» – тут да, московские главы явно делались с оглядкой на стилистику и громкий успех, как минимум, «Двенадцати стульев» (и еще «серапиона» Зощенко).
Москва отражается и плывет в романах, как в трельяже, с ее жаркими закатами, репродукторами, извозчиками, «попал под лошадь», липами… Персонажи из одного трамвайного инкубатора – управдомы, буфетчики, администраторы, гражданки в беретиках. Фразы, звучащие одной джазовой мелодией, даже импровизации не слишком затейливы.
Думаю, Булгаков, всерьез рассчитывавший напечатать роман, отрабатывал здесь именно коммерческую составляющую будущего успеха – сработавшее у Ильфа и Петрова не могло не сработать у него, куда более значительного писателя, в книге, куда более, по его замыслу, глобальной и всеобъемлющей.
Лыко в строку – «политика»: власть, в общем, приветствовала антитроцкистские романы тандема, а уж роман просталинский должна была вознести до неба в алмазах.
Михаил Афанасьевич предполагал так, а может, не так, но думаю, прежде всего из общего тренда «Мастера», «Стульев» и «Теленка» родилась ныне всерьез обсуждаемая версия об одном авторе.
Поэты, играющие в прятки («Тринадцатый апостол» Дмитрия Быкова: вокруг полемики)
Книги Дмитрия Быкова о поэтах – последовательное разрушение не только биографического жанра, но и границ литературоведческих резерваций. Как бы Дмитрий Львович ни ругал и ни осмеивал в молодые горячие годы постмодернизм, здесь он сам выступает как целеустремленный и жестокий деконструктор.
«Пастернак» был вполне кондиционной ЖЗЛ, хотя и в безошибочно-быковском исполнении, с интерпретациями и фантазиями. «Окуджава», вышедший в аналогичной серии, уже частично из канона выпадал. Биографическая линия, да, еще разматывалась вполне нарративно, однако концентрация смыслов вокруг ключевых дат (конец 30-х, ранние 60-е, 93-й год) подобное разматывание почти отменяла, а главная идея книги – об Окуджаве как о последнем русском символисте и новом воплощении Александра Блока – выглядела в ряду ЖЗЛ весьма вольной.
Впрочем, и сама серия в последние десятилетия демонстрирует немало примеров и не такой воли.
Тем не менее недавно увидевший свет «Тринадцатый апостол. Владимир Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях» (Молодая гвардия, 2016) даже в такую вольную ЖЗЛ не поместился, как много где не помещался Маяковский, да и был выпущен «Молодой гвардией» как героический нон-фикшн, вещь в себе. Все верно – биография и литературный портрет (а в нашем случае портрет-реконструкция) – явления вовсе не родственные; Быков сделал именно реконструкцию пути Владимира Маяковского, в координатах, намеченных Бабелем, – «поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце». Галина Юзефович издателей поддерживает: «Поступили осмотрительно и гуманно – по сути дела, книга эта не биография, но циклопическое (на восемьсот страниц) расхристанное эссе, плохо отредактированное и, похоже, местами ни разу не перечитанное самим автором. Не связный рассказ, но все, что Быков когда-либо читал, слышал, думал или только собирался подумать про Владимира Маяковского. Поэтому не слишком удивительно, что первое впечатление от погружения в книгу – абсолютный хаос»…
Тут не то чтобы хочется, а необходимо возразить. Обвинение в неряшливости мне кажется совершенно беспочвенным – даже по первому прочтению (относительно которого оговаривается и Галина Леонидовна). Напротив, непосредственная реакция – восхищение, которое относится не столько к фактуре, сколько к композиции (закольцованной самоубийством, «револьвером Маяковского»; но и, помимо того, выстроенной четко, системно, по принципу навигатора). Затем – методу и стилю; тому, что я рискну назвать «апофеозом вовлеченности».
А вот уже глубоко в процессе читательский глаз начинает замедляться, цепляться, возникает раздражение и желание спорить… Безусловно, есть вопросы к редактуре – еще одна, финальная, точно не помешала бы (как любой сегодняшней книге любого жанра). Да, Быков, увлеченный, нередко повторяется, а то и опровергает сам себя через очередную полусотню страниц – но ведь и это не издержки, а скорее свойства метода… Имеются закономерные, по сути, провисания фабулы – автор оговаривается, что герой его большую часть жизни сочинял, выступал и ревновал – экшна маловато.
Если не считать Революции; Дмитрий Львович, вслед за эссеистом Александром Гольдштейном утверждает, будто Маяковский с какого-то момента «в одиночку, средствами своего слова, извлекаемого из ресурсов плоти («мяса», как он бы сказал), воссоздал революцию в ее перманентном энергетическом рвении, в несгораемой экспансии ее существования. Изгнанная отовсюду, она обреталась отныне нигде, кроме как внутри самого поэта, в его гортани. (…) Можно смело сказать, что Вл. М. был в то время единственным прибежищем левой цивилизации. (…) Он держал Революцию, как чашу с собственной кровью. И был Спасителем исчезавшего мира, целиком его взяв на себя, ибо сей мир больше некому было доверить – даже его основателю, безмерно уступавшему поэту в радикализме».
Таким образом, «ужасный конец» имеет еще и историософское измерение, а для Быкова, пожалуй, в Маяковском главное.
1
«Тринадцатый апостол» собрал пышный, по нынешним, бедным на рецензии, временам, букет откликов – их весьма дотошно каталогизировал Владимир Панкратов в статье для сетевого журнала «Сигма». Мне особо хотелось бы отметить наиболее знаковые и эмоциональные: рецензию Бориса Парамонова на «Свободе», где мэтр либерально-постмодернистской мысли, оставив статусную иронию, в каком-то даже кудахтающе-сварливом тоне гвоздит Быкова за апологию революции. И – заметку Захара Прилепина на «Свободной прессе», «Тринадцатый ять», где Прилепин, во-первых, справедливо диагностирует, что «Эмма – это я», то есть Быков писал Маяковского во многом с себя самого. («Адская жизнь невротика, рассказывать почти нечего: все время занять, ни на секунду не остаться одному. Потому что сразу же мысли – о старости, деградации, невостребованности; иногда и страхи, не философские, вполне буквальные. Ни минуты безделья: все время писать, брать задания, распихивать тексты по редакциям» – так Быков пишет о Маяковском, но мы же узнали вас, Дмитрий Львович, вы тут как живой.) И во-вторых, Прилепин столь же обоснованно заявляет, что антисоветские и шире – антирусские – штампы смешны и попросту неприменимы в серьезном разговоре о Маяковском.
«Нет, книжка Быкова конечно же часто хороша: тем, что автор отлично описал Маяковского как поэта и Маяковского в постели, Маяковского на диспуте и Маяковского в отношениях с коллегами по ремеслу.
К несчастью, там почти не осталось места для Маяковского, уверовавшего в коммунизм.
То есть он вроде верит, но в связи с чем, почему, откуда это у него взялось, не ясно».
«Верил ли Маяковский в интернационал? Верил. И вместе с этим видел экспансию – пусть и коммунистическую, но исходящую из России, и готов был стать певцом этой экспансии, и стал».
Драматическое зависание: пожилой либеральный философ и вроде как единомышленник бранит за революционную ересь и недоумевает, к чему вообще было городить огород. А молодой «вождь краснокожих», некогда личный друг и мировоззренческий враг, пишет сатирическую рецензию на ту комедию положений, которую легко считал в идейной чересполосице «Тринадцатого апостола».
Для автора-матадора, каким Быков бывал в молодости, эта ситуация между двух огней, перекрестного обстрела, стала бы высшим комплиментом книге. Но сегодня Быков определяет себя иным образом, внеэстетическим во многом, ему необходимы лагерь и берег, «артиллерия бьет по своим» – эпизод не из его сегодняшней войны.
А главное – в противоположных откликах угадывается та самая имманентность, о которой так любит рассуждать Быков и которую высмеивает Прилепин, – межеумочность, двусмысленность, отсутствие определенности, свойственные никак не Маяковскому, а Дмитрию Львовичу и – как следствие – его книге. Сочинять еще одну рецензию на «Тринадцатого апостола» я полагаю излишним, но еще раз порассуждать о клубке сложных явлений – Быков, Маяковский, литература, политика и идеология, – рискну, предложив относительно свежие ракурсы.
2
Старый школьный анекдот начинался прелестной фразой, в чем-то предвосхитившей метод Быкова: «Поэты в прятки играют…»
Снова Галина Юзефович: «Конечно, читателю (и почитателю) изысканно выверенного «Пастернака», в котором не было ни одной лишней строчки, трудно смириться с этой хаотической мощью. Однако если отрешиться от собственных ожиданий, то окажется, что «Тринадцатый апостол» книга в некотором смысле не менее замечательная – и уж точно не менее важная».
Мысль эту хотелось бы продолжить вопросом, обращенным даже не к Дмитрию Быкову, а в тот департамент мировых стихий, что распоряжается делами и стратегиями русской литературы. С кем из поэтов в дальнейшем сыграет он в эти прятки на поле биографического жанра?
И для меня ответ очевиден – Лимонов.
Во всяком случае, это прямо следует из «Тринадцатого апостола», который при всей циклопичности, согласно фабуле, заявленной Быковым вслед за Борхесом («самоубийство Бога»), прямо-таки нуждается во втором томе, взыщет ремейка, где несчастному самоубийце противостоит счастливый Творец. Персонаж схожего генезиса, близкого опыта, родственных социальных и творческих практик, но иного способа существования, выживания, а главное – преодоления. «Говорят, где-то – кажется, в Бразилии – есть один счастливый человек!» – но ведь и впрямь Лимонов будет счастлив везде, в Бразилии – особенно.
Занятно, что в огромном «Тринадцатом апостоле», на фоне сотен имен, Эдуард Лимонов упоминается единожды, и то в связи не с главным героем, а с Горьким. Однако меня не покидает ощущение, что многолетняя быковская работа делалась с оглядкой на лимоновскую судьбу, в которой так соблазнительно разглядеть Маяковского-победителя.
И хранителя – Революции в самом себе. Так, не случайно и подчас навязчиво звучат у Быкова дефиниции («самурайство», к примеру), принципиальные именно для Лимонова, чья настольная книга – «Хакагурэ» Дзето Ямамото. Александр же Гольдштейн, этот еврейский Константин Леонтьев, среди определений русской революции, которые так пошли бы Маяковскому, вворачивает лимоновское «Белая моя белая, красная моя красная», уже и не называя автора.
Быков назначает наследниками Маяковского ряд молодых поэтов (закрадывается мысль: главный для него принцип здесь – не столько ученичество, сколько «ужасный конец», трагически оборвавшаяся жизнь, даже Михаилу Светлову в относительном благополучии Дмитрий Львович отказывает, а Кирсанов по этому критерию в наследники и вовсе не допущен). Леонид Равич, Николай Дементьев, Борис Корнилов, Александр Шевцов, Сергей Чекмарев, и – наконец, через эпохи, Геннадий Шпаликов. Лимонова нет. Старикам и счастливцам тут не место.
Нет и Ярослава Смелякова, хотя уже в «Любке» («Гражданин Вертинский / вертится. Спокойно / девочки танцуют / английский фокстрот») от присутствия Маяковского трудно избавиться. Но Смеляков написал «эти Лили и эти Оси», а пуще того, про «револьверную ноту фальши» (уж куда как сильнее, чем цитируемый Быковым «Револьвер Маяковского» Евтушенко), потому его такого Быков не хочет вставить в книжку. (То есть вставляет: как жертву – мол, получил бы от Маяка знаменитой его палкой.) А вот игнорирование Лимонова – загадочно.
Ну, чуть ли не на полном же серьезе Быков считал Окуджаву инкарнацией Блока, разница между уходом одного и приходом другого – неполных три года; между Маяковским и Лимоновым – неполных тринадцать лет: для тибетских лам и скитающихся душ – не срок. А географические расстояния, Петроград – Москва, Москва – Дзержинск – и вовсе не принципиальны…
Лимонов преодолел суицидальные настроения молодости, одомашнил, швырнул в творческую топку.
Сел в тюрьму не в юности, а в поздней зрелости, когда уже не сломаешься. Между тем Быков подчеркивает надлом после бутырской отсидки у Маяковского – думаю, он был очевиден и большевистским вождям, в этом, быть может, одна из причин, почему они не считали поэта «до конца своим». Кстати, Владимир Владимирович свое подростковое участие в революционном движении, закончившееся тюрьмой, особо не педалировал, в то время как Эдуард Вениаминович сделал тюремно-лагерные годы ключевым элементом собственной легенды.
Быков: «По меньшей мере дважды – в 1918 и 1927 годах – Маяковский упорно думал о романе. Первый роман, согласно воспоминаниям Триоле, должен был называться «Две сестры» и повествовать об Эльзе и Лиле, о последовательной влюбленности героя в них, об отъезде одной и трудных отношениях с другой. Не осуществилось. О неоконченных отношениях роман писать трудно»…. Это так, но Лимонов написал о незавершенных отношениях не один роман, а несколько: «Эдичка», «Укрощение тигра в Париже», «Анатомия героя» и даже «Дед». В последнем «неоконченность» разрешается забавной вещественной метафорой: «Часть своих трусов Фифи забывает, и они остаются у Деда. Не так давно Дед подсчитал вместе с Фифи, она корчилась от хохота на постели, количество трусов. Было уже отсчитано около сотни, но Дед был уверен, что их больше, и продолжал искать в шкафу, вытаскивая трусы и отделяя их от чулок и лифчиков Фифи, которых тоже скопилось множество. Наконец трусы иссякли. (…) Пересчитав, обнаружили, что трусов 103. Прописью: сто три единицы трусов».
Быков: «В 1927–1928 годах он (Маяковский. – А. К.) рассказывает сразу нескольким собеседницам о намерении написать роман «Двенадцать женщин» – или «Дюжина женщин», что звучит еще грубее».
Замысел, понятно, не осуществлен, но если задуматься, а кто ж осуществил-то, первым придет в голову именно Лимонов. И уж явно избыточный символизм в том, что Лимонов, общавшийся с Лилей Брик и друживший с Татьяной Яковлевой-Либерман, отлично написал про обеих в первой и лучшей «Книге мертвых».
Или вот Хлебников, с которым, согласно Быкову, у Маяковского «получилось не совсем хорошо». Равно как и Александр Блок, которого Дмитрий Львович отдельной главой в «Современниках» не вывел (но присутствует он постоянно), с ним получалось сложно: «Маяковский всю жизнь мечтал ответить Блоку»; «Маяковский любил Блока ревнивой и мучительной любовью. По поводу и без повода читал «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Когда в Одессе летом двадцать шестого Кирсанов не смог продолжить стихотворение, Маяковский взорвался: «Кирсанов! Читайте Блока! Блок – великий поэт, его не объедешь!»
У Лимонова же никаких сложностей – прочитавший «Сашу» и «Велимира» подростком, обоих он считает главными для себя поэтами, «священными монстрами», цитирует по памяти, обширными кусками, в лефортовской камере…
Даже с врагами Эдуарду Вениаминовичу повезло, а Владимиру Владимировичу – нет. Согласно Быкову, Маяковский страдал от того, что Революцию уничтожили, по сути, ее вожди и его друзья-чекисты. Формулировал он несколько по-иному, но трагизм ситуации очевиден, а обобщение напрашивается:
«– С восемнадцатого года меня так не поносили. Нечто подобное писали лишь после первой постановки «Мистерии-Буфф» в Петрограде: «Маяковский приспосабливается», «Маяковский продался большевикам»…
– Так чего вам сокрушаться, Владимир Владимирович? Ругались прежде, кроют теперь…
– Как же вы не понимаете разницы! Теперь меня клеймят со страниц родных мне газет!» (Быков цитирует театрального критика Владимира Млечина).
У Лимонова подобный комплекс совершенно отсутствует. Революционный протест декабря 2011-го слили в болото либералы, которых он всегда терпеть не мог. Мотивом увода протестных масс с площади Революции было присутствие именно Лимонова – и это исторический факт, а не продолжение лимоновской легенды.
Словом, такого рода сюжетов, где Лимонов, как будто нарочно и для смеха, подвергает Маяковского большому жизнестроительному ревизионизму, можно набрать на отдельное расхристанное эссе, но нельзя не сказать о главном. Лимонов, начинавший в том же поле экспериментов русского авангарда через символические пятьдесят лет после Маяковского, в поздних стихах пришел к тому, чего не успел Владимир Владимирович. Быков заявляет, что его герой стремился «писать по-другому», двигался, через детские стихи и агитки, к неслыханной простоте; в качестве лейтмотива регулярно цитирует:
Море уходит вспять море уходит спать. (из «Неоконченного»)У Лимонова, в последние семь лет, вышло шесть сборников стихов, и все они, от «Мальчика, беги» до «Золушки беременной», – стилистическое, да и риторическое во многом – впадение в ересь относительно авангардистского прошлого. А подчас и перманентного бунтарства. То самое «море». У Маяковского в предсмертной поэме вдруг появляется неожиданный для него Древний Рим: «Мой стих / трудом / громаду лет прорвет / и явится / весомо, / грубо, / зримо, / как в наши дни / вошел водопровод, / сработанный / еще рабами Рима». Александр Гольдштейн заклинает, что нет, никакой тут неожиданности, все закономерно: «Маяковский был Вергилием еще одного, совсем небывалого Рима, пророком его концептуального, политического и мистического всеединства».
Лимонов назвал главное свое стихотворение сегодняшнего периода, а вслед за ним и сборник «СССР – наш Древний Рим», явно имея в виду то самое государство, которое началось в 1930 году… Но дело даже не в этом, а в наборе «весомо, грубо, зримо», из которого построена и эта вещь, и многие стихотворения Лимонова последних лет.
Лимонов думал о Маяковском никак не меньше сегодняшнего Быкова и говорил о нем часто и разное. Однако первым делом вспоминается рассказ «Первый панк» из цикла «Обыкновенные инциденты», предвосхитивший по стилистике репортажи советского подпольного рок-самиздата. Маяковский у Лимонова – не главное в русской Революции, но лучшее в России, ее несравнимый экспортный товар:
«Джон Ашбери вынул микрофон из гнезда и выпрямился.
– А сейчас я хочу вам прочесть мой перевод стихотворения одного русского поэта, который был «панк» своего времени. Может быть, первый панк вообще… Очень крутой был человек…
Публика, заинтригованная необычным сообщением, чуть притихла.
– Стихотворение Владимира Маяковского «Левый марш!» – Ашбери поправил шапочку и врубился…
Они слушали разинув рты. Когда Ашбери дошел до слов: «Тише ораторы! Ваше слово – комрад Маузер!» – зал зааплодировал.
– Ленчик! Ленчик! – Я схватил Леньку за руку и дернул на себя, как будто собирался оторвать ему руку. – Слабо им найти такую четкую формулу революционного насилия! Слабо! Даже «Анархия в Юнайтэд Кингдом» ни в какое сравнение не идет! «Ваше слово, товарищ Маузер!» – это гениально! Я хотел бы написать эти строки, Ленчик! Это мои строчки! Это наш Маяковский! Это – мы!»<…>
– НОКАУТ! – крикнул я Леньке. – Наш победил!
– Жаль, Поэт, что он не может увидеть, – сказал Ленька. – Ему было бы весело. К тому же победил на чужой территории. На чужой площадке всегда труднее боксировать. – Может, он и видит, Ленчик, никто не может знать…»
Главное же в том, что Быков, возьмись за Лимонова, легко бы обошел все противоречия и неуклюжести дихотомии «Революция – Советская империя», высмеянные Прилепиным в «Тринадцатом апостоле». Как обошел их Лимонов в «Первом панке».
3
Пишу я, повторюсь, не рецензию на «Тринадцатого апостола», но все же о главном раздражающем свойстве книги сказать необходимо. Оно, естественно, продолжает главные ее достоинства – увлеченность автора героем и вовлеченность в его миры и орбиты. Там, где кончается земная жизнь ВВМ, оптика размывается, хотя Быков всячески поддерживает иллюзию по-прежнему пристального раздевающего взгляда. Вот, скажем, весьма категоричное утверждение, будто Маяковский и все его окружение попали бы под лавину репрессий тридцатых. Так якобы предполагал, точнее, «все понимал», сам Маяковский («Боюсь, что посадят. – Вас? Символ революции? – Именно поэтому»). Но мемуар сей, единственный в своем роде, восходит к Михаилу Светлову, склонному к застольному мифотворчеству, да и звучит в нем позднейший оттепельный опыт.
Дело, собственно, не в оправдании репрессий и не преуменьшении их масштабов и социальных границ. Просто странно, отчего люди, запальчиво утверждающие отсутствие у истории сослагательного наклонения, вдруг разрешают его себе в разговоре о сталинских чистках. Вдвойне странно, почему Дмитрий Быков, написавший сильнейший роман («Оправдание») о метафизике государственного террора, столь уверен в его заданности и механистичности. История, кстати, на вопрос ответила – ближайшее окружение ВВМ от репрессий тридцатых не пострадало, у них случились другие проблемы, и заметно позже…
Но это простительный концептуальный пережим, в гораздо большей степени раздражают неточности контекста. Возьмем еще одного, важнее даже Лили Юрьевны Брик, персонажа книги – Сергея Есенина; из всех помещенных Быковым в «Современники» литераторов именно он и Маяковский – не Хлебников, не Блок и, понятно, не Бурлюк – составляют в народном сознании устоявшийся навсегда тандем, отчасти монументального, отчасти анекдотического свойства и применения. Народ не ошибается: «Из всех современников Есенин был ему (Маяковскому. – А. К.), как ни парадоксально, ближе всех – и по возрасту, и по масштабу», – отмечает Быков.
Вот, скажем, сенсационное открытие: дескать, черный есенинский человек (поэма «Черный человек») – возможно, это и есть Владимир Маяковский. Понятно, что Быков таким образом иллюстрирует идею о двойничестве Маяковского и Есенина (он также остроумно выводит обоих поэтов из некрасовского генезиса – старшему достались гражданская воспаленность и картежная страсть; младшему – деловая хватка и запои), однако открытие это слишком, до комизма, натянуто.
Вот два очевидных, по Дмитрию Львовичу, доказательства. Первое: «Ведь это он (Маяковский. – А. К.) – кто другой? – мог бы ему сказать: «В мире много прекраснейших мыслей и планов…» Да мог бы, наверное, хотя явно не штучная фраза, сказать тогда и такое был кто угодно способен. Однако у Есенина: «В книге (выделено мной. – А. К.) много прекраснейших / Мыслей и планов. / Этот человек / Проживал в стране / Самых отвратительных / Громил и шарлатанов». Как видим, достаточно посмотреть строфу до конца, чтобы убедиться: Маяковский тут и не ночевал, с невозможными для него, послереволюционного, обобщениями. Но суть даже не в неточном цитировании: Черный человек, водя пальцами по мерзкой книге, «читает мне жизнь / Какого-то прохвоста и забулдыги», то есть речь идет никак не о переустройстве Вселенной, но о беспощадном самоанализе.
Второе: «И «приподняв свой цилиндр и откинув небрежно сюртук» – это сказано словно о той знаменитой фотографии, на которой двадцатилетний футурист Маяковский запечатлен в цилиндре и с тростью, с папиросой в руке, с тоскливо-раздраженным взглядом куда-то за границу кадра». Странно, что трость, которую в финале поэмы Есенин бросает в ночного собеседника «прямо к морде его, в переносицу», не обыграна в качестве дополнительного аргумента: дескать, Есенин разит Маяковского его же оружием – «знаменитой палкой». Как будто Есенин не носил цилиндра, и имажинистский этот цилиндр уверенно не прописался в его поэзии, сделавшись одним из ее знаков и символов. Тогда как брендовый Маяковский неизменно и непокрыто бритоголов.
Быков, таким образом, навязав Есенину прототипа, отнимает у Сергея Александровича его собственную короткую жизнь и огромную бурную биографию, весь поэтический корпус, да и душу – с ее болезненными фобиями, меланхолией, галлюцинациями, мучительным раздвоением…
Издержки творческого метода. Дмитрий Львович влюблен в своего героя до той степени, когда сделанного даже Маяковским кажется мало, и в зачет ему хочется записать участие в других поэтических достижениях эпохи. Следующий момент: нравственность и моральная правота становятся неотделимы от основного персонажа, и тут нас встречают интересные трансформации: да, Быков отмечает, что с «Горьким получилось очень нехорошо», и оба классика в этой сваре вели себя отвратительно: «Горький распространял о Маяковском грязные слухи. Маяковский напечатал на него публичный политический донос. Горький откликнулся на смерть Маяковского насмешливо, почти кощунственно. Маяковский отзывался о Горьком, по воспоминаниям многих очевидцев, резче, чем о заядлых литературных врагах (с которыми он, как с Полонским, вполне мог дружелюбно общаться при встрече)».
Тем не менее именно Алексей Максимович – самый отталкивающий из многочисленных персонажей «Тринадцатого апостола», а фишка здесь прежде всего в том, что в свое время Дмитрий Львович сделал о Горьком отличную книгу, с биографией и глубоким анализом, весьма теплую и сочувственную.
4
Но вернемся к Есенину, я не откажу себе в удовольствии процитировать еще одно саркастическое замечание Захара Прилепина:
«Поэтому, согласно Быкову, Есенин тоже оказывается в тупике.
«В 1919 году Есенин написал одну небольшую поэму «Пантократор», в которой нет ничего нового по сравнению с «Сорокоустом», – пишет Быков, едва поспевая за своей скоростной мыслью.
Но если на мгновение остановиться и рассмотреть ее, то она конечно же хороша собой.
Дело в том, что «Сорокоуст» Есенин написал в 1920 году, и посему в «Пантократоре» в принципе не могло быть «ничего нового» по сравнению с вещью, написанной годом позже.
А в 1919 году Есенин написал поэму «Кобыльи корабли» и трактат «Ключи Марии», наиважнейшие свои вещи, которые ни о каком тупике, при всем быковском желании, не говорят. Напротив, в автобиографии Есенин называл 19-й – лучшим годом в своей жизни».
В этом 19-м году (который и Маяковский поминал благодарно) – тоже некий смысловой ключ, в рифму – «код». Переломный для большевиков, после которого стало понятно, что советская власть – всерьез и надолго. Быков подробно и квалифицированно разбирает ее отношение к обоим поэтам. Читается как детектив, и сразу хочется спорить относительно полутонов и нюансов.
Так, Дмитрий Львович утверждает, что Есенин, ушедший в конце 1925-го, выиграл у Маяковского 20-е годы в социальном смысле, в рассуждении официального увековечивания – вожди и общество относились к нему куда лояльнее. Сами по себе poetic games эти странны, хотя для России принципиальны. По сути, разумеется, все не так, то есть не совсем так – 26-й для мертвого Есенина складывался в целом неплохо (хотя уже появляется негативнейший термин «есенинщина», зато сам Владимир Владимирович во многом угадал-определил «центральные убеждения» относительно Есенина своим знаменитым стихотворением-некрологом).
Однако уже в 27-м начинаются проблемы, и связаны они не с поэзией, а с политикой. Терпит поражение во внутрипартийной борьбе, шельмуется Лев Троцкий, большой есенинский поклонник, и бухаринские «Злые заметки» – ответка именно Льву Давидовичу, написавшему прочувствованный некролог Есенину. В дальнейшем Бухарин к Есенину смягчается, в речи на Первом писательском съезде говорит о нем с некоторой симпатией и признанием и тут же получает ряд негодующих реплик именно по данному поводу.
Тем не менее с 27-го отношение к Есенину идет именно в русле «Злых заметок», а тут еще приходит 29-й, Великий перелом, коллективизация, и Есенин вовсе, вплоть до самой великой войны, официально становится певцом не только упадничества, но и кулачества.
Это общая канва. Быков между тем говорит главным образом о двух вождях – Троцком и Бухарине. (И даже не о «коллективном Троцком», – так, партийный публицист Лев Сосновский, приверженец Троцкого и крупнейший функционер агитпропа, громил Есенина со свирепым постоянством ортодокса.) Быков заявляет, будто Троцкий был влиятельнее Бухарина, а потому у Маяковского дела с официальным статусом обстояли хуже. Надо сказать, что это верно лишь в ситуации (она вообще тогда постоянно менялась) до 24-го года: именно тогда Николай Иванович становится членом Политбюро и уверенно продвигается в главные партийные идеологи («Правда», Институт красной профессуры), а после разгрома зиновьевской «новой оппозиции» – чуть ли не в стратеги.
Троцкий же, после смерти Ленина, все больше похож на почетного отставника, сенатора-технократа, периодически пытающегося напомнить о своих «особых заслугах» и нарывающегося на отповеди, все более жесткие. В первой половине 26-го он становится лицом «объединенной оппозиции», лидеров которой объединяет главным образом потеря реальной власти.
Словом, в замере влияния вождей Дмитрий Львович слишком категоричен, отсюда несколько надуманы его обобщения.
Еще интереснее разобрать мотивы отношения Троцкого к Маяковскому: отчего Лев Давидович предпочитал изломанного, бесконечно политически противоречивого Есенина безоговорочно определившемуся Маяковскому? Ответ, в общем, на поверхности: свой-то никуда не денется, примет смиренно хулу и хвалу, а вот за чужого имеет смысл побороться: посулами, комплиментами и прочим. Вечная дихотомия: «жена – любовница», сюжет не столько опошляющий, сколько удаляющий приземленность и рационализм; сердечные чувства легко заменит эстетический вкус. А он у Троцкого был.
Но вот рассуждения Быкова, то есть Троцкого в интерпретации Дмитрия Львовича:
«ЛЕФ отрицает то самое, за что мы боролись, и в этом смысле трезвый чистюля Маяковский более подозрителен, чем самый пьяный Есенин.
(…) Есенина попрекают близостью к самому заурядному кабаку – но это грех простительный, в кабак случается забрести и сознательному рабочему, завить веревочкой горе. Маяковский же – выходец из кабака артистического, дым там не махорочный, а сигарный». И так далее.
Мне же кажется, Быков недоговаривает главного: Троцкий вынужден был, дабы совсем уж не обидеть Маяковского-художника и вообще человека полезного, камуфлировать вещи, для партийного сознания вполне очевидные: Есенин пришел в кабак из рязанской деревни (варианты – из санитарного поезда, левоэсеровской тусовки, наконец, в рабоче-крестьянскую пивную из того самого «артистического кабака»), то есть путь этот вполне нормален, эволюционен. А вот движение Маяковского, на взгляд вождя, противоестественно: Владимир Владимирович в «Бродячую собаку» подался от партийной работы, сломавшись во время тюремной отсидки. Отдает ренегатством, а то и прямым предательством.
А ведь были еще военные агитки 1914 года:
Обвалилось у Вильгельма Штыковое рыжеусие, Как узнал лукавый шельма О боях в Восточной Пруссии. (…) Опустив на квинту профиль, Говорит жене – Виктории: Пропадает наш картофель На отбитой территории.Их хорошо помнили. То есть в топку шло и дворянство, и непонятный якобы массам футуризм, и карты с бильярдом («ля богема»), но именно пропаганда в «империалистическую» (плюс медалька «За усердие» от царского правительства) – похоже, выглядела главным и явным криминалом. «Участие в патриотическом угаре». Все можем человеку простить, но вот ежели этот человек… У большевиков были свои, явные и неявные, поводы полагать ту войну набором Х-файлов, нежелательных для раскрытия.
Словом, ничего неожиданного в отношении Троцкого нет, оно представляется даже мягким, даже для 20-х.
В другом месте Дмитрий Львович предлагает нам полюбоваться политико-генетическим парадоксом – как это Сталин объявляет Маяковского «лучшим, талантливейшим», притом что негативное отношение Ленина к «поэту революции» известно и однозначно? Однако никаких вариантов расшифровки не предоставляет.
На самом деле тут тоже, по-моему, все вполне очевидно: Сталин отвечал не Ленину, а Троцкому (продолжение истории со «Злыми заметками»). Накануне спланированных масштабных чисток, где троцкизм предстанет лютой и непростительной ересью, хуже шпионажа. В то время как кабаки, агитки, да и оценки Ленина практически потеряли актуальность. А Маяковский – нет.
Любопытно, что хорошее отношение Троцкого к поэтам продолжало оставаться и в другие, поздние годы криминалом, хотя и не столь уже радикальным. Во время войны в наивысших инстанциях прорабатывали Сельвинского, и Сталин издевательски отметил, что того «высоко ценили Троцкий и Бухарин». Однако Сельвинский драматических последствий избежал, лишившись, впрочем, прочной и сытной должности военного корреспондента.
5
О многом еще хотелось бы сказать. О бесконечном, к примеру, заочном споре с покойным Юрием Карабчиевским (автором нашумевшей в свое время книжки «Воскресение Маяковского»). И хотя Быков приписывает эту «яркую полемику» Александру Гольдштейну, ведет он ее, разумеется, сам, и на протяжении всей книги. (У Карабчиевского Бурлюк и Брик – сволочи и демоны-искусители, по Быкову – вполне толковые и симпатичные ребята. Карабчиевский полагал детские стихи Маяковского убожеством и халтурой, Быков уважительно называет их необходимым звеном в поисках нового стиля. Карабчиевский истерит над строчкой «Я люблю смотреть, как умирают дети», Быков, призвав в эксперты Лилю Брик, обстоятельно раскладывает «почему написано, когда написано, для кого написано» и так далее.) Сочувственно Быков цитирует Карабчиевского единожды, когда надо самому произнести ряд неприязненных пассажей об Иосифе Бродском.
Кстати, особо и у того же Гольдштейна выделяется Быковым высказывание не о Маяковском, а о вредном ренессансе консервативно-имперской идеологии, которая конечно же чудовищно архаична, на передовой мировой вкус. (Brexit, парад европейских национализмов, Марин Ле Пен, Дональд Трамп и прочее Дмитрию Львовичу в подтверждение этого весьма своевременного тезиса.)
Но при всех упрощениях, неоправданных длиннотах, противоречиях, забавном и местами трогательном автопортретировании Быков написал большую книгу (не попавшую в списки «Большой книги», ну и ладно), где достоинства не оппонируют недостаткам и наоборот, а дополняют друг друга вполне полифонически. Где комплексы, убеждения и заблуждения автора – необходимый и прочный строительный материал. Показательна реакция, обнаруживающая именно значительность явления – сначала пожали плечами, потом взялись содержательно, смачно, зрелищно ругаться.
Явление, о котором я говорю, безусловно, шире «Тринадцатого апостола» и даже Дмитрия Львовича. В свое время по-своему чуткий автор, музыковед и эссеист Артем Рондарев, сравнил деятельность Захара Прилепина, Дмитрия Быкова и Олега Кашина по возвращению в актуальный контекст Леонида Леонова с трудами «кладбищенской команды» в поиске более престижных мест для перезахоронения.
И при всей эффектности сравнения, Рондарев ошибся. Посыл у Быкова и Прилепина как раз совершенно не ревизионистский. Для них – Леонов и Маяковский вовсе не прошлое, но настоящее и, вполне возможно, будущее, оба не мыслят литературу в категориях человеческой биологии, физического умирания писателя; не готовы мерить ее календарями. Сам непостулируемый конфликт между публикой, полагающей пропагандистов советских книг и имен кладбищенской командой (не важно – могильщиков или эксгуматоров) и писателями, для которых бренность – вообще внелитературная категория, – это одна из важных примет современности. Философии времени.
И Быков, к какому бы берегу и лагерю ни прибивался сегодня, сделал Маяковского в том же концептуальном ключе, в каком Прилепин – Леонова, Сергей Шаргунов – замечательную «Погоню за вечной весной» (ЖЗЛ Валентина Катаева), а Михаил Елизаров – великолепный очерк об Аркадии Гайдаре в «Литературной матрице». Маяковский – персонаж русской вечности, который сегодня стынет на постаменте, а завтра постучит в дверь с повесткой о всеобщей мобилизации. Этот настрой выражает финальная фраза «Тараса Бульбы»: «Козаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минули отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана». А еще точнее:
«Меня тронули за плечо.
– Эй, вы говорили по-русски? – спросил юноша с зелеными волосами, худой, высокий и большеносый.
– По-русски.
– Слушай. Ты можешь мне сказать, кто был этот парень Маяковски? Не is fucking Great!
Я ему объяснил, как мог».
Пограничник Валентин Распутин
Прочитав известное количество слов и фраз о Валентине Григорьевиче Распутине, делаю очередные наблюдения о времени.
Мы дожили до полного смешения жанров «некролога» и «пинка вдогонку». Все это, правда, тоже не ново: в замечательном фильме поздних 60-х «Доживем до понедельника» учитель истории Мельников (Вячеслав Тихонов) сетует: «То и дело слышу: «Жорес не учел, Герцен не сумел, Толстой недопонял…» Словно в истории орудовала компания двоечников!»
И второе. Литературная критика в России существовала, похоже, лишь для того, чтобы литература в итоге напоминала что-то вроде избирательного бюллетеня – партийность, ФИО, галочка. Показательно даже не то, что Распутина единодушно относят к «деревенщикам», интересней, что никто из «деревенщиков» первого ряда в прокрустово это ложе, не ободрав колен и локтей, не защемив пальцев и межпозвоночных нервов, не помещался: ни Распутин, ни Федор Абрамов и Василий Белов, не говоря о Викторе Астафьеве и Василии Шукшине. Все-таки имя явлению дают не единицы первых и лучших, а десятки и сотни эпигонов, которые отсутствие индивидуальности подменяют темой и географией.
И компанией, естественно.
Вот Дмитрий Быков в хорошей статье «Жертва. Уроки Распутина» пытается вставить Распутина не в пространство, «деревню», а во время, в поколение: «Юрий Кузнецов, Олег Чухонцев, Илья Авербах, Владимир Высоцкий, Валентин Распутин».
Затем Дмитрий Львович помещает Распутина уже не в палатку к поздним шестидесятникам, а в палату главных авторов 70-х – Горенштейн, Зиновьев, Бродский… «Чингиз Айтматов – писатель, наиболее близкий к Распутину по духу и темпераменту».
Все это, конечно, интересно, но не слишком точно – хотя бы потому, что Распутин в этом ряду единственный – не про жизнь и смерть, а про пограничные состояния – когда все-таки больше там, чем здесь (идеальная иллюстрация темы и метода его лучшая, пожалуй, вещь – «Последний срок»).
Валентин Распутин ценен мне, как читателю, не принадлежностью к какому-то лагерю и генеральству в нем – регулярному или на время военных сборов. Не претензией на статус «Аксенова из народа» (в ранних рассказах) или «сибирского Фолкнера» (особенно заметной в «Прощании с Матерой»). А именно индивидуальной, чисто распутинской, мелодией, которая так напоминает атмосферу, слова и звуки ритуала русских поминок. Когда после кладбищенской церемонии промерзшие или намокшие под осенним дождиком люди рассаживаются за длинными столами в недорогом окраинном кафе, кто-то с первой рюмкой перекрестился, а кто-то напряженно смотрит в стол – сухие глаза, строгая полоска губ, тяжелые руки и подбородки…
И мелодия эта тихая возникает в негромких деликатных разговорах, общности в горе и ритуальной трапезе.
Роман Сенчин в недавно вышедшем сильном романе «Зона затопления» сделал ремейк не «Прощания с Матерой», а всего Валентина Распутина. Поскольку главный символ и место действия у него – кладбище. Когда я рецензировал Сенчина для премии «Национальный бестселлер», вдохновился на такой вот кладбищенский набросок:
«В провинциальной России самые красивые места – это кладбища. Лучше старые или, как минимум, с 50-летней где-то историей.
Ортодоксально-православного в них мало – покоятся там в основном советские люди, в загробную жизнь веровавшие дикарски и фрагментарно. Отсюда и российское отношение – заброшенность рядом с абсолютной, образцовой ухоженностью. Важная часть не декларативного, но подлинного русского мира.
Весной там долгий праздник – все в сирени, и хлопья ее – обыкновенного, то бишь сиреневого цвета, а еще белого и смешанного, напоминают море, в глубине которого – немыслимая Атлантида. Цветут фруктовые, темнеет хвоя.
Но и летом, когда зной вверху и зелень снизу делают воздух стеклянным и прозрачным, а время – физически ощутимым, Атлантида как будто приподнимается, собираясь всплыть. Но не всплывет».
В поздней и неровной вещи «Дочь Ивана, мать Ивана» Валентин Григорьевич делится наблюдением о новой России: вот, дескать, вся жизнь изменилась радикально и непоправимо, а все, что вокруг похорон, – осталось прежним. И в маленьком этом абзаце уже старческий его голос поднимается от ворчания до самой прямой и бесспорной патетики.
Крестный, бубы, вини: криминальная регионалистика и консервативная секс-революция
Мне иногда представляется, будто вся городская война (она же гражданская, это само собой) русских 90-х отгремела по всей земле для того, чтобы появилась национальная версия «Крестного отца».
Сам легендарный роман, забавно, проник в СССР еще в 70-х (на момент триумфального шествия по миру) и ходил в самиздате успешнее лолит и гулагов. Знаменитый подпольный шансонье Аркадий Северный записал несколько альбомов с группой «Крестные отцы». Так эпатажно назвали себя питерские ресторанные лабухи.
В нулевое десятилетие социальный заказ на русского годфазера мог стать еще одним нацпроектом почище единого учебника истории. А если бы стал – это и был бы учебник истории – новейшей, хоть и не единый.
Надо сказать, криминально-деловой бестселлер Марио Пьюзо во многом и воспринят был в России как учебник. Я не буду приводить всем известных афоризмов-стратагем про законника с портфелем, который важней сотни громил с автоматами, про предложение, от которого невозможно отказаться… Перенесенный на русскую почву боевик Пьюзо парадоксально учил не нападению, но обороне, тактикам защиты от враждебного, в том числе криминального мира. А еще – что жизнь деловая имеет многие уровни, и прежде всего мифологический: расстояние от пиццерии в Бронксе до Голливуда короче, чем полстранички, а маленький человек, при должных связях и обстоятельствах, всегда имеет право на свою пару слов в античном хоре.
Прилежными школярами потому становились не бригадиры и лидеры ОПГ, а бизнесмены малой и средней руки, и часто – другого поколения.
Хорошо помню разговор в офисе предпринимателя с «тревожным прошлым» (остроумное клише придумали саратовские газетчики – обладатель «тревожного» вломился в местную политику). Вели разговор о сравнительных достоинствах киносаг «Крестный отец» (трилогия Ф. Ф. Копполы) и «Однажды в Америке» Сержио Леоне.
Наш pezzonovante, начинавший чем-то вроде consigliere в крупной группировке (на момент киноведеческой дискуссии экс-«парковские» давно легализовалась в банках, недвижимости, строительных, инфраструктурных и развлекательных проектах), стоял за «Однажды в Америке». Ибо был интеллигентным мальчишкой, выросшим практически на улице, и евреем по национальности. (В провинции такое возможно.) Младшее поколение, уличных войн почти не заставшее, предпочитало КО.
С внятной аргументацией – «Однажды в Америке» – просто хорошее и трогательное кино, а у «Крестного отца» есть чему поучиться в плане деловой этики.
Кстати, о профессиональной этике и этнике. Вдруг вспомнилось, как в полупустом и полузакрытом кабаке вор регионального значения и грузинского происхождения хмуро выслушивал хозяина казино. Ему не нравилось, что в подведомственном учреждении играют «на воздух», то есть на несуществующие, виртуальные деньги, неизбежно конвертируемые потом в отъем машин, недвижимости и семейные драмы.
Рыжеватый вор прихлебывал рыжий виски из большого стакана и презирал казиношника по двум направлением: как блатной – коммерса и как грузин – армянина. Акцент усиливал разнос:
– Неправильно это. Нельзя позволять так, чтоб у человека последнее забрать можно будет… Даже когда совсем шпилевой, да? Должна же быть и у тебя какая-то этика…
Теперь о «неединстве».
Криминальная регионалистика и есть свидетельство настоящего федерализма: местного своеобразия при общем сценарии. Если неленивый и любопытный столичный журналист по воле службы или судьбы даже ненадолго погружается в жизнь любого областного города или районного центра, обязательно повстречается с влиятельнейшей сферой современного изустного фольклора – краеведческим шансоном.
Носителями его выступают, как правило и естественно, представители особого социального слоя – околовластные маргиналы. Амбициозные лузеры с прошлым. Ибо в криминальной романтике наиболее привлекателен зашифрованный код тайной власти.
Поэтому она магнетически действует не на молодежь (вопреки распространенному мнению), а на людей вполне взрослых. Хотя, повторюсь, и определенного типа.
Вот есть у меня пара знакомых. Дядьки с виду солидные, тертые, в смысле не только «терок», но и общей жизненной потертости. И потрепанности – правда, той самой, которая придает толику даже лоска. Перефразируя персонажа «Антикиллера» – «всех знают, и их все знают». Все-то, может, и все, но упоминание в иной компании чревато кривоватыми ухмылками.
И что называется, только дай им тему: обрушат на собеседника целый ворох былых раскладов, разборов, имен и кликух бригадиров, быков и воров, чьи кости давно сгнили в земле, а надгробные плиты представляют больший интерес для кладбищенских туристов, чем для былых сослуживцев. Впрочем, и сослуживцы-то в большинстве – рядом.
Я слушаю всю эту мурку не по первому, и даже не по пятому разу, но стараюсь не прерывать – человек самовыражается, исполняет социальную роль, не ставшую заказом; не жалко. Да и продуктивно – в плане сохранения предания.
Один реальный, а не застольный авторитет, тоже уже покойный, недоумевал:
– Ну ладно, я с малолетства в этом говне кружусь… У меня и вариантов-то не было… А эти-то чего? Нормальной жизни мало?
А вот того самого. Зашифрованный код, упругие пружины, имя розы.
Интересно, что первым краеведческий шансон предсказуемо перевел в книжную форму законодатель литературных мод Эдуард Лимонов. Его расследование «Охота на Быкова», посвященное судьбе знаменитого красноярского авторитета (символичен сам финал книги – авторитетный бизнесмен Быков уходит в политику и почти сразу – в тюрьму), во многом опирается на криминальное предание.
«Собирались в «Красноярске». Придешь – сидят авторитеты Федор, Антон, Голубь, Вовка Барсуков – тоже по кличке Косяк, но другой – он держал общак у них, – сидят в кожаных куртках, в шароварах, в шапках, девчонки на коленях».
Это шансон, а рядом, на соседней странице, краеведение:
«Сидели в «Красноярске» – надо найти кого-то – едешь в «Красноярск». Можно было подъехать часов в 7–8 и увидеть кого нужно, прямо у машин, там, на площадке. Вообще, город был расписан. В «Огоньке» встречались «блиновские», в «Каштаке» сидели «рощинские», в «Туристе» сидел Борода».
Я когда-то объединил двух отличных русских писателей – Андрея Рубанова и Михаила Елизарова лимоновской шинелью (а шинель эта – Советской армии) – в рецензии «Дети Лимонова». На вышедшие у обоих сборники рассказов.
А в ФБ-диалоге с известной питерской писательницей и сценаристкой именно Рубанова и Елизарова мы и выбрали для кастинга на роль автора русского «Крестного отца».
Потому что богатые исходники. У Рубанова – уникальный опыт советского юноши из Электростали, столичного бизнесмена, заключенного Лефортова и Матросской Тишины… Энергичный стиль, сжатая пружиной фраза – при умении предаваться самым избыточным рефлексиям: мачо, вслед за Марио, должен уметь быть сентиментальным. И – принципиальное ремесло превращать бытовой мусор в романтическую легенду:
«По обязанностям смотрящего Евсей коротко говорил с каждым, кто входил в хату, и, если видел перед собой молодого наивного новичка, обычно спрашивал вскользь: «Надеюсь, ты на воле никакими гадостями не занимался? Женщину между ног не лизал? И к проституции не имел отношения? А то за такое здесь сразу под шконку определяют, имей в виду…» Обычно после таких слов новичок сразу мрачнел, но на Евсея смотрел благодарно.
Многие, знал Евсей, теперь доставляют своим бабам удовольствие языком, и если разобраться – половину хаты надо под шконку загнать» (Рассказ «Гад» из сборника «Стыдные подвиги»).
Вот что сближало Вито Корлеоне с русскими криминалами старой школы – страшно консервативное отношение к сексу. Фактически сексофобия. Дон Корлеоне имел свое, сицилийское, определение для перверсий, не только сексуальных – infamita.
Михаил Елизаров в своей прозе наследует другой крестноотческой традиции – не деловой и не криминальной, но семейной. Клановой. Его сектантские боевики (Pasternak, «Библиотекарь») радикально консервативны, это движущиеся портреты групп людей, спаянных едиными ценностями и противостоящих обществу, – мафия на метафизический лад и наши деревянные деньги.
Помимо всего прочего, проза «детей Лимонова» вполне киногенична, Елизаров, при всей своей свирепой «советскости», тяготеет к немейнстримову Голливуду. Рубанов, в беллетристическом изводе своей романистики («Хлорофилия», «Боги богов» и пр.), очень был бы хорош в контексте детско-советского фантастического кино 70—80-х, которое, в отсутствие у нас фильмов ужасов, щекотало подростковые нервы. В нем бывали недурны саундтреки.
«Роберт Макки – гуру сценаристов, – сообщила моя ФБ-корреспондентка, – пишет о шкале, вдоль которой располагаются авторы. На одном полюсе – создатели «личных историй», которые «все берут из жизни», из своей преимущественно, и закапываются в бытовщине. На другом полюсе – фантасты, авторы боевиков, фантазеры, у которых не получается управлять воображением. В этой теории много справедливого. Побеждают те, кто могут одно с другим совместить».
«Рубанов в этом смысле занятный, – отвечал я. – Писатель, сразу отправивший себя в своеобразное гетто – бизнесмен и этакий поющий мускул в литературе. Это на него давит. У него либо биография, не по первому разу, либо фикшн, совсем такой инфантильный, постстругацкий. И он про середину все понимает, а соединить пока не может… У Елизарова опыт не тот, да и мировосприятие – в трещинах. А тут цельность необходима».
Далее мы говорили, что оба, Рубанов и Елизаров, после сборников («Стыдные тайны» и «Мы вышли покурить на 17 лет» соответственно), пребывают в определенном кризисе, пожелали им выйти из него фениксами, поставили каждый на своего и порассуждали – в мистическом ключе – чей «демон сильнее» (Олеша о Катаеве).
А пока мы направляли литературный процесс и самую малость сплетничали, мне подумалось, что есть еще два автора – писатель и писательница, которые, вмешайся в наш диалог, имели бы основания заявить, будто именно они застолбили поляну и закрыли тему. Пока мы тут прогнозируем и прекраснодушествуем.
Я говорю о создателях олигархических саг. И даже тезках – Юлии Дубове и Юлии Латыниной. Романах, соответственно, «Большая пайка» и… пусть будет «Охота на изюбря». Или, лучше даже, «Промзона».
В своей книжке «Культурный герой» я подробно разбирал романы Дубова – не только в литературном, но в феноменологическом плане. Глава «Олигахи и арестанты» была написана после загадочной смерти Бадри Патаркацишвили, многое прояснившей в отношениях внутри тандема магнатов, но задолго до не менее загадочной кончины Бориса Березовского.
Выскажу свою дилетантскую версию: депрессия Бориса Абрамовича, которую многие называют среди причин внезапной смерти олигарха, началась не с проигрыша в знаменитом процессе, а со смертью Бадри Патаркацишвили.
Не только любови с дружбами, но и некоторые бизнес-партнерства заключаются на небесах, союз Березовского и Бадри – явно из этой категории. Бадри был сильней БАБа не только в качестве бизнесмена, финансиста, коммуникатора, но и как политик и просто личность. Надо полагать, в этом тандеме он играл первую скрипку, сознательно уводя себя в тень в публичной сфере. Когда умер Бадри (безусловно, всегда имевший свою игру и давно отстаивавший собственные интересы) – у Березовского встал весь функционал.
Это не говоря о лирике.
Тому есть свидетельства документальные. Однако литературные – романы Юлия Дубова «Большая пайка» и «Меньшее зло» – гораздо убедительней. Вместе с тем щедрая фактура – стенограмма того же процесса «Борис Березовский vs Роман Абрамович», книги Дэвида Хоффмана и Пола Хлебникова, монологи самого Бадри и пр. – говорит о том, что романы Дубова можно и нужно рассматривать как исторический источник.
При этом чрезвычайно занятно, что для Юлия Дубова роман Пьюзо был несомненным стилистическим ориентиром. С невольной пародийностью это отразилось в экранизации («Олигарх» Павла Лунгина), финал которой (одним махом врагов побивахом), приниженно и нагло одновременно – в ноль снят с первого «Крестного отца» Копполы. А парадоксальными предтечами крестноотческой традиции в «Большой пайке», посредством бизнес-тренингов отставного чекиста, предстают строители Советского государства – Ленин и Сталин.
Олигархи, а не «красные директора», с которыми идет война не на живот, согласно Дубову – легитимные наследники вождей.
Наследнику вождей БАБу, помнится, «Олигарх» не понравился – трахаются, дескать, в фильме этой неубедительно… О господи! Тлен и прах…
Опять же, КО для автора БП стал ориентиром не столько этическим, сколько эпическим.
Но! «Крестный отец» совершенно невозможен без персонажей второго плана, и – это еще важнее – малых сих. Панорамой их горестей и проблем роман и открывается – похоронных дел мастер Бонасера, булочник Назорин, девушка Люси Манчини…
В «Большой пайке» множество вдохновенных страниц посвящено строительству пирамиды СНК (в реальности – концерн АВВА), креативным, кадровым и логистическим аспектам увлекательнейшей аферы. И – ни одной, пусть на заднем плане, кислой физиономии «кинутого» вкладчика.
Там, где беспощадные доны пытаются (не без успеха) распространить на подведомственный кусок мира социальную справедливость, интеллигентные и милые, рефлексирующие герои Дубова повсеместно умножают скорбь.
Оговорюсь: у меня здесь тоже претензии не этические, а эпические. Именно моноцентричность авторского взгляда, отсутствие необходимой дистанции лишает романы Дубова – мифогенности. Странного, но необходимого для национального бестселлера качества.
Собственно, те же претензии можно предъявить Юлии Латыниной, которая, как ни странно, где-то даже трезвее и циничнее Дубова. Но и кровожадней – производственными ее романы можно назвать и в рассуждении производства трупов. Тогда как у Пьюзо убийство всегда необходимая мера; прописывается на скорости и как бы через силу. Хотя и очень поэтично: «Три пули влепил он в бочкообразную грудь Барзини»… и т. п.
Впрочем, не стоило бы, пожалуй, и затевать этих заметок, если бы у автора не имелось сюрприза, припасенного напоследок.
Я говорю о романах Ольги Погодиной-Кузминой «Адамово яблоко» и «Власть мертвых» (последний – шорт-лист Нацбеста-2013, был поддержан в финальном голосовании самим Александром Тереховым).
Дилогия, жанр которой, на поверхностный взгляд, определяется как любовно-авантюрный (с богатой примесью, во «Власти мертвых», road movie), на самом деле тяготеет к семейной бизнес-саге. То есть к неизбежному разговору о природе и народе власти. Здесь нас ожидает предсказуемая двусмысленность – российский бизнес, не успевший дорасти даже до «Дела Артамоновых», имеет амбицию на летописцев в солидной манере и обличье Фицджеральда.
Питерская прозаик кивает понимающе, но отправляет (во втором романе) героев своих – на Сицилию. Как бы на учебу. И про наши власть с бизнесом все становится еще понятней.
Сближает Погодину-Кузмину с Пьюзо и важнейшее в таком деле мастерство умолчания. Схемы, технологии, компетентность. Ольга не то чтобы понимает все про девелоперские проекты, внешние и внутренние инвестиции, движения капиталов и распределение акционерных пакетов. Однако мастерски умеет промолчать в нужном месте, проскочить точку финансовой конкретики, легко обойтись без документооборота – так, что и роман не спотыкается, а движется уверенней, и автор оставляет впечатление человека тонкого и разбирающегося.
Собственно, так же рисовал семейные бизнеса (ага, импорт оливкового масла) и гуру-Пьюзо. Он лишь обозначал направления, оставляя донов наедине с индустрийной мощью, не забывая, впрочем, яростно погружаться туда, где действительно разбирался, – отельный бизнес в Вегасе и голливудские кинотруды.
Между тем иные русские авторы любят сочинять о бизнесе с подробностями. Такими, что сомневаешься – можно ли доверить такому грамотею пивной ларек? И не возглавить даже, а посетить; вдруг обсчитают? Или пива не донесет?
Следующий контрапункт – это, лапидарно выражаясь, сращивание криминала с властью, прокламируемый альянс мафии и госструктур. Впрочем, то, что у старины Пьюзо – тревожный праздник (связи клана Корлеоне в политике, полиции и судейском корпусе – предмет зависти и беспокойства конкурирующих семейств), у Погодиной-Кузминой – скучные трудовые будни: ну да, коррупция. Как и было сказано. Может, поэтому в дилогии нет ярко выраженных донов и олигархов (есть некий большой Политик, в котором много кто угадывается): экзотическое бессмертие мафии перерождается в общее уныние криминально-бюрократического пейзажа.
О литературных достоинствах и стилистических сходствах говорить не буду – они очевидны из самого факта сопоставления.
Как и про механизмы функционирования мафий и сообществ с инструментарием: психология малого народа и пр.
Оглушительней другое – когда Ольга оппонирует дону Вито Корлеоне в принципиальной и напряженной сфере – сексуальной.
(Отметим, что Марио Пьюзо это дело как раз любил, вот только писать его не умел; Погодина-Кузмина умеет.)
Главные герои ее романов – геи. Точнее, бисексуалы (подчас вынужденные), но это как раз непринципиально.
Даже натуралы, каковые среди персонажей Погодиной-Кузминой изредка попадаются, пребывают как будто в голубом плену, вяло пытаясь отстоять какую-никакую сексуальную автономию. А уж про то, что гетеросексуалы в романах Ольги являются «меньшинством», и говорить нечего.
Легче всего объяснить коронную тему Ольги стремлением к эпатажу – есть, безусловно, и он, вечно эрегированный, как хастлеровская обложка. Однако мне кажется, феноменология ее вещей в другом – сексуальная девиация, возведенная в фабульный абсолют, для Ольги Погодиной-Кузминой – прежде всего метафора смутных (скорее от слова «муть», нежели «смута») времен. Страны, окончательно сорвавшейся с резьбы, и ее людей, которые вдруг обнаружили себя потерявшими всякую, вплоть до сексуальной, идентичность.
Однако у эпатажа есть обратная сторона – стыд; и вечный, неотступный мотив стыда как раз и придает этой прозе самое глубокое измерение.
И приводит к аналогии: не так ли у Пьюзо (а еще больше у Копполы) из поколения в поколение семьи передается мечта об окончательном разбеге с криминалом и красивом переходе в либеральные чертоги легального бизнеса? А грязь этого мира продолжает прибывать, наполнять и липнуть.
Самое же интересное – пафос сопоставляемых произведений вполне созидателен: Марио Пьюзо воспевал отнюдь не разрушение, а стройку. Не говоря о вечных ценностях.
У Ольги Кузминой в самых мрачных сценах (и радостных эротических, чего уж) читатель ловит ощущение исходящего от автора жизнелюбия и сочувственного внимания людям в их разных движениях и проявлениях.
Словом, мы в России сделали это. А то, что в едином колоре – ну, а какой еще символ, пострашней да эсхатологичней, чем голубой «Крестный отец», прозвучит убедительней?
Как пел Александр Галич: «Но живем-то, говорю, не на облаке».
Других вегасов и сицилий у меня для вас нет.
И наверное, уже не будет.
Часть вторая. Замеры
Перпендикулярная реальность. О сборнике Захара Прилепина «Семь жизней»
Захар Прилепин признался, что «отдыхал от прозы», – после романа «Обитель». Предсказуем поэтому читательский вопрос при азартном проглатывании сборника «Семь жизней» (М.: АСТ, 2016): «Если так отдыхать, что у него тогда называется «работать»?»
Вообще-то «сборник» в применении к «Семи жизням» – определение вполне условное. «Рассказы», равно как и «малая проза», только размоют оптику. «Роман»? «Вещь»? Точнее, да и нейтральнее – «книга», потому что где-то рядом с Книгой неизменно маячит Судьба.
«Семь жизней» – абсолютно цельное высказывание, мощная художественная атака, где стратегический замысел объединил разный, но сходный и необходимый тактический инструментарий. К полководческому словарю прибегал Владимир Маяковский в итоговой поэме: «Парадом развернув моих страниц войска, / Я прохожу по строчечному фронту» и т. д., применима она и к новой прозе Прилепина. В «Семи жизнях» мелькают сцены чеченских войн и – впервые! – сражающегося Донбасса, но принципиальнее, что лирическое альтер эго автора (Прилепин: «Новая книга – это все я, но не моя автобиография») все увереннее движется путем воина. Кастанеду мы на этой дороге еще встретим, а пока хотелось бы о Михаиле Лермонтове. У меня само построение «Семи жизней» сразу срифмовалось с изощренной композицией «Героя нашего времени», а восхищенная рецензия Николая Гоголя на «Героя»: «Никто еще не писал у нас такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою» – неуловимо чем-то напомнила один из первых откликов на «Семь жизней» – Галины Юзефович на «Медузе».
Галина Леонидовна получила на свою глубокую, точную и, да, восхищенную рецензию целый ворох издевательских инвектив от агрессивно-коллективного «антиприлепеина», и контекст этой заочной полемики был занятен.
Некто Лев Симкин, профессор, пытаясь прищучить Прилепина, написал в «Фейсбуке», что «католических пасторов не бывает». Это про рассказ «Попутчики», где у Захара и впрямь действует «сын католического пастора», а еще «таджикская певица», «армянский массажист» и его подруга, «то ли драматург, то ли стриптизерша», а также «бородатый писатель-почвенник».
Для начала отмечу: а почему бы не быть на свете католическим пасторам, если «пастырь» – ключевое понятие в христианстве, и, следовательно, в любой христианской конфессии? А главное, даже попутно угадывая прототипов (для обычного читателя занятие излишнее), мы погружаемся в атмосферу выморочную и пограничную; запой героя с литературной фамилией Верховойский катализируется то горячим паром сауны, то смрадом вокзального обезьянника, то вагоном, набитым трупами и призраками, – словом, в подобном антураже «сын католического пастора», «таджикская певица» и «бородатый писатель-почвенник» столь же реальны, сколь инфернальны. Примерно так же, как явившийся герою старенький бес, «белый волос вился по его скользкому телу, как водоросли по морскому камню». Собственно, микс трипа с роуд-муви вполне прозрачен, и остается поражаться столь загадочной для интеллигента, профессор Лев Симкин, читательской глухоте.
Профессор рад бы поймать Прилепина на другом каком неправдоподобии или стилистическом ляпе, но «крокодил не ловится», и Лев Симкин не без смака цитирует по-мужски откровенные фрагменты рассказа (кстати, Захар как раз умеет писать эротику ярко и никак не вульгарно). Оговариваясь, дескать, некоторые любят погорячее, но он, Симкин, нет, не из их числа. Ну да, против Прилепина иной толерантный либерал легко обернется консерватором со «скрепою». Запретите, наконец, эту порнографию, а то руки уже болят.
Симкин прошелся, понятно, и по Галине Юзефович; сочувствующие, как водится, набежали. Несгибаемые поборники прав и свобод объяснили литературному критику на пальцах: а) «кто не с нами, тот против нас»; б) сектантская этика выше любой эстетики. Ну какая может быть литература при «кровавом режиме» вообще, а тем паче у поборника «русской весны», имперца и патриота в частности.
Сюжет предсказуем и скучен, но обнаруживает свежий вектор: «либеральная жандармерия» не только прозаика Прилепина выводит за пределы литературы, но и автора любого позитивного отзыва о его художественных текстах готова подвергнуть остракизму. Собственно, все это носилось в воздухе и до «Семи жизней» – вышедшая в ЖЗЛ «Непохожие поэты» демонстративно не замечена ведущими изданиями, рецензий на нее – пальцев одной руки хватит. А ведь речь идет об одной из самых ярких книг популярнейшей серии за последние годы, необычной по замыслу, глубокой по исполнению, где пафос просветительства, глубина анализа и сила эмоций дали интереснейший результат.
Дай бог ошибиться, но предположу, что и «Семь жизней» ждет похожая критическая судьба. Хотя, разумеется, «назад в подвалы» Захару Прилепину путь не то чтобы заказан, а просто будет им воспринят как очередное приключение. Восьмая жизнь.
***
Надо сказать, что и я желал взять перерыв в своих прилепинских штудиях. Вот именно, «отдохнуть»; Захар после «Обители», а я – после «Захара». Естественно, причины были другие, нежели у прогрессивной литературной общественности, – банально не хотелось, чтобы мою работу в литературной критике сводили исключительно к Прилепину. Но прочтение (проглатывание) «Семи жизней», а затем медленное смакование чем дальше, тем больше получилось праздником – неожиданным и ошарашивающим. Вот и не удержался.
Был у меня в старину, на малой родине, старший товарищ – из провинциальных диссидентов (совсем позабытый и выброшенный из коллективной памяти русский тип), интеллигентный работяга. Торчал на Владимире Высоцком (что нас очень сближало – 16-летнего пацана и мужика около сорока), глубоко знал и коллекционировал. Общее пристрастие к Владимиру Семеновичу не новость; просто под эту историю родилась хорошая фраза – мы раздобыли какой-то ему странным образом неизвестный звукоряд ВВ – то ли «Историю болезни» (цикл, в котором как раз можно разглядеть злое издевательство над диссидентством с его фобией карательной психиатрии), то ли «Летела жизнь» – о «республике чечено-ингушей» и путешествиях по минным полям национального вопроса. И мой друг сказал как-то совершенно по-детски: «Ну сколько же можно дальше удивлять! Наделал запасов, чтобы нам тут нескучно было и сто, и двести лет».
Аналогичные впечатления случились уже у меня от «Семи жизней». Придется повторить уже порядком затрепанный, но как бы повисающий в воздухе собственный тезис и парадокс. О западной природе художественных высказываний Прилепина. Книга «Семь жизней» соединением сильной повествовательной линии, мерцающего концептуализма, примата мощной и самодостаточной детали, стереоскопичности и абсолютной жизненности – восходит к Трумену Капоте. И лимоновской новеллистике поздних 80-х, которая, конечно, была вне русской традиции; не случайно в финальной и заглавной вещи, «Семь жизней», «старейший оппозиционер» и «эксцентричный провидец», «Дед», появляется как персонаж. «…Мало кого я так любил на свете, как этого джентльмена, словно приехавшего в Россию на карете, – но не из прошлого, или позапрошлого, и даже не из будущего, а откуда-то из перпендикулярной реальности». Трумен, да и Эдуард малых форм – это олимпийский стандарт в новеллистике; остается констатировать, что мастерство Захара в прозе вплотную приблизилось к этим эталонам.
Но дело, разумеется, не только в технике. Вот эта «перпендикулярная реальность», вольно перетекающая из прошлого в будущее и обратно, – и есть ключ к пониманию «Семи жизней».
Захар, как и любой крупный русский художник, реалист и одновременно метафизик – иная реальность, мрачная, заревом, вставала вторым-третьим планом и в «Патологиях», и в финале «Саньки», а про демонологию и христианскую эсхатологию «Обители» и говорить не приходится. Собственно, был у Прилепина роман, практически полностью опрокинутый в инфернальные джунгли, – экспрессионистская «Черная обезьяна». Эту вещь я очень люблю, однако в гамбургском поединке с «Семью жизнями» она явно проигрывает – в ЧО местами смущает имитация стиля, да и намеренно неряшливая композиция слишком скрежещет и отпугивает ценителя литературной гармонии. «Семь жизней» Захар исполнил куда более мастерски – не поступившись трудным замыслом – дать сочные, мясные срезы разных пластов сущего, он упаковал их в земной, но такой прекрасный русский язык.
Наверное, это близко его представлениям о Валгалле. Возможно, такая она и есть.
«Немного выше земли, но еще не на небе. Там живет твоя судьба – в которой отразился весь ты сразу: прошлый и будущий, задуманный и свершившийся. Судьба лежит на диване, закинув ногу на табурет, стоящий тут же, посасывает недымящую трубку, разглядывает газеты. Я хотел бы надеяться, что в газете мой портрет, но вряд ли. Надоели уже судьбе мои портреты» («Первое кладбище»).Результат достигается любопытным эффектом, на стыке мистического опыта и писательской технологии – Прилепин как бы отпускает все свое (биографию, опыт, быт, само по себе «Я») попастись на вольных хлебах бытия, «на пыльных перекрестках мироздания», прошвырнуться на край ночи (рассказ про погибшего под Дебальцевом нацбола Женю Павленко, поклонника и знатока Л.-Ф. Селина, рассказ «Спички и табак, и все такое»). Таким образом, без всякой (у множества других авторов, как правило, фальшиво звучащей) алхимии возникает непобедимое торжество метафизики. Соответствующие эпизоды в «Попутчиках», с появлением инфернальных сущностей – как раз настоящий реализм, рассказ наименее мистичен, хотя, естественно, в общем векторе.
Вообще-то, не будь наши продвинутые интеллигенты столь глуховаты, по результатам авторской презентации «Семи жизней» уверенно могли бы зачислить Прилепина в «наши». Поскольку Захар, говоря о книге, тележил на практически чистейшей постмодернистской фене. Прямо обозначал «сад расходящихся тропок», инварианты способа существования, мотив «вечного возвращения», из чего естественным образом следуют деконструкция жизни и прочая чернокнижная деррида… Равно как дон Хуан с учениками.
Другое дело, что свои палимпсесты Захар делает на эпохе и авторах, не вписывающихся в постмодернистский иконостас продвинутых ценителей прекрасного. Ревущие 20-е, советские 30-е – в тех же «Попутчиках» звучат невзоровско-ибикусовские интонации Алексея Н. Толстого, в рассказе «Семь жизней» заметен Леонид Леонов, в «Петрове», как ни странно, Зощенко сентиментальных повестей. Написал, наконец, Захар свою «Голубую чашку» – не только в рассказе «Ближний, дальний, ближний», но и в новелле «Зима».
О чем хотелось бы сказать в заключение – кладбище, наверное, один из самых распространенных в русской литературе ландшафтов (есть писатели, прямо скажем, кладбищенской темы – Валентин Распутин, Роман Сенчин), но именно взгляд ребенка за оградку (да еще нерожденного ребенка – так у Прилепина) придает любому мартирологу необходимый для вечности объем.
«В песочнице возле крыльца копошится твой будущий ребенок; заскучал уже.
Иногда он перестает играть и долго, недетским взглядом куда-то смотрит.
Может быть, в сторону кладбища – куда являются те, кого он не встретит.
Жизнь устроена так, что ты – верней, твой незримый дом в этом мире, – постепенно начинает обрастать могилами твоих сверстников.
Тех, кто был немногим старше или чуть моложе тебя.
Сначала гости редки, и ты удивляешься каждому новому кресту.
Говорят, потом их будет так много, что ты даже не пойдешь туда искать всех, кого знал: надоест удивляться.
А когда их всего несколько – что ж, можно заглянуть. Холмик еще теплый, земля не осела. Немного листвы на свежевзрытой земле – пусть листва.
Отчего-то до сих пор это не случалось зимой, всегда какая-то листва кружила под ногами».
…Рождаться, проводить юность и умирать лучше в маленьких городках России – количество мест, с которыми много и сердечно связано, имеют больше шансов сохраниться, устоять перед стеклом и асфальтом. Новая проза Захара похожа именно на такой городок. Впрочем, масштаб не имеет значения.
Роман с лекарством. О «Чертовом колесе» Михаила Гиголашвили
Я всегда знал, что российско-имперская земля может рожать собственных Берроузов с Керуаками.
И не таких скучных, без натужных попыток передать наркотический трип человечьим языком. И не столь, по-репортерски, занудных в деталях и рецептах, как Том Вулф («Электропрохладительный кислотный тест»).
Умные люди всегда говорили: пьянка в России – никакое не развлечение, а тяжелая мускульная работа. Что же тогда наша наркомания, с ее гонками, ломками, криминалом, растущим в геометрической прогрессии от состава к составу – хранение, распространение, особо крупные?.. Каторжный труд, тонны энергии, которой должно хватить если не на строительство, то на разрушение Империй.
Мне припомнят Баяна Ширянова с его «Пилотажами» – эпигонскими, по отношению скорей не к берроузам, а к Голливуду («На игле», «Дневники баскетболиста», «Высший пилотаж»). Однако тексты Ширянова не тянут даже на физиологические очерки, оставаясь перенесенным в виртуал, а после на бумагу, собранием баек наркоманов из семейства «винтовых».
Роман Михаила Гиголашвили «Чертово колесо» не вошел в шорт-лист «русского Букера»-2010 (при этом представительствовал в длинном списке Нацбеста и финале «Большой Книги»), и, судя по блогосфере и откликам именитых, не только для меня останется одним из главных литературных впечатлений последнего времени.
Автор из Тбилиси родом, солидный филолог, живет и преподает в Германии. Почти восьмисотстраничное «Чертово колесо» писал около двух десятков лет. Роман таков, что хочется не рецензировать, а цитировать. Вот несколько цитат, практически наугад:
«Манана. Помнишь ее? Курчавая такая, со мной в ЛТП была, с ворами все время путалась… Вчера хоронили. Передозировка. Помнишь, как она о своем здоровье заботилась? В день по пять раз ханкой кололась – а леденцов боялась: «Леденцы, – говорила, – на эссенции делают, для печени плохо!» Таблетки глотала пачками – а яйца из холодильника не ела: «Не свежие!» Гашиша выкурила тонну, а к орехам не прикасалась: «От них, – говорила, – зубы цвет теряют!» Представляешь? На кодеине сидела годами – а шкурки с помидоров счищала: «Для желудка нехорошо!» А как она, бедная, мучилась, чтобы уколоться! У нее же в конце концов все вены сгорели!»
«Эх, Нижний Тагил, каленая сковородка! – ответил Байрам. – Каждый божий день с зоны покойника несли, а то и двух… Ты тогда тоже помоложе был, зема…
– Естественно. Меня печень съела, – угрюмо признался Анзор. – Доширялся до цирроза. Теперь вот приходится отраву курить. Я ж ее и не курил раньше, помнишь? Только кололся.
– Я тоже себе печень ханкой загубил. Ханкой – печень, колесами – желудок, теперь вот отравой легкие добиваю…»
«– Мы там, в Дюсике, про тебя спросили. Элтеры говорят: «Да, слышали! Справедливый вор, в зоне его сильно уважали. С Антошей вместе правил…»
– Антоша был золото-человек, – сказал Нугзар. – Мы с ним бок о бок семь лет пролежали. В палате на двоих в санчасти. Медсестры по утрам и вечерам морфием кололи… Такие чудесные времена…»
Таким образом, связующим звеном романной географии (Тбилиси, Кабарда, Узбекистан, Ленинград, Амстердам), равно как всех сюжетных линий и судеб персонажей, является наркота. У нее в «Чертовом колесе» множество жаргонных имен, главное из которых – «лекарство». (Наркоманы в романе именуются как угодно, но чаще – «морфинистами».) Вертикаль героинового шприца в Грузии 1987 года (!) нанизывает на себя обитателей тбилисского дна и богему, инструкторов комсомольских райкомов и партийных боссов, барыг и ментов, воров в законе и цеховиков… Свободными от каких-либо взаимоотношений с дурью остаются считаные персонажи – шестиклассники Гоглик и Ната да грузинские националисты – сванские шапочки, лекции Гамсахурдиа. Есть в этом странном сближении какая-то причудливая рифма – мостик к постсоветской и саакашвилиевской Грузии.
Вместе с тем автора ловишь на странном парадоксе – не демонстрируя явного расположения или антипатии к своим героям, готовности клеймить, осуждать или защищать, он дает читателю горькое право на симпатию или – как минимум – понимание. Более-менее сукиным сыном в романе выглядит только один из морфинистов, причем не вор, бандит или мент, а директор магазина.
Тут нет пафоса Высоцкого из палаты наркоманов: «Добровольно принявшие муку, эта песня написана вам». Нет достоевского любовно-брезгливого интереса к опустившимся. Но есть пушкинская щедрая к ним, падшим, милость. Я, естественно, не сравниваю масштабов, но говорю об авторской позиции.
Роман Михаила Гиголашвили сделан вполне просто, крепко, сюжетно. Я бы даже сказал – «лихо», что и вовсе удивительно для книги такого объема. Спотыкаешься лишь на традиционных, похоже, для грузинских писателей, главах с «мифологией» – каковые сюжетной нагрузки не несут, но задуманы придавать тексту иное, магическое измерение.
Вообще, в прямолинейности приемов – считаные минусы романа. Слишком уж назойливо все, от криминалов до министров, матерят «перестройку» – для метафоры распада и гниения империи это нормально, но для 87-го года, даже в Грузии – не слишком правдоподобно. Жаргон русских немцев, беженцев в Германию из Казахстана (и, разумеется, морфинистов), сначала забавляет, потом утомляет. В бесконечных его повторах есть что-то от преподавательского, филологического занудства. При этом акцент Гиголашвили передает виртуозно – все (или почти все) вроде говорят на чистом русском, но в принадлежности героев к тем или иным народам – не сомневаешься.
Механическая увлекательность чтения не отменяет многоуровневости романа.
То, что чудовищный размах коррупции и гнили начался с окраин Империи и предвосхитил общероссийскую ситуацию 90-х и нулевых, – на поверхности. Интересней другое – «Чертово колесо», иногда до полного дежавю, перекликается с русской литературой о Гражданской войне (Бабель, Есенин, Шолохов и др.) – та же ситуация слома эпохи, смены «понятий», реанимации языка и схожее ощущение потери смысла дальнейшего существования. В этом ключе из современных русских авторов к Михаилу Гиголашвили ближе всего «Адольфыч» Нестеренко, бывший наблюдателем и участником не «той, единственной», а новой гражданской на другой, украинской, окраине (знаковая тавтология). Параллели тбилисского филолога и киевского братка – тема для отдельного разговора.
Поразительно, но «Чертово колесо» завершается практически хеппи-эндом, неожиданным, двусмысленным, в духе «черных комедий». Мы, знающие все дальнейшее про СССР и социальные болезни, проникаемся странным оптимизмом от подобного финала…
И вообще, роман стопроцентно кинематографичен, готовый сценарий, в диапазоне от полнометражного блокбастера до сериала. И найдись хороший режиссер, наше «Чертово колесо» будет покруче ихнего TRAINSPOTTING'а.
Мультики без пульта, или Конец Чебурашки. О «Мультиках» Михаила Елизарова
У нас эта полукриминальная забава именовалась «чебурашкой» – похоже, от распространенного народного названия дамских искусственных шубеек. Плюс специфическое чувство юмора советских трудных подростков, выросших на Эдуарде Успенском.
Нагая под шубой вакханка в холодное время года и темное – суток подходила к припозднившимся прохожим мужского пола, среднего возраста (и желательно, интеллигентского телосложения) и распахивала эту самую шубейку.
Тут же рядом возникали пара-тройка угрюмых качков, интересуясь:
– Чебурашку видел?..
Почему-то невольный зритель сразу понимал, о чем речь.
– Д-да…
– Тогда плати!
Такса, кстати, была особой историей. Если на чебурашке все же были надеты трусы и колготки и нерядовое зрелище ограничивалось голой грудью, стоило это десятку.
В случае, когда под шубой не было ничего, цена вопроса возрастала до четвертного: забавна бухгалтерия совкового любительского стриптиза. Видимо, в сознании устроителей этого зрелищного мероприятия именно в районе пупка пролегала граница между эротикой и порнографией.
Интересно, что действия «чебурашечников» никак не квалифицировались советским УК, если не доходило до рукоприкладства. Но такое случалось редко.
С писателем Михаилом Елизаровым у нас, наверное, одинаковый ранний жизненный опыт, разве что у них в Советской Украине (Михаил родился в Ивано-Франковске, а учился в Харькове) аттракцион «чебурашка» назывался «мультики».
«Мультики» – титул его нового романа.
«Мультики» как визуальное искусство, побочное дитя кино – надо полагать, явление близкое писателю Елизарову, несколько лет учившемуся в Германии в киношколе. Как он сказал в одном из интервью, самый близкий его друг – мультипликатор, живет в Берлине.
«Мультики» в романе – метод перевоспитания трудных подростков, инструментом которого служат диафильмы, на самом деле – комиксы. После просмотра которых у героя диагностируют эпилепсию, а прочая симптоматика смахивает на последствия лоботомии. Прооперирован и окружающий мир – из него неведомым способом изъяты друзья-подельники и парочка одноклассников. «Перековка» производится силами педагогов, членов некоего ордена или кружка наследственных инквизиторов. Они рукополагают один другого (посредством пресловутых комиксов); у каждого в детстве-юности – криминальная история, вплоть до убийства с расчлененкой. Страшноватая мультипликационная матрешка явно патологических типов, предыдущий вылепляется из воспоминаний последующего. Флешбэки, как Кощеево яйцо, содержат в предельно карикатурном плане смерть криминала-грешника и воскресение к иной, педагогической праведной жизни. «Перековка» производится в детской комнате милиции, само местоположение которой условно и таинственно.
«Мультики» – так малолетние токсикоманы, полиэтилен с парами бензина или клея на голове, называют свои трипы и глюки.
Наконец, «Мультики» Михаила Елизарова – самая впечатляющая метафора перестройки и всего последующего, из всех, какие я знаю. Дмитрий Александрович Пригов:
Явилась ангелов мне тройка, И я ее в сердцах спросил: – Что будет после перестройки? – А некое Ердцахспр Осил! – А что это? – Не знаешь? – Не знаю! – Ну узнаешь, узнаешь, не торопись.Так вот, Дмитрий Александрович нервно вздыхает в уголке (Пригов не курил). Если допустить, что там, где сейчас находится Дмитрий Александрович, имеются уголки.
Ангелы перестройки у Елизарова подменены этими самыми педагогами с явными приметами адской инфернальности. Рожденные диафильмами-комиксами, они кажутся своеобразных миксом из нашей родной бесовщины (в т. ч. в достоевском смысле) с ихними маньяками (впрочем, у нас и своих хватает).
Забавно, что «Мультики» – роман-комикс, роман-метафора, по сути являет собой классическую для русской литературы модель «романа воспитания». Только наоборот. «Мультики» – локальное проклятие прогрессу и личностному росту. Читатель, захлопнув книгу и оставляя героя в уже привычном кошмаре, безоговорочно будет полагать «золотым веком» подростковые тусовки за гаражами, тусклые видеосалоны с «Рэмбо. Первой кровью» и «Кошмарами на улице Вязов – 2», мелкий уличный гоп-стоп, который у нас назывался «шкалять деньги».
Чебурашечный эробизнес представляется много безобидней «мультиков перевоспитания» с намертво забитой в сценарий историей болезни в ее развитии, протекающей помимо воли героя.
Наконец, убогий закат совка живей и мучительно симпатичней постперестроечного ничто и пустоты, разбавленной мыльным сериалом повторяющихся кошмаров.
Все-таки введу в курс дела. Заурядный тинейджер с незаурядным по тем временам именем-фамилией, Герман Рымбаев, вместе с родителями переезжает в промышленный мегаполис с «метро и оперным театром», потому что там у мальчика «перспектив больше». В драке, как тогда водилось, сходится с дворовой компанией. Получает погоняло – Карманный Рэмбо.
(Во всем, что касается нашей позднесовковой юности, Елизаров удивительно точен – дворовые сообщества были крепче и агрессивней школьных; во дворах знали и звали друг друга по кликухам, в школе по фамилиям; именно дворовые компании вместе занимались спортом и шли «на дело».)
Впрочем, все это было и у подростка Савенко, почти не изменившись к 80-м.
Старший товарищ (из отслуживших, коротающий время за портвейном и мечтой «замутить», то бишь взять под контроль какой-нибудь кооператив) подсказал идею с мультиками. Благо есть две общие подружки, бесхитростные давалки, с одной из них у Германа предсказуемо случается первый секс, и даже любовь в одностороннем порядке. Антураж из самогона, консервов, блевотины и пропеллеров в голове – прилагается.
Бродячие артисты передвижного стриптиза создали две бригады, неплохо поставили дело, зарабатывая за вечер до двухсот рублей, Герман справил себе магнитофон и электронные часы «Монтана» с семью мелодиями.
Вдруг облава и гоп-стоп.
Герман кладет живот за други своя и «в менты» попадает один. Оные, кстати, доставив юного правонарушителя в «детскую комнату», сами от этого странного места вибрируют всем своим милицейским ливером.
И тут, в «детской комнате» реализм и совковая география промышленного мегаполиса «с метро и оперным театром» резко заканчиваются. Как говорили в те времена в аналогичных компаниях, понеслась узда по кочкам.
По кочкам сюра, злобноватой пародии и мрачного смрада расходящихся тропок, смыслов и знаков, главный из которых, на мой взгляд, – трагедийные приключения неокрепшего советского разума (кстати, главного педагога-вивисектора зовут Разум Аркадьевич) в перестройку и сразу после.
Тема не нова; и чего только по ней не написано. У Елизарова получилась компактная и жутковатая метафора, разбирать и собирать этот кубик Рубика все равно что одевать уличную чебурашку в белье, адекватное описываемой эпохе. Это будет грубым насилием над текстом и измывательством над автором.
Достаточно исходников. Герман – мальчишка симпатичный, но глубоко заурядный; подавляющее большинство советских граждан того времени оставались хмурыми подростками.
Мультики-диафильмы-комиксы, помимо дрянных и однообразных, отличных только составом преступлений, биографий педагогов, включают поведенческие сценарии и матрицы на ближнее и дальнее будущее. Реализуются самими героями, но как бы помимо их воли и разума. Биографический треш и жесткач сопровождается сусальными, как книжки о пионерах-героях, в звуковой манере «Радионяни», историями перековки. Тут тебе и гласность, и журнал «Огонек», а в «Новом мире» в 1989-м вообще начали печатать «Архипелаг ГУЛАГ», кстати, солженицынские визгливые интонации угадываются у Разума Аркадьевича…
По ходу демонстрации мультиков исчезают время и пространство. Чисто «конец истории» от идеологов всемирного либерализма.
Все это напоминает легенду о «дудочке крысолова» и «Синий фонарь» Пелевина («Пока он «Время» смотрел, вся жизнь прошла»). Оригинальность Елизарова в том, что сюжет с «мультиками» проецируется на конкретный отрезок истории страны. С болезненным, подчас до постыдных деталей, угадыванием.
Педагоги, кстати, понемногу похожи на всех наших звезд-младореформаторов сразу. Занятно, что один из них почти дословно цитирует Гайдара-деда: «Разум, уморил! «Труп сделал из обезьяны человека»! Гениально! Да ты юморист! Зощенко! Кукрыниксы!»
В оригинале: «Старика Якова запереть в инвалидный дом! Юморист! Гоголь! Смирнов-Сокольский!» (Аркадий Гайдар, «Судьба барабанщика»).
«Судьба барабанщика» – великолепная и знаковая для своего времени (1938 г.) вещь, да и сам термин «перековка» – родом из 20—30-х, словцо это – лейтмотив знаменитого коллективного труда о Беломорканале…
По сценарию «мультиков», прокрученных педагогом Разумом Аркадьевичем, Герман сдает друзей-подельников. Реальный Герман эти «мультики» смотрит, а друзья и девушки просто исчезают. Неизвестно куда. Скупые версии разнятся.
В финале у Германа эпилепсия и припадки, как и было сказано. Малейшая деталь, отсылающая в детскую комнату, вновь погружает в ситуацию «вспомнить все».
Впрочем, если «не возбуждаться», как называл это Лимонов, можно существовать тихо, скудно и вполне сносно. Хорошо учиться, ходить в институт и дружить с Ильей Лифшицем – к слову, единственным положительным героем романа.
А Елизаров подбрасывает шифры: болезнь у героя обостряется в нечетные годы. Основное действие разворачивается в 1989-м, а дальше 1991-й, 1993-й…
…Откуда вырос роман «Мультики»? Нынешних русских писателей поколения сорокалетних и около того (Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Алексей Иванов, Роман Сенчин) объединяют, помимо возраста, установка на минимализм изобразительных средств и левые симпатии с сильным привкусом ностальгии по советскому проекту. Елизаров, хоть и вполне отвечает этим признакам, стоит особняком.
Он пишет не просто механически увлекательно, он выдает крепкий экшн с твердой конструкцией и сознательной установкой на скупой жилистый стиль – «с небольшими, но очень рельефными мускулами, какие бывают у гимнастов», как по другому поводу сказано в тех же «Мультиках».
Вместе с тем его можно назвать укротителем форм – собственно, сюжет «Мультиков» с первого взгляда тянет только на рассказ, зато вполне романные фабулы («Госпиталь», «Нагант») он лихо кастрировал до новелл.
Вместе с тем Елизаров – пожалуй, единственный в своем поколении эпигон поколения предыдущего, чего почти не стесняется. Там, где они кончили… Но и они еще не кончили, поэтому он не начинает, но продолжает. И его последовательное разрушение табу и запретов – своеобразное признание в любви литературным учителям. (Кстати, лыком и в эту строку легко проецируется универсальный сюжет «Мультиков».)
Эпигонствует Елизаров по двум направлениям. Лучшие его вещи – сектантские боевики Pasternak и «Библиотекарь» («Русский Букер» – 2008) близки романам замечательного, но, увы, не слишком популярного у российского читателя Владимира Шарова и отчасти – Виктора Пелевина раннего и срединного периода.
Вторая ветка – патологического реализма с элементами мрачноватой пародийности – прямиком из Мамлеева и немного Сорокина. Апофеозом мамлеевщины у Михаила стал сборник «Кубики» – худшая его на сегодняшний день книга, однообразная и рыхлая, с сознательной установкой на чернуху, довольно-таки примитивного, к слову, вполне перестроечного свойства.
Елизаров эту раздвоенность ощущает, и «Мультики» – не что иное, как «Кубики», сильно улучшенные по форме и стилю, отделанные по всей строгости, снабженные историко-мистической подкладкой. Писатель сделал попытку свести два своих русла воедино, и попытка случилась удачной.
Если, конечно, можно называть удачей талантливую метафору катастрофы. Под условным названием «Гибель Чебурашки».
Новейшая история обыкновенного безумия. «Информация» Романа Сенчина
Роман Сенчин – 45 лет, Москва, писатель, в книге «Информация» в очередной раз, петляя и скрипя тормозами, выходит на основную свою колею – историю провинциала, маленького лишнего человека, снова потерпевшего поражение.
Природа житейских драм и крахов, по Сенчину, жестока и бесспорна: изменчивый мир никогда не прогнется под нас – это пустая и вредная иллюзия. Но и прогибаться под него – лишено смысла. Гнешься, гнешься, раз – и сломался.
Об этом все книги и персонажи писателя – мелкие коммерсы, ларечные продавщицы, вхолостую лабающие рокеры, их подружки, соседи и собутыльники. Семейство милицейского капитана, съехавшее на погибель в деревню…
Казалось, куда дальше «Елтышевых» – с их надсадной скоростью умерщвления и реальным вкусом земли во рту после прочтения романа. Оказалось, можно и нужно. Не по фактуре и фабуле, но – в инструментах и методах. В «Информации» процесс перехода социального реализма в тотальный абсурд почти не поддается фиксации и пропорциям. Это уже какое-то ровное русское поле экспериментов – не то социальный абсурд, не то абсурдный реализм. Причем вывозит нас Сенчин на эту поляну на щадящей скорости, без помощи сильнодействующих средств.
Он долго и трудолюбиво шел к своему нынешнему – негромкому – статусу. Русского писателя вне поколений, литературоведческих кластеров и даже вне географии. Родился в Кызыле (Тыва), живал в деревне, Питере, Абакане и Минусинске – похоже на мистическую контурную карту, при этом ровный, интонационно и эмоционально, Сенчин воинственно не приемлет любой мистики, иной реальности, кроме как во время делирия. Герой «Информации», умиляющийся наличию идеалов в собственном прошлом и выхолостивший на сей счет настоящее, всерьез готов обсуждать только свой атеизм.
Армия, разнообразные работы, Литинститут, Москва; печатается с 1997-го, кажется, года, книжные публикации – с начала нулевых, и, как теперь выяснилось – пишет всю жизнь одну книгу – сагу о трудных отношениях своих героев с миром, сага семейная, потому что связь героев со средой – всегда интимная и подчас кровосмесительная. БДСМ, само собой.
Сенчин – подчеркнуто, в насмешку устаревшим классификациям, не интеллигентен, но и совершенно не народен. Провинциал, но отнюдь не маргинал. Этот, когда-то модный, ярлык у него вручается персонажам, вызывающим живую неприязнь. «Никита, – окликнула Ангелина прилизанного почти мальчика с перепуганным лицом. – Никит, подходите к нам! Что вы там, как маргинал?»
Сенчин всегда писал многословно, с избыточными, казалось, подробностями, пробуксовыванием довольно примитивного сюжета (шаг вперед – два шага назад). Он, однако, как никто умеет находить занимательность в обыденности, и занимательность эта довольно странного свойства.
Сенчин не навязывает читателю сопереживания, делать жизнь с его героев, которых жизнь «сделала», – извращение сродни мазохизму. Даже краткие и временные победы и удовольствия персонажей напрочь исключают элемент «подсаживания». Читатель не хочет его женщин (описание секса у Романа – стиль даже не медицинского справочника, но энтомологического словаря; Сенчину вообще очень близок шукшинский мотив – женщины-врага. А с женскими людьми, которые могут показаться симпатичными, – всерьез не получается).
Работать его работы скушно и тошно. Пьянки заурядны и как-то совсем буднично мотивированы, запои выжигают, но не обновляют, никакого волшебства даже в белой горячке, сплошной ужас и черный гроб, как говорил Булгаков по другому поводу. Друзья примитивны и опасны, провинция и Москва с Питером – один хрен, и проблемы аналогичны, только масштаб разный. Странствия утомляют, не обогащая и ничего не меняя – в той же «Информации» между Иркутском и Дагестаном – практически нет отличий: и там, и там пустые улицы, кафе и вечера, люди пугливы и себе на уме. Разве что в кавказской республике нет стриптиз-бара, зато телевизор в номере – везде.
Словарь заурядный, стертый даже в ругательствах. Чаще прочего употребляемы «тварь» и «гнида» (по адресу женщин и даже жен, как вы сами догадались). Еще «геморрои» – во множественном числе, и довольно точно – ибо жизненные переплеты героя напоминают историю именно этой болезни – шишковатые сюжетцы, в общем, не смертельны, но мучительны и противны. Нередко попадается «быдло» и его производные.
Тем не менее этот поток читателя уносит, и, если не складывать лапок, в какой-то момент понимаешь, что у тебя есть товарищ по энергии преодоления – сам автор. Который из всего этого литературу делает, и неряшливая словесная масса с проблемными, как один, персонажами – его метод, способ заговаривания жизни, поиски лучшего и настоящего. Мелькают в мутно-дневниковом повествовании куски подлинной боли, холодный блеск дефиниций, гранулы фирменной сенчинской иронии. Возрождая старый спор литературных мерчендайзеров о том, где лучше сверкать брильянту – на ювелирном прилавке или в куче навоза.
Тут любопытно замечание Дмитрия Быкова, который выводит Сенчина из Гашека-Швейка: «В России сейчас нечто подобное делает Роман Сенчин, чья проза о быте мелких «новых русских» или средних провинциалов сначала заставляет скучать, а потом хохотать (и думаю, автор рассчитывает именно на такой эффект)».
Тем не менее к скуке и смеховому катарсису Сенчина не сведешь – основное у него, на мой взгляд, претензия на эпос девяностых – нулевых, все трудней маскирующийся под бытописательство и все больше тяготеющий к обобщению. И – описание адекватного времени героя, чье главное занятие – бегство, уход, прятки. Героев Сенчина можно назвать, как приверженцев русской мистической секты – бегунами. Или, по законам военного времени – дезертирами. При этом рефлексирующие сенчинцы (ну, как Лимонов придумал особый народ – достоевцы) заявляют о своем поражении не без гордости и оглядки на вечность. В «Информации» – лучшей пока, на мой взгляд, книге Романа – это особенно заметно.
Итак, «Информация», для героя которой автор пожалел имени (а догадка о протагонисте пропадает, как только в окружении повествователя обнаруживается журналист и писатель Олег Свечин, родом из Абакана, издавший три книги). Герой предупреждает, что описывает обстоятельства последних лет собственной жизни. Сделав схрон из собственной квартиры, закупив еды и водки, передвигаясь по дому на цыпочках, отключив мобильник и городской, он прячется сразу от всех и мира в целом.
А обстоятельства таковы (Сенчина легко пересказывать). Провинциал, родом из поволжских столиц (Самара, очевидно), перебирается в Москву, земляк и товарищ юности пристраивает в информагентство, герой неплохо зарабатывает на ниве полупиара, полужурналистики, а точнее, торгует ресурсом доступа к полосам, лентам и эфирам, и, в общем, успешно обживается в столице. Перевозит подругу, женится. «Вообще, последние годы казались мне неким сном, в котором что-то делаешь, даже размышляешь и соображаешь, отыскивая выходы из сложных ситуаций; бывает, расстраиваешься, бесишься, но все же остаешься в этом сне, уютном, удобном. И просыпаться не испытываешь потребности».
Сон обрывается изменой жены – о которой герой узнает, прочитав, как водится, СМС в ее мобильнике. Пьянка, ограбление, едва не потеря обмороженной ноги, пересмотр всех прежних взглядов и установок, жажда новой жизни, покупка квартиры и машины. Развод, изнурительные дружбы, любови и суды, поиск смыслов и девушек. Пьянки, утомительные даже в перечислении водок и закусок, запои с парой делириев, и – финал, с обещанием повествователя быстрей до него добраться и погружением читателя в новые многостраничные «геморрои».
Психика героя, конечно, разорвана и пошла вразнос, впрочем, предупреждая читательское хихиканье, он аккуратно перечисляет реальные и в основном мнимые угрозы – интернет-тролль с аватаром в кавказской папахе обещал подъехать в Москву и наказать за статью о дагестанских делах. По пьяни сболтнул, что бывшую жену легче заказать, чем заплатить, и теперь боится мести нынешнего мужа-банкира. Обещали разобраться родственники девушки, которой делал предложение, а потом спрыгнул… После случайного пересыпа с подругой юности объявился, в свою очередь, муж и требует встречи, «если ты мужик, а не пидор…». С работы уволился, права отобрали…
Конечно, смешно, глупо, никакой безымянный герой не потаскун и бабник, для этого он слишком вял и пьющ, и все мы знаем, с какой легкостью сейчас бросаются угрозами, разучившись отвечать за базар… Он просто тихий, но прогрессирующий сумасшедший, и путаная исповедь его вроде истории болезни, «написанной им самим», вот только, несмотря на все подробности и монотонности, совершенно не фиксируется, когда у нашего парня поехала крыша.
Зато вся история происходит на фоне, дотошно и с удовольствием прописанном, поздних нулевых, с их потребительски-кредитным бумом, ресторанно-клубной Москвой, победами сборной на «Евро-2008», Цхинвалом, кризисом; «несогласными» и «нашими», смертью Егора Летова, нашествием мигрантов, литературными тусовками «нового поколения» (легко, помимо самого Сенчина, угадываются Сергей Шаргунов, Сева Емелин, вот только прототипа Ангелины я не смог определить, но, может, и не надо). В отличие от сдвигов крыши легко фиксируются развилки судьбы, мимо которых проскочил герой и где, быть может, могло бы что-нибудь получиться…
…Тут легче всего отыскать авторский замысел – дескать, не захотел примкнуть к молодым поэтам-писателям-философам, не прозрел жизнь настоящую, вот и оказался, не включая света, с помутненным рассудком наедине с ноутбуком и бутылкой. А ведь увлекался радикализмом, контр культурой, 68-м годом, Селином – Сартром, да и сейчас торчит от Паланика с Уэльбеком, и старые эссе можно подправить и напечатать. Но. Герой, любя свое юное продвинутое, посмеивается над нынешними неформалами, это не снобизм и чужеродность, но нормальный обывательский скепсис. Ирония, не разящая, а здоровая, весомую часть которой, это заметно, разделяет и Сенчин.
…Еще проще угадать в тихом пьянице-безумце метафору модного ныне несогласного – который прятался от режима и с его гопотой, а потом достало, заштормило, он и дунул, уже после книги, на Болотную, а там и на проспект Сахарова. Ну, как Чацкий, а за ним Онегин должны были оказаться в декабристах.
И уж совсем на поверхности (благо рассуждений о религии и атеизме, по-своему искренних и глубоких, в книге полно) – отказался от Бога, ну и оказался в жопе.
Все это, конечно, ерунда. Шняга, как выразились бы сенчинцы. Дезертирует герой и трещит его судьба не потому, что просмотрел, проспал, пропил какие-то варианты. А потому, что был адекватен своему гнилому времени – околонулевым. Не мужчина – а штаны в облаке обывательского цинизма. Как говорила в «Информации» девушка Алла – «планктоша» – вкладывая в словцо не офисную, а мировоззренческую принадлежность. Афористичней всего об этом сказано в «Бумере» Петра Буслова: «Не мы такие, жизнь такая». Сохранили личность (если было что сохранять) люди, предпочитавшие маргинальные стратегии, как та же Алла, с ее кокаином и бильярдом, или Олег Свечин, с его литературой, халтурой и откровенно вторичным рок-н-роллом, а вот жестоко тратились те, кто, подобно герою «Информации», считал, что такие правила одни и навсегда. Впрочем, далеко не все решались дезертировать, и тихий подвиг героя – не в слив, но в плюс ему. История обыкновенного безумия в необыкновенное время. Или наоборот?
Да, интересный писатель, хороший, непростой роман. Похоже, «Информация» задумывалась как ответ «Черной обезьяне» Захара Прилепина. А получился не ответ, но дуэт. Романы в основных линиях поразительно схожи – их герои, разные люди нулевых, завершают десятилетие с одинаково разгромным результатом, диагнозом и местопребыванием. Так же блуждают в доставшемся времени, как в лесу, помня, что когда-то были компас и тропинка… Обстоятельно и вдумчиво анализируют порнографию. Одинаково взаимодействуют с женщинами: мечутся между неверными женами и верными подругами (и наоборот), пытаясь открыть в проститутках нечто, скрытое под функционалом… Достоевский, словом, на новой фене.
Сенчин, кстати, этот мячик нам подбрасывает, напрямую, в тексте, указывая на роман «Подросток». И, дабы не показать нам, будто впал в амбицию, ругает «Подростка» худшим романом ФМ, ворчит о неряшливости слога и неоправданности дневникового приема.
Заказывали в XX веке Льва Толстого? С Толстыми и в XXI по-прежнему глухо, но Достоевские, один за другим, уже трезвонят в парадное.
Непобежденный на стройке. Сергей Боровиков, «Двадцать два»
Объявленный издательством тираж в 300 экземпляров даже коллекционным сложно назвать – шестисотстраничный фолиант, натурально, разойдется по друзьям и поклонникам писателя, а оба этих круга не пересекаются, но совпадают. Другое дело, что Саратовом география распространения уникального издания явно не ограничится. Ибо друзья и поклонники Сергея Григорьевича зафиксированы по всему миру, и не только русскоговорящему.
У меня относительно названия – собственная версия: в книгу вошли тексты, писавшиеся с 1989 года, ну и, соответственно, публиковавшиеся в два последних десятилетия, 1989–2011, получается как раз 22, по Мандельштаму, «звуков стакнутых прелестные двойчатки».
Красиво. А ежели я в своем предположении заблуждаюсь, и уважаемый автор поднимет меня на смех, имеется хлипкая подпорка для сей арифметики: Сергей Григорьевич до сих пор не замечен в переиздании своих произведений, написанных тогда, когда Боровиков был членом Союза писателей СССР, советским же критиком и редактором.
А коли начал – договорю: отношение Сергея Григорьевича к литературе, как, в известной степени, ремеслу, всегда мне импонировало, да и феноменология советского писательства – один из его магистральных сюжетов. Отношения человека со временем – у него и вовсе сюжет сюжетов… Тем не менее настоящим, образующим автора и его окрестности, он, не сомневаюсь, полагает собственное писательство отчетного периода – одиннадцать лет до миллениума и одиннадцать – после.
Как-то совпало, что тогда, в 89-м, кончилась советская власть, а писателю стало за сорок. Последнее важнее: «Спустя сколько-то лет, а именно в конце 80-х, я утвердился в печальном выводе, что критика из меня так и не вышло. С омерзением окинув прожитой мной путь, я почти перестал писать, но вновь, как в юные годы, сделался читателем. Был крайне всем недоволен и незаметно поумнел» («Крюк. Ненаписанный филологический роман»).
Кстати, главная вещь Сергея Боровикова – «В русском жанре» – имеет аналогичную датировку.
Я сделался счастливым обладателем этой красивой, двадцатидвухлетней книги и сразу понял: рецензии у меня не получится. Какая к черту объективность, если речь идет о Боровикове, которому я обязан в жизни чрезвычайно многим и, как выяснилось, кое-какие обязательства отбил: многие тексты книги появились не без косвенного моего участия, что наполняет меня радостью довольно щенячьего свойства.
«Хронос» – ценный не столько фактурой, сколько литературой, – задолго до появления «Календаря» Дмитрия Быкова и концепта «год – книга» Александра Архангельского, – был придуман как рубрика «Общественного мнения», специально под Боровикова. Там же появился рассказ «СССР на стройке», куча рецензий – книжных, киношных, телевизионных… «Рассказы старого книжника», с их неподражаемой интонацией, писались для газеты «Гек», которую редактировала моя жена Наташа, пока не забеременела. У «Гека» был короткий и яркий век, узнаваемый логотип – карапуз в башлыке (меня и Наташу с Сергеем Григорьевичем, помимо прочего, сближала и любовь к Аркадию Гайдару).
Но фишка не только в почетной, хотя и второстепенной роли публикатора – практически все тексты, попавшие в «Двадцать два», мне знакомы, и задолго до прочтения. Или параллельно с ним.
Как говорят музыканты – спасибо за ансамбль.
О процитированном «Крюке», его замысле-исполнении, Сергей Григорьевич, помню, говорил за рюмкой. Редкий для него случай: рассказ оказался скучнее текста. Наверное, потому, что в «Крюке», с его штрихпунктирами, непрерывен только вневременной саратовский ландшафт, а все мы, хоть с рюмкой, хоть без, – только часть его, целого. Вроде фотографии в семейном альбоме без конца и начала.
Опять же, за рюмкой, вернее – за целым столом с цельным гусем (Боровиков праздновал окончание книги «Русский алкоголь», на которую возлагал тогда определенные надежды), Сергей Григорьевич прочно и надолго подсадил нас на ретро-шансон. Мы, конечно, знали и любили Александра Вертинского, а вот Юрий Морфесси и Петр Лещенко с тех пор вошли почти в ежедневный, не только застольный, обиход.
Все трое – герои книги, Боровиков мониторит литературу о них, как правило слабую, но метод его таков, что певец проходит через очередную биографическую поделку в обновленном, очищенном от словесной шелухи виде. «Менее смертном», как говорил Анатолий Мариенгоф.
То Сергей Григорьевич, в своей сварливой манере, жалуется, будто Арбитман пристает с ножом к горлу «сделать рецензию на Гурского» (и рецензия появляется, да какая!). То заинтересованно рассуждает со мной о писательском феномене Слаповского («настоящая беллетристика должна быть, прости господи, глуповата») – и текстов об Алексее Ивановиче в книге едва ли не больше, чем о других литераторах из ныне живущих…
Кстати, со многими ныне живущими персонажами книги автор меня и познакомил: с Евгением Поповым, Владимиром Войновичем, Андреем Немзером…
Словом, прохожу как соучастник, и, если автор готов брать все на себя, восторги останутся при мне.
…Хоть у меня и не рецензия, скажу пару слов о навигации: в книге три раздела – условно критический («Струна»), условно прозаический («Опыты») и условно публицистический («Саратов»; триаду название – подборка – содержание я оценил). Однако особо заинтересовали меня «Опыты» – и потому, что там нашлись незнакомые прежде рассказы и даже сказка, и потому, что Сергей Григорьевич всегда и многословно настаивал на несерьезности своих занятий подобного рода, а вот поди ж ты… Казалось бы, прекрасно известный мне рассказ «СССР на стройке»: привычное дело, знакомая география. Но вот как заиграло: «Сушеная рыбка местного улова – от крошечной баклешки до леща – расстилалась серобокой дрянью везде, где торговали, но вобла, астраханская вобла, а только астраханской она и бывает, вся на подбор, одинакового, словно на машине деланного, размера, с приятной твердой припухлостью брюшка, содержащего двойные сомкнутые, наподобие моллюска, оранжевые ладошки икры, легко отделяющиеся от подсушенных внутренностей (тогда как в вяленой рыбе самодельной местной засолки один желчный пузырь способен отравить своей едучей болотной слизью не только икру, но и все удовольствие от поедания ее), а если поднять к солнышку, то светящаяся не как полусырой лещ его мутным непрозрачным мясом, не как невесомая, без жиринки баклешка своим серым стеклышком, но полновесным янтарным светом ровно провяленного тельца, чуть темнея к позвоночнику…»
А?
Знающие Боровикова поймут, с какой интонацией я произношу это «А?».
Надписи на книгах, которые мне дарит Боровиков, всегда имеют схожий мотив учительства-ученичества. «Дорогому Алексею Юрьевичу Колобродову – победителю-ученику от непобежденного учителя».
Объясню, в чем тут дело. Объясню, быть может, и самому непобежденному.
Основной урок Сергея Григорьевича: литература – это главное, живое, на глазах и руками совершающееся дело, но дело всегда личное. Претендовать на некие бонусы только потому, что сочиняешь, пытаешься печататься и издаваться, – глупо, несерьезно и пошло. Обуздать в себе похоть кукарекать вне литературного контекста, исключить соблазн стадности, отправить в игнор псевдоцеховую не то солидарность, не то грызню… Открыто Боровиков всего этого не проговаривал, тем паче не постулировал, но само его присутствие делало данную модель постыдной, да и невозможной.
Мои товарищи, плотно или краями соприкоснувшиеся с «Волгой» Боровикова, – Олег Рогов, Алексей Голицын, Алексей Александров, Сергей Трунев – вынесли достоинство, такт и самоиронию из своих отношений с литературой.
Урок оказался востребован с годами, именно сейчас, когда литература (не только в Саратове) сузилась до трехсот экземпляров и размеров дружеского застолья.
Впрочем, нам хватает.
«Ворошиловград» и Миргород. О романе Сергея Жадана
Давно не бывал я в Донбассе, Тянуло в родные края. Туда, где доныне осталась в запасе Шахтерская юность моя, —была такая советская песня Никиты Богословского на стихи Николая Доризо. Ее проникновенно исполнял певец Юрий Богатиков, народный артист УССР.
Роман Сергея Жадана «Ворошиловград», сильный без дураков, уже нашумевший, увенчанный премией Би-би-си «Книга года», – ровно об этом. Разве что шахтеров следовало бы заменить на «газовщиков», футболистов и цыган.
Герой «Ворошиловграда» – молодой человек Герман, занятый, по нынешнему обыкновению, какой-то мутной деятельностью в крупном городе, получает известие. Брат его, владелец заправки и автосервиса на трассе близ небольшого городка в Донбассе, без объяснений укатил в Амстердам (да-да, в подтексте рекламируется эта легкость необыкновенная перемещения с Украины в столицу европейского кайфа), и теперь с бизнесом надо что-то делать. Герман пытается, и все заканчивается, в общем, хорошо.
Пафос основного конфликта почти есенинский – на малую родину Германа, половодье чувств и островок воспоминаний, наступает чужое каменное и стальное; брызжет новью на его поляны и луга. Шатается и скрипит патриархальный уклад. Правда, знаки несколько поменялись – заправка и сервис имеют определенное отношение к индустрии и технологиям; у корпорации же, воюющей с Германом и его компаньонами за землю, новь весьма архаичная, кукурузная. Колесо эволюционной, социальной сансары.
Кажется, пока никто из рецензентов не обратил внимания на прямую перекличку титлов – «Ворошиловград» и «Миргород». И очевидное противопоставление мирному городу военного поселения – фамилия многолетнего наркома обороны, первого красного офицера – символ советского милитаризма. Двусмысленный, конечно, у Жадана: не «ворошиловский стрелок», а клятва юных блатных – СэБэНэВэ («Сука буду на века»; официальный вариант – «Советский боевой нарком Ворошилов»).
Жадан гоголевские реминисценции педалирует сознательно, а травестирует неосознанно. Он – эдакий Гоголь-хипстер, со страстью фотографирования всего и вся ручной мыльницей. Пусть с качеством проблемы, но схема зависания в соцсетях – «прикол + креатив» – реализуется с блеском.
Другое принципиальное отличие – угрюмая мистика Гоголя (наш ответ европейской готике), настоянная на закарпатских болотных туманах («Страшная месть», «Вий»), у Жадана оборачивается прирученным магическим реализмом. Даже не классического латиноамериканского, а постмодернового балканского извода, как будто ром смешали с ракией и разбавили до крепости бражки.
Оптика Жадана размыта, пластика приблизительна, мотор и мясо сюжета – вечная дорога с экзотическими приключениями и персонажами – вполне умозрительны. Равно как футбольный «матч смерти» – сюжетный контрапункт первой части, трудовые будни автосервиса, стрелка и разборка, любовь с прекрасными взрослыми женщинами (тут явственней всего проявляется инфантилизм, вообще присущий этому роману).
Жадан пишет о футболе – и не дотягивает даже до уровня среднего комментатора; команда покойников – по замыслу, беспокойных и героических – чисто тинейджерская массовка, утренник в седьмом классе. Секс – как вялая сцена в арт-хаусном фильме, хорошо, хоть без непристойных укрупнений.
Возможно, впрочем, что по-украински (на русский «Ворошиловоград» переведен З. Баблояном) оно выглядит куда как вкусно и сочно. Однако есть подозрение, будто «Ворошиловград» как раз проигрывает в оригинале – сдается мне, на русском имитировать полнокровие как-то проще, а врать сподручней. Молодые языки приспособлены для имитации меньше.
В хипстерском запале погони за приколом-креативом Жадан грешит не против реальности, шут бы с ней, но против художественной правды. Бэкграунд одного из персонажей:
«Сам Коча все больше пил, и развал страны прошел мимо его внимания. В конце восьмидесятых, когда в городе появился серийный убийца, власть и правоохранительные органы подозревали Кочу. Однако арестовать его не отважились, потому что просто боялись. Соседи тоже были уверены, что это Коча насилует звездными душистыми ночами работниц молокозавода, протыкая их после этого острым металлическим предметом. Мужчины его за это уважали, женщинам он нравился».
Ну, объясните мне, в каком макондо возможно столь нежное отношение к маньяку? Оно понятно: хотелось, так сказать, смешать пласты, ведь и Маяковский с Хармсом любили смотреть, как умирают дети, которые гадость. Однако коктейльное дело знает не только «кубу либре», но и мед с дегтем – и сей микс еще не самый рвотный.
Тем не менее я с порога назвал «Ворошиловград» сильным романом, хотя стоит некоторых трудов обозначить главное его достоинство. Пожалуй, оно в цельной и яркой ностальгической мелодии, знакомой, но привязчивой, как донбасская песня Богословского – Доризо – Богатикова, равно как ее предшественница про курганы темные. В ощущении неразрывности связи времен, в магнитной аномалии не оставленной Господом родины. Именно поэтому не возникает вопросов, когда Герман из случайного гостя на этом празднике жизни без всяких романов воспитания превращается в крепкого туземного авторитета. Футбольное правило – в родном доме и стены, и цыгане, и шунды, и мертвецы…
Возможно, этот мотив если не противоположен, то не магистрален авторскому замыслу. Сергей Жадан – звезда явления под названием українська сучасна лЁтература (то есть современная украинская литература), и в этом статусе вроде бы должен быть чужд имперской ностальгии. Но статусы хороши в соцсетях, а не в прозе.
P. S. Надо сказать, что гоголевская закваска у писателей Украины (или авторов украинского происхождения) – отдельный и большой сюжет. Если российская проза вышла из шинели, то украинская сучасна – из Миргорода.
Сектантский боевик «Библиотекарь» Михаила Елизарова – это же «Тарас Бульба» – возьмем даже бряцающие арсеналы, драматургию батальных сцен, идеалы Веры и Братства, за которые и жизни не жалко, линию воюющих вместе и по разные стороны отцов и детей…
В «Книге Греха» Платона Беседина и в главном ее герое, которого так и кличут Грех, за всеми достоевскими наворотами нет-нет да и откроются искаженные смертной мукой черты Колдуна из «Страшной мести».
Украинский «Код да Винчи» – роман киевлянина Алексея Никитина «Маджонг» – и вовсе ставит Гоголя в центр фабульной схемы.
Татуированные демоны Адольфыча тащат по своим роуд-муви сонного Вия вечных 90-х.
В Миргород под именем Ворошиловграда все это сумел собрать Сергей Жадан, пожертвовав, впрочем, совсем немногим – самим Гоголем.
Киевская грусть. О романе Алексея Никитина Viktory-park
Топоним «Парк Победы» встречается во многих городах экс-СССР и в культуре аналогичной принадлежности. Так, у певца Александра Розенбаума есть шлягер с ленинградским, естественно, адресом – «Приморский парк Победы». А киевский прозаик Алексей Никитин соригинальничал и назвал свой роман Victory Park (М.: Ад Маргинем пресс, 2014). Ассоциация небогатая: Украина, дескать, не Россия.
Впрочем, выясняется, будто сам Никитин фиг в кармане не держал: название предложили российские издатели.
Русская читающая публика взыскует сегодня от «братской» (или «братковской», в варианте Адольфыча) литературы ответа на вечно-проклятый вопрос – как Украина докатилась до жизни такой?
А если автор пишет на русском, от него впору требовать объяснений, вроде тех, что ждет строгая жена от мужа после многодневного загула в сомнительной компании.
Между тем Victory Park – совершенно про другое: ни Майдана, ни Донбасса (нет, вру, есть немного и сильно). Никто еще не скачет, а знаменитые украинские олигархи лишь смутно угадываются в немолодых фарцовщиках, рефлексирующих цеховиках и элегантных ментах. Поскольку хронотоп романа – весна – осень 1984 года (который сегодня скорей ассоциируется с гениальным режиссером А. О. Балабановым, чем с астматическим генсеком К. У. Черненко) в парке Победы на Комсомольском массиве в Киеве.
Большой (в разных смыслах) ностальгический роман с элементами детектива, психологизма и мистики. Правда, все это именно в духе поздней УССР, этакий жанровый суржик: когда интрига не в том, кто убийца, а кого им назначат. Мистическим же гуру, «старым», оказывается крепкий крестьянин, бывший махновец и заключенный ГУЛАГа.
Кстати, Алексей Никитин полагает главным героем романа – Пеликана, студента и будущего, за пределами книги, воина-интернационалиста (ДМБ – осень 1986 г.), тогда как внимательный читатель объявит таковым именно «старого» (курсив А. Никитина), Максима Багилу, и будет прав. Хотя бы потому, что интонационная и стилистическая ткань образа вполне безупречна, и составляют ее, такие, например, фразы, звонкие, скупые и сильные: «В первой половине двадцатого века Украина оказалась самым опасным местом в Европе. (…) Надо ли удивляться, что многие потом не решались или просто не хотели рассказывать детям, как жили с начала Первой и до окончания Второй мировой войны».
В сюжетном развороте смерть Максима Багилы – главный романный контрапункт – после нее (или вследствие оной) – темп повествования ускоряется, теряя по дороге кой-кого из многочисленных персонажей; герои наконец взрослеют, решают и решаются, воздух стремительно уходит, чтобы в финале погрузить читателя в непросматриваемый вакуум.
Надо сказать, старики у Никитина всегда получались интересней молодых (есть в новом романе возрастной король фарцовщиков Алабама – колоритный тюрконемец) – такая уж писательская особенность. Кому-то удаются любовные сцены (мало кому), кому-то батальные, кто-то хорош в апокалиптической футурологии (не бином Ньютона). А Никитин умеет великолепно описать женские кроссовки «Пума» тридцать шестого, самого ходового размера. И да, киевских очень мудрых стариков: и крестьянин-ясновидец, и профессор-букинист рассуждают на схожем интонационном и словарном уровне.
Может, поэтому юный главный герой (в авторской версии), задуманный одновременно как «маленький Пеликан и Пеликан-великан», в герои – объективно – так и не вышел.
Конечно, между Киевом образца Victory Park’а и Киевом 2013–2014 годов еще будут проводить натужные параллели, и уже проводят, и не без активного участия автора. Благо и конъюнктурно, и юбилейно. Однако я бы прежде всего предложил рассмотреть роман с литературной точки зрения – оно, может, не столь соблазнительно, зато параллели заведомо яснее, вовсе не штрихпунктирные.
В свое время, когда на «Национальный бестселлер» выдвигались сразу два романа Алексея Никитина – «Истеми» и «Маджонг», а я был в Большом жюри премии, мне приходилось говорить о вторичности этих текстов.
То была не претензия автору, поскольку речь ни в коем случае не идет о плагиате или, хуже того – пародии. Вторичность Никитина – даже не инструмент, а своеобразный литературный прием. Рискну назвать его крипторемейком – «возьму свое там, где увижу свое», притом что автор сам деятельно помогает нам в расшифровках, указывая источники вдохновения подчас напрямую, а подчас в довлатовской манере: «Волга впадает в Каспийское что?»
Сталкером «Истеми» поработал детский писатель Лев Кассиль с «Кондуитом и Швамбранией», а также, хоть и в меньшей степени, – один из латиноамериканских последователей Льва Абрамовича по имени Хорхе Луис Борхес.
В «Маджонге» это найденное «свое» заметно увеличило поголовье. Совсем как в бородатом анекдоте про Чапаева в бане – «так я, Петька, и годами старше» (в том смысле, что роман объемней). Тут и Гоголь Николай Васильевич, и снова Борхес, и Пелевин, который, натурально, приводит за ручку Карлоса Кастанеду. И даже Лев Гурский с Натаном Дубовицким.
Но я же говорю – Алексей Никитин, он, как приговский Милицанер – не скрывается. И в VictoryPark’е любовно выкликает из строя прежних проводников – снова Борхес, контрабандно читаемый Пеликаном в Херсонесе, кастанедовские оборотни, люди-звери, превращения которых происходят, впрочем, вне эзотерических пространств и средств. Разве что водка.
А вот прямые вдохновители на сей раз – народ куда более актуальный.
Про Алексея Балабанова с «Грузом 200» я уже сказал. Афганская тема. Образ социального ересиарха из толщи народной. Убийство, которое злокозненный мент вешает на постороннего, и тот, в силу разных обстоятельств, ни возразить, ни оправдаться не может. (У Балабанова заканчивается смертной казнью, у Никитина – спецпсихушкой.) Урбанистическая, промышленная дурная метафизика. И главное – стремная атмосфера скорого тотального катаклизма; государства и социума, готовых взорваться Чернобылем.
Еще, конечно, сразу вспоминается отличный роман Михаила Гиголашвили «Чертово колесо» (хотелось добавить – «и нашумевший», но… Роман прошумел, и даже взял «Большую книгу», но не так, как бы следовало, увы…), который вышел в том же «Ад Маргинеме» в 2009 году.
Действие «Чертова колеса» относится, казалось бы, к другой эпохе (год тогда тикал за три и больше) – 1987-му (в романе на разные лады костерят «гребаную перестройку»), однако набор сюжетных линий и персонажей почти идентичен.
У Гиголашвили мотор сюжета – оборот наркотиков в природе, а фарцовка и теневой цеховой бизнес – где-то на обочине, у Никитина – зеркально наоборот. Что, собственно, непринципиально, ибо, повторюсь, – дежавю оглушительное (смешно, но даже чертово колесо у киевлянина есть, отнюдь не метафорическое). Столица имперской окраины – и с чем Киеву устойчиво рифмоваться, как не с Тбилиси? Менты, крышующие наркоторговлю. Среднеазиатский след.
Бессмысленная энергия преодоления реальности и фольклорные трипы.
Городские партизаны, тренирующие себя для скорых боев (у Никитина идеал оных – правильный коммунизм; у Гиголашвили – обычный национализм).
Разве что воров в законе у Никитина в романе нет, возможно – по слабому знанию предмета.
Зато «старый» Максим Багила местами напоминает дона Корлеоне. Ну, если бы сицилиец Вито вдруг переехал на Украину и сделался ясновидящим.
Я бы до кучи добавил сюда и Захара Прилепина, поскольку «жигулям»-«восьмерке», на которой ездит фарцовщик Белфаст, в Киеве 84-го взяться элементарно неоткуда, кроме как из одноименной повести и фильма. Данная модель, напомню, впервые собрана на вазовском конвейере в конце эпохального года, а в продажу поступила (та самая первая партия с коротким передним крылом) уже в 1985-м, то есть за пределами действия романа Victory Park.
Впрочем и строго говоря, это, пожалуй, единственный у Никитина фактический ляп. Ну да, меня еще несколько смутила бешеная популярность артиста Михаила Боярского у киевлянок бальзаковского возраста, статуса и темперамента – и тогда не того масштаба была селебрити. Или ограниченность наркооборота кругом бывших воинов-афганцев. И все же это скорее вкусовые претензии.
А теперь попробуем зафиксировать, в чем, не побоюсь, феноменология романа Никитина относительно жестокой хирургии Балабанова («Груз 200», по сути, паталогоанатомия времени) и криминальной диагностики Гиголашвили.
Не в механической же увлеченности чтением – Никитин это хорошо умеет, но достоинство двусмысленное.
А собственно, фишка в отсутствии клиники. Медицину заменяет лирика. И это достойный ченч – щемящая нота городской печали иногда способна воздействовать на сознание не хуже разборок-раскладов-терок, крови, спермы и ужастей. (Балабанов это знал, прослоив «Груз 200» виашной и дембельской песенной лирикой.) Никитин – мастер интонации, и даже типичная для его персонажей манера изъясняться на стыке инженерской рефлексии и кавээновского замеса хохм – тоже отзывается ностальгической грустью. О стране, которую мы потеряли, ибо ее, такую, невозможно было не потерять.
Вовсе не случайно, надо думать, в никитинском романе с симпатией упомянут уральский поэт и певец Александр Новиков, в том же году записавший свой первый «блатной» альбом «Вези меня, извозчик». Новиков на свой брутальный лад скрестил советский дичок с классической розой – элегические салонные мотивы а-ля Игорь Северянин с шершавым языком индустриальных окраин. И если искать в романе лейтмотив – им станет лирический боевик Александра Васильевича «Помнишь, девочка, гуляли мы в саду», строчки из которого по случаю цитируют персонажи.
Пророчески завершающийся фразой «Дай бог памяти, в каком это году…».
Я бы дорого отдал, кстати, за хороший русский роман о 1984-м. Когда и впрямь уже все отмечалось, угадывалось и не сбылось. Пусть роман именно так и называется, ничуть не восходя к Оруэллу и Амальрику.
Где были бы процесс, вернувшийся на место прогресса, список запрещенных рок-групп (как будто власти, при всем их материализме, собирались столкнуть музыкантов из андеграунда еще глубже в ад, вообще это был год торжества советской метафизики); где еще не было радио «Шансон», а шансон уже был, как и загадочная группа «Лед Зипперпл», которую один дворовый хулиган просил меня ему «записать»; где только начинали (в связи с Афганистаном) косить от армии, сбегая в психушки, а не в «молодогвардейцы» и депутаты; где в спортсекциях не только полуподпольно отрабатывали броски и удары, но и читали «Мастера и Маргариту», а также «Сто лет одиночества», передавая товарищу; где сахар (кубинский, тростниковый) был и впрямь слаще; когда ничего не осталось, лишь тоска да печаль, хотя страна ощутимо становилась другой.
И писатель Алексей Никитин в романе Victory Park во многом удовлетворил мою странную потребность. За что ему теплое читательское спасибо.
А тянуть за уши (пусть торчащие) сюда Майдан и Донбасс вовсе не нужно. Писатель и сам предупредил спекуляции (прежде чем в них поучаствовать) – его герои покидают Киев. «Разлетятся кто куда», как в «Крылатых качелях», песенке тех времен и тоже про парк. Алабама уезжает в Ереван, Пеликан в Афганистан, Ирка – в бурную личную жизнь расцветающей красавицы, цеховик Бородавка – в тюрьму, старый Багила – в лучший и, надо полагать, уже известный ему мир, внук его Иван – на Север…
Разве что прозвучало тут одно эхо, Никитиным не предусмотренное. Лидер городских герильеро-ленинцев, экс-афганец Калаш уходит от облавы в финале Victory Park’а. Один из руководителей украинских ветеранов-афганцев, командир 8-й сотни самооброны Майдана – Олег Михнюк, погиб под Луганском 14 августа 2014 года. И как сообщают блогеры, при обстоятельствах более постыдных, нежели героических. Отсылающих скорее не к Балабанову, но Говорухину, не к «Грузу 200», а «Ворошиловскому стрелку».
Но это уже иная эпоха и история.
Матрица Алексея Иванова: глобус «Ёбурга» как карта России
Знаменитый прозаик Алексей Иванов – менее всего постмодернист; artist – по формальным основаниям. Однако в своей писательской биографии он сменил множество масок – куда там статусным литературным ролевикам.
Строго говоря, к ролевой игре уместно отнести лишь издательский проект «Алексей Маврин» с крипто-детективом «Псоглавцы» и техно-триллером «Комьюнити». И наверное, в случае Иванова разумней говорить не об «ипостасях» (пафосно, осмеяно коллегой Довлатовым), но – исключительно нейтрально – про «амплуа».
Иванов в этом смысле – идеальный писатель; важно понимать его стратегию – она не столько в последовательной смене жанров и приемов, сколько в императивном «изволь соответствовать». А значит, умей всегда быть новым и неожиданным, экзистенциально голым на своем пустом литературном участке. Поэтому создатель прославленного экранизацией «Географа», раздваивающийся на автора-персонажа, будто не знаком с мастером-реконструктором (история переходит в фэнтези), написавшим «Золото бунта» и «Сердце Пармы». А порнограф-затейник из «Блуда и Мудо» ничем не напоминает эсхатологического сценариста «Летосчисления от Иоанна» (фильм Павла Лунгина «Царь»).
А потому фразу из устных рецензий на «Ёбург», которую мне доводилось слышать не раз: «В книге есть множество всего, но нет писателя Иванова», следовало бы полагать не вздохом разочарования, но вполне энергичным комплиментом.
Во всем солидном на сегодня корпусе писателя, однако, неизменно присутствует крепкая закваска литературного профессионала, потому нет ничего удивительного в том, что Алексей Иванов дебютировал как фантаст, а литературную зрелость встречает в качестве летописца.
Это ведь именно летописный канон – «Хребет России», «Горнозаводская цивилизация», и вот, самый яркий – «Ёбург».
Книгу рецензировали – глубоко и поверхностно, доброжелательно и не очень, поэтому мои пять копеек – не рецензия, а скорее заинтересованный комментарий.
Тем не менее буквально пару слов: из лихого названия и киношного подзаголовка («Город храбрых. Сделано в девяностые») ясно: в руках мы держим объемнейшее собрание пестрых глав из новейшей истории столицы Урала. От Ельцина до Ройзмана. Принципиально – в народной, а не официальной версии. А народом и голосом российской провинции сегодня работают журналисты. Поэтому и стилистика, и поэтика предсказуемы: очеркизм, исторический онлайн-дневник; отчасти развязный, кое-где небрежный, подчас на самоподзаводе – от масштабов самому себе назначенной миссии.
Это как раз замечательно – журнализм при правильно выбранной оптике, чувстве вкуса и меры, неизбежной авторской вовлеченности, феноменологических претензиях – и есть летопись. Парадокс: скоропортящийся продукт превращается в армейские консервы «хранить вечно».
Made forever.
У очеркистики, конечно, свои системные изъяны: так, бандиты (в случае Ёбурга подымай, конечно, выше – городские командиры) выглядят значимей и рельефней инженеров и архитекторов. Даже не политический мастодонт Эдуард Россель, а его многолетний оппонент, фигура вполне местного значения – мэр Аркадий Чернецкий, показан не крупнее, но, что ли, подробнее гениального Ильи Кормильцева.
Трагедия талантливейшего Бориса Рыжего отходит на второй план относительно истории литературного конфуза – Ирины Денежкиной (впрочем, в этой новелле ощущаются личные, ивановские, саркастические обертоны, а Рыжий – ну, он давно всеобщий). Николая Коляды во всех его ипостасях заслуженно много, но его театральный многолетний роман как-то тускнеет на фоне эпизода с Марго и Максом – скандальных персонажей первого отечественного ток-шоу «За стеклом» (что? не помните? вот и я только благодаря Иванову… хм… освежил).
Вообще, подобный подход сплошь и рядом ограничивает разговор о поэте его легендой. Жажда – ничто, имидж – все. Характерный пример – поэт и певец Александр Новиков. Замечательно-криминальная биография, косая сажень в плечах и высоченный рост, гомофоб и «антипопс», а для песен Новикова банально не остается места. Между тем именно этот «классик русского шансона» – чуть ли не единственный продолжатель редкой северянинской линии в русской поэзии.
Еще один парадокс: глас провинциального народа в подобных описаниях ёбургских кущ как бы сливается с говорком столичного сноба. Общие фельетонные корни, чего вы хотите…
Вообще, слишком заметна и просчитана установка на первую реакцию дисциплинированного читателя: «оп-па, они были первыми!»; «мать честная, и этот, оказывается, оттуда!», «а вот у нас было совсем как у них, только по-другому»…
Последняя реплика воображаемого народного рецензента самое, пожалуй, ценное.
Сколько раз за последние годы, десятилетия уже, приходилось слышать – то директивное, то якобы экспертно-аналитическое, – о неизбежном и центробежном распаде России, о тектонических разломах российской цивилизации. По Волге, Уралу, ментальности, «кормить Кавказу» и даже языку…
О «Ёбурге» и в Питере мы говорили с владивостокским журналистом и писателем Василием Авченко («Правый руль», «Владивосток 300»). Обсуждали не качество, а значимость книги – доказывающей, что Россия – страна монохромная, единая в основных проявлениях и сам ход новейшей истории, так любовно каталогизированный Ивановым, – матрица, практически абсолютная, всех регионов. Где не так уж казенно, а вполне философски звучит официальное «субъект».
В отличие от огромной РФ маленькая Швейцария совершенно разнообразна по языкам, настроениям, даже социальному пейзажу. Германия, Италия… И кстати, ничего – живут.
«Ёбург» Иванова – история, обернувшаяся географией, глобус Екатеринбурга, который легко превращается в карту провинциальной России. Универсальность и взаимозаменяемость. У них – у нас.
Объясню на собственных пальцах – саратовских примерах.
У них – многолетние разборки «уралмашевских» с блатными, «синими»; у нас – знаменитый расстрел в «Грозе»: двое киллеров-суперпрофи молниеносно положили пятнадцать человек – никто и дернуться не успел: все ядро крупнейшей саратовской ОПГ «чикуновских» во главе с лидером – Игорем Чикуновым.
Страшноватый саратовский взнос в общак российского криминала – убийство областного прокурора Григорьева уже в нулевые.
Губернаторы и мэры конфликтуют везде – но у нас собственная гордость: мэры отправляются не на покой, а в тюрьму. Отсидел свое мэр Саратова Аксененко, получил срок мэр Энгельса – Лысенко…
У них – мэтр советской литературы Владислав Крапивин; у нас – автор ее альтернативной истории – Роман Арбитман.
У нас не было своей Уральской республики, но проходил процесс Эдуарда Лимонова и должны были арестовать Ходорковского.
У них – Николай Коляда, у нас – Алексей Слаповский.
Разумеется, необходима поправка на масштаб и, так сказать, реализованность. Ёбург в последней категории необычайно крут. Феноменален в умении подсадить огромную страну на себя и своих.
Взять хоть рок-музыку. Наверное, в каждом областном городе были в эпоху бури и натиска русского рока команды, способные поставить на уши тусовку страны. Не кумиры здешних неформалок, но люди, способные дать с болью вырванные из себя мелодию и драйв, показать в текстах собственный край и космос. Однако у свердловских (тогда) «Наутилуса-Помпилиуса» и «Чайфа» великолепным образом получилось, а саратовские «Иуда Головлев» (играющие до сих пор) и «Ломаный грошъ» остались красивой легендой местного значения…
Но и это – тема отдельного специального разговора.
В «Ёбурге» есть веселая, карнавальная новелла о политтехнологах (почему-то не упомянут знаменитый в профессиональных кругах Олег Матвейчев, автор бестселлера «Уши машут ослом»). А вот целиком «Ёбург» должен стать учебником, настольной книгой российского PR-консультанта. И лучшим подарком клиентам – губернаторам и мэрам. С месседжем о том, что пора играть серьезно – не для выборов (которых нет), а, положим, вечность проводить. Не только осваивать бюджеты, но осваиваться в истории.
Тем паче что матрица от Иванова – теперь существует.
И уверен на полном серьезе, такая серия – о настоящей и главной России – не только востребована, но и пишется. А назвать ее можно будет простой фамилией выдающегося автора «Ёбурга».
В поисках провала. О романе «Крепость» Петра Алешковского
Недавно Олег Демидов, исследователь имажинистов и литературный критик, обратил внимание на близость двух сюжетов – литературного и сложившегося на наших глазах, онлайн, из реальности. Речь об историях бывшего афганца Германа Неволина из романа Алексея Иванова «Ненастье», совершившего вооруженное ограбление собственного босса, и «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе, устроившего кровавый самосуд над партнерами – чиновниками и бизнесменом, убившего случайного свидетеля, после чего, согласно официальной версии, покончившего с собой.
Демидов, написавший пост в «Фейсбуке» до известий о кончине Георгадзе, сделал акцент на технических деталях: «тот (Неволин. – А. К.) – тоже долго вынашивал план, сделал дело, долго ныкался, а потом… вот тут дорожки расходятся». Мне представляется, что как раз не в технологии дело – обе драмы, и написанная замечательным прозаиком, и разыгранная самой жизнью, – схожи на экзистенциальном уровне. Ибо рассказывают о человеке, к которому мир стал не то чтобы враждебен или равнодушен – это как-то можно пережить и оспорить, все куда как хуже – у героя отобрали прошлое, с корнями, самоощущением, окружением и способом существования. И процесс был растянут по времени, но до поры до времени герой этого не замечал. А теперь вынужден самостоятельно расправляться с собственным будущим.
Коротко разъясню позицию – я вовсе не хочу, вслед за некоторыми, объявлять красногорского убийцу современным Робин Гудом. Очевидно, что не народный он мститель, а свирепый отморозок. Понятны в его действиях даже не мотивы, а причины – удачливый много лет бизнесмен внезапно сорвался с резьбы, когда обнаружил, что прежнего мира вокруг него нет. Система, которую он много лет подпирал плечом и подкармливал деньгами, равнодушно через него переступила, счистив, как грязь, с дорогой обуви; сама оказалась на твердой почве, а застройщик полетел в пропасть. Ощутив, что вся его прежняя жизнь была бессмысленна, а следовательно, ее не жаль. А чужой – тем более.
Георгадзе, кстати, как сообщают уже появившиеся у него биографы, сочинял стихи и прозу. Красноречивый штрих.
Я думаю, третьим звеном в эту цепочку просится роман Петра Алешковского «Крепость» (обращу внимание на общий для всех трех историй год выпуска – 2015), где аналогично-магистральная идея аргументирована, помимо современности, еще и культурным слоем глубиной чуть ли не в тысячу лет. А главный мотор повествования – земельный (и подземный – поскольку речь идет об археологах) вопрос, проблема сохранности/реставрации памятников истории, бизнес застройщиков – словом, клубок, предопределивший громкий финал деловой карьеры Амирана Георгадзе.
Тут заманчиво, вслед за поэтом, воскликнуть: «Природа, ты подражаешь Есенину!», но гораздо принципиальнее не копирование, а перекличка, когда пароль – современная жизнь в России, а все отзывы – в русской истории. Интересна и перекличка чисто художественная, когда историк Петр Алешковский, родившийся в 1957 году и приобретший литературную известность в 90-х годах (и представитель известной литературно-медийной фамилии, что немаловажно), свободно и вполне, на мой взгляд, сознательно взаимодействует в «Крепости» со смыслами и текстами литераторов-провинциалов младшего поколения, то есть «новых реалистов».
Об Алексее Иванове мы уже сказали; а вот сельские куски, едва ли не самые мощные в «Крепости», – с безнадежно и горестно погибающей, затопленной в ядовитых алкогольных суррогатах, смертельно деградирующей русской деревней, сразу заставляют вспомнить книги Романа Сенчина. Не только апокалиптических «Елтышевых» (в ряд персонажей которых легко вписались бы алкаши Всеволя и Сталек, самоубийца Вовочка, бутлегер Валерик у Петра Алешковского), но и «Зону затопления», с ее крепкими старухами, в их монашеской верности труду и малой родине – такова в «Крепости» тетя Лена.
Сделался уже хрестоматийным знаменитый эпизод из «Саньки» Захара Прилепина, – «дорога в декабре», когда двое мужчин и женщина волокут на себе по зимнему лесу, на место семейного упокоения, гроб отца и едва не находят собственную гибель. Алешковский рифмует с прилепинской свою историю – когда умирающую, убитую мерзким пойлом, старую Таисию, пенсионерку РЖД и бывшую зэчку, транспортируют к «скорой» в тачке, застеленной драным одеялом и пленкой…
Но при этом Петр Алешковский написал оригинальный и значительный русский роман, где есть многое: категории жизни и судьбы, недекларируемый восторг перед Господним миром и шершавая публицистика, обличающая преимущественно советский период; бунинская жадность к запахам лесов, полей и стихий; настоящая поэзия сельского труда – собирательства, огородничества и «заготовок» – говорю без тени иронии.
Любопытно, что древность, ее артефакты и реконструкции у Алешковского убедительнее современности – скажем, ближний круг уездного начальства довольно схематичен, явно уступает изображению хитросплетений ордынской политики и как будто заимствован из фильма Юрия Быкова «Дурак». Впрочем, талантливый режиссер тоже ведь использовал вечную гоголевскую матрицу – мельтешение ляпкиных-тяпкиных, земляник и держиморд вокруг городничего; другое дело, что ныне главное лицо в районе – не государственный чиновник, а местный строительный олигарх.
Великолепные батальные сцены, пластичные и рельефные (битва на Непрядве, которая у нас называется Куликовской; сражение золотоордынского хана Тохтамыша и Великого хромца – Тимура – при Кондурче), сделаны, конечно, с прицелом на экранизацию, однако здесь тот случай, когда мастерство обгоняет практические соображения. С подобными сильными сценами соседствуют милые скорее ляпы стиля, когда дело у героев Алешковского доходит до эротики вообще и молочных желез – в частности. «Ее щеки покраснели, маленькие груди, похожие на два граната, выпирали из майки, как войско, готовое сорваться в атаку»; «…затвердевшие соски уставились на него, как два ствола, не выполнить пожелания которых было равносильно погибели». Из того же забавного набора – изящные, чуть ли не балетные туфельки столичной чиновницы, отчего-то вдруг на «каучуковой подошве», как будто гламур нулевых вдруг решил вспомнить более чем полувековой давности стиляжьи корни.
Важно, впрочем, отметить, что все это в тексте «Крепости» монтируется вполне органично. Во всяком случае, перепады стиля общего впечатления не портят, ибо автор подчинил повествование сильному приему и серьезной идее. Его роман – диалог эпох и героев, когда современная Россия – не просто наследует былой империи, но своеобразно отражает Золотую Орду конца XIV – начала XV века, с ее элитными усобицами и отдаленными перифериями (включая Русь, Крым, государство Тамерлана). Наш современник – историк и археолог Иван Сергеевич Мальцов реконструирует (по-пелевински, посредством наркотических трипов) события более чем шестивековой давности и жизнь монгольского воина – Туган-Шоны, своего отдаленного предка и представителя непрямой ветви Чингисидов.
Главное сближение – оба, и русский ученый, и монгольский всадник, принесли в жизни единственную присягу: Мальцов – науке и исторической памяти, Туган-Шона – беклярбеку Мамаю, могущественному ордынскому владыке, потерявшему в битве с русскими политическое влияние и убитому спецназом хана Тохтамыша. Но у судьбы свои законы, разрушающие клятвы и ломающие принципы. Независимо от воли их носителя – в шахматах (оба героя романа – сильные шахматисты) фигурами управляют ум и навык игрока, а в истории личная воля растворяется, человека мотают стихии, нагоняют мартовского слякотного тумана, в котором невозможно отличить прямого врага от коварного покровителя. (Этот покровитель-олигарх Мальцова и убивает, правда, Алешковский не дает прямого, детективного разрешения сюжета.)
Идея же романа «Крепость» – в сдержанном историческом оптимизме, для ее аргументации писатель использует метафору о культурном слое: «Удар Москвы (расправа Иоанна Грозного с Великим Новгородом. – А. К.) был равносилен взрыву ядерной бомбы. Пустая серая прослойка вылезала везде – похоже, целых три поколения скитались в неизвестных землях, пока люди снова не вернулись в родные места. Он (Иван Мальцов. – А. К.) делал об этом доклад в Москве, в Институте археологии. Куда сбежали люди, откуда пришли назад – документов не сохранилось. Но пришли же, отстроили деревни точно на старых местах».
Дальше Алешковский направляет метафору в публицистический рык – словно в духе перестроечной печати, «Огонька» конца 80-х: провал культурного слоя – ГУЛАГ, «беспощадные мясорубки прошедшего века», выжившие – дети и внуки тех, кого вылепил кремлевский Гончар и пр. Однако вот в чем странность – разлад у бескомпромиссного ученого Мальцова – именно с хищной современностью, все беды и проблемы пришли к нему из обострившегося в девяностые, нулевые и десятые «квартирного вопроса» (в широком смысле – жажда власти, бабла, апология потребления и лидерства). Советское же время – при всех его катаклизмах – дарило радость познания и могучее ощущение родства и причастности. Во всяком случае, об этом свидетельствуют ретроспективы в недавнее прошлое, которых немало в романе. Так что вполне закономерен вопрос – да, диагноз поставлен верный, но точно ли определен очаг болезни?..
И тут хочется говорить не об отдельном романе, а, что называется, по всей цепочке. Алешковский придумал точное и универсальное объяснение – побег, провал, вечное возвращение. К «Ненастью» Иванова вполне применима метафора провала культурного слоя, если вспомнить постепенное разрушение, под влиянием соблазнов наступившей эпохи, братства воинов-афганцев. Убедившись в том, что историю движения и корпоративную мораль эпоха помножила на ноль, Герман Неволин с чистой совестью проводит спецоперацию-преступление. И деловая биография «красногорского стрелка» Георгадзе, завершившаяся чудовищным финалом, начиналась аккурат в конце 80-х, вместив все десятилетия «культурного провала». По сути, о схожем в романе «Крепость» написал честный и глубокий прозаик Петр Алешковский.
Википедия русской жизни. О биоромане Татьяны Москвиной «Жизнь советской девушки»
Начну с «чистухи» – чистосердечного признания.
Это первая книга Татьяны Москвиной, которую я, хвала «Нацбесту», прочитал. Конечно, попадались ее заметки, статьи, рецензии, была прицельная магия имени, но большие вещи – романы там, пьесы или сборники эссе – как-то проскальзывали мимо. И не то чтобы руки не доходили – доходили, и даже не метафорически: в книжных лавках я трогал эти лимбусовские и амфоровские томики, ощущал исходящую от них безошибочную энергию, но… не случилось. Не спешите швырять в меня банными принадлежностями.
Для профессионала и полупрофессионала упущение непростительное, но я – по самоощущению – в литературе дилетант, и эмоции от «Жизни советской девушки» у меня дилетантские. Неожиданность, свежесть, бодрящая радость открытия.
Татьяна Москвина не без вызова назвала эту вещь «биороманом», тут и Мейерхольд с биомеханикой, и демонстративная тавтология «жизнь» – «жизнь». А расшифровывается мем довольно просто – действительно, не память (здесь как раз все великолепно), а жизнь девичья – от рождения (семимесячной) до первого взрослого юбилея – 25 лет, с ребенком и будущим мужем Сергеем Шолоховым, пока на заднем плане.
И вот что удивительно. Автобиографии (или куски их), разумеется, могут читаться как авантюрный роман. Если автор дрейфовал на льдине, ловил тигров или являлся гением разведки или контрразведки, как, скажем, Павел Судоплатов. Но у Москвиной (перефразируя Арк. Гайдара) – «обыкновенная биография в позднесоветское время». Родители – технические интеллигенты в первом поколении, увлеченные самодеятельным театром. Грандиозная бабушка Антонина Михайловна, монументальная, как скульптура и пропаганда. Инженерская зарплата в 120 руб. и строительство кооперативов. Цигейковые пальто и собрания сочинений. Гитары, раскладушки, арендованная на лето дачка в экс-финских болотах, черника, грибная рапсодия, девчачьи песенники, игра в «пьяницу» и «акулину»; школа с французским уклоном («моя 275-я известна всей смотрящей телевизор стране, но не как школа, а как здание РУВД. Не помните? Такое с белыми колоннами? Именно там служат «менты» с «улиц разбитых фонарей»). Школьные подруги, ТЮЗ, кинотеатр «Планета», «океаническая доза культуры». Достоевский, Тарковский, Слуцкий, Дмитрий Кедрин, Леонид Мартынов. Попытки поступления на филфак, потом в Театральный, бешеный конкурс, недобор баллов; «Дай бог памяти вспомнить работы мои» (С. Гандлевский), зачисление на театроведческий, Учитель и сокурсники, отработка на картошке, «все братья-сестры», как в те же годы у БГ с Майком; любовь – не столько несчастная, сколько неудачная… Почти все.
Кстати, именно «девушек», то есть «женской прозы» в биоромане мало – ну, трудные взаимоотношения советской власти со специфически-женским, беременность, роды, бодрое счастье материнства… Читается между тем странно и страшно увлекательно, и никакой тебе мистики и готики – оказывается, жизнь советской девушки полна не только приключений, но и естественного, как воздух, веселья.
Аналог подобной увлекательности, когда «подсаживаешься» на текст и обживаешь его, раздвигая во все стороны, я отыскал не без труда – «Википедия». Иной ведь раз полезешь за необходимой информацией, вытянешь нужное, но зацепишься глазом за лишнее – и не оторваться. Спорная правда банальности, переплетенье цифр и судеб, распальцовка ссылок, возможность самому редактировать и дописывать.
Ну вот, скажем: «Все-таки вряд ли следовало доводить людей до того, что они тратили рабочее время на перепечатку «Камасутры» и с риском для жизни доставали кассеты с невинной эротикой, за что могли схлопотать срок года три минимум. Три года тюрьмы за то, что человек смотрел какую-нибудь дурацкую «Греческую смоковницу» или «Эммануэль»!»
Оно-то так, и посадки за условную эммануэль были тогда чуть ли не в каждом регионе, не говоря о столицах. Я лично знаю бизнесмена, который получил срок за «Греческую смоковницу» и отсидел, и до сих пор для него тот опыт – предмет иронической гордости. Фишка, однако, в том (просветили – с одной стороны – тогдашний «комитетский» начальник, с другой – прокурор тех же времен), что изначально заявление было по совращению малолетних, при обыске изъяли кипу порнухи с извратами, и лишь путем взаимных уступок и компромиссов решили остановиться на «Смоковнице». Которая, кстати, демонстрировалась на квартире, знакомым, за деньги.
Или пример несколько иного рода – папа Татьяны, бард, вдохнувший задушевность 60-х в одическую русскую поэзию осьмнадцатого века, оказывается, является и автором детской песни про маленького ежика, который «на спине орех несет, песенку поет». Понятно: у нас она шла как сугубо народная, но любопытно, что и не совсем детская, поскольку идеально сопровождала тусовки не столько алкогольные, сколько марихуанные.
«Википедия», как и любая энциклопедия, нейтральна – а Татьяна Москвина еще и бесстрашна, и это, пожалуй, главное ее писательское свойство. И в небоязни общих, много где бесчисленно проговоренных мест, умении придать им свежую форму ясности и наглядности. (Пассаж о космосе 60-х, который схлопнулся и у нас, и в Америке – многие о том думали, но отлично сформулировала одна Москвина.)
И в редком даре – подвести, как бы походя, неаффектированно, баланс и сальдо эпох, без оглядки на вновь ощетинившиеся аргументами лагеря: социал-ностальгирующих и неоантисоветчиков: «Ведь за каждой тошнотной статьей в газете «Правда» стояла какая-то часто вовсе не гнилая, а здоровая действительность – люди неплохо работали, строили, читали, писали, играли, пели, и даже на этих их съездах принимались иной раз более-менее разумные решения. Но когда перед тобою воздвигается тусклоглазый мертвяк в каменном костюме и чеканит голосом Командора: «Высшая цель партии – благо народа!», ты понимаешь, что тебя имеют и притом не объясняют, за что и как долго это будет продолжаться. Кремлевские деды ничего не могли объяснить толком, нормальным человечьим языком! Ничего! Даже принимая осмысленные и разумные решения».
(Кстати, я, рожденный и выросший в городке, где главным предприятием был комбинат имени А. Н. Косыгина, не мог благодарно не оценить регулярной симпатии Татьяны Москвиной к самому человечному советскому премьеру.)
Продолжу цитату: «Много лет спустя я с изумлением поняла, что афганская война абсолютно не была бессмысленной и преступной. Что была политическая необходимость защитить свои границы от серьезной опасности. (…) Но это – национальные интересы, а такого термина в заводе не было. И вот деды изобретают какой-то шизофренический «интернациональный долг» (кому? куда? зачем?). Окутывают все мерзким туманом – нет-нет, никто не гибнет, все шито-крыто. Но ведь рот матерям не заткнуть, а это их сыновья гибнут, значит, так, потихонечку, кривя губы, будем все-таки признавать, что – воюем? Что – воевали?»
Мое запоздало состоявшееся знакомство с писателем Москвиной сработало еще и на субъективный эффект цельности книги – никаких «это уже было», «сто раз говорила», «да читали, знаем», – а только удовольствие от обретения одними категориями с тобой думающего мир собеседника.
Взорванный мост и родовая травма. О сборнике Анны Матвеевой «Девять девяностых»
Номинировал книжку на «Нацбест» Леонид Юзефович – что заставило выделить ее из длинного списка и оставить на сладкое; мэтр Леонид Абрамович известен строгим вкусом и молодым интересом ко всему незаурядному в текущей русской литературе. А еще – демонстративной беспартийностью и внестоличностью.
Кстати, именно по поводу последнего обстоятельства применительно к прозе Анны Матвеевой высказывался и Виктор Леонидович Топоров – говоривший, будто у «уральского магического реализма самые серьезные проблемы с PR; кто хоть когда-нибудь всерьез говорит, допустим, об Анне Матвеевой». Понятно, что причины плохого пиара не технологические, а географические.
Попробуем, однако, именно «всерьез». Сборник отличной новеллистики – в западной скорее традиции, ближе к изящным французам, воспетым в финальной большой новелле «Екатеринбург», нежели англоязычным short-story. Подчеркнутое дистанцирование от русской школы рассказа, в последнее время выбравшего себе интеллигентное имя «малая проза». (Впрочем, допускаю: все эти градации и отличия существуют лишь в моем воображении.)
Уже в названии считывается единый для всех текстов сборника (довольно разных, иногда неровных) фабульно-исторический фундамент. Речь о 90-х годах ушедшего двадцатого века. (Аккуратная в средствах, щепетильный стилист Анна Матвеева вовсе не стесняется упоминать «девяностые» по два-три раза на одной странице.) Понятно, что писательница воспроизводит эпоху не по календарю, а по самоощущению – в ее девять девяностых может попасть и кусок перестроечных лет, и сквозняки околоноля…
Вообще, современная отечественная проза могла бы сделаться находкой для агитпропа, специализирующегося на обличении «лихих 90-х». Во всяком случае, идея мейнстримовая, независимо от писательской ориентации. Однако не сделается – и причин множество. От самодостаточности агитпропа (да и неактуально, кажется, сегодня это обличение) до того определяющего обстоятельства, что агитпроп и литература содержательно об одних, а концептуально – о разных девяностых. А порой и противоположных.
Так, для Анны Матвеевой 90-е – вообще категория не времени, политики и экономики, а медицины (коллективная психотравма, сродни родовой) и метафизики (всеобщий водораздел, вроде Стикса).
Не преодоление 90-х, но их определение в качестве свое образного феномена бытия (не только, кстати, российского: тут и Париж, и – галлюцинаторная подчас – Швейцария, и Англия). Вроде черной дыры.
Не пограничная полоса между юдолью мертвых и миром живых, но взорванный мост между одной и другой жизнями. Впрочем, кто тут жив, а кто мертв, сразу не разберешься – во всяком случае, персонажи книжки с трудом узнают себя нынешних в себе тогдашних; притом что имена носят те же. Схожий бэкграунд вытесняется общей болью.
На фоне неизбывной, и отнюдь не фантомной, боли Матвеева в характеристиках травмы практически не использует расчлененки, стрельбы и трупов, «ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе». Вообще, слог ее может восприниматься читателем амбивалентно: кому-то покажется, что отсутствие самоподзавода, ругательств и восклицаний лишает тексты необходимого драйва. Однако, на мой взгляд, безэмоциональная, добычинская какая-то манера Матвеевой как раз хорошо работает на замысел – о «черной дыре 90-х».
Замечание Виктора Топорова о «плохом пиаре» можно интерпретировать в отношении Анны Матвеевой и как «умрет от скромности». Мне показалось, литература для нее еще и модель поведения, когда знаешь про себя, что ты – лучшая, но этим никак нельзя выделяться. По внутреннему кодексу и самоощущению. В текстах ее и подлинные шедевры стиля искусно спрятаны в общей словесной ткани – эдакая олимпийская скромность – золотые руки за спину, вертеть от стеснения пальцами – мастера шестого разряда словесности.
«В ресторане на левом берегу японские девочки щебечут, как птички, а едят – бесшумно. Крабы на дне аквариума, словно тощие руки, бессильно скребут песок. И голые ветви каштанов – как объеденные кисти винограда. Русская официантка за тысячи километров отсюда перечисляет ассортимент блюд с таким убитым видом, как будто это не блюда, а ее личные претензии к мирозданию».
Или вот, совсем рядом, что как раз и поражает – равномерностью находок и монохромностью ряда:
«Соседский пес-боксер подставлял, как для благословения, замшевую голову – на лбу продолговатые пролежни, как в готовальне. Ложбинки для пальцев».
«Возвращаясь домой в деревню, коровы перекрывали дорогу, как пьяные хиппи – и хозяйки радовались им едва ли не больше, чем мужьям. Вымя коров – как рогатые мины. Июльский тысячелистник и клумбы репьев. Черно-зеленая, зрелая зелень. И такой родной запах тушеной картошки с мясом – из окна, где крашеная железная решетка, как татуированное солнце».
Есть в достаточном количестве и то, что принято называть «женской прозой», вроде двух барышень, приехавших в гости к парню и усевшихся напротив него, «блестя колготками». Однако на фоне метафизики 90-х говорить о подобных сплетнях кажется как бы и излишне – они сами собою разумеются.
P. S. Что же до «плохого пира». Вот пример, казалось бы, хорошего пиара другой писательницы: в интервью «Собеседнику» и Дмитрию Быкову поэт Игорь Иртеньев нехотя признает талант Захара Прилепина, которого тем не менее никак не сравнишь с «Никитишной» (Татьяной Толстой – примечание Быкова). Между тем «Никитишна» для людей моего (и Анны Матвеевой) поколения ассоциируется прежде всего с ТВ-комиками советской эпохи, изображавшими старух Веронику Маврикиевну и Авдотью Никитишну. У людей более молодых ассоциации вовсе не будет.
Не та молодая шпана. «Трубач у врат зари» Романа Богословского
Прозаик Богословский издал наконец роман «Трубач у врат зари» («Дикси-пресс», М.: 2016). Сильно переработанный относительно рукописи, выдвигавшейся год назад на «Национальный бестселлер». Именно тогда я его прочел впервые, теперь отмечу дальнейшую работу над текстом – издатель превратил рукопись в книгу, автор, упорной редактурой, – если не в шедевр, то в событие.
Знакомый литератор – известный критик и опытнейший редактор, восхищался опубликованным в своем журнале романом и его мало кому известным автором. Интересно звучала формулировка:
– Надо же, на таком гнилом материале сделать прекрасную вещь. Тонкую, трагическую, отлично прописанную…
«Гнилым» материалом мой старший товарищ называл литинститутскую общагу, в которой календарно и метафизически совпадали запои и романы главного героя. Текст этот, и впрямь сильный, помню до сих пор, но куда больше – сам критерий оценки: зазор между исходником и результатом.
И то верно: писателей – охотников за львами и привидениями, фронтовиков и отсидельцев, всегда будет меньше, чем пишущих вообще. Еще меньше доживают до бесспорной славы и почтенного возраста былого и дум, когда можно безоглядно мемуарить, любовно называя себя «теленком» и «зернышком». Автобиографический реализм – он ведь не от хорошей писательской жизни пошел. Сколько хошь выдавай невеликий собственный опыт за страдания очередного рукотворного Вертера – инфантильная природа этих жмурок в родном огороде слишком очевидна.
Важен и возрастной критерий. Молодые прозаики – не обязательно паспортно молодые люди, поскольку отвага, свойственная молодости, – не самое распространенное качество у этой категории авторов. То есть, разумеется, именно литераторы-юниоры, вслед за проклятыми поэтами, Генри Миллером и американскими битниками (многие из которых, как и Миллер, дожили громко себе до преклонных лет), натащили в литературу секса, наркотиков и рок-н-ролла, однако какая это по нынешним временам храбрость? Разве что в смысле «с отвращением читая жизнь мою», но ведь и это – редкость, в основном читают и пишут ее с трусоватым восхищением.
В этом смысле «молодой прозаик» Роман Богословский – фигура любопытная, он весь наперекор тенденциям.
Первая его книжка «Театр Морд» – тоненькая и довольно изящно изданная тем же «Дикси-прессом», обнаруживала знакомую проблему – человек писать умеет и будет писать еще лучше, но писать ему не о чем.
Повесть «Мешанина» – сочная местами пародия на первую сборную отечественного скорее треша, нежели постмодерна – от Мамлеева до Масодова (плюс издатели всего этого ада и маргинема) – к моменту выхода прозвучать никак не могла.
Во-первых, потому, что длинные пародии вообще не звучат, во-вторых, какая-то часть описанной Романом литературной компании стала классиками и лауреатами – вполне себе мейнстримом, и «авангардный» контекст романа стал просто многим непонятен. А в-третьих, от филологических романов к 2013 году и без «Мешанины» всех тошнило.
Были там, правда, чертеж и сюжет, небезуспешные стилистические игры, но у молодых писателей не бывает частичного попадания. Либо есть полное, либо нет никакого. «Мешанину» дополняли рассказы – разные по жанру и качеству: от фантастики и реконструкций до забавных зарисовок из жизни кабацкого музыканта, они подтверждали диагноз: ищет давно, но не может найти. Мне, помню, понравились те, где явно был использован собственный, а не книжный экшн.
Роман просил тогда у меня рецензию на книжку, но я уклонился – пришлось бы объяснять вещи, к текстам прямого отношения не имеющие, раскладывать кушетку литературного психоаналитика, чего я не люблю, да и не умею.
Это к тому, что нет никакого моего участия в смене вех: обращению Богословского к знакомому, приземленному материалу. «Гнилому», конечно, в терминологии упомянутого литературного авторитета: два курса музучилища в провинциальном городе (на дворе – девяностые), неформалы, сейшены, паленая водочка, трава и колеса, девочки и трипы, death metal, Хармс и Толкиен, съемные хаты и гаражи, растерянные родители и мутно-авторитарные педагоги.
Словом, упомянутая триада из секса, драгса и панк-рока разворачивается в провинциально-школьном антураже, однако в этой, до боли уже знакомой декорации Богословский с «Трубачом» будет стоять храбрецом и особняком. Поскольку он написал вещь в классическом жанре «романа воспитания», но при этом обошелся без всякого воспитания.
Подобный товар пусть в дефиците, но тоже встречается: скажем, прославленный «Географ глобус пропил» Алексея Иванова, да и куда менее прославленный, чем следовало бы, «Блуда и мудо», во многом исповедуют тот же фабульный парадокс. (Богословский, кстати, в «Трубаче», думаю, неосознанно, воспроизводит манеру Алексея Иванова – маленькие, но совершенно особенные, каждый со своим недорослем-демоном и угольком безумия в мозгу, люди; особая плотность небольшого провинциального мира… даже многословие, за которое не поднимается рука Романа ругать, а надо.
Впрочем, в окончательной редакции он текст высушил и довел местами до великолепного лаконизма и выразительности.)
Особая фишка Богословского в том, что он заменил воспитание – настроением. Время – атмосферой. Ландшафт – звуком. И даже хронику, не нарушив ее внешней канвы, – набором коротких историй, а то и вовсе эпизодов. Похоже это не на кинофильм, а на альбом раннего «русского рока», когда однообразие мелодий и гитарных ходов компенсируется живыми текстами и преувеличенными эмоциями. Вроде «Сладкой N» Майка или «Это не любовь» Цоя, хотя персонажи Богословского были бы явно обескуражены, узнав, что воспроизводят подобную архаику.
И вот эта однообразная, но сильная мелодия, сначала совпадающая с фабулой, а потом и вовсе ее подменяющая, – как бы вопреки устремлениям героя, безуспешно сражавшегося два года со своей трубой и проигравшего, – ведет весь этот невеликий и пестрый скарб, не отпуская читателя.
Символизма и вообще натужного глубокомыслия при этом ноль – повествование вполне рельефно и вещественно, особо отмечу портретное мастерство – замечательно, вовсе без нажима, прорисованы и сосед по койко-месту Ринат, и две квартирные хозяйки с сыновьями и бзиками, и педагог по специальности – эдакий доктор кукольных наук, отрывающийся на учениках Карабас – Василий Эдуардович Белкин.
Сначала «други игрищ и забав» сливаются в общий гомонящий лохматый фон, но и это работает на замысел… Зато во второй части партнеры героя по трудному бизнесу провинциальной молодости резко индивидуализируются, обретают выпуклые черты. Жаль, что автор не сделал партизанских рейдов в будущее – хотя бы кратко обозначив, что из кого получилось. Хотя финалы таких «историй одной компании», как правило, одинаковы – выживает сильнейший, то есть награжденный даром описать и запечатлеть.
Мне вспомнилась здесь – схожестью атмосферы и настроений, тихого плача по единственному в жизни куску школярства и товарищества, – еще одна полузабытая, увы, вещь советского прозаика-фронтовика Бориса Балтера – «До свиданья, мальчики».
И по ее поводу позволю, в свою очередь, и себе ностальгический всхлип.
Нашел я два нумера «Юности» за 62-й год в родительских фотоальбомах и бумагах, двадцать лет спустя после их выхода, и до сих пор помню (едва ли не первый опыт подобного рода) пронзительное ощущение вдребезги разбежавшихся эпох. Выразившееся даже не столько в повести (хотя и в ней, конечно), сколько в самих журналах – цветом, звездочками, треугольничками, сюжетцами плохеньких фельетонов и темами глуповатых стихов, прическами (у персонажей карикатур!).
У Балтера упоминался и цитировался Бабель – я знать о нем не знал. В Крыму, где жили балтеровские герои, ни разу не был, моря не видел, только криминальные ребята показались очень похожими на наших, с района, уркаганов. Все это раздвинуло подростковый мир на целую галактику… Оказаться бы снова в той полутемной квартире и под бормотание проводного радио провести рукой по шершавой странице, ощутить ладонью буквы вперемешку с пылью…
Кстати, вот у Балтера были регулярны флешбэки наоборот – «что с кем стало» – гибель на фронте, тюрьма и пр., и, повторюсь, таких разрывов в линейной композиции «Трубача» явно не хватает, тем паче музыкальная тема и тональность рукописи предполагают импровизацию.
А раз мы добрались до техники и нюансов – внутренние монологи, обильно усеянные восклицательными и вопросительными знаками, как радикальная неформалка пирсингом, – явно избыточны. Совершенно ненужный в литературном тэге «возвращенная молодость» инфантилизм.
На самом деле терпимые огрехи «Трубача» – обратная сторона писательских игр Романа Богословского. Просто хорошо писать ему мало, и хочется придумать себе полосу препятствий. Курс молодого прозаика; вериги, вроде тех, которыми обременял себя Сергей Довлатов, добивавшийся, чтобы слова в его фразе не начинались с одинаковых букв.
У Богословского так и посложнее епитимья: в объемном тексте полностью отсутствует глагол «был». Во всех его формах. Убить to be. Получилось – я проверял. Круто, хотя непонятно, зачем такая аскеза – разве что вместе с «быть» и «не быть» ампутировать у своих героев всякий гамлетизм. Ну, так ведь и без Шекспира понятно, что у панков из «Трубача» no future, зато у автора и читателей была эта солнечная, жалкая и шумная, нежная, бедная, неумолимая юность в русской провинции.
И другой не будет. Точнее, не было – поразительно, но главное достоинство романа именно здесь – в отсутствии ностальгического и романтического флера, неизменно юность эту накрывающего. Вот это по-настоящему честно, смело и ново – показать «молодые годы мои» без сюсюканья и прикрас, равно как без восхищенья и отвращенья. А просто с благодарностью.
Здесь грязные панк-аккорды и пинк-флойдовский титл романа незаметно уплывают к высокой поэзии. Очень схоже говорил о подобном опыте Иосиф Бродский в стихах «От окраины к центру», джазовых по ритму и дыханию:
…и кирпичных оград просветлела внезапно угрюмость. Добрый день, вот мы встретились, бедная юность. Джаз предместий приветствует нас, слышишь трубы предместий, золотой диксиленд в черных кепках прекрасный, прелестный, не душа и не плоть — чья-то тень над родным патефоном, словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном.Гражданская война и русский космос. О «Зимней дороге» Леонида Юзефовича
Документальный роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога» (М.: АСТ, 2015) снабжен концептуальным подзаголовком «Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923 годы».
Автор с порога устанавливает границы, вешает на себя навигаторы и вериги, зимняя дорога его героев определена и географически, и хронологически. Другое дело, что Якутия, даже обнесенная флажками, скорее не территория, а отдельная планета. «На юге Якутии сеяли пшеницу, на севере разводили оленей и добывали песцов», – мимоходом сообщает Юзефович, но лишь после того, как процитировал ссыльного Владимира Короленко, измерявшего здешние расстояния не верстами и не сроками пути из одного населенного пункта в другой, а жизненными вехами, на примере якутских священников с прихожанами: «Эти бродячие пастыри постоянно объезжают свое стадо, рассеянное на невообразимых пространствах, венчая супругов, у которых давно бегают дети, крестя подростков и отпевая умерших, кости которых истлели в земле».
Космическим холодом веет от этих строк, и главное тут не якутские холода, а русский космос, ибо на этой зимней дороге сошлись люди, в жизненном пути которых Якутия ранних двадцатых – пусть значительный, но только эпизод. Такие биографии лучше всего поверяются географией.
Анатолий Пепеляев – самый молодой, самый успешный, самый «мужицкий» из колчаковских генералов – генеральский же сын, родившийся в 1891 году в Томске, обучавшийся военной науке в Омске и Санкт-Петербурге. Женитьба в Верхнеудинске (Улан-Удэ), фронты Первой мировой: восемь орденов и Георгиевское оружие; руководил томским восстанием против большевиков, привел к власти «Сибирское правительство», взял Красноярск, Иркутск, Верхнеудинск. В конце 1918 года признавший Колчака Анатолий Пепеляев освободил Пермь (вершина военной карьеры, прозвище «сибирский Суворов»), продвинулся к Глазову. Дальше фронт Колчака трещит, Пепеляев удерживает его прочнее прочих, но стихий не остановить, бегство по Транссибу, сыпной тиф; выздоровев, собрал из остатков своей армии Сибирский партизанский отряд, но, не желая иметь ничего общего с атаманом Семеновым, эмигрировал в Харбин.
После Якутского похода – суд во Владивостоке, замена высшей меры заключением в Ярославском политизоляторе, где Анатолий Николаевич отбыл 12 лет. Внезапный перевод в Бутырку, а затем во внутреннюю тюрьму НКВД – чекисты готовили для генерала роль в очередном спектакле про заговоры, но для этого необходимо было его освободить (резолюция, рукой Поскребышева: «Тов. Сталин – за»).
Тут не откажу себе в удовольствии процитировать сюжет, реконструированный Леонидом Юзефовичем:
«В разговоре Пепеляева с Кононовичем и подошедшим чуть позже Гаем случайно выяснилось, что белый генерал, в 1919 ближе всех других колчаковских военоначальников подошедший к Москве, сам ни разу в ней не бывал. (…)
Вне зависимости от конкретной цели, которую преследовал НКВД, выпуская Пепеляева на свободу, Гаю захотелось поразить его обликом современной социалистической Москвы в блеске солнечного июльского дня. Это было тщеславное, не без примеси злорадства и все же естественное желание похвалиться своими сокровищами перед тем, кто тоже имел шанс ими обладать, но упустил его из-за собственной глупости. Гай вызвал машину с шофером, приставил к Пепеляеву какого-то «сержанта», крымского татарина по национальности (такие детали убеждают в правдивости рассказа), и тот прокатил его по центральным улицам, показал Кремль и метро».
Короткая свобода в определенном для проживания Воронеже, вновь арест, этап в Новосибирск, где Анатолий Николаевич расстрелян в январе 1938 года. Сыновья Пепеляева, Всеволод и Лавр, выросли в Харбине, а после Великой войны оказались в СССР и лагерях (Всеволод – на Колыме, такая вот рифма к северному походу отца). Всеволод Анатольевич после заключения жил на юге, в Гагре, во время грузино-абхазской войны перебрался в Черкесск. «Мы переписывались почти до самой его смерти в 2002 году» – ремарка Леонида Юзефовича. Лавр Анатольевич умер в Ташкенте в 1991 году. Какой разброс, какие планетарные расстояния…
Место рождения Ивана Строда – уездный город Люцин Витебской губернии, ныне Лудза в Латвии; мать – полька, отец латыш, точнее – латгалец. В 1914 году, на год раньше призыва, – тут проявилась направлявшая его по жизни кипучая энергия, пассионарность, скорее не от Льва, а Николая Гумилева, – добровольно уходит в армию. «Он воевал на Западном фронте – в пехоте, потом в разведке, как Пепеляев. Дважды был тяжело ранен, контужен. При Керенском, вслед за четвертым солдатским Георгием, получил чин прапорщика», – прямо Григорий Мелехов, не с Тихого Дона, а из совсем тихой Латгалии… О чем прямо говорит Юзефович: «На тихой уездной родине ему совершенно нечего было делать, и весной 1918 года он очутился за тысячи верст от дома, в Иркутске».
Это через Москву и Казань, а путь тогда Строд наметил себе во Владивосток, а дальше – в Америку! Но примкнул к анархистам-коммунистам Нестора Каландаришвили, партизанил, скитался в тайге, сражался с Семеновым, преследовал Унгерна, командир в народно-освободительной армии ДВР. После якутского мятежа, беспримерно героической обороны урочища Сасыл-Сысы от пепеляевцев, по-прежнему усмирял повстанцев, учился в Академии имени Фрунзе, уволен из РККА, писал (и бестселлеры – «В тайге», «В якутской тайге»), много пил. Репрессирован, расстрелян в феврале 1938 года, хочется снова, вслед за Леонидом Абрамовичем, добавить «как Пепеляев». Ну да, почти как, двадцать дней разницы.
Кстати, такие вот тандемы, где один как будто примагничен к другому силовыми линиями сходства/вражды, в ту единственную в своем роде Гражданскую встречались часто. Скажем, географически и хронологически близкая пара – юный краском Аркадий Гайдар и казачий атаман Иван Соловьев в Хакасии в 1922 году. Или – несколько иной вариант – анархисты и боевики Григорий Котовский и Нестор Махно, иллюстрирующие одну из главных загадок России, когда молодой разбойник начинает как Робин Гуд, а заканчивает либо пугачевщиной всех со всеми, либо переквалификацией даже не в управдомы, а в шерифы…
Персонажи, попавшие в орбиту Пепеляева и Строда, поражают схожим жизненным размахом (даром что корнет у Юзефовича не Оболенский, а Коробейников; поручик – не Голицын, но Малышев). Вот «дедушка Нестор» (Каладаришвили), восточный аналог Махно, тезки и единомышленника, «облик благородного шиллеровского разбойника» – Кутаисская губерния, Тифлис, Иркутск, граница с Монголией, командование корейскими отрядами Дальнего Востока, убит в январе 1922 года якутскими повстанцами. Похоронен в Якутске, перезахоронен в Иркутске – процедура заняла более полугода. Леонид Юзефович останавливается на этом затянувшемся ритуале весьма подробно.
Участник якутского похода Пепеляева, полковник Эдуард Кронье де Поль, «военный инженер, варшавянин, ветрами Гражданской войны занесенный в Приморье», поклонник Метерлинка, сгинул в Александровском изоляторе.
Командир РККА Степан Вострецов, полный кавалер орденов Боевого Красного Знамени, родился в Уфимской губернии, воевал в Первую мировую, этапы большого пути в Гражданскую – Челябинск, Омск, Минск, Кронштадт, Спасск («штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни»). Затем КВЖД, Маньчжурия. Застрелился в 1932 году в Новочеркасске, где командовал корпусом, на старом кладбище… Еще жив сдавшийся ему Пепеляев, еще ходит в красных героях Иван Строд…
Надо бы остановиться, удержавшись от прямого и косвенного воспроизведения героической нон-фикшн. Хотя соблазн велик – чеканно-строгая, безоценочная и неэмоциональная манера Юзефовича, в то же время с глубоким пониманием и сопереживанием сделанная хроника, провоцируют как на пересказ, так и на публичное обсуждение – «передай товарищу».
Кто знает, может, именно подобными благородными мотивами вдохновлялись популяризаторы литературных находок и персонажей Леонида Юзефовича среди широких читательских масс. Борис Акунин, переименовавший исторически достоверного сыщика Ивана Путилина в придуманного Эраста Фандорина. Виктор Пелевин, назначивший «Самодержца пустыни» смотрящим над буддистским филиалом Валгаллы, под фамилией Юнгерна. Впрочем, в этом случае не Пелевиным единым – именно после выхода книги Юзефовича увлекся «черным бароном» Александр Дугин, объявив Романа Федоровича Унгерна пророком консервативной революции. По тем же причинам, плюс авантюризм и лютость, «маньячество» Унгерна, Эдуард Лимонов, сидя в камере Лефортовской тюрьмы, вставляет его в книжку «Священные монстры».
Что-то мне подсказывает, что феномен русского (и не только) самозванчества, осмысленный Юзефовичем в «Журавлях и карликах», еще сделается модной темой, подхваченной ловкими перелагателями, не исключаю – сериально и глянцево модной.
Но вернемся на «Зимнюю дорогу». Леонид Абрамович историю тщательно документирует, подробнейше комментирует уцелевшие визуальные артефакты (в архиве УФСБ РФ по Новосибирской области он разыскал записи упомянутого Кронье де Поля: «пять-шесть листочков испещрены мастерскими карандашными рисунками лошадей и птиц. Между ними вложена фотография толстогубой девушки с глазами навыкате. На обороте надпись: «На память дорогому мужу. Пусть не забывает свою жену, которой дал имя Мимка». Ох!). Равно как их отсутствие – Якутский поход не запечатлен в фотографиях по ряду причин, снаряжение у пепеляевцев было.
При нынешнем повальном увлечении реконструкциями Юзефович прибегает к ним бережно и немного нервно – как бы боясь навредить стихиям, которые говорят сами за себя. Сторонится лобовых мифологических интерпретаций, хотя они неизбежно прорываются, миф вырастает непосредственно из документа: «Все это можно прочесть как историю овладения богом забытой деревней на краю Якутии, которая и сама была краем света, а можно – как вечный сюжет о поиске ключа к бессмертию или к замку спящей царевны. Герой плывет по морю, идет через заколдованный лес, где не жужжат насекомые и не поют птицы, восходит на ледяную гору, отделяющую мир живых от царства мертвых, вязнет в трясине, теряет коня, становится жертвой предательства и, с честью выдержав все испытания, обретает искомое, чтобы с ужасом обнаружить: этот ключ не подходит к нужной двери, и над теми, кому он достанется, тяготеет проклятие».
Никак не избежать аллюзий на Одиссею (Итака для сибирского областника Пепеляева – автономная Сибирь, куда удается успеть только к собственному расстрелу, а не к Пенелопе) с Илиадой (сюжет которой, осада Сасыл-Сысы, тоже не завершился как надо). И тут необходимо сказать самое главное – серьезный, непредвзятый, без тенденций и агитпропа, в документальной манере Юзефовича, рассказ о любом крупном сюжете Гражданской войны в России наилучшим образом будет реализован в мифологическом, а то и космогоническом эпосе. Со стихиями и светилами, сиренами и титанами. Близкий, в контексте масскультуры, аналог – эпопея Толкиена о Среднеземье, разве что у нас, вместо эльфийской и хоббитской засахаренности, потоки крови и глыбы навоза, из которых бойцы Строда в Сасыл-Сысы строили неприступные бастионы…
У Толкиена, впрочем, с ходу определено, где здесь силы добра и света, а кто – отвратительный Мордор. Разве что единицы – Саруман и наместник Гондора становятся ренегатами. У Юзефовича одна из магистральных идей: люди, волей судеб оказавшиеся по разные линии бессмысленных и беспощадных фронтов, легко могли бы заменить друг друга. Поэтому их всегда возможно понять – не потому, что Леонид Абрамович самый беспристрастный историк или запоздавший миротворец, который, подобно Максимилиану Волошину, молится «за тех и за других». А лишь оттого, что у Бога всего много – и в обстоятельствах того катаклизма все были одновременно героями и жертвами, и цвет знамен в этом огненном и ледяном переплясе был только на самое короткое время принципиален.
Декларируемая парность идеалиста-народника Пепеляева и анархиста Строда не только поэтическая и политическая, они и в военном отношении скорее близнецы, чем антиподы, – обоюдное неприятие палачества и мародерства, своеобразный кодекс чести, уважение и милосердие к поверженному противнику. И где-нибудь в альтернативной реальности – если бы освобождение Пепеляева не было фрагментом чекистской игры, а Строд пережил бы нетронутым большую чистку – легко представить их сражающимися бок о бок в другой, справедливой и великой, войне…
Мне не раз приходилось говорить, что вся современная Россия, себя мало-мальски осознающая, – это Россия послевоенная, и чем дальше Великая Отечественная, тем сильней ощущение смертной и кровной с ней связи, протекающей, в общем-то, параллельно пропагандистскому мейнстриму. (Рискну высказать спорную версию: эту новую хронологию в массовый оборот запустил знаменитый советский акын, а ныне самый харизматичный мертвец страны – Владимир Высоцкий. История его России и, следовательно, России сегодняшней, построенной его слушателями и персонажами, начиналась с ВОВ, и в бэкграунде имела 37—38-й годы. Гражданскую войну Высоцкий не воспел практически никак.) Ей и в массовом сознании сегодня нет адекватного места – так, очередная русская Смута, с Романовыми и поляками, казаками и крестьянскими войнами, разрешившаяся «Собачьим сердцем».
А значит, Леонид Юзефович делает значительное и важное дело – понемногу, как ментальный хирург, приращивает стране ценное вещество исторической памяти. Экологически чистое, без красных, белых, да и зеленых красителей. И если Пепеляев и Строд уйдут со своей «Зимней дороги» в бестселлеры и сериалы, подобно Унгерну и Путилину, думаю, возражать Леонид Абрамович не станет.
Триумф моли. О романе Кристины Хуцишвили
Кристина Хуцишвили прислала мне свой роман «Триумф» (М.: РИПОЛ-Классик, 2013), написав в самопрезентации – «молодой автор». Поэтому ей должно польстить сравнение с автором сильно взрослым и прославленным, к тому же вдруг оказавшимся последнее время в устойчивой моде.
Известный эпизод из «Травы забвения» – молодой автор Валентин Катаев приносит мэтру Ивану Бунину очередной рассказ. Про молодого же человека. В этой прозе есть многое: несчастная любовь, кокаин в подозрительной компании, розовые голуби… И даже профессия героя – декоратор. Иван Алексеевич слушает – сначала благожелательно, но к финалу наливается фирменной бунинской желчью:
– Какого вы черта битых сорок пять минут морочили нам голову! Мы с Верой сидим как на иголках и ждем, когда же ваш декоратор наконец начнет писать декорации, а оказывается, ничего подобного: уже все.
Героиня романа «Триумф» Анита – почти коллега катаевского декоратора: она художник. Архитектор по образованию.
В тексте тоже есть немало чего: несколько романов Аниты (выделены два – первый и главный, длиною в жизнь; второй покороче, в перерыве), посиделки в кофейнях, заказы, которые нехотя берутся и делаются левой ногой; детали гардероба (акцент на маленькие черные платья), фильмы на французском (а не французские, почувствуйте разницу), зеленый чай; «многаденег», как выражается одна моя знакомая, принадлежа к тому же, что автор и героиня, поколению.
Косметика, обувь в Столешниковом и «Кофемания» близ консерватории; мохито, нескончаемые рефлексии и депрессии, малокровные сплетни о рок– и поп-звездах и продюсерах, внезапно появившийся сын с польским именем, постель – чаще не в качестве ложа страсти, а гнезда болезней; богатые родители, истории «про жизнь» на сайте, профилактирующем суициды и меланхолию.
Немало, но и негусто; нет живописи, графики, мастерских, эскизов и пленэров. Иногда Анита, отвлекаясь от сложной внутренней жизни, пытается встать и порисовать, как на дежурство, – описано даже без минимального погружения в детали процесса. Характерно, что все триумфы художницы остались за пределами текста, в романе мелькнула одна-единственная выставка, в ходе которой Анита напилась и привычно разочаровалась в арт-индустрии.
Впрочем, героиня отвлекается не только на творчество, но и на своеобразный дауншифтинг, а точнее, пробует разные форматы самозанятости – моет в какой-то конторе полы, чисто гастарбайтерша из стран СНГ (архаичная аббревиатура забавляет), стоит за прилавком в музыкальном магазине, создает и раскручивает сайт психологической помощи.
Но и тут без особых подробностей: мытье полов – повод повысить самооценку (ага, как в советском слогане: «Уважайте труд убощиц»); карьера продавца дисков обогащает разве только упомянутыми сплетнями и страхом перед наркотой.
Исключение, пожалуй, амплуа интернет-сталкера – исповеди пользователей, своеобразные short-story – самое живое и подлинное, что есть в романе, хотя бы на уровне языка и стиля.
Композиция вещи автору наверняка казалась новаторской и волнующей: пролог – интервью 60-летней Аниты, признанной и спокойной («Я утих, годы сделали дело»). Надо сказать, цепляет – впрочем, не желанием узнать, как там раньше будет, а эрегированными индикаторами пошлости.
Читатель гадает: задан ли тут общий тон повествованию или заявлен концепт?
Разумеется, первое, и автор нас не разочаровывает.
Индикаторы торчат в этом предуведомлении даже не без лихости: «Когда мне было двадцать, я в основном занималась тем, что встречалась с мужчинами и читала книги, и из обоих этих источников почерпнула, что мир – не только Россия, весь мир – в кризисе, и интеллектуалы, как вы выразились, остались в прошлом».
И то верно: следов прочитанных книг в «Триумфе» маловато, чаще упоминаются авторы, которые представляются Аните модными. С мужчинами тоже напряженка, они присутствуют «облаком в штанах», причем не в маяковском, а в чисто физическом смысле. Ну да, Анита периодически пытается откровенничать, но скорее не в физиологическом, а в лексическом варианте: технологичное «занимались сексом» вытесняет конфузливое «занимались любовью».
В издательском анонсе заявлена тема «лишнего человека», магистральная якобы для романа Кристины Хуцишвили и русской литературы в целом, однако статичная Анита больше напоминает училку литературы, сбивчиво рассказывающую оболтусам из лицея для мажоров про мятущихся онегино-печориных.
В эпилоге 80-летняя Анна припахивает внука покатать ее на авто (а чего не покатать – пробок уже не бывает) и мечтает найти в Париже середины XXI века точку с живым вином. Надо сказать, советские научно-фантасты, описывая то же самое светлое послезавтра, были куда изобретательней в выдумке и выставке достижений прогресса. Но Кристина Хуцишвили – не фантаст, а социальный оптимист, адепт слогана, знакомого по фильму Дмитрия Астрахана, – «Все будет хорошо!».
Основной корпус – лирический дневник молодой дамы (с жанром, однако, все не столь определенно, циничные сверстники и Кристины, и Аниты назвали бы центральный текст «гоневом»), хроника женского десятилетия, условно – от двадцати лет до тридцати, впрочем, ни о каком развитии мыслей и чувств речи не идет.
Скудная фабула, которую я вам изложил почти исчерпывающе, бледная бедность интонации, нищета языка, а главное – концентрация пошлости заставляют заподозрить даже особый прием – Анну Ахматову в диковатом миксе с Романом Сенчиным, но, натыкаясь на некоторые обороты, понимаешь, что для изыска здесь явный перебор, а простодушие – как красоту, не замажешь.
Тушь для ресниц Yyes Saint Laurent, тени Dior и Mac, покупая всякий раз одни и те же цвета в надежде заполнить неохваченную палитру. И туфли, бежевые Louboutins, 37-й размер.
Я, надо сказать, больше по трендам, чем по брендам, но продвинутые дамы, которым я этот набор процитировал, похихикали в том смысле, что литературе лучше гнаться не за тенденциями, а за вечностью.
«Давно такого не помню: огромное желание жить, через какие-то конкретные дела. Мне очень хочется поехать в конкретные места, съесть что-то определенное, попробовать сделать конкретную прическу – в данном случае высокую, с парой мелких косичек. Попробовать очень темную помаду, купить бежевый лиф. (…) Но если хочу посмотреть что-то конкретное, то чувствую в себя в безопасности, все в порядке».
Чисто конкретный эпитет четыре раза на четверть страницы, и подобный стиль, при всей инфантильности, агрессивен и заразителен: рецензенты «Триумфа» впадают от него и вовсе в косноязычие: «Есть это и в женской прозе, пожалуй, характерная черта: желание не просто погружать в сюжет, но первым шагом делая рассуждение. (…) Сюжет и события жизни немногих героев рождаются из постепенности речи и рассуждений, а не наоборот» (Дмитрий Черный в «Литературной России»).
Господи, кто на ком стоял?
А комплиментарная рецензия Максима Артемьева в «Экслибрисе НГ» кажется куском, абортированным из романа «Триумф», – настолько едина ткань бесстилья и умиротворяющей банальности.
И тем не менее.
Основная часть претензий к «Триумфу» вполне может быть снята. Если числить «Триумф» не по ведомству художественной литературы, а просветительской. Научпопа – социологической прозы и прикладной футурологии.
И лучше сразу не отделять автора от героини, Кристину от Аниты. Нет, безусловно, г-жа Хуцишвили дистанцию устанавливает, и не в подтексте, но контексте – писатель она если не умелый (пока), то грамотный. Выпускница МГУ, экономист, журналист, пишущая для «Сноба» и «Русского репортера», сочинившая две книги, – жизнь ее явно шире тусклого мирка вяло сражающейся с мужчинами и депрессухой художницы. Но, опираясь на это универсальное определение «молодой автор», зафиксируем общность поколенческую, а значит, в известной степени, мировоззренческую.
Они, молодые люди буржуазной столицы, рожденные уже не в СССР, действительно так живут и думают. Полагая, что мир и дальше продолжится столично-европейскими координатами, картинками поюзанного глянца, нефтяными папами, которые будут вечно отводить от своих рек бабла бодрые ручейки для потомства. А главная здешняя майн кампф – борьба с тараканами в собственной голове, а основное призвание – советы начинающим на сайтах психонеотложки. А в будущем исчезнут пробки и наступит сплошной ЗОЖ, однако хорошего вина достать всегда можно, если умеючи…
Хочется их приласкать. Погладить по высокой прическе с двумя косичками. Пригласить в «Шоколадницу» и проставиться коктейлями. И даже поверить, что все именно так есть и будет, а твой собственный опыт – маргинален и нетипичен. А если не получится уверовать – не пытаться переубеждать.
В этом смысле Кристина Хуцишвили написала точный роман. И даже пробуждающий чувство доброе – не брезгливо-жалостное, а щемящее-светлое.
Жаль только, декораций в нем не пишут.
Пир и вампиры. О романе Виктора Пелевина «Бэтман Аполло»
Виктор Пелевин, предвосхитивший многие словесные клише и символы эпохи, не мог, конечно, пройти мимо согбенной фигуры раба на галерах.
В его романе «Бэтман Аполло» (М.: ЭКСМО, 2013) образ мелькает неоднократно – то в виде малоудачного афоризма («раб на галерах гребет всегда хуже, чем зомби, который думает, что катается на каноэ»), то в водоемах загробного мира (по-вампирски – «лимбо»), где Хароном, вооруженным боевым веслом, поочередно работают провожатый и провожаемый.
Но главный галерный раб, натурально, сам Виктор Олегович, а никакой не Владимир Владимирович. Если на каторге писательских чувств вертеть жернова романов, с гулаговской нормой – по книжному кирпичу в год, неизбежно дойдешь до вампирского молодежного сиквела, как галерные – до ороговевших мозолей.
Трудовые мозоли главный русский писатель и продемонстрировал, по дороге лениво пнув «Сумерки» и сделав Дракулу одним из персонажей альтернативной истории вампиризма (космогония которого тщательно, по-толкиеновски, проработана).
Одиннадцатый роман Пелевина «Бэтман Аполло» – продолжение восьмого «Ампира «В» (давайте договоримся писать все русскими литерами, а то однообразные графические приколы Виктора Олеговича, даже мне, старинному его адепту, начинают надоедать). Ну да, «социализм построен, поселим в нем людей» – в первой книге демонстрировалась местами подробная, местами схематичная, на уровне чертежа, архитектура вампирского мира. Потому не особо напрягала и слабоватая фабула по канону «романа воспитания», восторженно воспринимались диагнозы обществу потребления в категориях «гламура» и «дискурса», а непристойный афоризм про «клоунов у пидарасов» (и наоборот) существенно обогатил и объяснил тогдашнюю русскую жизнь.
«Бэтман Аполло» – имя императора вампирской вселенной, и щедрые к нему коннотации удивительно скучны, как и сам император. Виктор Олегович, как Николай Семеныч Лесков в диалоге с молодым Антоном Чеховым («Знаешь, кто я такой?» – «Знаю». – «Нет, не знаешь… Я мистик…»), видит себя в первую голову писателем метафизическим, визионером и антропологом, а уж затем социальным аналитиком. Потому, конечно, основное содержание нового романа – эзотерические и духовные практики международного вампиризма, который, собственно, контролирует человечество и его историю.
Вампиризм почему-то теснейшим образом увязан с буддизмом – самый знаменитый вампир и первый официальный диссидент движения граф Дракула шел в духовных практиках ноздря в ноздрю с Буддой Шакьямуни и пришел к сходным результатам.
Критики, утверждавшие, что самое скучное у Пелевина – это его буддизм, в общем-то были правы, хотя и забегали вперед. Поскольку «Бэтман Аполло» – первый его роман, где учение древнего принца – в интерпретациях вампирских авторитетов – разложено подробно и по понятиям. «Растерто» – как говаривали русские бандиты в «Чапаеве и Пустоте».
Кстати, «Чапаев и Пустота», при всех его буддах-анагаммах, УРАЛах и глиняных пулеметах, концептуальной основой имеет все-таки не буддизм, а гностический миф. Однако именно тогда к Пелевину приклеился ярлык «буддистского писателя», и в «Бэтмане Аполло» он отработал давний аванс. Опять же, в манере галерного раба – квалифицированно и подробно, но с профессиональным занудством протестантского проповедника. Иронизировавший когда-то по поводу «преподавательского говорка П. Стецюка» («Реконструктор») Виктор Олегович и сам примеряет здесь кургузый пиджачок и роговые очки лектора общества «Знание», как его герой вампир Рама Второй меняет доспехи в странствиях по загробному миру.
Я наконец понял, в чем сущность позднего пелевинского стиля – это словесная пурга удачливого бизнес-тренера, преуспеяние которого, расписанные на год вперед гастроли и понтовый райдер объясняются не собственными успехами в бизнесе, а джентльменским набором из высокомерия, цинизма, толики шарлатанства и конспирологии. Слушатели таких гуру лоховаты не по природе своей, а потому, что верят – бизнесу можно научиться. То есть стать таким же Пелевиным – в варианте офисного байронита или тусовочного дракулито. Ну и, конечно, «не…бет, уплачено».
Методология построения романа идей у Виктора Олеговича прежняя – диалоги простодушного ученика-неофита (простодушного, в случае БА, слабо сказано – такого дурачка, как Рама Второй, трудновато найти в литературе, доктор Ватсон отдыхает) и – в этом особенность вампирской дилогии – не столько мудрого, сколько искушенного в свинцовых мерзостях этого мира учителя. В «Бэтмане Аполло» учителей много, но наука их вполне однообразна, а у педагогики привкус не академический, а казарменный: несчастного Раму старшие вампиры передают с рук на руки, чтобы всласть покошмарить.
Сильно упали градусы относительно прежнего «философского Пелевина». Диагнозы вторичны, парадоксы предсказуемы, нет достоевского захлеба в разговорах о всемирных абстракциях, а одни лишь «усталость и отвращение». Фирменный цинизм уже не подкупает и не оглушает: его надо снимать слоями, как шелуху с луковицы, но, даже очищенная, она не дарит уже ни ощущения свежести, ни горечи и слезы…
Впрочем, снижение крепости во многом объясняется банально: объемом книги, ударные места просто растворяются в потоке «многобукв». Некоторые фейсбучане постят цитаты из БА отдельными статусами, на манер листовок – и в новой упаковке выглядят фрагменты на порядок сильнее.
Из фирменных пелевинских афоризмов запоминается немногое: прелестное «как все-таки много на женщинах всяких крючков и застежек – даже на совершенно голых женщинах».
Неожиданно точное сравнение, рождающее многослойный образ: «Черный резонатор угрожающе поблескивал – словно сталинское голенище с полотна художника Налбандяна».
И еще – более пространное, так говорил мудрый вампир Энлиль Маратович: «Русский человек почти всегда живет в надежде, что он вот-вот порвет цепи, свергнет тиранию, победит коррупцию и холод – и тогда начнется новая жизнь, полная света и радости. Эта извечная мечта, эти, как сказал поэт Вертинский, бесконечные пропасти к недоступной весне – и придают жизни смысл, создавая надежду и цель. Но если тирания случайно сворачивает себе шею сама и цепи рвутся, подвешенный в пустоте русский ум начинает выть от подлости происходящего вокруг и внутри, ибо становится ясно, что страдал он не из-за гнета палачей, а из-за своей собственной природы. И тогда он быстро и незаметно выстраивает вокруг себя новую тюрьму, на которую можно остроумно жаловаться человечеству шестистопным ямбом. Он прячется от холода в знакомую жопу, где провел столько времени, что это для него уже не жопа, а уютная нора с кормящим его огородом, на котором растут злодеи и угнетатели, светлые борцы, скромный революционный гламур и немудрящий честный дискурс. Где есть далекая заря грядущего счастья и морщинистый иллюминатор с видом на Европу. Появляется смысловое поле, силовые линии которого придают русскому уму привычную позу. В таком положении он и выведен жить…»
К слову, о жопах, которых вообще у позднего Пелевина непропорционально много, причем подаются они чаще всего в значимой для него стилистике русского уголовного… ну да, дискурса.
Некоторые рецензенты хвалили эротические сцены в БА за тонкость и целомудрие. Но тут, собственно, ничего нового: еще в «Чапаеве», оппонируя «трипперным бунинским сеновалам», он сформулировал кредо: «Если бы мне надо было написать по-настоящему сильную эротическую сцену, я дал бы несколько намеков, а остальное заполнил бы невнятным разговором…» Другое дело, что наравне с анальной семиотикой роман переполнен чмокающе-чавкающими звуками процесса, называемого в современном русском языке противным словом «минет». Понятно, что «вампир» и «сосать» – понятия одного синонимичного ряда, и для Пелевина это дело явление не сексуального, а скорее социального плана, в соответствии с упомянутой криминальной ментальностью… Тем не менее идиллическая набоковская картинка рассыпается, хотя по-своему трогательно разглядеть в разменявшем полтинник культовом авторе застенчивого и оттого нервно-грубого подростка.
С грустью приходится констатировать, что мотив ностальгии по советскому миру и детству, всегда придававший прозе Пелевина особое и удивительное измерение, как майские волны сирени превращают русские кладбища из мрачных гектаров, заполненных железом и камнем, в осколки Атлантиды, в «Бэтмане Аполло» растворяется и исчезает. И весь подлинный Экклезиастов пафос – о невозможности выйти из программы, даже обладая знанием, и крохотном шансе преодоления всеобщей сансары исключительно в одиночку – никак не тянет на откровение.
Другое дело, что в финале, в полном соответствии с заявленной схемой, Пелевин сумел преодолеть тенденцию лучшим в романе эпизодом: с вышедшим на одиночный пикет Рамой Вторым, которого, естественно, винтят и собираются закрыть. Диалог с омоновским полковником, пусть ненадолго, разбавляет душную романную тоску нотой светлой печали. Показательно, что сцена начинается и завершается на Тверском бульваре, как в лучшем, не раз здесь упоминаемом пелевинском романе…
А ведь «Ампир «В» с детских снов начинался, и они озаряли мягким дальним светом все кишкообразные подполья романа… То же самое с музыкальными цитатами, сообщавшими пелевинским текстам особую полифонию – БА на сей счет практически выхолощен, и две ссылки на Боба Дилана погоды не меняют.
…Удачи романа, как ни странно для ПВО, пребывают не в сфере идей, людей и отношений, но в фабульной части: Пелевин, как и прежде, демонстрирует незаурядную способность к свежей выдумке. Глубок и тонок сюжет с «Золотым парашютом» – так называется мистическая технология, лекарство от страха смерти и средство преодоления смерти как таковой. Вампиры за немыслимые деньги втюхивают продукт и услугу высшим слоям человеческого общества, что на выходе оборачивается самым масштабным в альтернативной истории кидаловом. Кинематографически сильны сцены путешествий в лимбо, сделанные на стыке мифа, триллера и притчи.
И вообще, в кино Пелевину пока не везет, а ведь «Бэтман Аполло» имеет все шансы сделаться блокбастером, случись хороший бюджет, умный сценарист, дельный и смелый режиссер, типа П. Джексона. Да и сериал бы вышел при тех же исходниках шикарным: Первый канал, 16+, саундтрек и первая актерская сборная, – хоть по одному роману, хоть по всей вампосаге.
Не зря же кто-то назвал «Бэтмана Аполло» пелевинскими «Утомленными солнцем – 2». Купаж сложноват (очки Виктора Олеговича трудно сочетаются с усами Никиты Сергеевича, а бесогон с вампиризмом), но киношная ассоциация к месту – особенно в плане размаха и бюджета.
И наконец, о протесте, которым прожужжали нам уши многие рецензенты, это «ж-ж», конечно, неспроста, но явно непропорционально тому скромному месту, которое протест в романе занимает. И можно было бы вовсе отказаться от возможности добавить в тему свои пять копеек, если бы не соблазн сравнения. В русской литературе события мятежного года нашли, на сегодняшний день, отражение в еще одной прозаической вещи – повести Романа Сенчина «Чего вы хотите?» (очевидная аллюзия на роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?»).
Писатели они, безусловно, абсолютно разные (хотя при желании можно свести вместе тувинские корни Сенчина и пелевинскую «Внутреннюю Монголию», равно как общие апокалипсические мотивы), что и продемонстрировано при осмыслении протестной истории. С оценками Пелевина, вплоть до объяснения протестных настроений модой на тот или иной бикини-дизайн, можно соглашаться во всем, кабы не раздражала все та же интонация бизнес-тренера, утомленного то ли солнцем, то ли его изображением, напоминающим анус, в гламурном подземном клубе. Да и чего принципиально нового сообщил здесь Виктор Олегович, несколько отставший в констатациях от антилиберальных (и не всегда провластных) публицистов «Фейсбука»?
У Сенчина оптика именно писательская: остранение, взгляд на протест глазами девочки-подростка, и выглядит такой прием свежее и тоньше, и читается с куда большим интересом и сопереживанием.
Надо сказать, «Пелевин и русские писатели» – насущная тема для Виктора Олеговича (литература для него не в последнюю очередь – инструмент выяснения личных и корпоративных отношений, что в его случае одно и то же). В БА фигурируют Сорокин и Лимонов (еще Андрей Тургенев, то бишь Вячеслав Курицын, но это не так важно). Первый – герой отдельной главки приложения. Которая так и называется – СРКН. Да и героя зовут Владимиром Георгиевичем. Отношение же Пелевина к своему «тягостному спутнику» выражено в пародийном, страшно желчном куске: «На багровом как шанкр закате он кидается в бездну кала и гноя и рушится вниз, вниз, вниз – в бледном венчике из смегмы, в окружении живых вшей и облаках ссаной вони».
Если бы, помните, «нашисты», ополчившиеся в свое время на Сорокина, прочитали его ранние рассказы и вздумали отписать по ним сочинения – вышло бы примерно так.
Лимонов мелькает в БА дважды – первый раз неназванным, при просмотре халдейских сценариев «протеста», затем в приложении, уже по имени, менее желчно и более уважительно. Отрывок этот был опубликован в ходе маркетинговой компании по раскрутке «Бэтмана Аполло».
И писатели поспорили.
Как водится у русских литераторов, о Боге.
Лимонов в известинской колонке, в общем-то, повторил Маяковского: «крохотный божик», и чрезвычайно точно, одной строкой определил Пелевина: «Я видел его, стоящего в темных очках ближе к выходу. (…) Я отметил, что Пелевин похож на милицейского опера, из породы молодых».
И то правда, Эдуард Вениаминович. Есть в пелевинской не только внешности, но и литературе этот извод – сермяжной и одновременно изощренной полицейской дидактики. Отсюда и профессиональный интерес к криминальному укладу. Конечно, «опер Пелевин» из органов «ушел сам», и даже не по причине конфликтов с начальством-коррупционером, не «страдая за правду», а исключительно от усталости и отвращения.
Уволившись, старшие офицеры уходят в безопасники и бизнес, младшие становятся бизнес-тренерами. И вполне успешными.
Забавно другое. Лимонов: «Я высказал твердую уверенность в том, что человек был создан Создателем, дабы употреблять в пищу души человеческие. Что души, о спасении которых так пекутся мировые религии, на самом деле – энергетическая пища сверхсуществ».
Так ведь не только Лимонов в книгах «Ереси» и Illuminationes, но и Пелевин в вампирской дилогии высказывает аналогичную концепцию – другими словами, образами, подробней и основательней.
Только вот оригинальность идей относительна – так или иначе оба знаменитых писателя здесь восходят к гностическому мифу… Осовременивая его – Лимонов темпераментом борца и ересиарха, Пелевин – с помощью вечно юного вампирского экшна.
Да и взгляды на протест у двух культовых сходятся.
Значит, принципиальна прежде всего литература. И она продолжается.
Навет без ответа. О романе Платона Беседина «Книга греха»
Этот роман следует признать несколько запоздавшей книжкой.
Точнее, совершенно архаической.
Дело даже не в постоянных аллюзиях на священные тексты (прежде всего ветхозаветные; тут самый близкий Беседину пример – «Псалом» Фридриха Горенштейна, хотя палитра цитирования у Платона не в пример шире – не только библейские пророки, но и тезка автора, Платон, равно как Будда, Сведенборг, Ницше, Селин, профессор Болингер; вся сходка авторитетов русской классики во главе с Достоевским).
Сознательно ли нащупал автор другой свой конек – шокирующий физиологизм, сопровождаемый менторскими отступлениями о вредоносности, скажем, употребления пива или лапши быстрого приготовления, – неизвестно. Но восходит прием, безусловно, к Библии, или, в русском варианте, к протопопу Аваккуму («Черви в ваших душах кипят!»).
Фишка тем не менее в другом. Беседин – адепт вполне несовременного инструментария: как в технологии, так и в методологии. Он пишет в основательно забытой экпрессионистской манере – и потому атмосфера «Книги греха» более всего напоминает немецкий кинематограф двадцатых двадцатого – Мурнау, Вине (до сих пор культовый в определенных кругах «Кабинет доктора Калигари»). Герой Беседина – Даниил Грехов – кажется похожим на икону немецкого экпрессионизма – актера Конрада Фейдта – весь в черном, с подведенными глазами и утрированной пластикой.
Кроме того, сама установка на подмену бытового реализма голимой чернухой с претензией не только на социальный диагноз, но и философские обобщения заставляет вспомнить перестроечное искусство, осуществлявшееся в тех же категориях и аналогичной цветовой гамме. Не случайно одним из гимнов эпохи сделалась песня «Алисы» «Красное на черном». Впрочем, ее-то Кинчев, наряду с полудюжиной других своих гимнов, до сих пор катает по фестивалям с большим успехом.
Черно в романе многое – от земли и одежи до мыслей персонажей и пива, которое почему-то тоже всегда темное. Белая разве что водка (и то неизвестно), которая регулярно запивается красным томатным соком. Есть еще серый френч (бывают ли серыми френчи? – в таком случае они должны быть похожи на обмундирование офицеров ветеринарных войск) у вождя нациштурмовиков Яблокова, в котором угадывается довольно злобно окарикатуренный до фюрера-жидоеда Эдуард Лимонов. Чей правый период в политике был весьма краток и скорее декларативен, а уж антисемитизмом Эдуард Вениаминович не страдал никогда.
Хотя…
Яблокова паспортное имя – Александр Исаевич Табакман. То есть с таким именем-отчеством да френчем, может, вовсе не Лимонова мы имеем здесь в протагонистах. Бороды вот только не хватает… Зато ФИО это, согласно Беседину, записано в свидетельстве о рождении, представить которое в руках некоего старца – уже штучный литературный трип.
Красного в пропорции у Платона Беседина даже больше, чем черного, ибо главная стихия романа – кровь. Декорации подбираются в масть ей и цвет.
О «декорациях» я не для красного словца: «Книга греха» – вещь довольно условная. Скажем, география романа предполагает российский как бы мегаполис, с постоянными дождями и туманами, но где-то на заднем плане мелькает вдруг кипарис. Ботанический оксюморон объясняется на самом деле просто: Платон Беседин родился и рос в Севастополе, сейчас живет и пишет в Киеве и, воля ваша, момент этот принципиальный. Роман его ценен еще и взглядом несколько извне, именно таким пониманием российского подполья из нынешней русской литературной провинции – Украины.
По театральному обыкновению, вымороченная реальность провоцирует переизбыток символизма и недостаток подлинной метафизики, на стыке рождаются примеры высокого штиля, забавные подчас до полной невнятицы.
«Их глаза абсолютно одинаковы. В них зиждется странная сентенция пустоты и близости великого свершения. Туманные, сонливые взгляды устремлены куда-то вдаль, где реет только им ведомый флаг победы».
Хорошо, хоть не стяг и не с прописной буквы.
Вообще, из «Книги греха» можно наскрести стилевых огрехов на отдельную брошюру, и отнюдь не по сусекам. Впрочем, я хоть и далек от мысли, что весь этот шершавый язык – часть авторской концепции, а не банальное отсутствие грамотного редактора, в итоге и, как ни странно, выходит, будто он тоже работает на текст, разнообразит монолог героя-автора. Еще более искривляя реальность и заполняя уродливыми словесами внутреннюю пустоту персонажей. Которая есть главное содержание «Греха» и мотор его сюжета.
Получается своеобразная полифония, особенно на фоне вовсе нередких энергичных диалогов, подчас точных и ироничных наблюдений.
«Раньше, когда ты просил в магазине бутылку пива, тебе давали твои пол-литра. Теперь спрашивают, вам двухлитровую или маленькую, на литр. В будущем нашим детям будут продавать пиво в канистрах».
По-настоящему раздражает другое – недотянутость фразы, провисание оборота. Обидно, понимаешь, за автора, который мог куда сильнее и в разы точнее. К примеру, в эпизоде с «черным как смоль дерьмом, текущим по ногам». Тут надо было, пожалуй, не постесняться (хотя куда уж при таком-то экшне) и сравнить субстанцию со смолою – во всяком случае, термические ощущения были бы переданы вернее. А «черными как смоль» в старых добрых романах определяли шевелюры красавцев, и не всегда демонических.
Или «стопка виски» в гламурном клубешнике. Спору нет, наверное, многим из нас приходилось догоняться вискарем из разной тары, вплоть до фужеров, однако нормативного для этого напитка стакана никто еще не отменял… Тем паче что в элитных клубах работают искушенные бармены. Ну да ладно, и у более маститых сочинителей мне доводилось встречать рюмки (!) с «Джеком Дэниэлсом», поднесенные в баре чуть ли не «Националя»…
Итак, кровь.
Платон на разные чернушные лады применяет к романной фабуле мифологию «кровавого навета». Потому так много в его книжке евреев и соответствующего вопроса, который странным, однако, образом не акцентируется ни в юдофобском, ни в юдофильском ключе. Чему есть свое объяснение. Американский исследователь А. Дандес в свое время, для объяснения причин возникновения легенды, выдвинул теорию «проективной инверсии»: «А обвиняет Б в совершении действия, которое в действительности хочет совершить сам».
Герой романа Беседина, Данила Грехов (пора наконец к нему присмотреться) пытается заполнить радикальными социальными практиками внутреннюю пустоту и неумение жить. Участвует в деятельности секты «позитивных» имени Сары Кали (не грозная богиня ведического пантеона, но цыганская святая, по легенде, служанка Марии Магдалины). «Позитивные» распространяют смертельно опасный вирус через кровь. Служит штурмовиком в фашизоидной организации Яблокова. Кроме того, общается с готами, потенциальными самоубийцами, фотографирует тусовки, в которых свальный грех сопровождается отвратными ритуалами и пр. Такое вот гнусноватое, кишащее монстрами и жертвами, подполье. Грех (естественное прозвище героя) предпочитает оставаться наблюдателем, однако само метание между штаб-квартирами зла, богатое воображение и покорность обстоятельствам провоцируют все новые потоки крови, нагромождение трупов, конвейер устрашающих и постыдных историй…
Даниил – своего рода детонатор в адской машине, его желания становятся материальны, некие силы заинтересованы, чтобы доделать за героя то, на что он по слабости и склонности к рефлексии не может решиться. Классическая логика «кровавого навета», стремительно становящегося из мифа – реальностью.
«Книга греха» – детектив в одном флаконе с триллером, но осуществленный в достоевских координатах – когда не так принципиально, кто убил-с. Автора занимает метафизика преступления, сопутствующая природа и атмосфера.
С этим, надо сказать, все в комплекте, и даже чересчур. Даже мне, повидавшему немало, а прочитавшему еще больше, как-то неловко это пересказывать. Упомяну лишь один эпизод и персонажа, аналогов которым в русской литературе, пожалуй, и не было – девушка Нина, которой, по ее собственному настоянию, удаляют клитор. После операции, проведенной в походных условиях, Нина съедает ампутированный фрагмент… Сорокин, помноженный на раннего Маяковского.
(Впрочем, вспомнил: в скандально-букероносном «Цветочном кресте» Елены Колядиной есть схожая операция с «похотником» – без гастрономии, естественно; однако игровая стихия «Цветочного креста» не дает отнестись к операции серьезно, это даже не удаление зуба.)
Но вот главное. Почему-то послевкусие от книжки дает ощущение странной свежести, какого-то неожиданно легкого света, как будто изнурительный индустриальный пейзаж вдруг закончился зеленой аллеей с ветерком и листьями – и не важно, парковой или кладбищенской. Дело в несомненной талантливости автора, умении вывести читателя за пределы маргинального ада по невидимой, но осязаемой тропинке; сам набор достоинств бесединской прозы, усиливая эффект описываемых страстей и ужастей, за пределами текста начинает им жестко оппонировать. И здесь – главная удача молодого писателя.
Текст Беседина, полный апокалиптических сигналов, я бы все же не стал называть «романом-предупреждением». Скорее автору виделась «история моего современника», в гротескном варианте, состояние неокрепшей души в тяжелый период – больше внутреннего, нежели внешнего мира.
Другое дело, что любая провинциальная новостная лента, читаемая даже подряд, – готовая «Книга греха». Самоубийства подростков – две девочки, ученицы одной школы, прыгают с крыши девятиэтажки с разницей в несколько дней. Убийства и расчлененка – парень, по профессии мясник, в новогодние каникулы поохотился с топором на свою бывшую девушку, а заодно ее нынешнего парня и несостоявшуюся тещу. Лаборантка университета, из «хорошей татарской семьи», похитила 12-летнюю подругу своей племянницы, и, засветившись на переговорах о выкупе, убивала девочку ножом, нанеся около двадцати ударов… Сексуальные скандалы – с инцестом и педофилией, иногда вместе…
Бывают времена, когда самая условная литература, с архаикой «кровавого навета» и немодной эскпрессионистской техникой, звучит как нон-фикшн.
Бох и порог. «Машинка и велик» Натана Дубовицкого
Считается, будто роман Натана Дубовицкого «Машинка и Велик» (gaga-saga, М.: Библиотека «Русского Пионера». Т. 3) прошел незамеченным.
И то верно: особенно на фоне прозаического дебюта г-на Дубовицкого – знаменитого «Околоноля», который по выходе открывал ленты политических новостей, рецензировался чрезвычайно широко, а само его название сделалось распространенной идиомой русского языка.
Общеизвестно, однако, что масштабный медиавыхлоп диктовался обстоятельствами нелитературными: роман приписывали авторству Владислава Суркова, на момент публикации «Околоноля» – первому замглавы администрации президента и главному идеологу путинского Кремля.
Расклад, в общем-то, ясен: предполагаемый автор «Околоноля» казался больше своего романа, в то время как «Машинка и Велик» явно крупнее этого самого автора.
Впрочем, отклики, конечно, имеются: умеренно апологетическая рецензия Кирилла Решетникова в «Известиях», захлебывающийся от восторга и до стихов – не в столбик, а в строчку – Александр Проханов в «Завтра»; Анна же Наринская в «Коммерсанте» обозвала МиВ – «халтурой высокого уровня». (Может, при таком уровне оно и не халтура уже?)
Между полюсами Проханова и Наринской располагается еще пяток рецензий, сделанных по известному принципу «как бы так сказать, чтоб ничего не сказать».
Рецензентов (и в куда большей степени отмолчавшихся рецензентов) понять можно. «Машинка и Велик» – по нынешним литературным временам и нравам вещь необычная, непривычная, неожиданная. Можно, включив опцию гамбургского счета, перечислить все проблемные места текста (вяло разворачивающийся сюжет – автор, словно жеманный купальщик, пробует ногой воду, прежде чем с уханьем и брызгами погрузиться в стремительный ледяной поток; разбаланс между иронией и патетикой; смазанную – впрочем, скорее нарочито – концовку). Беда, однако, в том, что подавляющее большинство современных русских текстов, не включая, исключают саму опцию гамбургского счета.
Ну в каком, скажите мне, сегодняшнем русском и сравнительно небольшом по объему романе сойдутся на одних страницах северный городок Константинопыль и офшорный остров Буайан, седобрадые монастырские старцы Феофил и Зосима с братией и – черти Анаклетъ, Агапитъ и Бонифаций; коррумпированные менты и честный частный сыщик, а к ним в обойму – Кетчуп с братками и Аслан с нукерами; мертвые моряки «Курска» и маньяк-педофил Дракон; лирические отступления от Натана Дубовицкого и лирические же отступления в квадратных скобках от того, кто назвался Натаном Дубовицким; хромоногий джип и парусный ледокол; расстрига и подвижник о. Абрам («дядя отец» – как обращается к нему мальчик Велик) и киллеры-коллекторы-любовники Бур и Щуп на службе у положенца Ватикана…
А еще: льды, солнца, снега и снежные бабы, почти графоманские стихи и зафигаченная ни к селу ни к городу, а в самолетном перелете французская длиннющая цитата из Бекбедера, русский «бох» и всеобщий Бог, ангельская сборная и поэтические дефиниции национального пьянства и воровства…
Ангелы в образе волка по фамилии Волхов, белого медведя по кличке Желтый – оба из команды архангела – капитана Арктика, на плече у которого попугай – «птица редкой охотничьей породы, какие водятся только в пойме реки Таз, окаймляющей заповедную Малоземельную тундру. Почти насовсем истребленная из-за нежнейшего, теплейшего и легчайшего меха, заменяющего ей пух и перья».
Разве что у Александра Проханова в каком-нибудь из последних босхианских романов можно встретить вместе и порознь столь же пеструю тусовку (может, отсюда и восторженный клекот Александра Андреевича, учителя, приветствующего ученика-победителя). Уровень текстов, однако, несопоставим.
Н. Дубовицкому на момент «Околоноля» кого только не сватали в литературные сталкеры: от Борхеса и Набокова до Пелевина и чуть ли не Льва Гурского. Сам набор имен фиксировал известную ситуацию «пальцем в небо» (а может, и не в небо): фишка же состояла в том, что стиль романа был не подражательским и даже не вторичным, а нарочито издевательски постмодернистским.
Мне тогда это показалось странной архаикой, сам автор – туристом-неофитом, заблудившимся в литературных временах.
Оказалось, в «Околоноле» мы имели дело не с конечным продуктом, а лабораторным опытом. (Ну и настроением: отмахав на первом легком кайфе куски о деревенском детстве героя и московских нравах, Дубовицкий заскучал и завалил любовную и кавказские линии – да и язык романа предполагал другое, куда более долгое дыхание.)
В «Машинке и Велике» хаос упорядочивается: краски скудеют, становясь ярче, средства скупее; оптика проясняется.
Ряды сталкеров редеют.
Надо сказать, что инновации в литературе работают довольно прихотливо, ни о каком промышленном потоке речи идти не может (разве что прямое подражательство, скажем, тому же Набокову: традиционно унылое). Выдающиеся стилисты прошлого, как правило, вешали за собою знак-кирпич в словесности. Влияя на нее, дальнейшую, опосредованно, и предвосхищая – довольно точно и подробно – коммуникационные технологии.
Замечательный прозаик Анатолий Гаврилов явно сделался менее интересен, когда возникла стилистика и целая школа смс– и твит-общения, по большому счету им и придуманная.
Энергично-гротескная лексика Исаака Бабеля возродилась не с новой гражданской войной в 90-х, но когда война эта потребовала своего киношного эпоса – бумеров и жмурок, сценариев Адольфыча.
Саша Соколов: «Школа для дураков», «Между Собакой и Волком» и, особенно, «Палисандрия» – эдакая матрица социальных сетей – с их многолосьем, гоном, брейгелем и прикладным народоведением. Сами можете атрибутировать тот или иной его роман «Одноклассникам», «Контакту» или «Фейсбуку». Я даже знаю, какой и куда.
Так вот, в «Машинке и Велике» Дубовицкий сделал выбор в пользу Саши Соколова, и наш самый странно замолчавший классик в этой инкарнации вдруг сделался брутален и – наконец – внятен. Если вспомнить, что предполагаемый Натан Дубовицкий – то есть Владислав Ю. Сурков в нынешнем медведевском правительстве отвечает как раз за инновации и прочий хай-тек, то моя идейка о великих стилистах, продолжающих себя в передовых средствах общения, здесь работает, хоть и опосредованно.
Г-н Дубовицкий активно включается в игру: заглавный Велик – имя мальчика, сокращение от Велимир. Велимиром же Шаровым зовут персонажа романа Захара Прилепина «Черная обезьяна» – в нем, кремлевском идеологе с писательскими амбициями, покровителе агрессивных недоростков – Сурков легко угадывается. А фамилия Велика (и его отца, математика Глеба) – Дублин – прямо отсылает к Джойсу, которого тоже, натурально, этапировали Дубовицкому в учителя.
МиВ – в одном из слоев – литературная биография Н. Дубовицкого, как и политическая В. Суркова, какой он ее видит сам и о которой чуть ниже.
А оппонирует Дубовицкий Соколову в самой принципиальной для обоих языковой материи.
Если Соколову свойственно погружаться в стихию языка, подчиняясь волнам и избегая твердого дна, то Дубовицкий ищет хоть какой-то определенности, пытаясь разобраться в запущенном хозяйстве русской речи.
Так, он походя фиксирует назревшую ситуацию: слово «б…дь» окончательно распалось на два самостоятельных понятия и две разные части речи.
«Б…дь» – это существительное и статус человека, не обязательно женского и не всегда однозначно отрицательный.
А экспрессивное междометие – это «б…ть», конечно. С окончанием мягким, но обязательным – общеупотребимого «бля» Дубовицкий как бы не замечает и не определяет.
О том, что есть русский «бох» и Бог вообще – Творец, повелитель стихий и ангелов, с явно нордической пропиской – я уже говорил.
Еще одно отличие Дубовицкого от Соколова (а «Машинки и Велика» от «Околоноля») – Дубовицкий – снова неожиданно – не приемлет никакого имморализма, заманчивых нравственных инверсий и прочего, хоть бы языкового или бытового, ницшеанства.
Что там за душой на самом деле – нам неведомо, но при таком подходе проясняется мишень для писательской амбиции куда более значительная, чем Саша Соколов, – сам Николай Васильевич Гоголь.
Для генезиса (упаси бог, не сравнения, взаимно оскорбительного и для Гоголя, и для Дубовицкого) хватило бы перелета верхом на чертях к полюсу. У Дубовицкого там и сям мелькает тот самый гоголевский «чорт», с чорной дырой «о» посредине. Или поэтических отступлений о природе русского пьянства и воровства.
Ситуация, однако, глубже: общеизвестно, что в «Мертвых душах» Николай Васильевич замахивался на Данте Алигьери (и Одиссею отчасти), желая дать русскую «Божественную комедию» в трех томах: Ад – Чистилище – Рай.
Получилось у него то, что получилось.
Гоголевский мотив в «Машинке и Велике» прямо-таки понуждает выдвинуть похожую версию относительно г-на Дубовицкого: что, если в «Околоноля» нам показали «Ад», «Машинка и Велик» стали «Чистилищем», а «Рай» пока в творческих планах?
А вслед за тем придется признать, что у Дубовицкого с «Чистилищем» вышло куда удачней, чем у коллеги Гоголя.
Удачней – прежде всего для качества романа и писательской репутации: ибо после двух десятков а-четвертых русско-пионерских страниц стилистический прием становится однообразен, густая ирония приедается, из гротеска исчезает комизм – что для подобного рода текстов убийственно. Роман же, напротив, начинает бурно жить.
Контрапункт Дубовицкий обнаружил даже не в детективном сюжете (по задумке МиВ – триллер, но его так и не вышло), не в нордической, вольное переложение Старшей Эдды, мистерии, а именно в нравственном идеале.
Пропадают дети – Велик, а за ним – Машинка (Маша, дочь милицейского генерала-коррупционера Кривцова и хорошей женщины Надежды). И весь романный, северный, русский, тусклый, выморочный, распадающийся, долго сохраняющий запахи, по-своему комфортный в своей скорой обреченности мир – вдруг приобретает целостность и смысл.
Детей – со всеми их айпадами, биониклами, черенками чупа-чупсов во рту – надо спасти. Силами человеческими и ангельскими средствами. Дедуктивным методом и молитвенным деланием.
Две сильнейшие сцены романа, и обе не лишенные прямолинейности и дидактики: 1) рапорт экипажа «Курска» старцам о желательности спасения детей вместо их, моряков, желанного воскрешения; 2) обличения московской сыщицей местного главмента с цитатами из педофильской хроники и под аккомпанемент – из плеера – заклинаний Ивана Карамазова о слезинках ребенка. Обе с прозрачным посылом: в спасении детей – наш единственный шанс.
Больше о шансе Дубовицкий нам ничего не объясняет: сказано и так много.
По мнению критиков, авторским альтер эго в «Околоноле», собственно, и был главный герой – Егор Самоходов, читатель, издатель, мафиозо, недосверхчеловек.
Не может такого быть, думал я, предвкушая читательское удовольствие, чтобы в новом романе Дубовицкий самого бы себя не увековечил, пусть и упрятав куда поглубже, во второстепенные персонажи.
Альтер эго обнаружилось в сыщице и красавице Марго (Маргарита Викторовна Острогорская – Следственный комитет, Специальное управление, отдел номер ноль, сложные случаи, засекреченные операции…) – с ее причудливой и заурядно-онегинской биографией богатого лишнего человека. Одной, но пламенной страстью – спасения детей из лап, клешней, щупальцев… Пламенна эта страсть, впрочем, до появления первых признаков депрессии.
Тогда еще одна версия. Где бессильны политологический анализ и цифирь социологии, выручает литература. Антипедофильская истерия в российском обществе, восходящая ныне до высоких степеней безумства, может иметь объяснением такой вот, чрезвычайно похвальный, нравственный идеал от одного из первых лиц государства.
Очевиден не столько общественный спрос на борьбу с педофилами, сколько – властный – на активную педофильскую компанейщину (насколько, что братва в местах заключения, говорят, фигурантов соответствующих статей практически не щемит до подробного анализа обстоятельств).
Многочисленные «кибердружины» по выявлению потенциальных преступников в Интернете, добровольные помощники антипедофильской партии по преследованию злоумышленников уже в реале… Когда запретных сладострастников выманивают «на встречу» фотоизображением юного существа и непотребным сюсюканьем. После чего «педофилы» бывают либо биты, либо опозорены.
Здесь меня, однако, интересуют соображения чисто, так сказать, литературного свойства. Ведь не в режиме сетевого монолога гадкие извращенцы объясняются в гнусных похотях? Надо думать, эти пуганые вороны клюют на определенный словарь и стилистику собеседования… Ведутся.
Вспоминается Лев Толстой, прочитавший «Яму» Куприна и заключивший, что автор получает свое удовольствие от описания бордельной экзотики (ну, это Лев Николаевич «Суламифь» не прочел, не успел). Куприн, положим, не особо смаковал проституточные труды и дни, но ведь и граф бывал в таких случаях не по-старчески чуток.
А вот Пазолини, конечно, в «Сало, или 120 днях Содома» очень страстно фашизм разоблачал.
Надо, кстати, заметить: Натан Дубовицкий в этом своем тексте необычайно в вопросах секса, как дон Корлеоне, целомудрен – и взрослой-то эротики в МиВ не найти с красным фонарем, сплошь констатация нелепых связей. Дети же, равно как отношение к ним, описываются исключительно возвышенно: «Велик и чужому человеку показался бы ангелом, а уж для родного отца он был целый рай».
Между тем моего приятеля, молодого кандидата философии, едва не вытолкали с кафедры за то, что, разбирая с первокурсниками «Пир» Платона, объяснял: однополая любовь старших античных мужчин к младшим была для того времени… ну да, нормой.
Не все, что написано у Платона, сказали ему, уместно давать современным детям. А относительно нынешнего времени добавили: атмосфера такая.
Все верно: ради хорошего русского романа можно и атмосферу потерпеть.
Без надежды и любви. О романе Александра Снегирева «Вера»
Компактный роман-притча. В традициях Андрея Платонова (похоже, это самый главный для Александра русский автор, слышатся мотивы «Фро» и «Счастливой Москвы») и Фридриха Горенштейна. Про традицию Виктора Ерофеева говорить не стану, ибо нет такой традиции, а есть пиар, несколько проржавевший в былых боях.
Если из триады Вера – Надежда – Любовь вычленить фигуру, наиболее адекватную России во всех ее временах и пространствах, это будет, конечно, Вера.
Верой зовут и главную героиню – возраст которой приближается к неумолимому женскому сороковнику на фоне ста лет одиночества и ее, и всего семейства, и всей, естественно, страны Россия. Вера – москвичка во втором поколении, блондинка, увядающая красотка и полуеврейка. Ни семьи, ни дома, есть только дверь за ковром, не из Хаксли – Моррисона, а скорее из русской народной психоделии и детских страхов. Равно и в качестве жутковатой метафоры отечественно-семейной истории. Тоже все знаково.
Отправная летописная точка, пункт «А» – Великая война («самая страшная в истории человечества», – очень серьезно повторяет Снегирев известную аттестацию). С дородовой памятью 37-го года, в котором Верин отец получил имя Сулейман, в честь «великого лезгинского поэта», в тот важный год и скончавшегося. Надо сказать, Снегирев вообще исторически чуток: вся современная Россия – это Россия послевоенная, и чем дальше ВОВ, тем сильней ощущение смертной и кровной с ней связи, протекающей глубоко параллельно не столько историческому, сколько истерическому пропагандистскому мейнстриму.
Вся жизнь Веры превращается в набор символов, которые автоматически проецируются ясно куда. Предсказуемых, конечно, но внушительных и объемистых. Потеря девственности (с элементами насилия) в разрушенной церкви, на малой родине. Церковь сию восстанавливает отец Веры – сельский выходец, солдат, ученый-химик, затем многолетний неофит и – в своем финале – лох-пенсионер. Эмиграция в Америку в перестроечные, что ли, годы – уже не колбасная, а, так сказать, посудомоечная. Возвращение – просто потому, что потянуло неудержимо. Гламурная работа, хорошее бабло, в глянце про интерьеры (русская литература, кстати, традиционно любит интерьеры, я вот недавно перечитывал нобелевский роман «В круге первом», и с остолбенением обнаружил, что он не только про сталинскую тюрьму и эпоху, но и про интерьеры).
…Продолжим о Вере. Расточительность и благотворительность. Едва наметившийся роман с кремлевским идеологическим вельможей, не развившийся, естественно, никуда. А так, конечно, были и банкир, и секс в автозаке и – ближе к финалу – с одной стороны – протестный активист с авангардной постановкой балета, бородой и жвачкой в качестве оружия креакла, с другой – лысый силовик, который не любит кавказцев, на них зарабатывает и деятельно готовится к ядерной зиме. Веру они имеют (в разных изводах сексуальности), но больше ни в каком качестве не хотят.
Наконец, Вера попадает в сексуальное рабство к мусульманам-гастарбайтерам, а от совсем печального финала ее уберегает Высшая сила – эдакая взрослая рифма к первому девичьему опыту. Веру, вампиризированную обстоятельствами и мистическим опытом, отчасти безумную, оставляют в относительном покое, бездетной сиротой, всеми плюнутой.
Словом, сценарий – и далеко не в одном кинематографическом смысле. Любопытней, однако, не «что» в этом романе, а «как».
Прозаик Снегирев придумал для своей вещи особую стилистическую форму – это своеобразная докладная записка некоему демиургу, вдруг заинтересовавшемуся происходящим на одном из пятен земной поверхности, с целью понять – как все это у них разруливается, и вообще стоит ли оно того. Не репортаж даже, а документ, изготовленный метким и недобрым наблюдателем, умеющим в одно касание передать историко-социальный контекст, расколоть на атомы быт, а в два – проникнуть в женскую суть (чаще не до сердцевины, но до пустоты).
В подобной конструкции и манере плюсы органично разрешаются минусами, и наоборот. Вот в НБ-рецензии Наташа Романова очень точно пишет об эксклюзивном свойстве снегиревского языка: дескать, сразу ясно, что писал современный человек для современников своевременную книгу. И дело не в подламывании под модный контекст и не в лексике, а в именно таком восприятии, да и приятии, мира. Эту мысль следовало бы продолжить – тот острый дефицит вещества любви, который обнаруживают в «Вере» рецензенты, должен быть прежде всего атрибутирован ее автору. Нет, не в качестве предъявы, разумеется – жестокий талант достоин уважения не единственно за талант. Тем не менее подобный сильный текст – не только продукт истории и судьбы Веры-России, но и всепроникающей иронии, актуальной цинико-эстетической продвинутости; амортизации и кристаллизации – в гранитный камушек из давнего шлягера – души.
Но, собственно, кто я такой, чтобы читать морали Александру Снегиреву, написавшему неожиданную, глубокую, мускулистую вещь о «серьезных вещах». Да, последнее – чтобы процитировать любимое место из Лимонова, которое может сойти за отдельную на «Веру» рецензию.
«– Это ты все о пи…де, да и о пи…де, серьезные книги нужно писать, о серьезных вещах». – «Пи…да – очень серьезная вещь, Леня, – отвечал я ему. – Очень серьезная».
…Уместнее и правильнее будет просто поздравить.
Секс, наркотики, Украина. О романе «Красавица» Лизы Готфрик
Существует термин, имеющий отношение скорее не к киноведению, а к маркетингу, – «интеллектуальное порно». Настоящий шедевр по его ведомству, кажется, всего один – знаменитый «Калигула»: за интеллект в нем отвечают не только драматургия и музыка (в том числе советских композиторов Прокофьева и Хачатуряна), но и сами сцены разнообразного секса.
У других получалось хуже; главное свойство арт-хаусного порно – всепобеждающее уныние: во всех этих «Романсах», «Кен парках» и пр., и пр. явлено не единение умных мыслей и грязной физиологии, а их размежевание. Половые органы и голова живут какой-то отдельной, вполне вялой и бессмысленной жизнью, чтобы на выходе подтвердить старый тезис – «сегодня тот же секс, что был вчера» (перефразируя БГ).
Ситуация легко переносится в литературу. Порнохроника Лизы Готфрик «Красавица» – попавшая в длинный список «Национального бестселлера» и доступная в Интернете – ближе к Тинто Брассу, чем Ларсу фон Триеру и его эпигонам (правда, не знаю, как поменяются акценты в – случись она – экранизации). Это делает ее вещью симпатичной и вполне весело читаемой. Впрочем, полностью разделить восторгов товарищей (а среди них люди, хорошо понимающие в литературе и умеющие ее, отличную, делать) – тоже не могу.
Сами подобного рода сочинения, конечно, ловушка для рецензента – отреагируешь кисло – станешь навеки ханжа и тот самый фрик, что призывает запретить наконец порнографию, а то руки болят. Если кислый рецензент – дама, легко угадать и диагноз, который ей будет поставлен. И глупо возражать, что ты, как Красная Шапочка (из другого анекдота), – лес знаешь, а секс любишь…
Есть же, однако, чисто литературные критерии. Согласно Эдуарду Лимонову (о котором, раннем, в связи с «Красавицей» упоминали и будут еще упоминать), Иосиф Бродский, прочитав «Эдичку» в рукописи, сочувственно сообщил: понимаешь, старик, ты опоздал. Их чуваки уже давно об этом написали…
Принято считать, будто Иосиф Александрович под «чуваками» имел в виду Генри Миллера и Чарльза Буковски, однако мне представляется, что речь скорее шла о неконкретизированных битниках. Которые прописали в литературе триаду «секс, наркотики, рок-н-ролл», добавив туда политики, всяческих «на дороге», а классический секс уравняв в правах с нетрадиционным. Лимонов, сделавшийся с тех пор русским классиком, конечно, шире «битнических» рамок, но в нашей литературе давно на собственный, как правило, прыщеватый манер пересказываются и Керуак, и Берроуз, и – чаще остальных – Буковски.
«Тут в комнату заглянул папа. Он был в дачной одежде, зашел в дом после того, как что-то делал в поле.
– У вас тут прямо как Америка шестидесятых, – вдруг засмеялся он.
Мне непривычно было видеть папу веселым».
Ну да, киевлянка Лиза Готфрик дает этакий обобщенно-женский вариант битничества, с учетом, впрочем, и других лекал – припоминается изданный в свое время «Лимбус-прессом» французский нон-фикшн «Сексуальная жизнь Катрин М.» – авторства, собственно, Катрин Милле.
Есть у Лизы для собственного творчества и другой маячок и дефиниция – «женский «Кровосток». Общего и впрямь немало – помимо набора из секса и наркоты (криминала у Готфрик, по понятным причинам, почти нету), эдакое ощущение ненатуральности, концептуальности, «проектности» бытия. В лучших, однако, вещах «Кровостока» – классической «Биографии» или медитативном «Куртеце» – весомо и гулко звучит экзистенциальная глубина, а у Лизы с этим – совершенно глухо.
Из полуоригинального – манерный стилек («морько», «книжечки», «Таничка», «Достик» в смысле Достоевский и пр.), не вульгарный, а как бы естественный мат (что особо ценно на фоне общей вульгарности текста), зарисовки весенне-летне-осеннего Киева и тамошних персонажей, вроде некоего А., «грузного мужчины с криминальным прошлым и еще не состоявшимся тогда литературным будущим».
Любопытно, кстати, что большинство романов «про это» (и, понятно, дневников) сделаны в простецкой линейной композиции, хроникально; видимо, при переносе на бумагу и в календарные координаты от возвратно-поступательных движений остаются одни поступательные. «Красавица», конечно, не исключение – однако в хронику совокуплений и потреблений веществ вписан дополнительный сюжет, притворившийся основным. История отношений героини с неким Эдиком (он-то и есть «Красавица»), виртуальным коммерсантом и кривоватым адептом Кастанеды. Она имеет начало и конец, но болельщицких эмоций не вызывает. То есть мы вроде должны сочувствовать Лизе, «после разъезда, драк и литров моих слез», убившей кусок молодой жизни на бесчувственную мужскую скотину, – а не получается. Эдик – эгоист, жадина, извращенец? Ну, так вся немудрящая интеллектуальная составляющая порноповести сводится к слогану братков из первого «Бумера» – «не мы такие, жизнь такая».
Намечался здесь, впрочем, сюжет куда более убедительный, про встретившиеся одиночества: «Мы регулярно трахались втроем, совершенно разные, но при этом одинаково потерянные». Но Лизе Готфрик, похоже, не захотелось и его прописывать – увлек иной и привычный экшн.
Тем не менее из «Красавицы» можно почерпнуть любопытные сведения политологического скорее толка. А может, чем черт не шутит, использовать как свидетельские показания на каком-нибудь грядущем процессе. Политическая жизнь Украины последней дюжины лет, с первым и вторым Майданами и всем, что случилось позже и еще случится, давно казалась слишком, избыточно, неправдоподобно насыщенной страстями и энергиями, извращениями и безумием, свойства вполне пограничного. А то и вовсе иноприродного. Все эти картонные месопотамии явно не могли устоять без, как выражаются наркологи, «химического костыля». Проще говоря – веществ и трипов. В «Красавице» есть намек на аналогичные персонажам приключения «Юлии Владимировны», имеется и ностальгический пассаж: «…я хотела, чтобы «Красавица» получилась повестью о поколении, которому посчастливилось пожить в настоящей свободе, когда доступ к информации уже был, а полного контроля еще не было. Мир без чипов, вольготная жизнь, которой больше не будет».
И многое становится ясно: как всякий наркоман, украинская политика брала с перебором энергию и страсть у самой себя, в неслучившемся будущем.
Нераспознанные «Сигналы». Случаи Дмитрия Быкова
Вокруг романа Быкова «Сигналы» (М.: Эксмо, 2013) складывается своеобразный заговор молчания.
Казалось бы, о чем писать журналистам и рецензентам, как не о новой прозе популярнейшего литератора?
Тем не менее как раз ничего парадоксального в этой гробовой тишине нет. Она рациональна и легко объяснима.
Во-первых, потенциальных рецензентов может смущать проблема авторства. Обложка, сразу под фамилией Быкова, презентует читателям и Валерию Жарову, шрифтом, впрочем, помельче. Если предположить, что авторство представлено в пропорциях и третях, получается, что Быкова/Жаровой в «Сигналах» – два к одному.
Однако сам Дмитрий Львович предпочел другой вариант литературного подельничества: на форзаце указано «автор выражает искреннюю благодарность Валерии Жаровой за помощь в создании книги».
Я же буду упрямо называть «Сигналы» романом Дмитрия Быкова, поскольку он – стопроцентно быковский.
Во-вторых, тот же Дмитрий Львович, на обложке же, только задней, высказался о своей книжке почти исчерпывающе, искусно маскируя точную рецензию под анонсирование: «История пропавшего в 2012 году и найденного год спустя самолета «Ан-2», а также таинственные сигналы с него, оказавшиеся обычными помехами, дали мне толчок к сочинению этого романа, и глупо было бы от этого открещиваться. Некоторые из первых читателей заметили, что в «Сигналах» прослеживается сходство с моим первым романом «Оправдание». Очень может быть, поскольку герои обеих книг идут не знаю куда, чтобы обрести не пойми что. Такой сюжет предоставляет наилучшие возможности для инвентаризации страны, которую, кажется, не зазорно проводить раз в 15 лет».
Тут добавить особо нечего, остается разве что полемизировать. Сходство с «Оправданием» и впрямь прослеживается, но гораздо больше «Сигналы» напоминают фантастический роман «Эвакуатор». Как на уровне фабулы – ритуальными плясками вокруг мифических летательных аппаратов и братско-стругацких могил. Так и общей торопливостью и некоторой небрежностью исполнения – все-таки «Оправдание» было несравненно лучше прописано.
И пафос его – возвышающий, а не уничижительный.
В «Сигналах» же на каждую загадку, способную хоть немного приподнять над собой и равниной, обнаруживается скучный и объективно постыдный ответ: строитель пасторального рая оказывается перекрывающимся должником. Закрытый город – не осуществленной мечтой или хотя бы памятником славным временам, а дырявой ловушкой. И даже позывные бедствия, «сигналы» – трансляцией бытового и неопрятного российского безумия.
Третья причина молчания – сам Дмитрий Быков как индустрия. Его собственный кризис перепроизводства. На быковское многописание прежде реагировали восхищенно, потом восхищение сменялось скептически-завистливым «он из каждого утюга», откуда один шажок – к обвинению этого литературного бизнеса в инфляции.
Дмитрий Львович, надо полагать, подобно герою его будущей ЖЗЛ, и сам чувствует себя заводом, вырабатывающим… Не счастье, разумеется, но некую продукцию, прежде всего для внутреннего потребления, способную остановить энтропию и депрессию.
Потому образ закрытого комбината в романе «Сигналы», чья производственная цепочка замкнута сама на себя, – символичен и автобиографичен. Один из флагманов социалистической индустрии, не покинувший советского измерения, но ушедший в потустороннее состояние, описан Быковым весьма амбивалентно, на грани сатиры, не социальной, впрочем, а метафизической. Завод из «Сигналов» – довольно точный индикатор отношения Дмитрия Быкова к самому себе, нынешнему.
Максима о том, что это литература для Быкова, а уж затем – Быков для литературы, работает по-прежнему, но героя ее совершенно уже не удовлетворяет.
Любопытно, что бренд «Дмитрий Быков» сделался индикатором общественных настроений. Именно Быков, а не Навальный и Собчак был для рассерженных горожан сезона 2011/12 наиболее крупной – во многих смыслах – фигурой митингов-шествий. Трубадуром протеста – его стихотворные сатиры из «Новых и новейших писем счастья», равно как из проекта «Гражданин поэт», во многом определили стилистику тогдашнего гуманитарного карнавала…
Синусоида читательского отношения двинулась вниз вместе с угасанием болотных настроений.
Быков, как художник чрезвычайно чуткий, во многом и творчески подпитываемый подобной интерактивностью, на мой взгляд, остро переживает эти (вполне естественные в любой писательской судьбе) процессы. И пребывает ныне, по-есенински выражаясь, в неустойчивом периоде, поиске новых форм, импульсов и площадок.
Сегодняшнее быковское ревизионистское переосмысление мира направлено не только вовнутрь, но и вовне – собственно, на Россию. В этом смысле фраза из обложечного анонса о новой инвентаризации страны очень показательна.
Книги истории «О» – «Оправдание», «Орфография», «Остромов» – были классическими русскими «толстыми» романами (а в обойму русского и классического ныне входят и модернизм, и постмодерн. На самом деле критерий здесь не формальный, а содержательный – наличие идей, характеров, сплав политики, мистики и эротики). Однако в текстах последних двух лет – «Икс» и «Сигналы» – автор демонстративно и подчас навязчиво уходит от русской романной матрицы.
Методом сухого отжима, так сказать. Или отжима досуха.
Быков сознательно прячется под личину англоязычного романиста, ищет речи точной и нагой (опять Маяковский, вообще масса у них, сегодняшних, пересечений), пытаясь создать текст самого товарного объема, лаконичный, а главное – свободный.
В качестве фабульного старта и материала для осмысления сегодняшний Быков выбирает не цепочку исторических фактов (с обязательным набором ингредиентов «спецслужбы – колдуны – художники»), но, так сказать, «случаи». Не столько в хармсовском, сколько фольклорном смысле – эдакие народные бродячие истории, байки с моторчиком. И в этом плане, уходя от одной национальной традиции, попадает в другую – была в популярном у подростков 70-х журнале «Техника – молодежи» актуальнейшая рубрика «Антология таинственных случаев». Бермудский треугольник, снежный человек, сигналы с тау Кита, космогония племени догонов.
«Икс» посвящался проблематике авторства «Тихого Дона», «Сигналы» – пропавшему самолету, как и было сказано. В рассуждении русской национальной мифологии – ряд единый.
Собственно, и англоязычный стилевой ориентир, и байка, в мифы себя продвигающая, равно как интернациональный жанр роуд-муви, позволяют совершенно свободно обходиться с материалом. Тут не столько означенная инвентаризация, сколько импровизация по текущим вопросам, Быкова интересующим.
Деятельность Евгения Ройзмана, чуть закамуфлированного под Евгения Ратманова – идеолога и практика нового крепостничества. Апофеоз сырьевой экономики в виде воскрешения ариев и мамонтов – для нужд туристического бизнеса. Очередная пародийная педагогическая поэма (традиционно не доверяющий педагогам-новаторам Быков в соответствующих эпизодах лютует явно меньше, чем умеет). Наивно-уродливое современное сектантство – последователи некоей Перепетуи. Перепетуя-мобиле: «Эти бодрые ребята, как сорняки, первыми бросались на пустоши, но такой пустошью была сейчас более или менее вся территория, в особенности те места, где прежде гнездились НИИ».
Дмитрий Львович, преподавательским говорком, как на лекции, постулирует де-факто свершившийся распад страны, отпадение бескрайних и вечных пространств от временщицы Москвы: «Все давно жили так, в сочетании звероватой изобретательности и цветущей дикости… – просто непривычна еще была эта картина полного зажима в центре и абсолютной, ничем не ограниченной свободы на прочей, отпущенной в никуда территории».
Конечно, йети, как же без него в антологии таинственных случаев. И главное – люди, уходящие в подпочвенно-подболотные слои, и слои эти, как-то невзначай новые биомассы производящие, – все как-то уравнялось, срослось, сдвинулось – плинтусом и ватерлинией.
Написано лихо, с традиционными быковскими умениями делать брендовые вещи из языкового сора – пресловутые сигналы – не только лейтмотив, поддерживающий сюжетное напряжение, но и сочные словесные конструкции, микс из камланий, центурий Нострадамуса и топонимики пейзажного дурного сна…
Можно пульнуть почти из Гоголя: «Иной человек шел в комнату, попал в другую, за триста километров, а почему туда попал – сказать не может, пришла внезапная блажь; двадцать лет спустя вернулся на родное пепелище – семья давно уехала, соседи позабыли, – и с ужасом узнал, что никто его не искал: дело возбуждается по факту трупа, а факта трупа нет, еще не умер или не нашли; пропавшего без вести взрослого мужика не станут искать никакие добровольцы, это девочку малолетнюю ищут с собаками по всему району, подвергают самосуду отчима, который нехорошо на нее поглядывал и наверняка растлил где-то в лесополосе, и находят несчастную через двадцать лет почтенной матерью семейства, почему-то в удивительном поселке с названием Примыкание, Саратовской области; что заставило ее туда примкнуть, или туда все примыкают, кого вдруг закружило по России?»
А можно – из Сорокина: история девушки Даши Антиповой, которая, подобно всем жителям «опустевших и заброшенных деревень, думала не одной только головой, а всем телом», очень напоминает новеллу из «Теллурии» про девочку Варьку, которой «купил папаня на базаре умницу».
Романы, впрочем, писались одновременно, поэтому сходство не намеренное, а знаковое.
Надо сказать, быковская «страшная история» (кстати, еще один жанровый ориентир – из пионерлагерного детства), на мой взгляд, куда убедительней сорокинской антиутопии с «новым средневековьем». Сорокин – в известной традиции – пугает, а нам не страшно, Дмитрий же Львович эсхатологические предчувствия приручил и одомашнил. Белый Зверь превратился у него в старую домашнюю болонку неопределенно-грязной масти: колтуны, стершиеся резцы, угасающее тявканье.
Тем не менее. Каково ему – жить-то с такой животиной рядом?
«Теллурия»: роман как гаджет. О книге Владимира Сорокина
А с чего взяла почтеннейшая публика, будто новый роман знаменитого писателя нашего времени Владимира Сорокина – антиутопия?
По-моему, «Теллурия» (М.: АСТ, 2013) – самая настоящая утопия. Тот образ будущего, в котором не то чтобы хотелось вдруг оказаться, но за которым наблюдать комфортно и симпатично. Как на мультимедийной презентации бизнес-проекта, который все равно реализован не будет. Никто не профинансирует: слишком уж красиво и складно, жди подвоха и кидалова.
Чего стоит карликовое и великолепное государство СССР («Сталинская Советская Социалистическая Республика») где-то в Зауралье и описанное куда более смачно, чем титульное наркоэльдорадо – Теллурия (экс-Горный Алтай): «Сразу после распада постсоветской России и возникновения на ее пространствах полутора десятков новых стран трое московских олигархов-сталинистов выкупили кусок пустующей земли в сто двадцать шесть квадратных километров у Барабина и Уральской Демократической Республики. На этот остров сталинской мечты хлынули состоятельные поклонники усатого вождя. Бедным же сталинистам путь был закрыт. Довольно быстро новое государство провозгласило себя, отгородившись от окружающего постимперского мира внушительным забором с электричеством и пулеметными гнездами. Строительство сталинского рая в отдельно взятой стране шло стахановско-голливудскими темпами, и уже через шесть лет страна распахнула свои двери для туристов».
Столица сорокинского СССР – естественно, Сталинград; государственная религия – сталинизм, съезды единомышленников проходят под лозунгом «Сталинисты всего мира, соединяйтесь!», разрешены дома терпимости и теллуровые трипы. Словом, что-то вроде красного Гоа: «…никакого промышленного производства. (…) СССР производит только сталинские атрибуты, книги и фильмы. У нас чрезвычайно чистый воздух».
Собственно, изрядное количество глав романа имеют стилевым ориентиром туристический справочник – даже самые жутковатые «воспоминания о будущем» подвергнуты неизбежному для данного жанра глянцеванию. Но больше всего, так сказать, утопизма, в истории объективно трагической, которая явно предощущается в настоящем – речь о территориальном распаде России.
И не только распаде, но потере единого языкового и мировоззренческого пространства.
Владимир Георгиевич, даром что авторский взгляд претендует на центробежность, а сам роман заявлен как движущаяся панорама полумира, все время возвращается к этой теме. Не без болезненного удовольствия, как будто трогает подсыхающую рану. И пиарит успешного хирурга.
Так целых три главы – в пространстве романа уникальный по акцентированию случай – от лица разных персонажей повествуют о затерянном в тайге мемориале трем разрушителям Империи – Ленину, Горбачеву и Путину. Экспозиция дана с некоторым пиететом перед сатириком Михаилом Задорновым, с его концепцией национальной истории через волосяной покров вождей.
«…Три Великих Лысых, три великих рыцаря, сокрушившие страну-дракона. (…) Для сокрушения чудовища Господь послал трех рыцарей, отмеченных плешью. И они, каждый в свое время, совершили подвиги. Бородатый сокрушил первую голову дракона, очкастый – вторую, а тот, с маленьким подбородком, отрубил третью. Бородатому, говорит, это удалось за счет храбрости, очкастому – за счет слабости, а третьему – благодаря хитрости. И этого последнего из трех лысых бабуля, судя по всему, любила больше всего. Она бормотала что-то нежное такое, гладила его, много конфет ему на плечи положила. И все качала головой: как тяжело было этому третьему, последнему, тяжелее всех. Ибо, говорит, он делал дело свое тайно, мудро, жертвуя своей честью, репутацией, вызывая огонь на себя. Говорит, сколько же ты стерпел оскорблений, ненависти глупой народной, гнева тупого, злословия! И гладит его, и целует, и обнимает, называя журавликом, а сама – в слезы».
Ох, больше не буду. Но есть у текстов Сорокина это закабаляющее свойство: начинаешь цитировать – и трудно остановиться. Надо сказать, что и футурология Владимира Георгиевича похожего разряда. Дальний прогноз кажется сказочкой – местами страшноватой, местами похабной, и эдаким – не столько в противоположный конец, сколько в затхлый тупик – ответвлением советской фантастики про светлое коммунистическое будущее. А вот ближние угадайки – та же самая злополучная роль Путина в истории России – выглядят подтвердившимся диагнозом. Как будто мы не только здесь и сейчас, но, благодаря Сорокину, еще где-то, выше и дальше.
А с детским чтением «Теллурию» роднит не только фантастико-просветительский размах, но и такая занятная графическая деталь, как поименование глав-новелл римскими цифрами. Как у Майн Рида или старика Хоттабыча.
Жалко только, что карту сорокинской вселенной – политическую, полноцвет, на форзаце, а лучше б вкладкой – зажали издатели.
Впрочем, классик решал задачу не социальную (утопия) и не аналитическую (фунция Путина). Им двигала, на мой взгляд, амбиция скорее спортивная. Если полагать, в античных традициях, литературу – олимпийским видом. Попасть, например, в книгу писательских рекордов с самым густонаселенным персонажами романом (не вышло; далеко не только до «Тихого Дона», но и до «Бравого солдата Швейка»). При полном отсутствии фабулы и сквозных персонажей. Или чисто плотницкий кураж (плотник, умеющий забивать теллуровые гвозди в головы, – центральный герой и, похоже, альтер эго романа) – построить избу одним пером-топором, на одном теллуровом, разумеется, гвозде. Не случайно таков сюжет финальной новеллы, но не сказать, чтобы на этом арсенал приемов, навыков и фокусов исчерпывался.
Если читатель и подзабыл, за ненадобностью, о красотах отечественного постмодерна, то Сорокин всегда найдет время напомнить. Дескать, именно он тут гуру.
Странно в сорокинском случае говорить о влияниях. Однако в рассуждении зависимости от Набокова, начавшейся около «Голубого сала», «влияние» – еще слабо сказано. Скорее какое-то подростковое ученичество, тем паче что эксплуатируются в последних вещах Владимира Георгиевича мотивы и придумки – довольно лобовые и тяжеловесные, – именно позднего Набокова, его перезрелых американо-профессорских романов.
Где Набоков, там, натурально, и Борхес: иногда кажется, что вся сорокинская концепция неосредневековья, так восхитившая первых критиков «Теллурии», вышла из борхесовской библиотеки. Новый Грааль (Теллур, Tellurium, – химический элемент 16-й группы 5-го периода в периодической системе под номером 52, семейство металлоидов и т. д.) – вполне закономерный итог и убедительная метафора борхесовской медиевистики.
Не забыты и товарищи по цеху. От эстрадника Поэта Поэтовича Гражданинова до некоего Виктора Олеговича – героя отдельной новеллы. Новелла эта является прямой аллюзией на известный роман «Бэтман Аполло» (в приложении к которому имеется, в свою очередь, главка СРКН, а в ней – судьба художника в современном мире и всяческие непристойности). Сам же Виктор Олегович, похоже, вампир, поскольку пьет красную жидкость, умеет летать и жует собственный хвост. Но не так, как у Пелевина, где вампиры – сверхчеловеки, а в более привычном средневековом виде летучего мыша.
Впрочем, Сорокин к своему «тягостному спутнику» куда добрее – это видно и без «узких солнцезащитных очков» Виктора Олеговича.
Тем не менее противники обменялись уже не помню какими по счету плевками у барьера, а нас опять против воли оставили в секундантах.
А ведь «Бэтман Аполло» и «Теллурия» похожи, как никакие другие прежние вещи СВГ и ПВО. Какая-то общая алхимия не текстов, но контекста. Чистый писательский сопромат, необходимость вертеть жернова поэм, когда отшумела не только каторга чувств, но и окружающая реальность не желает быть победительно освоенной.
Впрочем, Сорокин, вначале явно скучавший, хоть и сильных сцен нам в финале не оставил, темп романа, однако, выдержал.
…Да, еще процитирован мертвый Пригов: «Дай, Джим, на счастье плаху мне».
Андрогинный Блок на степной кобылице, придворный Пастернак с узелком белья…
Ну, и сам себя не процитируешь… Тут по всему диапазону – от гумбертианского письма любовнику в одной из начальных глав («Голубое сало») до машины по превращению слов в гастрономические блюда («Пир») ближе к финалу.
Скучный ряд можно проложить, но хвалят «Теллурию» не за постмодерн, а, напоминаю, за образ будущего. Где разнообразие идеологий и государственных форматов дополняется избыточностью фауны. Сорокин вообще любит всякое зверье: и лошадей, и женщин-ослиц, и просто псов, и человекопсов – жертв антропотехники и поклонников св. Христофора, и людей – больших (четырехметровых великанов), обыкновенных и маленьких (властолюбивые карлики). В его мире даже фаллосы-вибраторы существуют и мыслят. Правда, последние, с их приключениями и прокламируемой витальностью, живо переносят весь этот остров доктора Моро и миры бр. Гримм в русский антураж срамных поэм Ивана Семеныча Баркова.
Европа нового средневековья как-то быстро и лихо (Сорокин умеет) становится Россией – скорее вечно прошлой, нежели гипотетически будущей.
Век XVII (с опричным довеском из эпохи Грозного) чрезвычайно Владимира Георгиевича завораживает, и он тут вовсе не одинок. Может, именно там была заложена матрица русской истории? Бунташный век, начатый Смутой и купированный Хованщиной? Или так велико обаяние романов «про Петра» от Дмитрия С. Мережковского и Алексея Н. Толстого? Либо допетровская Русь – это вообще такое сосредоточие всего национального?
Ведь как живописно и узнаваемо: купцы, стрельцы (у Сорокина – опричники), «слобода да посад» (Всеволод Емелин), раскольники и ересиархи, кабаки и ярмарки, кафтаны и ферязи, дьяки с подьячими (дьяки, кстати, Сорокину так нравятся, что он путает их с дьяконами)… Но проблема не в этом: Владимир Георгиевич прежде всего советский человек, во всяком случае, сделавший имя на деконструкции советского мира, и вот такая Россия удается ему все хуже. Она пропущена у него не через эмоцию, а заменяющий ее гаджет. Как будто на экране смартфона движется лубочная картинка под музыку Бориса Мокроусова, какую-нибудь «Сормовскую лирическую». «Под городом Горьким, где ясные зорьки…»
Спасибо за ностальгический мотив, конечно, но футурология должна если не убеждать, то предупреждать, если не пугать, то развлекать.
А тут как в «Теллурии» сказано: он пугает, а нам не страшно. То есть нет, там говорят: бабушка Агафья надвое сказала… И рекорда не получилось, и насчет фуршета после мультимедийной презентации – не обещано.
Мурзики революции. О романе Сергея Шаргунова «1993»
А ведь до Шаргунова настоящего бунта в нашей литературе не было.
Я имею в виду не всякий бессмысленный и беспощадный, но октябрь 1993-го.
В давней публикации (Код обмана // Сноб. 2011. № 4) Александр Гаррос, прозаик и журналист, отмечал: в отличие от октября 93-го, август 91-го практически никак не осмыслен и даже должным образом не отражен в отечественной литературе.
Тут вроде бы напрашивается историческая аналогия: сравните литературные результаты Февральской революции и Октябрьского переворота. Даром что успешность социальных катаклизмов в 90-х, относительно 10-х, получилась зеркальной.
Однако на самом деле и по гамбургскому, меряться 91-му с 93-м было особо и нечем.
Ибо попытка обнаружить книжную полку, туго набитую сочинениями, посвященными событиям того октября, также выглядит весьма проблематичной.
Хватит пальцев одной руки. Замечательный роман Леонида Юзефовича «Журавли и карлики», однако там баррикадные хроники – не движущийся фон, а статичный задник. Между тем историософские претензии Юзефовича во многом предвосхитили «Красный свет» Максима Кантора, одна из линий которого, фельетонная, посвящена другому русскому бунту – болотным хроникам 2011/12.
Сильный очерк Эдуарда Лимонова «Пчелы, орлы и восстание» из «Анатомии героя» (Лимонов хотел писать о Белом доме книгу, но так и не собрался). Лыком в строку – композиция Наталии Медведевой «Москва-993» из альбома Russian Trip («Трибунал Наталии Медведевой»).
Множество стихов (выделю, любя и почитая Владимира Бушина, его «Я убит в Белом доме»), сопоставимых в объемах, а главное – в слезоточивом угаре – с публицистикой, долгие годы заполнявшей «патриотические» издания по всему спектру.
Для либералов Октябрь-93 считался многие годы темой негласно табуированной; за весь их разношерстый лагерь отстрелялись мемуарными очерками фигуры довольно маргинальные: Альфред Кох и Валерия Новодворская.
Главный автор темы – разумеется, Александр Проханов. Начиная с «Красно-коричневого», практически в каждом его новом романе (вот тут – действительно, если не книжная полка, то многотомник) назойливыми камбэками повторяются сцены белодомовской обороны. Автоплагиат, возведенный в прием, имеет полное право называться лейтмотивом. Тем паче что в босхианских романах условно «кремлевского» цикла («Господин Гексоген», «Политолог», «Теплоход «Иосиф Бродский»), мемуары – дальше и больше – приобретает черты не то наркотического трипа, не то постмодернистской былины.
Так – пальцы одной руки и сильнейшая идеологическая детерминированность – было до появления романа Сергея Шаргунова «1993. Семейный портрет на фоне горящего дома» (М.: АСТ-Астрель, 2013; мне довелось прочитать его в рукописи).
Сергей, конечно, не закрыл темы, но отстрелялся этим романом за несколько литературных поколений. («Осенью 93-го, хотя было уже поздно, подростком я возвращал долг Советскому Союзу. Убежал из дома, бросился на площадь. (…) Я стою на площади у большого белого здания, словно бы слепленного из пара и дыма, и вокруг – в мороси и дыму – переминается Русь Уходящая», – рассказывал Шаргунов в «Книге без фотографий», вписывая собственный опыт в большую историю и сшивая в мальчишеском сознании две покончившие с собой империи).
Роман этот – новый, закономерный и важный этап в писательской биографии Шаргунова.
Подлинная и какая-то праздничная талантливость молодого писателя сразу не вызывала сомнений, однако лично меня долго смущала интонация – казавшаяся инфантильной и заемной. Как будто юный атлет позирует в качалке на фоне плакатов с экс-мистерами Вселенной.
В «Птичьем гриппе» и «Ура» угадывался Аркадий Гайдар, пропущенный через какой-то звуковой прибамбас, казалось, будто сквозь толщу времени говорит не автор «Судьбы барабанщика» и «Тимура», а кто-то из его персонажей – скажем, Коля Колокольчиков. Желающий быть похожим, в свою очередь, на Гейку – сына и брата моряков.
В отличной, рельефной и пластичной «Книге без фотографий» скептика вроде вашего покорного слуги немного напрягал пласт, так сказать, психоаналитический – вождистские комплексы, которые юный мачо не камуфлировал, а демонстрировал, черпая энергию в рифмах собственных поражений. Аналогично и по-комиссарски – в публицистике, собранной «Алгоритмом» в книжку «Битва за воздух свободы».
Другое дело, что весь этот довольно взрывной микс создавал интригу – а куда двинется Шаргунов? Оказалось – назад, но этот камбэк стоит всех прежних литературных спринтов. Молодость – недостаток, быстро проходящий, а по тексту романа видно, что Сергей, не полагаясь на общее течение жизни, ускорил процесс, вступив в свой «самосуд неожиданной зрелости» (Сергей Гандлевский).
В «Девяносто третьем» изредка попадаются стилистические ляпы, эдакие лобовые мовизмы (не хочу цитировать), продиктованные все тем же соблазном живописности, но в целом для подобного объема роман поразительно гармоничен и сбалансирован: композиционно (события 93-го закольцованы 6 мая 2012-го и узником Болотной), интонационно, но главное – застенчивая поступь автора за сценой, который не навязывает себя ни героям, ни читателю. Не таскает персонажей, как ватных кукол, по историческим заварушкам (чем грешили и Пастернак в «Докторе Живаго» и Алексей Н. Толстой в «Хождении по мукам»). С мотивациями все ОК, в развороченной противостоянием Москве герои естественно оказываются там, где нужнее: на площади Революции и Смоленской, конечно, у Белого дома и при штурме мэрии, разумеется, на Тверской и у Останкина.
Оно понятно, и высокая традиция, заявленная на уровне названия, не позволяет скатиться в авторский произвол. Виктор Гюго в своем последнем романе прописал матрицу национальных противостояний, а новейшая русская история актуализовала французского романтического мэтра. Впрочем, подзаголовок оттеняет романтический пафос сразу несколькими фольклорными клише – о горящем доме во время наводнения и пр.
Здесь самое время от филологии перейти к историософии.
Действительно, ключевое достоинство романа выходит за рамки чистой литературы. И заключается в том, что «1993» написал не Проханов. (Хотя Сергей испытал сильное влияние Александра Андреевича, что естественно.)
Проханов тут – псевдоним любого партийного автора.
Литература победила идеологию – ключевой сюжет недавней истории покинул наконец, посредством Шаргунова-сталкера, походные лагеря патриотов и либералов и переместился «на тот большак, на перекресток».
Шаргунов – писатель, разумеется, не общепримиряющий, а просто молодой и знаменитый.
И что бы он ни говорил о побеге из дома родительского к Белому дому, Сергея все равно будут воспринимать вне тогдашней Хованщины. Он – не у Останкина, как патриоты, и не на Тверской, как демократы-ельцинисты. А над схваткой и Москвой (в ранних вариантах роман назывался «Война в Москве»).
Надо сказать: и до Шаргунова, в нулевые, былые барьеры ветшали и разрушались. Почти всеобщее согласие по фигуре Солженицына. Попытка организовать аналогичный кворум относительно Иосифа Бродского. Аккуратное единение – со взглядами в разные стороны – вокруг власти в первые путинские годы. Даже пресловутый Белый дом по умолчанию решили считать общенациональной трагедий.
Но наступил декабрь 2011-го (русские общественные движения хоть и стихия, а строго выстраиваются в хронологическом нарративе – август, октябрь, декабрь – в рамках одного исторического цикла). Когда выяснилось, что все фронты сохранились, а походные лагеря – на прежнем месте. Речь даже не о противостоянии Болотной и Поклонной – превращенном в эрегированный символ чистой политтехнологии. В протестных колоннах, как у киплинговского водопоя, мирно соседствовали, а подчас и братались, либерал с националистом, анархист с имперцем… Но, согласно упомянутой матрице, гуманитарная публика вновь раскололась на «либералов» и «государственников» – обе стороны понимали условность и обветшание терминов, но новых идентификаций не приходило.
А вот у Шаргунова узник 6 мая Петя Брянцев продолжает, как умеет, протестное дело деда – Виктора Брянцева, – сбежавшего из дома защищать Белый дом в октябре 93-го… И юноша Петр настаивает не на идейной, а семейной причине собственной уличной активности. Кровь как дней связующая нить…
Сергей писал политический роман как семейную хронику. Рискованное смешение жанров имеет, конечно, в русской словесности свою традицию – и ближайшим предшественником Шаргунова тут получается Максим Горький и его роман «Мать» (шаргуновская хроника могла бы называться «Дед»).
Горьковская «очень нужная и своевременная книга» имела лобовые евангельские коннотации; Сергей Шаргунов бэкграундом использует евангелия окарикатуренные – пухлых соцреалистических форсайтов. Эпопеи, возникшие как эпигонские по отношению к «Тихому Дону» (мотивы шолоховского природного физиологизма в эротических и пейзажных сценах, переходящих друг в друга, заметны в «1993»), продолжившиеся семьями Журбиных-Звонаревых… С сериальным мылом а-ля «Вечный зов» и Евгений Матвеев в финале.
Смерть Виктора Брянцева в романе – это еще и распад влиятельной, производственно-семейной, линии советской литературы, и провожает его и ее Шаргунов с горечью и болью, как близких родственников.
Да и вообще, роман «1993» – во многих отношениях постмодернистский, интертекстуальный, лишенный при этом разрушительной сорокинской иронии и пелевинского радиоактивного стеба. Да вот, собственно, близкий пример: Виктор Брянцев у Шаргунова – это же знакомый нам лирический герой Всеволода Емелина – для которого собственный заурядный быт и семейные проблемы – во многом источник протестной энергии. Пролетарская метафизика (мечты о всеобщем бессмертии, родом из Андрея Платонова и Николая Федорова), естественно вырастающая в его сознании из телевизионных новостей (чуть ли не единственный, кстати, однозначно отрицательный персонаж романа – телевизор), кроссвордов и революционных песен, сообщает короткой жизни историческое и национальное измерение…
Надо сказать, что для литературы общественного напряга и надрыва очень характерно стирание границ между реальностью и ее художественным отображением, кровосмесительная связь прототипов с протагонистами. Чистым документализмом, репортажностью тут не отговориться – они, безусловно, используются, но в качестве вполне литературного инструмента.
Соблазнительно объяснить сей феномен в терминах вульгарного социологизма, смешав их с постмодернистской смертью автора и худлита вообще, но, видимо, объяснение это придется разбавить мыслью о тусовочном характере последних русских протестных движений. Впрочем, почему «последних»? Все уже было у видного теоретика партийных организаций и партийных литератур Владимира Ленина: «Узок круг, страшно далеки»…
У Шаргунова в «1993» есть такой литературный анекдот на фоне штурма московской мэрии:
«– Помповое, – задыхаясь, процедил парень, – это ж помповым бьют…
Вокруг топотали еще множество ног.
– Как будто шампанское открывают, – засмеялся нервным голосом мужчина в косухе и в камуфляжной кепке, поправляя громоздкие очки.
– Тебе лишь бы шампанское хлебать… – сердито ответил кряжистый седобородый человек.
– А, деревенщик… – кисло засмеялся тот, что в косухе. – Чего в деревне не сидится?
– Писатели, не ругайтесь! Вместе ж на тот свет! – бросил парень, хватая себя за начес.
– Писатели? – спросил Виктор.
– Это ж Белов Василий. – Парень взмахнул указующей рукой. – А вон это – Лимонов».
А вот любопытная деталь и еще одна ассонансная рифма 93-го и 2012-го: волнения сопровождает барышня с бюстом, эдакая свобода на баррикадах. Вернее, по разные их стороны.
6 мая: «Внезапно появились крупные парни в одинаковых белых майках, впереди, тоже в белом, решительно шла сисястая девушка с айпадом в вытянутой руке.
– Сколько тебе заплатили? – заверещала девушка, приближаясь к Алексею и наводя на него айпад. – Сколько долларов?»
1993: «Грудастая юная девица в зеленой футболке с красной звездой, очевидно их опора, покачивала двумя темными косицами и излагала звонко:
– А третьего выйдем всем миром! «Трудовая Россия» зовет на народное вече! Заранее решили, за четыре месяца, чтобы каждый мог добраться. Захотим – миллион соберем».
Типажи, известные персонажи и сами авторы мигрируют из текста в текст, где-то укрупненные посредством художественности, где-то сатирически сниженные, но неизменно узнаваемые. У Шаргунова – богатое разнообразие подходов: лидеры волнений 6 мая 2012 года поданы в плакатной манере (плакат, впрочем, фейсбучный – уже не агитпроп, еще не фотожаба). Тем не менее перо прозаика осторожничает – не столько «для чистоты отношений», сколько в рассуждении «большое видится на расстоянии»: «Сергей, похожий на железного дровосека, что-то глухим голосом вещал, жилистый, с обритой головой, в черной ветровке и черных очках. Тут был статный матово-бледный красавец блондин Алексей в голубой рубашке, с неподвижной, как бы приклеенной улыбкой. Над ними, сдобная рука в бок, в безразмерной сырой футболке с полустертым Че Геварой, высился большой писатель Дмитрий, щурился покрасневшим глазами, довольно утирал усы и кудри, точно бы только из бани».
Плакатность, однако, еще и способ не только смотреть, но и оставаться как бы извне, а не внутри ситуации.
А вот для вождей белодомовской обороны Сергей использует палитру куда богаче: генерал Альберт Макашов – чистая функция, которую не оттеняет хрестоматийная уже беретка и несбывшееся пророчество про «мэров» с «херами». Другой генерал, Руцкой, сделан словно из армейских анекдотов, вперемешку с гуталином. Эдакий сапог, на который наклеены красные глаза и пышные усы. Сапог умеет говорить, но плохо. Интересней зарисован Анпилов – у костра, в окружении приверженцев; сумерки, гитара, «баррикада – дело святое». Не то дедушко Ленин, не то расколоучитель в керженецких лесах, в сочетании со всем известной физиономией Виктора Ивановича полифония получается занятной.
…И еще одна линия, которую бы хотелось выделить особо, когда социальные катаклизмы программируют национальную драму, похмелье – не последствие тревожного праздника, а наступает в унисон с ним. Речь о деградации, унижении и самоуничтожении племени русских мужчин – беда, которую пока в состоянии диагностировать литература в печальном одиночестве. (Можно назвать «Черную обезьяну» Захара Прилепина, «Информацию» Романа Сенчина, и – особенно – по причине того, что сильный роман прошел как-то мимо критики и дискуссий – «Бета-самца» Дениса Гуцко).
Шаргунов дает нам целый ряд сильных образов (из инженеров-электронщиков при Советском Союзе в электрики «аварийки» в 90-х) и судеб – самого Виктора Брянцева – с его биографией, злой любовью-ревностью, шукшинскими чудачествами, гитарой, инстинктом справедливости и ранним инсультом. Молодого и дурного бандита (точнее, быка) Егора Корнева, сгинувшего, как и не было его; казалось, он и появился на этой земле для того, чтобы соблюсти биологический баланс между убийством коммерса-ювелира и пьяным зачатием сына, которого Егору никогда не увидеть… Махнувшие на все промасленными рукавами работяги за стаканами «Рояля»; вожди, похожие на анимационных героев, даже вместе они, соскребя по сусекам все свои достоинства, оказываются лишены всякой сексуальности, ностальгирующий в постели нефтяник, юный блаженный со станции 43-й километр, а в рифму ему – злой юродивый-лесник, зарезавший козу Асю…
Такая вот галерея пропадающих мужчин огромной и мощной еще страны. Женщины на этом фоне выглядят куда ярче и жизнеспособнее, но это мало утешает.
Рецензия непозволительно затягивается: но и сам роман Сергея Шаргунова «1993. Семейный портрет на фоне горящего дома» представляется не просто литературным событием, а целой книжной полкой, посвященной тем событиям и людям. Которая, как мы уже убедились, давно существовала в нашем воображении, а теперь пришел мастер и закрепил на видном месте.
Монологи старого пролетария. «Апология чукчей» и «Титаны» Эдуарда Лимонова
Француз Эманнуэль Каррер, биограф Эдуарда Лимонова, завершая свой роман, ставший международным бестселлером, все размышлял о дальнейших путях героя.
Подталкивал, аккурат перед 70-летним юбилеем, не просто к подведению жизненных итогов, а к новому повороту судьбы.
Сам Эдуард Вениаминович, в книге «Апология чукчей» (эссе «Реставрация будущего») смоделировал, для удовлетворения карреровского любопытства, целых три варианта (точнее, два, ибо третий безальтернативен – «одно из московских кладбищ», «бронзовый памятник», нескончаем людской поток, «власти долго боролись с поклонниками и сторонниками»).
Условие реализации двух других личных утопий – время: «дожить до возраста Черчилля, то есть за девяносто». А вот картинка и аромат мечты скорее пространственные – в азиатско-тихоокеанских координатах.
Первый – тропический остров в Океании, старик Лимонов в безукоризненном белом костюме с утренним скотчем в руке – хозяин «очень дорогого» публичного дома. Кресло-качалка, маленькая китаянка, «обаятельная, как цветок лотоса». Старость безбедная и греховная.
Альтернатива – аскеза, в другой части азиатского света. Именно таким вариантом Лимонов и поделился с Каррером – мечеть в Бухаре, нищий старик в черном халате, алый кушак, зеленый тюрбан, пересчитывает истертые до прозрачности деньги-сомы и гоняет праздных туристов-англичан. Ореховым посохом.
Впрочем, все это вопрос будущего, пусть уже недалекого. А между тем Эдуард Вениаминович в двух почти одновременно вышедших книгах своего юбилейного года «Апология чукчей» (М.: АСТ, 2013) и «Титаны» (М.: Ад Маргинем пресс, 2014), объяснил не только французскому биографу, но и широкому русскому читателю – куда он на самом деле повернул. Продемонстрировал суть и природу очередной метаморфозы.
Она пока чисто литературная. Не онтологическая и даже не житейская. Хотя на самом деле – как посмотреть…
Но сначала – несколько слов о самих книгах. «Апология чукчей» (кричащая обложка; портрет автора в кислотных цветах) продолжает линию очень стильной и яркой лимоновской книжки «Дети гламурного рая», то есть сборника колонок, написанных за несколько лет, с более или менее адресным распределением по разделам. В АЧ разделы тоже наличествуют уже в подзаголовке; набор предсказуемый: «Мои книги, мои войны, мои женщины», в оглавлении их еще больше, а отличие чукчей от гламурных детей в большем объеме и меньшей, что ли, гламурности – хотя набор глянцевых носителей примерно идентичен. Похоже, буржуазная пресса становится в последнее время ближе к народу, возможно, и не без влияния популярного колумниста Лимонова.
Замечательна полифония «Апологии чукчей», где каждый может отыскать собственное и родное. Василий Авченко из Владивостока, писатель и патриот своей имперской окраины, назвал АЧ самой дальневосточной книгой Лимонова – тут и давшее ей название лихое и штрихпунктирное описание русско-чукотских войн, и «приморские партизаны» в бункере НБП, и «Мумий тролль», на который подсадила Эдуарда одна из подружек.
Содержательно, конечно, нового мало, но не за эксклюзив сегодняшнего Деда любят – читатель лимоновских нон-фикшн ловит кайф от его манеры вспоминать, мгновенно портретировать, вести эти повествовательные петли, которые уже не прием, а сама сматывающаяся в клубок жизнь…
«Титаны» – попытка возрождения (в своеобразной лимоновской манере) полузабытого нашей словесностью жанра литературного портрета.
Знаков сам набор персонажей: Платон и Сократ, Фридрих Ницше (Лимонов называет его вычурно – Ниетже, но время от времени сбивается на привычное русскому уху Ницше), Чарлз Дарвин, Карл Маркс, Михаил Бакунин, Владимир Ленин, Махатма Ганди, Пол Пот, Усама бен Ладен.
Волга по-прежнему впадает в Каспийское море, а лошади едят овес. Сиреной титанов Лимонов становиться не желает. Можно, конечно, сказать о том, что всех героев «Титанов» объединяет: они радикально развернули этот мир, одни построили идеологии, на фундаменте которых другие выстроили государства… Но на самом деле соединил этих знаменитых и беспокойных ребят в одну книжку пытливый лимоновский интерес. Этот мастер подходит к предшественникам с рулеткой особой конструкции – она призвана замерять, насколько адекватно вписывается Эдуард Вениаминович в этот ряд и на какое место имеет ревнивое право претендовать.
Оригинальные концепции, ревизионистский разбор – штука, на мой взгляд, тут уже вторичная. Все, как у классического ересиарха Лимонова, автора «Священных монстров», «Другой России» и «Иллюминаций». Много точных и ярких формулировок и афоризмов, удивительный пластический дар, позволяющий при постулируемой скупости языка проникать до печенок в любой предмет и образ, особый юмор – не висельный, но тюремно-лагерный…
Наивный пафос первооткрывателя, позволяющий на голубом глазу выдавать общеизвестные вещи за свежайшие собственные прозрения.
Самая интересная версия – о Ленине (впрочем, она заявлена еще в книжке «По тюрьмам»; тут любопытен не столько Ильич, сколько Вениаминыч, штудирующий на своей верхней шконке тома густо-синего последнего ленинского ПСС из библиотеки саратовского СИЗО-1). Наиболее подробное эссе – о вторичности и ошибочности построений Дарвина, Карл Маркс – объект едкой иронии, причем, становясь неожиданно сатириком, Лимонов автоматом становится и моралистом. А эталонная, по набору чисто литературных достоинств, глава – о Махатме Ганди.
Но пора уже, собственно, сказать, о лимоновском «левом повороте».
В литературе. Потому что в политике куда еще быть левее актуализатору лозунга «отнять все и поделить». Интересно, однако, как совпали по времени радикальнейшие идеи с новой интонацией в прозе.
Эта интонация, новый, отнюдь не сладостный стиль, совершенно особая мелодия стали проявляться у Лимонова в послетюремный период, тут примечательна «Книга мертвых – 2. Некрологи» в качестве стартапа. Я тогда нашел аналог в речи старых пролетариев.
Такой, сквозь никотиновый кашель и естественные матерные длинноты, с легким, без рефлексий, отношением к жизни и смерти, стране и товарищам; где-нибудь в гаражах, под водку, булку и соленья.
От человека – мастера золотые и заскорузлые татуированные руки, – у которого и биографии-то нет, а есть тяжелые, как камни, необработанные куски прошлого, где обязательны армия, но чаще флот, нередко – участие в какой-то из малых войн, в другом сценарии – тюрьма, классически начатая малолеткой… На сегодняшний день – мотоцикл с коляской, мать в деревне, строгая «баба» по торговой части, дети в институтах, война с начальством за «наряды»…
Виртуозно иногда умеют повествовать старые работяги: у них любая история – это не сюжет с моралью в конце, а энциклопедия русской жизни, совершенно себя в подобном качестве не осознающая и от этого – чистый акт творения, создание из «такого сора» целого мира со своими законами, иконами и фауной… Не важно, идет ли рассказ о рыбалке с охотой, об армейской службе, тюремных буднях, терках с начальством или международном положении. Или вовсе о продавщице пивного ларька, всем известной толстой Раисе, построившей на пивной пене целый коттедж и еще по машине – мужику с зятем… Принципиален тут не сюжет, традиционно небогатый, но отступления, фиоритуры, паузы, если история известна и привычна (а это тоже завсегда) – приглашение к джем-сейшену вместо дискуссий и сомнений в правдоподобии…
В подобного рода фольклоре пресловутая Раиса совершенно развнозначна Махатме Ганди или Карлу Марксу, ибо мир пролетарского рассказчика не признает иерархий, история тут линейна, а метафизика прикладная – в мельтешении, вращении объектов вокруг Творца-субъекта.
Лимонов, к слову, любит это определение – «Творец», в отношении людей искусства и себя самого. Творец он при этом сугубо инженерного типа.
Технолог собственной жизни и литературы. Из деталей своей биографии он последовательно конструировал маленького созерцателя Великой Эпохи, бандита в отрочестве, молодого негодяя-поэта, эмигранта-бунтаря, мужа, любовника и укротителя красавиц, солдата-часового разрушающихся империй, самого радикального русского вождя, мудреца в неволе, ересиарха и ревизиониста…
Эммануэль Каррер, задаваясь вопросом – что же дальше? – намекал на финал этой популярной механики: все части конструктора пристроены практически намертво, лишних деталей не осталось…
Лимонов-писатель ушел от конструкций в живую речь, повернул из литературы в фольклор. Мой товарищ, замечательный читатель и поклонник Лимонова, по прочтении последних двух книжек и неизменном восхищении ими, добродушно сетовал: ну, и когда же у него народ-то появится? «Все-таки вождь предполагаемой революции должен чуть больше писать о народе. Лимонов вот в «Титанах» упрекает Ленина за то, что тот был оторванным эмигрантом – но сам Лимонов тоже во многом эмигрант: он, кроме Фифи и нацболов, живых людей толком не видит лет десять».
Но, собственно, новая манера Эдуарда – агрессивно-насмешливый гон старого пролетария, чуть усталый, но по-прежнему полный жизнью и собой, и есть этот уход в народ. Где русский язык и песня остаются родиной, праздником, оружием.
Место Гагарина. О ЖЗЛ первого космонавта от Льва Данилкина
Вполне тривиальная идея о том, что литературный критик Лев Данилкин и Лев Данилкин – биограф как будто не знакомы друг с другом, посетила меня еще при чтении монументального «Человека с яйцом». Герой этой книги – Александр Проханов, который, конечно, ближе к нынешнему герою Данилкина – Юрию Гагарину, чем к объектам данилкинского профессионально-критического интереса – отечественным литераторам.
Наверное, для критика Проханов бы как раз оставался именно что литератором, поотечественней многих. Но для Данилкина – историка и биографа, постфактум оценившего мощь и неповторимость советско-имперского расцвета, энергично признававшегося в любви к одному из самых последовательных его певцов – Владимиру Бушину, Гагарин и Проханов фигуры если не общего ряда, то одного романа идей.
Выражусь точнее – оба Данилкиных, может, и знакомы, но на публике этого стараются не демонстрировать. Видимо, в силу каких-то скрытых оперативно-тактических соображений.
С первым Данилкиным все ясно. Книжный обозреватель популярной «Афиши», полпред отечественной литературы в журнальном глянце, заслуживший сравнение, пусть ироническое, но ведь с Белинским, единственный в своем роде современный критик, в чьей книге «Парфянская стрела» сегодняшняя русская литература стала не столько поводом, сколько самостоятельным сюжетом.
Подробней нам предстоит разобраться со вторым Данилкиным.
1
В книге о Гагарине. Серия ЖЗЛ («Похоже, тут есть о чем поговорить; и да, 50 лет со дня полета – хороший повод взяться за биографию Гагарина: пора не только очистить памятник, но и показать, что у истукана был оригинал – который, как мы увидим, весьма существенно отличался от монументального образа», – просто и прямо объясняет свою концепцию автор). Я только в эпилоге на ткнулся на эпизодически-личное в связке «субъект-объект». В скобках, призванных подчеркнуть несерьезность опыта, – подчеркивания непосредственно в тексте скромному биографу показалось мало.
(«Даже автор этой книги начал свои окологагаринские исследования с того, что зачем-то поехал на Киржачский аэродром и прыгнул с парашютом. Та же мотивация (ранее Данилкин говорит о «курьезных попытках имитации». – А. К.) – и тоже, надо полагать, «жалкое зрелище».)
Оригинальной фишкой нынешнего, и очень динамичного, периода ЖЗЛ представляется вслух непроговариваемое, но как бы подразумеваемое равенство весовых категорий автора и героя. Не в исторической, разумеется, перспективе, не по гамбургскому, но в определенном, корпоративно-тусовочном изводе.
Дмитрий Быков – «Пастернак», «Окуджава», Захар Прилепин – «Леонид Леонов. Игра его была огромна». В известном смысле в этот ряд встают биографии классиков авторства Алексея Варламова, «Иосиф Бродский» Льва Лосева, жизнеописание Нестора Махно Василия Голованова и даже бестселлер «Ельцин» Бориса Минаева, где биографа предсказуемо и медийно заслонил автор предисловия Владимир Путин… До анекдота и скандала добралась данная тенденция в жалком и неряшливом опыте Валерия Попова «Довлатов».
Многим читателям интересней не то, что на сей раз сказано о герое, но кем сказано и как.
В этом смысле модный Данилкин тренд не нарушает, но разрушает, упрятав себя в самую глубокую гагаринскую тень. Возвращаясь если не к классическим образцам, то к позднесоветским традициям, когда серия курировалась активистами патриотического лагеря.
Вот что пишет Сергей Боровиков в остроумных, интонационно неподражаемых «Рассказах старого книжника», повествуя о литературных нравах 70-х, о «русской партии» и тогдашней жэзээловской практике: «Самыми желанными авторами были писатели и критики патриотического направления. Критикам отдавалось предпочтение, поскольку они умели работать с документами, понимали специфику жанра, тогда как прозаик или поэт более полагались на интуицию, вдохновение и воображение».
Кстати, об источниках. Как и положено добросовестному исследователю, Данилкин, предваряя основные главы, много говорит о свидетельствах и свидетельствующих; методологии работы с документами. А детективную, ошарашивающую всех, кто не в теме, развязку приберегает напоследок: «И вообще, почему те, кому интересен Гагарин, должны узнавать о нем практически исключительно из мемуаров? Ведь странно: на 99 процентов источниковая база гагаринской биографии – мемуары, архивы-то – закрыты. Почему надо быть Ю. Батуриным или А. Леоновым, чтобы получить доступ к ним? Почему мы должны зависеть от персональных версий истории? Почему мы должны ждать, пока о своих встречах с Юрием Гагариным выскажутся Виталий Хрисанфович Тохтамыш, Аарон Израилевич Резников, Августа Костюченко и профессор Биби, – а не просто пойти в архив и узнать о Гагарине то, что хотим?»
Эта эмоциональная сноска в «Эпилоге» – своеобразный аналог кисти мастера, запекаемой в красках под шедевром. Данилкин так выстраивает структуру текста, вырабатывая особую технологию повествования, что даже самый внимательный читатель ощущает «источниковый дефицит» далеко не сразу.
(Надо сказать, что автора рецензии поначалу испугало даже не количество мемуаристов, но авторская их нумерология, в каждой главе – отдельная подборка цитат и цифири, однако в процессе чтения сложность уходит – расфасованная информация приобретает ценность отдельно от носителей, да и последних начинаешь различать.)
2
Однако – к тексту.
Данилкин – первый из гагаринских биографов, кому удалось свести в адекватной пропорции Гагарина – космонавта, Гагарина – человека и Гагарина – бренд. Поместить в один аудиоряд «Поехали!», «Опустела без тебя земля» и «Гагарин, я вас любила, о-о» (обошлось, пожалуй, лишь без Лаэртского, «Шел Гагарин по деревне…»). Соединить надпись «СССР» на шлемофоне с названием ночного клуба «Гагарин». Передать аромат 60-х (не только советских) так, будто он достался ему запаянным в капсулу, а капсула была передана в эстафете.
Советские же 60-е – с их человеческим лицом и ленинскими нормами, щенячьим желанием нравиться взрослым, утопизмом и прожектерством – в книге «Гагарин» не фон, а почва – и в этом смысле Данилкин стилистически и концептуально наследует не только Проханову, но книжке Вайля и Гениса «Шестидесятые. Мир советского человека».
Бывают странные сближенья…
Любопытно, как Данилкин всего этого добивается. Новых источников он почти не раскопал (их и нет, как выяснилось), авторских домыслов не допускает, но выстраивает даже не монтаж, а коллаж цитат, где статусные мемуаристы соседствуют с Пелевиным («Омон Ра»), Николаем Носовым («Незнайка на Луне»), Томом Вулфом, бытописателем американских астронавтов, есть даже Василий Аксенов и Сергей Довлатов. Эффект великолепен.
Данилкин указывает на основоположника метода – Вересаев о Пушкине, но идет гораздо дальше – из свидетелей в соучастники, из реализма в поп-арт.
Монтаж предполагает последовательное разворачивание сюжета, тогда как коллаж – сюжет, собранный воедино, закольцованный, рассчитанный на мгновенный удар по зрению и сознанию, равноправное объединение в одном кадре центральных и маргинальных фигур.
Забавно, что именно в коллаже богатейшее литературное подсознание биографа проявляется ярче всего. Каждая внешне посторонняя цитата – сосуд с двойным дном, а не просто бантик к монументу Гагарина.
Пелевин? Ну, ясно, что «Омон Ра», однако есть еще высказывание Данилкина в одном из интервью: «Я бы с удовольствием взялся за биографическую книгу о Пелевине, там столько материала, мне самому страшно интересно… но он… – однажды совершенно явственно дал понять, что книга о нем – табу, и я слишком уважительно отношусь к этому человеку, чтобы пренебречь его мнением».
Носов, «Незнайка на Луне»; оказывается, интерес аналогичного рода: «Кто меня на самом деле волнует, так это давным-давно умерший Носов, Николай Носов со своей Луной, вот уж кто, без всякой иронии, заслуживает персональной ЖЗЛ, совершенно уникальная фигура».
Сергей Довлатов представлен необязательной цитатой по теме всеобщего воодушевления 12 апреля 61-го. И только, дескать, фарцовщик Белуга демонстрировал угрюмый скепсис… О массовых восторгах, да и о скепсисе (знаменитое стихотворение Наума Коржавина «Мне жаль вас, майор Гагарин») мы бы знали как-нибудь без Сергея Донатовича, но фишка в том, что на самом деле в коллаж просится другое его высказывание: «Антр ну! Между нами! Соберите по тридцать копеек. Я укажу вам истинную могилу Пушкина, которую большевики скрывают от народа!» И т. д., «Заповедник».
Нынешний мемориал, так называемое «Место приземления Гагарина» – на самом деле действительно фальшивка. О причинах и обстоятельствах подлога – ниже.
Представителем «шестидесятнической» квоты выглядит в общем хоре и Василий Аксенов, но вот история взаимоотношений Юрия Гагарина и Евгения Евтушенко, пересказанная Данилкиным, смотрелась бы как родная в последнем романе Василия Павловича «Таинственная страсть».
Фиксируются и совсем причудливые шалости литературной подсознанки:
«И с какой, собственно, стати мы проявляем интерес именно к Гагарину? Ну да, он первым побывал там, где никто не был, и увидел нечто такое, что никто до него не видел, – нечто, предположительно, очень важное. Однако очевидно ведь, что «первый» и «лучший» – совершенно не одно и то же. Владимир Джанибеков, вручную, без подсказок, пристыковавший корабль к мертвой, неуправляемой станции «Салют-7», был безусловно более искусным пилотом, чем Гагарин. Инженер-конструктор Константин Феоктистов был гораздо более компетентен в том, что касается устройства корабля. (…) Валерий Поляков, просидевший в космосе 437 суток безвылазно, был более выносливым, работоспособным и самоотверженным, и вообще такого рода пребывание на орбите в качестве подвига выглядит гораздо более внушительно, чем полуторачасовой пикник. (…) Да чего уж далеко ходить: все гагаринские рекорды были меньше чем через полгода вчистую побиты его собственным дублером Титовым – который летал дольше, дальше, быстрее, опаснее…».
«Реб Арье-Лейб, – сказал я старику, – поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков – разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях» (Исаак Бабель. «Как это делалось в Одессе»).
3
Если бы Лев Данилкин видел свою задачу биографа только в «очистить» и «показать», с помощью мастерского коллажа цитат и тонких авторских ремарок; в портрете хорошего человека на фоне прекрасной эпохи, в медийном оживлении «человекобренда» – получилась бы, наверное, очень хорошая книга, недосягаемый образец для глянца («Караван историй» и пр.).
Но, исполняя задачу, автор выполнял миссию. Пожалуй, без особой надежды на успех. Понимая, насколько она сложней и глубже внешнего замысла.
Биограф видит сложность своей задачи в оппонировании не столько советско-официозному образу Гагарина (импульс к созданию и поддержанию которого сначала выдохся, а потом потерял смысл), сколько его двойнику – альтернативному гагаринскому мифу. Порожденному отчасти либеральным диссидентством, отчасти народным ревизионизмом, а в основном – идеологией обывательского цинизма. Которая овладела массовым сознанием в 70-х, и с тех пор мощно укрепилась и заматерела.
Более того, Данилкин имеет смелость назвать именно эту, а не советскую версию гагаринской биографии основной, «общепринятой»: «Чистый, светлый юноша, слетал в космос, – а потом, под давлением обстоятельств стал деградировать, – и деградировал бы, наверное, окончательно, но Бог дал погибнуть молодым. Это очень хорошая версия, если вы художник, расписывающий палехские подносы, – именно такой персонаж вам и нужен».
Горечь биографа здесь ощутима еще и потому, что он зримо представляет адептов «романтического», «палехского» ключа к гагаринской биографии, их силу и убедительность:
«Если бы он прожил дольше… обзавелся бы торсом, надел бы джемпер, генералом в отставке лопатил бы землю в Подмосковье на приусадебном. Распухал бы от комаров и от водки. Принял бы ГКЧП, но затем перешел бы на сторону Ельцина, как все служаки.
Слава богу, он гробанулся вместе с летчиком-испытателем Сергеевым (Серегиным. – А. К.), и остался нам только его рейд в космос» (Эдуард Лимонов. «Священные монстры»).
«Сейчас я думаю, что его великая судьба преподнесла ему и трагический финал лишь для того, чтобы ярче оттенить свой выбор: герои не должны доживать до старости, да и представить Гагарина в роли старика, десятки лет проводящего в президиумах торжественных собраний и, звеня сотней орденов, повествующего в тысячный раз о своем звездном часе… Это все равно что Сергея Есенина вообразить в роли престарелого, как Сергей Михалков, героя соцтруда» (Сергей Боровиков. «Хронос»).
Отметим здесь главный гагаринский парадокс – он, чей Полет воспринимался как триумф – в широком смысле – физики, утилитарного знания, познаваемости мира, вдруг становится совершенно (и безальтернативно! у самых разных комментаторов!) метафизической фигурой, инструментом и любимцем Творца.
В русле этой тенденции – многие штудии Льва Данилкина: поразительные по силе куски, где Полет метафорически интерпретируется как ремейк евангельского сюжета: «Православная Пасха в 1961 году праздновалась 9 апреля. 12 апреля, соответственно, было средой Пасхальной недели. Разумеется, важно не то, что была среда, а то, что была весна, что было утро, что он упал на пашню – ну да, как проросшее зерно, как вернувшееся солнце, как воскресшие Озирис, Адонис, как Христос; невозможно не обращать внимания на всю эту удивительным образом совпавшую символику, на то, как фантастически ловко он, среди прочего, вписался в календарный миф о возвращении-воскрешении. Во всем, что происходило под Смеловкой, была не только пронзительная новизна, но и присутствовало странное ощущение дежавю, чего-то уже однажды происходившего; слишком много совпадений. Полет был своего рода распятием, а возвращение – Пасхой. И все это движение растревоженных масс – тоже, некоторым образом, напоминает «явление Христа народу»; да даже запрет сразу после приземления на поцелуи – на что, в сущности, это было похоже? Правильно: где-то мы это уже слышали».
…Но вернемся к человеческому и гагаринскому. Данилкин отмахивается от мелких, как бесы, мифов (Гагарин и Серегин, положив на задание, полетели на матч «Пахтакор» – ЦСКА; пьянство, блядство), не обходя, впрочем, реальной первоосновы баек – вроде «форосского инцидента» с разбитой вдрызг экспортной гагаринской физиономией и китайской глицинией.
Но занимают и угнетают его, конечно, не истории, а История. Вот этот назойливый мотив «Если бы». Биографу в этой тяжелой игре – полемики с массовым сознанием приходится по-борхесовски нырять в сад расходящихся тропок (ага, «на пыльных тропинках далеких планет») альтернативной истории, осуществлять подмену «общепринятого» мифа своим собственным.
«Гагарин – НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ключевая фигура русской истории». И далее, вплоть до политических перспектив Гагарина в партийном и советском руководстве, многовариантности судеб бывшего СССР, геополитики. «Заматеревший – набравший вес, подобрюзгший, максимально мимикрироваший под образ кремлевского старца – он становится министром обороны вместо умершего Устинова, возможно – председателем Верховного Совета СССР».
Очевидно, подобные забавы увлекательны и заразительны, на них подсаживаешься, но мне представляется все это если не лишним, то избыточным.
(Здесь же отмечу, что альтернативные истории иногда развиваются в ущерб реальным – Данилкин упоминает, скажем, о встречах Гагарина с собратьями по кумирне – Че Геварой и Владимиром Высоцким, но подробности остаются за кадром.)
Биограф – если брать его текст не фрагментарно, а целиком – ответил на все «если бы» задолго до эпилога. Снял с повестки дня эту мифологическую параболу: рост – Полет – приземление, сиречь деградация. Поэтому биография Гагарина дана сюжетно и последовательно, где Полет – если и золотая, но середина, а Гагарин – чаще человек (анекдотчик, бильярдист, растерянный обыватель в микросюжете «Гагарин и Хрущев», после снятия последнего; хоть и специфический, но светский персонаж, не теряющий индивидуальности даже в амплуа экспортного пропагандиста), нежели военный, летчик, командир отряда космонавтов.
А контрапунктами романа воспитания (да, помимо прочего, книга Данилкина – еще и отличный роман воспитания) становятся вовсе не триумфы, но два, на мой взгляд, ключевых эпизода с явно негативной окраской. Первый – «темная», устроенная Гагарину товарищами-курсантами в казарме Оренбургского летного училища. Второй – форосский загул, с густым запахом коньяка и адюльтера, едва не стоивший Юрию Алексеевичу если не всей советской карьеры, то участия в XXII съезде КПСС. Энергия преодоления этих эпизодов показывает, что говорить в случае Гагарина о «деградации» – как минимум спорно.
4
Восхищение не только героем, но и советским космическим проектом – еще один сюжет книги. Хотя, пожалуй, подавляющему большинству читателей предстоит впервые узнать, что:
– Полет Гагарина, в завершающей его части, прошел вовсе не по букве сценария: достаточно сказать, что наземные службы, ответственные за встречу, а при необходимости и за спасательные работы, Гагарина элементарно проспали.
– Космическая программа СССР регулярно встречала непонимание верховной власти, бюрократические препоны даже среднего уровня для штурмовавших небо оказывались подчас непреодолимы; уже Королев сталкивался с урезанием бюджетов, а после его гибели партийное начальство стало видеть в проекте лишь средство пропаганды.
– Даже в первом отряде космонавтов наличествовала конкуренция и чуть ли не дедовщина, нравы напоминали современные офисные войны; «летчики» конфликтовали с «конструкторами», и те и другие противились «женской квоте»…
Все как у людей.
Но Данилкин – человек своего поколения, равно далекий от либерального мейнстрима и патриотических комплексов, для него «скрытый космос» (как назвал свои ценнейшие свидетельства инструктор первого отряда космонавтов генерал Каманин), так же как затухание проекта – вовсе не повод для заклинаний «все расхищено, предано, продано» и «насмешки горькой обманутого сына над промотавшимся отцом».
Данилкин бодр, он знает, что ничего не было зря, а «у нас была великая эпоха» – не предмет полемики, а простая констатация.
5
Автор данной рецензии – саратовец, и потому «саратовский текст» биографии Юрия Гагарина – важный для меня и, пожалуй, самый живой, здесь и сейчас, из сюжетов книги.
Наши областные власти (special thanks to губернатор Павел Ипатов) слили в выгребную яму безвременья полувековой гагаринский юбилей, отметив дату 7 апреля, на пять календарных единиц раньше Дня космонавтики.
Злые языки поговаривали, что Гагарина угораздило слетать в день рождения саратовского губернатора, который он предпочитает отмечать за пределами региона.
Как бы то ни было, но и 7 апреля на месте приземления Гагарина получилось организовать некое официозное действо, зазвав нескольких космонавтов и спикера Совета Федерации Миронова. Плюс непременный Кобзон. Народ саратовско-энгельсский безмолвствовал и вообще был не в курсе. Открыли так называемую «галерею космонавтики», ее-то мы и поехали смотреть в Пасху, 24 апреля.
Галерея в чем-то тоже копирует евангельские мотивы – учителя и предтечи (Циолковский и Королев), барельефы под металлическими ромбиками; отдельно – апостолы – космонавты.
Художник явно обнаружил знакомство не только с фотографиями персонажей (причем сделанными не на момент совершения ими полетов, а много позже – космонавты выглядят взрослыми, минимум за сорок, военными дядьками и тетками), но и с эстетикой «Звездных войн» и покемон-серий. Квадратные физиономии, мощные надбровные дуги, чужие инопланетные взгляды.
Мне показалось, будто в галерее упрятан какой-то тайный код – настолько странным выглядел принцип отбора. Если речь идет о первом отряде космонавтов, почему отсутствуют Андриян Николаев и Валерий Быковский? Если о всех последующих отрядах – почему они представлены так куце? Впрочем, к одной из разгадок кода я, похоже, приблизился, заметив очевидное портретное сходство Королева с бывшим нашим губернатором Дмитрием Аяцковым, а космонавта Кубасова – с тогдашним, Павлом Ипатовым…
Впрочем, все это – лишь продолжение традиции абсурда, укоренившегося в местной исторической географии полвека назад. Ибо то, что называют «Местом приземления Гагарина» – микс потемкинской деревни с довлатовским заповедником.
Лев Данилкин дает убедительные аргументы в пользу альтернативной географии приземления. Объясняет, как и почему сложилась мифология (точнее – искажение фактов) вокруг села Смеловка.
Данилкин: «Космос был пространством тотальной неизвестности – после входа же в атмосферу Гагарин очутился не просто на планете Земля и даже не просто в СССР, а – надо же, как будто Бог ему ладонь подставил – под Саратовом, в хорошо знакомой ему местности… спланировал над Волгой…»
Гагарин: «Случилось, как в хорошем романе: мое возвращение из космоса произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолете».
В. Кац, биограф Гагарина: «Занимаясь краеведением, я, в свое время, решил во что бы то ни стало отыскать документ, указывающий подлинный район приземления Юрия Гагарина. В конце концов пути привели в ту самую часть, что располагалась в населенном пункте Подгорное. Командир дивизиона подтвердил, что в Историческом формуляре части об этом имеется запись. Выглядела она следующим образом: «12.04.1961 г. в 10 час. 55 мин. 2 км юго-восточнее н. п. Подгорное приземлился летчик-космонавт майор Гагарин Юрий Алексеевич, совершивший первый космический полет на космическом корабле «Восток». Первый заметил ефрейтор Сапельцев В. Г.». Насколько известно, эта запись в Историческом формуляре в/ч 40218 вообще является единственным официальным подтверждением факта завершения Гагариным космического полета. Ложное место приземления, у села Смеловка, начиная с шестидесятых годов было признано одним из символов Саратовской области».
Сайт администрации Энгельсского муниципального района: «Ракетный дивизион был режимным объектом, вокруг которого простиралась «закрытая зона». (…) В дивизионе базировалось шесть передвижных пусковых ракетных установок С-75М, находилась радиотехническая батарея со станцией наведения и обнаружения (дальность действия – 110 км) и станцией разведки целеуказания (деятельность действия – 150 км). Там служили 17 офицеров и порядка 90 солдат. В 1993 году военные покинули это место, сейчас сооружения дивизиона бесхозны».
В. Кац: «Раскрытие района дислокации действующей зенитно-ракетной части было недопустимо. Должностные лица, отвечавшие за охрану государственных и военных секретов, понимали, что со дня на день к месту посадки космического корабля хлынут массы людей, включая журналистов. Они мгновенно разберутся, где космонавт Гагарин находился первое время после приземления. К тому же для регистрации мировых рекордов, установленных в ходе полета Гагарина, требовалось представить в Международную авиационную федерацию (FAI) соответствующие документы, с указанием в них точных сведений относительно места старта и места приземления космического корабля «Восток». Чтобы как-то выйти из щекотливой ситуации, пошли на подлог».
А самое для меня интересное, что в этом самом Подгорном располагалось родовое имение (тогда – ветхий деревянный дом со скрипами и шорохами почти на волжском обрыве), моего приятеля Сергея Трунева, ныне поэта и гуманитарного ученого. Я нередко гостил у него – одно из лучших было мест на свете для стихов, рыбалки и портвейна «Арпачай» (как-то потребили за вечер привезенную мной дюжину бутылок с кривыми этикетками и надписями «креплеННое»).
Трунев, сам тогда мачо не из последних – фуфайка, разбитые тренировками кисти рук – гордился брутальностью отчих мест, которые в народе именовались Подгорным Карабахом.
Помню и бесхозную воинскую часть – осевшие ворота со ржавыми звездами, и заброшенный храм, и – на рассветной рыбалке – волшебное ощущение одновременно бесконечности и познаваемости Господнего мира и понимания, что если где-то сходятся земля, вода и небо – то именно здесь.
Наши немцы. О романе Александра Терехова
В свое время мне попались на глаза сразу несколько материалов о Фридрихе Горенштейне, с общим и весьма предсказуемым пафосом, подкрепленным не столько аргументами, сколько эмоциями – о крупнейшем, но, увы, почти незамеченном русском писателе, классике XX века, который до сих пор в святцах не значится.
В те же дни я читал объемную нацбестовскую рукопись – роман Александра Терехова «Немцы». Терехова с Горенштейном роднит многое, и прежде всего – тотально насмешливый взгляд на человеческую природу во всех ее подробностях, деталях и нюансах. При глубоком уважении, почти ветхозаветном поклонении движению жизни вообще.
Еще подумалось: Терехов – дай бог ему здоровья, всяческого благополучия и настоящей писательской славы – при всех своих больших и «Больших» книгах, верных и влиятельных поклонниках – рискует повторить Горенштейнову судьбу. Литературного слона, которого по близорукости и якобы наивности взяли да и не приметили.
Будет неправильно и несправедливо, если именно так произойдет.
Итак, «Немцы». На первый и даже не сильно поверхностный читательский взгляд, это социально-психологический, вполне традиционный роман, о быте и нравах московского чиновничества лужковского призыва. С густыми вкраплениями семейной драмы. Вполне адекватными будут и поэтические дефиниции, траченные восторгом, вроде: притча о власти. Или – сага о коррупции.
В таком случае на поверхности и расшифровка названия – автор, предвкушая убойность фактуры, неоригинально хеджируется – вроде как не здесь и не сейчас; не наши, а немцы.
Прием хоть и впрямь не уникален, но причудлив – и герой романа Эбергард, и его бывшая жена Сигилд с дочкой Эрной, и нынешняя супруга Улрике, и партнеры по трудному бизнесу выживания во власти – Фриц, Хассо, Хериберт – существуют в исторически и географически (разве что минимальный произвол в топонимике) достоверной Москве 2007–2008 годов (выборы Медведева, смерть Ельцина) и образуют диаспору лишь по принципу взаимодействия, более-менее тесного, с главным героем. Ничем не отличаясь от туземного населения во главе с мэром Григорием Захаровичем и его супругой Лидой, за которой маячит могучий и всепожирающий семейный бизнес-спрут – ООО «Добротолюбие».
Даже если Терехов кого-то и скрывал под «немцами», для романа это уже непринципиально, ибо здешняя реальность обустроилась по собственным законам. Может быть, из Гоголя. «Немцем у нас называют всякого, кто из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед – все немец». Писательская оптика Терехова – для которой своих вообще не существует, чужие все – подобную версию усиливает, но, думается, проблема еще глубже. Терехов – антрополог, то и дело переквалифицирующийся в энтомолога, который по-своему влюблен в предмет исследования, но ничуть не готов при этом поступаться академической бесстрастностью и жестоким лабораторным юмором (прошу прощения за длинную цитату, но Терехова вообще трудно цитировать, а коротко – так и невозможно): «Новые люди – они смеялись вместе с прежними в буфетных очередях, поздравляли равных по должности с днями рождения, показывали фотографии детей и собак и выглядели обычными, единокровными, теплокровными млекопитающими, потомством живородящих матерей – как все, но никого это не обманывало: упаковывались они отдельно, между собой говорили иначе (или казалось испуганным глазам?), улыбались друг другу особо, уединялись, припоминая общее прошлое (где это прошлое происходило? когда?), отстраненно замолкали, как только речь заходила про монстра; владели будущим, жили уверенно, они – «на этом» свете, а префектурные старожилы оставались «на том»; новые знали «как»: не поднимали на префекта глаз, вступали в его кабинет на цыпочках (Марианна показывала желающим – как), крались до ближайшего стула, неслышно присаживались и глядели в стол, помалкивали (и все теперь старались так же), когда префект спрашивал, быстро переходя на мат и бросание подручных предметов. Новых объединяло происхождение, не дающее себя для определения уловить, несводимое к буквам ФСБ, к слову «органы», что-то более глубокое, близкое к человеческой сути, наличие каких-то избранных, меченых клеток в многоклеточном организме, позволивших оказаться в восходящем потоке».
Естественная среда обитания персонажей-подопечных Терехова – коррупция. Здесь своя система отношений, собственный язык (помимо хрестоматийного уже «откатить», есть еще «занести», «порешать вопросы», «работать через такого-то»). Писатель сей феномен не живописует, он дает привычный фон, подмалевок, двигает читателя к пониманию метафизической природы российской коррупции.
По Терехову (ну, и согласно национальной традиции), коррупция сродни искусству или духовной практике, поскольку требует от своих адептов служения полного, без остатка. Это явление, пребывающее как бы вне закона, но являющееся непременным правилом игры. И условием существования (да и развития) государства в его нынешнем виде.
И условием пребывания во власти; принять этот парадокс как должное, то есть вовсе не замечая, но при иных обстоятельствах сделать безошибочный выбор в пользу закона или правил игры – это и есть главное качество не идеального, а просто профессионального человека власти. Своеобразная начальственная йога, идеальный последователь которой должен даже не практиковаться по часам, согласно графику, но существовать внутри ее, не замечая посторонних людей, идей, предметов и явлений.
Эбергард отвлекается на постороннее – семейные дела, необязательный романчик, разборки с бывшей – и закономерно выпадает из своей небольшой, но единственной власти. Религиозная практика эта еще и языческая – возмездие нагоняет отступника без промедления. Впрочем, открытый финал романа превращает житейскую катастрофу в призрак свободы, который догоняет Эбергарда алкогольным весенним ветром и несильно толкает в грудь. Оптимизма, впрочем, ноль – просто именно так бывает, когда выходишь на улицу после долгих часов в лаборатории, переполненной многая химией и печалью.
Терехов – редкий у нас случай синтетического, или, если угодно, полифонического, автора (в смысле не достоевском, а скорее музыкальном). Мастерство его таково, что все слои, пласты, линии, узлы и персонажи гармонично существуют в едином пространстве, не испорченном кривизной фабулы, сюжетными разрывами, (пост)модернистским скрежетом и словесным недержанием (Терехов многословен, но не избыточен).
Взять семейную бытовуху. Собственно, общеизвестная голубая чашка – отец и дочь, невозможность счастья втроем, всегда кто-то отваливается; по традиции мир – окружающий, дружественный или враждебный, – допускается в эту литературную ячейку на птичьих правах социальной рекламы. У Терехова математически точно выдержаны все пропорции, и к финалу, почти мистическим образом, враждебность исчезает с обеих сторон… Это я не про свет в конце романа, а про писательское мастерство.
«Немцы» – роман десятилетия, и я говорю не только о литературной эпохе. Путин и Медведев – под собственными именами (сами не участвуют, просто их часто упоминают), Лужков с Батуриной, как уже говорилось, обзавелись псевдонимами. Читатель пусть не ближайшего, но обозримого будущего вряд ли воспримет «Немцев» как исторический документ или литературный памятник. Скорее как учебник нравов. Поскольку ничего здесь, конечно, не изменится.
Вот что еще роднит Терехова с Горенштейном – это практический, деятельный эсхатологизм пророков, которые четко отслеживают текущую ситуацию, но отвлекаются и на другие, глубоко нездешние дела. А потом, обернувшись и вспомнив, такой пророк еще и удивляется: как? вы еще живы? и продолжаете? круто! уважаю!
Как будто не сам придумал в свое время, насколько неизменно вещество всей этой жизни.
Самурайская вата. «Кристалл в прозрачной оправе» Василия Авченко
Редкое чувство после прочтения – зависть.
Не к автору, который умеет загибать такое (бессмысленно завидовать таланту и опасно – одержимости). А к читателю, которому предстоит умное, веселое, деятельное удовольствие от чтения.
Читал, как в детстве, взахлеб, рот сам растягивался, а пальцы прищелкивали.
Две части, две темы – море и камни, вокруг которых вырастает целая космогония (наш ответ Толкиену). Маршруты, где пересекаются науки и стихии и создается отличная бодрая проза, со своим клубком сюжетов и персонажей, искусно притворившаяся нон-фикшном. (Географически близкий Акутагава, но Василий предпочитает другие стилистические ориентиры – академика-поэта Ферсмана, например: «Нельзя, считал Ферсман, мириться с тем, что в Советском Союзе нет своего красного самоцвета: «В стране, эмблемой которой является красный цвет – цвет бурных исканий, энергии, воли и борьбы, – в этой стране не может не быть красного камня. И мы его найдем!»)
В славнейших традициях Арсеньева, Олега Куваева, Пришвина, лучших из советских романтических научно-фантастов и пр., но очень по-авченковски.
Один наш общий товарищ – мы гостили на Керженце, который для Василия не только раскольничий угол, где «затерялась Русь в мордве и чуди», но – безоговорочный Запад – назвал манеру Авченко бороться на руках «методом краба». Эдакое перетекание энергии на один бок, когда кажется, что Василий сражается в армреслинг не одной рукой, а всеми восемью железными клешнями, выкатив глаза, в которых непрерывно фиксируется весь окружающий мир.
Книга его написана методом краба, если допустить, что природа наградила, помимо прочих красот и чудес, крабов еще и фасеточным зрением.
«Жидкий мозг-интернет, гидросфера, слившаяся с ноосферой» – это про океан, и вроде как в одно касание рецензия на «Солярис» Станислава Лема, но это именно афористичный Авченко.
Василию повезло родиться и жить на Дальнем Востоке, – и пытливый, яркий, праздничный патриотизм его вызовет уважение и у скептика, повторяющего вслед за Довлатовым про любовь к березкам, торжествующую за счет любви к человечеству…
Большое, да, видится на расстоянии, но и для точного взгляда на малое пространство и среда обитания дадут необходимый ракурс: «Соевая вертикаль соевой власти соево торчит из раскуроченной соевой страны; это не тоталитаризм, не оккупация и не бесовщина (много чести) – это просто соя, растительная подделка, сделанная в Китае. Весь мир делается в Китае из сои. Соевые мысли, соевые страсти и соевые души. В соевых размалеванных офисах сидит проращенная соя – растительный планктон с человеческими, пока еще человеческими головами, внутри которых еле-еле функционирует нечто студенистое бледно-желтого оттенка. Тихоокеанский флот – уже не грозный ТОФ, а «тофу» – соевый японский сыр, плавающий кусками в антипохмельном супчике мисо».
Одержимость алхимика, репортерский азарт, жадный ум интеллектуала, ревность патриота и мастерство прозаика. Легкая, живая интонация. Повествование – как мелкоячеистая сеть, куда обязательно попадают рыбы, разноцветные минералы, водоросли и целые китобойные флотилии, луна и солнце, Советская страна и непузатые японцы, выдающиеся земляки и гости Приморья, все, что писалось об этом крае в литературе и звучало в музыке: «Знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии» звучит в России больше века, легализовав «сопку» как общерусское понятие, причем с батальным оттенком. Первую версию вальса Илья Шатров написал в 1906 году, сразу после Русско-японской войны. Тогда вальс назывался «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии» – он посвящен памяти погибших солдат 214-го резервного Мокшанского пехотного полка, в котором Шатров служил капельмейстером, причем боевым – известна история, как он вывел оркестр на бруствер и приказал играть марш, поднимая полк в штыковую на прорыв окружения. Они были талантливые парни, эти капельмейстеры – и Шатров, и Кюсс, сочинивший «Амурские волны», и автор «Прощания славянки» Агапкин».
Фирменная такая плотность, лакуны еще надо уметь разглядеть: исследуя магаданские мотивы в песенном творчестве разных поколений авторов, вспомнив Вадима Козина и Владимира Высоцкого и брезгливо миновав шансонный сонм, Василий переходит к другу и соавтору (по другой книжке) Илье Лагутенко. Забыв о мощной магаданской рок-сцене конца 80-х – «Миссия Антициклон», «Конец, Света!»… Но это я уже придираюсь.
Вообще, рецензируя Авченко, как-то хочется побыстрей закончить с обязаловкой отсебятины и поскорей перейти к цитированию. Скажем, вот этих бесконечных лексических игр, которые, как детские считалки, не надоедают: «Колыма (иностранцы говорят «Колима», ударяя на второй слог, и из слова начисто уходят его размах и суровость) – татарский «калым» и русское «вкалывать» вместе со смертельно надоевшей «колымагой». «Колыма» похожа на «каторгу» – трудно представить на реке с таким именем легкомысленные занятия. Колыма – слово тяжелое, как могильный камень; после этого слова следует молчать».
Впрочем, этот поэтический коктейль – редкой трезвости: «Транснефть»; едва ли чиновники, придумавшие это название, видят спрятанный в нем образ – нефтяной транс, куда погрузилась Россия».
И актуальности – в социальных диагнозах:
«В Тавричанке, некогда шахтерско-рыбацком, а теперь лишившемся лица поселке под Владивостоком, я познакомился с Геннадием Алексеевичем – мужчиной за восемьдесят, горным инженером-шахтостроителем на пенсии. Он теперь занимался любимым делом – орнитологией. Родом был с Донбасса, там пережил немецкую оккупацию и поэтому знал, у каких деревьев съедобная кора.
– При отступлении наши только копры (то есть верхушки, вершки шахт) взрывали и сами шахты топили, а остальные сооружения не трогали. Знали: вернутся – придется восстанавливать! А у нас в Тавричанке в 90-е обе шахты уничтожили полностью. Все сровняли с землей, – говорил Геннадий Алексеевич.
– Выходит, наши времена хуже оккупации? – спрашивал я.
– Выходит, что так, – отвечал старый горняк».
Или даже так: «Икра-икура» – редчайший пример заимствования японцами русского слова. Случай столь же нетипичный, как и заимствование японских слов русским языком (разные «самураи» и «гейши» не в счет, потому что они сохраняют иностранное гражданство, даже получив разрешение на работу в русском языке за неимением местных аналогов; это заимствованные из японского слова, обозначающие японские же понятия, тогда как «иваси» и тем более «вата» давно стали понятиями нашими, русскими, подвергшись «разъяпониванию»)».
Вот именно. Вата – происхождения самурайского.
Больше очерка, меньше романа. О «Девяти днях в мае» Всеволода Непогодина
Литературный ландшафт на начало 2015 года – своеобразная проекция «Фейсбука». Преобладание двух тем – Украины и нетрадиционных отношений. Иногда их причудливый микс, как в повести Лизы Готфрик «Красавица». Но чаще – отдельные мухи и котлеты, подчас погранично-публицистического свойства – маленький роман Всеволода Непогодина «Девять дней в мае». В центре повествования – не хронологическом, но концептуальном – одесская трагедия 2 мая 2014 года.
Сразу оговорюсь – роман Непогодина для меня вовсе не повод говорить о чудовищном акте геноцида в Доме профсоюзов. Скорее наоборот – повод от него абстрагироваться. (Литература как средство от неврозов.)
Символический пласт считывается без труда, в одном названии – тут и русский весенне-праздничный цикл от Первомая до Дня Победы, и шестидесятнический шедевр Михаила Ромма, и русский же срединный поминальный срок. Впрочем, Непогодин, конечно, по части не подтекстов, а подкастов. Дмитрий Быков назвал «Девять дней» – «репортажным романом», а я в свое время говорил: журнализм – самая сильная черта молодого прозаика Непогодина.
Сева не то чтобы зарыл журналистский талант в землю, но как-то не прислушался. Репортажность «Девяти дней» явно непрофессиональна, штрихпунтирна и сбивчива, оптика размыта. Настоящий репортер, обязательно и не без щегольства, укажет звания и должности силовиков, пытавшихся обуздать уличную стихию, – а у Непогодина мелькают лишь безликие «милицейские начальники». И замначальники.
Впрочем, рядом и такое отличное наблюдение: «Небеседина порадовало то, что милиционеры оттащили своего раненого в сторону антимайдана, а не к украинским националистам».
Настоящий репортер – тем паче определившийся в политических пристрастиях, дает картинку цельную, без внутренних противоречий. Непогодин же восхищенно описывает лагерь русских патриотов на Куликовом поле в Одессе:
«В городке были армейская дисциплина и строгий распорядок дня. Койки отбивались по кантику, как в казармах. (…)
– Заявится сюда хоть один хорошо обученный отряд «Правого сектора», и от Куликова поля ничего не останется. Мало у нас народа и оружия, – сказал тогда Небеседину руководитель палаточного городка, выводя его с огороженной территории лагеря».
После всего, что произошло, у Непогодина – несколько коротких рыданий о мирных патриотах с Куликова поля, принявших мученическую смерть.
Мы, разумеется, в тех же мыслях, благородный порыв ценим, скорбь разделяем, но и некоторую разорванность сознания отметить вынуждены.
Как и в тех случаях, когда автор вдруг вспоминает, что в жизненное варево надо погуще добавить специй художественности, а горький журналистский хлеб украсить кремовыми розочками.
«Я хочу жить в мирной стране! Хочу, чтобы все устаканилось в Одессе. (…) А курить траву я категорически не хочу! – импульсивно выкрикнул Небеседин» (в ответ на предложение дернуть «пару хапок»).
«Бандеровцы хаяли Россию и Януковича, восхваляли Майдан и Европу. Он набил десяток шишек, освоил сноуборд и вернулся в Одессу, поняв, что диалог с бандеровцами бесполезен» (о поездке в Львовскую область).
«Небеседин жевал блины».
«Лавочка с видом на портовые краны и остатки судоремонтного завода приютила на время два одиночества».
И т. д., и оно бы ладно; глухота, чисто у токующего тетерева, и неряшливость письма, похоже, общее свойство молодых русских писателей, проживающих (или проживавших до известных событий) на Украине.
Куда хуже, когда репортаж взыскует аллюзий и культурных кодов.
«Перед окном, где скрывался Небеседин, сидел инвалид-колясочник и просил милостыню. Первые несколько минут бойни он был совершенно невозмутим, но когда услышал выстрелы, с неимоверными муками встал с коляски без посторонней помощи и, весь искривленный, с гримасой страшной боли на лице, пошел прочь. Инвалид сделал шагов пятнадцать, пока сердобольные тетушки не подхватили его под руки. Глядя на него, Вениамин вспомнил знаменитую сцену из фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин», где безногий инвалид, спасаясь от белогвардейцев, в панике спускается по Потемкинской лестнице на маленькой квадратной коляске с колесиками. Художественный образ, к превеликому сожалению, стал реальностью тем жарким пятничным днем».
Откуда, спрашивается, белогвардейцы в 1905 году? Пожалуй, «царские бандеровцы» были бы даже уместнее…
Интересны порой политологические открытия, основанные на метеорологии: «Будь тогда пасмурно и дождь, то ничего бы серьезного не случилось, но солнышко сильно напекло голову бойцам, быстро потерявшим рассудок».
Тем не менее определенных успехов в журнализме Всеволод достигает. В ином жанре – памфлета. Тут сатирический дар, клокочущие «личняки» и прицельно избранный объект насмешек сообщают простодушной непогодинской прозе фельетонную лихость. Отмечу коллективный портрет московских и одесских журналисток (первые виноваты перед Всеволодом своим богатым происхождением, вторые – бедным). И два портрета (точнее, злобных шаржа) – индивидуальных: на одесского стихотворца «Берла Херсонимского» и крымского коллегу «Антона Соседина». Вот она, генетика южнорусской литературной школы – совсем как большие одесские старшие ребята (Валентин Катаев, например), Всеволод обзавелся собственным «тягостным спутником». И даже протагонисту своему в «Девяти днях» дал сигнальную фамилию, «Небеседин». Дескать, я – это не он.
Ценны «Девять дней в мае» и как материал для чьей-нибудь будущей диссертации. Не столько по новейшей истории, сколько по социологии. Или – бери выше – антропологии.
Вот захочет какой-то ученый, надев очки-велосипед, присмотреться к непогодинскому поколению. Двадцатилетним в нулевые и тридцатилетним в десятые. Для определения у «младого, незнакомого» морального облика и ценностного ряда «Девять дней» станут незаменимым подспорьем.
«Возле районного отдела милиции четверо тинейджеров-фашистов тащили за волосы женщину. Им не понравилось, что она ответила на русском языке. Милиционеры стояли на пороге райотдела, трусливо покуривали и боялись заступиться за нее».
Менты, натурально, позорники и сволочь, ну а сам автор-герой, наблюдающий безобразие с близкого расстояния? Ясно, что он «худенький и непрожорливый» (тем не менее любит заказать четыре порции вареников с разной начинкой и проглотить за считаные минуты), однако тинейджеры – тоже не все ведь качки и тяжеловесы… Важен порыв. Глядишь, и мужики бы следом набежали, и менты бы, загасив окурки, решились порядок навести…
«Вениамину не раз предлагали поставить свою подпись под требованием реформ (речь о федерализации и придании русскому языку статуса государственного. – А. К.), но он все время вежливо отказывался. Знал, что в Украине оставлять автограф можно лишь в ведомости на получение зарплаты».
Или вот такой романтический щебет:
«– Ариш, у нас гранаты, стрельба, камнеметание и лужи крови, – отправил в личку возлюбленной.
– Жесть какая! Украина, любимая, сошла с ума! – ответила Астафьева».
Однако стоп! Хватит уже, как говаривали митьки, «есть с говном» надежду руслита Всеволода – парня бесспорных взглядов, прозаика способного, интересного, по-своему оригинального и, как мы только что выяснили, весьма полезного. В плане изучения времен и нравов определенного куска географии. Ставшего в последние сезоны едва ли не главным на всем земном шаре.
Не знаю, как премию, а пропуск в будущее Всеволод себе добыл – пусть и несколько шулерским способом. Ну так Одесса остается Одессой.
Во всяком случае, на фоне «украинского текста» русской литературы, который сделан и будет, конечно, делаться еще, у Непогодина есть важная фишка – механическая увлекательность чтения. Его хочется читать и дочитывать. А механика этого явления мне непонятна.
Точно не обаяние. Может, ожидание.
Подельницы жизни. О романе Марии Панкевич «Гормон радости»
Юлия Беломлинская называет «Гормон радости» Марии Панкевич «автобиографическим романом». Скромнее, да и точнее было бы назвать эту книгу сборником новелл. Объединенных не столько штрихпунктирной сюжетной канвой (которая, в неравных пропорциях, охватывает «тюрьму» и «волю»; тюрьма – женская, воля – аналогичная), сколько образом и опытом героини.
Довлеет, конечно, сама тема: места заключения женщин – «терра инкогнита» в русской литературе и даже журналистике. В отличие от «мужской» тюремной прозы, традиции тут практически нет – вспоминается с ходу классический «Крутой маршрут» (который тем не менее по другому, гулаговскому, ведомству). Еще – пьеса Алексея Слаповского «Инна» – где мордовская зона скорее необязательный фон, а в фокусе – лагерные труды и дни девушки, явно напоминающей Надежду Толоконникову.
Между тем тюрьма, как «мэ», так и «жо» – одна из главных констант русской жизни, и если здесь что-то меняется в нюансах, то только с метаморфозами общественно-политического строя.
У группы «Алиса» в непростом 1989 году вышел альбом песен «Ст. 206, ч. 2».
Все, кто тогда жил, в курсе, насколько это было актуально и национально. Будь я группой «Алиса» и гонясь за актуальным, очень российским и универсальным, сегодня бы назвал новый альбом песен «Ст. 159, ч. 4». Джентльменский, «бизнесменский» набор. Кому надо, снова в курсе.
Панкевич, никак специально не обозначая, фиксирует подобную тенденцию – ее «портреты в колючей раме» появляются благодаря столь же универсальной ст. 228. И бытовым убийствам по пьянке.
«Проститутки, торговки, монашки / Окружением станут твоим», – писал Ярослав Смеляков в знаменитом стихотворении. Если перефразировать «наркоманки, убийцы, алкашки» – будет точно, хотя и не так поэтично.
Появление книги Марии Панкевич – знак времени. Которое вновь взыскует не так злобы дня, как вообще злобы российского бытия. Невесть по какому кругу, и предпоследний круг начал вращение в год рождения Марии Панкевич, смерти генсека К. У. Черненко и апрельского пленума ЦК КПСС, давшего, робкий поначалу, старт гласности и перестройки.
На перестроечном искусстве (кино главным образом) знатно в свое время оттоптались, заклеймив «чернухой», попрекая прямоговорением, притворно морща нос, щуря глаз и затыкая ухо от аромата помоек, звуков мата и сцен секса.
Но когда, и в наши дни, появился запрос на социальную драму из русской жизни, именно перестроечное искусство оказалось хранилищем сюжетов, типажей, градусов напряжения и умения делать «хлесть» по глазам.
Что немаловажно – небольшими бюджетами.
Еще немаловажней – признаваться в распатронивании энзэ не обязательно, как там дети говорят – «заиграли». Другой век на дворе – и информационный, и календарный. Корчи капитализма, а не агония социализма.
Про перестроечные корни тамары-пары из «Дурака» и «Левиафана» я писал, и, кажется, одним из первых, но Звягинцев еще в «Елене» сделал ремейк фильма 90-го года «Любовь с привилегиями» (Вячеслав Тихонов, Любовь Полищук).
Или вот «Комбинат «Надежда» 2014 года (режиссер Наталья Мещанинова). Кино и впрямь сильное, чрезвычайно аутентичное, но и оно – ремейк знаменитой «Маленькой Веры». Даже с намеренным пережимом ремейкнутый – в «Вере», кажется и кстати, дело происходит в Мариуполе (в любом случае на Юге), в «Комбинате» – Север, Норильск.
Раз пошла такая пьянка, интересно будет взглянуть на перепевы соловьевской «Асса»-трилогии. И в этом месте («Асса» заканчивается арестом Друбич, а значит – женской тюрьмой и зоной) попрошу прощения за отступление и вернусь к литературе.
Нельзя сказать, что в минувшие десятилетия «чернуха» растворилась вовсе, однако почти всегда была амбиция показать нечто, среднему читателю неведомое, претензия на диггерство, – автор, как правило, позиционировал себя сталкером маргинального ада. У Панкевич – вектор принципиально иной: экзистенциальный подтекст «Гормона радости» без истерики и надрыва подводит к мысли: тюремный опыт сегодня вовсе не маргинален, еще немного – и он может сделаться всеобщим. «Кто был – не забудет, кто не был – тот будет». Вовсе не случаен совсем невеликий интонационный зазор между тюремными впечатлениями и детскими воспоминаниями.
И весьма принципиален главный конфликт и контраст: между хрупкостью героини, со всеми ее книжками, стихами, скрипочкой и свирепой неволей, уфсиновской машиной насилия, топливо которой – людская злоба, жестокость, равнодушие.
Из сильной мозаики выбивается случайным пазлом лишь концовка – явно сделанная наспех; так бывает, когда автор, по молодости, чувствовать спешит и не в силах дождаться отстоя жизненных впечатлений. Но и она не смазывает читательского впечатления и сопереживания.
О мастерстве. Мария пишет легко, смело, четко – ее портреты глубоки без пережима, детали красноречивы без аффектации, диалоги и реплики точны и пластичны. Работает аналогия с близким теме жанром – тату хорошего мастера. То есть искусство почти фольклорное, с традиционным набором сюжетов и приемов, небогатой цветовой гаммой, но которое в умелых руках может разогнаться от шаржа до икон и фресок.
Генезис такого стиля, очень личного и отличного, – на стыке и истории и географии, 20-х годов и Питера – мне почему-то припомнилась «Республика Шкид» двух веселых нищих – Григория Белых и Алексея Пантелеева. Встречаются даже текстуальные совпадения, для Панкевич, надо полагать, бессознательные. Эта школа не ленинградская, а именно Достоевского – никак «не матовый блеск асфальта после дождя», но преодоление всеобщей неволи не социальными надеждами, как было в перестройку, а только юмором, стилем, любовью не столько к самой жизни, сколько к ее наблюдению; трудным поиском человеческого в каждом встреченном человеке.
По ту сторону. О романе Антона Секисова «Кровь и почва»
Большинство противопоказаний к тому, чтобы вовсе не читать эту книгу, – соблюдены: главный герой – журналисто-пиарщик, ввязывающийся в очередной сомнительный политико-медийный проект. (Причем можно, не напрягаясь, угадать некоторые прототипы и подлинные реалии.) Love-story с роковой, любвеобильной и, как положено, отчасти безумной барышней Ритой. Ну и экшен, который легко пересказывается есенинской, а теперь уже и фольклорной строчкой: «Снова пьют здесь, дерутся и плачут».
Ну сколько можно; другое дело, что производственный роман подобного типа предполагает как бы «либеральный» антураж – в олигархическом или прокремлевском изводе (иногда вместе). У Антона Секисова, через оптику трипа, иронии и сарказма, показан проект «патриотический», агрессивный и выморочный – строительство и обживание некоей Слободы – заповедника православной Москвы XVII века, куда не должна массированно проникать похоть антихристова либерального вавилона. Своей похоти хватает. Аналогичное идейное и партстроительство под патронатом некоего отца Иллариона.
Это все да, но еще Антон Секисов знает, чем с первых строк увлечь если не широкого читателя, то узкого рецензента. Щеголеватая, эрегированная фраза. Не рубленая, но как будто искусно вырезанная. Энергичный стиль, меткая оригинальная метафора. И вообще отличный, пластичный, свежий язык. Оригинальный; хотя аналоги легко обнаруживаются в «южной школе» – Олеша, Ильф и Петров, пропущенные через примочку катаевского «мовизма», – у Секисова подвергнуты апгрейду по современным технологиям.
Для «Крови и почвы» хочется отменить абзацы и читать фразы лесенкой, как стихи. Прозой поэта рукопись от этого не станет, но качество прозы станет наглядней – ибо таким языком написана довольно объемная хроника: с бэкграундом персонажей, суицидальным зачином, сюжетом, портретами-шаржами и логичным, пусть и открытым финалом.
С самоценной материей языка вступает в конфликт как раз не банальная после «Generation «П» etc фабула, а приколы, столь же пелевинские, и типа фишки, которые вроде как должны усилить игру стиля и тотальную иронию. Так, в книжном магазине патриотического изобилия Гротов – главный герой «Крови и почвы» – замечает «сухощавого человека, еще моложавого, но целиком седого, в полицейской форме». Продавщица прикормленному клиенту рекомендует:
«– Еще вот Кожинова привезли, собрание сочинений.
– Нет, Кожинова не люблю. Занудствует много. Надо правду-матку рубить. Нечего тут эти сопли… – Полицейский задумался, словно не зная, что делать с соплями».
А зовут старого читателя-патриота Вадим Валерьевич.
Шансонного певца, который делает политическую карьеру по линии партии «Русь державная» и на которого работает весь пиар-аппарат партии, в свою очередь, зовут Арсений Северцев.
Как говорил другой певец, Высоцкий, «ну вот, и вам смешно, и даже мне».
Оно, конечно, ничего страшного, но эти застольные подмигивания как-то уменьшают сатирическое измерение повести Антона Секисова, заземляют гротеск якорьками фельетонности.
Впрочем, оставляя служебные придирки, можно даже восхититься, с каким изяществом и легкостью Антон переводит пошловатую бытовую драму в сатиру, экзистенциальное измерение и абсурд. Туда и обратно, как хоббит. Сам хоббит, впрочем, предпочел в финале не расставаться со своим комсомолом – патриотической идеей, оставшись в одиночестве и продуваемости всеми злыми ветрами.
Сильная концовка. И знаковая. Подозреваю, пророческая даже.
Наждачное сердце. Дмитрий Филиппов, «Я – русский»
У Валентина Распутина, в поздней повести «Мать Ивана, дочь Ивана» (сюжетная матрица которой воспроизведена в романе Д. Филиппова почти без изменений – изнасилование русской девушки «чужаком», самосуд, обрез; все это – на фоне публицистики, переходящей в сухомятку дидактики; впрочем, Филиппов как бы уводит Валентина Григорьевича от лубочной кинематографичности «Ворошиловского стрелка», воспроизводя вечный сюжет уже для другой эпохи: повесть Распутина была опубликована в 2003 году, действие романа «Я – русский» приходится на 2012 год. Другое дело, что сюжет и прежде обкатывали в патриотических водах: мне, например, в середине 90-х в одном провинциальном альманахе попалась повесть о советском космонавте, запущенном на орбиту еще до перестройки, а вернувшемся после, в реальность сникерсов, ларьков и прочих менатепов – жена ушла к олигарху, предварительно продав дочку в элитный публичный дом, который посещают богатые иностранцы, негры по преимуществу. Если и был там треш, то реализованный, естественно, помимо авторской воли).
Так вот, там, в распутинской повести есть точное замечание: «Встречаешь иной раз человека, с которым во всем согласен, который делает тебе добро и оказывает услуги, а подружиться с ним не тянет. Душа не пускает. Сблизился – узнал бы лучше, а не хочешь узнавать лучше. Боишься его нутра, его чужести. Или это всего лишь отговорки, чтобы остаться чистеньким и не мазаться в грязи?..»
Подобные мысли посетили где-то на середине романа «Я – русский», а вначале хотелось даже попенять его примиальному номинатору и моему товарищу Андрею Рудалеву: дескать, одолела Андрея тенденция, да так, что уже литература побоку, очевидной слабости текста не замечает.
Однако ближе к сильной и глубокой концовке обнаружилось, что у критика Рудалева никуда не пропало художественное чутье, а Дмитрий Филиппов оказался вовсе не прост и однозначен.
Хотя бы потому, что форма и сама конструкция идеологического романа восходит к «Запискам из подполья» Достоевского. Правда, парадоксов, из которых, спустя век без малого, выросла философия экзистенциализма, у Филиппова негусто – так, привычные уже идеологемы левого толка в миксе с имперским национализмом и радикальными местами антикавказкими и – шире – антимигрантскими выпадами. Все это, конечно, далеко не первый ряд и не цветение направления, но продукт вторичный – компот, а то и компост.
Филиппов, однако, конструирует не идеологию, а героя (себя отодвигая на скромную роль публикатора и расшивателя некоторых сюжетных узлов; прием достоевский, но в данном случае пропущенный через традицию Леонида Леонова «заветные мысли надо вкладывать в уста отрицательных персонажей»; ну да, проклинать капитализм и миграционную политику – дело привычное, а вот от антиеврейских пассажей лучше абстрагироваться).
Меня смутила как раз не идеология – свой брат, ватник, – а какая-то неточность формулировок и приблизительность аргументации, неряшливый произвол в хронотопе – ну чего ради было переносить мартовские, 2012 года президентские выборы Путина (в романе он безвкусно назван «Царем») на май? Чтобы не только пьянка и изнасилование происходили? Или такой вот детский сад: «В Дагестане живут кавказцы». Притом что страницей спустя перечисляются и даргинцы, и кумыки… Ну ясно, что тут закос под Данилу Багрова, который в «Я – русском», естественно, упоминается и цитируется, и вообще это модная и нужная тема – попасть в тень Балабанова хоть краешком. Но так ведь и шкатулку с аллюзиями можно спутать с мусорным контейнером.
…Андрей Вознесенский (зовут героя), тридцатилетний интеллектуал и писатель – с таким именем-фамилией стихов он, понятно, не пишет, с прозой тоже не очень получается, служит в студенческом профсоюзе при вузе; временами тяжело пьет, хотя клеймит спаивание народа, конфликтует с отцом (бывшим офицером-подводником, отлично прописанный образ) и нежно любит покойную маму, но ни разу не побывал на ее могиле; привычно и разнообразно клеймит режим и даже участвует в белоленточном протесте, однако следом выполняет поручение ректора по «организации голосования»; ради высокой, как ему представляется, цели возмездия занимает деньги у самых близких, зная, что никогда не отдаст; раскольниковская претензия на «право имею» при полной подчиненности обстоятельствам.
Добавьте, что эти обстоятельства давно должны были закалить сердце Андрея Вознесенского, превратив в подобие наждачной шкурки, однако он сохранил его какую-то плюшевую мягкость, простреливаемость и несворачиваемость крови: это странное свойство передается читателю – последний не то чтобы переполняется сочувствием к герою, но стремительно теряет иммунитет к социальным хворям…
Сильно сделанный в таком диапазоне противоречий герой программирует и основной конфликт романа: между прямолинейной вторичной публицистикой и отсутствием каких бы то ни было внятных ответов на художественном уровне. Между нервной, неточной, мучительной рефлексией – и силой в умении не просто поделиться болью – «подсадить» на нее.
Есть нерв, ритм, боль. А чувство меры и стиля придет. Лишь бы не принесло с собой наждачную броню для сердец.
Блондинки рулят. О повести Ганны Шевченко «Шахтерская глубокая»
Рок-н-ролльное «поколение дворников и сторожей» сменилось литературным – пиарщиков и бухгалтерш, и каждый (-ая) его представитель (-ница) мечтает написать роман на собственном производственном опыте. Некоторые даже написали. Однако Ганна Шевченко – одна из очень немногих, кто придумал добавить в этот антураж сказочный или, если угодно, мистико-мифологический элемент. С чернобыльским фоном.
Девушка Аня, бухгалтер из шахтоуправления, незамужняя и немного легкомысленная барышня, проваливается, во время производственной пьянки на природе и сопутствующего флирта, под землю, в заброшенную шахту, где на глубине девятьсот метров встречает Шахтера-Сталкера-Минотавра Игната Шубина – жертву ядерного эксперимента, начальственной подлости и женского свинства. Шубин, превратившийся в хтонического демона, снедаем педагогическим зудом и договаривается с Аней, чтобы подгоняла ему на воспитание клиентуру – хряков и пройдох из шахтерского начальства и местных бандитов. Словом, как обычно, Шубин хочет зла, а совершает благо.
Впрочем, надо сказать, что хтонический Макаренко – это такая авторская ловушка, чтоб рецензенты восхищались и сюжет пересказывали; Шубина в повести совсем немного, Аня в своих девичьих заботах то и дело о подземном компаньоне забывает, – да и сцены перевоспитания даны фрагментарно и неубедительно – эдакий корпоратив, вялый, но с аутсортинговой режиссурой. Обязательны толстые мужики в балетных пачках с волосатыми ляжками.
А вот что Ганна Шевченко умеет делать виртуозно, так это «включать блондинку». Эка вроде бы невидаль – есть же у нас Лена Ленина, плодовитая писательница и убийца котят, была такая Оксана Робски, еще Рената Литвинова, но в литературе для продвинутых опыт Шевченко практически уникален. И увлекателен. Увлекательность прячется как раз не в «шубинском» дидактичном и обрывочном сюжете, но в страданиях поселковой красотки – в поисках одновременно выгодного жениха и зажигательного секса.
Ганна Шевченко хулиганит и вьет на небольшом пространстве прозы длинные лукавые петли – читатель настроился на социальную сказку с наказанным в финале злом и коррупцией, уповает на место действия, «давно не бывал я в Донбассе»; а в итоге увлеченно перебирает шмотки вместе с героиней, рекомендует прически и макияж:
«– У тебя же фигура стройная, задница хорошая, ноги длинные, почему ты этим не пользуешься? Перекрасься в блондинку, волосы отрасти…
– Может, мне еще и сиськи отрастить?
– В тебе же все хорошо, без изъянов, – он, как маркером, очертил меня взглядом с головы до ног, – размер ноги, правда, великоват, какой у тебя, сороковой?
– Тридцать девятый! – возмутилась я, хотя у меня действительно был сороковой.
– Юбку короткую надела бы, туфли на шпильке…
– Да я со своим сто семьдесят третьим ростом и тридцать девятым размером обуви на трансвестита буду похожа в этих ваших шпильках!»
И т. д., чтобы коллегиально подойти к слащавенькому финалу с домиком, садиком, дизайном и благодушно за всех порадоваться – блондинки рулят.
Отдельного комплимента достойны эротические сцены, я, собственно, то ли по испорченности, то ли по прозорливости сразу для себя назвал повесть «Шахтерская глубокая глотка» – и не ошибся. Может, воспитательные эксперименты Игната Шубина так возбудили писательницу, как палача иногда возбуждает порка, может, дополнительные средства возгорания – коровье дерьмо и дурачок Богдан… Но эпизоды с минетом у подземного входа и петтингом с олигофреном – и впрямь заметно выделяются на общем стилистическо-повествовательном небогатом фоне. И подсказывают, что с благостным финалом Ганна, пожалуй, поторопилась – героев явно ждут новые бездны – не внешние, так внутренние.
А хорошая эросцена в русской литературе иного большого романа стоит. Не говоря о повести.
Новые юродивые. Олег Юрьев, «Неизвестные письма»
Заведомая, демонстративная, глянцевитая маргинальность.
Поэтому сама номинация книги на «Национальный бестселлер» выглядела достаточно пикантно, несмотря даже на условности и трансформации премии за все ее богатые приключениями и яркими фигурами годы.
Все, что принято говорить в таких случаях об изящной литературной игре, изощренной мистификации, утонченной стилизации, глубокой притче про время и всепроникающей радиоактивности русского слова, – оставим другим справедливым рецензентам.
Отмечу, однако, незаурядный замысел – когда литературные фигуры третьего ряда (по одной на каждый завершившийся век российской словесности – Якоб Ленц, Иван Прыжов, Леонид Добычин) по разным, но неизменно двусмысленным параметрам опережают своих прославленных адресатов (Николай Карамзин, Федор Достоевский, Корней Чуковский) в жизненном многоборье. «Последние станут первыми».
Прослеживается, помимо маргинальности, иная общность – криминал с политическим подтекстом. Ленц скрывается от преследований по «делу московских масонов» (после ареста и заключения Н. Новикова в Шлиссельбургскую крепость). Иван Прыжов – прототип Толкаченки в «Бесах», соратник Сергея Нечаева, член «Народной расправы», соучастник убийства студента Иванова, сосланный на вечное поселение в Петровский завод, «по диким степям Забайкалья». Добычину, который, как выясняется, в Неве не утопился в 1936-м, а скрылся недалеко от Ленинграда, в Шушарах, «публикатор» Олег Юрьев придумал германский эпизод во время войны с последующим насильственным возвращением в Экибастуз. Правда, тут пишущий Чуковскому Добычин лукавит, путает следы – утверждая, что не был осужден к лагерному сроку, но был административно отправлен на поселение. И тут же признается в близком знакомстве с Солженицыным как раз в связи с Экибастузом, что противоречит «поселенческой» версии.
Вообще, приходилось выслушивать мнение, будто самое ценное в книжице Олега Юрьева – реконструкция «другой жизни» Леонида Добычина, дожившего до ста лет, пережившего и перестройку с СССР, и собственные републикации увидевшего, и даже негромкий «добычинский» культ наблюдавшего со стороны.
Ну, не знаю. Это как раз нетрудно – обладая определенными способностями и знанием историко-литературного контекста недавней эпохи. (Все источники на поверхности, в отличие от «прыжовского» раздела. В котором Юрьев использовал широкий пласт – от «Исповеди» самого Ивана Гавриловича, зачитанной им в суде, до исследований Валерия Есипова). И кстати, выглядит опыт с Добычиным у Юрьева не то чтобы неубедительно, но довольно бледно – скажем, Дмитрий Быков, у которого избежавший расстрела в 40-м Исаак Бабель делает в войну карьеру матерого диверсанта (роман «Оправдание»), реконструировал интереснее. Может, причина в личных особенностях портретируемого – психологизме, гомосексуализме etc.?..
Но нет, проблема, кажется, в другом. Все в той же общности всех трех корреспондентов. Единой тональности писем – с явным пережимом и надрывом относительно возможных оригиналов. В сторону концентрированного, душного юродства – в версии Юрьева несчастные авторы писем могут с полным правом дополнить каталог московских дур и дураков, составленный в свое время Иваном Прыжовым.
Звучит между тем современно. Возможно, подсознательно автор мистификации, давно живущий в Германии, проговаривает свое отношение к русским вопросам и людям, столь созвучное между тем и нынешнему либерально-болотному мейнстриму.
Впрочем, подчас голос публикатора сливается с голосами публикуемых. Литературная игра допускает кашу во рту, если того требует замысел, но не кашу в голове – мистификация должна держаться на внутреннем правдоподобии. Антон Чехов, да, в «Острове Сахалин» оставил портрет содержавшейся в Александровской ссыльнокаторжной тюрьме Соньки Золотой Ручки, но без стоматологических подробностей – так что Олег Юрьев в данном случае не мистифицирует, а просто сочиняет. Да и разбросанные там и сям современные обороты речи стилистической убедительности письмам не добавляют.
По сути, Олег Юрьев использовал метод другого персонажа «Бесов»: «Человека сам сочинит, да с ним и живет». Еще легче сочинить одного юродивого сразу за нескольких разных писателей и отдать ему свое настроение. Правда, о каких-то стилистических прорывах говорить тогда, мне кажется, преждевременно.
Олимпийская сказка. О романе Вероники Кунгурцевой «Девушка с веслом»
«– По-вашему, мистер Холмс, это не интересно?
– Интересно. Для любителей сказок».
Случаются, однако, времена, когда полку любителей сказок прибывает, и пополнение многократно превышает возрастную и фанатскую квоту. Причины скорей экзистенциальны – ощущение невозможности изменить реальность, исчерпанность инструментария, дискредитация смыслов. Зато сказочное направление отливается в магистральный формат – социальный.
Веронику Кунгурцеву с легкой руки Льва Данилкина нарекли «русской Джоан Роулинг», но после романа «Девушка с веслом» я бы назвал другой аналог. Например, Джанни Родари: когда-то культового у нас, а ныне полузабытого сказочника, с его солнечным итальянским весельем, луковой горечью бедности и плодово-овощным изобилием анархизма.
Причем социальная сказка – не обязательно революционная; волшебство как-то отменяет трудные завоевания социализма (или становится бессмысленным, а то и вредным на их фоне, см. «Старик Хоттабыч»), а вот человеческую природу чудеса изменить не могут (см. «Мастер и Маргарита»). Вероника Кунгурцева прокладывает дорожную карту новой русской сказки между Джанни Родари и Михаилом Булгаковым.
Место действия у Кунгурцевой – Южная Столица, готовящаяся принять Олимпиаду, то есть Сочи и почти Италия. Любимые герои – семейство Кулаковых – типичные овощи. Милые и обаятельные, и даже с какими-то былыми, а то и генетическими заслугами – фильмы и сюжеты снимали зачетные, имеют в близких родственниках солдат Великой войны, но сегодня на все удары судьбы, персонифицированной максимально широко – в государственных и муниципальных начальниках, телевизионных боссах, хищниках-коммерсах, черных риелторах, ментах, судейских, мигрантах, тетьках-сектантах – принимают с каким-то овощным стоицизмом. И даже невесть откуда появившихся волшебных помощников эксплуатируют не шибко.
Кстати, этот набор персонажей, умеющих много гитик, весьма напоминает окружение булгаковского Сатаны, правда, без самого Воланда. Некто Филипп Красивый (он же северянин, он же фокусник и пр.), не то собака, не то шакал (а по самоаттестации – почти волк), кавайный Барбаросса, лесная фея – чайный куст Тайка…
В булгаковедении считается, будто Михаил Афанасьевич перелопатил сотни томов гностических и демонологических писаний, чтобы отыскать своих Коровьева, Бегемота, Азазелло, Геллу… Оно, конечно, так и было, однако мне представляется, будто семейку веселых и экзотичных для России демонов и саму схему их танцев вокруг грозного мага Булгаков позаимствовал гораздо ближе – в известной повести А. Н. Толстого 1921 года «Граф Калиостро».
(Вообще, штрихпунктирные, но регулярные, до самого «Батума», параллели «красного Толстого» и «белого Булгакова» – тема захватывающая, но я сейчас о Веронике Кунгурцевой.)
А она играет свою литературную игру, наполняя знакомые образы новыми смыслами – так, Филипп Красивый напоминает поэта и гражданина Дмитрия Быкова (кстати, антитеза Коровьеву – как раз Быков, ага) и внешне и внутренне, а уж когда прогоняет остроумную телегу про мессианство Пушкина в нашей культуре («Пушкин как русский Христос») – все сомнения развеиваются.
Это я так оттягиваю разговор о самом романе, поскольку впечатления двойственные. В «Девушке с веслом» есть ключевой эпизод – когда герои путешествуют во времени, переносятся в 1941 год, «белоснежные поля под Москвой», встречают там Зою Космодемьянскую и спасают от фашистской казни. (Правда, выясняется, что юная советская патриотка мученической своей смерти все же не избежала.) Здесь и философский месседж романа – невозможно что-то серьезно поправить в гнусной сегодняшней повестке, если не ощутить в себе великую историю своего народа, не осознать себя в качестве легитимного наследника святых, воинов и героев. А если встать на эту твердую почву, может, ничего уже и менять не надо – весь олимпийский гламур покажется болезненным наростом, пошлой галлюцинацией; проморгался – и нет его…
Только вот не покажется ли на фоне сей аскетичной идеи несколько излишним сам существующий вокруг яркий, быстрый, многолюдный и многоцветный роман с анимешными словечками и гоголевскими фамилиями?..
Опять же, Вероника подчас великолепно умеет написать скандал, побег, конфуз: «Только тут, после удара, судья заметила недостачу одежды на теле, взвизгнула и, резко развернувшись, рванула в свой кабинет, бросив молоточек за перила, в лестничный пролет (где он строго стукнулся об пол, отскочил и еще раз сердито стукнулся, прежде чем окончательно улечься), безуспешно прикрывая ромбообразной шапочкой, сорванной с головы, пудовые груди, помещенные в КПЗ несвежего лифчика».
Воля ваша, но «КПЗ несвежего лифчика» – это еще и социальный диагноз судейскому корпусу…
Однако странным образом множество карнавальных эпизодов, нанизанных на живую нитку, оборачиваются избыточным многословием, сюжет то сбивается в узелки, то обрывается, оставляя лакуны, персонажей, теряя логику и мотивации…
Но, собственно, если остро и внимательно посмотреть на общую историю последних лет пятидесяти и окружающую географию (к чему склоняет роман Вероники Кунгурцевой), станет очевидно, что и объективная как бы реальность страдает теми же литературными хворями. И это существенно повышает возможности сказки как жанра. А любители сказок – народ не самый взыскательный.
«Авиатор»: под крылом из фанеры. О романе Евгения Водолазкина
Писатель Евгений Водолазкин поверил в маркетинг вокруг собственного имени. Как известно, глянцевая критика нарекла его «русским Умберто Эко». Именно в русле подобного ложного отождествления сочинен, после прошумевшего «Лавра», роман «Авиатор».
Без таких аттестаций, конечно, никак не осуществим российский издательский бизнес. Русский бизнес-Маркес-Борхес-Генис…
Вообще-то в самом статусе «русского Эко» (как и любого другого, хоть китайского Умберто, хоть нигерийского) нет ничего страшного, равно как и сложного – он применим к любому писателю, загипнотизированному темой времени (и тем, «что оно делает с человеком» – Иосиф Бродский); художнику, озабоченному проблемой создания пузырей многозначительности и умеющему много гитик в имитации стилей.
1
Хотя вот Водолазкину я бы патриотично поискал предшественника поближе – и назвал бы Евгения Германовича современным аналогом, а то и прямым наследником советского сказочника Лазаря Лагина, который придумал джинна Гассана Абдурахмана ибн Хоттаба. Прославленный и увенчанный «Лавр» весьма напоминает «Старика Хоттабыча». (Хотя бы на уровне чересполосицы реальностей: у Лагина чародей причудливо микширует ветхозаветные хроники и демонологию раннего ислама, а финальную прописку получает в позднесталинской имперской гармонии. У Водолазкина аналогичный прием магистрален на уровне стиля – Светлана Друговейко-Должанская отмечала, что герой «Лавра» «на протяжении едва ли не одного буквально монолога» говорит то на «чистейшем древнерусском, то на среднесоветском, то на раннепостинтеллигентском».)
Отмечу только, что Лазарь Иосифович Лагин, участник Гражданской и Великой Отечественной войн и член РКП(б) с 1920 года первую редакцию «Хоттабыча» сделал задолго до изысков Набокова и тем паче Саши Соколова, а именно в 1938 году. Зато, как подчеркивает Дмитрий Быков, в один год с «Мастером и Маргаритой» Булгакова и «Пирамидой» Леонова (в последнем случае Дмитрий Львович все же позволяет себе некоторый концептуальный произвол, как раз в духе упомянутого смешения временных пластов).
«Авиатор» же похож на забытый ныне, но хороший, мастерский роман Лагина «Голубой человек» (не ухмыляйтесь, тогда известных коннотаций и близко не было). Даже отрезок времени, через который перескакивают герои, одинаков и для фантастики не особо типичен – шесть десятков лет с копейками. Обычно литературные «машины времени» оперируют расстояниями, превышающими человеческую жизнь.
Поздний роман Лагина – «Авиатор» наоборот: в «Голубом человеке» молодой рабочий из конца 1950-х, москвич, эдакий шестидесятник в проекции, неведомым образом попадает в Москву 1894 года и обустраивает тогдашнюю реальность как марксист-практик, но полный идеалист во всем, что касается морали и человеческих отношений. Круче его только молодой Ленин, с которым он, кстати, тоже встречается и разговаривает.
В центре нового романа Водолазкина – начинающий художник, петербуржец из интеллигентной семьи Иннокентий Платонов (лень говорить о чеховском герое в варианте «Неоконченной пьесы для механического пианино» и, собственно, Андрее Платонове, но, надо думать, доктор филологии Водолазкин их тоже имел в виду, придумывая своего героя). Платонов, в 1932 году на Соловках, куда, в СЛОН (на все круги ада – тринадцатая рота, Секирка), попадает по обвинению в убийстве и, доведенный до края, подвергается эксперименту академика Муровцева – заморозке. «Воскрешен» (отобранных для эксперимента лагерников на Анзере звали «лазарями» – коннотация очевидна) Иннокентий в 1999 году, и нету для него других забот (то есть существуют, конечно, – семья, заработок, но сугубо на втором жизненном плане), как – не столько восстановить, сколько упорядочить «дней связующую нить». Эдакий Гамлет и Робинзон в одном лице. (Первый у Водолазкина не проговаривается, второй активно присутствует.) Вообще, гамлетовские и робинзоновские мотивы чередуются в романе с шахматной точностью.
Вот «случай Гамлета», одно из сильнейших в «Авиаторе» мест:
«Я подошел к гробу вплотную. Одна из боковых досок гроба отвалилась, но свет прожектора в образовавшуюся выемку не попадал. Ничего сквозь нее не было видно. Без того, чтобы открыть крышку, не убедиться было, что это Терентий Осипович. Только как это сделаешь?
(…) Все, словно завороженные, смотрели, как, обеспечив водоснабжением живых, городские власти принялись за усопших. Незаметно для других я сделал шаг к гробу и положил руку на полуистлевшее дерево крышки. Ощупал ее. Там, где крышка соединялась с гробом, оказалась небольшая щель. Запустив в нее пальцы, с усилием потянул крышку вверх. Усилия не понадобилось: крышка легко поднималась. Я еще раз бросил взгляд на окружающих – все по-прежнему наблюдали за укладкой трубы. Одним движением приподнял крышку и сдвинул ее на край гроба. В бьющем сверху луче прожектора стали видны останки человека. Этим человеком был Терентий Осипович. Я узнал его сразу. Прилипшие к черепу седые волосы. Торжественный мундир, почти не тронутый тлением. Таким, собственно, он был и при жизни. Отсутствовал, правда, нос, и на месте глаз зияли две черные дыры, но в остальном Терентий Осипович был похож на себя. Какое-то мгновение я ждал, что он призовет меня идти бестрепетно, но потом заметил, что у него нет и рта».
А вот – робинзоновский; «Робинзон Крузо» у Водолазкина – вообще квинтэссенция христианской морали, что для русского (и взрослого) читателя неожиданно: «Я теряю силы, память, но не испытываю боли – и в этом вижу явленную мне милость. Я ведь знаю, что такое страдание. Оно ужасно не мучением тела, а тем, что ты уже не мечтаешь избавиться от боли: ты готов избавиться от тела. Умереть. Ты просто не в состоянии думать о таких вещах, как смысл жизни, а единственный смысл смерти видишь в избавлении от страдания. Когда же болезнь тиха, она дает возможность все обдумать и ко всему подготовиться. И тогда те месяцы или даже недели, что тебе отпущены, становятся маленькой вечностью, ты перестаешь считать их малым сроком. Прекращаешь их сравнивать со средней продолжительностью жизни и прочими глупостями. Начинаешь понимать, что для каждого человека существует свой план».
Чтобы дальше не спотыкаться на филологических святцах Евгения Германовича, отмечу, для иллюстрации их щедрости, и вовсе неожиданного здесь Александра Галича (хотя почему неожиданного? контекст вполне чекистский, а значит, инфернальный: «Тут черт потрогал мизинцем бровь… / И придвинул ко мне флакон, / И я спросил его: «Это кровь?» / «Чернила», – ответил он…»). Платонов идет с визитом к выжившему, столетнему соловецкому начальнику:
«– Без этого, Иннокентий Петрович, – разъяснил Чистов, – мы с вами к гражданину Воронину не пойдем.
Иннокентий Петрович задумчиво взял авторучку.
– А в ручке что?
– Представьте себе, чернила.
В тоне Чистова не было ни малейшего неудовольствия».
И еще одна, в случае Евгения Германовича, видимо, подсознательная параллель с Лагиным – Платонов на фоне людей конца 1990-х (в которых ничего дурного ни автор, ни герой особо не фиксируют) выглядит идеальным, «голубым»; человек из прошлого, равно как лагинский «человек будущего», оказывается выше нас, современников, уровнем здравого смысла и морали.
2
Соловецкий контекст неизбежно провоцирует вспомнить одно из самых серьезных явлений новейшей русской литературы, роман Захара Прилепина «Обитель». И критики дружно вспомнили. Галина Юзефович: «К слову сказать, Соловки описаны у Водолазкина по-шаламовски страшно – куда жестче, например, чем в прилепинской «Обители». (Замечание, на мой взгляд, не совсем точное – и не по поводу Прилепина даже, но Шаламова: литература Варлама Тихоновича вопиюще не родственна филологической прозе, виднейшим представителем которой является Водолазкин.)
Андрей Рудалев: «Важное место в романе занимают Соловки 20-х годов XX века. В последнее время к этому месту большое и пристальное внимание. Захар Прилепин написал свою великолепную «Обитель», Александр Ф. Скляр в своем новом блестящем альбоме спел про остров Анзер. Все видят там модель страны, место, где наиболее отчетливо сходятся в противостоянии ад и рай. Там они находятся вместе, бок о бок».
Кстати, Александр Феликсович объединил соловецкий духовный подвиг, монашеское делание, еще и с советским юношеским романтизмом «Двух капитанов» – «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
У Скляра:
Найти – и не сдаваться, Искать – и не свернуть И помнить, где желание – там путь. («Анзер», альбом «Ястреб»)(Статья Андрея Рудалева «Неживая материя замороженного «Авиатора» – работа очень толковая в плане разъяснения христианских и, так сказать, политических мотивов романа. Андрей также подробно разбирает разрешение феномена времени у Водолазкина. Дабы не повторять Рудалева, отсылаю читателя к этой опубликованной на «Свободной прессе» рецензии. А мы пойдем немного другим путем.)
Итак, родство «Обители» и «Авиатора», безусловно, наличествует, однако Соловки мне представляются ложным следом. Важнее тот самый «последний аккорд Серебряного века», который увидел Прилепин в соловецкой мистерии. В «Авиаторе» эти звуки ушли в букву, воплотились в самой фигуре Платонова. Отнюдь не случайно титул романа повторяет название известнейшего стихотворения Александра Блока. Более того – один из сюжетов романа – как раз пересказ в прозе блоковских стихов. Жест, надо сказать, храбрый – изложение Водолазкина обогащает Блока лишь фамилией летчика: Фролов.
И кстати, названия «Обитель» и «Авиатор» – из одного звукового ряда Серебряного века. Однако если у Прилепина его остаточная энергия помогала строить авантюрный сюжет, направляла дикие и жертвенные поступки героев, программировала лютость века, то у Водолазкина ее импульсы приобретают единственно куртуазное измерение. Платонов выходит некоей «девичьей игрушкой»; так, его возлюбленная, а потом жена Настя не устает повторять, каким дивным мужчиной (в сугубо физиологическом смысле) оказался размороженный Иннокентий.
И этот незамысловатый символ своеобразный ключ к пониманию романа (энергия бушует узконаправленно, тогда как все прочее, то есть реальность 99-го, погружается в энтропию настолько, что феноменологии, достойной внимания рассказчика, не заслуживает). Который при всем богатстве контекстов и аллюзий, претензиях на философскую глубину и метафизику, оказывается полым внутри. И местами неосознанно пародийным по отношению к писательской манере Водолазкина.
3
Поскольку персонажи и многие линии романа попросту фанерны, подобно конструкциям первых аэропланов, доктор Гейгер, лечащий врач и опекун Платонова в новой жизни, настолько схематичен и условен, что кажется, будто не Иннокентия, а булгаковского доктора Борменталя заморозили в наказание за эксперимент над Шариковым и в 90-х ожил именно Борменталь. Про единственную оригинальную эмоцию Насти я уже говорил. Ближе к финалу Водолазкин, похоже, устав от тщетных попыток вдохнуть в окружение Платонова живые дела и страсти, маскирует неудачу постмодернистским приемом, типа «смерти автора». Записи всех троих героев сливаются в некий интертекст. По-своему честно, хоть и не оригинально.
Любопытно: самым подлинным и ярким персонажем оказывается герой второго (хотя как посмотреть) плана – Зарецкий, обыватель, стукач и расхититель социалистической собственности. По сюжету «Авиатора», Зарецкий – та самая брэдбериевская бабочка, способная изменить генплан истории. Он действительно хорошо и выпукло написан, а особой рельефности образу прибавляет ворованная колбаса, которую Зарецкий прячет, вынося с производства, между ног, ибо гениталии его мельче любого колбасного изделия.
Надо сказать, авторы профессорских романов полагают себя большими мастерами в деле создания эффекта многозначительности, с помощью паузы, тумана, умолчания, какой-нибудь насекомой детали. Понятно: подобное умение укрупняет и возвышает повествование, переносит в иной регистр. Согласно блистательной формуле Михаила Лермонтова:
Есть речи – значенье Темно иль ничтожно, Но им без волненья Внимать невозможно.Однако подобная квалификация весьма редко встречается. Лермонтовское определение применимо к Пастернаку, пожалуй, всех периодов; Дмитрий Галковский говорил, что в полной мере этим умением обладали Стругацкие в лучших вещах. Однако Водолазкин в «Авиаторе», нагнетая многозначительность, разве что покачивает фанерными крыльями.
Просчитывал ли автор долгую инерцию «Лавра» при прочтении «Авиатора» – судить не берусь. (Хотя не бином Ньютона, разумеется.) Но именно так, под сенью «Лавра», будут читать, уже читают и критикуют. Загребая множество сильных аналогов, глубоких полутонов и культурных кодов. Да и я, грешный, не удержался – с тем же Лазарем Лагиным. Вовсе не собираюсь ни в коей мере принижать литературный вес Евгения Водолазкина. Сравнение с Лагиным, хорошим советским писателем, на мой взгляд, куда лучше штампа про Умберто Эко. А значит, сравнение возвышающее, вернее, из смежных сфер.
«Авиатор», в основных позициях и картинах, ностальгически-комариная дачная идиллия, брат-чекист, «Преступление и наказание», в смысле, что второго без первого не бывает (идея о возмездии, верная и незатейливая) – очень похож на «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова. Я не про сиквелы – сумасшедшее «Предстояние» и диковатую «Цитадель», а про первых «Утомленных солнцем» – мастеровитых, скучноватых, чуть пародийных, оскароносных.
И послевкусие схожее – крупный художник замахнулся на притчу о времени, а получилось сработать на «Оскар». Впрочем, для издательского маркетинга – лучше результата и не придумаешь. Кстати, у «Авиатора» Скорсезе «Оскаров» – пять.
История одного «Гения». О романе Алексея Слаповского
Не помню, называл ли кто-нибудь в списке достоинств Слаповского-прозаика – смелость. Свойство в самом деле весьма редкое у авторов современной русской литературы. Особенно в том сегменте, к которому Алексей Иванович приписан, – беллетристики, остросюжетной и остроумной, как бы зависающей жаворонком между высоким и низким жанрами.
Но ведь и впрямь, нужна определенная писательская отвага, для того чтобы: а) назвать роман «Гений», ибо последовательность расположения слов на обложке очевидна; б) посвятить пятисотстраничный текст событиям на российско-украинской границе в 2014 году, и это первый большой русский роман о войне на востоке Украины; в) во избежание упреков в публицистичности «с пылу с жару» или, напротив, адвокатских реплик о том, что «горячо сыро не бывает», придумать календарь написания «Гения» якобы десятилетия спустя и с этой несуществующей олимпийской кочки вольно проникать как в прошлое, так и будущее, да еще дать книге подзаголовок «исторический роман», – то есть сам решай, читатель, что перед тобою – хроника или притча; г) умертвив важных персонажей и исчерпав многие сюжетные линии, обещать второй том.
Слаповский умеет и любит писать провинцию – вся лучшая его проза (да и сценарии) осуществляется в периферийной географии. «Гений» – в этом смысле не исключение, но эксперимент. Действие романа и впрямь происходит в далекой провинции, но это только на сегодняшний вкус, испорченный чудовищной централизацией. (Кстати, когда Слаповский говорит о перекосах москвоцентризма, ровная его ирония переходит в злобноватую сатиру.) Однако в историческом смысле автор рассказывает о самой что ни на есть событийной метрополии.
Поселок Грежин, прямо посредине которого проходит граница между двумя суверенными государствами, до поры мирный, почти идиллический, несмотря на скрежещущее название, населенный разными, но, в общем, симпатичными, забавными и красивыми людьми, погружается в огонь и морок войны. По Гумилеву: «Та земля, что могла быть раем, / Стала логовищем огня…» Надолго, очень возможно, навсегда. Как бы внезапно, волей цепочки случаев, нелинейной логикой любви, дурачеств и юродства, прожектерства и телевизора… И собственно, Слаповского занимает именно этот сложный спусковой механизм. «Гений» – описание механизма и его работы: подробное, местами занудное; его можно было бы сравнить с технической инструкцией, если бы не отличная, местами, проза. А также назвать руководством «для чайников», если бы сам автор бравировал «продвинутостью» или наградил ею своих персонажей.
Нет, не награждает, он их просто любит. Тоже, знаете, не частый в русской литературе случай – подобного писательского отношения, сродни любви опытного педагога к очередному пулу выпускников – пусть теперь на большой дороге делают все, что хотят, и подчас удивляют непредсказуемостью решений и путей: когда вдруг решаются возглавить ополчение или даже погибнуть… Или дефицит и парадокс несколько иного рода – нет у Слаповского в «Гении» героев однозначно отрицательных – даже начальник полиции Мовчан, в котором мы, при первой встрече, готовы безошибочно угадать козла-мента, животастого монстра «будет сидеть – я сказал», у Алексея Ивановича оказывается мужчиной рефлексирующим и сложным, никем, включая автора, до конца не понятым.
С сугубо положительными тоже туго – и «гений» Евгений, и красавица Светлана – при всем умении пробуждать в окружающих чувства добрые персонажи объективно разрушительные, и не в силу каких-то свойств и качеств, а по причине выпадения из общности. Тут мы подходим к главному, к феномену прозаика Слаповского периода «Гения», – трудно назвать писателя, так точно и легко умеющего передать атмосферу этой самой общности, человеческого роя, его пчелиной плотности и собранности, когда каждый живет, казалось бы, собственными делами и страстями, по свою сторону границы… Однако главная жизнь всегда подчиняется интересам улья и планам небесного пчеловода.
(Писательской цены бы Алексею Ивановичу Слаповскому не было в великую и страшную эпоху конца 20-х – начала 30-х. Как бы мог он, со своими ролевыми играми, описать индустриализацию и коллективизацию! Реакцию тогдашних, весьма озабоченных литературным делом, властей, впрочем, предсказать не берусь.)
Слаповский показывает целый сонм «средних» людей – и в зощенковском смысле, и в плане социальном – тут тот самый Middle class, в подобном если не виде, то концентрации взыскуемый поколениями либеральных публицистов. Однако в грежинском обывателе буржуазного мало, он для этого слишком, с одной стороны, патриархален (несколько пар современных «старосветских помещиков» автором любовно представлено), с другой – живет в четком осознании стыка, а затем и разлома двух больших миров и себя на этой передовой. Население поселка больше, таким образом, напоминает не гоголевских героев, а советских людей – в том, пожалуй, идеальном варианте, который виделся кремлевским мечтателям.
И тогда хроника сползания Грежина в долгую войну своих со своими может быть интерпретирована как притча о финальных надеждах и судорогах СССР…
(Кстати, неизбежен вопрос, по сути, лишний при оценке художественного текста – за луну или за солнце? То есть кому писатель в этой, почти мировой, заварухе больше сочувствует – России или Украине, ополчению Новороссии или ВС и СБУ незалежной. На самом деле – никому, для этого и придумана форма «исторического романа из будущего», равно как целая система сносок, не без иронии разъясняющая смысл происходящего, ныне всем очевидный, даже при полярности позиций. Слаповского интересует ситуация пограничья, а не мотивации (сколь угодно справедливые) нарушения и разрушения границ. Однако есть важный нюанс – автор явно предпочитает процесс исторического творчества, пусть буксующий, – хаосу и цивилизационной инерции).
Отдельно стоит остановиться на фигуре Евгения – случайного командира поселкового воинства, чье талантливо разыгранное и, таким образом, превращенное в социальное творчество юродство – один из главных моторов сюжета. Евгений – традиционная для прозы Слаповского фигура писателя, соавтора реальности, и финальное выздоровление Евгения – возглавив ополченцев, он перестает записывать происходящее и тем самым активно влиять на него, сам становится игрушкой стихий – следует воспринимать как довольно прямолинейную публицистическую метафору. Дескать, писатель и оружие – две вещи несовместные. Не будем, пожалуй, этот намек расшифровывать далее.
Ну, и несколько слов о чисто литературных проблемах «Гения». Слаповский, экспериментатор и смельчак, который терпеть не может инерции и шаблона, тем не менее целенаправленно портит хороший замысел инерционным исполнением. Слишком очевидна установка на киношно-сериальное воплощение книги; для успешного и опытного сценариста – это нормально. Однако что сериалу хорошо, для масштабной прозы – если не смерть, то заземление и статика. Бросается в глаза ограниченный композиционный и повествовательный инструментарий – слишком линейно развивается фабула, слишком заметны персонажи, просто путающиеся под ногами и утомительно топающие скопом в закрытой комнате (автор-то видит хороших актеров второго плана и соответствующие премиальные номинации, а мы – нет). Утомительны подчас монологи, не оживленные исполнительской харизмой, очень уж шахматно чередуются флешбэки в прошлое и будущее (местами, да, блестящие; Слаповский – большой мастер конструирования свежих сюжетов из любого подручного материала)… Снова инерция, определяющая всю долгую уже писательскую судьбу Алексея Слаповского, – опять до шедевра не хватило совсем немного, но это расстояние – принципиально, как пограничье.
Часть третья. Страна сближений
Соавторы пространств. Василий Аксенов и Виктор Пелевин глазами современников
Эпитет «культовый» придумали, чтобы не платить критикам.
Впервые я его услышал применительно к Pulp Fiction Тарантино. То есть в 1994 году. С тех пор он превратился в ярлык, легко приклеиваемый кому угодно, в том числе русским писателям. Любая попытка рационально объяснить феномен культовости неизбежно сводится к известному пассажу из одесских рассказов:
«Поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков – разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?» (Исаак Бабель. «Как это делалось в Одессе»).
Любая книжка, биографическая ли, мемуарная, литературоведческая или зависшая между жанрами, о покойном Василии Аксенове и Викторе Пелевине будет попыткой ответить на поставленные Бабелем вопросы. Независимо от того, какие задачи ставили перед собой авторы.
Попробуем именно под таким углом разобрать сразу три книги: «Аксенов» Дмитрия Петрова в серии ЖЗЛ (М.: Молодая гвардия, 2012), «Аксенов» же Александра Кабакова и Евгения Попова (М.: АСТ, Астрель, 2011) и «Пелевин и поколение пустоты» Сергея Полотовского и Романа Козака (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012). Ну, и позаниматься на этом щедром фоне, как водится и пользуясь случаем, размашистой отсебятиной.
***
Авторы, решившиеся всерьез и подолгу говорить о писателях подобного склада и масштаба, в любом случае достойны уважения. Как вызвавшие на себя нешуточный огонь. Поскольку вот вам один из основных признаков «культовости» – едва ли не каждый поклонник полагает писателя своей личной собственностью и на любую попытку биографической приватизации отвечает приступом ревности и обвинениями в рейдерском захвате. Не скачиванием в личный архив, а качанием прав. Не развитием дискуссии, а разлитием желчи.
Дмитрий Быков что-то подобное говорил о пелевинских фанатах, но тот же градус страстей определяет многих аксеновских. По этому нерядовому критерию они, пожалуй, первые писатели второй половины XX века. И начала XXI.
И вообще слоган-однострок «Пелевин – это Аксенов сегодня» таит в себе не только формулу литературного ребрендинга. Еще, как ни крути, преемственность: вспомним, что генезис причудливого (и судьбообразующего) имени – Вавилен – пелевинского биографического альтер эго и героя его главного романа, короля пиарщиков Татарского, наполовину – из инициалов Аксенова.
***
…Я как-то в шутку сравнил Аксенова с Майклом Джексоном, хотя повод был печальным и календарным – смерти, случившиеся в один год.
У обоих были большие и небесталанные семьи. Поп-король еще в детстве сделался главной надеждой, а потом и надежей своего негритянского рода. Наш главный стиляга сам вошел в семейку эстрадных «шестидесятников» и сразу стал в ней первым авторитетом. Псевдогусарская лжевенгерка Джексона легко рифмуется с джинсовой курткой Аксенова, из которой, сказал Евгений Попов, вышла, как из «Шинели» Гоголя, вся современная русская проза. Обоих тянуло к групповщине пограничного толка – Майкл записывался с хором настоящих полицейских, Аксенов придумал «Метрополь». Почти совпадают даже даты создания главных шедевров – альбома Thriller и романа «Ост ров Крым». Певец, с его сериалом пластических операций и обретением белого цвета кожи, может считаться основоположником гламура в мировом масштабе. Писатель-стиляга, который ввел в русский устный слово «джинсы», а в письменный – «чувак» и лабавший в советских журналах на джазовой фене (читать невозможно), есть полновесный предтеча гламура отечественного…
Сопоставление это тогда шокировало моих читателей. Одна девушка-филологиня написала: «Майкл Джексон – это бабочка, яркая и с недолгой жизнью, и никогда бы в жизни не рискнула провести параллель с Аксеновым, хотя разные рискованные параллели люблю».
Пришлось объяснять: дескать, не вижу смысла в сотый раз писать о Василии Палыче все эти стиляжье-джазовые банальности, а не сказать их нельзя, Аксенов из них состоит наполовину. Можно посвятить им один абзац, сравнив с Джексоном. Вы возмущаетесь, но образ писателя-стиляги остается.
И продолжает довлеть: с аксеновским портняжьим сантиметром примериваются к другому писателю, который с одежей (маяковское словцо) никак не ассоциируется: все его герои кажутся нагими, ибо существуют в ситуации вечного грехопадения. Евгений Попов: «Потом Фридрих (Горенштейн. – А. К.) разбогател как сценарист, он очень хорошо сценарии писал – и построил себе мечту детства и голодной юности: пальто с шалевым воротником из хорошего меха. Шапку купил, как у Брежнева, и золотые перстни. Ну, такие у него были желания…» (Кстати, похожий эпизод – с пальто, золотой цепью, а главное – словечком «построил» – есть в аксеновском романе «Скажи изюм» и атрибутирован некоему мастеру Цукеру.)
Виктор Пелевин снялся для своей биографии на фоне зарослей плюща. В неизменных темных очках. А еще в рубашке в синюю клетку и джинсах мягко-бордового оттенка. Плюс синяя футболка и темные кеды. Но взгляд приковывают руки классика – с аккуратными ногтями, длинными и чуткими пальцами, в ассоциацию просится не джаз, а целая аппассионата… (Характерно, что отрывки из изящно изданной книжицы публиковались в журнале «Сноб».)
Это я к тому, что хотел бы в данном очерке опустить некоторые принципиальные моменты: применительно к Аксенову – пижонство и джаз, равно как «богатство» (представление о «миллионах» Аксенова, как полагает Александр Кабаков, выросло из того же стиляжьего корня: «Люди, чуждые стилю, за богатство принимали стиль»); авторы же книги о Пелевине отказались от колоритных деталей сами, отжав биографию своего героя до казарменной сухости.
Впрочем, по поводу джаза, пожалуй, стоило бы поспорить с авторитетами – как говорил бухгалтер Берлага, не в интересах истины, а в интересах правды.
Кабаков и Попов, естественно, не могли обойти тему «Аксенов и джаз».
Александр Кабаков: «А в чем отличие его джазовой литературы от всякой другой, связанной с музыкой? В том, что есть литература о музыке, с музыкой как предметом изображения, а Вася писал джазовую литературу джазовым способом (выделено авторами. – А. К.). У него именно джазовая литература, а не о джазе. У него джазовая проза, она звучит особым образом. Это очень существенно. Таких музыкальных, а не «о музыке писателей» вообще мало – не только в России – в России он точно один, – но таких писателей мало и где бы то ни было».
Вообще-то интонация – штука тонкая, эдак любая, даже умеренно модернистская проза может прослыть джазовой, а недостижимым образцом ее – «Мертвые души». С их метафорическими конструкциями (импровизация), лирическими отступлениями (джем-сейшен) и причудливой духовой (духовной) мелодией. В случае же Аксенова так называемый «джазовый способ» – скорее не прием, а пиар. Чистота и безусловная удача эксперимента встречаются единожды – в джазовых главах «Ожога», прежде всего в знаменитом камбэке с «Песней петроградского сакса образца осени пятьдесят шестого».
Что же до уникальности в «музыкальности» – явный перебор. Вернее, недосчет. А как быть с Эдуардом Лимоновым (ехидствующим, кстати, над Аксеновым, мимолетно, но по любому удобному поводу), чей «Дневник неудачника» сделан явно под влиянием панк-рока и в его стилистике – с адекватным словарем, рваным ритмом, сюжетами и образами, напором и грязноватым драйвом? (Лимоновские рассказы о нью-йоркских панк-клубах и музыкантах, прежде всего превосходный The death of teenage idol, скорее попадают в кабаковскую категорию «писателей о музыке», хотя какая уж там у панков музыка.)
Рассказы Захара Прилепина (он, неназванным, но узнаваемым, мелькает в книжке Кабакова-Попова, в ироническом весьма контексте еще одного претендента на роль «Аксенова сегодня») «Герой рок-н-ролла» (сборник «Ботинки, полные горячей водкой») и «Оглобля» («Восьмерка») – тоже о людях музыки. Той самой, что становилась образом жизни и религией поколений – и стилистически чуткий Захар строит эти тексты как маленькую лирическую энциклопедию русского рока – с обязательной мрачноватой кодой.
Так что Василий Павлович, может, и отец традиции, но явно не венец ее.
Кстати, пелевинские биографы музыкальный аспект писательства Виктора Олеговича и вовсе замотали, разве только более-менее аргументированно соединив название его сборника Relics с одноименной пластинкой Pink Floid. А ведь его эпиграфами из Леонарда Коэна и цитатами из Бориса Гребенщикова (да и вообще связкой «Пелевин – БГ») позаниматься бы стоило. Тему закрывает один Шнур – с однообразными комплиментами в пелевинский адрес. Которые больше сообщают о Шнуре, нежели о Пелевине.
Ну и буквально пару слов относительно «богатства». Соавторы Кабаков – Попов любовно сообщают об одной из последних аксеновских машин – красном «ягуаре», оговариваясь, впрочем, что куплен был по случаю и по дешевке, однако таков был стильный мэн Василий Павлович, что хай-классовая якобы тачка стала очередным лыком в строку мифа о «миллионах» Аксенова.
А вот, по касательной, но в тему, пассаж из того же романа «Скажи изюм»: «Рассказывали смешную историю. На площади Конкорд стоит знаменитый грузинский киношник Тамаз Цалкаламанидзе, глазеет на новенький «ягуар». Подходим сзади, спрашиваем: «Тамаз, за такую машину продал бы родину?», а он, не повернув, как говорится, головы кочан, отвечает: «Нэ задумываясь!»
***
…Не возьмусь и за подробное рецензирование перечисленных изданий, дабы не повторяться – вышедший сравнительно недавно жэзээловский «Аксенов» Дмитрия Петрова получил рецензии от таких важных людей, как Сергей Костырко (положительная) и Роман Арбитман (отрицательная). Портрет-мемуар в диалогах Кабакова – Попова тем более удостоился заинтересованных откликов – к примеру, журнал «Знамя» (2012. № 5) дал подряд сразу двух рецензентов – Льва Симкина и Виктора Есипова. Книгу же о Пелевине я просто-напросто не вижу смысла оценивать отдельно, вне контекста «культовости».
Тем не менее и бегущей строкой.
Лев Данилкин – влиятельный литературный критик и автор героических биографий Александра Проханова («Человек с яйцом») и Юрия Гагарина (в серии ЖЗЛ) – как-то признался, что очень хотел бы сделать книжку о Пелевине, но от затеи пришлось отказаться. «Я бы с удовольствием взялся за биографическую книгу о Пелевине, там столько материала, мне самому страшно интересно; я, например, знаю, что какие-то Пелевины в конце XIX века по молоканской линии приятельствовали с Прохановыми, теми самыми, но он – Пелевин, я имею в виду, – однажды совершенно явственно дал понять, что книга о нем – табу, и я слишком уважительно отношусь к этому человеку, чтобы пренебречь его мнением». Помимо этических соображений, Данилкин, надо думать, руководствовался и профессиональными: сделать биографию Пелевина без участия Пелевина – нереально. Тщательно выстроенный имидж писателя – железной маски в нем дополняется очень русским типом литератора, который всегда больше своих книг.
Сергей Полотовский и Роман Козак наступили на те самые грабли, которые элегантно обошел Лев Данилкин. Лишенные контакта с персонажем, опираясь на дефицитные интервью, куцые свидетельства, известный и небогатый набор источников, авторы вынуждены были менять целеполагание на переправе. Делать не писательскую, но литературную биографию. И даже не биографию, а хронологию появления текстов Виктора Пелевина. С набором необязательных бантиков вроде критических цитат (всегда произвольный и притом ограниченный круг рецензентов), доморощенного структурализма (игра в прототипы) и стилистической претензией на неожурнализм (без соблюдения главного условия – энергично-агрессивного отношения к объекту).
Поверхностность (при периодически пробуксовывающем повествовании) возведена Полотовским-Козаком в творческий принцип, но проблема даже не в ней, а в смешивании слоев, и не коктейльным способом, а известным миксом бочки меда с ложкой дегтя. Так, временами глубокие и оригинальные литературоведческие суждения соседствуют с пассажами типа: «Если посмотреть, из каких профессий приходят в писательство, то на первом месте, конечно, будут врачи: Чехов, Булгаков, Верещагин». Последний – кто таков? Очевидно, Вересаев. Или вот, навскидку: в последней главе «Супербест» писатель Илья Бояшов назван Эдуардом. Наверное, потому, что на той же странице попадаются реальные Эдуарды – Кочергин и Лимонов… Между тем в аннотации указано: один из соавторов – литературный критик, другой – журналист.
Или вот такая прелесть: «По окончании института и военной кафедры получил звание лейтенанта войск ПВО. Позже какие-то из знаний, приобретенных на военной кафедре, наверняка пригодились Пелевину при сочинении «Зенитных кодексов Аль-Эфесби»: писатель любую информацию обрабатывал и пускал в дело».
Я служил в ПВО примерно тогда же, когда Пелевин посещал военную кафедру: повседневная практика этих войск отличалась от названного боевика так же, как советское ТВ от snuff’ов из позднейшего романа. Мысль, однако, стоит того, чтобы ее додумать: Пелевин, как известно, весьма трепетно относится к аббревиатуре из собственного ФИО и, сочиняя о подвигах Аль-Эфесби, наверняка вдохновлялся военной метафизикой собственного имени. Не случайно многие пелевинские фанаты прозревают в Савелии Скотенкове самого Виктора Олеговича, а «Зенитные кодексы» полагают мемуарами.
Получился у соавторов, конечно, не полный провал, а неполный справочник-путеводитель по творчеству Виктора Пелевина.
Дмитрий Петров, сочиняя для ЖЗЛ своего «Аксенова», следовал, похоже, некоему условному канону, который так и называется жэзээлом. То есть про жизнь – своими словами, а про замечательного (в случае писателя – про его литературу и, так сказать, общественную деятельность) – чужими, с привлечением авторитетов, как закавыченных, так и раскавыченных. (Метод, надо сказать, требующий известного самоотречения. Вот так попадается недурной оборотец, рука сама тянется похвалить автора хоть из объективности, но застываешь – вдруг не оригинальное, а снова раскавыченное? Как Иван Бунин про Мережковского: «Местами недурно, но кто знает, может, и ворованное?»)
Своими словами о детстве и юности Василия Павловича вообще-то трудно, ибо есть у нас «ленд-лизовские», магаданские главы «Ожога» и цикл биографических рассказов, но у Петрова получилось – если полагать слова «кара», «мука», «юдоль» его собственными, дмитрий-петровскими. Это не только смешно, тут возникает странная рифма мелодраматического глоссария с известной историей публикации глав из «Таинственной страсти» в глянце для домохозяек «Караван историй».
Еще «про жизнь». Чуть ли не глава отдана под локальный аксеновский триумф – пожизненное звание почетного американского профессора. Петров восхищается этой вехой искренне и многословно, как разночинец, который обрел вдруг богатого и щедрого родственника. Радость биографа кажется особенно странной даже не из-за очевидной архаичности восторгов по столь неактуальному поводу, а потому, что затем много и снова коряво Петров рассказывает, как Аксенов «всерьез задумался об отъезде из Америки» из-за издательских проблем.
Прямо не Аксенов, а Кормильцев с Бутусовым: «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы… Гуд бай, Америка, о!»
Роман Арбитман: «Упрекая издателей первого собрания сочинений Аксенова, дескать, «много опечаток», биограф повинен в том же самом: вместо Потомака – «Патомак», вместо Горпожакса – «Гарпожакс», вместо «колымский» (от Колымы) – «калымский» (от слова «калым»?). Поэт Иртеньев превратился в Иртенева, критик Чупринин – в Чупрынина, издатель Глезер стал Глейзером. Неряшливость автора трудно свалить на нерадивость редакторов. Не редакторы виноваты в том, что прозаик Всеволод Кочетов оказался тут Виктором, критик Владимир Бондаренко – Валерием, негр Джим из «Гекльберри Финна» стал Томом (Сойером, что ли?), сериал «Санта-Барбара» мутировал в сериал «Санта-Моника», а Лара из «Доктора Живаго» обернулась загадочной Лорой…»
Я, как читатель менее въедливый, заметил ляпы чисто литературные: Кочетова, Бондаренко, Лару, Джима. Но как раз пару последних, кажется, смогу разъяснить: «Лора» – современное и даже отчасти гламурное сокращение от Ларисы. «Том» – не из «Гекльберри Финна», а из «Хижины дяди Тома», как архетип негра-раба вообще. А чего? Оба романа – выдающиеся произведения американской литературы XIX века и посвящены, при разном уровне политкорректности, одной проблеме… А из не замеченного Арбитманом – Максима Огородникова, героя аксеновского романа «Скажи изюм», Петров как-то походя переименовал в Андрея…
Арбитман, критик всегда пристрастный, заклеймил ЖЗЛ Петрова как «дурной журнализм». Это во многом справедливо, но, полагаю, вовсе не предосудительно: претензии биографа на некое новое постаксеновское слово выглядят смехотворными уже с порога (и, во всяком случае, они куда простительней, чем снобистская высокопарность, подменяющая фактуру, у Полотовского-Козака). Зато журналистская установка на выслушивание разных сторон – идет в явный плюс: у Петрова подбор цитат с источниками (тоже, разумеется, неполный и произвольный) подчас выбивается из формирующегося аксеновского канона. Для «журнализма», тем паче «дурного», уже недурно.
Да и за одну лишь более-менее подробную разработку малоизвестных взаимоотношений Аксенова-сценариста с советским кинематографом Петров достоин респекта.
***
Журналист Петров, на мой взгляд, выглядит убедительней и добросовестней, скажем, писателя Валерия Попова, несколько лет назад сочинившего для той же ЖЗЛ биографию Сергея Довлатова. Писатель же ж! Не барское это дело копаться в источниках, разыскивая, допустим, публикации СД в советской периодике… Или протестировать на уровень мифологизма боксерские истории персонажа… Или рискнуть отступить от питерско-нью-йоркского канона в довлатовских штудиях, которые желчный Виктор Топоров окрестил «вайлем-генисом-парамонисом»… Валерий Попов избрал в этой ситуации единственно верный, хотя и тупиковый путь – самопрезентации автора на фоне героя. Довлатов – согласитесь – «фон» для амбициозного биографа весьма невыигрышный.
Я припомнил ЖЗЛ о Довлатове не к слову и не для того, чтобы оттенить Петрова – Поповым. Дело в том, что Аксенов, как и вечно завидовавший ему Довлатов (а фирменная ирония СД эту зависть камуфлировала слабо), – материал для биографа чрезвычайно трудный. По одной простой причине: оба были первыми своими, дотошными и талантливыми биографами, зафиксировавшими планку на рекордном уровне. Аксенов запальчиво утверждал, что не пишет мемуаров – хотя, безусловно, наследовал, и не только в поздних романах «Таинственная страсть» и «Ленд-лизовские», традиции художественной мемуаристики а-ля Серебряный век, 20-е, первая эмиграция: Георгий Иванов, Ольга Форш, Анатолий Мариенгоф и др.
Факт ведь крайне занятный – именно у Аксенова в прозе мы найдем рекордное количество не «Коллег», а коллег-литераторов: и под собственными именами, и – чаще – под прозрачными, хотя и замороченными псевдонимами. Шестидесятники и метропольцы, сколько их было и даже чуть больше, куча их оппонентов, а значительней всех повезло почему-то Константину Симонову («Московская сага», «Москва Ква-ква»; интересно, что Аксенов тут наследует Солженицыну – Александр Исаевич первым вывел Симонова в художественном тексте – «В круге первом»).
Довлатов – путано и неубедительно – любил рассказывать байки, как персонажи ловят его на неточности тех или иных жизненных деталей и обстоятельств. Оба – чрезвычайно подробно и эмоционально – выясняли отношения с поколением (Аксенов в романах) и окружением (Довлатов в письмах). Впрочем, в данном случае – сосуды вполне сообщающиеся. Оба регулярно возвращались к каторжному быту и опыту, увиденному и приобретенному в молодые годы… Есть и принципиальная разница: конструируя свою писательскую генеалогию, Сергей Донатович больше пишет о текстах, Василий Павлович – о контекстах: вещах и предметах.
И в порядке сплетни: Ася Пекуровская – первая жена СД, занимает заметное место в донжуанском списке Аксенова (отголоски этой истории – один из мотивов довлатовской повести «Филиал»). Кстати, Пекуровская – элемент умолчания и у Дмитрия Петрова (упомянута единожды, как один из возможных прототипов Алисы Фокусовой из «Ожога»), и у Евгения Попова с Александром Кабаковым. Думаю, в обоих случаях – из деликатности. Друзья-писатели вообще декларативно табуировали пикантную сферу, повторив канон «Таинственной страсти»: Кира и Майя, вполне достаточно, и, пожалуйста, не сплетничайте, покойный этого ужасно не любил. Последнее, впрочем, спорно.
Дальнейшему раскручиванию параллели мешает коренное различие метода и знаков. Довлатов педалировал переплавку реалий «безумной жизни» в литературу, Аксенов, напротив, тщательно это скрывал, но ведь красоту, как утверждают опытные дамы, не замажешь: даже в эпической, менее всего тусовочной, «Московской саге» он появляется персонажем второго ряда, но на первом плане. Помните: юный провинциал Вася очарованным странником зябнет в имперской Москве 1952 года, и руки в карманах, и жизнь впереди.
…Здесь, кстати, тоже повод для солидного куска рассуждений: Довлатов, любя себя и жалея, писал свою жизнь почти с отвращением, признавая ее нелепость и «безумие» (а окружающих, скажем Игоря Ефимова, утомляла и раздражала маска «симпатичного, но непутевого малого»). Василий же Павлович полагал свою судьбу исключительно правильной, эталонной, канонической задолго до появления канона (и даже пьянство у него – не порок, а порог, планка, достижение).
Авторский эксгибиционизм и регулярное заголение персонажей – лишь повод показать, что пусть наши торсы и не античны, зато под подолом мамки-Родины и тетки-власти (Степаниды Власьевны, самого регулярного аксеновского персонажа) все куда откровенней и безобразней…
Даже в исповедальном, казалось бы, «Ожоге», с его шипучей, поверхностной рефлексией, всегда раздражала эта туповатая победительность, априорное сознание вечной собственной правоты, вопреки самой фактуре и авторским проговорам. Именно Аксенову современное либеральное сознание обязано энергией стадного заблуждения, именно он – одним из первых, но не единственный – вооружил непрошибаемыми картонными доспехами двойного стандарта нынешнюю протестную публику. Собственно, месседж «Ожога» был лаконично переведен на новую феню братками из «Бумера»: «Не мы такие, жизнь такая».
Однако для любви к себе потребна некая щемящая, а то и скребущая нота, и он находит ее в ностальгии. Которая, в свою очередь, невозможна без эпохи и ландшафта – голый чувак на голой земле тут не прокатывает. Именно поэтому тексты Довлатова даже выигрывают, очищаясь от контекстов (советский, антисоветский – какая разница). С Аксеновым сложнее.
***
Александр Кабаков: «Спроси у среднего читателя: Василий Аксенов – кто такой? Это знаменитый человек, писатель и стиляга. Это просто вторым идет после писательства».
А вот Роман Арбитман во врезе к цитированной рецензии презентует Аксенова: «писатель и диссидент». И трудно сказать, какая из аттестаций точнее – хотя стилягой Василий Павлович, безусловно, был, а вот диссидентом, строго говоря, вряд ли… Но тут вся фишка в стереотипе: Аксенов и впрямь почти неотделим от антисоветского мейнстрима, дело не так в литературе, как в образе: вспомним его публицистику. По инерции антисоветскую даже в 90-х; скулы сводило от странного смешения априорного либерализма с консерватизмом вполне обывательского уровня, хотя последнее как раз понятно – даже стиляги возрасту покорны.
Однако если «стиляга» для посмертной писательской судьбы вполне нейтрален, то «диссидент» – одновременно идеологически окрашен и архаичен. Впрочем, для полемического задорчика типа – современен ли Аксенов? – место у нас еще найдется… А пока предадимся прекраснодушному проектированию: лучшей биографией в случае и Довлатова, и Аксенова была бы не книжка в серии ЖЗЛ, а заметки по всему корпусу прозы. Комментарии с расшифровками, сплетни в виде версий, игра в прототипы, реконструкции и мотивации, даже и вполне спекулятивного свойства. Подобная задача была бы по плечу не столько дотошному биографу, сколько внимательному, страстному читателю, болельщику и интерпретатору. Если бы первые пелевинские биографы не отдавались столь явно соблазну выстрелить первыми, инструментарий был бы обширней, а интонация и метод – разнообразнее, их книжка заметно укрепила бы перспективный тренд хорошей журналистики о культовых текстах и авторах.
Но, собственно, в случае Василия Павловича мы такую работу наконец имеем – я говорю, конечно, об «Аксенове» Александра Кабакова и Евгения Попова. Книге очень нужной и своевременной – в смысле почина, открытия традиции, когда хорошие люди говорят о своем герое лучшими словами не по поводу, а вообще, пусть не при жизни, но сразу после ухода.
Книга Кабакова – Попова прежде всего не так познавательна, как обаятельна. Тут и образы авторов – толстый и тонкий, бородатый и усатый, мужичок-сибирячок и столичный джентльмен, еврей и русский… С одной стороны – автор целого пласта иронико-абсурдистской, но безошибочно народной прозы, без которой современная русская литература выглядит явно неполной. С другой – известный также прозаик, ценимый, однако, продвинутой публикой именно в качестве журналиста – легкого и точного, объективного даже на уровне стиля… Плюс ко всему литераторы Кабаков и Попов почти полностью лишены производственных хворей и удушливых фобий цеховой писательской бытовки.
Оба по-прежнему и по-юношески влюблены в старшего друга, полагают его литературу и судьбу недостижимым Эверестом, но ирония – спутник зрелого ума – корректирует эмоции: и предмет страсти не пострадал, и житийностью не запахло… Да и Аксенов для них – «Конечно, Вася!»; а не… Вспомним классного наставника из «Мелкого беса»: «Человек до того либеральный, что не мог называть кота Ваською, а говорил: кот Василий».
В методологическую десятку попадает и сам взаимно обогащающий авторов и читателя жанр диалога. Любопытно, что Кабаков с Поповым, наверное, неосознанно копировали интонацию многотомных застольных бесед Альфреда Коха и Игоря Свинаренко, а может, дело вовсе не в ящиках водки, а в вечной, как платоновский мир, ролевой игре «простак и мудрец». И непринципиально, за кем из писателей закреплено то или иное амплуа, ибо сущности по ходу диалога перетекают друг в друга, маски меняются без всякого ущерба для устоявшихся писательских имиджей.
Симпатичны даже минусы этой книжки – избыточность, многословие, повторы – отсутствие финального редакторского глянца. Ощущение не от хорошо изготовленного продукта, но необременительной, на глазах и с песнями совершающейся артельной работы. Атавистическая нелюбовь к советской власти смягчена дистанцией (не столько исторической, сколько бытовой – возраст авторов). Приложения к главам-диалогам в виде документов, полемики минувших лет, стихов, цитат, интернет-дневников смотрятся необязательно, как газетные врезы – когда-то, в перестроечной книжке «Прекрасность жизни», Егений Попов выкладывал такие пазлы куда виртуозней. Но, с другой стороны, и постмодерн ныне поиссяк, и читатель не столь продвинут. Кстати, Дмитрий Петров придумал и использует довольно неуклюжую, но занятную дефиницию о людях, что начали читать книжки после 90-го года…
Не знаю, насколько были авторы озабочены вопросом «третьим будешь?», но вступить в спор, подбросить реплику желание возникает регулярно. Нет, не в формате литературной дискуссии, а именно застольного разговора, уточняющего знакомые черты…
***
Для затравки. Соавторы в один голос утверждают, будто у завязавшего Аксенова после «Острова Крыма» из текстов практически полностью выветрился алкогольный дух. Позвольте, а как же «Скажи изюм», где чуть ли не на каждой странице «напиток зрелого социализма», «Солнцедар», соседствует с двенадцатилетним Chivas Regal? Хотя, конечно, «ожоговой» спиртовой крепости «изюм» не достигает нигде… Или – лучше того – «Московская сага»: самые мощные, в прежнюю силу, убедительные куски как раз посвящены кабакам и спортсменам имперской Москвы пятьдесят второго года, пьянкам в компании Василия Сталина и нехитрой, но яркой идее о том, что алкоголь и секс при тоталитаризме пахнут одинаково – призраком свободы…
Или вот, Евгений Попов, о чистоте помыслов составителей альманаха «Метрополь»: «Кстати, вот еще одно доказательство того, что мы не лезли к чертям на рога. Мы же не напечатали в альманахе самую крутую песню Алешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый»…» Таким образом, Евгений Анатольевич признает: составители альманаха, заклейменного официозом проклятием «антисоветский», по возможности старались не подставляться и не публиковать в «Метрополе» заведомо антисоветские (по их мнению) вещи.
Трудно оспаривать классика. Но. «Товарищ Сталин», даже по тем, 1978—1979-м, временам – вещь вполне невинная. Никакая не политическая сатира, но стеб – причем мягкий и теплый, и в обе стороны советского света – по отношению как к зэкам, так и к Вождю. Собственно, это вечные русские «Отцы и дети» и притча о блудном сыне на новой фене, вслушайтесь (или вчитайтесь) в текст… В «Метрополе» напечатаны не менее известные лагерные вещи Алешковского: «Окурочек» и «Лесбийская»; логика составителей понятна – лирика, какие претензии. Однако «Лесбийская» – пусть экзотический и карикатурный, но тем не менее гимн однополой любви, да еще в специфическом антураже: все связанное с женскими зонами табуировано у нас до сих пор – не столько цензурой, сколько общественным сознанием. «Окурочек» – новелла как раз, при всей своей сентиментальности, очень шаламовская, о любви, не просто отменяющей границы между лагерем и волей, это песня с густым намеком на альтернативную властную иерархию:
Господа из влиятельных лагерных урок За размах уважали меня, —что откровенно диссонирует с советскими представлениями о мироустройстве. Я бы, на месте и составителей, и гонителей, напрягался как раз из-за явно провокационных «Окурочка» с «Лесбийской». Охотно, впрочем, допускаю, что метропольцы знали тогдашние «нельзя за флажки» лучше и тоньше. И все же не отпускает мысль о демонизации советской власти задним числом.
Или вот писатели рассуждают о родителях Аксенова – Евгении Семеновне и Павле Васильевиче, пытаясь понять генезис их коммунистической убежденности и социальный тип во власти. Калибруют человека литературой – обычная русская практика, – за систему координат взяв известную булгаковскую повесть. Евгений Попов: «Здесь получается прямо по Булгакову. У Павла Васильевича – «шариковский» корень, у Евгении Семеновны – «швондеровский». Все это, может быть, интересно, поскольку спекулятивно, но, однако, что за комиссия мерить революцию и ее людей пусть талантливым, но чрезвычайно злобным памфлетом, к тому же с явной нравственной инверсией в подаче персонажей… Кстати, по воспоминаниям о. Михаила Ардова, одним из первых на аморальность профессорского эксперимента обратил внимание Анатолий Найман – давний друг Аксенова.
Булгаков – Швондер – Шариков – мостик, возвращающий нас к феномену культовости. Фундамент которой, в российском варианте, – история взаимоотношений художника и власти. И плох тот рыжий, которому не делают биографию. Шансы его на «культовость» значительно снижаются.
***
В схеме «художник Аксенов и советская власть» контрапунктов два – хрущевский наезд на молодых и левых, в Кремле в марте 1963-го и, конечно, история альманаха «Метрополь».
Василий Павлович к деталям «кремлевского погрома» возвращался, почитай, всю жизнь, оставив наиболее подробное воспоминание в закатной «Таинственной страсти». Надо сказать, вкус именно здесь изменял ему чаще всего – эпизод с воздетым кулаком Хрущева он носил всю жизнь, как орден Дурака Лысого. Биографам просто нечего добавить – Дмитрий Петров добросовестно цитирует сцену из «Ожога» с «Пантелеем» и «Кукитой Кусеевичем» на трибуне, а потом из «Таинственной страсти»: как шли разгромленные Аксенов с Вознесенским по брусчатке, ожидая, что немедленно будут схвачены, а вместо Лубянки и острога попали в ЦДЛ, где, разумеется, крепко выпили. Василий Палыч чуть ли не на следующий день улетел в Аргентину…
Надо сказать, что вот этой двусмысленности, «стыдной тайны» во взаимоотношениях Аксенова и других «шестидесятников» с советской властью биографы обойти никак не могут, спотыкаясь о слишком красноречивую фактуру, вроде длительной поездки полуопального Аксенова в Штаты в глубоко застойном 1975 году. Объяснения, намеки, версии – от «джентльменских соглашений» Василия Павловича с КГБ до включения разнообразных связей – кое-что добавляют к аксеновскому образу, но лишь затемняют суть проблемы, по сути, подменяют политику тусовкой, стратегию власти – индивидуальной писательской тактикой.
Большое видится не только на расстоянии, но и со стороны. Как ни странно, ближе всех к расшифровке властных мотиваций подошел Станислав Куняев – приятель Аксенова в молодости и многолетний антагонист – на всю оставшуюся. Сделаем, впрочем, поправку на традиционную озабоченность Куняева «еврейским вопросом», на четкий водораздел «свой-чужой» в его сознании, да и попросту «личняки». Тем не менее: «Однажды в конце 70-х годов, разговаривая с умным и достаточно ироничным Сергеем Наровчатовым, я спросил его: «Почему наша идеологическая система, всячески заигрывая до определенного предела с деятелями культуры «западной ориентации», снимая их недовольство всяческими льготами, зарубежными поездками, тиражами, госпремиями, дачами, внеплановыми изданиями, – почему одновременно она как к чужим относится к людям патриотического склада?» (…) Сергей Наровчатов посмотрел на меня мутными, когда-то голубыми глазами и без раздумья образно сформулировал суть идеологического парадокса: «К национально-патриотическому или национально-государственному направлению власть относится как к верной жене: на нее и наорать можно, и не разговаривать с ней, и побить, коль под горячую руку подвернется: ей деваться некуда, куда она уйдет? Все равно в доме останется… Тут власть ничем не рискует! А вот с интеллигенцией западной ориентации, да которая еще со связями прочными за кордоном, надо вести себя деликатно. Она как молодая любовница: за ней ухаживать надо! А обидишь или наорешь – так не уследишь, как к другому в постель ляжет! Вот где, дорогой Станислав, собака зарыта!»
Не так важно, говорил это Наровчатов или приписал ему такие речи задним числом Куняев; принципиальней, что рискованная параллель постоянно прочитывается и у Аксенова. Эротические игры с властью – распространенный его мотив – вспомним известный рассказ 1968 года «Рандеву». Квинтэссенция всех сразу «шестидесятников» – славный Лева Малахитов, кумир поколения, прибывает на свидание с некоей бронированной дамой, чтобы отвергнуть ее любовные притязания. Дескать, не раз высказывался уважительно, признаю некоторые ваши прелести, но – не поцелую!
Кстати, и Дмитрий Петров с отвагой неофита, и близкие поколению и явлению Кабаков с Поповым вновь пытаются разъяснить нам «шестидесятников» и снова вязнут в болоте необязательных дефиниций, прописывая по ведомству «шестидесятников» самую разную публику, полагая основным критерием 30-е годы рождения. (Любопытно, что и пелевинские биографы по тому же принципу набили ему в вечные спутники всю первую сборную олигархов.) Забывая, что сам Аксенов в «Таинственной страсти» (с подзаголовком «роман о шестидесятниках») остроумно обозначил в качестве общего знаменателя – тусовочный принцип. По сути, он говорит об одной литературно-застольной компании с чадами и домочадцами, первые пять-шесть имен всплывают сразу, это ближний круг, затем круги расходящиеся – Окуджава, Высоцкий, физики Дубны, художники Манежа, собутыльники Коктебеля…
Но вернемся в «оттепельный» Кремль. Кабаков с Поповым пересказывают знаменитую Хрущ-party своими словами, и куда-то улетучиваются легкость, обаяние, юмор – как будто оба сдают зачет по истории партии.
***
«Метрополь», конечно, щедрее хронотопом и последствиями; не случайно и в ЖЗЛ, и в диалогах он занимает центральное место – интонационно и композиционно.
Дмитрий Петров опять же добросовестно дает небогатую хронику (от транспортировки плиты альманаха в Союз писателей до аксеновского отъезда) вперемежку с мемуарами участников метропольского скандала – даже Феликс Кузнецов подробно высказывается. Во всяком случае, Аксенов для него был и остался «Васей», хотя себя в Фотии Фекловиче Клезмецове, ренегате и стукаче из «Скажи изюм», он не признать никак не мог…
Попутно, кстати, Дмитрий Петров разоблачает известный околометропольский миф, запущенный, к слову, тем же Станиславом Куняевым, – о том, что гнобили альманах главным образом писатели либеральной ориентации. А государственники, мол, брезгливо умыли руки. Простым перечислением имен выступавших там и сям по метропольскому поводу литераторов (а отметились многие) биограф стирает демаркационную линию между западниками и почвенниками, на момент 1979 года еще вполне штрих-пунктирную.
Примерно о том же («да я уж сто раз рассказывал!») Евгений Попов, с понятными акцентами в принципиальных для него моментах – силовыми линиями в треугольнике КГБ – ЦК КПСС – Союз писателей, благородством Аксенова («он повел себя как старший брат!»), конфузливым камуфляжем наиболее пикантных и совершенно, на сегодняшний взгляд, проходных эпизодов, вроде переброски альманаха за рубеж… Или вот такое замечательное, трогательное наблюдение:
«Весь «Метрополь» вершился в антураже романтических отношений. Инна Львовна Лиснянская и Семен Израилевич Липкин именно в это время оформили свои многолетние отношения, Фридрих Горенштейн нашел свою рыжую Инну, а Вася сочетался законным браком с Майей. При свидетелях, каковыми были Белла Ахатовна Ахмадулина и Борис Асафович Мессерер. (…) Я, кстати, забыл сказать, что и сам именно тогда встретил свою будущую жену Светлану. (…) Может, еще и поэтому «Метрополь» занимает такое важное место в жизни каждого из нас. А не только потому, что мы занимались делом, запретным в советской стране».
В этом смысле воспоминания Попова интересней сравнить не с кузнецовскими и куняевскими, а с не менее эмоциональными метропольскими заметками Виктора Ерофеева. В книге «Хороший Сталин» креативщик «Метрополя», похоже, расставил знаки окончательно, во многих принципиальных моментах оппонируя Евгению Попову – товарищу и, так сказать, подельнику.
Ерофеев на голубом глазу проясняет контрабандную логистику: как передавали и кто провозил. Далее: «игра Аксенова на отъезд, ослабившая наше единство» (каковую игру Попов категорически отрицает) и «мои друзья по «Метрополю» не заметили подвига отца» (исключения – Ахмадулина и Высоцкий). Искандер, встреченный в Коктебеле, – «не скажу, чтобы он нам сильно обрадовался». Он же, равно как Ахмадулина и Битов, «нас осмотрительно послушались» (Ерофеев и Попов призывали «с очень легкой долей иронии» оставаться в Союзе писателей). Ну, и плюс Фридрих Горенштейн, названный почему-то Генрихом.
Установка Ерофеева на торпедирование метропольского мифа понятна – ибо центральным героем этого мифа был и остался Аксенов. А не Ерофеев, который придумал альманах и чей отец заплатил за «Метрополь» дипломатической карьерой… Однако разрушение мифологического подтачивает и человеческое. Сравним два отрывка из одной роуд-муви.
«Мы втроем (Аксенов, Попов и я) отправились в Крым на зеленой аксеновской «Волге». У Аксенова есть прозрение: Крым – это остров. Попов, назначенный нами поваром, проспал всю дорогу на заднем сиденье, освобождаясь от метропольского стресса. Мы с Аксеновым вели машину попеременно. Аксенов крестился на каждую церковь – он был неофитом. У него было чувство, что КГБ хочет его физически уничтожить. Майя, чтобы его спасти, предлагала уехать из страны. Об этом шла между ними речь в Переделкине, на его новой литфондовской даче, когда мы все напились…» (Виктор Ерофеев. «Хороший Сталин»).
Евгений Попов: «Едем мы втроем в Крым после жуткой зимы 1978/79-го. Мы с Ерофеевым все время предаемся различному выпиванию и беседам на довольно, я бы сказал, скользкие и грязные темы, употребляя полный букет ненормативной лексики. Василий нас слушал, слушал, ведя машину, а потом и говорит: «Вы что лаетесь, как пэтэушники? Фразы у вас нет без мата!» И это он, которого обвиняли в обильном использовании в тексте нецензурных слов и шоковых ситуаций. (…) Мы когда ехали в Крым весной семьдесят девятого, то Вася бесконечно крутил в машине Высоцкого. Подпевал, как мог, услышав «Баньку по-черному»…»
Очевидная разница между суетливо крестящимся параноиком-подкаблучником и хорошим старшим товарищем, подпевающим мужественной «Баньке», легко проецируется и на самих товарищей мемуаристов…
Аксенов, настоящий мастер имен и названий (эталонные «Звездный билет» и «Остров Крым» ушли в народ, масскульт, коммерческую топонимику), наверняка бы оценил оглавление в книжке Кабакова – Попова. «Аксенов-блюз», «Мы, подаксеновики», «Православие и вольтерьянство христианина Василия Аксенова» (вот только первая глава – «О чем, собственно, речь?» – вызывает в памяти метропольский опус Феликса Кузнецова с «блатным», по выражению Евгения Попова, названием «О чем шум?»). Есть и такой заголовок: «Аксенов и начальники страны». А ведь и действительно: Василий Павлович чуть ли не единственный русский писатель, оставивший в таком количестве портреты и наброски этих начальников. В наличии вся большая четверка советских вождей: Ленин («Любовь к электричеству»), Сталин («Московская сага», «Москва Ква-ква»: надо сказать, что это, по сути, один роман; «Москва Ква-ква» – явно избыточный эпилог к «Саге»: завороженность либерала Аксенова позднесталинским имперским стилем требовала выхода. А может, он так избывал ностальгию).
Хрущев («Ожог», далее везде), Брежнев («Скажи изюм», «Бумажный пейзаж»). Плюс крупнейшие деятели, у которых вождями стать не получилось, – от Троцкого и Берии в той же универсальной «Саге» до некоего прото-Ходорковского в позднем романе «Редкие земли».
Интересно, что Пелевин по этому параметру почти догоняет Аксенова: не чуждый историософии, в разных текстах он подкрепляет свои рискованные концепции эзотерическими практиками советских вождей. Там, где не хватает фактуры, берет количеством: вспомним пародийную версию о семерых Сталиных в рассказах из «Синего фонаря»…
***
Однако при всех подобных исходниках Аксенова трудно назвать политическим писателем. Дело вовсе не в том, что политический идеал Аксенова мерцающ и расплывчат, а в его мировоззрении явно преобладает идеал эстетический (вот тут как раз – тема для дискуссии).
Мы подошли к моменту ключевому: разделению русских писателей на два весьма условных, но принципиальных вида. Магистральная тема авторов одного типа – отношения человека со временем. Тут я выстрою весьма произвольный и субъективный, но глубоко родственный для меня ряд: Владимир Маяковский, Михаил Шолохов, Валентин Катаев, Иосиф Бродский, Дмитрий Быков.
Для второго типа куда важней отношения с пространством. Можно было бы даже сказать, что тема времени делает писателей великими, а тема пространства – культовыми, ибо ко второму типу, безусловно принадлежат Василий Аксенов и Виктор Пелевин.
Много сказано об эскапизме Аксенова; побег он предпочитает всем прочим стратегиям. Но если чем можно объединить все его ранние сочинения, от «Коллег» до «Затоваренной бочкотары», – так это центробежностью, всеобщей роуд-муви. «Ожог» тоже имел бы все шансы получить в подзаголовок «роман-путешествие», естественно, не в одном только географическом смысле. Вершина тенденции – «Остров Крым», где историю и политику подменяет гравитация – эсхатологическое движение материка и острова навстречу друг другу.
Общее место: в «Острове Крым» Василий Аксенов конструирует «идеальную Россию» – экономически развитое, процветающее общество, открытое и свободное (даже с явным переизбытком демократии). Одна из первых примет которого – необычайно продвинутые медиа. Многие на полном серьезе полагают, будто, придумав вездесущий канал Ти-Ви-Миг, с его агрессивными технологиями, Аксенов угадал скорое появление монстров Би-би-си и Euro-news. Однако за четверть века до Василия Павловича у Николая Носова, в «Незнайке на Луне», может, немногим менее вкусно, описан тот же медийный прорыв – с мазохистским рвением репортеров дать «конец света в прямом эфире» (сцена победы земных малышей над лунными полицейскими, посредством невесомости, под воздействие которой попадают и журналист с оператором). Плюс – обилие рекламных вставок, с явным преобладанием «джинсы». Правда, лунное ТВ, в отличие от остров-крымского, изначально подвержено цензуре – впрочем, не тотальной, а скорее ситуативной и коммерческой. Форматной.
На мой взгляд, России в «Острове Крым» даже меньше, чем в «американских» романах Василия Павловича. Модель Аксенова – чисто футурологическая (отчего она гибнет – другая история). И наверное, ошибаются те авторы, которые полагают ключевым в ОК – ностальгический мотив. «Осколок старой России» и пр.; модернизированный романс «Поручик Голицын» в прозе. (Концепция Александра Кабакова, кстати.) Собственно, и сам Василий Павлович четко указывает: залог нынешнего процветания острова в экономическом плане – своевременно проведенные реформы, а в политическом – отстранение от власти Барона (судя по всему, Петра Врангеля) и других «мастодонтов» Белого движения. Это не ностальгия, а ее преодоление, модернизация.
Поэтому у русских читателей всегда был велик соблазн спроецировать аксеновский ОК на реалии посткоммунистической России. Что при Ельцине, что при Путине.
Однако, кроме того же «поручика Голицына» (в широком спектре русского шансона, опереточного дворянства с казачеством и геральдического постмодерна) да примет общества потребления (Аксенов своими «Елисеевым и хьюзом», «Ялтой-Хилтоном» и пр. попал в десятку «Калинки-Стокмана» и «Рэдиссон-Славянской» – впрочем, не бином Ньютона), проецировать на Россию особо нечего. Более того, миры острова Крым и РФ околонулевых даже не параллельны, а вполне альтернативны.
Аксеновская фантазия на темы острова-государства (любопытно, что антисоветчик Аксенов выглядит здесь прямым наследником Томаса Мора и компании социальных утопистов, чьи юдоли равенства и братства имели четкую географическую прописку, нередко островную) предвосхищает не новую Россию, а нынешнюю объединенную Европу. С ее курортным процветанием, апокалиптическим потреблением, смешением языков, идеологическим диктатом леваков-социалистов, беспомощностью перед лицом как мусульманского нашествия, так и своих доморощенных вывихнутых террористов Иванов Помидоровых-Брейвиков. Лучниковская Идея Общей Судьбы – синоним европейской мазохиствующей политкорректности. (Кстати, в этом ключе характерны антиисламские настроения позднего Аксенова.)
Рискну предположить, что сегодня «Остров Крым» звучит куда современней, чем на момент написания, не говоря о том, что это просто превосходная проза. Как ни странно, Кабаков и Попов, безусловно отдавая роману должное, отводят ему особое, но отнюдь не вершинное место в аксеновском творчестве. «Там нет старика Моченкина!» – восклицает Кабаков. (Моченкин – фольклорный стукач из «Затоваренной бочкотары».) На самом деле, конечно, есть, поскольку стукачи у Аксенова везде: неопрятный конвойный ветеран дядя Коля, приставший к партийцу новой формации Марлену Кузенкову на Калининском… Но проблема не в Моченкине: столь осторожное отношение к главному аксеновскому роману, похоже, диктуется играми писательской подсознанки. Тут и сложное чувство к безусловно состоявшемуся бестселлеру, и понимание, что Аксенов «Острова» принадлежит сразу всем, а не поколению, кругу, тусовке… Впрочем, это всего лишь моя версия.
Отдельная история – этапная, как бы там ни хихикали, «Московская сага». Историко-политический роман и семейная эпопея может быть квалифицирована и как книга, сделанная практически на стыке географии и биологии, о самом феномене российской щелястости. Когда мощный тоталитарный пресс если не уравновешивается, то смягчается довольно разветвленной сетью щелей и нычек по всему российскому пространству – это и профессионализм, и семья, и искусство, и альтернативные практики с иерархиями, и – на самый крайний случай – кармические перевоплощения…
***
Виктор Пелевин – также писатель пространств. Не важно, идет ли речь о реальных территориях, восприятие которых искривлено наркотическим трипом, парадоксально-ревизионистским концептом, а то и авторским произволом. Или о насквозь выморочных вселенных, отстроенных под кокаином каким-нибудь Григорием Котовским по лекалам криминального прошлого…
Характерно, что продуктом преодоления писательских кризисов с дефицитом идей и сюжетов у Пелевина становятся сборники («П5», «Ананасная вода для прекрасной дамы»), в которых он с неумолимостью атомной взрывной волны разбрасывает персонажей во все стороны света, этого и того – от райских кущ до адовых кругов.
Еще один признак пресловутой культовости: каждая следующая книга всегда задает новый уровень отношений автора и героев с реальностью. Подобный подход, скорее интуитивно, нащупали в своей книжке пелевинские биографы, травестировав его, однако, вкусовой меркой. Пелевинскую прозу они расположили по синусоиде – сначала, дескать, писатель двигал неуклонно вверх и укреплялся там, а потом, где-то после «Священной книги оборотня», пошли полуудачи и прямые провалы.
Собственно, нынешнее отношение к аксеновскому корпусу – практически аналогично: многие читатели, и отнюдь не только снобы и литераторы, весьма скептически оценивают Аксенова после «Острова Крым»: американские романы, вольтерьянские фантазии, позднекомсомольские кирпичи…
Вообще, велик соблазн провести параллели между некоторыми из текстов Аксенова и Пелевина: скажем, «Островом Крым» и «Чапаевым и Пустотой», поскольку Гражданская война – которая и не думала кончаться – общий сюжетный фундамент. Или «Ожог» с «Generation «П» – и фишка даже не в том, что оба романа – своеобразные библии поколений. Выясняется, что различия между людьми 60-х и 90-х – скорее не идеологические, но технологические, а объединяет поколения заурядный конформизм. Точней, сегодняшняя его модель, копирайт на которую по праву принадлежит «шестидесятникам»: желание жуировать и чегеварить одновременно.
Любопытно, что Пелевин раннего рассказа «Миттельшпиль» (о комсомольских функционерах, сделавшихся путанами), «Generation'a» и многих последующих текстов, где в качестве персонажей выведены российские олигархи, стал отцом-основателем литературной традиции, которой наследовал уже Аксенов в романе «Редкие земли» с его героями – олигархами комсомольского происхождения.
***
Но в рассуждении феномена культовости интересны не так сходства, как различия.
Лейтмотивом диалогов Александра Кабакова и Евгения Попова является мнение о Василии Павловиче как о вечном, статусном, эталонном Романтике – в жизни, любви, литературе… Возможно, именно поэтому сегодня категорически не читаются поздние романы Аксенова – где романтичен не столько фон, сколько тон. «Романтика уволена за выслугой лет», – цитирую Багрицкого, дабы не говорить банальностей о нашем насквозь неромантическом времени.
Поэтому главный писатель страны и русскоязычного пространства – Виктор Пелевин, чей цинизм – уже не мировоззрение и не поза, а способ мышления и высказывания. А констатация о цинике, как бывшем романтике, слишком известна.
Пока конспирологи от идеологии, литературы и власти пугают публику заговором и пугаются его сами, в координатах прозы Пелевина он давно осуществился, поскольку участвует в заговоре «все взрослое население России». Пелевин не идет к идеалу, он пляшет от печки идеала разрушенного, хотя и не всегда воспринимавшегося в подобном качестве (советский проект, а точнее – советское детство у Омона Ра и многих его сверстников; Серебряный век у Петра Пустоты; Литинститут у Татарского; родное, свое число 34 у банкира Степы; даосский Китай у лисы А Хули).
У Пелевина давно получилось всеобщий цинизм времени одомашнить и обжиться в нем, конвертировав в пространство прозы. Еще раз: цинизм его – вовсе не мировоззрение, а литературный прием, культурный код. Пелевинская интонация моментально узнаваема еще и потому, что это старая недобрая Экклезиастова мантра, сдобренная лошадиной дозой иронии. Он уже в начале пути осознал, как на такую интонацию легко подсаживаются, как она завораживает утомленным всезнанием и глубиной – не самой мысли, а заключенной в ней нравственной инверсией.
Потому так неубедительны финалы его последних романов (а вот малая проза неизменно хороша, ей не нужно движения, достаточно экспозиции «из ниоткуда в никуда»), потому что плодотворный на старте прием регулярно заводит в тупик. Виктор Олегович, безусловно, это понимает и предпринимает попытки избавиться от инерции. В последнем романе SNUFF он начинает движение в сторону весны, то бишь романтики. Явно устав писать книжки про поколение «П» и высказываться от имени этого поколения – а соблазна кукарекать во имя поколения он никогда не испытывал: хватало вкуса, таланта, мудрости и трезвости.
Круг замыкается, и сансара культовости выходит на новый виток. А нам остается констатация: диалектика перехода писателей пространств (географии) в литературные биографии сулит немало странных сближений и открытий о времени и о себе.
Процесс пошел, как говаривал начальник страны, которому, в отличие от многих коллег, так и не довелось пока сделаться полноценным литературным персонажем.
Дорожно-литературный рэп. Альбом «На океан», Рич + Захар
Захар Прилепин и Рич записали альбом «На океан». Эта вторая общая работа (первым был альбом «Патологии») дуэта знаменитого писателя и молодого рэпера, стала куда более щедрой по звуку и представительству: feat'bi, «совместки», с андеграундным бардом Бранимиром, рокерами Александром Ф. Скляром («Ва-банкъ» и прочее), Андреем Машинным («Машнин бенд»), Геннадием «Гансом» Ульяновым («Элефанк») и рэпером Хаски. Плюс Иван Охлобыстин, которого однозначно определить в актеры так же трудно, как в духовные лица.
Название пластинки, как успели отметить интервьюеры и рецензенты, отсылает к роману Леонида Леонова 1935 года, «Дорога на океан». (Собственно, в одном из клипов, снятых к выходу альбома – я о них еще буду говорить, – мелькают соответствующий леоновский том из собрания сочинений, подготовленного Прилепиным, и книга Захара о самом загадочном советском классике – «Подельник эпохи».) Однако речь не о каких-то прямых аллюзиях на любимого писателя одного из соавторов. Связь тут сложнее и гуще. Концентрация смыслов, подчас непростая для восприятия на слух, повторяет плотно подогнанную словесную механику Леонида Леонова. Действие романа «Дорога на океан» – романа железнодорожного, производственного, соцреалистического, но и фантастико-футурологического, вольно разворачивается сразу в нескольких временах и стихиях. Также – «На океан» – альбом road movie («как в романе Керуака, что это за станция/что это за танки, и что это за танцы») лирический герой которого, один на двоих соавторов – свободно путешествует не только в пространстве, но и во времени. В повести «Взятие Великошумска» главным персонажем, по сути, является танк, фронтовая тридцатьчетверка; у соавторов альбома танк, похоже, – любимое средство передвижения.
А главное, пожалуй, что очень по-леоновски – одновременно агрессивно и медитативно – разворачивается внутренний ритм альбома… Даже Александр Феликсович перевел свой былой и по-пионерски бодрый шлягер «Маршруты московские» в регистр шаманского камлания.
По части же аллюзий, или, выразимся ближе к рэп-стилистике, ссылок на авторитеты, в альбоме тоже все в порядке: прямым текстом рэпер 50 cent, поэт Рыжий (ноту фирменной, из Рыжего, пацанской городской печали можно услышать в щемящей, лиричнейшей композиции «Тепло»), прозаик Гайто. Есть и более гурманские варианты. Трек «Бей хвостом» пульсирует между полюсами – Янкой Дягилевой и Корнеем Чуковским. А, скажем, строчка «На КПП у рая на что будешь ссылаться?» (трек «На океан») отсылает к жестокой балладе Владимира Высоцкого «Райские яблоки».
Все помнят «Я входил вместо дикого зверя в клетку» Иосифа Бродского. В треке «Столица» Захар нобелеата не то чтобы переосмысливает, а с ухмылочкой передразнивает:
…столько раз я пытался полюбить этот город двадцать лет я был трезв и двадцать упорот снег летел у виска, сыпал дождик за ворот проходили века, теперь мне сорок.Прилепин заметно влияет и на Рича – талантливого и восприимчивого рэп-поэта. Обширный культурный багаж мэтра, а точнее – его давнее увлечение поэтикой Анатолия Мариенгофа, явно отзывается в строчках младшего соавтора (изящная рифмовка с разносом ударений):
Элитная бригада, танки, даги В сортире чей-то головой вытирали сапоги Задроты заполняли в ленинской бумаги Пока в сушилке пробивали лося с ноги. («В армии»)И уж вовсе пронзительно звучит имажинистская поступь Мариенгофа в упомянутой мной вещи «Тепло»: «Ночь, как слеза, вышла из глаза. / По крышам сползла, как по ресницам. / А я будто снова родился, как Лазарь. / И мертвый поэт красив на страницах» – грифельная зарисовка, портрет Анатолия Борисовича.
Отмечаем еще одно соединение стихий, на поверхностный взгляд несоединимых: интеллектуализма и «ватничества». Мой товарищ, журналист Алексей Иванов, молодой человек с куда более чутким, нежели у меня, к рэп-культуре ухом, прослушав альбом, обнаружил уровень троллинга, восходящий чуть ли не к блоковским «Скифам»: «Кстати, программная первая песня, «Тебе понравится». Там, где «наша идея – икона, бердана, кагор и топор». Все вот это заветное евразийство: да, мы дикие скифы, у нас тут свой сельский панк. Ну, то есть продолжение истории с «пора валить» и линией ватников. Сознательное снижение образа».
Переклички знаковые. Мне приходилось говорить, что Захар Прилепин, этот имперец, патриот, символ «ватничества», он, по стилю существования – вполне западный тип художника: the artist.
Этот его магистральный парадокс ускользает от отечественной интеллигенции, а наиболее проницательных оппонентов Прилепина неизменно обескураживает. Но ведь и действительно – прорывы Захара из литературы и политики в музыку, будь то карнавальный рок «Элефанка» или социальный рэп, – явно вне русской традиции, однако убедительно рифмуются с американским битничеством и вообще имеют штрихпунктирный голливудский контекст.
Но из этого парадокса вытекает следующий, и маятник опять возвращается. Почти весь заметный русский рэп патриотичен по определению, невзирая на географию, – тут и бакинский «Каспийский груз», и Типси Тип с Украины, и даже живший в Лондоне Oxxxymiron. Но патриотизм этот, надо сказать, статичен – рэперы любят Россию по-розановски, за сам факт ее существования, как крестьянские поэты есенинского круга, – со всеми ее тяготами и несовершенствами. В этом смысле русские рэперы – публика, как ни странно, весьма архаичная; «утром в газете – вечером в куплете» – это не про них, если мы имеем в виду газету «Известия», а не газету «Жизнь». Актуального политического высказывания от этих ребят дождаться трудно; впрочем, подобная история не только про рэп.
В альбоме «На океан» метафизическая Россия приведена в соответствие с физическим, прямым действием. Тут начинают забывать, как заводятся танки:
Впуская чужеродных выправлять наши осанки лай собак, вой сирен наши ставки: или – или. если нас не взяли в плен, ждите новостей в эфире. («На океан»)Но, собственно, герой, живший в мегаполисах и казармах, готовый мотаться (и мы знаем, что в случае Захара, да и Рича, эта готовность легко переходила в «пацан ответил») по фронтам и задымленным пограничьям, всегда помнит, что основная работа впереди, дома:
Нас не пригласили в момент дележа, и странно, но правда: мы зла не держали, в том же году я оставил рифмовку и выбрал иную стезю и сноровку, железо и тир, где душа опростилась, но знал: пригодится, и, да, пригодилось, кого обвинить – на всяком вина ведь, но знаешь, что здесь особенно скверно, целую жизнь изведешь, чтоб исправить то, что пришло в девяносто первом. («В 91-м»)А не менее программный трек «Серьезные люди» (которые «испортили мир») – это не только антикапиталистический, нонконформистский манифест, но и сигнал опасности для некоторых. Поэтическая чуйка – куда более чуткий камертон времени, чем задницы миллионов обывателей.
P. S. Пару слов о клипах («Столица», «Серьезные люди», «На океан»), мини-сериале, снятом к презентации альбома. Энергичный и бодрый, хотя несколько разорванный сюжет, об охотниках за головами, сделавшихся добычей. Не обошлось без влияния «Русского подорожника» группы 25/17 – цикла сюжетных клипов, в чем-то авангардных, в чем-то содержательно традиционных, сопровождавших все треки уже ставшего эпохальным альбома. Плюс совсем недурное следование традициям Тарантино, балабановского «Брата» и лучших образцов современной документальной драмы. Операторская работа и монтаж (Влад Звиздок) – вполне на уровне, а некоторым находкам Влада я искренне аплодировал: персонажу с папиросами, похожему на Промокашку из «Места встречи». Или героям, наблюдающим кровавые дела рук своих через лобовое и заднее стекла раритетной «Волги», ГАЗ-24… Но главное даже не это – за довольно, при всем бутафорстве, зловещим содержанием такого кина, просматривается атмосфера дружества, злого веселья, молодой силы – чрезвычайно соприродные духу самой пластинки «На океан».
P. S. S. Захар стал лучше читать рэп – свободней и убедительней.
Дети Лимонова. Андрей Рубанов и Михаил Елизаров в малой прозе
«Я знал одно семейство – всех их звали Буратино: отец – Буратино, мать – Буратино, дети – тоже Буратино… Все они жили весело и беспечно…»
У Эдуарда Вениаминовича Лимонова (Савенко) детей двое, мальчик и девочка, Богдан и Александра. Оба пока в том возрасте, когда трудно понять, станут ли они в будущем русскими литераторами или выберут иное поприще.
Литературных отпрысков у классика много больше – и сегодня мы поговорим также о двоих. Может, здесь количественная рифма к Богдану-Александре, а может, и потому, что у них вышло по книге, во многом похожих одна на другую, и – куда больше – повторяющих писательский дао и приемы Лимонова, ретранслирующих саму личность прославленного папаши.
Речь идет о сборниках Михаила Елизарова «Мы вышли покурить на 17 лет…» (М.: Астрель, 2012) и Андрея Рубанова «Стыдные подвиги» (М.: Астрель, 2012). Уже на этапе выходных данных Лимонов вспоминается, в его текстах издательские хлопоты – вполне художественный материал; литературные авторитеты и друзья чаще определяются не поколением и направлением, а «нашим общим издательством».
Из авторских предуведомлений: «В книге нет ни слова правды» – Елизаров, кокетливо. «Герои и события не вымышлены. Все совпадения не случайны» – прямодушный Рубанов. Воля ваша: но в таком анонсировании, хоть в ту, хоть в другую сторону, последнее время становится все больше дурного тона. Ну да, есть в современной русской прозе такая магистраль (проложенная, в первую голову, тем же Лимоновым) – автобиографическая, или, проще говоря, «про себя».
Это вот «про себя» на обложках было бы честнее и стилистически безупречней.
Впрочем, наши авторы – ребята искушенные, умеющие разбавить прием и вывернуть форму. В сборнике Михаила Елизарова восемь штук рассказов можно маркировать как автобиографические и только три – как беллетристику. Рассказ «Рафаэль» – серединка на половинку, там о себе – в третьем лице и как бы со стороны (прием, распространенный среди писателей и неформалов определенного типа; у того же Лимонова, скажем, «Укрощение тигра в Париже»: там герой представлен Эдвардом в первом и Писателем в третьем лице).
Аналогично – у Андрея Рубанова – там корпус рассказов внушительней, а чистой беллетристики, без участия Андрея Рубанова – всего два – «Гад» и «Яшка», последний и вовсе не про людей, а из жизни одноименного воробья.
Наследник по прямой – конечно, Рубанов – у него и опыт почти лимоновский (работа, война и тюрьма, пока без политики, но какие Андрея годы), и ценностный ряд от Эдуарда Вениаминовича – скорее позднего, нежели раннего, плюс важная категория литературной плодовитости. Фраза его порой непобедимо лимоновская, в концентрации, близкой иногда к пародии, но странным образом исключающая мысль о заемности и эпигонстве: поскольку живая, рождается в самом читательском сознании, подталкиваемая неумолимой логикой жизнестроительства, оппонирующего жизнеподобию.
Тут чуть ли не с любого места: «Главное – обязательное наличие юных визжащих девок. В начале истории девки неприступны, красиво одеты и ярко накрашены. Во второй половине фильма они должны орать и размазывать тушь по щекам, и мокрые фуфайки обязательно должны облеплять обильные сиськи с твердыми сосцами» («Пятница, 13-е»).
«Физиология разладилась; я посещал туалет по пять-шесть раз в день, оставляя после себя жидкие цыплячьи испражнения. (…) В машине все время орал Мик Джаггер – он знает, что такое истерика, и я, сам взвинченный, спасался взвинченными песнями взвинченного певца» («В бегах»).
«Конечно, если бы эта Эммануэль вылезла, ногами вперед, из телевизора и предложила мне себя – я бы не отказался. Но Эммануэли не приходят к двадцатилетним дембелям из фабричных городов…» («Под Микки Рурка»).
Кстати, вот и отличие богатого наследника от литературного родителя – Рубанов во всем, что касается секса, суров и целомудрен, как дон Корлеоне. Дело даже не в том, что герой «Стыдных подвигов» – Андрей Рубанов – сбивчиво декларирует, какой он примерный семьянин. Но, опять же, в самой природе его писательства. В рассказе «Под Микки Рурка» он добивается нешуточного эротического напряжения скупыми средствами – детали одежды (важен цветовой набор), диалоги, смысловые пустоты в нужных местах… Но эротика эта явно не достигает даже приграничных областей софт-порно…
Порнография хороша как метафора; литературные рубановские сверстники и отчасти родственники (по Лимонову), в своих знаковых вещах – «Черная обезьяна» (Захар Прилепин), «Информация» (Роман Сенчин) дают вводные эссе о порно – дабы замерить уровень распада в сознании героев – кормящихся от журнализма хипстеров (см. мою статью «Порнография со смыслом»).
У рубановского же протагониста – битого жизнью не мачо, но мужика, которому, при любых обстоятельствах трудного бизнеса жизни, до распада далеко – задача иная: в каждом рассказе он себя вновь и вновь собирает. Конструктор, а не деконструктор.
Занятно, что в очень рубановском рассказе «Дом» Михаил Елизаров, повествуя о родном Харькове (и не только ему, Михаилу, родном), тоже весьма и неожиданно целомудрен в эротике и эрекции – последней атрибутировано свежее сравнение: «Он ощутил, как внизу загудела настойчивой басовой струною похоть». Потом, правда, с басовой струною начинают происходить вещи неприятные, но предсказуемые – возраст, стрессы, алкоголь…
Вообще, возвращаясь к Рубанову, «Стыдные подвиги» – книга замечательная, цельная и ровная, некоторые рассказы, особенно начальные (к финалу и в погоне за современностью Рубанов немного сдувается), – попадут в топы русской короткой прозы.
Однако феноменология в другом – помните у Мандельштама о Зощенко, из «Четвертой прозы»? Конечно, помните: про «Библию труда», города и местечки Советского Союза, памятник в Летнем саду.
«Стыдные подвиги» – такая вот мини-библия, даже скорей семейная библия труда. Тут не как у Зощенко (и Мандельштама) роем и гуртом что-то важнейшее созидают «средние люди». Работает, на производстве и на себя, сам Андрей Рубанов (работает солдатом, бизнесменом – криминальным и мелким коммерсом; работает каратистом над растяжкой – «Ногой в голову»; работает холостяком – «Новый год в Коломне»; а какая нежная песнь работяге-«газели» звучит в рассказе «Грузовик»!). Упоенно трудятся, подчас даже убедительнее героя, его близкие, поскольку его труды – предмет писательской рефлексии и нуждаются в оправдании, а их – нисколько.
«Можно, конечно, было представиться не студентом, а плотником-бетонщиком второго разряда (так записано в трудовой книжке) или, например, такелажником-стропальщиком, но я давно скрывал свою профессию. Почему-то никто не верил, когда я рекомендовался плотником-бетонщиком. Смеялись и даже обижались всерьез.
Видели б вы мою опалубку, мою обвязку, трогали бы вы сырую монолитную стену в тот момент, когда с нее едва содрали деревянные щиты! Это не смешно. Это, черт возьми, очень серьезно» («Под Микки Рурка»).
«Кстати, самая главная – олимпийская – дистанция для ходоков составляет пятьдесят километров. Обычно ближе к финалу спортсмен теряет чувство реальности, и на финише обязательно дежурят несколько карет скорой помощи: пройдя черту, впавший в прострацию ходок шагает дальше, никого не замечая, и в этот момент его, быстроногого, догоняют доктора, держа наготове шприцы.
Два или три года брат успешно «ходил», побеждая всех, кроме самых крепких. Сила воли считалась его самым главным козырем…» («Обыкновенный гений»).
Последняя цитата – не столько уже о труде, сколько о преодолении – постоянном мотиве у Рубанова, преодолении, которое почти всегда самоцельно. Как тут не вспомнить лимоновский вечный соблазн сверхчеловечности…
Мои любимые страницы романа «История его слуги» – именно о том, как Эдуард Лимонов работает слугой, хаус-кипером. Нет, когда он таскает девок в миллионерский особняк и разоряет хозяйский винный погреб или же общается с богатыми – отчасти из научного, отчасти из шкурного интереса, – это тоже замечательно, но куда вкусней и пластичней – покупка мяса в лавке братьев Отоманелли, зажарка стейков, да даже и поиск – с руганью и попреками – невыходных брюк хозяина…
В порноромане «Палач» – суть не в «любви с извращениями», а в буднях BDSM-профессионала, одно оборудование занимает не абзацы, а страницы. Там же, каково – «билль за электричество»!
В книге «Охота на Быкова» революционера Лимонова больше всего занимает, как его персонаж работал бандитом, а теперь трудится олигархом и политиком.
Специально беру у Эдуарда Вениаминовича не самые хрестоматийные примеры.
Впрочем, без хрестоматийного не обойтись: о том, как молодой Валентин Катаев приносит маститому Ивану Бунину новеллу с персонажем – декоратором, где есть несчастная любовь, кокаин, нету только… «Черт возьми, когда он будет у вас писать декорации!» – возмущается раздраженный классик.
Декорации – вечный дефицит в русской литературе, и потому для нее, нынешней, да и прежней, особенно ценно, что писатели Лимонов и Рубанов писать декорации умеют и любят.
Есть свои покушения на производственный роман и у младшего, Елизарова. Вплоть до прямых пересечений с рубановскими сюжетами. В заглавном рассказе «Мы вышли покурить на 17 лет…» герой (Мишаня, естественно) конструирует собственное тело в качалке, в рассказе «Дом» – не только, как я уже заметил, рубановском, но во многом параллельном Адольфычу, – со знанием дела рассказано о бизнесе. Есть деталь, логистика, точность, подчас виртуозная («В кулаках у Занозы резко потеплело – прихлынула кровь. Они, точно эрегированные, налились, увеличились в размерах – «встали» на Мозглявого»; «Заноза и Мозглявый») – но для библии труда мало прозы, нужна поэзия, другой словарь и темперамент, – одной технологией обойтись трудно.
И Елизаров добирает свое, чем умеет: портретами, речевыми характеристиками персонажей, то и дело ныряя в кладовку щедрой своей памяти, похожей не на рабочую бендежку, а уголок постмодерниста.
«Что я знал о дачах? Туда съезжаются гости. Там спорят, похожие на русалок, девки: – У кого лохмаче? – и неизменно побеждает Хозяйка дачи – у нее, как у героини фильма Тинто Брасса, Миранды…» («Дача»).
Воспоминания о прошлом, которого не было, – главный конек, да, пожалуй, и жанр прозаика Елизарова; самое сильное в сборнике – мотивы его лучшего романа – сектантского боевика «Библиотекарь»: «Рассветная Феодосия выглядела как город детства, который однажды напрочь позабыл. Точно много лет назад кто-то выкрал мою прежнюю жизнь, обесточил память, а сейчас она пробуждается болезненными всполохами узнавания – вот здесь, во двориках, играл в казаки-разбойники, тут из колонки тянул пересохшим горлом воду, по этой улице спешил в школу, помахивая портфелем. Вспомнились иные отец и мать, стены детской комнаты в цветочных обоях, сиреневые шторы, письменный стол…» («Зной»).
…А Катаев, Бунин и Мандельштам с Зощенкой тут вот при чем. Кажется, об этом еще никто не говорил – Эдуард Лимонов не заметил советской литературы, как Есенин в ранних 20-х – сухого закона. Оригинальнейшего поэта Лимонова сделал причудливый микс Блока и Хлебникова. Генезис прозаика Лимонова – сколько он яростно ни возражай – в советских 20-х, с их сплавом жестокости и сентиментальности, жгучим интересом к бойцам и дальним пограничьям. Великая эпоха.
Критик Роман Арбитман, рецензируя елизаровский сборник (Право на труп // Профиль. № 783), не поленился переписать с дюжину забойных метафор, но почему-то не определил их стилистическое происхождение. Вернее, определил, но не очень точно – приписав Елизарова в бастарды к русским символистам.
Елизаров: «Сердце лопнуло и потекло». Ну, разумеется, Исаак Бабель и его первый гусь: «…и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло».
Дальше, у Елизарова: «Маша, сложив брезгливой гузкой рот, виляла им во все стороны, точно обрубком хвоста»; «липкие пассажиры, скользкие и белые, как личинки»; «пылесос храпел, точно конь, пока давился резиновой падалью»; «маячили подъемные краны, похожие на виселицы из стрелецкого бреда»…
Это же Юрий Олеша, его краса и гордость – местами визгливая, самозаводящаяся метафора. Интересней как раз другое – там, где Елизаров твердо ведет сюжет и понимает труды персонажей, он легко и демонстративно обходится без физиологической и культурологической метафорики. Расчетливо скуп в средствах. Где фабулы – на пятачок, а персонаж один, и понятно кто, – разгоняет текст самоподзаводом. Порою да, на грани вкусовых провалов. Но и мастерства не пропивает, скорее наоборот…
Известно, отчего мучился и распадался писатель Олеша.
Главное впечатление от сборника Михаила Елизарова – писать он стал замечательно, и тут выяснилось, что писать ему уже особо не о чем.
В этом смысле «Мы вышли покурить на 17 лет…» – и впрямь книга перекура, и плохо, пожалуй, будет, ежели кокетливо-понтовое название станет хронологически пророческим. Проблема еще в том, что в писательском диапазоне Елизаров заметно уступает литературной родне. Андрей Рубанов умеет уходить в чистую беллетристику и даже фантастику (не всегда удачно, но умея не терять лица и уровня); Эдуард Лимонов давно предпочитает литературе политику. И даже не ее, но – само бремя русского сврехчеловека.
Оптимизм тем не менее запрограммирован – в последние годы в нашей литературе новеллистика делает уже не робкие попытки угнаться за романистикой (прежде всего в издательских и премиальных проектах). Обширный корпус рассказов Эдуарда Лимонова – в большинстве шедевров короткой прозы – задает планку; Михаил Елизаров и Андрей Рубанов каждый по-своему стараются до нее дотянуться.
Они, возможно, не первые, но уж точно не последние.
Итак, итог. Журналистика Александра Гарроса и Александра Гениса
Просто поразительно, сколько сходств открывается у двух писателей разных поколений – Александра Гениса и Александра Гарроса.
Они тезки, но это ладно, у них и фамилии почти одинаковые, а то, что у младшего подавил мягкие звуки грозный сдвоенный р-раскат, так это знак посуровевшего времени: сравните некогда воспетые Генисом (в соавторстве с Петром Вайлем) 60-е с 90-ми (реактивное топливо псевдо-тарантиновских романов Гарроса, написанных в соавторстве с Алексеем Евдокимовым).
И кстати, о соавторствах. Оба наших героя начинали писательскую карьеру в тандемах, однако еще любопытнее, что с распадом дуэтов и Гаррос, и Генис убедительно доказали свою литературную индивидуальность. По сути, их писательскую продукцию можно разделить поровну – на сделанное в соавторстве и созданное самостоятельно, и если не количественно, то в смысле качества результат будет примерно равным. Во всяком случае, никому не придет в голову шутить про орден покойника, как это бывало после награждения Евгения Петрова в конце 30-х.
Генис и Гаррос – рижане, Ригу они заявляют как единственную малую родину, без оглядки на место рождения и сегодняшнего проживания. Столица независимой ныне Латвии в воспоминаниях двух Александров – территория не ностальгического, но метафизического трипа.
Эссеистика Гарроса и Гениса восходит во многом к жанру травеолога, оба с огромным удовольствием и подробно описывают все по дороге съеденное и выпитое (Гаррос скорее второе, Генис – чаще первое)… Впрочем, тут уже надо начинать разговор про их новые книги – вышедшие синхронно в одном издательстве. Иначе к чему вообще городить огород – мало ли на свете похожих людей и даже писателей. Книги эти – «Непереводимая игра слов» Александра Гарроса и «Обратный адрес» Александра Гениса.
***
И вот тут надо бы зафиксировать близость рассматриваемых текстов, ибо она, разумеется, не ограничивается русской кухней в изгнании (либо в метрополии), или, скажем, либеральным мировоззрением авторов. Тем не менее предлагаю ненадолго отложить этот непростой вопрос и бегло пробежаться по самим текстам.
«Непереводимая игра слов» – стянутый не столько концептуальным, сколько хронологическим (тексты последней пятилетки) и технологическим (публикации в «интеллектуальном глянце» – «Сноб», GQ и прочее) обручем сборник журналистики одного из лучших отечественных стилистов. Обнаруживается интересное свойство времени в оптике Гарроса – совсем недавние годы с их событиями, страстями и людьми как бы безвозвратно перешли в историческое измерение.
И все же концепция мерцает, ее пробует сформулировать автор предисловия Дмитрий Быков, и стремительное быковское перо, по ощущению, здесь чуть буксует: «Его эссе – это не записки у изголовья от нечего делать, а приключения мысли. Я думаю, он это писал не только и не столько ради заработка, хотя журналистика для писателя как раз и есть единственно возможное подспорье, когда не пишется или мало платят за написанное. Просто однажды эссеистика и журналистика показались ему интересней прозы – и это важный тренд момента. Был период резкого изменения, перестановки акцентов: стало понятно про народ и про всех нас что-то, чего мы до сих пор не знали. И Гаррос выступил точным хроникером этой эпохи, – а художественное мы про нее напишем, когда она закончится».
Сам Гаррос куда скромнее и мотивирует появление книжки понятным и естественным желанием спасти тексты от стремительного булька в Лету: «Срок полноценной, достойной жизни газетной статьи и в прошлую-то, великую бумажную эпоху исчислялся максимум днями; журнальной – в лучшем случае неделями. Интернет разгоняет медийный метаболизм до нечеловеческих скоростей и вносит мизантропические правки: рыдай, газетчик, – теперь твоя заметка <…> сплошь и рядом мертва еще до того, как ее вообще хоть кто-то прочтет. Иногда – прежде, чем ее хоть кто-то напишет».
Конечно, тут есть простительная толика кокетства. Эссеистика, притворившаяся журналистикой, – мой любимый жанр, и я не один такой.
Журналистика, однако, притворяющаяся чем-то другим или остающаяся собой, жанр по-своему тоталитарный, здесь тенденция всегда кладет на лопатки автора. Что напоминает цирковую французскую борьбу начала века; договорняк – непременное условие шоу. И надо ехать в Гамбург, чтобы установить подлинные ранжиры и иерархии. Потому журналисты мечтают сбежать в литературу, этот Гамбург высокого национального статуса, вот только Гамбург с его трактиром тоже выдуман журналистом и литератором Шкловским.
Впрочем, иногда журналистика с ее жульничествами и уловками – лучший друг и соратник идеологизированного борца. Вот Гаррос пишет, искренне огорчаясь: «Ну да, мне, например, хотелось думать лет пять назад, что мой добрый приятель Захар Прилепин, – это человек-мост, один из тех, кто соединяет собою такие взаимно непримиримые, но такие зеркально схожие, такие живущие на разрыв, но такие нерасчленимые, сиамские берега – берега русских «либералов» и «патриотов»; а Прилепин с тех пор не только выбрал свой берег из двух, но и многое сделал для того, чтобы берега эти отодвинулись друг от друга на максимальное расстояние».
Ну да (это я не передразниваю), а другой соседний герой книжки Гарроса, художник, философ и многолистный (солженицынский эпитет) прозаик Максим Кантор – он что, не выбрал (перебежав с одного на другой) и не отодвинул берег? И не может быть здесь упомянут хотя бы для равновесия?..
В свое время у меня была настольная книжка, о которой и сам автор, может, подзабыл. Вячеслав Курицын, «Журналистика. 1993–1997». Книжка эта – своеобразный эталон жанра, когда субъект (автор) и процесс – все, а объект (персонажи) и результат – ничто. Правда, подобный радикализм прояснился только со временем. Перечитываешь густонаселенную курицынскую книжку и в какой-то момент обнаруживаешь, что из ее героев, кроме автора, в относительной известности и еще более относительной адекватности сохранилось пять-шесть фамилий. И полторы-две жизненные реалии. Что ж, тем интереснее.
В сборнике Гарроса, почти про наше время, есть и сквозной сюжет – попытка соединить в экспозиции мифологического героя и отечественного производителя. Борца, гения. Победителя и пораженца в одном лице.
Гаррос пишет очерк про Алексея Германа (старшего и ныне покойного; эссе «Время Германа») на фоне «Истории арканарской резни», уже практический снятой, но еще неизвестной публике. Автор максимально сжато дает и производственный роман с камбэками и носорожий портрет мастера, с апелляциями к Майку Тайсону и Бобби Фишеру, и обязательную в подобных случаях философию о Стругацких и фашизме, и всенепременных Босха – Брейгеля…
В общем, не столько киноманеру Германа копирует, к тому времени похоронившую саму себя, сколько тяжело работает мускулами от забора и до обеда… Не зная результата. Но результат ему чрезвычайно важен, Гаррос ждет от этого кино примерно того же, чего Николай Гоголь от второго тома «Мертвых душ», – во всяком случае, присутствует знакомая экзальтация. Гаррос отнюдь не поборник мифа о Сизифе, как в оригинальном варианте, так и в интерпретации экзистенциалиста Камю. Результат, как мы знаем, все в курсе, воспоследовал, в прокате – под каноническим названием «Трудно быть богом», и… ну да, ну да. Вы меня поняли и печально вздохнули. Три часа бессмысленной ненависти к миру и человеческому в себе, да еще весьма слабо выплеснутой, с перерывами на никотиновый кашель.
Следующий очерк – о съемках «Сталинграда» («Баталист»), тоже на сегодняшний день давно и широко прокатанного. Роднянский, Бондарчук, безусловно, такой эсхатологический натуги нет, как в эссе о Германе, но многое преподносится чересчур торжественно – ожидание, придыхание… А результат… Ну, вы тоже все видели.
Другое дело, что для интеллигентного сознания случай Бондарчука – Роднянского выглядит катастрофичнее: если относительно Германа можно, чуть конфузясь, говорить о финальном шедевре и непонятом завещании мастера, то как объяснишь провал «Сталинграда»?
Вроде бы начав волшебной сказкой, Федор Бондарчук быстро перевел ее в сказку срамную, похабную. Это хорошо заметно, когда исчезают все мотивации, обнуляются действия, боевая работа предстает нагромождением чепухи и абсурда, и только для того, чтобы показать, когда и где могло случиться зачатие и почему у 70-летнего ребенка – пять отцов.
Думаю, Гаррос честно не хотел выкидывать слов из песен и рассчитывал в равной мере как на читательское одобрение, так и читательские смешки; сарказмы постфактума. Вот репортаж из осиротевшего после гибели хоккейной команды «Локомотив» Ярославля («Без команды»). Тут интересный слом канона – вроде бы по сюжету и объему должен быть один главный герой, и такой, разумеется, есть – «нападающий и моральный авторитет «Локо» Ваня Ткаченко». Но хоккеиста, красавца гагаринского типа, кумира мальчишек и тайного благотворителя – для статьи, так или иначе обличающей российские порядки и показуху, маловато будет.
Поэтому появляется резервный, зато вполне живой персонаж – кандидат в мэры Евгений Уралшов, на момент написания материала известный громким выходом из «Единой России». Далее, уже за пределами очерка Гарроса, бегущей строкой – в мэры Ярославля Уралшов действительно избрался; через год, летом 2013-го был арестован по обвинению в получении взятки, особо крупный размер, отстранен, Матросская Тишина, осужден в 2016-м на 12,5 года строгого режима. Естественно, что поначалу либеральные СМИ отчаянно шумели о «политической мотивированности» уралшовского дела; однако еще естественней, что политическая мотивированность вовсе не исключает реального мздоимства, либеральным СМИ это как раз очень хорошо известно, и о Евгении Уралшове забыли задолго до вынесения приговора. И пожалуй, книжка Гарроса – самое значительное упоминание об Уралшове за последние годы, и с еще более долгим послевкусием. А почему автор захотел его вставить в книжку, я (да и сам Гаррос) уже говорил.
***
Об Александре Генисе говорить куда труднее, поскольку говорить здесь, по большому счету, нечего. Его квазидовлатовская манера, та «легкость необыкновенная в мыслях» (за которой, безусловно, стоит долгая и тяжелая огранка стиля), не оставляет возможности дальнейшей, читательской, работы над текстом.
Сам Сергей Донатович (разумеется, один из героев генисовской книжки) в свое время отчеканил: «Отсутствие чувства юмора – трагедия для писателя. Вернее, катастрофа. Но и отсутствие чувства драмы – такая же беда (случай Вайля и Гениса)».
Собственно, это сказано даже не про Гениса с Вайлем (у того в книжках эссе «Карта Родины» и «Стихи про меня» драма без труда обнаруживается), а про феномен глянцевой журналистики вообще. (Кстати, Довлатова вполне уместно назвать одним из ее отцов-основателей.)
«Обратный адрес» – как я уже сказал, книга-травеолог, в мемуарном и отчасти мистифицирующем ключе. Чередуются, своеобразным нон-стопом, ландшафты и байки про них, портреты родственников и знаменитостей (которые в подобном контексте тоже вроде как родственники) и опять же байки про них. Не оставляет ощущение, что все это давно читано-перечитано, и не потому, что Генис компилирует новые тексты со старыми (хотя и поэтому тоже), а потому, что манера, доведенная до своеобразного и почти безжизненного совершенства, окончательно отправляет под лавку содержание и смыслы.
Собственно, литература Гениса сделана в формате МР-3, в первые тексты еще вслушиваешься, а дальнейшее (и нередко повторяющееся) идет фоном. С присущим данному формату отчасти пластмассовым звуком. Говорить о Генисе трудно, но им легко иллюстрировать особенности подобного рода журналистики/эссеистики. Например, Александр Александрович тоже пишет про Германа-старшего, который, разумеется, почтительно упомянут в издательской аннотации, в ряду Бродского и Довлатова. Правда, натуга тут невозможна – все результаты Генис с удовольствием фиксирует: на излете перестройки в царскосельском ресторане, совсем как при большевиках, обнаружились миноги, а еще через несколько лет Герман-старший завязал пить и признался президенту Ельцину, что Родину таки любит: «Как не любить?»
Единственное место в книжке, по-настоящему меня взволновавшее, – это мифология села Духовницкое в Саратовской области – поскольку я глубоко интересуюсь историей поволжского старообрядчества, а этот райцентр – один из основных в раскольничьем поясе Волги и Иргиза. Тут есть своеобразный символизм – пишет Александр Александрович чаще о краях далеких и экзотических (теперь Киев с Луганском, в силу известных причин, можно к таковым причислить), а интереснее то, что под боком. Необходимо процитировать. Речь идет о бревнах Ноева ковчега, обнаруженных русским авиатором В. Росковитским на Арарате и доставленных на Волгу в суматохе начавшейся революции.
«…Несколько уцелевших бревен ковчега сумели все-таки доставить на Волгу тайком от взявших верх большевиков-богоборцев. Об этом рассказал последний участник экспедиции солдат Федор Батов, скончавшийся в 1969 году.
– Чтобы скрыть от безбожных властей драгоценные бревна, – вспоминал солдат, – их использовали для постройки баржи купца Неметова.
Но вскоре судно отобрали, чтобы перевозить арбузы трудящимся. А в начале 1930-х баржа села на мель и вмерзла в лед возле небольшого приволжского села Духовницкое. Председатель райисполкома Безруков велел разобрать судно и построить здание школы из спасенных бревен. В этой сельской школе появились странные учителя, как-то: преподаватель трех языков бывший полковник царского Генштаба Михаил Золотарев, приятель Бунина филолог Ленге и Прасковья Перевозчикова, служившая фрейлиной у матери Николая П.
– Возможно, – предполагает волжский археолог-самоучка Алексей, избегающий называть свою фамилию, – в задачу именитых педагогов входил перевод рунических надписей.
Так или иначе, бревна ковчега оказывали бесспорное ментальное воздействие на учащихся школы. Из ее стен вышли 60 докторов наук и несколько академиков, включая физика Гурия Марчука, последнего советского президента Академии наук. Кроме того, в духовницкой школе учились 38 профессоров, 29 заслуженных деятелей науки и летчик-космонавт Александр Баландин. Большая часть ученых стала физиками-ядерщиками, вероятно, потому, считают местные, что ковчег был на атомном ходу… Я точно знаю, что все это – правда. Во-первых, с тех пор как в перестройку магические бревна растащили неизвестные, школа в Духовницком перестала поражать мир талантами. Во-вторых, в этой школе учился мой тесть Вениамин Иванович Сергеев, который звал себя Веня и был самым необычным человеком из всех, кого мне довелось встречать».
Бывают, разумеется, причудливые совпадения, но в «тестя Веню» я не слишком верю. Во-первых, истории о чудесной школе, построенной из бревен купеческой баржи, и редкостном урожае гениев давно кочуют по краеведческим сайтам. Во-вторых, еще в феврале 2012 года на довольно желтом портале «Московский монитор» был опубликован материал Платона Сергеева «Ежедневное чудо: Ноев ковчег», конспект которого, куда более совершенный по стилю, собственно, и предлагает нам знаменитый литератор Александр Генис (а он впервые опубликовал эссе «Семейное, или Ноев ковчег» в декабре 2015 года в «Новой газете»).
У Сергеева в «Мосмониторе» присутствует уже все – и авиатор, и руны, и арбузы, и купец, и анонимный археолог Алексей, и фамилии/титулы преподавателей, и букеты академиков, профессоров и космонавта. Несколько напоминающие шукшинскую статистику выдающихся земляков из рассказа «Срезал». (Кстати, Гурий Марчук – уроженец Оренбургской области – действительно начинал трудовую деятельность в Духовницком и, возможно, учился в легендарной школе, а вот космонавт Александр Баландин родом из подмосковного Фрязина, там и получил среднее образование.)
В общем, понятно. Хотите – называйте подобное плагиатом, хотите – очередным пересказом бродящей по свету байки, я же вижу распространеннейшее в современном журнализме явление – компиляцию. Наверное, для выкладывания очередных пазл-ковриков Генису уже мало собственных текстов, и в ход идут чужие – это я пишу, дабы не употреблять сочетание «гонит строку». Словом, момент показательный.
***
Обе книги, что ни говори, нужные и своевременные. Яркие фактурно, стилистически талантливые, занятно сконструированные, они объективно свидетельствуют о конце глянцевой журналистики в России, в том виде, какой мы знали ее более двадцати лет. С обильным либеральным словоговорением, призванным не столько разрешить, сколько заболтать «проклятые вопросы». С героями, которые уходят на огромные сроки и параллельно – в тотальное забвение, и поди определи, кто тут более жесток – власть, обрекающая на первое, или общество, приговорившее ко второму… С сатирически огромным зазором между многобюджетным процессом и провальным результатом. С МР-3-звуками, от пластмассы которых уже и собственным рукам противно. С пересказом тусовочных баек, а когда и этот, казавшийся неиссякаемым, ресурс, оказался исчерпан, в ход пошли перепевы «антологии таинственных случаев» из желтой прессы. Тоже по-своему верно: желтая пресса – обезьяна глянцевой и так же погружается в кризис.
Гаррос, безусловно, многое понимает, в том числе про конец глянца, и прибегает в своей портретной галерее к жанру иному, внежурналистскому – «утопии». (Подзаголовки его очерков – «Утопия Захара Прилепина: великая глушь»; «Утопия Славы Полунина: мельницы нирваны мелют медленно»; «Утопия Веры Полозковой: зарифмуй это» и прочее.) Однако утопия – это не только беллетризированные варианты трудовых книжек и перечня наград, даже не I have a dream, это, прежде всего, образ будущего, показанный через определенные социальные практики. Макет большого строительства. А вот это отсутствует совершенно; ибо сколь угодно яркий авторский стиль и глянцевый формат – весьма ограниченный инструментарий для стройки.
И вообще, какая, извините, стройка? Мы не про стройку, мы про дизайн и евроремонт. В лучшем случае перестройку. Горбачевскую или медведевскую. То есть про настоящее.
Однако иногда наступают времена, когда настоящее заканчивается – резко и оглушительно.
…Спасибо издателям и авторам – в книжном виде такие вещи нагляднее.
Чародеи и ученики. Виктор Пелевин и Дмитрий Быков
Есть, воля ваша, великий соблазн в попытках ранжирования художников по парам.
Гораздо больший, чем в распределении талантов по «стайкам» (Ю. Олеша), поколениям, направлениям, жанрам и «большим пожарам».
Видимо, в парности изначально заложен некий потаенный смысл, генетический код творения и грехопадения. Как сказал бы Дмитрий Быков, «все это можно долго и изобретательно обосновывать».
Кстати, Дмитрий Быков и Виктор Пелевин, являясь в современной русской литературе авторами наиболее влиятельными и авторитетными, остаются признанными одиночками, идущими никак не вместе, но другим путем. Более того, они вывешивают запретный кирпич после каждого этапа своего большого дао. Запрет не распространяется на эпигонов, но на них и все прочее не распространяется.
У Виктора Олеговича могут быть предшественники (всегда – достаточно произвольный подбор), море тех же самых эпигонов, но равных, по общепринятому мнению, нет.
Одно время писалось через дефис «Пелевин-Сорокин», но здесь медийное сознание, а вслед за ним и сознание массовое сыграли в гегелевское единство и борьбу противоположностей. Объектами похожей игры уже становились «Толстой-Достоевский», чтобы со временем превратиться в Толстоевского у Ильфа-Петрова.
Подобрать пару Дмитрию Львовичу мешают обстоятельства несколько иного творческого порядка: не внутренние, но внешние. Стахановская производительность Быкова-журналиста, монументальность Быкова-прозаика, академическая дотошность Быкова-биографа, активность Быкова как медийного персонажа предполагают, что его брат и сват по месту в словесности должен быть столь же возрожденчески продуктивен и общественно вездесущ. Обладая при этом сложившимся, однако весьма центробежным мировоззрением. Можно назвать его расплывчатым, а можно – недогматичным, прибавив сюда еретический пафос ниспровержения и возвеличивания по каждому второму поводу, иногда весьма суетливой смены знаков в применении к одним и тем же именам и явлениям. Именно это мешает поставить в один ряд с Быковым Захара Прилепина, схожего по многим позициям, однако идеология Прилепина, при всей широте взглядов, куда более цельная и просчитанная, не вольный парус, а запрограммированная машина, он не еретик, но миссионер.
«Пошли мне, Господь, второго, / Такого, как я и он». Как у Вознесенского в исполнении Высоцкого. А таких больше не делают.
Таланты приходят парами, как мизера, но куда более убедительными парами уходят. Мартиролог 2008–2009 годов, разбухавший так, что самый упертый атеист задумался о последних временах, все это впечатляющим образом продемонстрировал. (Десятый взял тайм-аут, хотя вот Ахмадулина-Вознесенский…) Для меня, например, совершенно очевидно, что Александр Солженицын и Егор Летов, ушедшие с разницей в три месяца, были фигурами равновеликими, чрезвычайно схожими по способу мышления, темпераменту, общественной роли, сыгранной при больших группах русских людей и даже целых поколений. И по-настоящему понять каждого из них можно, только написав исследование в жанре двойного портрета. Возможно, когда-нибудь я это и сделаю; мысль об этом странном сближении преследовала меня еще при жизни обоих.
Еще пара – Василий Аксенов и Майкл Джексон.
Может, все это и чепуха, а не чепуха – мое пожелание Пелевину и Быкову здоровья, многих лет творчества, чтоб жили долго и счастливо… Остальное – известно в Чьей компетенции.
***
Между тем, если подобно старику лошаднику из знаменитой буддийской притчи, пересказанной в том числе и Сэлинджером, отринуть внешние признаки и взглянуть на внутреннюю суть вещей и явлений, мы увидим: именно Быков и Пелевин составляют не только в литературе, а и во всей русской современности самую убедительную и, пожалуй, безальтернативную пару.
Я собирался писать рецензию на быковский роман «Остромов, или Ученик чародея», а параллельно читал свежего Пелевина, «Ананасная вода для прекрасной дамы».
Название, конечно, не бином Ньютона, оно прямо отсылает к стихотворению Маяковского «Вам!» 1915 года, не столько футуристическому, сколько хулиганскому, с тогдашним антигламурным пафосом: «Я лучше в баре бл…дям буду / Подавать ананасную воду». Функционал упомянутого напитка в одноименной книжке Пелевина аналогичен: банка ананасного сока забыта в некоем рублевско-сочинском антураже, после «распила» и неформального кастинга моделей. Любопытно, что если в прежних вещах (прежде всего «Чапаев и Пустота», «Священная книга оборотня») Виктор Олегович и обращался к опыту и образам Серебряного века, то преобладал там символистский набор (Даниил Андреев, одинаково важный для последних вещей Быкова и Пелевина, – законнейший наследник символистов). Поэтому апелляция к предреволюционному Маяковскому-футуристу выглядит в общепелевинском контексте довольно неожиданно и знаково. Интересно также, что Маяковский – постоянный персонаж Быкова, не только в публицистике – где у него почти все отечественные гении мелькают вполне регулярно и карнавально, очень характерен «Календарь» (М.: ACT; Астрель, 2011), – но и в прозе, где Маяк действует под именем Корабельникова. В «Орфографии» и «Остромове» Корабельников (Маяковский) и Мельников (Хлебников) тоже образуют своеобразную пару.
***
Так вот, в «Ананасной воде» уже на второй странице повествования появляется вполне прозрачный отсыл к Быкову, к названию его последнего романа. Герой части первой, «Боги и механизмы», Семен Левитан, пытается подражать своему прославленному однофамильцу: «Постепенно я овладел интонационными ухищрениями советского диктора, и иногда мне начинало казаться, что я настоящий ученик чародея…»
Хм… «Ученик чародея» – не сказать чтобы это расхожий языковой штамп, да еще в применении к «Советскому информбюро»…
Лыко в ту же строку – главный герой «Остромова» Даниил Галицкий (забавно, кстати, что его исторический тезка – символ сугубо прозападной ориентации в Древней Руси) – по авторскому разъяснению Быкова, близок Даниилу Хармсу и Даниилу Андрееву – поэту, визионеру, автору «Розы мира». В «Богах и механизмах» Даниил Андреев, под собственным именем, – один из носителей базового, сюжетообразующего знания.
И там, где Дмитрий Львович строит концепцию и конструкцию, архитектурную, проработанную, не нарушающую генплана, Виктору Олеговичу хватает двух абзацев:
«Как и положено всякому русскому духовидцу, Андреев-младший провел лучшую часть жизни в тюрьме. В ней он создал грандиозную духовную эпопею «Роза мира», где переписал историю творения и грехопадения в терминах, более понятных современникам Штейнера и Троцкого. Кое-какие сентенции Андреева о Боге я помнил. Но все дело было, как оказалось, в том, что он писал о Сатане, которого называл «Гагтунгр».
Описывая восстание Сатаны, он создал поистине величественный миф – им, очень может быть, начнут кормиться сценарные мафии западных киностудий, когда дососут последнюю кровь из вампиров. Андреев изобразил обитателей демонических миров с такой прозрачной ясностью, как будто сам долгое время жил с ними в одном доме на набережной. Но самое важное было в том, что он указал на связь главного демона нашего измерения, Гагтунгра, с товарищем Сталиным».
Из одной, хоть и явно не случайной, переклички писательского родства не вывести, но я продолжу «долго и изобретательно обосновывать».
Любопытно, что Пелевин и Быков близкие соседи по пограничным гороскопам – Виктор Олегович родился 22 ноября 1962 года, то есть является поздним Скорпионом, практически Стрельцом; тогда как Дмитрий Львович, родившийся в той же Москве 20 декабря 1967 года, может называться Стрельцом закатным, уходящим, персонажем знаменитого полотна Василия Сурикова.
Герой Быкова Остромов – масон, астролог и шарлатан, нашел бы здесь для себя немало увлекательного и спекулятивного; я лишь отмечу, что писатели, несмотря на небольшую, в пятилетку, разницу в возрасте, конечно, одному поколению не принадлежат. Советский период в этом смысле вообще не подчиняется мировым законам и календарным стратам. Тем паче в 60-х, когда год составлял целую эпоху…
62-й – это пик и высшая точка хрущевской оттепели, XXII съезд, Иван Денисович и Новочеркасск, битлы, роллинги и Мэрилин Монро (умерла), «Спартак» и Бразилия – чемпионы…
67-й – Брежнев уже без Шелепина, но с Косыгиным и даже Подгорным, Вьетнам и Чехословакия, «Дорз», гибель Че Гевары и космического корабля «Союз-1», пилотируемого Владимиром Комаровым…
Тем не менее в рождении и происхождении (родители обоих – преподаватели, учителя, педагоги) наших героев есть могучее объединяющее начало, сделавшееся главным, пожалуй, мотивом и мотором их творчества. Я говорю о цивилизации советского детства, бедной в быту, но щедрой знанием и эмоциями.
Виктор Пелевин в «Омон Ра», ранних рассказах, касаясь, осторожно и нервно, этого града и мира обреченных, выступал в несвойственном себе, сегодняшнему, амплуа тончайшего лирика и бытописателя бунинской, в цветах и запахах, школы. Именно на этом, глубоко родном примере, он учился мышечной энергии преодоления.
А лучше всего это констатировал, конечно, Дмитрий Быков: «Тексты его пронизаны той детской грустью, какая бывает, знаете, в сумерках, когда смотришь с балкона на людей, возвращающихся с работы. Эти взрослые, возвращающиеся с работы, и ребенок, который утром их провожает, вечером встречает, а днем обживает окружающее пространство, – стали потом главными героями лучшего из ранних пелевинских рассказов, «Онтология детства». Это было детство, понятое как тюрьма, – и что поделаешь, мир детства в самом деле нисколько не идилличен, свободы и беззаботности в нем близко нет, а есть тотальная зависимость. Но прелесть и трагизм пелевинского рассказа в том, что это адское пространство обживается у него как райское: ведь ребенок не знает другого мира. (…) Он способен изучать полосу цемента в кирпичной кладке, прислушиваться к выкрикам с далекого стадиона, изучать перемещение тени на полу – пусть даже это тень решетки…»
И еще пронзительней, в «календарном» эссе о прозаике и сказочнике Александре Шарове: «Тогда какой-нибудь зеленый вечер во дворе, когда все идут с работы, мог буквально свести с ума: двор разрыт, в нем, как всегда летом, переукладывают трубы, или мало что чинят, и в этих окопах происходит игра в войну. Потом всех постепенно разбирают по квартирам, но, прежде чем войти в подъезд, оглядываешься на дальние поля (Мосфильмовская тогда была окраиной), на долгостройную новостройку через дорогу, на детский городок, смотришь на небо и на чужие окна – и такая невыносимая тоска тебя буквально переполняет, ища выхода, что врезается все это в память раз и навсегда. Тоска – слово, так сказать, с негативными коннотациями, но есть «божья тоска», как называла это состояние Ахматова… это скорей радость, омраченная только сознанием своей невыразимости, и вообще особенно острое понимание собственной временности. То есть все вокруг очень хорошо, но ты не можешь ни этого понять, ни этого выразить, ни среди этого задержаться».
Эта литературоведческая лирика пронзительней многих страниц оригинальной прозы Быкова, и нас не должно смущать, что глубоко собственную, заветную эмоцию щедрый Дмитрий Львович атрибутирует разным авторам. Здесь не только признание в любви, но и ловля человеков, родственных душ.
(Чуткость к данному феномену была в известной степени присуща и упомянутому Егору Летову (1964–2008), чему свидетельство один из лучших альбомов поздней «Гражданской обороны» – «Звездопад», 2002 г.)
Показательно, что интонация и даже лексика заметок Быкова разных лет о Пелевине поразительно схожа с тем, как он пишет об авторах, в любви к которым признается априори, с детско-юношеского возраста: Новелла Матвеева, Булат Окуджава, тот же Александр Шаров… В разговорах о Пелевине Быков, пожалуй, даже более брутален: проявляется ревность. Из уже цитированного эссе 2002 года «ПВО»: «У Пелевина неприятные поклонники. (…) Каждый читатель Пелевина (особенно каждый писатель о нем) считает его своей собственностью, а свою концепцию – единственно верной».
Ревность эта, похоже, разнополюсна: Быков не столько спасает Пелевина от поклонников, сколько, не без самоиронии, пытается навязать пелевинским штудиям себя (может быть, есть в подтексте и кусочек зависти – читатель-собственник любимого автора – существо по нашим временам коллекционное, а читатели Быкова проходят по другому ведомству). Но в подлинности чувства не сомневаешься: правда и то, что Быков, успевший, и не по одному кругу, поменять знаки по поводу многих коллег, сохраняет в отношении к Пелевину трогательную роль адепта (а в последние годы – не без горечи, и адвоката) и почтительную дистанцию. Хотя она, учитывая масштаб нынешнего Быкова, едва ли оправданна.
Впрочем, роднит писателей не только прошлое, но и настоящее – тут я говорю не о времени, а о функционале.
Пелевин – точный и жесткий аналитик многогранной, но все более сужающейся реальности (место не общее, но тем же Быковым неоднократно постулированное). В последней вещи – все меньше метафор, пусть и прозрачно-грубоватых, все больше безжалостно-глумливого прямоговорения:
«В общем, заглянуть в темную душу генерала Шмыги я даже не пытался – хотя подозреваю, что там меня встретило бы близкое жестяное дно, покрытое военным камуфляжем «под бездну».
«Мне страшно было глядеть в оловянные глаза Шмыги, потому что его голова казалась мне дымящейся гранатой, из которой кто-то выдернул чеку».
«…Шмыга распорядился принести в тесную комнатку еще два стула.
– Ну что, мужики, – сказал он, когда мы сели. – Споем.
И сразу же затянул любимую песню разведчиков:
– С чего-о начинается Ро-о-одина…»
Как сказал один мой знакомый политик, 2010 год, помимо прочего, был интересен тем, что запел Владимир Владимирович Путин. А Дмитрий Быков, эдак походя, предсказал явление нового тенора: «Представьте, что на одной концертной площадке в России поет чудесно воскресший Карузо, а на другой – Владимир Владимирович Путин, и угадайте, где будет лом».
В публицистике (неприятное слово, скорей – социальной эссеистике) Быкова прямоговорения не меньше, меньше фирменной пелевинской брезгливости, однако подлинным аналитиком, на высоком градусе сатиры, Дмитрий Львович становится в своей газетной поэзии, стихотворных фельетонах и памфлетах, которые он сам называет «новыми письмами счастья». Здесь особой вехой стали 2009—2010-й (Быков возобновил сотрудничество с оппозиционной «Новой газетой»), годы, по всеобщему либеральному признанию, (вос?)становления «гражданского общества» в России.
Нельзя сказать, что раньше Быков (еще, конечно, Игорь Иртеньев и Всеволод Емелин) не писал остросоциальных стихов по ведомству «иронической поэзии» (он-то как раз и писал). Но тут, воля ваша, уже не до иронии. Если и стеб, то какой-то рубежный – «человечество, смеясь, расстается с прошлым». Смена вех, которая при определенном раскладе может обернуться меной всех.
Чуткий сетевой народ стремительно отреагировал на этот странноватый поэтический ренессанс и образовал вокруг поэтов-фельетонистов многочисленную аудиторию, куда там политехнической.
Поэзия, которая, казалось, из элитарного междусобойчика превратилась вовсе в поникший символ социального паразитизма, лузерства и маргинальства, вдруг развернулась, омужичилась, заматерилась и пошла сближаться с массами.
Высоцким повеяло, тем самым, золотым для Шевчука и других, русским роком 80-х. И все благодаря политическому моменту и новейшим средствам коммуникации. Ведь тыщи томов написано на умном постмодернистском арго, через который так и сияют очки и прыщи, а никто не оспорил еще: истинная поэзия должна быть не то чтобы глуповата, но понятна кому-то, кроме автора, смешна, жестоковыйна, на злобу дня.
Интересно, что и Лимонов, после стольких лет прозы и политики, тоже вернулся к стихам…
Пограничье жанров, однако, дает о себе знать – оба наших героя периодически сбиваются на юмористику почти эстрадного толка. Вполне кавээновские у Пелевина издевательства над рекламными слоганами и рыночными клише существуют внутри целой субкультуры, телевизионно-сатирической и фольклорной отчасти, как бы обозначая ее недостижимый для прочих потолок; при этом они всегда неравноценны и даже неадекватны самому веществу пелевинской прозы, выламываются из контекста – что-то вроде эрекции в храме.
Характерны пародии Быкова на сериалы и эпопеи, сценарии и синопсисы аналогичного замеса, авторские его анекдоты про великих, где вся фишка – от перенесения в современный контекст. Тут тоже, конечно, куда больше механичности и расчета на быструю и непосредственную реакцию аудитории.
Впрочем, «Ананасная вода» во многих смыслах, и прежде всего как раз в кавээновском, – строже и суше прежнего Пелевина. Запоминается едва ли не единственный афоризм в прежнем духе – «РАЗ НАДО – РОСНАНО!».
Кажется, никто до сих пор не замечал: для своих романов Дмитрий Львович один из главных приемов явно и демонстративно позаимствовал у Виктора Олеговича.
Сварливый гуру и наивный или, во всяком случае, до поры «не догоняющий» ученик-неофит, квазиплатоновские диалоги между ними, которые составляют основную ткань не слишком сюжетной пелевинской прозы. (В последних вещах роль учителя все чаще отводится завербованным спецслужбами «специалистам», которые – нечто среднее между массовиками-затейниками и нетрадиционными клерикалами.)
У Быкова в романах, главным образом исторического цикла, легко отыскать такую пару или сразу несколько, причем у Быкова цепочка подобных отношений – сюжет сам по себе самостоятельный, а подлинный гуру – чаще жуликоват, нежели одержим. В ЖД учитель со знаковой фамилией Гуров духовно окормляет жрецов противоборствующих лагерей за-ради главной своей цели – спасения коренного населения России, которое понимает через безмятежное угасание. В «Остромове» тандем Остромов – Галицкий продолжается странной дружбой Даниила Галицкого и мальчика Алеши Кретова, который, в свою очередь, продолжит эту учительскую генеалогию в «Оправдании», сделавшись наставником юноши Рогова, и умрет, не дождавшись наследников.
Кстати, раз уж заговорили об «Оправдании». Это, пожалуй, самый «пелевинский» роман Быкова, даже в интонации во многом унаследовавший манеру ранних рассказов Виктора Олеговича из сборника «Синий фонарь». Росли они тогда из одного Борхеса (даром что Быков его терпеть не может), и общие мотивы переплетались в единую печальную, страшноватую и заразительную мелодию – многовариантности истории на тропе к единому безнадежному финалу, бессмысленности любой жертвы, усталости и отвращения при любовании пограничными формами жизни (сектантскими практиками, например).
У Пелевина в «Generation «П» описан, достаточно издевательски, ритуал передачи мантры, иронически переосмысливает его и Быков, рассказывая, как перед уходом в армию («мне очень сильно туда не хотелось») Новелла Матвеева «как бы между прочим сказала мне: будет трудно – или надо будет ввести себя в градус бешенства – повторяйте: «Вот тебе, гадина, вот тебе, гадюка, вот тебе за Гайдна, вот тебе за Глюка». Это из ее пьесы «Предсказание Эгля», и это работает. Буддисты назвали бы это передачей матры».
А с эпизодом «передачи мантры», а затем и огурца, одним из самых пронзительных в романе «Generation «П», мы вдруг встречаемся в «Ананасной воде», когда уже знакомый нам Семен Левитан, благодаря достижениям современной фармакологии, научился превращаться в горящий куст. «Недавно вот симпатичный юноша попросил огурца на хорошем иврите. Так я дал – разве ж мне жалко». Эдакий уютный постмодернизм – прихватить своих любимых героев, как аптечку в дорогу. У Быкова это вообще элемент авторской концепции: герои переходят из текста в текст компаниями и связками; однако в дистиллированной, относительно раннего и среднего Пелевина, «Ананасной воде» Татарский с огурцом – едва ли не единичный случай.
Тут я подхожу к вещам традиционно сложным и тонким – мировоззрению двух писателей. Виктора Олеговича с этой стороны не без успеха и лаконично диагностировал Дмитрий Львович: «Я никогда не думал, что Пелевин – писатель буддистский. Очень уж скучно у него этот буддизм излагается и очень уж язвительно пересмеивается. Я думаю, он писатель истинно христианский – потому что ждет и жаждет того самого нечеловеческого, всесжигающего, обновляющего света, который обязательно должен хлынуть в самые темные комнаты дворца. (…) Может быть, все, что он пишет, – именно небывалый концентрат отвращения, сгусток ненависти, испепеляющая и страстная проповедь христианства от противного?»
Много верного, хотя одно другому и не мешает. Или, как сказал бы сам Пелевин, как всегда, все вместе. Интересней здесь, что сам Дмитрий Львович в своих многократно и регулярно заявляемых историософских, а значит, в какой-то степени религиозных идеях весьма близок буддизму; точнее, буддизму в понимании Виктора Пелевина.
В прозе Быков заявил свою идеологию уже в «Орфографии», а в наиболее концентрированном виде изложил в ЖД и продолжил в «Остромове». Это, если коротко, во-первых, концепция цикличности российской истории, ее развития и повторяемости в четырех процессах (актах, по Быкову): «реформаторство – зажим – оттепель – застой». Во-вторых, фон «этого непрерывного движения вниз» – вечная война элит, либералов и почвенников, отчасти на национальной подкладке, между условными «варягами» и условными «хазарами», вожди которых, подобно всем демонам-долгожителям, давно равны как в уровне полемики, так и в средствах борьбы, истребления и самоистребления. Но центральная, по Быкову, оппозиция здесь – не в варяжско-хазарском противостоянии, а в абсолютном равнодушии коренного населения к вечной войне верхов; третья сила (точнее, третья слабость) предпочитает растительную жизнь, существование по законам природы вопреки законам общества. В-третьих, Быков уверенно постулирует закат, конец, разрушение и распад империи (со всеми сопутствующими миазмами и трупной фауной), а в последнее время столь же радикально прогнозирует конец российской цивилизации (добавлю политкорректный бантик – в прежнем и привычном ее виде). Сильнейшая развернутая метафора умирания и агонии – в «Остромове», первая глава части пятой – «Супра»: поразительной мощи текст. В-четвертых, Быков, подобно всякому русскому писателю, пытается обозначить, нащупать, нетвердой рукой показать выход, этот самый «обновляющий свет». Получается у него очень даже по-буддийски: неконкретно, на ощупь, необязательно… У Пелевина выход включается автоматически, через эдакую лабораторную мистику, «от всех рождений, смертей, перерождений – домой!» (Янка Дягилева). Стеснительный Дмитрий Львович куда более реалистичен, хоть и отнюдь не рационален в рецептах: творчество, учительство, «может быть, дети. Может быть, только дети» – заклинание из той же поразительной главы «Остромова».
Это, действительно, самые большие, сильные и необходимые сегодня писатели. По точности эсхатологического диагноза и набору убедительных его метафор. По количеству вопросов и по невозможности дать прямые и рациональные ответы. Однако сама попытка их найти – стоит дорого.
***
Как говорят оба наших автора – «мне осталось сказать немного».
О романе «Остромов, или Ученик чародея», который стал поводом для этих заметок.
Роман огромный, сложный, исторический, реалистический и одновременно фантастический, точнее – мистический. Характерный для Серебряного века сплав мистики, политики и эротики Быков переосмысливает в следующей эпохе (эоне, как говорят эзотерики) и для новой реальности. При этом роман на удивление ровный, интонационно и композиционно, хотя и сработанный, местами и явно в порядке эксперимента, в разных стилистиках. Пожалуй, эта архитектурная цельность – главное достижение Быкова-романиста в «Остромове», по сравнению, скажем, с ЖД, который при всех, подчас гениальных, находках и ярких прозрениях, зияет пустотами многих десятков страниц и надуманностью ряда сюжетных линий.
Дмитрий Львович, по другим поводам, издевательски комментирует послереволюционную романистику – «Хождение по мукам», «Города и годы», «Доктор Живаго», – дескать, в Гражданскую войну герои то и дело нос к носу сталкиваются на перекрестках и полустанках России без должных на то, кроме авторского произвола, оснований. Но в ЖД он воспроизводит тот же произвол, который условность и внеисторичность романа оправдывают лишь в малой степени. А вот в «Остромове» никаких причинно-следственных вопросов не возникает – настолько все ладно подогнано и мотивировано.
Здесь показательно, что в главных героях – Борисе Остромове и Данииле Галицком – бережно сохранена внешняя канва биографий и географий реальных прототипов, Бориса Астромова и Даниила Жуковского. (Впрочем, Галицкий – персонаж собирательный, как заявляет сам автор, его прообразами были и два других Даниила, Андреев и Хармс, – черты последнего, впрочем, угадываются и в литераторе Барцеве, и в другом как бы обэриуте, Стечине, «в клетчатых штанах», с его сентенцией «дети отвратительны».) Даже присказка романного Остромова «я удивляюсь» взята из подлинного письма арестованного Астромова самому Сталину. Забавно, что у Б. Астромова имелся краткий киношный период в биографии, которому он обязан еще одним своим псевдонимом – Ватсон, и Быков все это бурно обыгрывает в других карнавальных сценах романа.
В том же авторском предисловии Быков оговаривает, что ему «Остромов» видится продолжением «Оправдания» и «Орфографии». Автора явно завораживает гончаровская модель трех «О» в названиях. Однако, на мой взгляд, «Орфография» из этого ряда как-то ускользает, несмотря на обилие сквозных персонажей. (Из «Орфографии» в новый роман любовно, но вне всякой фабульной необходимости, на короткое время перенесен даже своеобразный альтерэго автора – лишний человек лишней буквы, журналист и беллетрист Ять.) Может быть, дело в довольно экзотической повествовательной манере «Орфографии» – иронически-маньеристской, авторское определение этого романа как «оперы в трех действиях» – вовсе не выпендреж.
А вот с «Оправданием» «Остромова» глубоко роднит как раз не столь же механически перенесенный из романа в роман персонаж Алексей Кретов, но общий мрачный мотив отсутствия света и воздуха, набор констатации, которые Быков имеет смелость найти и повторять. Помимо обозначенных историософских концепций, аргументы к которым щедро рассыпаны по текстам, это идеи об исчезающих человеческих ценностях на фоне нищеты демиургов и тотального обмана сверхчеловечности, – постигаются ли они через государственное насилие или оккультные практики. О бессмысленности жертв, ибо обоснование их необходимости – лишь маскировка разных форм мучительства. О размывании центров и гибельности пространств. Кстати, российская глубинка описана в обоих романах практически одинаково, будь то сибирская деревня в «Оправдании» или Пенза и Вятка в «Остромове». Кабы не знать, что Дмитрий Львович много и охотно ездит по стране, можно предположить едва ли не подсознательный авторский страх перед российской провинцией.
Только не надо думать, что «Остромов» – роман тяжелый и скорбный, с величественным эсхатологическим пафосом, та самая вострубившая дудка известного откровения. «Конец света надо заслужить, а где нет света, нет и конца».
Это книга разная, и в немалой степени веселая, в подлинном понимании «веселости», без наслоений иронии и стеба. Веселость «Остромова» – органичное отражение той эпохи, о которой он написан – послереволюционной России, 20-х годов, времени, согласно Аркадию Гайдару, тоже «веселому». Определение это ведь мало чего исключает, а включает многое.
Быков и стилистически ориентировался на прозу двадцатых: начало первой главы явно сработано под Леонида Леонова времен «Вора» (есть и чисто леоновское словцо «человечина», залетевшее в «Красную газету»), внутренние монологи литератора Льговского воспроизводят, натурально, отрывистые поливы Виктора Шкловского, а «гмыканье и хэканье» из «партизанских повестей» некоего Всеволода – почти непременная речевая характеристика многих персонажей «Остромова» пролетарско-мещанского происхождения. Иногда, впрочем, мелькнет и позднейший писатель, Владимир Сорокин, но это особый случай – так называемая «раскатка», на языке романных оккультистов, фактически – разложение на атомы чекиста Капитонова.
Любителей разгадывать литературные шарады и угадывать прототипов ждет в «Остромове» целое пиршество, приготовленное немного хулиганистым и себе на уме шеф-поваром. Как всегда в подобных конструкциях, кто-то, измененный для художественных нужд на пару-тройку букв, угадывается сразу (эзотерики Георгий Иванович, Александр Варченко, в жизни – Барченко, масон, искатель Гипербореи, романист, консультант ГПУ; чекисты Огранов и Двубокий), кто-то ускользает, а кто-то предстает этаким рукотворным мутантом, вроде незабвенного Псиша Коробрянского из ЖД.
Таланты действительно ходят по «Остромову» стайками – целыми литературными школами и группами. Осколки, разной пробы, Серебряного века – любовно окарикатуренный Макс Волошин (Валериан Кириенко), романтический беллетрист Грэм (Александр Грин; Крым – место проживания обоих – важнейшая точка романной географии), профессиональный нищий Одинокий – не без брезгливого уважения выведенный под одним из своих псевдонимов поэт Тиняков, и – Черубина де Габриак, в образе «антропософки Савельевой».
Футуристы (упомянутые Мельников с Корабельниковым), обэриуты («бубуины»), опоязовцы – Льговский, Юрий, Лика Гликберг (Лидия Гинзбург), «серапионы»: «Братство вело себя так, как предсказал бедный Левушка. Костя писал длинные советские романы про перековку интеллигента. Зильбер выращивал гомункулюсов. Всеволод переехал в Москву…»
За этим щедрым столом Быков не только субъективно подает классиков, но издевательски, микшируя времена и нравы, высмеивает современников: «Стечин, этот в клетчатом, говоривший, что из всей мировой литературы стоит читать две-три строчки из Чосера, одно предложение из Пруста и раннего Демьяна Бедного…»
Сравните у Натана Дубовицкого: «…На вопрос о любимейших сочинениях он, изрядно помешкав, мог с большим трудом выдать что-то вроде: «Послание Алабию о том, что нет трех богов» Григория Нисского, приписываемый Джону Донну сонет без названия и несколько разрозненных абзацев из «Поднятой целины».
Да и вообще среда, окружающая в «Остромове» одного из второстепенных персонажей – «ураниста» (педераста) Неретинского, куда как напоминает сегодняшнюю гламурно-идеологическую тусовку; Неретинский связан с чекистами – последние тоже на редкость типичны, верней – архетипичны.
Но подлинная веселость романа даже не в этих, постмодернистских по форме играх, для Быкова скорей имеющих обратный постмодерну знак, а в фигуре Остромова, для которого «духовная наука» прежде всего означает «не будь дурак». Остромов – классический для плутовского романа обаятельный жулик (ближе к финалу обаяние испаряется), соблазнитель и шарлатан. Вообще, укрупняет роман Быкова до солидных масштабов именно это сплетение романа плутовского (линия Остромова) с романом воспитания (линия Галицкого). Находка Дмитрия Львовича еще и в том, что скучнейшая оккультно-эзотерическая сфера (прав, прав о. Андрей Кураев, когда говорит, что Истина никак не может заключаться в словесах, подобных даниил-андреевскому «уицраору» и «затомису») подается в импровизациях жуликоватого Остромова. Получается не столько снижение, сколько популяризация.
И не отменяет самой миссии учительства. «Напиться можно и из лужи» – один из постулатов романа.
Быков прямо утверждает, что единственный живой персонаж русских 20-х – жулик, и указывает Остромову на богатого родственника:
«– А вы не знали Остапа Ибрагимовича? – спросил Коган после первого заседания, на которое был приглашен.
– Я знал Остапа Ибрагимовича, – ответил Остромов высокомерно.
– Мне кажется, что он также причастен к масонству, – любопытно бы знать ваше мнение…
– Он сам вам говорил? – осведомился Остромов.
– В общем, делал намеки, – признался Коган.
– Этот человек может нравиться или не нравиться, – брезгливо сказал Остромов, – каждый зарабатывает на хлеб, как умеет… Но к масонству он не относился никогда и никак, и мне даже странно слышать, что вы себе позволяете такие параллели.
– Но Майя Лазаревна утверждает… – заторопился Коган.
– Майя Лазаревна, как большинство иудеев, совершенно глуха к метафизике, – отрезал Остромов».
Фокус здесь не только в забавном сродстве Остромова и Остапа Бендера (кстати, члены «кружка Остромова», как и прочая его клиентура, напоминают сборище лоханкиных, описанных Быковым, впрочем, с большей симпатией), но и в прозрачном намеке на книжку Майи Каганской и Зеева Бар-Селлы «Мастер Гамбс и Маргарита», где авторы, среди прочего, дотошно и убедительно разыскивают розенкрейцерские родимые пятна в знаменитой дилогии Ильфа и Петрова.
Получается уравнение: масон равен жулику, жулик – масону, а роман Дмитрия Быкова, рискну утверждать, становится в ближний к прославленным шедеврам ряд.
Это роман с длительным послевкусием для читателя, а для автора – с судьбой, которая только начинается. Он еще принесет ему сюрпризы.
Партийное кино. Юрий Быков и Андрей Звягинцев
В начале 2015 года в России сложились две новые партии: «Дурака» и «Левиафана».
Партии сложились без всяких идеологов и политтехнологов, которые тщетно решали подобную задачу полтора, почитай, десятилетия.
Появились, как и положено нормальным политическим организациям, не сверху, а снизу, не без помощи, конечно, социальных сетей. Толчком к их созданию стало обнаружение в свободном доступе двух свежих произведений отечественного киноискусства. Владимир Ильич Ленин с хрестоматийным «из всех искусств важнейшим для нас является кино» («и цирк» – добавят левые и шибко грамотные) – был кое в чем, безусловно, прав.
Партии эти – партия «Дурака» и партия «Левиафана».
Ну да, речь идет о фильмах Юрия Быкова и Андрея Звягинцева соответственно.
Впрочем, за новизной поводов нетрудно разглядеть традиционное русское противостояние – некоторые наблюдатели остроумно заметили, что от «Левиафана» фанатеют главным образом либералы-западники, тогда как «Дурака» горячо одобряют патриоты-государственники.
Такой бурной и массовой дискуссии с далеко идущими обобщениями о судьбах не только отечественного кино, по – бери выше – Отечества я что-то с перестроечных лет не припомню. Другое дело, что по нынешним временам и нравам предмет и куда более мелкий способен сделаться демаркационной линией.
На этом фоне троеперстие «Левиафана» и двоеперстие «Дурака» – вполне себе уважительная причина для раскола.
Немалое число зрителей и полемистов настаивают на совершенном различии – по природе, погоде, жанровом и уровневом – фильмов Быкова и Звягинцева, восклицают о недопустимости сравнений (кто вообще придумал их сравнивать?), продолжая, однако, нервный труд сопоставления.
На самом деле ничего предосудительного нет в том, чтобы числить «Дурака» и «Левиафана» в едином ряду – произведения обречены на сравнение. Более того, оно необходимо – как для партийного объединения, так и размежевания.
Сходство чисто формальное – время выхода фильмов и место действия – малые города России; даже в биографиях режиссеров, художников разных поколений, прослеживается своеобразный географически-фонетический параллелизм – Звягинцев родился в Новосибирске, Быков – в Новомичуринске.
Но куда больше оснований для сопоставления содержательного и, так сказать, киноведческого, «откуда дровишки». С последних и начнем – корни «Дурака» и «Левиафана» – в советском перестроечном кино, которое огульно обзывали «чернухой» – характерно, что в нынешней полемике хлесткий термин снова, и довольно произвольно, возродился.
Быков, собственно, корней и не прячет – песни Виктора Цоя, которые в «Дураке» не тянут на саундтрек, но вполне убедительны как лейтмотив, призваны сообщить действию внешнее и даже, на нынешние деньги, историческое напряжение конца 80-х. Ход несколько наивный, прямолинейный, но работающий – как реанимация остановившегося сердца электрическим разрядом.
Я в свое время писал по выходе звягинцевской «Елены»: Андрей Петрович, будучи мастером, прекрасно овладевшим ремеслом, но художником не шибко оригинальным, покинув обжитый тарковский мирок ради перспективного дела социальной драмы, нашел сюжеты и приемы ровно там, где их умели делать и наполнять градусами. То есть в перестроечном кино. Ему оставалось даже не поменять знаки, а помножить тогдашние упования на ноль.
Вышло актуальненько.
Там, где в перестройку – пафос скорого неба в алмазах («Курьер» Карена Шахназарова), теперь – житейский спорт высших достижений вроде обучения на коммерческой основе. Где было выяснение высоких отношений, ныне – суетливое убийство посредством «виагры». Где из неравного брака вырастает историческая драма («Любовь с привилегиями» с Вячеславом Тихоновым и Любовью Полищук) – сегодня рождается корявый, со слезою, афоризм «почему, если у вас есть деньги, вы считаете, что вам все можно?».
«Левиафан» делался по той же схеме («так жить нельзя»), с лошадиными дозами символизма – в одном флаконе и творческая манера – почерк Мастера, и недальний расчет. Найти в реальности симвОл, которому самое место в большом и толстом тарковском кадре (кстати, в «Левиафане» уже и с этим не очень) – ага, давай и его сюда, чем больше фестивальным жюри сдадим симвОлов – тем лучше.
(Отступление это, собственно, для тех, кто полагает, будто сравнивать две ленты нельзя и потому, что «Дурак» – эка невидаль – социальный памфлет, а вот «Левиафан», тут да – сплошная метафизика.)
Общим выглядит и густое присутствие тени Алексея Балабанова – Юрий Быков посвящает «Дурака» его памяти (о правомочности этого посвящения тоже много спорят); да, собственно, и в кадре, и в том же Цое, ощущается юношеская подражательная восторженность и пиетет – «учитель, перед именем твоим…».
У Звягинцева – явственнее другое: завистливо-пренебрежительные, но неотступные мысли о мертвом Балабанове – мол, у него ж получалось, а у меня выстрелит тем паче – бюджета больше, имени, связей… А уж талантище…
Звягинцев пытается разгадать тайну и код Балабанова – в «Елене» срисовывая из «Груза 200» индустриальные пейзажи, а в «Левиафане» копируя их обитателей. Поэтому хороший артист Серебряков цитирует, вполне безоглядно, собственную работу – Алексея из «Груза 200»; сцена, где Николай выслушивает приговор-пятнашку – абсолютное дежавю по отношению к той, где Алексея ведут по тюремному коридору – исполнить.
И впрямь – Алексей, Николай – какая разница. Русские бабы еще нарожают.
Ключевое сближение, впрочем, содержательное – оба произведения из «социальной жизни русского народа», как выражался расстрелянный красный командир Филипп Кузьмич Миронов. Основной конфликт – маленький человек в борьбе с «системой», видоизменившейся из страшного, но вполне материального «спрута» в победительного мифологического «левиафана».
Необходимо с горечью признать: ее, эту социальную жизнь, провинциальную в особенности, российские киношники знают худо (или знают по московской наслышке, что, в общем-то, одно и то же). Звягинцевскому кино атрибутировали целый ворох недостоверностей – психологических (Дмитрий Быков), в том числе и касаемо адюльтера жены Николая с другом-адвокатом (Юлия Беломлинская); ваш покорный слуга насчитал известное количество алкогольных ляпов, и, конечно, многие обнаружили, мягко говоря, неточности социально-политических раскладов в провинции, взаимоотношений людей власти, да и попросту ее, властного, обустройства. Ну, вот так, навскидку – покажите мне город, где суд общей юрисдикции объединен навсегда с арбитражным, чтоб вся коррупция (в версии Звягинцева) – в одну калитку?
«Дурак» грешит аналогичными нестыковками, хотя, надо признать, сорта клюквы у Быкова и Звягинцева разные, как и способы их оправдания – силами агитпропа сложившихся партий.
Дескать, Звягинцев снял мощную метафизическую притчу; социальная и психологическая драма – жанры тут вспомогательные, за достоверностью не гонимся, ибо реалистичная картинка на таких высотах и глубинах – пошлость и излишество. Более того, каждый режиссерский ляп – это вообще отдельный и самоценный симвОл. Вроде того, что могучая северная природа, Кольский полуостров и Баренцево море (стихия, откуда выползают, сотрясая поверхность, страшные и загадочно-библейские чудища) должны коррелировать с русским алкогольным разливом и душевными десятибалльными смутами.
(С не меньшим успехом можно угадать притчу при просмотре на множестве телеканалов программ о дикой природе. Не говоря о фильмах, допустим, Вернера Херцога. Я было предложил, если дело на то идет, объявить всеобщую амнистию дотошно каталогизированным никита-михалковским ляпам. Однако поддержан поклонниками «Левиафана» не был.)
Но Михалков в защитниках особо не нуждается, а вот в роли адвоката Быкова рискну выступить – хотя бы потому, что «Дурак» мне кажется куда как свежей, точнее, сильней и пронзительней «Левиафана».
Наверное, потому, что я ватник. Спорить не буду, но предложу несколько иной критерий – литературных аллюзий, которые почтительным хором приписываются Звягинцеву (ага, налетай, как на сейле – помимо прочего, и Томас Гоббс, и «Антихрист» фон Триера, и Кьеркегор, и, естественно, Книга Иова). И которых, согласно тому же хору, прямолинейный «Дурак» вроде как начисто лишен.
Искушенным зрителям кажется совершенно недостоверным эпизод, когда чиновники, сорванные с юбилейной пьянки на авральное совещание, начинают обвинять друг друга в традиционно-коррупционных грехах, по принципу «кто тут больше всех ворует». Да еще при постороннем – человеке из народа, бригадире сантехников. Такого, мол, быть не может! И потому, что воруют люди власти по умолчанию, никак процесса не озвучивая, на чем система стоит и функционирует, и, паче того, не станут они свою подземную коммерцию, пилеж и откаты, обсуждать, когда чужой здесь уши греет.
Сцена это, безусловно, сделана с комедийным пережимом, воспринять ее в таком качестве мешает общий мрачный и героический пафос фильма. А ведь она – почти прямая цитата из гоголевского «Ревизора». Быков, явно намеренно, копирует и гоголевский бюрократический расклад – смотритель богоугодных заведений (глава горздрава), частный пристав (руководитель РОВД), из гоголевского же архаичного штатного расписания – пожарный (который теперь главный эмчеэсник), а почтмейстера заменил куда более актуальный начальник коммуналки. Все пляшут вокруг Городничихи, что неверно фактически (федералы под контролем муниципалов – нонсенс, в современности все наоборот, и привет конституционному разделению властей), однако верно для гоголевской реальности вневременной, мистической России.
И что здесь точнее и актуальнее – сразу и не скажешь.
Любопытно, что название фильма и реплика одного из персонажей про «дороги говно» перекликаются с общеизвестным диагнозом Николая Васильевича, наполняя его новыми смыслами.
Надо полагать, и тарантиновская история с расправой над чиновниками – очевидцами отсроченной трагедии, – когда насквозь повязанный распилами-откатами и мутными схемами коммунальный барон по фамилии Федотов просит убийц «отпустить пацана», понадобилась Быкову не только для малоправдоподобного заострения сюжета, но и чтобы напомнить зрителю пронзительные строки из Николая Васильевича.
«Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. (…) Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!»
Конечно, главный герой «Дурака» Дмитрий Никитин напоминает Хлестакова разве что простодушием, однако совершенно очевидна его близость с персонажами другого русского классика, мистика и гения – Андрея Платонова. Никитин – прямой наследник платоновских правдоискателей и ересиархов пролетарского происхождения. Сходство это едва ли случайное – и Юрий Быков, обнаруживая и фиксируя вечный конфликт гоголевского мира с миром Андрея Платонова, – пророчит социальный катаклизм огромной силы. «Вот он, родненький семнадцатый годок».
Интересно, кстати, что в аспекте предвидения скорого будущего «Дурак» перекликается с фильмом перестроечных лет «Город Зеро» Карена Шахназарова. Кино сюрреалистическое, по достоинству не оцененное (впрочем, выдающийся левый мыслитель Сергей Кара-Мурза разбирал его в своих работах уважительно и увлекательно), однако в части пророчеств сбывшееся с пугающей точностью.
Словом, я бы не торопился говорить о простеньком социальном памфлете на злобу дня. И о преимуществах метафизики «Левиафана» над критическим реализмом «Дурака». В историческом измерении партия российских «дураков» явление, пожалуй, более вечное, чем символический «левиафван».
И это внушает надежду.




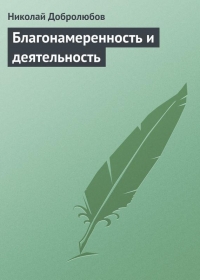
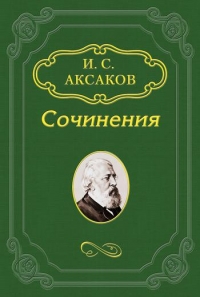


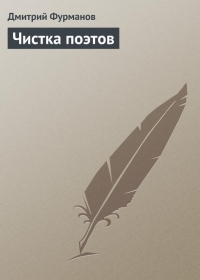
Комментарии к книге «Здравые смыслы», Алексей Колобродов
Всего 0 комментариев