Вальтер Скотт О СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМ В ЛИТЕРАТУРЕ, и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана
Ни один из истоков романтической фантастики не оказывается столь глубоким, никакое иное средство возбудить тот захватывающий интерес, которого так добиваются авторы этого рода литературы, не представляется столь непосредственно доступным, как тяга человека к сверхъестественному. Она присуща всем классам нашего общества, и, быть может, особенно захвачены ею те люди, которые усвоили себе несколько скептический взгляд на этот предмет; так что и вам, читатель, вероятно, приходилось порой слышать в разговоре, как некто, заявив о своем крайнем недоверии к рассказам о чудесном, кончает тем, что сам пытается занять собеседников какой-нибудь вполне достоверной историей, которую нелегко, а то и вовсе невозможно согласовать с непримиримым скептицизмом рассказчика. Сама по себе вера в сверхъестественное, при том, что она легко может выродиться в суеверие и нелепость, не только возникает на тех же основах, что и наша священная религия, но к тому же еще тесно связана и с закономерностями самой природы человеческой, которые подсказывают нам, что, покуда длится наш искус в подлунном царстве, тут же по соседству с нами и вокруг нас существует некий призрачный мир, устои которого недоступны людскому разуму, ибо наши органы недостаточно тонки и чувствительны, чтобы воспринимать его обитателей.
Все проповедники христианской религии утверждают, что было время, когда силы небесные проявлялись на земле более явственно, чем в наши дни, и в своих высших целях изменяли и подчиняли себе обычные законы земного мира; а римская католическая церковь провозглашает даже как один из своих символов веры, что чудеса вершатся и в нынешние времена. Не вдаваясь в этот спор, удовлетворимся тем, что непреклонная вера в возвышенные истины нашей собственной религии побуждает мудрых и достойных людей, даже в протестантских странах, разделять сомнения, одолевавшие доктора Джонсона по поводу сверхъестественных явлений:
Известное суждение, что мертвые якобы больше не навещают нас, — заметил Имлак, — мне было бы трудно отстаивать перед лицом единодушно опровергающих его показаний, звучащих во все времена и у всех народов. Не сыскать такой страны, дикой или цивилизованной, где не рассказывали бы о явлениях мертвецов и не верили бы в эти рассказы. Убеждение это, распространившееся так же широко, как и сам род человеческий, потому и стало всеобщим, что оно соответствует истине. Люди, никогда не слыхавшие друг о друге, не создали бы столь сходных рассказов, если бы не почерпнули их из опыта. То, что отдельные скептики высказывают сомнения по этому поводу, не может поколебать многочисленные свидетельства очевидцев, да к тому же кое-кто из тех, кто оспаривает эти рассказы на словах, на деле подтверждает их своим страхом.
Подобные доводы способны у любого философа развеять охоту догматически судить о предмете, по поводу которого никто не располагает никакими доказательствами, кроме чисто негативных. И тем не менее склонность верить в чудесное постепенно ослабевает. Всякий согласится, что, с тех пор как прекратились библейские чудеса, вера в волшебные и сверхъестественные явления тем быстрее клонится к упадку, чем больше развиваются и обогащаются человеческие знания. С наступлением новых, просвещенных времен сколько-нибудь подтвержденные надежными свидетельствами рассказы о сверхъестественном сделались столь редкими, что скорее следует считать их очевидцев жертвами странной и преходящей иллюзии, нежели предположить, что поколебались и изменились законы природы. В наш век расцвета наук чудесное в сознании людей настолько сблизилось со сказочным, что их обычно рассматривают как явления одного и того же порядка. По-иному, однако, обстояло дело в ранний период истории, который изобиловал сверхъестественными событиями, и хотя в наше время мы рассматриваем слово «роман» как сочинение, основанное на художественном вымысле, тем не менее, поскольку первоначально оно просто означало поэтическое или прозаическое произведение на романском языке, не вызывает сомнений, что доблестные рыцари, слушавшие песнь менестреля, «с доверьем набожным внимали дивным сагам» и что подвиги, которые он воспевал, перемежая их рассказами о магическом и сверхъестественном вмешательстве, почитались такими же достоверными, как и столь сходные с ними легенды клириков. Эта стадия общественного развития, однако, завершилась задолго до того, как романист стал тщательно отбирать и перестраивать материал, из которого складывалось его повествование. Пока общество, хоть и разделенное на сословия и звания, оставалось однородным и нерасчлененным, благодаря мрачному туману невежества, равно окутывавшему и знать и простонародье, автору незачем было точно определять, какому слою лиц он адресует свою историю или какими художественными средствами должен он ее украсить. «Homo[1] было тогда общим именем для всех», и всем по душе приходился один и тот же художественный стиль. Со временем, однако, многое переменилось. Просвещение, как мы уже говорили, одерживало все большие успехи, и все труднее становилось завоевать внимание образованных кругов непритязательными небылицами, которые людей нынешнего поколения пленяют разве что в детстве, тогда как наши предки дарили этим сказкам свое внимание и в юности, и в зрелости, и в преклонные годы.
Обнаружилось также, что со сверхъестественным в художественном произведении следует обращаться еще бережнее, ибо критика теперь встречает его настороженно. Возбуждаемый им интерес и ныне может служить могучей пружиной успеха, но интерес этот легко оскудевает при неумелом подходе и назойливом повторении. К тому же характер этого интереса таков, что его нелегко поддерживать, и можно утверждать, что крупица здесь иной раз действует сильнее целого. Чудесное скорее, чем какой-либо иной из элементов художественного вымысла, утрачивает силу воздействия от слишком яркого света рампы. Воображение читателя следует возбуждать, по возможности не доводя его до пресыщения. Если мы хоть раз, подобно Макбету, «объелись ужасами», наш вкус к такого рода трапезе притупится и трепет, с которым мы слушали или читали о пронзительном крике в ночи, уступит место вялому равнодушию, с каким тиран в последнем акте трагедии выслушивает известия о самых губительных катастрофах, обрушившихся на его дом.
Сверхъестественные явления носят обычно характер таинственный и неуловимый, они кажутся нашему напуганному воображению особенно значительными тогда, когда мы и сами не можем в точности сказать что же, собственно, мы видели и какой опасностью это видение угрожает нам. Они подобны тем образам, что возникают в сознании Девы из маски «Комус»:
…Видений мириады В моем сознании текут толпой Теней зовущих, призраков манящих, Чудовищных ревущих голосов, Скандирующих чьи-то имена В пустынях диких и в песках прибрежных.Берк утверждает, что темнота изложения необходима, ибо именно благодаря ей произведение наводит ужас на читателя. «Привидений и домовых, — пишет он, — никто не может себе представить, но как раз это и подстегивает нашу фантазию, заставляя нас верить народным рассказам об этих существах». Ни один писатель, по его мнению, «не владел таким даром создавать чудовищные образы и окружать их атмосферой ужаса благодаря обдуманной темноте изложения, как Мильтон. Образ Смерти во второй книге „Потерянного рая“ разработан превосходно; просто диву даешься, с каким мрачным великолепием, с какой волнующей и многозначительной неясностью оттенков и очертаний завершает он портрет этого Владыки Ужасов:
И новый образ — коль назвать решимся Мы образом тот бестелесный мрак, Где нет ни форм, ни членов, ни суставов, Коль явью призрак звать за то, что явь Столь с призраком неразличимо сходна, Черней, чем ночь, грознее преисподней И яростней десятка лютых фурий, Стоит, вздымая смертоносный дрот, И грозное подобье головы Венчается подобием короны.Все в этом образе таинственно, неясно, смутно, потрясающе и возвышенно до крайних пределов».
Рядом с вышеприведенным отрывком достоин быть упомянутым лишь всем известный рассказ о видении из Книги Иова с его ужасающей смутной неопределенностью:
И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною; дыбом стали волоса на мне. Он стал, — но я не распознал вида его, — только облик был перед глазами моими; тихое веянье, — и слышу голос…
Эти возвышенные и убедительные примеры подтверждают, что в художественном произведении сверхъестественные явления следует выводить редко, кратко, неотчетливо, оставляя описываемое привидение настолько непостижимым, настолько непохожим на нас с вами, чтобы читатель и предположить не мог, откуда оно пришло или зачем явилось, а тем более не составил себе ясного и отчетливого представления об его свойствах. Поэтому обычно бывает так, что первое соприкосновение со сверхъестественным производит наиболее сильный эффект, тогда как в дальнейшем, при повторении подобных эпизодов, впечатление скорей ослабевает и блекнет, нежели усиливается. Даже в «Гамлете» второе появление призрака оказывает далеко не столь сильное воздействие, как первое; во многочисленных же романах, на которые мы могли бы сослаться, привидение, так сказать, утрачивает свое достоинство, появляясь слишком часто, назойливо вмешиваясь в ход действия и к тому же еще становясь не в меру разговорчивым, или попросту говоря болтливым. Мы сильно сомневаемся, правильно ли поступает автор, вообще разрешая своему привидению говорить, если оно к тому же еще в это время открыто человеческому взору. Шекспир, правда, подыскал для «мертвого повелителя датчан» такие слова, какие уместны в устах существа сверхъестественного и по стилю своему отчетливо разнятся от языка живых действующих лиц трагедии. В другом месте он даже набрался смелости раскрыть нам в двух одинаково сильных выражениях, как и с какой интонацией изъясняются обитатели загробного мира:
И мертвый в саване на стогнах Рима Скрипел визгливо да гнусил невнятно.Тем не менее то, с чем справился гений Шекспира, будет, пожалуй, выглядеть комичным, если это выйдет из-под пера менее одаренного писателя; именно поэтому во многих современных романах крови и ужаса наше чувство страха уже задолго до развязки ослабевает под воздействием того чрезмерно близкого знакомства, которое порой ведет к неуважению.
Понимая, что сверхъестественное, поданное слишком упрощенно, быстро утрачивает свою силу, современные писатели стремятся проложить новые пути и тропы в зачарованном лесу, чтобы так или этак оживить, насколько удастся, слабеющие эффекты таящихся в нем ужасов.
Наиболее очевидный и простой способ достичь этой цели заключается в том, чтобы расширять и множить сверхъестественные события в романе. Однако, исходя из вышеизложенного, мы склонны полагать, что чрезмерно подробное и старательное описание не только не усиливает впечатления, но, напротив, ослабляет его. В этом случае утрачивается изящество, а злоупотребление превосходной степенью, наводняющей роман, делает его утомительным или даже смешным, вместо того чтобы сообщить ему мощь и возвышенность.
Существуют, однако, и такие сочинения, в которых сверхъестественному отводится немаловажная роль, но которые способствуют лишь игре фантазии, а не творческой работе мысли, и стремятся скорее развлечь читателя, нежели увлечь его и привести в волнение. К ним относятся восточные сказки, которые доставили нам немало наслаждения в юности и которые мы с таким удовольствием припоминаем, а то и перечитываем в более зрелые годы. Не много найдется читателей, хоть сколько-нибудь одаренных воображением, которые в ту или иную пору жизни не разделяли бы увлечений Коллинза. «Этот поэт, — уверяет доктор Джонсон, — приходил в совершеннейший восторг от свойственных этим сказкам бурных взлетов фантазии, которая разрывала узы естественного и с которой разум мирился, лишь пассивно покоряясь господствующим вкусам. Он был влюблен во всех этих фей, джиннов, великанов и чудищ; увлеченно бродил по зачарованным лужайкам, любовался великолепием золотых дворцов, отдыхал у водопадов в Елисейских Полях». В такого рода книгах, не требующих при чтении особой работы мысли, находят наслаждение главным образом молодые и праздные люди. Став старше, мы вспоминаем их, как вспоминают игры детства, скорее потому, что мы некогда любили их, чем потому, что они и ныне способны нас позабавить. Обескураженный нелепостью вымысла, зрелый рассудок не воспринимает их чар, и, хотя этот дикий вымысел содержит немало прекрасного и полон фантазии, тем не менее бессвязность и отсутствие общего смысла приводят к тому, что сказки эти оставляют нас равнодушными и мы проходим мимо них, как богатырская дева Бритомарта проезжала мимо богатого берега,
Где был рассыпан жемчуг самокатный, Сапфир и лал, где цвел узор камчатный, Где золотом червонным рдел песок. Все в диво ей, но, путь ни на вершок Не изменив и лишь взглянув бесстрастно На золото, на жемчуга и шелк, Она презрела их — ей было все подвластно.К этому же разряду сочинений о сверхъестественном может быть причислен и другой, хотя и менее интересный, вид сказок, который французы называют contes des fees,[2] стремясь этим названием отграничить его от распространенных во многих странах обычных народных сказок о волшебных существах. Conte des fees[3] совершенно особый жанр, и действующие в кем феи вовсе непохожи на тех эльфов, которые только и знают, что плясать вокруг гриба при лунном свете или сбивать с пути запоздалого селянина. Французская фея больше напоминает восточную пери или фату из итальянских стихов. По своей природе она высшее существо, стихийный дух, обладающий магической силой, и эта сила в значительной мере помогает ей творить добро и зло. Но какие бы достоинства этот жанр ни обрел в искусных руках, стоит ему только попасть в руки менее ловкие, как он становится на редкость плоским, нелепым и безжизненным. Из огромного, насчитывающего около пятидесяти томов «Cabinet des fees»,[4] если отвлечься от привязанностей нашего детства, мы вряд ли наберем и полдесятка книжек, которые хоть в какой-то мере могут доставить нам удовольствие.
Нередко случается так, что в то время как какое-нибудь отдельное направление в искусстве ветшает и приходит в упадок, карикатура на это направление или сатирическое использование его приемов способствует появлению нового вида искусства. Так, например, английская опера возникла из пародии на итальянский театр, созданной Геем в «Опере нищих». Точно так же, когда книжный рынок был наводнен ad nauseam[5] арабскими сказками, персидскими сказками, турецкими сказками, монгольскими сказками и легендами всех народов, живущих к востоку от Босфора, когда публика окончательно пресытилась растущим потоком всякого рода волшебных повествований, граф Энтони Гамильтон, подобно новому Сервантесу, выступил со своими сатирическими сказками, которым суждено было произвести переворот в царстве дивов, джиннов, пери et hoc genus omne.[6]
Порою слишком вольные для нашего утонченного века, сказки графа Гамильтона служат превосходной иллюстрацией того, что любая область литературы, подобно ниве земледельца, какой бы она ни казалась истощенной и бесплодной, тем не менее поддается обновлению и может опять приносить урожай, если ее новым способом возделать и обработать. Остроумие графа Гамильтона, словно удобрение, брошенное в истощенную почву, сделало восточную сказку если не более поучительной, то хотя бы более пикантной. Многие подражали стилю графа Гамильтона; в частности, он оказал влияние на Вольтера, который, идя этим путем, превратил повесть о сверхъестественном в удачнейшее средство сатиры. Таким образом, в этом роде литературы мы имеем дело с комической разновидностью сверхъестественного, ибо автор здесь откровенно показывает свое намерение обратить в шутку чудеса, которые он описывает, и стремится развеселить читателя, отказываясь воздействовать на его воображение, а тем более на его чувства. Читатель видит в этих сказках попросту пародию на сверхъестественное, которая возбуждает смех, отнюдь не вызывая почтительного внимания или хотя бы того неглубокого волнения, с каким обычно слушают волшебное повествование о феях. Этот вид сатиры — а жанр этот часто используют в сатирических целях — особенно удачно применяли французы, хотя Виланд и некоторые другие немецкие писатели, идя по следам Гамильтона, дополнили еще и поэтичной грациозностью то остроумие и ту фантазию, которыми они украсили свои творения. «Оберон», в частности, вошел и в нашу литературу благодаря блестящему переводу господина Созби и почти столь же известен в Англии, как и в Германии. Однако мы слишком бы удалились от нашей нынешней темы, если бы стали исследовать герои-комическую поэзию, которая также относится к этому роду литературы и включает в себя прославленные творения Пульчи, Берни, да, пожалуй, в какой-то степени и самого Ариосто, который время от времени так высоко приподнимает забрало своего рыцарского шлема, что нам нетрудно уловить мимолетный отблеск улыбки, пробежавшей по его лицу. Более общий взгляд на карту этого на редкость привлекательного волшебного царства открывает нам другую его область, которая выглядит, быть может, суровой и дикой, но, пожалуй, как раз поэтому и таит в себе весьма заманчивые находки. Существуют такие любители старины, которые не стремятся, подобно многим другим, приукрашивать собранные ими предания своего народа, а ставят перед собой задачу antiques accedere fontes,[7] добраться до тех исконных источников и родников древней легенды, которые любовно сохранялись седой и суеверной стариной, но почти начисто изгладились из памяти образованных кругов, однако затем были ими заново открыты и, подобно старым народным балладам, завоевали известную популярность именно вследствие своей безыскусственной простоты. «Deutsche Sagen»[8] братьев Гримм — один из превосходных памятников подобного рода; свободная от всякого искусственного приукрашивания, от попыток улучшить язык или усложнить отдельные эпизоды, книга эта вобрала в себя множество бытовавших в разных немецких землях преданий, в основе которых лежат народные поверья, а также происшествия, приписываемые вмешательству потусторонних сил.
Существуют другие издания того же вида и на том же языке, собранные с большой тщательностью и несомненной точностью. Порой, пожалуй, несколько шаблонные, подчас скучные, иногда ребячливые, предания эти, собранные со столь неослабным рвением, тем не менее являются новым шагом в исследовании истории человечества, и если сопоставить их с материалами аналогичных сборников, составленных в других странах, то обнаруживаются признаки их общего происхождения из единой группы сказаний, распространенных среди самых разных племен рода человеческого. К каким выводам приходим мы, узнав, что ютландцы и финны рассказывают своим детям те же легенды, какие можно услышать в детской маленького испанца или итальянца, и что наши собственные ирландские или шотландские предания совпадают с народными сказаниями русских? Уж не вытекает ли это сходство из ограниченности человеческого воображения, когда одни и те же вымыслы приходят на ум самым различным авторам в удаленных друг от друга странах, подобно тому как разные виды растений обнаруживаются в таких районах мира, куда они никак не могли быть перенесены из других мест? Или, быть может, правильней возвести те и другие предания к некоему общему праисточнику, существовавшему в те времена, когда род человеческий составлял всего лишь одну большую семью, и, подобно тому как языковеды прослеживают в самых разных диалектах фрагменты единого общего языка, так, возможно, и собиратели старины могли бы в будущем распознать в легендах удаленных друг от друга стран части некогда существовавшей единой группы преданий? Мы не станем задерживаться на этих вопросах и лишь в общих чертах заметим, что, собирая эти памятники старины, трудолюбивые их издатели проливают свет не только на историю своего собственного народа, но вообще на всю историю человечества. Обычно в устном предании имеется и некоторая доля истины наряду с обилием вымысла и с еще большим обилием преувеличений; поэтому они могут порой неожиданно подтвердить или опровергнуть скудные данные какой-нибудь древней летописи. Случается также, что легенды, рассказанные простыми людьми, добавляют особые характерные черты, местный колорит и подробности реальных эпизодов, сохранившиеся у них в памяти, и этим придают живое дыхание сухому и холодному повествованию, воспроизводящему одни только факты, лишенные тех драгоценных деталей, которые только и могут сделать его интересным и запоминающимся.
Мы бы хотели, однако, рассмотреть эти народные предания, сведенные в сборники, и с другой точки зрения, а именно — как особый способ воспроизведения в литературе чудесного и сверхъестественного. И тут мы должны признать, что тот, кто станет вчитываться в этот обширный свод повестей о злых духах, привидениях и чудесах, надеясь почувствовать то близкое к ужасу замирание сердца, которое и является самым очевидным триумфом сверхъестественного, будет, вероятно, разочарован. Целый сборник повестей о привидениях столь же мало возбуждает страх, как книга анекдотов охоту смеяться. Многочисленные истории на одну и ту же тему способны полностью исчерпать интерес к ней; так, человек, попавший впервые в большую картинную галерею, с непривычки оказывается столь подавленным разнообразием сверкающих и переливающихся красок, что он уже не в состоянии разобраться в достоинствах тех картин, которые заслуживают его внимания.
И все же, несмотря на этот важный недостаток, неизбежный в подобного типа изданиях, читатель, если он не лишен воображения, если он способен преодолеть узы реальности и возбудить в душе своей то сочувствие, на какое обычно и рассчитана простая и незамысловатая народная легенда, найдет в ней для себя немало интересного, обнаружит в ней черты естественности и убедительности, и пусть эта легенда не в ладу с трезвой истиной, тем не менее в ней есть нечто, чему наш разум не прочь поверить, какое-то правдоподобие, которого при самом большом старании не достичь ни поэту, ни прозаику. В таких случаях читателя больше убеждает пример, чем простое утверждение, и мы выбрали с этой целью письмо, полученное нами много лет тому назад от одного любезного и образованного джентльмена, недавно покинувшего этот мир и отличавшегося как тягой к науке, так и пристрастием к литературе во всех ее разветвлениях.
Было это, если я не ошибаюсь, в ночь на 14 февраля 1799 года, когда налетевший с юго-востока губительный ураган с мокрым снегом свирепо бушевал почти по всей Шотландии. Накануне днем капитан М. с тремя спутниками отправился на охоту за оленями далеко в горы, лежащие к западу от Дэлнакардоха. К вечеру они не вернулись и не подали о себе никакой вести. На следующий день, как только стихла буря, были высланы люди на розыски пропавших. После долгих поисков трупы охотников были найдены в пустынной местности, среди развалин хибары, временного рабочего барака, где капитан М. и его спутники, видимо, искали убежища. Хибара была разрушена бурей и притом необычайнейшим образом. Она была сложена частью из камня, частью из прочных бревен, вертикально врытых в землю; а между тем ее не просто свалило грозой, но буквально разнесло на куски. Огромные валуны, из которых были сложены стены, валялись в сотне ярдов от хибары, а деревянные стояки были исковерканы какой-то чудовищной силой, которая скрутила их, как тугую ветку. Судя по положению трупов, было очевидно, что люди готовились ко сну в тот момент, когда разразилась катастрофа. Правда, тело одного из них нашли на расстоянии многих ярдов от хибары, но другой оказался на том самом месте, где стояло это строение, причем он был только в одном чулке и, видимо, уже снял второй. Капитан М., уже совсем раздетый, лежал ничком на убогой кровати, стоявшей в хибаре, колени его были поджаты к подбородку. По всей видимости, никому из этих людей и в голову не приходило, что их убежище будет сметено бурей. Расположение домика сулило надежную защиту от самых яростных ветров. Он был построен в узкой впадине у подножия горы, так что ее обрывистые и крутые склоны защищали его с трех сторон. Один только фасад не прилегал к горе, но и тут впереди возвышался холм, хоть и обращенный к дому своим пологим откосом. Необычайное разрушение столь хорошо укрытого здания породило в простом народе мысль о вмешательстве нечистой силы. Нашлись люди, которые вспомнили, что с месяц назад им пришлось охотиться с капитаном М., и когда все вместе они расположились на привал в той же хибаре, в дверь постучался какой-то молодой пастух и спросил капитана М., а когда тот вышел к пастуху, они вдвоем куда-то отправились, оставив прочих участников охоты в хибаре. Спустя некоторое время капитан М. возвратился один; он не стал рассказывать о том, что произошло у него с пастухом, но вид у него был серьезный и озабоченный; с тех пор его, казалось, постоянно угнетала какая-то тайная тревога. Припомнили и то, как однажды вечером, когда уже стемнело и капитан М. находился в хибаре, его спутники, стоявшие у дверей, заметили огонь, пылавший на самой вершине холма, который возвышался перед ними. Немало подивившись этому огню в столь безлюдной местности и в такую неподходящую пору, они решили выяснить его происхождение. Но когда они добрались до вершины холма, никакого огня там уже не оказалось. Вспомнили также, что днем, в канун роковой ночи, капитан М. проявил непонятное упорство, настаивая на том, чтобы отправиться на охоту. Никакие возражения с ссылками на дурную погоду и на опасность, которой он подвергается, не остановили его. Он заявил, что он должен пойти и что он решился идти. Говорили также и о свойствах характера капитана М., который слыл человеком без твердых принципов, алчным и жестоким. О нем шла молва, что он наживался, вербуя в рекруты горцев, а этот способ обогащения не пользовался уважением в тех краях, тем более что ради своих целей, наряду с прочими низкими уловками, он способен был, например, бросить на дороге кошелек с деньгами, а затем, когда кто-нибудь поднимал его, грозился привлечь нашедшего к суду за грабеж, если тот не завербуется в рекруты.[9] Человек, который нам об этом сообщил, ничего больше не добавил к рассказанному. Он не высказал ни своего личного мнения, ни мнения окружающих. Он давал нам возможность, в соответствии с нашими собственными представлениями о возмездии в этой жизни за содеянное добро и зло, создать любую версию прискорбного происшествия. Сам он, видимо, был обуреваем суеверным страхом и заключил свой рассказ словами: «Ни о чем подобном никогда и не слыхивали в Шотландии». Человек этот, весьма пожилой, служит школьным учителем в окрестностях Рэноха. Мы наняли его проводником во время нашего путешествия по Шехэлиону, и он рассказал нам эту историю, когда мы, ведя коней в поводу, медленно взбирались по извивающейся тропе на северный склон Рэноха. С этой возвышенности открывался вид на мрачные горы севера, и среди них проводник указал нам ту, у подножия которой разыгралось действие этой грозной драмы. В настоящем письме я излагаю вам, насколько позволяет моя память, лишь то, что я услышал от проводника. В некоторых второстепенных подробностях я, быть может, кое-что и запамятовал, гное исказил, иное добавил, чтобы не утратилась общая связь событий, а в ином месте, боюсь, что и вовсе кое-что упустил. Попытайтесь уточнить у мистера П., не говорил ли капитан М. после беседы с пастухом, что через месяц ему придется снова вернуться в эту хибару. Мне как будто помнится нечто подобное, и, если это и в самом деле так, было бы жаль не упомянуть об этом. Мистер П., возможно, исправит или дополнит мое сообщение и в других отношениях.
Читатель согласится, мы надеемся, что ощущение суеверного ужаса, сопутствующего пагубным обстоятельствам этого удивительного рассказа, вряд ли возросло бы от новых жутких подробностей, сочиненных каким-либо писателем; что сами эти события и суровая простота их изложения воздействуют на нас много сильней, чем любые живописные или поэтические украшения; и что старый учитель-горец, рассказ которого в основных его чертах столь тщательно воспроизвел автор сообщения, был более подходящим рассказчиком подобной повести, чем даже сам Оссиан, если бы его удалось воскресить для этой цели.
Тем не менее о музе романтической поэзии справедливо сказано, что она
Mille habet ornatus.[10]Профессор Музеус, а с ним и те, кого причислили к его школе, полагая, по-видимому, что простодушие лишенной поэтических прикрас народной легенды может помешать ее успеху, и чувствуя, как уже ранее отмечалось, что, хотя отдельные повести и производят иногда исключительно сильное впечатление, целый сборник сочинений такого рода может показаться достаточно бесцветным и скучным, употребил весь свой талант на то, чтобы разукрасить их увлекательными эпизодами, сообщить главным действующим лицам своеобразие характера и придать новый интерес чудесному за счет индивидуализации тех, в чью жизнь оно вторгается. Два тома «Volksmarchen»[11] Музеуса, переведенные на английский язык покойным доктором Беддоузом и опубликованные под названием: «Немецкие народные сказки», дают английскому читателю достаточно полное представление об увлекательных произведениях этого жанра. Очи, быть может, имеют некоторое сходство с уже упоминавшимися сказками графа Энтони Гамильтона, но тут есть и существенное различие. «Le Belier»[12] или «Fleur d'Epine»[13] — обычные пародии, возникшие, правда, на фантастическом материале, но обязанные своим успехом лишь остроумной выдумке автора. Музеус, напротив, берет сюжет подлинной народной легенды, но перелицовывает его по своему вкусу и описывает персонажей но собственному усмотрению. Гамильтон подобен повару, который готовит все угощения из свежих продуктов; Музеус же вытаскивает старые предания, словно вчерашнее холодное мясо из погреба, и своим мастерством да приправами придает им новый вкус для сегодняшнего обеда. Конечно, успех rifacimento[14] следует приписать в данном случае не только основной фабуле, но и дополнениям искусного рассказчика. Например, в повести «Чудесное дитя» так называемый исходный материал скуден, примитивен и едва ли возвышается над чудесами обычной детской сказки, но благодаря яркому образу старого скряги, который выменивает своих четырех дочерей на золотые яйца и мешки жемчуга, все оживает и повесть приобретает остроту и занимательность. Другая народная сказка «Цирюльник-призрак» и сама по себе не лишена оригинальности и выдумки, но особенную живость и увлекательность придает ей характер главного героя, добродушного, честного, твердолобого бременца, которого нужда до тех пор учит уму-разуму, пока он с помощью природного мужества и некоторой приобретенной мудрости и не выпутывается постепенно из затруднений и не возвращает себе утраченного имущества. Еще более своеобразное преломление приобретает чудесное и сверхъестественное в заново возродившемся в наши дни рыцарском романе о минувших веках с его исторической фабулой и достопримечательными чертами древности. В Германии своими опытами в этом жанре, который предполагает сочетание трудолюбия ученого с талантом художника, прославился барон де Ламотт-Фуке. Усилия этого превосходного писателя направлены к созданию романа более совершенного типа, чем у его коллег, хотя последние и пользуются подчас большей известностью. Он стремится воспроизвести историю, мифологию, нравы описываемой эпохи и представить нынешнему веку красочную картину времен, отошедших в прошлое. «Походы Тиодольфа», например, вводят читателя в тот неисчерпаемый мир готических преданий, с которым знакомят нас северные саги и «Эдда»; а чтобы сделать образ своего смелого, прямодушного и решительного героя еще более эффектным, автор сталкивает его с южными рыцарями, над которыми этот благородный исландский юноша одерживает решительную победу. В некоторых своих произведениях барон, пожалуй, даже злоупотребляет эрудицией в области древней истории и знаний старины: он забирается в такие дебри, куда не под силу следовать за ним читателю, и наш интерес к книге падает, поскольку нам становятся непонятны происходящие в ней события. Это относится к тем сочинениям, где материал заимствован из истории древних германцев; чтобы понять их, требуется куда более солидное знакомство с бытом этой малоизвестной эпохи, чем то, которым располагает большинство читателей. Нам кажется, что в такого рода сочинениях автору следует взять за правило ограничивать себя историческими событиями либо всем известными, либо такими, которые без особых хлопот можно разъяснить читателю в той мере, в какой это требуется для понимания смысла книги. Впрочем, в тех случаях, когда материал был выбран удачно, барон де Ламотт-Фуке показал, что он им превосходно владеет. Его повесть «Синтрам и его спутники» в этом отношении просто превосходна, а другая повесть «Ундина» — о наяде, или речной нимфе, — полна самой утонченной прелести. Страдания героини, — а страдания эти подлинные, хоть она и фантастическое существо, — вызваны следующими причинами: будучи духом стихий, Ундина не подвержена страстям человеческим, но она добровольно отказывается от этой своей привилегии и становится женой красивого юного рыцаря, который, однако, платит ей изменой и неблагодарностью. Этот сюжет в одно и то же время и противоположен и созвучен «Diable Amoureux»[15] Казотта, но повесть начисто лишена той polissonnerie,[16] которая в ее французском прототипе так оскорбляет хороший вкус.
Рамки рыцарского романа под пером этого изобретательного и плодовитого писателя раздвинулись, вобрав в себя мало освещенные периоды древней истории, вплоть до смутных преданий Киммерии; при этом автору удалось создать искусные и правдивые картины, полные захватывающего интереса; вот почему этот жанр, бесспорно, заслуживает признания как один из видов романтической литературы, в чем-то близкий эпопее в поэзии и весьма пригодный для воспроизведения аналогичных красот.
Итак, мы в общих чертах проследили разные методы воспроизведения чудесного и сверхъестественного в художественной литературе; однако приверженность немцев к таинственному открыла им еще один литературный метод, который едва ли мог бы появиться в какой-либо другой стране или на другом языке. Этот метод можно было бы определить как фантастический, ибо здесь безудержная фантазия пользуется самой необузданной и дикой свободой и любые сочетания, как бы ни были они смешны или ужасны, испытываются и применяются без зазрения совести. Другие методы воспроизведения сверхъестественного даже эту мистическую сферу хоть в какой-то степени подчиняют известным закономерностям, и воображение в самом дерзновенном своем полете руководствуется поисками правдоподобия. Не так обстоит дело с методом фантастическим, который не знает никаких ограничений, если не считать того, что у автора может наконец иссякнуть фантазия. Произведения, созданные по этому методу, так же относятся к обычному роману, комическому или серьезному, как фарс или, пожалуй, даже пантомима относятся к трагедии и комедии. Внезапные превращения случаются в необычайнейшей обстановке и воспроизводятся с помощью самых неподходящих средств: не предпринимается ни малейшей попытки сгладить их абсурдность или примирить их противоречия; читателю только и остается, что взирать на кувыркание автора, как смотрят на прыжки или нелепые переодевания арлекина, не пытаясь раскрыть в них что-либо более значительное по цели и смыслу, чем минутную забаву. Английский строгий вкус не легко примирится с появлением этого необузданно-фантастического направления в нашей собственной литературе; вряд ли он потерпит его и в переводах. Единственное сочинение, приближающееся к подобной манере, — это яркая книга о Франкенштейне, но и там, хотя создание мыслящего и чувствующего существа с помощью технической выдумки относится к области фантастики, все же главный интерес обращен не на чудесное сотворение Франкенштейна, а на те переживания и чувства, которые должны быть этому чудовищу естественно присущи, если только это слово уместно при столь противоестественном происхождении и образе жизни героя. Иными словами, все это чудотворное представление затеяно не ради самого чуда, а ради той последовательной цепи размышлений и действий, которые сами по себе логичны и правдоподобны, хотя основной стержень, на котором все они держатся, совершенно невероятен. В этом отношении «Франкенштейн» напоминает «Путешествия Гулливера», где самые диковинные вымыслы допускаются ради того, чтобы извлечь из них философский смысл и нравственный закон. Допущение чудес в этом случае подобно плате при входе в лекционный зал; это вынужденная уступка автору, за которую читатель получает возможность духовного обогащения. Однако та фантастика, о которой мы ныне ведем речь, вовсе не связывает себя подобным условием, и единственная ее цель — поразить публику самим чудодействен. Читателя заманивают, сбивают с пути причудливые призраки, чьи проделки, лишенные цели и смысла, находят оправдание в одной лишь их необычности. На английском языке нам известен всего лишь один пример подобного рода литературы: это потешная сценка в повести мистера Джофри Крейона «Смелый драгун», где мебель пляшет под музыку призрачного скрипача. Другие рассказы о привидениях этого прославленного и всеми любимого писателя остаются в тех общепринятых пределах, которыми Гленвил, а также другие заслуженные и авторитетные мастера ограничивают призрачное царство теней; мы полагаем однако, что в приводимом ниже отрывке мистер Крейон изменил своей обычной манере, пытаясь доказать, что случайные ландскнехты так же подвластны ему, как и регулярные войска волшебного мира.
В отблеске камина он увидел бледного малого со сморщенным лицом, в долгополом фланелевом халате и высоком белом колпаке с кисточкой, который, сидя у огня и держа под мышкой мехи, извлекал из волынки астматические ноты, приводившие в ярость моего дедушку. Играя, он к тому же еще все время дергался, принимая самые причудливые позы, покачивал головой и тряс своим увенчанным кисточкой колпаком. На противоположном конце комнаты стул с высокой спинкой и изогнутыми ножками, крытый кожей и утыканный по последней моде медными гвоздиками, внезапно пришел в движение; у него обнаружились сначала когтистые ступни, затем кривые руки, и вот он уже изящным шагом приблизился к креслу, покрытому засаленной парчой, с дыркой внизу, и учтиво повел его в призрачном менуэте.
Музыкант играл все неистовей, тряся головой и колпаком как безумный. Постепенно танцевальный экстаз охватил и прочую мебель. Старомодные долговязые стулья, разбившись на пары, выделывали па контрданса. Табуретка-треножник откалывала матросский танец, хотя ей ужасно мешала третья нога; в то же время влюбчивые щипцы, обхватив за талию лопатку для угля, кружили ее по комнате в немецком вальсе. Короче говоря, все, что способно было двигаться, плясало и вертелось, взявшись за руки, словно свора дьяволов, — все, за исключением большого комода, который, подобно вдовствующей особе, только приседал все время и делал реверансы в углу, выдерживая точно ритм музыки, но не танцуя, видимо вследствие излишней тучности или, быть может, за отсутствием партнера.
Мастерски написанная небольшая сценка — вот и все, чем мы в Англии располагаем в области фантастического направления в литературе, о котором мы ведем речь. «Петер Шлемиль», «Эликсир дьявола» и другие немецкие произведения этого рода получили у нас известность лишь благодаря переводам. Писателем, который открыл дорогу этому литературному направлению, был Эрист Теодор Вильгельм Гофман, чей гений, равно как темперамент и образ жизни способствовали его успеху в той сфере, где воображение напрягалось до последних пределов эксцентричности и bizarrerie.[17] Был он, видимо, человеком редкостной одаренности — и писатель, и живописец, и музыкант, — но благодаря своему капризному, ипохондрическому нраву во всех своих творческих начинаниях он впадал в крайности, в результате чего в музыке его преобладало каприччио, живопись обращалась в карикатуру, а повести, по его собственному определению, — в причудливые фантазии.
Получив поначалу юридическое образование, он в какие-то периоды своей жизни служил в Пруссии и других немецких землях в должности мелкого государственного чиновника, в другое же время был полностью предоставлен собственной своей находчивости и зарабатывал на жизнь то в качестве композитора при театре, то как писатель, то как живописец.
Внезапные перемены в судьбе, неуверенность, зависимость от случая такой образ жизни, несомненно, наложил отпечаток на его душевный склад, от природы весьма чувствительный к падениям и взлетам; а его темперамент, и без того неровный, стал еще более неустойчивым от этого мелькания городов и профессий, от общей непрочности его положения. К тому же он подстегивал свою гениальную фантазию вином в весьма чувствительных дозах и бывал крайне неумерен в употреблении табака. Даже внешний облик Гофмана говорил о состоянии его нервной системы: низкорослый человечек с копной темно-каштановых волос и глазами, которые горели под этой непокорной гривой, выглядел
Как серый ястреб с хищным взороми обнаруживал черты душевного расстройства, которое, видимо, он и сам сознавал, иначе бы не оставил он в своем дневнике полных ужаса строк:
Почему во сне и наяву преследуют меня неотступные мысли о безумии? Извержение диких помыслов, вырастающих в моем сознании, напоминало бы, вероятно, кровоизлияние.
На протяжении неустроенной, бродячей жизни Гофмана случались порой события, которые, казалось ему, метили его особой метой, как того, кто «не значится среди людей обыкновенных». На самом деле эти события вовсе не носили столь необычайного характера. Вот один из примеров. Как-то раз на водах Гофман присутствовал в зале, где шла крупная игра, и его приятель, привлеченный видом рассыпанного по столу золота, решился принять в ней участие. Колеблясь, однако, между надеждой и страхом и не доверяя собственной удаче, он сунул Гофману полдюжины золотых, чтобы тот от себя поставил их на карту. Судьба благоприятствовала юному мечтателю: хотя он и был вовсе несведущ в игре, ему удалось выиграть для друга около тридцати фридрихсдоров. На следующий вечер Гофман рискнул попытать счастья сам. Это не было, замечает он, заранее обдуманным намерением: решение пришло, когда его друг снова стал упрашивать Гофмана поставить за него деньги. Гофман сел за стол и стал играть на собственный страх и риск, поставив на карту два фридрихсдора — все, чем он тогда располагал. Если и в предшествующий вечер Гофману удивительно везло, то сейчас, казалось, он вступил в сговор с какими-то высшими силами. Он выигрывал все ставки подряд, каждая карта оборачивалась к его выгоде.
Я утратил власть над своими чувствами, — говорит он, — и, по мере того как ко мне стекалось золото, мне все больше казалось, что все это происходит во сне. Пробудился я лишь для того, чтобы рассовать по карманам выигранные деньги. Игра закончилась, как обычно, около двух часов ночи. Когда я собрался уходить, какой-то старик военный положил мне руку на плечо и, глядя на меня пристальным и суровым взглядом, сказал: «Молодой человек, если вы так разбираетесь в этом деле, вы сможете сорвать любой банк. Однако если вы действительно втянулись в игру, помните — дьявол целиком завладеет вами, как владеет всеми здесь присутствующими». Не дожидаясь ответа, он повернулся и пошел прочь. Уже брезжила заря, когда я вернулся домой и стал выкладывать из карманов на стол кучи золота. Представьте себе чувства юноши, весьма стесненного в средствах, ограниченного в расходах самой скромной суммой, на которого вдруг, словно с неба, свалилось сокровище, пусть даже ненадолго сделавшее его настоящим богачом! Но в то время как я смотрел на это золото, под влиянием острой и неожиданной боли, столь жестокой, что холодный пот выступил на лбу у меня, ход моих мыслей вдруг круто изменился. Лишь теперь дошли до моего сознания слова старого офицера во всем ужасном и грозном их значении. Мне показалось, что золото, блистающее передо мной на столе, — это как бы задаток, брошенный Князем Тьмы за власть над моей душой, которой теперь уже не избежать гибели. Мне чудилось, что какая-то ядовитая гадина высасывает кровь из моего сердца, и я почувствовал себя низвергнутым в бездну отчаяния.
Но вот румянец зари окрасил окна, лучи его осветили деревья и равнину, и наш юный мечтатель испытывает блаженное ощущение возвращающихся сил; он теперь способен побороть соблазн и защитить себя от адского наваждения, грозившего ему, как он полагал, неминуемой гибелью. Под воздействием этих переживаний Гофман дал клятву никогда не брать в руки карт и выполнял ее до конца жизни. «Урок, данный мне офицером, — пишет Гофман, — был хорош, а его последствия превосходны». Но благодаря особому складу души Гофмана этот урок подействовал на него скорее как народное средство, чем как лекарство опытного врача. Он отказался от карточной игры, не столько уверясь в порочных нравственных последствиях этой привычки, сколько из простого страха перед образом злого духа.
В другую пору жизни Гофману удалось доказать, что его необычайно подвижная и необузданная фантазия ни в какой мере не связана с доходящей до безумия робостью, которую приписывают обычно поэтам, этим «сгусткам воображения». Писатель находился в Дрездене в тот богатый событиями год, когда город был уже почти захвачен союзниками; падению его помешало внезапное возвращение Бонапарта и его гвардии из Силезии. Гофман тогда увидел войну в самой непосредственной близости; он не побоялся пройти в пятидесяти шагах от метких французских стрелков, когда те обменивались выстрелами с пехотой союзников неподалеку от Дрездена. Он пережил бомбардировку города; одно из ядер взорвалось перед домом, где Гофман и актер Келлер с призванными содействовать укреплению духа бокалами в руках следили через одно из окон верхнего этажа за ходом наступления. Взрывом убило троих человек; Келлер выронил бокал, но философски настроенный Гофман допил вино со словами: «Вот она, жизнь! И как же все-таки хрупко человеческое тело, если оно не в силах справиться с осколком раскаленного железа!» Он видел поле битвы, когда обнаженными трупами набивали огромные траншеи, обращенные в братские могилы; поле, носившее следы яростного сражения, усеянное убитыми и ранеными солдатами и лошадьми; повсюду валялись взорванные зарядные ящики, обломки оружия, кивера, шпаги, патронные сумки… Он видел и Наполеона в зените его славы и слышал, как этот человеке осанкой и голосом льва крикнул адъютанту одно лишь словечко: «Voyons!»[18]
Приходится сожалеть, что Гофман сохранил лишь скудные записи об этих насыщенных событиями неделях своего пребывания в Дрездене, — ведь он с его наблюдательностью и изобразительным талантом мог бы рассказать о них весьма точно. Нельзя не отметить, что обычно описания военных действий напоминают скорее схему, чем подлинную картину, и, хотя из них можно кое-что почерпнуть специалисту по тактике, они редко вызывают интерес у простого читателя. В частности, военный человек, если спросить у него о битве, в которой он принимал участие, скорей прибегнет к сухому и отвлеченному языку газетных реляций, чем станет изукрашивать свой рассказ живописными и яркими подробностями, которые так ценятся обычными слушателями. Это и понятно, ибо ему кажется, что, отойди он от бесстрастной и подчеркнуто профессиональной манеры изложения, его тотчас же заподозрят в стремлении преувеличить опасность, которой он подвергался, а такое подозрение больше всего на свете страшит подлинного смельчака; да к тому же нынешние военные и вообще считают подобные рассказы проявлением дурного вкуса. Вот почему так досадно, когда человек, не связанный с военным ремеслом и вместе с тем способный запечатлеть все его жуткие подробности, случайно сделавшись очевидцем столь примечательных событий, как дрезденские бои в памятном 1813 году, не оставил подробного описания того, что, несомненно, вызвало бы у нас живейший интерес. Описание последовавшей затем битвы при Лейпциге, сделанное ее очевидцем М. Шоберлем (если мы верно запомнили это имя), — вот, примерно, то, на что мы могли бы рассчитывать, если бы человек с талантом Гофмана сообщил нам свои личные впечатления о грозных событиях, при которых ему довелось присутствовать. Мы охотно пожертвовали бы некоторыми из его произведений в духе гротескной diablerie[19] ради верной картины наступления на Дрезден и последующего отхода союзных армий в августе 1813 года. Это была последняя значительная победа Наполеона, и так как почти сразу за ней последовало поражение Вандама и потеря corps d'armee,[20] ее можно рассматривать как бесспорную дату начала падения императора. Гофман к тому же пылкий патриот, истинный, чистокровный немец, всей душой желавший освобождения своей родины. Он бы с огромным воодушевлением описал победу Германии над ее угнетателем. Но ему не было суждено создать о ней даже небольшой исторический очерк. Вскоре за тем французская армия отступила, и Гофман вернулся к обычным своим занятиям — к литературным трудам и дружеским попойкам.
Тем не менее весьма возможно, что его лихорадочное воображение получило новый толчок от зрелища тягот и опасностей, свидетелем которых столь недавно был наш писатель. Другое, на этот раз семейное, несчастье также способствовало болезненному повышению чувствительности Гофмана. Во время переезда в другой город случайно опрокинулась почтовая карета, и его жена была опасно ранена в голову, от чего страдала затем длительное время.
Все эти обстоятельства в сочетании с нервическим от природы темпераментом навязали Гофману такой строй мыслей, который, быть может, весьма благоприятствовал успешной работе над его необычными произведениями, но далеко не способствовал тому спокойному и уравновешенному типу человеческого бытия, с которым философы склонны связывать достижение высшей ступени счастья. Болезненная острота восприятия, при которой человек нисколько не считается с доводами рассудка и действует вопреки его повелениям, создает душевную неустойчивость, столь порицаемую в превосходной «Оде равнодушию»;
То сердце мира не найдет, Что, словно стрелка, рыщет. Оно к веселью, к скорби льнет, Замрет и снова ищет.Страдание, которое иногда связано с чрезмерной чувствительностью тела, в других случаях коренится в собственном нашем возбужденном воображении; поэтому нелегко установить, что страшней — обостренная ли восприимчивость или преувеличенная живость фантазии. У Гофмана, в частности, нервы были в состоянии самом болезненном. Жестокий приступ нервной горячки в начале 1807 года еще более обострил роковую возбудимость, от которой он и без того страдал: то, что вначале поразило его тело, вскоре распространилось и на разум. Он составил для собственного пользования особого рода шкалу душевных состояний, которая, подобно шкале термометра, определяла, насколько взвинчены его нервы, вплоть до такого предела, за которым, вероятно, уже начиналось подлинное безумие. Не легко подыскать английские слова, соответствующие тем терминам, которыми Гофман определял свои ощущения; заметим только, что один день был в его дневнике отмечен настроенностью романтической и религиозной, на другой день он, по его словам, пребывал в состоянии экзальтированном и возбужденно-шутливом, на третий — становился язвительно насмешливым, на четвертый — бывал во власти бурных и причудливых музыкальных звучаний, на пятый- им овладевала романтическая тяга ко всему отталкивающему и ужасному, на шестой день он опять саркастичен и жаждет чего-то капризно-необычного и экзотического, на седьмой — впадает в квиетизм, его душа раскрыта прекрасным, чистым, привлекательным и образно-поэтическим впечатлениям, а на восьмой день он уже снова возбужден, но на этот раз его влекут к себе лишь самые отвратительные, самые ужасные и самые дикие мысли, которые к тому же еще и особенно мучительны. Порой чувства, отмечаемые в дневнике этим злосчастным гением, совершенно противоположны тому, что, по его мнению, свидетельствует о нервном возбуждении. Напротив, они говорят об упадке духа, о равнодушии к тем ощущениям, которые прежде он воспринимал с особой живостью, причем безразличие это сопровождалось у Гофмана меланхолией и полным бессилием, столь характерными для человека, припоминающего былые наслаждения, когда они уже не доставляют ему радости. Этот своеобразный духовный паралич представляется нам особого рода болезненным состоянием, которое в той или иной степени свойственно каждому, начиная от бедного механика, внезапно обнаружившего, что ему, как он выражается, «рука отказала» и что он не может выполнить обычную работу с присущей ему некогда ловкостью, и кончая поэтом, чья муза покидает его в тот момент, когда он, быть может, особенно в ней нуждается. В таких случаях разумный человек прибегает к усиленным упражнениям или к смене занятий; невежда же и человек безрассудный пытаются справиться с этим пароксизмом более вульгарными средствами. Но то, что у обычных людей оказывается хоть и неприятным, но преходящим состоянием, превращается в подлинный недуг для такой натуры, как Гофман, болезненно ощущающей любые крайности, но особенно часто и длительно подверженной всему, что сулит страдание. Таково уж действие чрезмерно богатого воображения. Именно подобной душевной настроенности обязан Бертон своей концепцией меланхолии, когда в душе чередуются радости и муки, рожденные воображением. Его стихи столь удачно воспроизводят этот изменчивый, ипохондрический склад, что всего лучше просто привести их:
Когда я с радостным лицом Склоняюсь молча над ручьем Иль, зеленью лесной храним, Брожу, неслышен и незрим, И тысячи немых услад Мне радость чистую дарят, Не отыщу прекрасней доли я, Чем сладостная меланхолия. Когда гуляю иль сижу, Вздыхаю, о былом тужу Под мрачным куполом ветвей Иль в бедной хижине моей, Когда тоски иль горя гнет Меня коверкает и гнет. Ах, лучше б кончил жизнь в неволе я, Чем в лапах злобной меланхолии. Я слышу, музыка звенит, Она блаженство мне сулит, И мир у ног моих тогда Селенья, замки, города, И блеск, и чары красоты, И женщин нежные черты, И не найду прекрасней доли я, Чем сладостная меланхолия. Я слышу скорби жуткий вскрик, О грозный звук, о страшный миг! Кошмаром близится тогда Уродов злобных череда, Зверей, безглавых обезьян, Вампиров, демонов, цыган. Уж лучше б кончил жизнь в неволе я, Чем в лапах черной меланхолии.В состоянии безотчетного возбуждения, описанного в этих стихах, мучительное и мрачное расположение духа, вообще говоря, куда более обычно, нежели веселое, приятное и восторженное. Всякий, кто попытается проследить за собой, легко установит правдивость этого утверждения, ибо оно неизбежно вытекает из несовершенства человеческой природы, которая при мыслях о будущем куда охотнее рисует нашему взору картины неприятные, чем сладостные; иными словами, страх в наших мыслях занимает куда более обширную сферу, нежели противостоящая ему надежда. В том-то и вся беда, что Гофман был так сильно подвержен первому из этих душевных состояний и любое приятное ощущение неминуемо сочеталось у него со страхом перед его вредными и опасными последствиями. Его биографы приводят немало примеров такого тягостного предрасположения, когда он не только преувеличивал возможность беды при действительной опасности, но капризно и некстати связывал свои роковые предчувствия с самыми безобидными и невинными происшествиями. «Дьявол, — обычно говорил он, — всюду всунет свое копыто, как бы гладко ни шло все сначала». Мелкий, но удивительно характерный пример наглядно продемонстрирует читателю эту злополучную склонность всегда ожидать худшего. Гофману, внимательному наблюдателю окружающего мира, довелось однажды увидеть, как к прилавку рыночной торговки подошла маленькая девочка, чтобы купить приглянувшиеся ей фрукты. Осторожная торговка пожелала сперва выяснить, хватит ли у девочки денег на покупку; и когда крошка, прелестное создание, весело и гордо показала совсем мелкую монету, женщина дала ей понять, что нет у нее на прилавке товара, который соответствовал бы содержимому кошелька покупательницы. Оскорбленная и пристыженная девочка разочарованно отошла со слезами на глазах, но Гофман подозвал ее и, уладив дело с торговкой, высыпал бедняжке в передник самые лучшие фрукты. Однако недолго тешился он тем, что выражение ее детского личика переменилось, что вместо обиды на нем теперь сияли счастье и полный восторг; внезапно им овладело опасение, не причинил ли он ребенку смертельный вред, не объестся ли девочка фруктами, которые он ей накупил, и не станут ли эти фрукты источником какой-нибудь опасной болезни. Эта мысль, все время терзавшая его, пока он шел к своему приятелю, была сродни многим другим, которые преследовали его всю жизнь, никогда не давая насладиться плодами доброго или благожелательного поступка и отравляя неясным предчувствием воображаемого зла все, что приносило наслаждение в настоящем или сулило счастье в будущем.
И как тут не противопоставить Гофману Вордсворта, также обладающего живым воображением и чувствительностью, Вордсворта, в чьих стихах отражаются порою столь же несложные события, как и вышеприведенный случай, с тем, однако, существенным различием, что ясное, мужественное и разумно направленное сознание поэта обычно подсказывает ему приятные, нежные и утешительные мысли в тех же обстоятельствах, в которых Гофман предчувствует совсем иные последствия. Подобные незначительные эпизоды проходят бесследно для людей с заурядным складом мышления. Наблюдатели же с богатым поэтическим воображением, подобные Вордсворту и Гофману, — это химики, способные извлечь из них либо успокаивающее лекарство, либо отраву.
Мы не станем утверждать, что воображение Гофмана было порочным или извращенным, мы только подчеркиваем его необузданность и чрезмерное пристрастие ко всему нездоровому и страшному. Так, например, его постоянно, особенно в часы одиночества и напряженной работы, преследовало ощущение загадочной опасности, которая якобы нависла над ним; а заполнившее его книги племя чудовищ, призраков, фантасмагорических видений и всякого рода нечисти, хоть и было сотворено его собственным воображением, приводило его в такой трепет, как если бы все эти существа жили в реальном мире и в самом деле могли накинуться на своего создателя. Эти порожденные им самим видения порой настолько оживали в его глазах, что он уже не в силах был их выносить, и ночью — обычное время его работы — Гофман часто будил жену, чтобы она сидела у стола, пока он пишет, и своим присутствием защищала его от фантомов его же собственного больного воображения.
Таков был этот зачинатель фантастического направления в литературе, или, во всяком случае, первый значительный художник, который использовал в своем творчестве фантастику и сверхъестественный гротеск, столь близко подойдя к грани подлинного безумия, что он и сам пугался детищ своей фантазии. Неудивительно, что в сознании, настолько подвластном воображению и так мало сообразующемся со здравым смыслом, возникла целая вереница образов, в которых главную роль играет фантазия и вовсе не участвует рассудок. В самом деле, гротеск в его произведениях похож на живописную арабеску, на которой можно различить диковинных, причудливых, замысловатых чудищ, напоминающих кентавров, грифов, сфинксов, химер, птицу Рок и всякие иные романтические видения, на сложный орнамент, который ослепляет зрителя казалось бы необычайной плодовитостью вымысла и поражает его богатейшими контрастами всех возможных форм и оттенков, тогда как на деле во всем этом не сыскать ничего, что бы обогащало рассудок или давало пищу для суждения. Всю свою жизнь, а она у него была нелегкая, Гофман истратил на полотна, изображающие такого рода дикие и фантастические образы, которые принесли ему куда меньше успеха у публики, чем если бы его талант был руководим более требовательным вкусом и более основательным суждением. Есть немало оснований полагать, что и жизнь его оборвалась столь рано не только из-за психического недуга, который мешал правильному пищеварению и нормальной работе желудка, но и вследствие невоздержанности, которая шла от желания преодолеть меланхолию, столь властно подчинившую себе его дух. И это тем прискорбней, что Гофман, при всех причудах перенапряженного воображения, так странно исказившего его художественный вкус, был, видимо, человеком недюжинного таланта, вдумчивым наблюдателем окружающего, и, если бы болезненный и путаный ход мыслей не заставил его свести чудесное к абсурдному, он прославился бы как тончайший живописец души человеческой, которую он умел воспринимать во всей ее реальности и которой не уставал восхищаться.
Гофман особенно удачно воспроизводил характеры, часто встречающиеся у него на родине, в Германии. Среди множества немецких литераторов не сыскать другого, который бы сумел лучше и вернее обрисовать искреннюю прямоту и суровую честность, какие встречаются во всех сословиях этой страны, ведущей свое происхождение от древних тевтонских племен. В частности, в повести «Das Majorat» — «Майорат» — изображен подобный характер, видимо специфически немецкий и разительно непохожий на людей той же профессии, как их принято описывать в романах или какими они, вероятно, встречаются в реальной жизни в других странах. Юстициарий Ф. выполняет почти те же обязанности в семье барона Родериха фон Р., дворянина, владеющего обширными поместьями в Курляндии, какие всем хорошо известный приказчик Мак-Уибл выполнял на землях барона Брэдуордина. Юстициарий, к примеру, представляет особу сеньора в его феодальном суде, следит за правильным поступлением доходов, учитывает и проверяет траты на ведение его дома и благодаря длительному знакомству с делами этого семейства получает право участвовать в обсуждении и давать советы во всех случаях, когда этого требуем необходимость. Разрабатывая подобный же характер, шотландский автор позволил себе приписать ему склонность к мошенничеству, которую считают обычно присущей судейским низшего разбора, что, видимо, не противоречит истине. Приказчик, жалкий, низменный трус и крючкотвор, вызывал бы у нас лишь презрение и отвращение, если бы этот образ не спасали некоторые забавные черты, сочетающиеся с профессиональной ловкостью Мак-Уибла и той почти животной привязанностью к своему патрону и его семейству, которая, видимо, перевешивает даже природный эгоизм этого человека. Юстициарий баронов Р. совершенно противоположен ему по складу характера. Он чудаковат, ему присущи и старческие капризы и связанная с ними насмешливая брюзгливость, но по моральным своим качествам он как будто вышел из-под пера де Ламотт-Фуке, этот рыцарственный герой в халате и домашних туфлях современного старика правоведа. Врожденное достоинство, независимый нрав, отвага и решимость юстициария, казалось, скорее возросли, чем уменьшились под влиянием его образования и профессии, которые обычно помогают лучшему постижению человеческой природы и, при отсутствии чести и совести, способствуют самым подлым и опасным проделкам, которые только может учинить человек по отношению к своим ближним. Быть может, несколько строчек из Крабба помогут обрисовать склад ума юстициария, хоть он и отмечен, как мы покажем, более привлекательными качествами, чем те, которые английский поэт приписывал достойному стряпчему своего местечка.
В местечке, прямодушен и суров, Он вел дела прижимистых дельцов, Но как истец, так и плательщик иска Им одинаково ценились низко. Он дружелюбен, но угрюм и горд, Он сердцем чист, но бдителен и тверд, Он видел столько грязи и паденья, Что, друг людей, он полон к ним презренья, С печалью в сердце зрел порою он, Как с легкостью был добрый совращен, Как друга не щадил и лучший друг, Как разрывался уз священный круг И тут же сочетались безобразно Порок голодный с мерзостью соблазна.Юстициарий, изображенный Гофманом, обладает, однако, еще более возвышенным характером, чем персонаж поэмы Крабба. Он был поверенным двух поколений баронов и постепенно сделался хранителем семейных тайн этого дома, тайн, порою загадочных и ужасных. Положение доверенного лица, а в еще большей степени личная энергия и благородство старика заставляли считаться с ним даже его патрона, хотя барон был полон важности и держался временами весьма гордо и заносчиво. Изложение фабулы повести слишком увело бы нас в сторону, хотя «Майорат» является, на наш взгляд, лучшим из всего, что когда-либо создал его автор. Тем не менее кое-что нам придется рассказать, чтобы стали понятны те краткие выдержки, которые мы собираемся привести, в основном для характеристики юстициария.
Основную часть состояния барона составлял его родовой замок Р…зиттен — неделимое имение, или майорат, который дал название всей повести. В соответствии со статутом этого вида собственности, барону приходилось каждый год проводить там некоторое время, хотя ни местоположение Р…зиттена, ни его обитатели не таили в себе ничего привлекательного. Это было огромное старинное здание на берегу Балтийского моря, безмолвное, мрачное, почти, можно сказать, необитаемое и окруженное не садами и парками, а густым лесом, черные сосны и ели которого подступали к замковым стенам. Все развлечения барона и его гостей сводились днем к травле волков и медведей, облюбовавших этот лес, а вечером — к шумным пиршествам, где прилагались такие усилия, чтобы изобразить бурное веселье и радость, которые свидетельствовали о том, что по крайней мере сам барон вовсе не испытывал этих чувств. Часть здания была разрушена. Башня, возведенная одним из прежних владельцев, основателем пресловутого майората, для занятий астрологией, обвалилась, и теперь на ее месте от дозорной вышки до самого подземелья замка чернел зияющий провал. Падение башни было роковым для ее владельца, злосчастного астролога, а глубокий провал оказался не менее роковым для его старшего сына. Судьба последнего оставалась загадочной, и все обстоятельства его гибели, известные или предполагаемые, сводились к следующему.
Барону запомнились оброненные как-то стариком дворецким слова о том, что сокровища покойного астролога погребены на дне пропасти, в развалинах башни. В эту пугающую бездну можно было заглянуть из рыцарской залы замка: там сохранилась дверь, которая раньше вела на лестницу башни, а теперь открывалась прямо в глубокую дыру с грудой обломков внизу. На дне этого провала и был найден разбившийся насмерть сын астролога, второй барон из рода, о котором ведется рассказ, причем его рука продолжала сжимать восковую свечу. Полагали, что он отправился за книгой в библиотеку, куда также попадали через залу, но ошибся дверью и нашел свой конец, свалившись в разверзшуюся пустоту. Полной уверенности в этом, однако, не было.
Это двойное несчастье и какая-то природная унылость этих мест, видимо, и были причиной того, что нынешний барон Родерих редко посещал замок; но условия майоратного владения обязывали его проводить в нем хотя бы несколько недель в году. Примерно в то же время, когда он туда наведывался, приезжал в замок обычно и юстициарий, который вершил суд от лица барона и выполнял прочие официальные обязанности. К началу этой повести он как раз прибыл в Р…зиттен в сопровождении своего внучатного племянника, от лица которого ведется повествование, — молодого человека, совсем еще неискушенного в светской жизни, воспитанного несколько в духе Вертера — романтичного, восторженного, слегка тщеславного, музыканта, поэта и щеголя; при всем том достойнейшего малого, полного уважения к своему двоюродному деду, юстициарию, который, со своей стороны, относился к юноше с большой добротой, но при этом любил посмеяться над ним. Старик взял его с собой отчасти как помощника в судейских делах, но больше — чтобы закалить его здоровье на холодном, свистящем северном ветре да в трудах и опасностях волчьей охоты.
Они добрались до старого замка, когда кругом бушевала метель. Вся округа выглядела особенно мрачной, дороги были занесены снегом, и форейтор напрасно стучал в ворота… Но здесь мы предоставим вести рассказ самому Гофману.
Тут старик грозно закричал во всю мочь:
— Франц! Франц! Куда ты запропастился? Пошевеливайся, черт подери! Мы замерзаем у ворот! Снег до крови нахлестал лицо, пошевеливайся, черт дери!
Завизжала дворовая собака, в нижнем этаже замелькал свет, загремели ключи, и скоро со скрипом растворились тяжелые створки ворот.
— А, добро пожаловать, добро пожаловать, господин стряпчий, угораздило вас в такую несносную погоду!
Так вскричал старый Франц, подняв высоко фонарь; свет ударял ему прямо в лицо, морщинистое и странно скривившееся в приветливой улыбке. Повозка въехала во двор; мы выбрались из нее, и тут только я разглядел необычайную фигуру старого слуги, облаченного в старомодную егерскую ливрею, затейливо расшитую множеством всяких снурков. Над широким белым лбом лежало всего несколько седых прядей, нижняя часть лица обветрела и загрубела, как и полагается охотнику, и хотя напряженные мускулы почти превращали его в причудливую маску, однако глуповатое добродушие, светящееся в глазах старика, играющее на его устах, вновь примиряло с ним.
— Ну, старина Франц, — заговорил в передней мой дед, стряхивая снег с шубы, — ну, старина Франи, все ли готово, выбита ли пыль из ковровых обоев в моих комнатушках, принесены ли постели, ладно ли истопили там вчера и сегодня?
— Нет, — невозмутимо ответил Франц, — нет, высокочтимый господин стряпчий, ничего этого не сделано.
— Боже милостивый, — изумился дед, — да я, кажись, написал заблаговременно: я ведь приезжаю всегда в указанный срок; вот бестолковщина; стало быть, придется поселиться в промерзлых комнатах!
— Да, высокочтимый господин стряпчий, — продолжал Франц, заботливо перекусив щипцами курящийся нагар свечи и затоптав его ногами, — да, видите ли, все это не много бы помогло, особливо топка, ибо ветер и снег гуляют там без всякого препятствия, окна разбиты, и там…
— Что, — перебил его мой дед, распахнув шубу и подбоченившись, — что, окна разбиты, а ты, замковый кастелян, не распорядился вставить стекла?
— Я распорядился бы, высокочтимый господин стряпчий, — спокойно и невозмутимо продолжал старик, — да только туда и не подступишься — уж очень много навалилось щебня и кирпича в ваших покоях.
— Тьфу ты, провал возьми, откуда взялись в моих комнатах щебень и кирпич? — вскричал дед.
— Желаю вам беспрестанно пребывать в добром здравии, молодой господин, — проговорил Франц, учтиво мне кланяясь, ибо я только что чихнул, и тотчас прибавил: — Это известка и камень от средней стены, той, что обвалилась.
— Что же случилось у вас — землетрясение? — сердито выпалил мой дед.
— Никак нет, высокочтимый господин стряпчий, — ответил Франц, улыбаясь во весь рот, — но три дня назад в судейской зале с грохотом обрушился тяжелый штучный потолок.
— Ах, чтоб… — Дед по своему вспыльчивому и горячему нраву хотел было чертыхнуться, но, подняв правую руку вверх, а левой сдвинув на затылок лисью шапку, удержался, оборотнлся ко мне и, громко засмеявшись, сказал: — По правде, тезка, надобно нам попридержать язык и не спрашивать более ни о чем, а не то узнаем о еще горшей беде, или весь замок обрушктся на наши головы. Однако ж, — продолжал он, повернуватись к старику, — однако ж, Франц, неужто не хватило у тебя смекалки распорядиться очистить и натопить для меня другую комнату? Не мог разве ты приготовить другую залу для суда?
— Да все уже приготовлено, — промолвил тот приветливо, указав на лестницу, и тотчас стал по ней подниматься.
— Ну, поглядите-ка на этого удивительного чудака! — воскликнул дед, когда мы пошли следом за кастеляном.
Мы проходили по длинным сводчатым коридорам; зыбкий пламень свечи, которую нес Франц, отбрасывал причудливый свет в густую темноту. Колонны, капители и пестрые арки словно висели в воздухе; рядом с ними шагали наши исполинские тени, а диковинные изображения на стенах, по которым они скользили, казалось вздрагивали и трепетали, и к гулкому эху наших шагов примешивался их шепот: «Не будите нас, не будите нас! Мы — безрассудный волшебный народ, спящий здесь в древних камнях». Наконец, когда мы прошли длинный ряд холодных мрачных покоев, Франц отворил дверь в залу, где ярко пылающий камин радушно приветствовал нас веселым треском. Едва я вошел туда, у меня сразу стало легко на душе; однако ж дед стал посреди залы, посмотрел вокруг и весьма серьезным, почти торжественным тоном сказал:
— Итак, здесь в этой зале, должен быть суд?
Франц, подняв высоко свечу, так что на широкой темной стене открылось взору светлое пятно с дверь величиной, ответил глухо и горестно:
— Здесь ведь однажды уже был свершен суд!
— Что это тебе взошло на ум, старик? — вскричал дед, торопливо сбросив шубу и подойдя к огню.
— Так, просто у меня вырвалось! — ответил Франц, зажег свечи и отворил дверь в боковой покой, который был уютно прибран для нас.
Скоро перед камином появился накрытый стол; старик подал отлично приготовленные блюда, за сим последовала добрая чаша пунша, как только умеют варить на севере, что пришлось весьма по душе нам обоим, мне и моему двоюродному деду. Утомившись дорогою, мой дед, отужинав, тотчас отправился почивать; новизна, необычайность места да и пунш так возбудили мой дух, что о сне нечего было и помышлять. Франц собрал со стола, помешал в камине дрова и вышел с приветливым поклоном.
И вот я остался один в высокой просторной рыцарской зале. Метель улеглась: ветер перестал завывать, небо прояснилось, и сквозь широкие арковые окна сияла полная луна, озаряя магическим светом все темные уголки этого старинного здания, куда не достигал ни тусклый свет моей свечи, ни отблеск огня в камине. Стены и потолки залы, как это и посейчас еще можно встретить в старых замках, были покрыты диковинными старинными украшениями, одни — тяжелыми панелями, другие — фантастической росписью и пестро раскрашенной золоченой резьбой. На больших картинах, чаще всего представлявших дикую схватку кровавой медвежьей и волчьей охоты, выдавались вырезанные из дерева звериные и человеческие головы, приставленные к написанным красками туловищам, так что, особенно при зыбком, мерцающем свете луны и огня, все оживало ужасающе правдиво. Из портретов, помещенных между этими картинами, выступали во весь рост рыцари в охотничьих нарядах, вероятно предки нынешних владельцев, любившие охоту. Все — живопись и резьба — было темного цвета давно минувшего времени; тем резче выделялось светлое голое пятно на той стене, где были пробиты две двери в соседние покои; скоро я уразумел, что там, должно быть, также была дверь, которую потом заложили, и что как раз эта новая кладка не была, подобно другим стенам, расписана или украшена резьбой. Кому же не ведомо, как непривычная, причудливая обстановка с таинственной силой воздействует на наш дух, так что самое ленивое воображение пробуждается и начинает предчувствовать небывалое — например, в долине, окруженной диковинными скалами, или в темных стенах церквей и проч. Ежели я прибавлю, что мне было двадцать лет и я выпил несколько стаканов крепкого пуншу, то мне поверят, что в рыцарской зале мне было неспокойней чем где-либо. Представьте себе тишину ночи, когда глухой рокот моря и странный свист ветра раздаются подобно звукам огромного органа, приведенного в действие духами; светлые мерцающие облака, проносясь по небу, часто заглядывают в скрипучие сводчатые окна, уподобляясь странствующим великанам, — поистине, в тайном трепете, пронизывавшем меня, я должен был почувствовать, что неведомый мир может зримо и явственно открыться передо мной. Но это чувство было подобно той дрожи, которую охотно испытываешь, читая живо представленную повесть о привидениях. Тут мне пришло на ум, что не может быть лучшего расположения духа для чтения книги, которую я, как всякий, кто в то время хоть сколько-нибудь был предай романтизму, носил в кармане. Это был Шиллеров «Духовидец». Я читал и читал, и воображение мое распалялось все более и более. Я дошел до захватывающего своей жуткой силой рассказа о свадебном празднестве у графа фон Ф. И вот, как раз когда появляется кровавый призрак Джеронимо, со странным грохотом растворилась дверь, которая вела в залу. В ужасе я вскакиваю, книга валится у меня из рук, но в тот же миг все стихло, и я устыдился своего ребяческого испуга! Быть может, двери распахнулись от сквозного ветра или по другой какой причине. «Тут нет ничего — только мое разгоряченное воображение превращает всякое естественное явление в призрак». Успокоив себя, я подымаю книгу с полу и снова бросаюсь в кресла, но вдруг кто-то тихо и медленно, мерными шагами проходит через залу, и вздыхает, и стонет, и в этом вздохе, в этом стоне заключено глубочайшее человеческое страдание, безутешная скорбь. Ага! Это, верно, какой-нибудь больной зверь, запертый в нижнем этаже. Ведь хорошо известны ночные акустические обманы, когда все звуки, раздающиеся в дали, кажутся такими близкими. Чего же тут бояться! Так успокоил я себя, но вдруг кто-то стал царапать в новую стену, и громче прежнего послышались тяжкие вздохи, словно исторгнутые в ужасающей тоске предсмертного часа. «Да, это несчастный запертый зверь; вот сейчас я громко крикну, хорошенько притопну ногой — и тотчас все смолкнет или зверь там, внизу, явственнее отзовется своим неестественным голосом». Так я раздумываю, а кровь стынет у меня в жилах, холодный пот выступает на лбу; оцепенев, сижу я в креслах, не в силах подняться и еще менее того вскрикнуть. Мерзкое царапакие наконец прекратилось, снова послышались шаги, — и жизнь и способность к движению вновь пробудились во мне; я вскакиваю и ступаю два шага вперед; но тут ледяной порыв ветра проносится по зале, и в тот же миг месяц роняет бледный свет на портрет весьма сурового, почти страшного человека, и будто сквозь пронзительный свист ночного ветра и оглушительный ропот моря отчетливо слышу я, как шелестит его предостерегающий голос: «Остановись! Остановись, не то ты подпадешь всем ужасам призрачного мира!» И вот дверь захлопывается с таким же грохотом, как перед тем; я явственно слышу шаги в зале; кто-то сходит по лестнице, — с лязгом растворяется и захлопывается главная дверь замка. Затем будто кто-то выводит лошадь и по прошествии некоторого времени ставит ее обратно в конюшню. Потом все стихло! В ту же минуту услышал я, что мой дед в соседней комнате тревожно вздыхает и стонет. Я разом пришел в себя, схватил свечу и поспешил к нему. Старик метался, по-видимому в дурном и тяжелом сне.
— Пробудитесь, пробудитесь! — закричал я, взяв его нежно за руку и подняв свечу так, что яркий свет ударил ему в лицо.
Старик вздрогнул, испустил неясный крик, потом открыл глаза, ласково поглядел на меня и сказал:
— Ты хорошо сделал, тезка, что разбудил меня. Ах, мне привиделся дурной сон, и тому виной только эта комната и зал, ибо я вспомнил минувшее и много диковинного, что здесь случилось. Но все же постараемся выспаться хорошенько![21]
На другой день с утра юстициарий с племянником приступили к делам. Сократим, однако, подробный рассказ молодого стряпчего о том, что с ним произошло, и отметим лишь, что мистический ужас предшествующего вечера оставил такой глубокий след в его воображении, что он уже склонен был видеть черты сверхъестественного всюду, куда падал его взгляд; даже две почтенные старые дамы, тетки барона Родериха фон Р., старомодные обитательницы этого старомодного замка в их французских чепцах и штофных платьях с пестрыми оборками, казались его предубежденному взору чем-то призрачным и фантастическим. Юстициарий был обеспокоен странным поведением своего помощника и, как только они оказались наедине, попросил у него по этому поводу объяснений:
— Однако ж, тезка, скажи, бога ради, что с тобой сталось? Ты не смеешься, не говоришь, не ешь, не пьешь. Уж не болен ли ты, или с тобой что-нибудь стряслось?
Не запираясь, я обстоятельно рассказал ему все, что приключилось прошедшей ночью. Я ни о чем не умолчал, особенно подчеркнув, что выпил много пуншу и читал Шиллерова «Духовидца».
— Надобно в этом признаться, — добавил я, — и тогда станет вероятным, что моя разгоряченная фантазия создала все эти призраки, на самом деле бродившие лишь в моем собственном мозгу.
Я полагал, что дед жестоко напустится на меня и осыплет колкими насмешками мое общение с призраками, но вместо того он помрачнел, уставился в пол, потом быстро поднял голову и, устремив на меня сверкающий взор, сказал:
— Я не знаю, тезка, твоей книги. Однако ж не ей и не парам пунша обязан ты этим видением. Знай же: мне привиделось то же самое, что приключилось с тобой. Мне представилось, что я, так же как и ты, сижу в креслах подле камина, на то, что открылось тебе только в звуках, я отчетливо узрел внутренним взором. Да, я видел, как вошел страшный призрак, как бессильно толкался он в замурованную дверь, как в безутешном отчаянии царапал стену так, что кровь выступила из-под сломанных ногтей, как потом сошел вниз, вывел из конюшни лошадь и опять поставил ее туда. Слышал ли ты, как далеко в деревне пропел петух?.. И тут ты разбудил меня; я скоро поборол злое наваждение этого чудовищного человека, который все еще смущает ужасами веселие жизни.
Старик умолк, а я не хотел его расспрашивать, полагая, что он все объяснит сам, когда найдет нужным. Пробыв некоторое время в глубоком раздумье, дед продолжал:
— Тезка, теперь, когда ты знаешь, как обстоят дела, достанет ли у тебя мужества еще раз испытать это наваждение? Со мной вместе?
Разумеется, я сказал, что чувствую довольно сил для этого.
— Ну, тогда, — продолжал старик, — будущую ночь мы с тобой не сомкнем глаз. Внутренний голос убеждает меня, что это злое наваждение поборет не столько моя духовная сила, сколько мужество, основанное на твердом уповании, что это не дерзостное предприятие, а благое дело, и я не пощажу живота своего, чтобы заклясть злой призрак, который выживает потомков из родового замка их предков. Однако ж ни о каком опасном дерзновении тут и речи нет, ибо при таком твердом, честном умысле, при таком смиренном уповании, какие живут во мне, нельзя не быть и не остаться победителем. Но все же, если будет на то воля божия и меня сокрушит нечистая сила, ты, тезка, должен будешь объявить, что я пал в честной христианской битве с адским духом, который тревожит своим смутительным существованием обитателей замка! Но ты, ты держись в стороне! Тогда тебе ничего не будет!
День прошел в различных рассеивающих занятиях. После ужина Франц, как и накануне, собрал со стола и принес пунш; полная луна ярко светила сквозь мерцающие облака, морские волны кипели, и ночной ветер завывал и стучал в дребезжащие стекла сводчатых окон. Внутренне взволнованные, мы понуждали себя к равнодушной беседе. Мой дед положил часы с репетицией на стол. Они пробили двенадцать. И вот с ужасающим треском распахнулась дверь, и, как вчера, послышались тихие и медленные шаги, наискось пересекающие залу, донеслись вздохи и стоны. Дед побледнел, однако глаза его сверкали огнем необыкновенным. Он встал с кресел и, выпрямившись во весь рост, подперся левой рукой, а правую простер вперед, в середину залы, и был похож на повелевающего героя. Но все сильнее и явственнее становились стенания и вздохи, и вот кто-то стал царапаться в стену еще более мерзко, чем накануне. Тогда старик выступил вперед и пошел прямо к замурованной двери такими твердыми шагами, что затрещал пол. Став подле того места, где все бешеней и бешеней становилось царапанье, он сказал громким и торжественным голосом, какого я еще от него никогда не слыхал:
— Даниель, Даниель, что делаешь ты здесь в этот час?
И вот кто-то пронзительно закричал, наводя оторопь и ужас, и послышался глухой удар, словно на пол рухнула какая-то тяжесть.
— Ищи милости и отпущения у престола всевышнего! Там твое место. Изыди из мира сего, коему ты никогда больше не сможешь принадлежать! — Так воскликнул старик еще громче, чем прежде, и вот словно жалобный стон пронесся и замер в реве поднимающейся бури.
Тут старик подошел к двери и захлопнул ее так крепко, что в пустой зале прошел громкий гул. В голосе моего деда, в его движениях было что-то нечеловеческое, что повергло меня в трепет неизъяснимый. Когда он опустился в кресло, его взор как будто просветлел, он сложил руки, молясь в душе. Так, должно быть, прошло несколько минут, и вот мягким, глубоким, западающим в душу голосом, которым дед так хорошо владел, он спросил меня:
— Ну что, тезка?
Полон страха, ужаса, трепета, священного благоговения и любви, я упал на колени и оросил протянутую мне руку горячими слезами. Старик заключил меня в объятия и, прижимая к сердцу, сказал необычно ласково:
— Ну, а теперь будем спать спокойно, любезный тезка.
Привидение больше не появлялось. Это был, как, вероятно, догадался уже читатель, призрак вероломного слуги, чьей рукой прежний владелец замка был низвергнут в провал, зиявший за столь часто упоминавшейся дверью, недавно заложенной камнем.
Прочие события в замке Р…зиттен окрашены по-иному, но и они, бесспорно, свидетельствуют о высоком искусстве Гофмана в изображении человеческих характеров. Барон Родерих и его жена прибывают в замок в сопровождении целой свиты гостей. Баронесса молода, хороша собой и отличается болезненной впечатлительностью — она любит нежную музыку, патетические стихи, прогулки при лунном свете; дикая орава почитателей охоты, окружающих барона, их шумные дневные забавы и не менее шумные вечерние развлечения претят баронессе Серафине, и она пытается найти утешение в обществе племянника юстициария, который умеет написать сонет, исправить клавикорды, спеть партию в итальянском дуэте или принять участие в чувствительной беседе. Короче говоря, двое молодых людей, решительно не думая о чем-либо предосудительном, стояли на верном пути к греху и несчастью, если бы только их не выручили из западни, расставленной их собственной страстью, мудрая осмотрительность, здравый смысл и колкая ирония нашего друга юстициария.
Вот почему об этом герое можно сказать, что он обладает тем правдивым и честным характером, который, по нашему разумению, помогает смертному столь же успешно справиться со злыми чарами загробного мира, как сдержать и предотвратить нравственное зло в нашем реальном мире; самые возвышенные чувства движут Гофманом, когда он приписывает незапятнанной мужской чести и прямодушию ту же неуязвимость по отношению к силам зла, какие поэт связывает с женской непорочностью:
И сказано: ни дух, бродящий ночью В огне, в тумане иль в болоте мглистом, Ни ведьма тощая, ни злой вампир, Из гроба выходящий в час урочный, Ни домовой, ни злобный черный кобольд Над девичьей не властны чистотой.Поэтому в приведенных выше отрывках мы восхищаемся не просто волшебной или страшной фабулой повести, хотя события здесь изложены превосходно, но тем, в каком выгодном свете подан человеческий характер, способный, вооружась могучим чувством долга, без излишней самонадеянности, но твердо противостоять силе, могущество которой трудно вообразить, в намерениях которой он имеет все основания усомниться и сопротивление которой кажется столь безнадежным, что самая мысль о нем наполняет ужасом все наше естество.
Прежде чем расстаться с повестью «Майорат», следует еще отметить ее заключение, которое отлично написано и большинству читателей, переступивших черту юности, напомнит те чувства, которые они и сами порой испытывали. Много-много лет спустя после того, как угас род баронов Р., случай привел юного племянника, ныне уже пожилого человека, на берега Балтийского моря. Была ночь, и его внимание привлек сильный свет, льющийся над горизонтом.
— Эй, куманек, что это там за огонь впереди? — спросил я форейтора.
— Эва, — отьечал тот, — да ведь это не огонь, это будет Р…зиттенскрй маяк!
Р…зиттен!.. Едва форейтор вымолвил эго имя, как память моя с ослепительной живостью представила мне те роковые осенние дни, что я провел там. Я видел барона, видел Серафину, и старых диковинных тетушек, и самого себя с пышущим здоровьем лицом, искусно причесанного и напудренного, в нежном небесно-голубом камзоле, — да, себя самого, влюбленного, что поет скорбную песнь об очах любимой и вздыхает, словно печь. В глубокой тоске, объявшей меня, точно разноцветные огоньки вспыхивали соленые шутки старого стряпчего, которые теперь забавляли меня больше, чем тогда. Я был исполнен печали и вместе с тем удивительного блаженства, когда рано утром вышел в Р…зиттене из коляски, остановившейся подле почтового двора. Я узнал дом управителя, спросил про него.
— С вашего дозволения, — ответил мне почтовый писарь, вынимая изо рта трубку и поправляя ночной колпак, — с вашего дозволения, здесь нет никакого управителя. Это королевское присутственное место, и господин чиновник еще изволит починать.
Из дальнейших расспросов я узнал, что прошло уже шестнадцать лет, как барон Родерих фон Р., последний владелец майората, умер, не оставив после себя наследников, и майорат, согласно уставу, по которому он был учрежден, поступил в казну.
Я поднялся к замку; он лежал в развалинах. Часть камней л/потребили на постройку маяка — так по крайней мере сказал мне вышедший из лесу старик крестьянин, с которым я завел разговор. Он еще хранил в памяти рассказ о привидении, бродящем в замке, и уверял, что еще и поныне, особенно в полнолуние, в развалинах слышатся ужасающие стенания.
Если читателю приходилось в преклонные годы заново посещать места, где он бывал в юности, и слышать от незнакомых людей рассказы о переменах, которые там произошли, он не останется равнодушным к простоте этого заключения.
Отрывки, которые мы привели, свидетельствуют не только о безудержности гофмановской фантазии, но и о его умении ее смягчить и ослабить. К сожалению, вкус и темперамент слишком настойчиво влекли Гофмана к гротескному и фантастическому, унося его чересчур далеко, extra moenia flammantia mundi,[22] за пределы не только вероятного, но даже и мыслимого; вот почему он так редко творил в более умеренном стиле, которым ему столь просто было бы овладеть.
Распространенный ныне роман, бесспорно, знает множество путей развития, да мы и не склонны вовсе спускать псов критики на тех, кто ставит себе целью всего лишь развлечь читателя и помочь ему скоротать время. Мы искренне полагаем, что в этой области литературы «tout genre est permis hors les genres ennuyeux»,[23] и, несомненно, дурной вкус нельзя критиковать и преследовать столь же ожесточенно, как порочный моральный принцип, ложную научную гипотезу, а тем более религиозную ересь. Гений, как известно, капризен, надо дать ему возможность идти своим путем, пусть даже эксцентричным, хотя бы ради опыта. Порой бывает к тому же весьма занятно рассматривать причудливые арабески, выполненные человеком с незаурядной фантазией. Но все-таки нам не хотелось бы видеть, как гении расточает — или, верней, истощает — себя в творениях, никак не согласуемых с хорошим вкусом, и самое большее, с чем мы можем примириться, когда речь идет о фантастике, — это такая ее форма, которая возбуждает в нас мысли приятные и привлекательные.
Мы не в силах, однако, столь же терпимо отнестись к тем каприччио, которые не только поражают нас своим сумасбродством, но чей скрытый смысл вызывает в нас отвращение. В жизни писателя существуют и не могут не существовать моменты приятного волнения, так же как и моменты волнения мучительного, и шампанское, играющее в его бокале, утратило бы свою благотворную силу, если бы оно не пробуждало его фантазии к ощущениям радостным в такой же мере, как и к причудливым. Но если все его перенапряженные чувствования то и дело устремляются к чему-то мучительному, если пароксизмы безумия и приступы весьма близкого к нему чрезмерного возбуждения носят болезненный характер куда чаще, чем характер приятный, то не приходится сомневаться, что мы имеем дело с талантом, скорей способным повергнуть нас в трепет, меланхолию и ужас, чем навеять мысли о чем-то веселом и радостном. Гротеск к тому же естественно сочетается с ужасным, ибо все, что противно природе, трудно примирить с красотой. Ничто, к примеру, так не коробит взор, как тот дворец свихнувшегося итальянского государя, который был украшен самыми чудовищными изваяниями, какие только может подсказать скульптору извращенное воображение. Творения Калло, хоть и свидетельствуют о неслыханной плодовитости его таланта, также способны вызвать скорее удивление, чем удовольствие. Если сравнить Калло и Хогарта, то по своей плодовитости они близки друг другу, но когда речь заходит о наслаждении, даруемом пристальным изучением картин, английский мастер оказывается в бесспорном выигрыше. Всякая новая черта, открывающаяся зрителю в могучем изобилии образов Хогарта, обогащает историю если не человеческих чувств, то хотя бы человеческих нравов, тогда как при самом внимательном разглядывании чертовщины Калло мы лишь сетуем всякий раз заново о попусту растраченной изобретательности и о фантазии, заблудившейся в мире абсурда. Творения одного художника — это заботливо возделанный сад, где на каждом клочке земли растет нечто приятное или полезное, в то время как картины другого подобны саду лентяя, где столь же плодородная почва приносит лишь дикие и уродливые сорняки. Когда Гофман назвал свой сборник «Ночные повести в манере Калло», он в какой-то мере отождествлял себя с изобретательным художником, которого мы только что подвергли критике; и действительно, для того чтобы написать, например, такую повесть, как «Песочный человек», надо было глубоко проникнуть в секреты этого причудливого мастера, на духовное родство с которым наш автор по праву претендовал. Мы привели ранее в пример повесть, в которой чудесное вводится, на наш взгляд, весьма удачно, ибо оно сочетается и соотносится с человеческими интересами и чувствами, а также с необычайной силой показывает, до каких вершин могут обстоятельства возвести мощь и достоинство человеческого разума. «Песочный человек» принадлежит к совершенно иному роду произведений — к такому,
Где слит кошмар с причудой своенравной В бесовский шабаш, мрачный и забавный,Натанаэль, герой повести, рассказывает о своей жизни в письме к Лотару, брату Клары; первый — его друг, вторая — девушка, с которой он обручен. Автор письма, молодой человек мечтательного и ипохондрического склада, настроенный весьма поэтически и метафизично, пребывает в том нервном состоянии, которое особенно подвержено воздействию воображения. Он знакомит друга и возлюбленную с событиями своего детства. Отец его, честный ремесленник, часовой мастер, имел обыкновение иногда по вечерам пораньше отправлять своих детей спать, и мать, подгоняя их, приговаривала: «В постель, дети, Песочник идет!» Натанаэль и в самом деле замечал, что после их ухода слышался стук в дверь, тяжелые шаги громыхали по лестнице, кто-то входил в кабинет отца, а иногда по дому разносился тяжелый и удушливый чад. Это, вероятно, и есть Песочник. Но чем он занимается, и чего он хочет? Старая нянюшка на этот вопрос ответила так, как обычно отвечают нянюшки: «Песочник — это злой человек, который швыряет песок в глаза малым детям, если они не хотят ложиться спать». Это еще усилило ужас мальчика, но в то же время и разожгло его любопытство. Однажды он решил спрятаться в отцовском кабинете и там дождаться ночного гостя; так он и сделал, и Песочным человеком оказался не кто иной, как адвокат Коппелиус, которого Натанаэль не раз видел у отца. Это был рослый, неуклюжий косолапый мужчина с огромным носом, большими ушами, крупными чертами лица и до того похожий на людоеда, что дети часто испытывали перед ним страх, еще до того как выяснилось, что нескладный законник и есть страшный Песочный человек. Гофман оставил нам карандашный набросок этого удивительного лица, в котором ему, бесспорно, удалось выявить нечто, не только наводящее страх на детей, но и вызывающее отвращение у взрослых. Отец встретил гостя с подобострастной почтительностью; вдвоем они открыли и разожгли замаскированный очаг и приступили к непонятным и таинственным химическим опытам, немедленно вызвавшим тот удушливый чад, который появлялся и прежде. Движения химиков становились какими-то фантастическими, их лица, даже лицо отца, принимали во время работы выражение дикое и зловещее; мальчиком овладел ужас, он закричал и выскочил из своего укрытия; когда его увидел алхимик — ибо именно алхимией и занимался Коппелиус, — он стал грозить, что вырвет у мальчика глаза, и отцу лишь с трудом удалось удержать его, чтобы он не швырнул ребенку в лицо горячей золы. Воображение Натанаэля было глубоко потрясено пережитым страхом, и последствием этого была нервная горячка, на протяжении которой страшный образ ученика Парацельса являлся ему и мучил его душу.
После долгого перерыва, когда Натанаэль выздоровел, ночные визиты Коппелиуса к его ученику возобновились, но отец обещал матери, что эти опыты будут последними. Так оно и случилось, но произошло все иначе, нежели полагал старый часовщик. В химической лаборатории произошел взрыв, который стоил жизни отцу Натанаэля; его наставника в роковом искусстве, жертвой которого он оказался, никто больше не видел. Благодаря этим событиям, которые не могли не произвести сильнейшего впечатления на живое воображение Натанаэля, его потом всю жизнь преследовали воспоминания о страшном Песочном человеке, и Коппелиус стал для него воплощением злого начала.
Автор представляет нам своего героя, когда тот, будучи студентом университета, неожиданно встречает своего прежнего врага, который теперь превратился не то в итальянского, не то в тирольского разносчика оптических стекол и барометров, и хотя алхимик ныне одет в соответствии со своей новой профессией, хотя он итальянизировал свое имя и зовется Джузеппе Коппола, юноша не сомневается, что перед ним его давний недруг. Натанаэль весьма удручен тем, что ни друг, ни возлюбленная не верят в его роковые предчувствия, которые, по его мнению, убедительно подтверждаются предполагаемой тождественностью коварного правоведа с его двойником, продавцом барометров. Он недоволен Кларой, чей ясный и здоровый ум отвергает не только его метафизические страхи, но и чрезмерную и аффектированную склонность к поэзии. Он постепенно начинает испытывать отчуждение по отношению к этой искренней, отзывчивой и нежной подруге своего детства и все больше увлекается дочерью некоего профессора Спаланцани, чей дом стоит как раз напротив окон его квартиры. Таким образом, Натанаэль часто имеет возможность видеть Олимпию в ее комнате, и хотя она там часами сидит в одной позе, не читая, не работая и даже не двигаясь, тем не менее его покоряет ее прелестная внешность, и он не обращает внимания на безжизненность этой неподвижной красавицы. Но особенно стремительно развивается его роковая страсть после того, как он покупает подзорную трубу у разносчика, так сильно напоминающего ему предмет его давней неприязни. Обманутый тайной магией зрительного прибора, он теперь не замечает того, что видно всякому, кто приближается к Олимпии, — явной принужденности ее движений, из-за которой кажется, что ее шаги направляются каким-то механизмом, бедности мыслей, понуждающей ее вечно говорить одни и те же короткие фразы, елевом всех особенностей, свидетельствующих о том, что Олимпия — и это в конечном счете подтверждается — не что иное, как кукла, или, вернее, автомат, созданный механическим мастерством Спаланцани и вызванный к какому-то подобию жизни, как нетрудно догадаться, дьявольским искусством алхимика, адвоката и продавца барометров Коппелиуса, alias[24] Копполы. В этой необычайной и прискорбной истине влюбленный Натанаэль убеждается, став свидетелем, ужасной ссоры между обоими подражателями Прометея, спорящими, кто из них больше имеет прав на удивительный результат их совместных творческих усилий. Изрыгая страшные проклятия, они ломают красавицу куклу на куски, вырывая друг у друга обломки ее часового механизма. Натанаэль, и без того близкий к безумию, сходит с ума под воздействием этого ужасного зрелища.
Но мы и сами рискуем утратить разум, продолжая следить за всеми этими бредовыми выдумками. Повесть заканчивается попыткой умалишенного студента убить Клару, сбросив ее с башни. Несчастную девушку спасает ее брат, а исступленный безумец остается один на галерее, дико жестикулируя и выкрикивая всякую тарабарщину, усвоенную им от Коппелиуса и Спаланцани. В тот момент, когда люди внизу обсуждают, как связать безумного, среди них возникает внезапно Коппелиус, уверяющий всех, что Натанаэль сейчас спустится сам; это предсказание сбывается: чародей устремляет на юношу неподвижный гипнотический взгляд, и несчастный прыгает вниз головой через перила галереи.
Дикость и нелепость фабулы частично искупаются здесь некоторыми чертами образа Клары, чья твердость, обыденный здравый смысл и искреннее чувство составляют приятный контраст к дикому воображению, фантастическим предчувствиям и сумасбродным переживаниям ее безумного возлюбленного.
Нет никакой возможности критически анализировать подобные повести. Это не создание поэтического мышления, более того — в них нет даже той мнимой достоверности, которой отличаются галлюцинации сумасшедшего, это просто горячечный бред, которому, хоть он и способен порой взволновать нас своей необычностью или поразить причудливостью, мы не склонны дарить более чем мимолетное внимание. В самом деле, образы Гофмана столь близки видениям, возникающим при неумеренном курении опиума, что, говоря о них, нельзя не рассматривать все его творчество как случай, требующий скорее медицинского вмешательства, чем помощи критики; мы допускаем, что при большем умении владеть своим воображением Гофман мог бы стать первоклассным писателем, но при существовавшем положении вещей, когда он еще вдобавок сам усугублял недуг, снедавший его нервную систему, ему с неизбежностью суждено было стать жертвой той чрезмерной живости мыслей и восприятий, от которой страдал, но которую сумел преодолеть знаменитый Николаи. Кровопускание и слабительное в сочетании с оздоровлением его мышления и строгим надзором могли бы, как это было в случае с этим знаменитым философом, излечить рассудок Гофмана, который мы не можем не считать расстроенным, а его воображение при более равномерном и устойчивом полете могло бы достичь высочайших вершин поэзии.
Смерть настигла этого необычайного человека в 1822 году. Гофмана разбил паралич, именуемый tabes corsalis,[25] постепенно лишивший его подвижности тела. Находясь в столь удручающем состоянии, он все же успел продиктовать еще несколько сочинений, доказывающих силу его фантазии, и, в частности, отрывок «Выздоровление», в котором рассыпано немало прозрачных намеков на собственные переживания писателя в этот период, а также повесть «Враг», которой он был занят в самый канун смерти. Самообладание не изменило ему: он стойко переносил агонию своего тела, хоть и не умел справиться с кошмарными видениями своего сознания.
Врачи подвергли его жестокому испытанию, рассчитывая путем прижигания позвоночника каленым железом восстановить деятельность нервной системы. Он не был сломлен этой медицинской пыткой и даже спросил своего приятеля, вошедшего в комнату сразу после жестокого опыта, не ощущает ли тот запаха жареного мяса. Тем же героическим духом проникнуто его высказывание о том, что «он согласился бы полностью утратить подвижность, если бы ему была сохранена возможность работать с помощью секретаря», Гофман скончался в Берлине 25 июня 1822 года, оставив по себе славу замечательного человека, которому лишь его темперамент и состояние здоровья помешали достичь подлинных вершин искусства, человека, чьи творения в том виде, в каком они ныне существуют, должны не столько рассматриваться как пример для подражания, сколько служить предостережением: даже самая плодовитая фантазия иссякает при неразумном расточительстве ее обладателя.
КОММЕНТАРИИ
СТАТЬИ И ДНЕВНИКИ
Критические сочинения Вальтера Скотта занимают несколько томов. Сюда входят две большие монографии о Джоне Драйдене и Джонатане Свифте — историки литературы ссылаются на них и до сих пор, — а также статьи по теории романа и драмы, серия жизнеописаний английских романистов XVIII века, множество рецензий на произведения современных авторов и другие статьи, в частности по вопросам фольклористики.
Первое собрание исторических, критических и фольклористических трудов Вальтера Скотта вышло в Эдинбурге в 1827 году. Затем они несколько раз переиздавались и переводились на иностранные языки. Вальтер Скотт как критик возбудил, например, значительный интерес во Франции 1830-х годов. В русском переводе появилось несколько статей в «Сыне отечества» (1826–1829) и в других журналах XIX века.
Критики эпохи Просвещения обычно подходили к оценке художественных произведений с отвлеченными эстетическими и этическими критериями. При этом важную роль играл моральный облик автора как частного лица. Осуждение его поступков влекло за собой отрицательный отзыв о его сочинениях. Один из самых авторитетных критиков XVIII столетия Сэмюел Джонсон предпочитал биографии историографическим сочинениям на том основании, что из жизни знаменитых людей легче почерпнуть нравоучительные примеры, чем из исторических фактов. Биографический метод критики долго господствовал в Англии. Не остался в стороне от его влияния и Скотт, особенно в монографиях о Драйдене и Свифте. Тем не менее этот подход к литературе его не удовлетворял. Не удовлетворяли его и беглые очерки литературных явлений при общих описаниях нравов того или иного периода в исторических трудах, например в «Истории Англии» Дэвида Юма, которого Скотт считал «плохим судьей в области поэзии».
Между тем во второй половине XVIII и в начале XIX века стали появляться книги, авторы которых стремились воссоздать картину развития художественной литературы или ее отдельных жанров. Большое значение для Скотта имели «История английской поэзии с XII до конца XVI века» Томаса Уортона (1774–1781) и «История романа» шотландского историка Джона Данлопа (1814). Эти сочинения подсказали Скотту мысль о национальном своеобразии литературы каждого народа, а также о ее зависимости от общественного развития в каждой стране. При этом исторический роман представлялся Скотту жанром, который способен ответить на запросы широких читательских кругов, раздуть в пламя искру интереса к родному прошлому, которая тлеет в сознании многих людей.
В основе воззрений Скотта лежит определенная теория народности. Народ для него — хранитель национальных литературных традиций, верховный судья и покровитель литературного творчества. В народной памяти хранятся вечные источники повествовательного искусства: сказки, предания, легенды и были. Вот почему, по мнению Скотта, между историографией, литературой и фольклором нет, не может и не должно быть непроницаемых граней; одно легко переходит в другое и сочетается с ним.
Вместе с авторскими предисловиями к романам критические статьи Скотта помогают лучше понять его творчество и бросают свет на создание нового жанра — исторического романа. Хотя литературного манифеста у Скотта в полном смысле этого слова и нет, но почти каждая из его статей освещает ту или иную сторону его творческих исканий.
Особый интерес для понимания творчества Скотта представляет статья-авторецензия «Рассказы трактирщика». Под этим общим заглавием, как известно, выходили первые шотландские романы «Черный карлик» и «Пуритане» (в дальнейшем эта серия была продолжена романами «Легенда о Монтрозе», «Граф Роберт Парижский» и «Замок Опасный»), которым и посвящена данная статья. В ее составлении принимал участие близкий друг Скотта Уильям Эрскин, однако рукописный экземпляр статьи, сохранившийся в архивах, целиком написан рукой Скотта. Поводом для ее появления послужила серия статей, опубликованных в «Эдинбург крисчен инстрактор» Томасом Мак-Краем — биографом Джона Нокса (ум. 1572), главы шотландского кальвинизма. МакКрай обвинял Скотта в том, что он оскорбил национальное чувство шотландцев, изобразив фанатиков пуритан в недостаточно привлекательном виде. Скотт поместил свой ответ Мак-Краю без подписи в лондонском торийском журнале «Куортерли ревью» (январь 1817 года), в котором он сотрудничал с момента основания журнала в 1809 году. До тех пор Скотт печатал большую часть своих статей в «Эдинбург ревью», журнале шотландских вигов. Посвящая много места «шотландским древностям», превознося далекое героическое прошлое Шотландии, журнал относился с полным равнодушием к бедственному положению шотландцев, особенно горцев, в настоящее время и приветствовал беспощадность, с которой капитал наступал на север Великобритании. Консервативная политика могла задержать процесс роста промышленного капитала и дать возможность Шотландии снова встать на ноги; поэтому «Куортерли ревью» больше подходило Скотту, так как этот журнал и был создан с целью обуздать вигов и, в частности, дать отпор «зазнавшемуся Эдинбургу», где они хозяйничали.
Эдинбуржцам, однако, могло казаться, что Скотт отвернулся от своей родины. Любое верное изображение ошибок, совершенных шотландцами в борьбе против объединения с Англией и за сохранение самостоятельности, воспринималось в некоторых кругах Эдинбурга почти как святотатство. Отсюда упреки Мак-Края. Они задели Скотта за живое. Он не мог оставить без ответа обвинение в неуважении к подвигам шотландских патриотов, потому что, видя нереальность их усилий, он все же благоговел перед их героизмом и самозабвенной любовью к отчизне. Он отвечал, что был правдивым летописцем и показал в своих романах невыносимое положение шотландского крестьянина и его самоотверженные попытки защитить свои самые священные права, а потому обвинений, брошенных ему Мак-Краем, не заслужил. При этом, писал Скотт, он не стремился дать надуманную картину народной жизни Шотландии, а хотел изобразить ее крестьян именно такими, какими они были на самом деле.
Реалистически изображая народную жизнь Шотландии, Скотт намеренно драматизировал повествование. Этот способ изложения Скотт считал очень важным для своих задач, хотя и признавал, что в результате повествование дробится на отдельные диалогические сцены и построение романа становится рыхлым. Однако Скотт готов пожертвовать и стройностью композиции и даже привлекательностью главных героев для читателей, лишь бы достичь убедительности целого. Его Уэверли, Браун и Ловел не действуют сами, а лишь испытывают на себе воздействие обстоятельств. Поэтому их судьба решается с помощью второстепенных персонажей, то есть прежде всего шотландских крестьян. Следовательно, роль их возрастает. Этого и надо было добиться. Этим путем автор исторических романов отделяет черты, характерные для отдельных, вымышленных персонажей, от общих, типичных для века черт; он оказывается в состоянии сохранять строгую верность нравам эпохи и поднять исторический роман до уровня серьезного историографического сочинения.
Одним из важнейших источников историка, романиста и поэта Скотт всегда считал народное творчество. Его статья «Вводные замечания о народной поэзии и о различных сборниках британских (преимущественно шотландских) баллад» подводит итог более ранним сочинениям на аналогичные темы, в частности рецензиям Скотта на сборники баллад, выходивших в начале XIX века. Статья эта содержит краткий обзор развития фольклористики в Англии и в Шотландии за сто с лишним лет. Скотт останавливается на спорах, которые вели фольклористы в его время, например об авторстве баллад, о социальном положении древнего менестреля, о преимуществах и недостатках различных источников балладного творчества и т. п.
Особенно интересно мнение Скотта о наилучшем способе издания народных баллад. В XVIII веке было принято вносить в них дополнения и поправки с целью приблизить их к современным вкусам. Так в 1760-х годах поступил Томас Перси с балладами своего знаменитого сборника «Памятники старинной английской поэзии». Некоторые современники Скотта осуждали Перси за эти вольности. В их числе был демократ и якобинец Джозеф Ритсон. Он требовал, чтобы фольклорные памятники издавались без изменений. Скотт готов отчасти поддержать Ритсона, хотя и упрекает его за излишнюю горячность. Однако Скотт не склонен преуменьшать и заслуги Перси: в его время дело шло не о том, как издавать баллады, а о том, станут ли их читать вообще. Сборник Перси приблизил балладу к читателям и вызвал у них интерес к народному творчеству.
Непревзойденным интерпретатором народной поэзии, по глубокому убеждению Скотта, был, безусловно, Бернс. Когда в 1808 году Р. Кромек выпустил в свет сборник «Наследие Роберта Бернса, состоящее преимущественно из писем, стихотворений и критических заметок о шотландских песнях», Скотт откликнулся на эту книгу. Точка зрения Скотта на творчество Бернса резко отличалась от всего, что было до тех пор сказано о нем, в частности от рецензии на тот же сборник в «Эдинбург ревью», автором которой был сам редактор журнала Фрэнсис Джеффри.
В начале XIX века революционные мотивы в поэзии Бернса и его резкие выпады против церковников отпугивали многих благонамеренных читателей и критиков. Джеффри и другие критики считали более осторожным рассматривать Бернса как неуча, для примитивных взглядов которого многое простительно, а его творчество — как «жалобную лиру» «влюбленного пахаря». Скотт видел в нем могучую натуру. Он называет Бернса плебеем с гордой душой и с плебейским негодованием. Именно потому Бернс и понял народную поэзию так глубоко. Ведь она, как говорил Скотт в статье «О подражании народным балладам» (1830), «была обращена к народу, и только он ее действительно ценил, так как в ней дышало все, что его окружало».
Наряду с балладой Скотта привлекали народные сказки и поверья. Фантастика, полагал он, повышает интерес и романа, и поэмы, и пьесы, однако пользоваться ею надо с осторожностью: даже в «Гамлете» второе появление призрака действует на зрителей менее сильно, чем первое. Злоупотребление фантастическим и сверхъестественным иногда ведет к плачевным последствиям, как показывает Скотт в статье «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана». Отдавая должное высокой одаренности Гофмана, Скотт все же приходит к выводу, что его погубил избыток воображения; болезненные выдумки, способные внушить не только страх, но и отвращение, заслонили в творчестве Гофмана высокие и человеколюбивые задачи искусства.
Любовь к людям Скотт считает главным для писателя. Поэтому писатель обязан держать в узде свои прихоти, поэтому лучше, если он сам останется в тени. Сосредоточенность на самом себе, по мнению Скотта, — ошибка Байрона; она источник его скепсиса и отрицания действительности; это, в свою очередь, приводит его к другой крайности — к оправданию эпикурейского отношения к жизни. Пылкий протест Байрона остался Скотту непонятным. Он опасался вспышки революционного движения в Англии, его пугала возможность гражданской войны.
Расходясь с Байроном во взглядах, Скотт все же чрезвычайно высоко ценил его. Его возмущала травля, которой подвергся Байрон в результате бракоразводного процесса. Он оставался для Скотта, вопреки мнению реакционных кругов Англии, величайшим поэтом своего времени. Скотт особенно ценил в поэмах Байрона описания стран Востока. Именно так и следует говорить о чужих краях, как говорил он, — без сухой книжной премудрости, без слащавого приукрашивания. Только по личным впечатлениям и при условии искреннего сочувствия другим народам можно так глубоко проникнуть в их жизнь, как проник Байрон, и отделить важное от второстепенного. С этой точки зрения Скотт рецензировал третью и четвертую песни «Чайлд-Гарольда» и другие произведения Байрона. Отношение Скотта тронуло Байрона, и в письме от 12 января 1822 года он благодарил его за смелую защиту перед лицом английского общественного мнения и за благожелательную и нелицеприятную критику.
Гибель Байрона в Греции потрясла Скотта. Эта смерть доказала всему миру, что Байрон был великим человеком. Если он иногда в своей жизни совершал ошибки, то там, где на карту была поставлена жизнь целой нации, он умел действовать мудро в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Статья Скотта «Смерть лорда Байрона» — не только надгробное слово. Это и выражение его глубокого убеждения, что нет более благородной деятельности, чем борьба за права угнетенного народа.
Е. КлименкоО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМ В ЛИТЕРАТУРЕ, и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана
Впервые напечатано в журнале «Форейн куортерли ревью» в 1827 г.
Стр. 602. Эрнст Теодор Вильгельм. — Так немецкий писатель Гофман (1766–1822) был назван при рождении. Впоследствии он отбросил имя Вильгельм и заменил его именем Амадей в честь своего любимого композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
Стр. 603. Джонсон — см. прим, к стр. 483. Приводимое далее рассуждение — цитата из 31 главы романа Джонсона «Расселас, принц абиссинский». Эти слова произносит один из персонажей, поэт и мудрец Имлак, в ответ на шутливое замечание Расселаса по поводу привидений.
Стр. 605. …«объелись ужасами»… — видоизмененная цитата из трагедии Шекспира «Макбет» (акт V, сц. 5).
…в сознании Девы из маски «Комус»… — Масками в Англии XVI–XVII вв. называли представления, чаще всего аллегорического содержания, с мифологическим сюжетом, сочетавшие пение, танец и драматический диалог. «Комус» — одно из ранних произведений Джона Мильтона. Комус в античной мифологии — бог праздничного веселья; у Мильтона — это волшебник, сын бога виноделия Вакха и волшебницы Цирцеи. Увлекая заблудившихся в лесу людей в чащу, Комус превращает их в диких животных. Одной из его жертв чуть не оказывается Дева, героиня маски. Попав в лес, она становится свидетельницей чудесных и страшных явлений, однако ее спасают душевная чистота и непорочность, перед которыми бессильны любые чары. Приводимые далее стихи рассказ Девы о лесных видениях.
Берк. — См. прим. к стр. 511. Скотт цитирует далее почти полностью раздел 3 из II части работы Берка «Философские рассуждения о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного».
Стр. 607. И мертвый в саване… — рассказ Горацио о зловещих предзнаменованиях перед смертью Юлия Цезаря («Гамлет», акт I, сц. 1).
Стр. 608. Коллинз Уильям (1721–1759) — английский поэт. Приводимые далее слова Сэмюела Джонсона — цитата из статьи «Коллинз», вошедшей в его «Жизнеописания поэтов».
Елисейские Поля — в античной мифологии загррбный мир, где пребывают тени умерших.
Стр. 609. Бритомарта — одна из героинь поэмы Эдмунда Спенсера (1552–1599) «Королева фей». Скотт цитирует строки из II книги, повествующей о жизни и странствованиях Бритомарты.
«Cabinet des Fees» — собрание сказок (41 том), издававшееся в 1785–1789 гг. в Париже, Амстердаме и Женеве. Многие из этих сказок были затем переведены на английский язык и изданы в Англии.
Стр. 610…английская опера возникла из пародии на итальянский театр, созданной Геем в «Опере нищих». — В «Опере ниших» Джона Гея (см. прим. к стр. 452), осмеивающей пороки общественной и политической жизни Англии XVIII в., пародируются также некоторые приемы модной тогда в Лондоне итальянской оперы.
Энтони Гамильтон (1646–1720) — писатель. Его «Мемуары графа де Граммона», рисующие нравы английской знати вовремя реставрации Стюартов, были переведены на английский язык (Гамильтон писал по-французски). В сказках Гамильтона, носящих большей частью аллегорический или поучительный характер, чудесное часто трактуется в шутливом, ироническом духе, Сравнивая эти сказки с «Дон-Кихотом» Сервантеса, Скотт несколько преувеличивает их значение.
Стр. 611. Баланд Кристоф Мартин (1733–1813) — немецкий писатель, поэт и переводчик, автор поэмы «Оберон». Перевод этой поэмы, выполненный Уильямом Созби (1757–1833), о котором упоминает далее Скотт, был опубликован в 1798 г. и переиздан в 1805 г. Скотт высоко ценил Созби как переводчика.
Пульчи Луиджи (1432–1484), Берии Франческо (1498–1535) и Ариосто Лодовико (1474–1533) — итальянские поэты эпохи Возрождения. Скотт имеет в виду поэму Пульчи «Морганте», грубоватую и остроумную пародию на рыцарские романы; шутливую и сатирическую лирику Берни и поэму Ариосто «Неистовый Роланд», в которой рыцарская тема с ее фантастикой, чудесами и идеализацией феодального быта становится предметом откровенного иронического обыгрывания.
Стр. 616. Оссиан — легендарный кельтский поэт-певец, живший, по преданию, в III или IV в. Именем Оссиана воспользовался Д. Макферсон (см. прим. к стр. 582), выдавший свои поэмы «Фингал» и «Темора», написанные на основе свободной обработки кельтского эпоса, за перевод произведений древнего барда.
Музеус Иоганн Карл Август (1735–1787) — немецкий писатель и фольклорист. Собрал и обработал множество немецких сказок, которые были изданы под названием «Народные сказки немцев» (1782–1787). В 1791 г. в Англии было опубликовано двухтомное собрание сказок Музеуса в переводе на английский язык. По имеющимся данным, переводчиком был Уильям Бекфорд, а не доктор Беддоуз, как пишет Скотт.
Стр. 618. Де Ламотт-Фуке Фридрих (1777–1843) — немецкий романист, поэт и драматург, автор рыцарской повести «Ундина».
Стр. 619. Казотт Жак (1720–1792) — французский писатель.
Киммерия — легендарное царство мрака итумана («Одиссея»).
Стр. 620. Франкенштейн — герой одноименного философского и фантастического романа Мэри Вулстонкрафт-Шелли, ученый, создавший живое человеческое существо.
Стр. 621. Джофри Крейон. — псевдоним американского писателя Уошингтона Ирвинга (1783–1859). «Смелый драгун» входит в первую часть его «Рассказов путешественника».
Стр. 622. «Петер Шлемиль» — повесть немецкого писателя Адальберта Шамиссо (1781–1838). В основе повести лежит легенда о человеке, продавшем свою тень.
«Эликсир дьявола» (1816) — роман Э. Т. А. Гофмана.
Стр. 624…поэтам, этим «сгусткам воображения». — См. прим. к стр. 475.
Стр. 626. Вандам Жозеф-Доминик (1770–1830) — один из генералов Наполеона. В 1813 г. был разбит при Кульме коалиционными войсками и взят в плен.
Стр. 629. Бертон Роберт (1578–1640) — священник, автор ученого труда «Анатомия меланхолии». Приводимые Скоттом стихи — строфы из стихотворения, которое Бертон предпослал своей книге.
Стр. 631. Вордсворт Уильям (1770–1850) — английский поэт-романтик.
Стр. 633. Мак-Уибл — персонаж романа Скотта «Уэверли».
Шотландский автор. — Скотт имеет в виду самого себя.
Стр. 634. Крабб. — См. прим. к стр. 538. Далее следует цитата из поэмы Крабба «Местечко».
Стр. 643. И сказано: ни дух, бродящий ночью… — цитата из маски Мильтона «Комус» (см. прим. к стр. 605).
Стр. 645. …«tout genre est permis hors les genres ennuyeux»… — Эти слова приписываются Вольтеру.
Стр. 646. Калло Жак (1592–1635) — французский рисовальщик и гравер. В его многочисленных офортах, особенно в сериях «Нищие» (ок. 1622) и «Бедствия войны» (1633), социальные бедствия отражены в острых, сатирических, часто гротескных образах и ситуациях.
Хогарт Уильям (1697–1764) — художник, график и гравер, в сатирических работах которого — «Карьера мота», «Выборы», «Модный брак», «Доверчивость, суеверие и фанатизм» и др. — изображены нравы тогдашнего английского общества.
Стр. 647…Гофман назвал свой сборник «Ночные повести в манере Калло»… — Скотт по ошибке соединяет названия двух сборников Гофмана: «Фантазии в манере Калло» («Phantasiestucke in Callots Manier», 1814/1815) и «Ночные повести» («Nachtstucke», 1817).
Стр. 648. Парацельс Филипп (настоящее имя Теофраст Бомбастус фон Гогенхейм; 1493–1541) — швейцарский врач, занимавшийся также алхимией.
Стр. 651. Николаи Фридрих (1733–1811) — немецкий писатель, критик и философ эпохи Просвещения.
Н. ЕгуноваПРИМЕЧАНИЯ
1
Человек (лат.).
(обратно)2
Сказки о феях (франц.).
(обратно)3
Сказка о феях (франц.).
(обратно)4
«Собрания сказок о феях» (франц.).
(обратно)5
До отказа (лат.).
(обратно)6
И прочих существ подобного рода (лат.).
(обратно)7
Приблизиться к древним истокам (лат.).
(обратно)8
«Немецкие предания» (нем.).
(обратно)9
Нечего и говорить, что хотя все это были лишь непроверенные слухи, подобные толки основательно подорвали репутацию покойного. (Прим. автора.)
(обратно)10
Имеет тысячу украшений (лат.).
(обратно)11
«Народных сказок» (нем.).
(обратно)12
«Баран» (франц.).
(обратно)13
«Цветок терновника» (франц.).
(обратно)14
Переделки (итал.).
(обратно)15
«Влюбленному дьяволу», (франц.).
(обратно)16
Игривости (франц).
(обратно)17
Причудливости (франц.).
(обратно)18
Увидим! (франц.).
(обратно)19
Чертовщины (франц.).
(обратно)20
Основной части армии (франц.).
(обратно)21
Здесь и в дальнейшем повесть «Майорат» цитируется по изданию: Э. Т. А. Гофман. Избранные произведения в трех томах, т. 1. Гослитиздат, М, 1962 (перевод А. Морозова).
(обратно)22
За пределы пылающих стен мира (лат.).
(обратно)23
Разрешены все жанры, кроме скучных (франц.).
(обратно)24
Иначе (лат.).
(обратно)25
Сухотка спинного мозга (лат.).
(обратно)

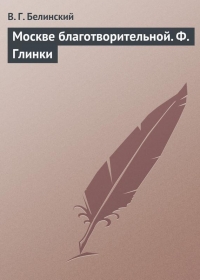

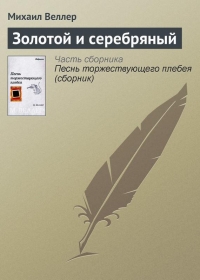


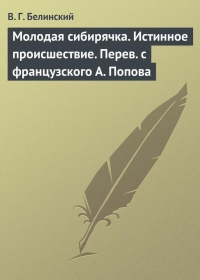
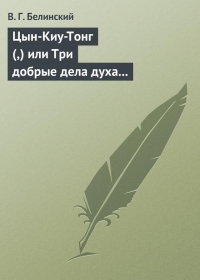

Комментарии к книге «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана», Вальтер Скотт
Всего 0 комментариев