Александр Боровский Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения
© А. Д. Боровский, 2017
© ООО «Рт-СПб», 2017
© «Центрполиграф», 2017
* * *
Искусство про искусство
Искусство рефлексирует свою телеологию, систему ценностей, содержательные и выразительные средства с баснословных времен и по сей день. Эта обращенность на себя на разных этапах проявляется по-разному. Может служить и тормозом, и двигателем. Но присутствует в художественной культуре всегда. О постоянстве этого присутствия может свидетельствовать хрестоматийный сюжет, связанный с античными живописцами Зевксисом и Паррасием. Они соревновались в мастерстве, расписывая стену храма. Когда Зевксис отдернул занавес, зрителям открылась гроздь винограда, написанная столь совершенно, что птицы слетелись, чтобы клевать изображенные ягоды. Паррасию предложили раскрыть свое изображение. «Мне нечего открывать», – сказал художник. Оказалось, его занавес был написанным, изображенным. Да так искусно, что никто из зрителей не заметил подмены. Миф этот хорош тем, что позволяет себя интерпретировать в разных контекстах. От наивно миметического до постмодернистски деконструирующего: победитель предъявил не что иное, как симулякр! Для нас здесь важна именно неизбывность присутствия саморефлексии как постоянного слагаемого двух с половиной тысячелетнего процесса! (Хотя, заметим в скобках, и направленность дискурса поражает постоянством: тысячи лет прошли, а искусство по-прежнему жгуче волнует аристотелевская еще проблематика миметического, опознающего и опознаваемого. А магриттовское «Это не трубка» – не про то же? А язвительное полотно американца Марка Танси с говорящим названием «Тестирование необученного глаза»: живая корова в академической мастерской, среди профессоров, напряженно ожидающих – примет ли она траву на «реалистическом» пейзаже за настоящую, попробует ли жевать?)
В ходе своего многовекового самоосуществления художественный процесс выявляет не менее устойчивый комплекс понятий, также связанных с проблематикой подражания. Однако имеется в виду не подражание природе, а некоему высокому образцу, эталону. На разных этапах истории искусства до неузнаваемости изменяются, естественно, предмет и принципы такового подражания, однако некая историческая типология остается неизменной. Установка подражания канону (сейчас этот термин все чаще употребляется в качестве наиболее удобной референциальной рамки) может быть как бы внерефлексивной, данной априори: так бывало в периоды развитой цеховой культуры, а также «культуры академий», во многом сохранявшей рудименты цехового сознания. Но может быть вполне концептуальной, как, например, в разных версиях историзма.
Удивительным образом Л. Н. Толстой уловил и описал эту проходящую «сквозь» всю художественную культуру подражательно-иерархическую установку. Удивительным потому, что персонифицировал ее в образе дилетанта, имеющего к искусству самый косвенный и случайный характер. Однако в отношении любителя-аристократа Вронского к искусству запечатлена историческая типология, характерная для множества поколений художников как раз с развитым ремесленным, цеховым сознанием (или рецидивами такового сознания) – вплоть до выпускников последних государственных академий художеств XX века. Толстой так описывает эту установку: «У него (Вронского. – А. Б.) была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству, и он подумал, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, несколько времени поколебавшись, какой он выберет род живописи: религиозный, исторический жанр или реалистический, он принялся писать. Он понимал все роды и мог вдохновляться и тем и другим; но он не мог себе представить того, чтобы можно было вовсе не знать, какие есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботясь, будет ли то, что он напишет, принадлежать к какому-нибудь известному роду. Так как он не знал этого и вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посредственно жизнью, уже воплощенною искусством, то он вдохновлялся очень быстро и легко и так же быстро и легко достигал того, что то, что он писал, было очень похоже на тот род, которому он хотел подражать». Разумеется, мы имеем дело с художественным образом, но тенденция взаимоотношений художника, носителя преобладающе ремесленного (или дилетантского) сознания с каноном, как сказали бы мы сегодня, схвачена удивительно точно. Конечно, она не всегда действенна в рамках самоощущения отдельной личности или группы художников в конкретной исторической ситуации: художники, объективно переходящие границы, в одиночку или сообща творящие существенно обновленные картины мира, нередко ощущали себя смиренными последователями канона (служителями идеала, хранителями огня и пр.). И наоборот.
Но есть еще обстоятельство исторического порядка, которое все отчетливее проявлялось в искусстве примерно в то же время, когда Толстой озаботился диалектикой непосредственное – опосредованное. В противовес Вронскому он создает образ художника Михайлова, который вдохновлялся непосредственно жизнью, о сравнении своей картины «с Рафаэлевыми» не думал вовсе и «проглатывал» и «складывал куда-то» натурные впечатления. Так вот, даже художники подобного типа не могли пройти мимо этой тенденции. Речь идет о том, что искусство со второй половины XIX века все отчетливее рефлексирует свою, так сказать, направленческую составляющую, пытается понять необходимость многообразия школ и индивидуальностей. Если рассматривать эту проблему в предельном укрупнении, суть ее такова: искусство осознает себя не только в следовании неким общим идеалам и установлениям, но и в многообразии, соревновательности, конкурентности. А все это подразумевает анализ отдельным художником и целым направлением не только собственных интенций, но и предшествующих и «соседних» (конкурирующих, союзных и пр.) художественных систем. Соответственно, критическая дистанция по отношению как к канону, так и к не успевшему канонизироваться материалу современности становится предметом специального интереса и исследования. А инструментом самоосуществления искусства все отчетливее становится внутрихудожественная борьба (существовавшая всегда, но в новое время концептуализированная именно в качестве этого инструмента, пусть и сохраняющего традиционные коннотации соперничества творческих личностей, институций, социальных амбиций и пр.). Все эти изменения были возможны в условиях высвобождения искусства от примитивно понятых функций служения, роста его самосознания. Полемический лозунг «искусство для искусства» стал симптомом этого роста.
С момента рождения он был неоднократно атакован разного рода ревнителями общественного блага. Искусство и само жаждало социальной востребованности. В необходимости служения режимам и идеологиям, казавшимся прогрессивными и справедливыми, искусство XX века достаточно часто искало свою идентичность. Искало вполне самозабвенно. Вплоть до полного растворения в идеологическом, как это бывало с искусством, поставившим себя на службу тоталитарным режимам века. И все же парадоксальным образом именно в XX веке росла сосредоточенность искусства на себе любимом (или нелюбимом). И если постулат «искусство для искусства» носил когда возвышенно-идеологический, когда риторический характер, то жизнь самого искусства выдвинула новый тезис: искусство про искусство. Он не был, строго говоря, формализован, не был и «поднят на знамена» в качестве лозунга художественной борьбы. Он носил и носит практический характер.
Выдвинутый практикой осуществления художественного процесса, он фиксирует некоторые (далеко не все) внутренние потребности искусства. В частности, потребность в самоанализе, самопостижении. Повторюсь, эта потребность жила в искусстве испокон веков, однако именно в Новейшее время она стала необходимостью. Возможно, в этом была логика внутреннего развития искусства. Возможно, реакция на великие заблуждения века: трагические опыты потери собственной идентичности в служении тоталитарным режимам. Отсюда постмодернистская боязнь «больших нарративов» и «мегаисторий». Самоанализ предполагал экспликацию своих целей и средств, иначе невозможным было изживание собственных комплексов и страхов, по-другому говоря, нормальное движение, самоосуществление искусства. Но ничего – ни в искусстве, ни в науке, ни в спорте, нигде – не делалось уже в одиночку. Персонификаторы движения искусства обязаны были оглядываться, анализировать интенции соседей, разгадывать их стратегии и тактики. Актуальное искусство последних декад столетия доходило в этом плане до крайности. В самоидентификации по принципу служения политическим режимам и идеологиям была крайность полного растворения, разрушения системы целеполагания. Так и в самоидентификации по принципу погружения в «чужое искусство» тоже были свои крайности: и потеря ценностной ориентации, и сведение многообразия стратегий к постмодернистскому «центону» или тотально игровому принципу. Тем не менее и этот рубеж был перейден, и современный критик имел все основания констатировать: «И стратегией, и материалом современного искусства является современное искусство как таковое»[1].
Словом, «искусство про искусство» – не только вечный, но постоянно набирающий актуальность сюжет развития художественного процесса. Недаром им стали так настойчиво интересоваться музеи («The Museum as Muse: Artists Reflect», The Museum of Modern Art, 1999; «Искусство про искусство», ГРМ, 2009; «Ночь в музее», PERMM, 2010 и др.).
Во всяком случае, вне этого сюжета понимание механизмов действия современного искусства будет затрудненным. Хотелось бы показать именно этот механизм – винтики, шестеренки и пр., их полезную работу. В нашем случае – приемы сюжетных и тематических отсылок, пародирования и снижения интонации, композиционного анализа и деконструкции, цитации и апроприации, выделения метапозиции и самоописания. Не стоит бояться дидактичности, если к этому располагает сам материал. И неизбежности некоего эклектизма подходов тоже: единый категориальный аппарат едва ли действует на столь разнородном материале, особенно на материале постмодернизма. Главное, чего бы не хотелось, – нивелировать в ходе анализа тот драйв и тот, может быть, наивный интерес к «устройству» произведения, собственно, и делающий его актуальным, который сродни азарту ребенка, разбирающего на составные части любимую игрушку. Почему бы и нет – кто сказал, что этот драйв не положен музейной репрезентации!
Как представляется, новое свое качество «искусство про искусство» обретает к середине XIX века (имеется в виду, разумеется, не столько качество художественное – не будем забывать о великих именах, маркирующих наш дискурс на более раннем этапе, хотя бы Веласкеса. Речь идет об уровне рефлексии, сформулированности задач). В 1855 году О. Домье создает карикатуру «Борьба школ: классический идеализм против реализма». В этом рисунке блестяще разрешена задача визуализации специфики обеих «школ»: образы «персонификаторов» обоих направлений (человеческий фактор, облик персонажей и их поведенческий рисунок немаловажен для репрезентации художественных движений), выразительные средства и пр. Ничего удивительного в том, что концепт «искусства про искусство» окончательно формулируется именно в карикатуре, посвященной художественной борьбе: борьба мобилизует и, соответственно, выявляет все самое характерное в любом направлении. Художник – участвует ли он в этой борьбе или стоит над схваткой – получает как бы концентрированный материал для анализа. Карикатуры, посвященные борьбе стилей и направлений, становятся популярными во всех странах. В том числе и в России. Так, П. Щербов, выступивший на рубеже веков, умел находить безупречные визуальные метафоры перипетиям тогдашней художественной борьбы.
Пародийный принцип, зародившийся в карикатуре на художественные темы, оказался постоянно действующим инструментом искусства про искусства. Разумеется, он не мог ограничиваться какими-то жанровыми рамками. В 1873 году П. Сезанн пишет поразительную вещь – «Новую Олимпию», имеющую прямое отношение к нашей теме. Работа для того времени абсолютно «некондиционна»: ни напечатать как карикатуру, ни выставить в качестве картины… Зато в своем радикализме, жанровой и пластической «непричесанности» она адекватно передает те внутренние импульсы, которые движут художником. Конечно, это своего рода оммажный жест: молодой художник обращается к произведению старшего собрата прежде всего в силу уважения, он отдает дань и мастерству, и смелости Э. Мане, добившегося в своей «Олимпии» предельно возможной тогда непосредственности, неопосредованности жанровыми стереотипами в передаче телесно-чувственного. И все же этого молодому Сезанну мало. Пародируя жанровый план полотна, в его представлении все-таки слишком окультуренный отсылками к романтической традиции, он добивается концентрированно-грубой, как бы неокультуренной чувственности, того градуса эротизма, которого современное искусство еще не знало.
Эту вещь можно назвать одним из самых ранних предвестников модернизма, так как здесь предвосхищаются некоторые его базисные принципы: готовность к демиургической трансформации данного – перекодировке, перелепке, перелицовке; нескрываемый пафос обладания, торжество не лимитированной жанровыми и прочими правилами чувственности.
Правда, этот месседж был как бы отложенным: развитие искусства, импульс которому, кстати сказать, был дан тем же Сезанном, все более тяготеет к аналитике, «умопостроению».
Таков был вектор развития кубизма – от аналитического к синтетическому (второй стадии кубизма, по терминологии Малевича). Пафос самоанализа пронизывал это направление настолько, что экспликация «чужого», «другого» искусства в качестве предмета исследования встречается сравнительно редко: когда каждый формальный шаг был многократно отрефлексирован, в «искусствоведческих» отступлениях полемического или оммажного свойства просто не было надобности. Говоря о русском искусстве, однако, имеет смысл не забывать следующее. Русская живопись развивалась в контексте передовой европейской, в том числе и в плане стадиальности, но всегда отстаивала возможность критической оценки западного опыта, некоей поправки (или «примерки», с правом отказа или корректировки) на собственную специфику. Таким образом, в отечественном варианте аналитический (иногда – квазианалитический, с элементом игровой трансформации) пафос был обращен не только на собственные формальные установки, но и на «дружественные» стилистические явления, воспринимаемые обобщенно, как сумма приемов. Как мне представляется, мы вправе говорить здесь о своего рода эффекте двойной экспозиции: на изучение и «присвоение» новейшего искусства в его стадиальности накладывается момент установления некоей критической дистанции. В дальнейшем, через десятилетие, эта аналитическая установка нашла развитие в уникальной педагогической и музейной практике русского авангарда, институализированной УНОВИСом, Музеем художественной культуры, ГИНХУКом.
Были, однако, и примеры того, когда «свои задачи» будущие классики авангарда решали «с помощью» конкретных произведений, к тому же классических. Я имею в виду прежде всего «Частичное затмение» (1914). Задачи, которые разрешал здесь Малевич, множественны. В формальном плане он опробывает операционное поле кубизма в обеих его стадиях – аналитической и синтетической. В самом выборе изобразительной системы есть та установка на «освоение с корректировкой», о котором писал Д. Сарабьянов[2]. Но есть еще один момент, о котором речь пойдет чуть ниже, – операционность. Сугубо авторским, выношенным уже художником вне всяких отсылок к кубистической практике, предвосхищающим дадаизм является здесь план языковый: заумный реализм, алогизм. Малевич манифестирует в работах этого круга освобождение художественного мышления от «логизма», то есть банальных причинно-следственных связей. Все это неоднократно описывалось. Однако есть в этой работе момент, на который, как мне представляется, не обращали должного внимания. Вернемся к понятию операционность, появившемуся выше: в той последовательности, в которой накладываются на поверхность (и друг на друга) геометрические формы, литеры, репродукция, изображения и проекции предметностей, действительно есть что-то механическое, манипуляционное. И в этом видится особый месседж. Да сам факт помещения репродукции хрестоматийного портрета Моны Лизы в данную визуальную ситуацию являет собой демонстративный, воплощенный нонсенс. Действительно, при чем здесь она, почему вынуждена существовать, к тому же далеко не на первых ролях, в явно механически, случайно, автоматически подобранном, скорее даже тасованном ряду странных, неопознаваемых визуальных объектов, напоминающих к тому же банальные типографские политипажи, линейки и плашки? Ради доказательства нарушения причинно-следственных связей? Думаю, этого маловато, коль скоро используется такой значимый для самосознания культуры образ. Слишком уж настойчиво демонстрирует Малевич вызывающе бесстрастное, обидно безразличное отношение к нему (добавим к описанным выше приемам «третирования» то, что портрет дан в репродукции, то есть изображается изображенное, осуществляется двойное опосредование). Что стоит за этим?
Думаю, в высвобождении живописи как таковой Малевич на этом этапе стремится освободиться не только от «логизма». Но в неменьшей степени – от статусно-прекрасного, возвышенного, духовного. Того, что автоматически связывалось в интеллигентском сознании с признанными образами мирового искусства (сегодня бы сказали – icons). Позднее он прямо сформулирует: «Не хочу, чтобы его [искусство. – А. Б.] выдавали за нечто высокотворческое». Эта позиция противоположна, скажем, концепции известнейшего в то время очерка Г. Успенского «Выпрямила», в котором луврская Венера духовно «поднимает» героя. Интонация обязательного, общераспространенного культурного пиетета нуждалась в радикальном снижении. И вся описанная выше операционность, которую столь настойчиво наращивает Малевич, направлена на это снижение. Она насквозь полемична. (Малевич в своей анти-icons активности не был столь хулигански радикален, как Дюшан в своих манипуляциях с Джокондой, зато он и ранее почувствовал эту потребность в снижении интонации культуры, и реализовал ее серьезнее, копнул глубже. То есть не позволил перенести полемику на уровень поведенческой культуры.)
Современники, и прежде всего «монарх критики» А. Бенуа, прекрасно осознали эту полемичность. И развили ее до той остроты, которую, может быть, вначале и не предполагал сам Малевич. Обвинения в неуважении к статусно духовному, «святыням» (признак Грядущего Хама), ставшие общим местом либеральной критики футуризма и супрематизма, распространились и вообще на способность к проявлениям человечности, которые давались в коннотациях «теплое», «женственное», «милое». Эта полемика глубоко заденет Малевича. Он будет снова и снова возвращаться к ней, в частности, в серии статей 1918 года для газеты «Анархия», в которых будет специально подбирать языковые формулы, контрастные риторике бывших оппонентов, наиболее раздражающе на них действующие: «механическое размножение» (пара к «женственной Психее»), «голландская печка еще теплее» (пара к теплой улыбке Венеры и Джоконды) и т. д.
Кстати сказать, А. Бенуа не только писал «про» искусство Малевича с разным накалом критичности. Он вполне добросовестно штудировал его произведения, хотя бы на выставках «Союза молодежи».
В ОР ГРМ хранятся каталоги этих выставок (1910–1913 гг.) с маргиналиями – заметками и рисунками[3]. В этих рисунках Бенуа не копирует экспонируемые произведения, но пытается добросовестно и вдумчиво вывести для себя «формулу Малевича» (Татлина, Гончаровой, Филонова, Ларионова и др.): выявляет композиционные оси, векторы движения и т. д. Словом, почти буквально следует новому методу формального мышления, который, по Малевичу, строится «на основании веса, скорости и направления движения»[4]. Было бы неверно, говоря об искусстве, про искусство 1910-х годов, рассматривать только аналитический вектор, забывая об эмоционально-стихийном и о пародийном. М. Ларионов и Н. Гончарова были, наверное, первыми мастерами авангарда, не только специально заинтересовавшимися этой проблематикой, но и пытавшимися подойти к ней целостно, в совокупности установок. Похоже, они первыми, задолго до В. Беньямина с его классической работой «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», поставили вопрос о значении копии для современного искусства («Признание копии самостоятельным художественным произведением» – так это было сформулировано в предисловии к каталогу выставки «Мишень»[5]). Но еще интереснее в контексте нашей темы выглядит создание вымышленных биографий, известных нам главным образом в трансляции И. Зданевича[6]. Гончарова как бы запускается в воображаемое путешествие в пространстве и времени, по ходу которого она лично знакомится со всем, что представлялось актуальным для тогдашнего авангардистского сознания: персонами, направлениями, этнографической средой (так, ей положено искать родину примитива – и она посещает Бенин, острова Таити). Путешествие документируется и обрастает подробностями, исключающими саму мысль о мистификации (это заставляет вспомнить квазисерьезность популярных течений постмодернистских 1970-х: mock ethnography и mock archeology, mapping). Сочетание пародийного и серьезного, агиографического и бытового, авантюрного и научного, разновременного и разнонаправленного создает взрывную смесь – нарративный аналог всёчества.
Есть здесь еще один важный аспект: зарождение сугубо авторской мифологии, имеющей право на полное расхождение с реальностью. Этот типично модернистский дискурс в русле нашей темы охотно развивался дадаизмом и сюрреализмом.
…В 1946 году маститый художник и виртуозный реставратор старых голландцев Владимир Яковлев создает картину «Спор об искусстве»: пожилые живописцы с большим энтузиазмом пишут обнаженную, по-рубенсовски пышную натуру, по ходу дела ведя жаркие споры об искусстве. Споры, видимо, касаются все же частных вопросов, потому что главное (и это дано и в живописи, и особенно настойчиво, даже назойливо – в многочисленных атрибутах академического искусства) было давно решено: советское искусство развивалось под знаком классицизирующего канона. Долгие годы история развития раннесоветского искусства спрямлялась: авангард был «остановлен на бегу», «сверху» был внедрен наиболее адекватный прагматике режима, отрефлексированный партийными идеологами метод социалистического реализма. Между тем дело было значительно сложнее. На всем протяжении 1920-х классический авангард подвергался критике как раз слева. «Деканонизируя старую художественность» (С. Третьяков), левые (имеется в виду в контексте истории культуры, не столько художественный, сколько мировоззренческий вектор бытования этого термина, опора на радикальную версию марксистской социологии) с не меньшей энергией атаковывали беспредметное искусство – за формализм, фетишизацию приема, мелкобуржуазность мышления и пр. Оппозиция «авангардное (беспредметное)/традиционное (фигуративное)» была скорее частным случаем. Более значимым моментом была проблематика бытования искусства, формы его существования: с «фетишизмом» традиционно понятого авторского произведения станкового искусства боролись непримиримо, предлагая целый спектр его преодоления: отказ от авторства и качества, бригадный метод создания, снижение статуса посредством экспонирования репродукций и копий на выставках, в том числе музейных, и т. д. Это не говоря уже о других формах дестанковизации, «раскартинивания» – акценте на текстуализацию (введение в экспозиции и в отдельные произведения схем, таблиц, развернутых цитат), создания разного рода социально и технологически новых видов творчества и концептов вроде агитационных установок, аналогов современной инсталляции[7]. Так что любой выбор формы (точнее, выбор любой формы) подвергался неистовыми левыми остракизму.
Все это надо иметь в виду, оценивая поворот к социалистическому реализму. Да, здесь был прагматичный и циничный выбор власти, взвесившей агитационные, мифопорождающие, сакральные, суггестивные и другие возможности, предъявленные сторонами в десятилетней художественной борьбе, и вынесшей окончательное, не подлежащее обсуждению решение в пользу социально концептуализированного реализма – соцреализма. (Не будем говорить о сопутствующих факторах – уровне культуры персонификаторов власти, их вкусах, особом, присущем людям, не владеющим традиционными профессиями, уважении к «спецам», мастерам своего дела, а таковыми в их глазах могли считаться только обладатели секретов мастерства, то есть традиционалисты.) Но кроме давления «сверху», были и энергии «снизу», от собственно искусства: бесконечная усталость от дискурса деформализации (дискурса в снижающем смысле – многоговорения, как у М. Гаспарова). Как реакция на него, а не только как дань конъюнктуре, воспринимаются сегодня резкие повороты в выборе языка даже таких мастеров, как К. Малевич и П. Филонов. Молодое же поколение тем более разрабатывало некую множественность фигуративизмов и реализмов, репрезентируя индивидуальные картины мира: растворения собственно искусства в культурной революции, которого требовали левые, жаждали далеко не все. Эта множественность предполагала опору на некие образцы (которые, естественно, нуждались в индивидуальной доработке). История искусства воспринималась как кладовая (вполне советская метафорика: кладовая природы и пр.). Но взять, вынести из нее нужно было самое лучшее. Не промахнуться. Оправдать доверие. В ряде работ эта проблематика выбора непосредственно тематизирована – как у С. Некритина («Старое и новое»), А. Гончарова («Смерть Марата»), в корах-метростроевках А. Самохвалова.
Строго говоря, вполне можно признать всю неофигуративистскую линию искусства 1920-х – искусством про искусство.
Внедрение метода социалистического реализма для многих думающих художников было репрессией. Объективно, в свете последующих событий, последствия этого внедрения для искусства были катастрофичны. Но было бы неисторичным забывать, что для большого массива вполне искренних художников, особенно поколения, сформировавшегося к концу 1920-х, оно, это внедрение, в какой-то мере было облегчением: проблему выбора языка сняли у них с плеч. А некоей унификации картины мира не так боялись, как ее индивидуализации (и неизбежной расплаты за эту индивидуализацию).
Таким образом, лет за пятнадцать до яковлевской картины споры об искусстве завершились. Был выбран классицизирующий канон. Впрочем, вполне вместительный, если рассматривать хотя бы источники, к которым обращались выпускники воссозданной в прежнем имперском качестве Академии художеств. Достаточно взять творческий путь молодого В. Орешникова, впоследствии ректора Института им. И. Е. Репина Академии художеств СССР. В работе 1927 года «Смерть Борчанинова» ощущалось влияние венецианцев и Эль Греко. В работе 1935 года «Начальник политотдела МТС» отчетливо читались: в рисунке – да Винчи, в колорите – Курбе. Это не оценки post factum: все это сочувственно фиксировалось современной критикой. Что ж, «молодежь тянется к музею»[8], – отмечал журнал «Творчество». Впрочем, скоро «магазин источников» закрылся, соответственно, закончился и «источниковедческий» период советской критики. Многообразие «внутри канона» сменилось визуально усредненными категориями мастерства, сделанности, музейного качества. Затем и эти характеристики показались чрезмерными.
К проблематике искусства про искусство вернулись только в 1950-е, в рамках серьезных содержательных процессов гуманизации, проходивших в русле официального искусства. Они соприкасались с движением так называемого сурового стиля. Это термин достаточно условный, головной, он фиксирует скорее социально-интонационную близость достаточно разных художников, выступивших на исходе 1950-х, – В. Попкова, Н. Андронова, Т. Салахова, П. Никонова, П. Оссовского и др. В области формообразования эти мастера действительно отказались от «проходной», обезличенной визуальности окончательно обездвижевшего к тому времени соцреализма. Они резко расширили ассортимент стилевых источников, инспирирующих их искания, – ярких, но все-таки не отвязанно радикальных: среди отечественных я бы назвал наследие ОСТа в целом и отдельные фигуры вроде К. Петрова-Водкина, А. Гончарова, А. Дейнеки, среди зарубежных – П. Пикассо классического периода, Р. Гуттузо, Р. Кента, К. Бабу, кое-кого еще. Другая группа художников, поколением старше – А. Мыльников, Е. Моисеенко, Д. Жилинский, – ощущала себя в традиции и мифологии просвещенного академизма и в пластическом плане ориентировалась скорее на высокую классику, на Ренессанс. При этом оба крыла относились к источникам вполне по-модернистски: не только без смирения, но даже с каким-то эмоциональным нахлестом. Они вообще хотели заставить себя слушать. По сути дела, эта была последняя, в чем-то трогательная в своей наивности попытка содержательного, «человеческого» диалога искусства с государством и с широкой аудиторией, «народом». В содержательном плане они, испытав надежды хрущевской оттепели, хотели хоть как-то «утеплить», очеловечить самое существо советской жизни (хотя и не смогли освободиться от сугубо государственной риторики труда как жертвенности, подвига и пр.). В творческом – тоже хоть как-то гуманизировать ее, расширить эстетические горизонты, «возвысить». В том числе и разговором искусства про искусство. (Любопытно, что эта попытка диалога подкреплялась историческими прецедентами. Так, в тогдашнем либеральном профессиональном сознании снова возникал вопрос об авангарде. Причем именно с точки зрения его взаимоотношений с властью. «Было же время, когда авангард и государство понимали друг друга… Какая польза была и тому, и другому…» Подобное романтически-охранительное отношение к истории авангарда устоялось лет на двадцать… Потом пришло понимание «Великой иллюзии».)
Крупные мастера позднесоветского искусства были разными: одни обронзовели, другие мучились непониманием и уходили в своего рода эстетический эскапизм. В любом случае они многое потеряли – из-за доверчивости или, политического и поведенческого конформизма. Им и досталось более всего от последующих поколений критиков. Но вот что неоспоримо: они, при всех издержках своего положения в официальном искусстве, почувствовали вызов времени и ответили на него! Они прежде всего хотели избавиться от «лакировки действительности». И они сделали это, правда, в аффектированной, не без мачизма суровости их настоящих мужчин быстро появилась своя риторика и своя поза. Но среда их обитания была подлинной, живописной: «чумазая», пульсирующая нефтяными ореолами и асфальтовыми тональностями – шахтеров, пронзительная в теплохолодности желто-розового песка – геологов. Они хотели вернуться к «правде жизни». Но в большей степени им удалось вернуть в советское искусство эстетизм, причем прочувствованный и темперированный в модернистском духе. И в этом плане – плане искусства про искусство – они выступали вполне сообща с художниками, которые очень скоро это официальное поле покинут.
Видимо, реактуализация нашего сюжета действительно была вызвана некоей внутренней необходимостью. Недаром знаменитая, положившая начало делению нашего искусства на официальное и андеграундное, неофициальное, выставка 1962 году в Манеже обладала очевидным, но (видимо, затененным «хрущевским скандалом») не отмеченным исследователями качеством. Это была в большей мере, чем когда-либо в советской истории, выставка искусства про искусство: столько здесь было внутрихудожественных аллюзий, отсылок, цитат, тропов. Молодежное, в сущности, искусство искало опору в собственном, по-пушкински говоря, «самостоянье», в собственной онтологии. Возможно, художники, настроенные на честный диалог, сами не осознавали, что подобная опора реально означала то, что внешние (партийные) ориентиры переставали действовать. Н. Хрущев, похоже, и перевел разговор в русло идеологического и поведенческого скандала именно потому, что каким-то верхним чутьем ощутил эту новую опасность ухода искусства «в себя», на которую официоз так и не нашел ответа.
«Второе пришествие» абстрактного искусства (как известно, в России проросшего, но здесь же старательно вытоптанного, казалось, навсегда) во второй половине 1950-х имело и эту, онтологическую, составляющую. Наряду с политической (послесталинская робкая оттепель). И – прогрессистской, так сказать, инновационной (абстрактное искусство, особенно после Американской национальной выставки в Сокольниках в 1959 году, имевшей в среде художественной молодежи мощнейший резонанс, ассоциировалось с самим понятием современности, полномочно его представляло).
Все это так, но главное происходило прежде всего в сфере художественного сознания: абстракция явилась ферментом давно назревшего процесса обращения искусства «на себя», экспликации своего языкового потенциала, на десятилетия «замороженного» официозом.
Оказалось, языком абстракции можно было выражать любое содержание. Даже то, что традиционно считалось доступным только фигуративизму в его соцреалистической версии. Много позже английская группа Art&Language создаст «Портрет В. И. Ленина в стиле Дж. Поллока». Для молодого советского художника, даже разочаровавшегося в официальной идеологии и эстетике, подобный подход в 1950–1960-е был бы кощунственным, но о «выборе языка» задумались многие. Это вовсе не означало некую всеобщую обреченность «на абстракцию». Просто с ее помощью многие художники открыли для себя возможность созидания индивидуальных, персоналистских картин мира. Открыли – и пошли своим путем. Те же, кто остался верен абстракции, наметили несколько фундаментальных направлений ее, условно говоря, авторизации. Так, Ю. Злотников уже в 1950-е создает свои первые «сигнальные» композиции – знаки без денотатов, прообраз семиотически понятой картины мира. Это были вещи, задуманные как систематизаторский проект, по типу таблиц Малевича или Матюшина, но приобретающие все более психоделический характер. Тогда же в работах В. Слепяна, Д. Леона, М. Кулакова, Л. Мастерсковой и др. московская абстракция стремительно набирала медитативно-духовный подтекст. Существовал и антропо-археологический вектор русской абстракции (прямо перекликающийся с Native American мифологией отцов абстрактного экспрессионизма).
Но особенно мощное развитие получает многоуровневый и сложный, так называемый геометрический проект (Ф. Инфанте, В. Колейчук, Л. Нусберг и группа «Движение», М. Шварцман, Э. Штейнберг, В. Немухин). Название это достаточно условное – концептуализированный техницизм Колейчука и сакрализованный пластицизм Шварцмана труднообъединимы, однако силы притяжения здесь все же сильнее, чем силы отталкивания: «Материя всегда попадает в какие-нибудь из наших математических рамок, ибо несет на себе груз геометрии» (А. Бергсон).
Воспринявший энергетический импульс супрематизма Ф. Инфанте уже в 1960-е трансформировал его пространствообразующую активность в новом направлении. Отказавшись от глобальной идеи супрематизма – выхода в мировое, космическое пространство, равно как и от запрета на «натуралистические репрезентации» (М. Билл), он предпочел работать с реальными топосами. Материализованные, «овеществленные» геометризованные объекты он помещает в естественную природную среду. Возникает некий синтез – Инфанте называет его артефактом, который фиксируется фотоспособом и существует только в этом качестве. Артефакт – результат целенаправленного акта формообразования. Но это одновременно и процесс – процесс возникновения и фиксации многообразных и часто незапланированных, спонтанных связей между предметной, искусственной и природной формами, в результате которых возможны самые парадоксальные трансформации. Метафизика произведений Э. Штейнберга связана с постоянной апелляцией к «духу Малевича». Однако эти своего рода «спиритические сеансы» обостряются и актуализируются двумя неожиданными и внеположными как супрематизму, так и друг другу ситуациями: «музейной» (отсюда – классическая валерная живопись) и «бытийной» (от нее идет стремление биографизировать пластический месседж, наполнить его собственными душевными движениями).
Любопытно, что, обратясь от повествовательности (соцреализма) к неким основам визуального языка, его морфологии и синтаксису, в том числе и пройдя абстрактный и «модернистский» периоды, многие бунтари сделали шаг назад, испугавшись радикалистских стратегий. Многие стали, если воспользоваться выражением А. Бенуа, «художниками возврата». Это объясняется феноменом советской культуры: недоступностью ее архива, большая часть которого являла собой закрытое пространство. Как справедливо писал А. Ерофеев: «религия, мистика, философия, культурология, социология, запрещенные во времена деспотизма области знания воссоздавались в рамках индивидуальных творческих концепций»[9]. Он же констатировал: неофициальное искусство во многом носило реставрационный характер. И действительно, многие мастера буквально купались в новообретенной «живописной культуре», вовсе не опасаясь (парадоксальным образом ситуация повторяла 1930-е годы) «источниковедения»: следов изучения «Кобры» – у Э. Белютина, пуантилизма Сегантини – у В. Ситникова, голландцев – у Б. Биргера, Миро и Art Brut – у раннего В. Янкилевского, Арпа – у Н. Вечтомова. У одних (В. Янкилевский) этот период был кратким, у других затянулся. Появились и художники, которые смогли создать новую поэтику ретроспективизма (скажем, на традиционный петербургский историзм накладывалась ситуация борьбы за свое культурно кровное, но запрещенное; возникала своего рода двойная экспозиция). Таковым был в ту пору М. Шемякин. Здесь вообще силен был модус преодоления, силового возврата ценностей, импульс обладания. Соответственно, мотив не просто заимствовался, он трансформировался достаточно властно. Поэтому подобную версию искусства про искусство я бы назвал более развернуто: искусство про возвращение украденного/запрещенного искусства. Или новый позднесоветский эстетизм. Это явление стало массовым, объединяющим, кстати сказать, и неофициальных, и официальных художников. Более того, номенклатурно-официальных: лучшие вещи А. Мыльникова, Е. Моисеенко, Д. Жилинского имели тот же, пусть неосознанный генезис. Художниками возврата, добавлю, драматического и бескомпромиссного, были такие разные, но в чем-то, в исторической типологии прежде всего, близкие мастера, как Д. Митлянский, Н. Жилинская, Т. Соколова, Б. Смирнов, И. Олевская, А. Ларионов, А. Задорин…
Источники вдохновения у них были разные – от архаики, Возрождения до позднего модернизма, но установка претворения – сугубо модернистская, демиургическая (похоже, мимо вариаций и интерпретаций П. Пикассо на темы Веласкеса, Курбе и Мане не прошел никто). Смогли ли они отрефлексировать «свое», исторически и личностно обусловленное, во взаимоотношениях со «своим» в истории искусства? Думаю, в большинстве случаев эти отношения складывались стихийно, модернистски-импульсивно. Но кое-кто смог. Наверное, Д. Жилинский, post factum, в работе 1991 года «Dios con nosotros»: европейская иконография Страстей Господних, чуть стилизованная в прерафаэлитском духе, пропущенная сквозь цветовые фильтры иконописи, неожиданно и мощно авторизуется ощущением семейной трагедии. В «Испанском триптихе» А. Мыльникова мне тоже слышится неожиданно автобиографическая нота. Причем горькая. В аффектированном погружении в стихию испанской живописной традиции, в акцентировании ее драматизма, зрелищности и театральности мне видится драма позднесоветского вынужденного эстетического эскапизма: «полной гибели всерьез» (Б. Пастернак) не получалось, мешали рафинированность и демонстративность мизансцен и декораций.
Новый позднесоветский эстетизм оказался на удивление жизнеспособным. Он дал мощный всплеск в творчестве художников целого поколения – так называемых семидесятников. Причем в новом качестве. Никакого присвоения, отбирания своего, кровного у супостатов (собственно, и культурные запреты-то носили уже достаточно формальный характер). В отличие от шестидесятников (причем представлявших и официальное, и неофициальное поля советского искусства), Т. Назаренко, О. Булгакова, А. Ситников и др. прекрасно понимали всю тщетность попыток хоть как-то очеловечить позднесоветское безвременье… Оппозицией ему, по принципу High and Low, были культура, музей, память. Благородное искусство опосредований – кодов, метафор, аллюзий. Все это было, естественно, High: убежищем, островком личной свободы. В качестве «жизни» брались разного рода версии карнавализации (М. Бахтин был авторитетнейшей фигурой фрондирующего интеллигентского сознания): от средневекового народного действа до балов-маскарадов. Любопытно, что эти художники очень сближены даже в поисках «своего» в упомянутом выше виртуальном музее – это Северное Возрождение, Брейгель, русский примитив – Григорий Островский и др. «Делятся» они и иконографией: вся эта копошащаяся фиглярствующая нечисть практически едина и в булгаковских «Представлениях» и «Карликах», и в «Demos» Ситникова, и в «Пирах» Назаренко. Эта нечисть дается в вечном движении вокруг центра, в котором что-то «дают». Позже Назаренко прямо визуализирует опасность, исходящую от толпы (жизни): в ее «Пирах» и «Трапезах» «давать» будут саму художницу, она представит себя – как на блюде – в окружении карнавальных и пугающе реальных хищников из какого-то личного бестиария. Нечто подобное покажет и Ситников в «Греховном суде»: быки, минотавры, какие-то волшебные персонажи – все самое «ситниковское» расположено как бы в ожидании расстрела… Персонажи в центре прикрываются палитрой – жест наивный и трогательный с точки зрения самосохранения, однако важный и значимый в плане авторской мифологии и этики. Вспомним раннюю «Семью» О. Булгаковой: именно так, как щиты, как латы, обороняясь от угроз извне, держат атрибуты своего искусства персонажи автобиографического триптиха: жена, муж и дочь, все – художники… Семидесятников впоследствии упрекали в искусственности, условности, театральщине и пр. Мне в их очевидной жестовости видится не театральное, а экзистенциальное. Неудовлетворенные историческим безвременьем, в котором они себя ощущают, они тематизируют сам выбор «художественного» как «выживание», а приемы того же «художественного» эксплицируют как средства защиты – латы, щиты, маски и пр. Правда, и ранее они позволяли себе «выглянуть из-за щита», а сегодня (особенно Назаренко) склонны к «активным действиям» по отношению к действительности…
Кстати, эпоха брежневского безвременья, исторического вакуума предопределила и другой путь, представленный именами А. Петрова, В. Гаврильчика, раннего В. Воинова («Россия – родина слонов»). Внешне их искусство вопиюще отлично от описанной выше арт-практики: вместо рафинированной, хрупкой «музейности» работа с низовой культурой, продуктом пригородно-фольклорного сознания сталинской поры. Но и здесь была отнюдь не стилизация (и тем более не органичный примитив по типу Outsider Art), а дистанция, без которой невозможны критические процедуры отстранения и анализа. Она задана прежде всего тем, что художники работают с реди-мейдами. Реальность предстает в «готовых» визуальностях: фотографиях, открытках, вырезках из журналов, фотозадниках, скульптурки на комоде. Работая с опосредованностями, художники осмысляют подобную «вторичность» как проблематику присутствия. (В отличие от И. Кабакова и Э. Булатова, для которых артикуляция профанного – прежде всего языковое средство.) Для этих мастеров профанное (низовое) переживается как экзистенциальный опыт, как возможность/невозможность самоидентификации по принципу социальной принадлежности (детство, происхождение, жизнь в эвакуации, словом, «вышли мы все из народа, как нам вернуться в него?»). Есть здесь и еще один момент: проблематика опосредования осмысляется в том числе и как своего рода медийность. Низовые реди-мейды – плоть от плоти культуры повседневности. Но именно процедуры опосредований позволяют художнику не просто визуализировать эту культуру, но дать ее в определенных архетипах – представлениях о счастье, красоте, сексуальности, вечности и т. д. (так, А. Петров виртуозно использует мотивы сталинской санаторной архитектуры – вазы с плодоносящими цветами, фонтаны и пр. – не как фон, а именно как матрицы сознания: ожидание бесконечного цветения, вечного заслуженного отдыха и т. д.).
…Пора вернуться к той ситуации в нашем искусстве, которая создалась после освоения рядом художников абстракции как морфологии и синтаксиса языка искусства. У них появилась возможность дистанцироваться от стремительно распространявшейся практики присвоения модернизма и, соответственно, пойти другим путем. Для этого требовалась особая ментальность. Ведь анализу подвергались не только форма, содержательные интенции, но и характер бытования произведения в жизни и в культуре, и ситуация смотрения, и учет зрительских ожиданий. Самой важной работой, так сказать, онтологического плана представляется созданная еще в 1965 году «Рука и репродукция Рейсдаля» И. Кабакова. Рейсдаля представляла репродукция, наклеенная на днище огромного белого ящика, с ней монтировалась колбасного цвета муляжная рука. Эта вещь – и это было отмечено А. Ерофеевым[10] – тематизировала распространившийся тогда культ музейного искусства и позиционировала себя как пародийная по отношению к нему. Но ее содержание гораздо глубже и, так сказать, стратегичнее. Это была, наверное, первая после ларионовского всёчества (и гораздо более концептуализованная) демонстрация поэтики амбивалентности, которую, помимо всего прочего, сформулировал московский концептуализм. Все в этом ассамбляже ускользает от окончательной определенности: репродукция голландца может выглядеть и обыденным видом из окна, банальная эмалевая окраска ящика служить репрезентацией метафизического супрематического начала и в то же время «держать» бытовой, повседневный горизонт («муха в молоке» – любимое выражение Кабакова) и т. д. Объемная рука репрезентирует эту амбивалентность, операционность, она – весома, груба, зрима, единственно не ускользаема, но и она – муляж…
Кабаков в этом произведении с какой-то дидактической «настырностью» показал, «как делается» произведение contemporary art (эта дидактичность сама по себе станет самостоятельной линией в «искусстве про современное искусство» (см.: С. Бугаев-Африка. «Формы деструкции»; Л. Резун-Звездочётова. «Классификация жанров…» и др.)). Он и абстракцию мог бы так же демонстративно деспиритуализировать – «разъять» до дна, до морфологии и синтаксиса.
Кабаков добился нового качества «искусства про искусство».
От «Руки…» многое пошло – прежде всего все интенции московского концептуализма эксплицировать языковые практики как некую операционность. Пошла и еще одна линия: демифологизация и деперсонификация роли художника. Собственно даже – ускользание «настоящего» художника, «смерть артиста». (Этой темой постоянно и умно занимается Ю. Альберт. Свою интересную версию самоуничтожения «продукта искусства» дает М. Жукова.) Здесь, в «Руке…», художник как бы коллективен, искусственно сконструирован («Роль неофициального художника предложена любому зрителю», – справедливо указывает А. Ерофеев). С тех пор в нашем искусстве про искусство и развивается сюжет придуманного, вымышленного художника, объекта и субъекта разного рода манипуляций – формального (формалистического скорее), мировоззренческого, статусного, политического и других планов. Так, уже в 1973 году появились абстракционист Зяблов и реалист Бучумов, В. Комара и А. Меламида. Здесь на плечи вымышленных художников ложились серьезнейшие онтологические задачи: картина мира имела буквально антропологическое измерение: честный реалист Бучумов, потеряв глаз, пририсовывал к изображенному кусочек носа (буквализация постулата «я так вижу»). Продолжением сюжета были и «социологический проект» «Выбор народа», и эксперименты с заменой художника антропохудожником анима (шимпанзе, слоном и пр.).
Кабаков же стал самым концептообразующим российским художником. «Всякий мнит себя стратегом», но Кабаков действительно разрабатывал направления главных ударов: текстуальная установка, тотальная инсталляция, амбивалентность позиционирования и др. Все они в большей или меньшей степени имеют отношение к нашему сюжету.
Текстуальная установка предполагает процедуру тотального комментирования. Процедура комментирования сродни понятию успешного речевого акта («How to do things with words» – так называется книга основоположника теории речевых актов Д. Остина, утверждавшего, что существуют глаголы, не описывающие, но творящие реальность). Комментирование процессуально и не имеет окончательности, то есть истины в последней инстанции. Это вызывает потребность в постоянной смене позиций наблюдателя (и наблюдателя наблюдателя), вообще, проблематика позиционирования – нерв московского концептуализма.
И. Кабаков и В. Пивоваров уже в ранних своих вещах настаивали на имперсональности (или, наоборот, универсальности) своего опыта. Соответственно, они уступали повествование многочисленным «рассказчикам» вроде Вшкафусидящего Примакова или Вокноглядящего Архипова (Кабаков), или «действующим лицам», или «агентам» (позднее Пивоваров, И. Макаревич и Е. Елагина), олицетворяющим топографическую и пространственную ситуацию позиционирования. (И. Макаревич впоследствии в инсталляции «Шкаф Ильи» тонко тематизировал эту стратегию.) Уже в ранних своих альбомах Кабаков предложил установку снятия понятий абсолютной неангажированности, артистической свободы и пр. Он вполне признает наличие реальности, в том числе и советской. Художники модернистского типа и жеста, согласно либеральной традиции, советское государство сравнивали с Левиафаном. Соответственно, с ним надо было бороться. Стратегия концептуального толка была иной. Их свобода была не в борьбе, а в выборе позиции по отношению к материалу советского. Эта позиция может быть концептуально аналитической, может быть и игровой. Может быть дистанцированной и приближенной, вплоть до мимикрии (апроприация Кабаковым, Булатовым и других низовых жанров советской визуальной продукции – стендов, открыток, железнодорожных плакатов и пр.). Может различаться по типу позиционирования – внутри или вовне «советского тела». (В том числе коллективного тела советского искусства. На этом построена поэтика Э. Булатова и О. Васильева, концептуализирующих перцепцию, тончайше работающих с опознаванием видимостей: данных перцептивно и внедренных в сознание идеологически, в виде некоей, говоря телевизионным языком, картинки. Импульс позиционирования воспринял и Гриша Брускин: он видит себя как коллекционера и систематизатора советского, создателя иерархий и лексиконов.)
Монументальная экспозиция Ильи и Эмилии Кабаковых «Альтернативная история искусства» (2008) в московском «Гараже» являет собой тотальное воплощение нашей темы. Все линии, веером расходящиеся от «Руки и репродукции Рейсдаля», каким-то особым образом сводятся воедино. Три взаимоориентированные экспозиции наследия трех мистифицированных персонажей истории искусств (Ш. Розенталя, мнимого И. Кабакова и Спивака) являют, как мне представляется, тотальную тщету амбициозных репрезентаций картин мира. Амбициозных – потому что альтернативное выстроено так же, как главное, музейное: подробно, инсталляционно затратно, пафосно, откомментированно (вообще-то Кабаков давно стремится торпедировать музейный статус – хотя бы вульгарной протечкой: см. инсталляцию «Случай в музее»). Экспозиционеры (видимо, музейщики, им И. и Э. Кабаковы как бы уступают честь музеефикации наследия этих художников) мыслят целостно, широкоформатно, то есть пытаются дать именно репрезентацию, не фрагмент, кусок, а целостную картину мира (хотят ли этого художники – другой вопрос). В этом плане они, видимо, удовлетворены – все солидно. Художники – «по жизни», до выставки двое не дожили – не удовлетворены. Розенталь идет от цвето-пластических иерархий (влияние Малевича) к социальным (искус социально ориентированного искусства). И остается глубоко разочарованным. Не качеством (хотя Кабаковы все время лукаво подсказывают: качество-то не того…). Самой возможностью высветить главное. Отсюда – идиотическидадаистская буквализация этой мании иерархии и контроля: лампочки в «главных местах». Кто их зажигает? Художник? Зритель? Некий всеобъемлющий и всехобъемлющий Контролер? У мнимого Кабакова свои проблемы – он, признавший Розенталя своим учителем, разрывается между натурными и абстрактными способами репрезентации мира, к тому же удручен своим несовершенством. У Спивака свои: социализация, интеграция, да и жизнь оказалась коротка. Три биографии, три типа мироощущения и миропонимания? Нет, «Альтернативная история» не об этом, хотя нарративно-мистификационная сторона хороша: разработана с почти детективной интригой. История, повторю, о тщете амбициозной репрезентации. Ведь и основной предмет «разговора» – сугубо оптический: «засвеченные» куски живописной поверхности, загнутые уголки, непонятные «белые человечки», какие-то геометрические фигуры – то ли «следы» супрематизма, то ли «мухи» (решетки, полоски) на сетчатке глаза.
(В свое время В. Захаров в инсталляции «История русского искусства от русского авангарда до московской школы концептуализма», столкнувшись с «трудностями музейной репрезентации», похоже, решил не будить лихо. Он облегчил себе задачу, буквально использовав постмодернистскую стратегию архивации: складировал историю искусства в большие папки и поместил в какой-то агитвагон, в который можно войти, но папки в руки тебе не выдадут. Кабаков себя не пожалел.)
Разумеется, далеко не всегда к музейной репрезентации художники обращаются с вопросами глобального, мировоззренческого порядка. Чаще художники в этом обращении ищут ответы на конкретные вопросы искусствопонимания. Так, художественное сознание нескольких уже поколений современных думающих художников развивалось под знаком запрета на нарратив: рассказывание историй намертво закрепилось за ретроградным и реакционным искусством. Однако наиболее пытливые начинают тяготиться запретами. Любопытно смотреть, как они осторожно, как бы пробуя температуру воды ногой, пытаются «войти» в течение нарратива. Так, А. Белкин выбирает хрестоматийную русскую повествовательную картину – «Христос и грешница» В. Поленова. Она высоко повествовательна сама по себе. Но в ней есть внутренний сюжет, вырывающийся наружу вне общего течения нарратива и даже вопреки ему. Все экскурсоводы Русского музея знают оптико-техническую особенность этой вещи: Поленов написал ослика так, что он как бы следит глазами за зрителем, передвигающимся параллельно картине. Белкин «выдергивает» изображение погонщика на ослике из картины, по-постмодернистски удваивает его, переносит из насыщенной действием среды в разреженную ноосферу, в которой проплывают какие-то сомнительной научности формулы и знаки… Причем радикальности приема здесь не чувствуется: похоже, ослик и погонщик прижились и в этой среде. Белкин, мне представляется, исследует нарратив не с целью дезактивировать его, обезвредить. Нет здесь и желания апроприировать его, присвоить. Он, кажется, хочет показать: ничего страшного, жить можно, даже мощный хрестоматийный нарратив не помешает рассказать что-то свое, было бы что… К. Рагимов подбирается к потенциалу нарративности с другой стороны. Но тоже – «через» музей. В пространство и, главное, в «настроение» хрестоматийного узнаваемого пейзажа Куинджи внедрено нечто чужеродное: брошенный битый автомобиль. Он притулился здесь достаточно органично. Конечно, он здесь не ради примитивного прикола по принципу «не может быть». И не в качестве «бомбы», подрывающей доверие к отпечатавшемуся в массовом сознании образу… Скорее художник исследует возможность радикализации теста другим текстом: в неторопливую «родную речь» внедряется – пусть в потенциальном, свернутом виде – action по типу кроненберговых психоделических фильмов…
Г. Острецов приходит в музей в резиновой рельефной маске (само по себе то, что в резине отливаются рельефы на классицизирующие темы, выглядит диссонансно). Автор сам себе артефакт, сам себе музей. Его появление и поведение в музейной среде неадекватно. И в то же время само присутствие этого сомнамбулически самопогруженного «чужака» вдруг становится необходимым: оказывается, рутина традиционных внутримузейных отношений и ролей (картина – зритель) нуждается в некоей встряске. Возвращаясь к периоду создания кабаковской «Руки…», признаем: сама потенциальная многоходовость, заложенная в этой вещи, во многом явилась следствием тех новых горизонтов, которые приоткрыло для наших художников соприкосновение с поп-артом. Поэтика амбивалентностей, которая присутствует в ней, не могла бы осуществиться вне тех процедур аксиологического характера, которые произвел поп-арт (теория «дезориентации» Д. Розенквиста, данное Р. Лихтенштайном определение поп-арта как «искусства цитирования, перевода, имитации, двусмысленностей» и др.).
В нашем искусстве немало произведений, инициированных непосредственно поп-артом (притом что И. Кабаков, видимо, первым плодотворно отрефлексировал это движение). Необходимо вспомнить и раннего М. Чернышева, и раннего М. Рогинского. Одной из интересных реакций я бы признал реди-мейд Е. Рухина «Трубка». Он очевидно отсылает к знаменитому произведению Р. Магритта «Это – не трубка», глубочайшим образом откомментированному М. Фуко[11] и предвосхитившему теорию речевых актов Д. Остина. Однако диалектику визуальное – вербальное Рухин резко радикализирует и брутализирует, переводя визуальное в грубую, вещную трехмерность реди-мейда. Есть в этой брутальности и специальный месседж, своего рода «наш ответ Чемберлену»: перфекционизму и анонимности машинного изготовления, супермаркетной репрезентации наше искусство противопоставляло как раз рукодельность, неказистость, топорность. Так, О. Зайка дает свой ответ «супу Кэмпбелл» Энди Уорхола: вместо аккуратности и имперсональности реализации – размашистая грязноватая живописность («Сливовый компот»). А. Тер-Оганьян печатает некие хиты мирового искусства – от Пикассо до Гилберта & Джорджа – на пластмассовых формах, своего рода гипертрофированных значках. И сам прием, и форма давно апроприированы поп-артом. Но здесь «значки» – рукодельного, самопального, дотехнологичного производства, их «меньшие братья» были в ходу в России в 1960-е годы и прямо наследовали кустарной продукции, которую продавали инвалиды в электричках. Во всем этом видятся не манипуляции понятиями высокое – низкое и даже не вызов все той же агрессивноперфекционистской эстетике поп-арта (одной его линии. Не будем забывать, что был еще и как бы антимашинный, антииндустриальный hand made pop-art К. Олденбурга и Р. Раушенберга). Смысл этой вещи глубже: отсылки к современному искусству, и тематические, и формальные, не исключают, а наоборот – вызывают к жизни суггестию некоего национального опыта, не эстетического даже, а того, что называют теперь историей повседневности… Этот импульс видится мне и в «Семейном портрете» О. Тобрелутс: поп-артовская медийность находится в сложных (по типу перетягивания каната) отношениях с прямолинейной документальностью безыскусных домашних фотографий. За первой – «настройка» глаза современного художника, за второй – историческая память и опыт повседневности…
Дубоссарский и Виноградов – пожалуй, самые медийно раскрученные художники своего поколения. Это происходит не из-за каких-то внешне конъюнктурных соображений, а ввиду отрефлексированной способности художников само понятие визуально-информационной конвертируемости сделать фактом формообразования. Оказывается, все эти почти самовоспроизводящиеся циклы («Искусство на заказ» и др.) – не про то, что они изображают. Не про вакханалии на колхозных полях и даже не про историю русской живописи. Они – про визуальный язык. Вообще, экфрасис их картин мало что даст. А вот анализ их языка поучителен. Дубоссарский и Виноградов используют язык советского худфонда – донельзя упрощенный и вместе с тем более гибкий и демократичный, чем канонизированная манера классиков соцреализма. Этим языком писалось все – от безобидных пейзажиков до портретов членов Политбюро. И. Кабаков и художники его круга в свое время использовали имперсональность этого языка. Дубоссарский и Виноградов, много позже, – его демократичность и универсальность (кстати, именно универсальность языка заставляет нас видеть и в простейшей картине авторов, каком-нибудь захудалом пейзаже «с березками», часть универсума: здесь нет сюжетных или иконографических наворотов, зато эксплицирован язык, и это мгновенно приобщает подобную работу к целому). Конечно, они чуть усложнили оптику, добавив «немного Уорхола». Конечно, они концептуализировали худфондовскую смачную маэстрию, придав ей модные трэшевые интонации. Но это усиление только подчеркивает ту внутреннюю «жизненную» содержательность, которая не укладывается в технологию конвертируемости.
Но вернемся к поп-арту. Наиболее содержательный, я бы сказал, паритетный ответ ему дало направление, в самоназвании которого сохранен «след» поп-арта: соц-арт. Причем поп-арт присутствовал в сознании его главных представителей, пожалуй, еще до того, как направление было сформировано. И вовсе не по линии соревновательности мифологем, ею привычно маркируют взаимоотношения этих направлений. Так, А. Косолапов на рубеже 1960–1970-х создавал свои знаменитые бытовые предметы: деревянные мясорубки, рубашки и пр. Здесь используются стратегические приемы поп-арта: нарушение связей между знаковым считыванием и перцепцией, видоизменение контекста ввиду подмены материалов, дезориентация ради отказа от автоматизма восприятия и поведения. Так, Т. Вессельман в «Стальном рисунке с фруктами, цветами и Моникой» воспроизводит классический рисунок Матисса в металле и покрывает его автомобильной эмалью. Смысл? Своего рода «Похищение Европы» – вживление рисунка, символизирующего благодаря легкому дыханию и неповторимому темпу абсолютную индивидуальность, в штампованную американскую автомобильную культуру. Сай Томбли свои вариации на темы «летящих листов» да Винчи выполняет так, что они напоминают рисунки мелком на грифельной доске. К тому же они снабжены какими-то следами формул и расчетов. Зачем? Думаю, отсылка к педагогической кафедре, к классам оттеняют сциентизм да Винчи, универсализм его интересов. Но не только. Впечатление падения листьев из правого верхнего угла в левый, то есть тема жестовости, преходящего текущего времени (у ряда художников поп-арта как бы реактуализирущая action painting) подкрепляется памятью о движении руки с тряпкой, мгновенно стирающей со школьной доски изображение…
«Дезориентация» Косолапова имеет целью на самом деле ориентацию: обострение видения, промытые глаза… Для того же Л. Соков в своих деревянных струганных ассамбляжах воспроизводит классические натюрморты Сезанна. Да как – фрукты на первом плане, прикрепленные на резинке, можно оттянуть, и затем они «вернутся» в композицию. Остроумно? Но не шутки ради это делает Соков: за этим трюком – серьезные размышления о мимесисе, кроме того – мастер-класс по анализу формообразования у Сезанна в категориях весомость, плотность, индивидуальная сезанновская перспектива.
Но, конечно, в традиционном восприятии (в сущности, верном) главные коммуникации соц-арта и поп-арта проходят в плоскости идеографии: американцы научились работать со всем корпусом своих культурно-исторических реликвий, в который они настойчиво включают героев и атрибуты массовой, детской и откровенно коммерческой культуры. Вот и соц-арт подхватил эту идеографическую активность. Естественно, критично: соц-арт безжалостно взял в оборот советские мифои идеологемы: деконструируя их, расщепляя, выворачивая наизнанку. Не было священной коровы, по которой бы не прошлись соц-артисты. Казалось, все было направлено на то, чтобы, прямо по Марксу, расстаться с советской историей смеясь. В том числе и с историей советского искусства. И все же подобные процедуры критическо-идеографического плана представляются мне недостаточными. Затронуты и иные пласты, в том числе лежащие вне «голой» текстуальности.
Иными словами, текстуальное укоренено в том, что Г. Башляр называл «материальной сокровенностью», то есть обусловленностью образа толщей переживаний материального мира. Если не задумываться о генезисе, об этой материальной сокровенности, соц-арт окажется некоей демонстрационной машинкой редуцирования идиологем, абсурдизации лозунгов и мультидесакрализации. Под материальной сокровенностью, очевидно, следует понимать переживания перцептивно-тактильного и опознавательного плана – о них уже говорилось. Но так же – иные пласты «сокровенности». Например, дискурс тоталитарного детства. Соц-артисты были последними художниками «глубокого» советского происхождения: при всем своем концептуальном нигилизме они были всерьез затронуты советским бессознательным.
Соц-арт тематизировал табу в подростковом сознании, табу, в котором намешано было и детски-сексуальное, и государственно-репрессивное, и статусно-возвышенное, сформированное официальным искусством. Собственно, об этом серия В. Комара и А. Меламида «Ностальгический соцреализм».
«Страна Малевича» А. Косолапова апроприирует хит соцреализма – картину А. Герасимова «Сталин и Ворошилов на прогулке»: кремлевская стена, вожди, как былинные русские богатыри. Заря на заднем плане – явно заря новой эры. То есть прогулочный шаг вождя на самом деле покрывает расстояние от седой старины до светлого будущего. Словом, это произведение серьезное. И вот поверх живописного поля узнаваемым мальборовским шрифтом Косолапов пишет: Malevich. Это уморительно смешно даже на текстуальном уровне. Автор мог бы ограничиться репродукцией или даже прорисовкой хрестоматийной картины: абсурдистский юмор считывался бы и так. Считывалась бы и иллюстрация к философски-спекулятивному конструкту Б. Гройса: авангард = тоталитаризм. Он вообще требует большого недоверия к конкретному материалу, мешающему глобальным обобщениям, тем уместнее была бы отчужденность контурного рисунка или схемы. Что же движет Косолаповым, вполне серьезно, истово переписывающим картину – возможно, бойчее, чем сам сталинский академик? Думаю, ему необходим фактор свежести, живости, только-что-сделанности: живопись телесна, она растет и даже выпирает из пространства картины, как опара. Такую не придавишь кирпичиком, тем более маркированным иностранным шрифтом… Тем пуще – именем человека, который жизнь положил на борьбу с этой жизнеподобной живописью… Думаю, Косолапов вообще не нацелен на ответы. И вопросы-то он не задает. Он выстреливает семантическую матрицу, формулу или абсурдистский слоган и вымачивает и выпаривает их в соляных и щелочных растворах самых неожиданных и противоречащих друг другу контекстов. Стёб улетучивается, материальная сокровенность, укорененность в истории, пусть абсурдистской – другой не дано – остается, обеспечивая этой вещи не лозунговую, а длительную судьбу.
Точно так же противостоит одноразовости, апеллируя к материальной сокровенности, и Л. Соков в своей знаменитой «Встрече скульптур». Джакометти всю жизнь сомневался в самой возможности выразить реальное, однако реальность века со всей неоднозначностью отразилась в самом этом сомнении: в текучести его мира, как бы незавершенного формообразованием. Его фигуры неестественно вытянуты в пропорциях, они словно готовы ускользнуть (не потому ли вся эта диспропорциональность, это великолепное небрежение анатомией, чтобы успеть подхватить их на краю, удержать за эти нечеловечески, миражно вытянутые конечности). Идея побега, исчезновения, ускользания преследовала его постоянно. Человек Джакометти – воплощенное экзистенциальное сомнение – встречается с совершенно другим антропологическим типом: абсолютно завершенным, агрессивным в своей материальности, уверенным в необходимости своего присутствия в мире. С Лениным!
Образы Джакометти, при всей их ускользаемости, намертво закрепились в нашем сознании. О скульптурных Ленинах я и не говорю. Так что встретились два реди-мейда: не столько в плане технического воспроизведения, сколько в матричности, отпечатанности в сознании.
Любопытно, что мы говорим о материальной сокровенности со всеми ее коннотациями укорененности (собственно в материале, в рецепции, в состоянии сознания, словом, в том, что суммируется Х.-Г. Гадамером как «прирост бытия») применительно к соц-арту. Явлению, кровно связанному с концептуализмом, то есть по определению умозрительным, текстуальным. Что ж, теоретическое Pro постоянно преодолевается практическим Contra, и наоборот. Подобный мироощущенческий оттенок есть и в работах, лежащих далеко за пределами соц-арта, но к которым мы привычно применяем понятие «сталинский текст нашей культуры». Таковы, например, «Языческие бабы» Н. и В. Черкашиных и особенно инсталляция В. Кошлякова и В. Дубосарского «На руинах тоталитарной империи». Они буквально вопиют об укорененности в материально сокровенном: от перцептивного до бессознательного.
Одномерность присутствует, как правило, в сугубо манифестационных вещах. Так, С. Мироненко в работе «Концептуальное искусство» остроумно манифестирует исчезновение материального плана произведения: знатоки искусства изображены «правильно», даже рама материальна, но собственно произведение, которое рассматривается изображенными зрителями, дано текстуально: словами Conceptual art, написанными на белом грунте. Столь же манифестационна и инсталляция группы «Медгерменевтика» в Музее Людвига в Русском музее: здесь так же осуществляется крайняя редукция материального плана изображения (контурный рисунок – пиктограмма, ахроматизм). Но подвергается сомнению и языковый план – его инструментальность, способность служить понятийному мышлению. Для этого используется старый добрый дадаистский еще метод алогизма. Рисунок кошки, вылезающей из мясорубки, напоминает сюрреалистический слоган – «случайная встреча на столе для вскрытия трупов зонтика и швейной машины».
Современное искусство знает много способов полной дереализации материального плана изображения. Один из них – метод апроприации, полного присваивания «чужого» ради каких-то конкретных умозрительных целей (такова в музее Людвига серия Г. Рихтера «48 портретов». Любит апроприировать «чужое», мистифицируя исходный материал, Д. Дин, а затем и Д. Кунс).
Другой метод демонстрирует Г. Пузенков. Традиционная изобразительность у него дематериализуется по определению: он как бы отменяет ее, репрезентируя уже электронную, компьютерную реальность, данную в мимесисе интерфейса. Удается ли Пузенкову создать некую живописную поэтику на основе этих интерференций с электронным формообразованием? Изображение, взятое в файловые рамки, – самый примитивный, но необходимый план. Далее идет характер живописной реализации этой файловой сетки. Здесь уже присутствует намек на пиксельное разрешение: простые геометризованные рамки и буквенные обозначения как бы подрагивают на электронной волне, внутри цветных заливок наблюдается некое «копошение» оптических составляющих, первоэлементов. Это и есть пиксель, единица визуализации… Пузенков делает работу с визуализированным пикселем фирменным средством индивидуальной поэтики. Подобно тому, как попартисты в свое время делали средством своей поэтики работу с растром. Однако пиксель – знак более сложных процессов. Собственно, Пузенков работает с целым рядом опосредований и миметических процедур. Он создает живопись – аналог дигитального изображения, тело которого состоит из конгломератов пикселей. В свою очередь, это изображение являет собой дигитальную репрезентацию некоего исходного образа – изобразительного или беспредметного (от Моны Лизы до action painting). Этот исходный образ состоит в каких-то собственных отношениях с реальностью. Навигация по мимесису – вот что лежит в основе образности Пузенкова. Без этого неисчерпаемого ресурса пиксельность как таковая выглядела бы как остроумная находка, не более того.
Вообще, атака на материальный и тем более перцептивный план изображения, а также на понятийность художественного мышления осуществляется, разумеется, не ради деконструкции как таковой. Это часть постмодернистской стратегии ироничной ревизии любого состоявшегося, институциированного, отрефлексированного в своих выразительных средствах и материалах направления. Особенно часто этой атаке подвергается авангард с его артикулированным ощущением миссии, не только искусствосозидающей, но и жизнестроительной.
Направления удара могут быть самыми неожиданными. Так, Шерри Левин, апроприируя, то есть присваивая (перерисовывая, переписывая, перефотографируя) произведения К. Малевича, А. Родченко, Л. Лисицкого, подвергает критической процедуре, как ей представляется, «маскулинность» авангарда. Остроумную реплику в этот активизировавшийся в 1980-е гендерный дискурс добавляет А. Хлобыстин (купальный костюм «Маяковский – гендер»). Этот дискурс в русле искусства про искусство, кажется, вообще неисчерпаем – вот уже несколько лет Т. Антошина успешно ведет специальную тему «Музей женщины»…
С. Бугаев (Африка) в работе «Анти-Лисицкий» подвергает остракизму политическую ангажированность советского авангарда: простейшая «смена цвета» в апроприированном классическом плакате Л. Лисицкого эпохи Гражданской войны заставляет задуматься о многом… Ну и, естественно, особенно «подставляет» авангард его посмертно-музейный статус (с неизбежными издержками хрестоматизации и коммерциализации). Особенно активен в неприятии статуса авангарда как священной коровы был поздний соцарт… Но были и другие – Младен Стилинович еще в середине 1980-х создал инсталляцию «Малевич – не пирожное». В «Пагане» Е. Елагиной и И. Макаревича демифологизация авангарда (башня Татлина) в его провиденциально-экстатических амбициях и инсайтах остроумнейшим образом дана методом от противного. То есть нагнетанием мистифицированно сакрального и эзотерического, вплоть до галлюциногенного градуса…
Критическая позиция в русле темы искусство про искусство имеет, естественно, несколько уровней. Крайне редок уровень тотального отрицания или деконструкции, основанный на принципиальной аксиологической релятивности. Отошел в историю и уровень «звериной теченской борьбы» (П. Филонов), хотя, если отбросить самоубийственную, по крайней мере в СССР, политическую составляющую, соревновательность и связанная с ней критичность играли важную роль в эволюции искусствопонимания. В целом самоанализ искусства – процесс, растянутый во времени, носит коррелирующий и компенсаторный характер.
Причем – касается ли критическая процедура целых направлений, или обращена на выразительные средства, или затрагивает проблемы языка. Скажем, атакам на авангард в его историческом бытии сопутствуют оммажные жесты в его сторону: неоновые конструкции-башни Дэна Флавина, инсталляция Л. Ламма «Почести русскому авангарду», «Иконусы» В. Кошлякова. Последние парадоксальным образом синтезируют в качестве некоего национального канона формы иконные горки и супрематические конструкты. Естественная боязнь эталонности, неумолимо накапливающей с годами потенциал репрессивности, здесь снимается самим характером материала – упаковочного картона и пенопласта: бросовым, расходным, самоуничтожающимся. Но оставляющим некий запах живого формообразования – прежде всего запах клея, – отсылающий к великолепной проектной культуре 1920-х. Инсталляции – реконструкции Брацо Дмитриевича из этого же ряда. Дмитриевич в них не только «отдает дань». Да, в красном углу его инсталляций всегда присутствуют icons авангарда, но художник как бы опредмечивает, овнешняет (выражение М. Бахтина) их, организуя новый мир предметных реалий согласно поэтике оригинала. По сути дела, идет одомашнивание, утепление, размузеивание. Есть здесь еще один уровень: полемика с концептуализмом, всегда стремящимся дезактивировать материальный план произведения, его «плоть». На этот вызов Дмитриевич отвечает квазиматериализацией: «умозрительное» побивается наивно-натуральной, живой предметностью.
Вот еще один пример компенсаторного плана. В 1990-е годы Т. Новиков выдвинул разделенную большой группой адептов доктрину нового русского классицизма. В какой-то степени полемически – как реакцию на всевластие постконцептуалистских стратегий в тогдашнем московском contemporary art. Априорно внеположный постмодернистской ментальности культ Прекрасного, Возвышенного, Классичного тем не менее был вполне концептуально отрефлексирован. Прежде всего – по линии High and Low. Его амбивалентность тематизировал сам автор, окружая в своих текстильных коллажах-«гобеленах» фотоимиджи высоких классических образцов рукодельными, доморощенными рамками. Благодаря этому заявленная норма возвышенно-прекрасного снижается, точнее – очеловечивается. Речь здесь идет о трогательном стремлении гуманизировать, одомашнить прекрасное, тактильно оградить его именно как частное. Одновременно здесь важна и риторика Новой Академии – ведется борьба за придание этому одомашненному прекрасному статуса какой-то новой, авторизованной Тимуром Новиковым сакральности и новой музейности. Для понимания поэтики нового классицизма этот разнонаправленный, но единый в своей сущности жест символичен – как одна из последних, наверное, в прошлом веке попыток «своими руками» «спасти Красоту».
Тенденция размузеивания имеет не только симпатично-гурманскую составляющую Дмитриевича.
В. Дубосарский и А. Виноградов в своем проекте «Danger!
Museum» предлагают своего рода контрмузей. Проект сделан для Венеции и, хотя и декларирует самодостаточность, конечно же предполагает музейную среду. Это – музей в музее, но их музей – подрывной, это своего рода троянский конь. В их проекте нет ничего футуристически-модернистского: разрушить музей, и на обломках… Нет и признаков нынешнего левого дискурса – тихой сапой перенацелить институцию, разорвать связи с «мировым капиталом» и вывести ее из культурного истеблишмента и господствующей системы репрезентации, сделав мозговым центром и архивом социального активизма. То, что задумали Дубоссарский и Виноградов, я бы назвал музейным рейдерством. Они хотят с налету захватить традиционную институцию, выставить охрану, создать видимость прежней деятельности, а на самом деле вывести ценности. Это отличный игровой проект, полностью скорректированный с тактикой и настроениями нынешнего дичающего, теряющего былые культурные завоевания капитализма. У Дубосарского и Виноградова были все данные для реализации проекта. Как уже говорилось, благодаря апроприации имперсональной «худфондовской» манеры, заточенной в свое время на некую тотальную всеядность, у них есть некая квазиуниверсальная картина мира. Они способны регулировать оптику согласно ожиданиям аудитории – имитировать постмодернистский пастиш или предельно редуцировать месседж, но вот этой цельности и универсализма картины мира у них не отнять. Поэтому они не боятся упреков в коммерциализации или попсовости: могут работать и для олигархов, и «для бедных». Просто они используют ожидаемость, заставляют конъюнктуру работать на себя, используют ее витальную силу. Энергия спроса – это мало кто мог отрефлексировать в нашем искусстве: не принято, стыдились. На Западе смогли многие – после поп-арта, хотя бы Кунс, Чепмены, на Востоке – современные китайские художники. В Danger: Museum художники оседлали волны двух конъюнктур: высоколобо-интеллигентской и простецкой. Первая волна связана с идеей контроля. О ней существует огромная литература – от Паноптикона Бентама до современных представлений об «обществе контроля». Авторы, вставив в живопись глазки видеонаблюдения, дали повод бесконечным размышлениям о включенности музея в систему тотального слежения. Вторая волна связана с мифологией арт-рынка: идеей манипулирования потребителем. Чем выше аукционные и прочие цены, тем слышнее разговоры о мыльных пузырях, панамах и прочих напастях. Дубосарский и Виноградов и здесь на высоте: они и раньше владели трэшевыми интонациями, но теперь их bad painting плоха как никогда. Что ж, конъюнктура глядит на нас глазками видеокамер, проверяя, все ли приняли фэйк за высокое искусство. Художники, наверное, готовы согласиться с любым толкованием. Мне же ближе мое, рейдерское: музей захвачен, подлинные ценности вывезены, плохо сделанные фальшивки выставлены, видеонаблюдение ведется для маскировки: пусть думают, что здесь можно что-то украсть.
Что ж, можно и украсть. Но все же главный сюжет искусства про искусство – рефлексия. Искусство в своей самообращенности изыскивает внутренние ресурсы вдохновения, источники и способы репрезентации. Зевксис с Паррасием по-прежнему в процессе выяснения отношений.
2009–2010Актуальный рисунок
На протяжении столетия русский рисунок несколько раз приобретал актуальность, выходившую за рамки своего автономного бытия: становился средством решения каких-то общих проблем современного искусства и искусствопонимания, притягивал наиболее ярких критиков и теоретиков. Первый эпизод – мирискусническая графика. Трудами А. Бенуа, Н. Радлова, С. Маковского, чуть позже Н. Пунина, В. Кандинского и даже Л. Троцкого впервые в России формулировались онтологические основания графического искусства и оттачивались сами понятия графической дисциплины: графизм, линейный и живописный рисунок, культура воспроизводимости и пр. Этот период скрупулезно описан А. Сидоровым[12]. В самой бережности отношения к терминологическим аспектам, вообще, к становлению понятийного аппарата и языка описания присутствовало понимание актуальности этого культурного феномена: рефлексия графического непосредственно сопровождала, а иногда и опережала тогда развитие графического искусства. Не пройдет и двадцати лет, как А. Федоров-Давыдов напишет: «Расцвет графики за годы революции создал нечто столь принципиально-отличное, что мы волею-неволею, говоря ныне о графике, думаем совсем не о том, о чем думали совсем недавно»[13]. При этом он констатирует: «Новой графике» соответствует выработанный ею канон художественной критики. То есть рефлексия графического продолжает подпитывать художественный процесс в одном временном режиме. И снова графика привлекает наиболее профессиональных авторов десятилетия: молодого тогда А. Сидорова, В. Адарюкова, А. Федорова-Давыдова, М. Фабриканта. Отличие между арт-практикой начала и конца двадцатилетия можно описать в терминах раннего Н. Радлова: у художника-синтетика (по Радлову, это типологичный мирискусник и постмирискусник) «между творцом и природой возникает третий элемент – стиль». «Аналитическое искусство отрицает стиль как преграду, стоящую между художником и природой». После «стилизма» и «аналитики» (видимо, имелся в виду собирательный образ авангарда) наступает почти двадцатилетний период опять же нового понимания рисунка (разумеется, мы говорим о мейнстриме: отдельные линии «стилизма» и «аналитики», пусть и отошедшие на периферию, продолжают существовать, не предполагая, что их ждет реактуализация). В 1930-е годы утвердился, в терминах Н. Радлова, «живописный рисунок», то есть рисунок реалистический. Разумеется, Радлов не мог ожидать, что описанный им тип рисования, предполагающий живой, полнокровный, активный контакт с реальностью, обретет идеологическую нагрузку. Это обременение – обязанности и обязательства реалистического отображения действительности, оценивалось с позиций, фундированных ленинской теорией отражения. «Реалистический» (кавычки здесь означают очень суженное, канализированное в искусственных, формализованных идеологических берегах понимание реализма) тип рисования завоевал неоспоримо господствующее положение. Как мы видим, продолжался феномен одновекторности развития графики и критического канона. Только в этом случае этот канон имел явно выраженный идеологически-охранительный характер. Живописный рисунок, станковый и иллюстративный, оставался прежде всего окном в некую конвенционально принятую реальность (конечно, бытовали и другие типы рисования. Например, авторские реализмы подчас выдающихся мастеров, волею общеисторических обстоятельств вытесненные в частную сферу. И натуроподобное пассивное рисование, которое и тогда третировалось как бескрылый натурализм). Требовалось завлечь зрителя в это окно, обустроить его в этой реальности, более правильной, чем текущая действительность, потому что существующей в режиме долженствования, более поддающейся контролю. Контроль осуществлялся незыблемыми правилами прочтения. Прочтения как литературного текста, так и неопосредованной реальности. Этот санкционированный ракурс шел еще от ленинской статьи «Лев Толстой как зеркало русской революции». Если великое произведение было зеркалом, вполне избирательно открывающим реальность в ее объективном (возможно даже, скрытом от самого писателя) развитии, то тем более избирательным, рассчитанным на санкционированные правила прочтения (миропонимания) зеркалом обязано было быть реалистическое рисование.
Справедливости ради отметим, что, несмотря на все эти обременения, в 1930–1950-е годы созданы и выдающиеся произведения графического искусства (долгое время они рассматривались в свете преодоления консервативного канона. Сегодня появилась возможность взглянуть на них по-новому: как на уникальное сочетание конвенциональной мировоззренческой проектности и авторского полнокровного, преодолевающего умозрительные препоны видения).
Тем не менее с середины 1950-х начинается мощный процесс обновления рисунка и графического языка в целом. Процесс реактуализации традиций был общекультурным, но графика объективно играла в нем ведущую роль. Почему? Вопрос непростой. Важное значение имело само физическое присутствие в тогдашней культуре плеяды старых мастеров графики. Фигура Фаворского объективно культовая, а рядом, в Москве и Ленинграде, еще здравствовали другие патриархи – А. Гончаров, А. Фонвизин, Д. Митрохин, В. Курдов, П. Басманов, В. Стерлигов. Их привлекательной стороной, помимо чисто творческих моментов, была сравнительная невовлеченность в дела официоза. Все-таки ответственные идеологические задачи прежде всего ставились живописцам и скульпторам тематически-монументалистской специализации. Старикам рисовальщикам дозволялось заниматься проблематикой углубления и сохранения графической культуры. В. Фаворский и В. Стерлигов вообще были, каждый в своем роде, философами визуального. Постепенно функция сбережения и теоретического осмысления исторического опыта (который воспринимался как опередивший свое время и «остановленный на бегу» сталинским официозом) в общественном сознании трансформировалась в мифологизированный образ «хранителей огня» (так называлась одна из выставок перестроечной поры). Итак, процесс обновления графического языка проходил под знаком восстановления прерванной во второй половине 1930-х годов традиции. Представления о ней оказались довольно обобщенные. К тому же они развивались от мирискуснической традиции, в особенности в ее интерпретации питерскими графиками 1920-х – начала 1930-х годов, через лебедевское рисование, как динамичное, книжное, так и неоклассичное (рисунки обнаженной натуры), до футуристической и супрематической графики. Многообразие традиций стимулировало и поиски в сфере языка описания. В работах о графике реализовали себя лучшие тогдашние критики – Ю. Герчук, Ю. Молок, Э. Кузнецов, Г. Поспелов, В. Петров, Н. Дмитриева, Л. Мочалов, Б. Сурис.
Графики явно были самыми, говоря современным языком, продвинутыми художниками в тогдашних творческих союзах. Это предполагало широту взглядов. Официоз требовал непримиримости по отношению к любому инакомыслию, тем более – к институционально оформленному (по крайней мере, на уровне групповой идентификации) в виде неофициального искусства. Логика борьбы требовала непримиримости и от андеграунда. В пылу обид был соблазн (и позднее, в конце восьмидесятых, перед этим соблазном многие летописцы художественной эпохи не устояли) вообще свести все содержание художественного процесса к победе подвижников и бунтарей андеграунда над охранительством и конформизмом. Однако в силу этой самой широты интересов графика оказалась сферой, так сказать, общепримиряющей. И дело не только в том, что графикой кормилась тогда большая группа наиболее передовых деятелей «другого искусства». Просто она нашла опору не в конфронтации, идеологической и институциональной, а в моментах онтологических. Хотя бы в дематериализации реального плана и материализации плана метафизического у В. Фаворского… В щемяще-экзистенциальных отношениях женской фигурки и пространственных планов у П. Басманова… В чаше-купольных композиционных построениях В. Стерлигова… В спиритуальной формульности Б. Ермолаева…
Вместе с тем нельзя забывать: обновление графического происходило в парадигме пусть репрессированной и реактуализированной, но традиции. В Ленинграде – это прежде всего традиция В. Лебедева, большей частью периода его рисунков плотницким карандашом и более поздних ню, обогащенная рисовальным опытом Пикассо, от периода аналитического кубизма до энгровского этапа, может быть, Сегонзака и Дюфи. К ней примыкала матюшинская линия, а также более локальные – рудаковская, акимовская и др. Два поколения ленинградских рисовальщиков (от прямых учеников этих мастеров до тогдашней молодежи – Т. Шишмарева, В. Власов, В. Курдов, Н. Костров, В. Матюх, Б. Власов, А. Сколозубов, А. и Г. Трауготы и др.) опирались на ресурс этих традиций. В Москве традиция была не столь кристаллизована, но и здесь считывались истоки: В. Фаворский, П. Митурич, В. Чекрыгин, А. Тышлер, А. Гончаров. Для молодых тогда «западников» Ю. Красного, Л. Збарского, Б. Маркевича и др. исключительно важен оставался пример рисования П. Пикассо и Матисса. В мою задачу не входит сколько-нибудь подробный очерк обновления графической традиции начиная со второй половины 1950-х. Важно констатировать: за десять с небольшим лет был создан современный рисуночный стиль, энергичный, адекватный надеждам на обновление жизни, претворивший многообразные традиции модернистского толка, вполне свободный от идеологических и дидактических обременений предшествующего периода.
Значение этого процесса невозможно переоценить. Был создан, еще раз повторю, вполне современный рисунок, отвечающий как требованиям времени, так и традициям уникальной графической культуры, в течение столетия дважды (в 1900–1910-е годы и в 1920-е – начале 1930-х годов) занимавшей в развитии мирового графического искусства позиции, объективно являвшиеся самыми передовыми. Но актуальным в нашем понимании этот рисунок не был.
Возрождение традиции высокого модернизма (этот термин тогда у нас не был в ходу) была задачей почетной и необходимой для нормализации художественного процесса. Но ее реализация налагала определенные обязательства лимитирующего характера.
Сосредоточенность на развитии высокой, тем более испытавшей гонения традиции, культ профессионализма, осмысленного опять же в контексте этой традиции, требования индивидуализации визуального стиля предполагали определенный профетизм. Официоз отвергался как прибежище непосвященных, как «низкое». Но в те же отношения High and Low, Высокого и Низкого, эта позиция вступала и со многими течениями contemporary: особенно теми, которые сознательно снижают интонацию, работают с профанным – низовой культурой и трэшевыми материалами. Низкое, Law, отвергалось у нас вплоть до 1970-х, когда в русле андеграунда уже вполне сформировались отечественные изводы поп-арта и концептуализма (из этого вовсе не вытекает, что андеграунд как таковой был по определению «прогрессивнее»: нет, и там хватало традиционализма, причем зачастую не такой высокой пробы). Просто ревнители модернистской культуры не могли принять в свою систему искусствопонимания интерес к низкому и отсутствие интереса к высокому – в коннотациях стиля, традиции, формальной реализации (мастерства, эстетизма).
Можем ли мы сказать, что высокопрофессиональный новый рисунок модернистского типа предшествовал актуальному рисунку? В какой-то мере – да, ибо актуальный рисунок возникает при определенном уровне состояния графической культуры, даже если он взаимодействует с ней «методом от противного». Вместе с тем первые шаги актуального рисунка 1960-х годов связаны как раз с теми художниками, которые не исповедовали культ Высокой графической культуры и не были лимитированы цеховыми представлениями о «формальном» (он же – профессиональный) цензе.
Такими «внецензовыми» (хотя бы в силу своего ментального статуса) художниками были А. Арефьев в Ленинграде и В. Яковлев в Москве.
Осмысление же необходимости «вежливого отказа» от конвенциональных формальных категорий (даже если это категории авангардной формы, подразумевающие и модус беспредметности) связано с другим кругом мастеров. А именно – с И. Кабаковым, В. Пивоваровым, Э. Булатовым, В. Янкилевским, Ю. Соболевым, Ю. Соостером и др. В оформлении фантастики, детской и научно-популярной литературы, несомненно, отрабатывались некие матрицы передового художественного мышления: методика опосредований и разного рода тропов, многообразие приемов – от сюрреалистических сдвигов форм до интеллектуального монтажа. Но и этот опыт являлся скорее предпосылкой нового актуального рисунка, ибо касается отдельных «инструментально-репрезентативных функций» (C. De Zeiger).
Какова же содержательная база новой актуальности?
В развитии отечественного искусства, естественно, присутствует специфика, вполне объяснимая. Вместе с тем проблематика актуальности применительно к рисунку (графике) находится в фокусе транснациональной артпрактики и теории. Только в МоМА (The Museum of Modern Art) целая серия выставок («Drawing Now: 1955–1975»,1976; «Thinking Print», 1996; «Drawing Now: Eight Propositions», 2002; «OnLine. Drawing Through the Twentieth Century», 2011) посвящена истории приращения смыслов и практик в развитии графического процесса начиная с 1960-х годов. С. De Zegher, куратор фундаментальной выставки «OnLine», выстраивает эволюцию «философии рисования» следующим образом. В академическом рисовании она находит объективизацию реальности «как она видится» в сочетании с репрезентацией поэтической, основанной на работе воображения. Следующим базисным этапом исследователь считает конструктивизм и супрематизм, вобравшие завоевания кубизма: «де-автоматизацию рисунка», понимание того, что изображение не всегда референтно предмету изображения и способно вести самостоятельное существование, вполне осязаемое, поддающееся, по Р. Якобсону, «пальпированию». Иными словами, отказ от «аналоговой репрезентации», основанной на «похоже на…». Кандинский, Клее и Родченко – «проблематизация отношений плоскости и линии»: их сакрализация, оппозиция абстрактное/материальное, физически присутствующее и данное в проекции или подразумеваемое. В свете дальнейшего развития искусства конструктивистский и супрематистский рисунок (линия) выглядел познавательным (когнитивным), организованным и даже диаграмматичным в сравнении с иррациональным рисованием дадаистов и сюрреалистов. Вывод: к пятидесятым годам рисунок освободился от обременений непосредственной репрезентации реальности и взял на себя новые обязательства. В частности – выражения собственных скрытых значений и самореференций. Рисование реализуется в новых материалах и медиях, служит междисциплинарным связующим, осваивает новые пространства – public art, перформанс, танец, в ближайшем будущем – дигитальную сферу.
Экспансия рисунка касается, разумеется, и содержательной сферы. Обычно перечисляют социальные вызовы, вставшие перед западным миром в 1960–1970-е годы: антивоенные движения, борьба за гендерные права, социальные взрывы и пр. В качестве примера рефлексии социальных общественных процессов обычно приводят выставку 1984 года в музее Хиршхорна «Сontent: A Contemporary Focus, 1974–1984». В этот период в искусствопонимании нового поколения термин «стратегия» выдвигается как оппозиционный термину «стиль». «Стиль» отсылает преимущественно к формальным категориям, «стратегия» – к категориям мышления и планирования. Ключевым вопросом становится «Что это означает?»[14]. Суммируя, я бы выделил два момента, характеризующих «новую актуальность» рисунка. Первый – его «самостоянье»: самообращенность, самореферентность, способность физического укоренения и экспансии в любой среде, вообще физическое присутствие, телесность (в 1973 г. Ребекка Хорн в своем знаменитом перформансе мощно выразила это физическое, телесное основание рисунка: на лице художника – маска с закрепленными в ней карандашами). Спонтанные движения головой по листу бумаги, собственно, и создают образ: рисование – след телесного. Исследователь творчества Р. Серра добавляет: его рисунки в их физической, тактильной реальности апеллируют к жизненному опыту в целом, это след живого[15]. В этом же контексте – внимание к «танцевальному» бытию рисунка: ему посвящен не только раздел уже упоминавшейся мегавыставки «OnLine», но и специальная экспозиция «Dance/Draw» (The Institute of Contemporary Art, Boston, 2011–2012).
Укорененность в телесном имеет еще один план – полемический. Это критический жест по отношению ко второй составляющей нашего понимания «новой актуальности» рисунка. Этот план сформулирован в статье исследователя отношений театра и рисунка и звучит следующим образом: вибрации тела – отказ от знака[16].
Между тем новая актуальность рисунка в не меньшей степени, чем «телесным», подпитывалась опосредованным, умышленным, головным, стратегическим. Зиждилась как раз на «знаке» – семиологии и на понимании значения коммуникации. Прирастала смыслами. Апроприировала различные типы визуальных языков (карты, планы, наглядную агитацию, шрифты, политипажи, геральдику, вообще, все виды пиктографики, вплоть до компьютерной). Работала с иконографией высокого искусства и анонимной арт-продукции. Не гнушалась трэшем. Обрастала многочисленными отсылками к социальным и политическим идеям, отношениям и реальностям, которые не «изображались», а существовали вне произведения в его материальной форме. Словом, второе основание актуальности рисунка 1960–1980-х годов годов можно назвать концептуальным. С той же долей условности, как и первое – телесным.
Думаю, актуальный рисунок – одна из немногих областей, в котором советское искусство развивалось более или менее синхронно с contemporary art. Более того, советское искусство 1960-х годов обрело статус современного (в коннотациях транснационального мейнстрима) именно в пространстве актуального рисунка. (Хотелось бы отметить, что в моем понимании понятие contemporary не является оценочным, то есть вовсе не знаменует качественное превосходство над искусством более традиционным. Нет, речь идет о некоей типологии художественного сознания и механизмов мышления, которая в определенный момент конвенционально признается передовой. Нет необходимости доказывать, что «время вносит свои коррективы», как и то, что существует феномен реактуализации не только исторически «вчерашнего», но и архаичного.)
Художником, в арт-практике которого синтезируются оба основания российского актуального рисования («телесное» и концептуальное), безусловно, является И. Кабаков. Экфрасис московского концептуализма бесконечен, однако именно рисованию Кабакова как-то не уделялось специального внимания.
Вслед за текстами самого художника авторами, пишущими об арт-практике раннего Кабакова, артикулировалась прежде всего ее персонажность: способность примерять чужие языки – вплоть до полного растворения в текстуальности, чужие поведенческие рисунки – вплоть до «выхода из себя». Действительно, Кабаков одним из первых рефлексировал то, что, согласно ликбезу современных креативщиков, называется «три мыслительных стула Диснея и шесть мыслительных колпаков де Боно»[17]. А именно – вживание в определенную ситуацию, роль и даже «лицо», передача ему функций нарратора и репрезентатора (причем нарратор мог и принципиально отказываться от функции визуальной репрезентации). Все это так, но как художник большого масштаба Кабаков не укладывается в созданный не без собственного участия концепт-проект. Даже апроприируя чужие, чаще всего анонимные языки, даже сводя визуальное к рисованному шрифтовому решению или вообще – к пустотности, он не может окончательно разделаться с «авторским». «Видение открывается не через язык, а через письмо, а точнее – через руку, старательно выводящую буквы в особых ритмах телесного чувства», – это наблюдение В. Подороги применимо к материальному плану даже «остаточной» кабаковской визуальности[18].
О «телесной» укорененности графического свидетельствует и сам художник: «Происходила <…> какая-то разрядка мощной энергии, как бы идущей откуда-то из глубины меня. Предусмотреть результат этих движений пера, этих „маханий“ было невозможно, он возникал сам по себе, но в его постепенно получавшейся конфигурации, узоре для меня как бы сохранялась память и переживания этой идущей из глубины энергии»[19].
В «Вокноглядящем Архипове» заполнение плоскости листа в своей аперсональности напоминает политипажи детских иллюстраций – загадок «на внимание»: на одном листе миметически подробное изображение, на соседнем – зеркальное воспроизведение, но с какой-то измененной деталью. Тут уж не до авторства: бесстрастная механическая линеарная вязь. В листах «Человек под душем» рисование упрощено чуть ли не до уровня инструкции в картинках (как там у Маяковского – «На кране одном написано „Хол.“…»). Вместе с тем у меня и от этих ранних работ всегда оставалось мощное ощущение авторства: не идеи, «придумки», а именно графической реализации, собственно рисования. Deskilling (отказ от мастерства, умения, маэстрии) – общее правило концептуализма[20]. При всем том во всех изводах кабаковского рисования, вплоть до шрифтового, есть эта составляющая «ритмов телесного чувства»: вязкая, избегающая отрыва пера (карандаша и т. д.) от бумаги арабесковость, напряженность отношений заполненности/незаполненности как поля листа в целом, так и отдельных «клеточек» (в этой мании заполнения клеточек можно найти бодрийяровский экзистенциальный подтекст коллекционирования: пока есть незаполненные клеточки – коллекционер живет. Я бы добавил боязнь отрыва «пера от бумаги» – непрерывность рисования есть непрерывность экзистенции).
Более того, авторское парадоксальным образом окрашивает и кабаковское пустотное. Причем не идеями и знаками – полнокровным ощущением реальности. Телесностью. В упомянутых выше рисунках этот драйв заполняемости даже тематизирован. В первом условный до знаковости силуэт яблока «обрисован» линеарной, почти автоматически саморазвивающейся графической вязью. Эта дублированная условность подготавливает вполне определенную реакцию – искус заполнения. Рисунок буквально вожделеет к сочной фруктовой мякоти. В «Человеке под душем» изображение в своей условности тяготеет чуть ли не к логотипу. Эта установка на условность дублирована «тематически»: душ смывает все следы характерности, «осязаемости». Однако и здесь силуэтная форма буквально напрашивается на зрительно-тактильную «заполняемость» – плотскость, телесность (недаром художник любит иллюминировать литографский рисунок пятнами акварели).
Итак, И. Кабаков утвердил базисные основания отечественного актуального рисунка: концептуальность и телесность. Но его роль этим не ограничилась: с Кабаковым связан тип рисунка, сопровождающего инсталляцию. У него две основные функции. Репрезентативная представляет проект в целом, в экспликации его концептуальных и материальных планов – отсюда пересечения планометрических, знаково-прагматических и, условно говоря, стенографических моментов. Вторая функция в какой-то степени продолжает, но и опровергает первую. Опровергает «служебно знаковую» природу всех этих категорий, выявляя потенциал образности. Так, в стенографии акцентируется момент динамики и уже упоминавшейся телесной основы письма, в планометрии – ресурс пространственного драматизма, в манипуляциях семиотического плана – некую процессуальность. В результате рисунки этого типа обретают собственную эстетическую природу – эффект свернутого нарратива (соответственно – и потенциал партиципации: самостоятельной навигации зрителя). То есть рисунок, оставаясь «руководством к чтению» (осмыслению, переживанию и пр.), одновременно провоцирует партиципацию – самостоятельность навигации в пространстве рисунка и инсталляции в целом и, естественно, артикуляцию индивидуальных способов приращения новых смыслов.
Новые подходы обещают новые прочтения…
2013Новые русские рассказчики
С повествовательностью, нарративностью[21] русское изобразительное искусство находится в состоянии вечной любвиненависти. Это понятно – российская культура литературоцентрична, и изобразительное искусство постоянно испытывает как естественное желание стряхнуть литературные коннотации, так и боязнь потерять поистине неистощимую подпитывающую «материнскую» субстанцию – ресурс «рассказывания историй»[22]. Пик «состояния любви» приходится на вторую половину XIX века, он вызвал к жизни активизацию и трансформацию такой древней жанровой формы, как экфрасис. Художественная критика тогда не вполне еще отрефлексировала свой предмет, не говоря уже о жанровой структуре. Все критические жанры (а социально-критический модус тогда главенствовал) – очерк, «письма», фельетон, обзор и т. д. – являли собой версии экфрасиса. Н. Брагинская, исследователь античной культуры, писала, что в классическом экфрасисе «не только слово пытается приобрести свойство изобразительности, но и изображение наделяется свойствами повествовательности…»[23].
По отношению к могучим примерам этого хорошо забытого, по-новому прозвучавшего в России жанра – скажем, статье В. Стасова «Картина Репина „Бурлаки на Волге“» (письмо 1873 г. редактору «Санкт-Петербургских ведомостей») – эта установка взаимодополнительности продолжает действовать. Но ясно и другое: литературный жанр апроприирует изобразительный, использует его в своих интересах. Каких? Вполне благородных – Стасов, например, раздраженный бесплодностью распространенных в обществе «гражданских вздохов», ориентирует внимание зрителя на какие-то сокрытые в народной массе, но объявляемые художником, как сегодня бы сказали, социально-антропологические надежды. Взять хотя бы мальчика в центре картины, «в котором все 1873 г. протест и оппозиция могучей молодости против безответной покорности возмужалых, сломленных привычкой и временем дикарей-геркулесов, шагающих вокруг него впереди и сзади». В самом описании бурлаков, составляющих «живую машину возовую», с его античными коннотациями, точными отсылками к социальной реальности, Стасов использует уже собственный темперамент и авторские языковые приемы с такой суггестией, что спорить с ним по существу не приходилось даже критикам следующих поколений. Столь же ярким, но и в какой-то степени репрессивным, ибо не оставляет воспринимающему никакой лазейки для оппонирования, воспринимается и фрагмент из «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского за 1873 год: «…но не думаю, чтобы поняли, например, Перова „Охотников“. Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна: „Охотники на привале“; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется… Что за прелесть! Конечно, растолковать – так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. Я уверен, что если бы г-н Перов (и он наверно бы смог это сделать) изобразил французских или немецких охотников (конечно, по-другому и в других лицах), то мы, русские, поняли бы и немецкое и французское вранье, со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог и тему вранья, угадали бы все только смотря на картину. Ну а немец, как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, да и нам опять-таки, может быть, это и выгоднее; но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует; ну а уж это жаль, потому что мы едем, чтоб нас похвалили»[24]. Речь идет о Венской Всемирной выставке: Достоевский встраивает произведение в свой дискурс национальной идентичности по вектору «не поймут нас европейцы» настолько аппетитно, что желание иной интерпретации подавлялось.
Великие русские эфкрасисты[25] второй половины позапрошлого века разработали эффективную систему вовлечения зрителей – прежде всего режим речевого общения: устности, диалоговых фигур, самоперебивов, восторженных восклицаний и пр. Аудиторию этот язык описания вполне удовлетворял. Художников, по крайней мере на этот период, подобный ресурс привлечения общественного внимания, – тоже. (Реплика А. Чехова: Стасов мог опьяняться помоями, – пришла позднее). Впрочем, дело было не только в прагматике. Пугающе проницательный Л. Толстой во фрагменте из «Анны Карениной» описал типологичную психологическую реакцию русского художника 1870-х (только ли?) на интерпретации своего искусства, выводящие на философические высоты, как своего рода виктимность: «Все подвижное лицо Михайлова вдруг просияло: глаза засветились. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить от волнения и притворялся, что откашливается. Как ни низко он ценил способность понимания искусства Голенищевым, как ни ничтожно было то справедливое замечание о верности выражения лица Пилата как чиновника, как ни обидно могло бы ему показаться высказывание первого такого ничтожного замечания, тогда как не говорилось о важнейших, Михайлов был в восхищении от этого замечания. Он сам думал о фигуре Пилата то же, что сказал Голенищев. То, что это соображение было одно из миллионов других соображений, которые, как Михайлов твердо знал это, все были бы верны, не уменьшило для него значения замечания Голенищева. Он полюбил Голенищева за это замечание и от состояния уныния вдруг перешел к восторгу»[26].
Поколение А. Н. Бенуа ощутило уязвимость господствующей в момент их прихода в искусство установки – как собственно в арт-практике, так и в системе ее описания и трансляции. В самом деле, как ни отрицал Ф. М. Достоевский «направительные цели» в своих заметках об изобразительном искусстве, эти цели, конечно, существовали. Литературоцентричность объективно правила бал – как собственно в искусстве, так и в его интерпретации. Освободившись от необходимости как-то коррелировать свои реакции с нормативностью академизма, критика описанного выше толка, почувствовав абсолютную свободу в своей навигации по художественному процессу, выплеснула вместе с водой (необходимостью хоть какого-нибудь вникания в скучную академическую иерархичность сюжетов и обращения к эксплицированной сумме приемов) и младенца – имманентную проблематику художественной реализации. В уже упоминавшихся экфрасисах В. Стасова и Ф. Достоевского – не только наиболее репрезентативных, но и высших проявлениях господствующей установки – на долю профессиональной проблематики выделяется едва ли одна десятая текстового объема. Да и то она сводится к довольно механически понимаемой «технике» (вполне на уровне, если снова вернуться к «Анне Карениной», горизонта Вронского и Голенищева, но уже никак не художника Михайлова, в сознание которого Толстой вложил мысль о живописной реализации как реакции приращения живого – «картина оживает» пред ним «со всею невыразимою сложностью всего живого»).
А. Бенуа легко нашел полемическую формулу дистанцирования от этой совокупной (арт-практика плюс система описания), господствующей в общественном сознании установки: «литературщина»[27].
Между тем к открытому разрыву если не с «литературщиной», то с повествовательностью предшествующего этапа русской живописи, похоже, круг Бенуа, будущие «мирискусники», не стремился. Прежде всего, ими и был создан собственный экфрасис, использующий наработанный предшественниками ресурс интимизации, вовлечения зрителя-читателя согласно уже собственным (вспомним словцо Достоевского) «направительским целям». (На современном языке теории нарратологии это описывается как «когнитивно-коммуникативное событие».) Это событие на этот раз – коммуникация по поводу самостоятельного бытия материального, выразительного плана искусства, – конечно, было укоренено в русской жизни, текущей и исторической. Много позже А. Эфрос, критик уже следующего поколения, поэтика которого сформировалась не без влияния мирискуснического экфрасиса, как бы интуитивно предвосхищает современную теорию. Он вовсе не отказывается от категории сюжета. Только «не принудительного». Он как высшую меру повествования выделяет сюжет суриковский, который в его понимании, в отличие от передвижнического, являет собой «не происшествие, а событие»[28].
Строго говоря, и Бенуа никогда не откажется от признания смысло– и формообразующих качеств сюжета и повествования в целом. Но на первом этапе, прежде чем «раскинуть красоту по большим площадям», надо было размежеваться с передвижнической утилитарной, учительской «психологией журналистов»[29]. Это далось мирискусникам легко. Но разорвать отношения с сюжетом как таковым? С форматом, у которого с русским искусством исторически столько было связано? Много позже В. Шкловский, лидер русского формального метода, вообще напишет:
«Сюжет – это явление стиля». Наверное, так далеко мирискусники не зашли бы, но явлением эстетическим, во всяком случае – «стильным», сюжет для них, несомненно, был. Тем не менее время требовало изменения самого характера коммуникации, высвобождения ее из-под диктата последовательного повествовования. Осуществление этих изменений выпало на долю мирискусников. Правда, это был не разрыв с сюжетом. Это было последовательное, не без возвратов и примирений, расставание русского изобразительного искусства с «рассказыванием историй». В собственной арт-практике того же Бенуа и К. Сомова это расставание предстает в форме некоей обязательной опосредованности, «вынутости» из потока текущего, наличного времени. Возникает тема некоей инсталляции (театрализации, экспозиции, означенного поведения – этикета).
«Корневые» персонажи мирискусников движимы не логикой развития сюжета, а скорее логикой принятого, обязательного поведенческого рисунка. Они совершают променад, вожделеют, даже в купальне ведут себя строго по этикету. Некий этикет предусмотрен и для зрителя. Это не непосредственный контакт, а опосредованный: ситуация смотрения смоделирована – зритель наблюдает как бы из зрительного зала. Даже эротические моменты – «подглядывание» за маркизой в купальне – срежиссированы (не ситуационный порыв, а процессуальность: рассматривание в лорнет картинки (живой картины?) игривого содержания). Артикулированная условность, опосредованность снижают роль сюжета как действия: все и так понятно, срежиссировано, легко поддается «считыванию». Зато возрастает роль надсюжетного: коммуникация строится все более нелинейно. За всем этим стоит уровень символизации, обусловленный общими интенциями культуры Серебряного века, практикующей работу с новыми уровнями сознания: «Символизм делал материалом творчества глубокие уровни и измененные состояния сознания, ранее остававшиеся как бы вне культуры: сновидные, медитативные, наркотические, гипнотические, пратологические» (А. Эткинд).
Любопытно, что в свое время Г. Г. Поспелов в своем анализе федотовского «Сватовства майора» как классической повествовательной формы также высказывал мысль о наджанровости, связанности персонажей картины «со светящимся телом общенациональной жизни»[30].
Разумеется, эта ситуация была встроена в мощные процессы дефабулизации, которые охватили всю художественную культуру, расстающуюся с искусами «объективности» художественно упорядоченного и последовательно изложенного и воспринятого повествования. Линейная организация повествования, логика причинно-следственных связей «подтачивались» в течение всего столетия, причем со времен структуралистов – с коннотациями противостояния репрессивным категориям «контроля», «порядка», «власти» и пр.
Пока же, в 1910-е годы, нелинейная организация сообщения выступала прежде всего в виде артикуляции мифопоэтического, архаико-символического, в экспансии тропов (иносказаний), в наделении собственно материального плана произведения разного рода имманентными смыслами[31]. Классическое сюжетобытие как последовательность с огромным объяснительным потенциалом постепенно сменялось инобытием: от полной аннигиляции до существования в некоем мерцательном режиме, трансформациях, декодировках, переносах, инсайтах. Объяснительный потенциал, эта сильная сторона классического повествования, оказывался невостребованным. Разумеется, в самый дальний ящик «рассказ» был «запрятан» авангардом. Тем не менее «ключ» к этому ящику авангард даже в своей алогической, «заумной» ипостаси сохранил, «не выбросил».
Нетрудно представить, что новая, пролетарская власть, исходя из характера массовой поддерживающей ее аудитории, не могла пройти мимо «повествования» с его объясняющим и контролирующим ресурсами. Действительно, требования «советских сюжетов» посыпались сразу же – как от зрителей, так и главным образом от культуртрегеров. Искусство отвечало оперативным жанризмом ранних ахрровцев, бравшим именно внешними примерами советского опыта: в плане отношения к сюжету А. Модорова и Е. Чепцова находились на стадии «непереваренной», недовоплощенной «житейщины», от которой стремились отойти даже поздние передвижники. Непритязательность раннесоветских живописных рассказов была очевидна современникам, однако в примитивизирующей наивности приема – самого «предъявления» советского опыта – присутствовала некая убеждающая нота искренности. Фигуративная живопись в целом сохраняла вполне осознанный интерес к реалиям наличной жизни (как жизни исторической: собственно, фокусировка оптики на материально-фиксирующем плане и было знаком «исторического»). Однако от повествовательности она всячески уклонялась, предпочитая различные версии тропа. Думаю, тому было две причины. Первая – традиционная, уже навязчивая русская боязнь литературщины.
Вторая – боязнь «житейщины», стремление к определенному горизонту обобщения, горнему или планетарному (в любых коннотациях – от петрово-водкинских до малевичевских). Обе фобии в качестве анамнеза имели истоки в истории русского искусства второй половины XIX века.
Между тем идея сюжета преследовала многих. Так, к ней постоянно присматривался К. Петров-Водкин. Как мне представляется, он вполне осознанно осваивал многообразие тропов. Ставка на иносказание, обогащенная сказовыми и притчевыми интонациями, вполне органична для его поэтики. Но в ряде случаев Петров-Водкин ставил перед собой задачу максимально точной организации психологической реакции зрителя. Не импульс к самостоятельным толкованиям, обобщениям, открыванию новых смыслов, но концентрация, контроль, сосредоточенность. Только в таких условиях психологическая ситуация из многовариантной и провоцирующей интерпретации становится единственной в своем роде – историчной («Тревога»). Петров-Водкин всячески отходит от рассказывания историй: применяет свернутый сюжет, косвенное изображение[32]. Однако ощущение развитого, убедительного нарратива («именно так все и было», «в таком напряжении мы и жили») присутствует в полной мере. Конечно, Петров-Водкин был не один. Целый ряд художников следующего поколения задумывались о том, как поставить на службу новому времени нарративный потенциал сюжета. И. Лизак, например, почти буквально «примеряет» к новой жесткой реальности сентиментальные интонации сюжетики перовской «Утопленницы» («Композиция», 1927). Это интересный момент: некоторые молодые художники как бы корректируют повествовательный опыт передвижников новыми требованиями концентрации и нагнетания событийности. Так, «Крах банка» Г. Ряжского, конечно, содержит отсылку к одноименной картине В. Маковского. Однако за счет сокращения жанризма (типажи, ситуации, взаимоотношения персонажей) возникает напряжение: действие, драйв за пределами изображенного. Одним из самых отрефлексированных примеров обращения к сюжетному действию с развитыми причинно-следственными связями можно назвать работу С. Рянгиной «Жена» (1929). Художник использует не раз затронутую тогдашней литературой и журналистикой тему: разрыв между сельским активистом, переехавшим в центр на учебу или работу, и прежней семьей. Ситуация в тогдашней культуре предстает амбивалентной: одни авторы – на стороне традиционных семейных устоев, другие – благоволят более «продвинутой», социально активной горожанке. Рянгина здесь – менее всего моралист, похоже, все персонажи обрисованы без особого сочувствия. Все это – быт, а быт всегда тяжел и бессмыслен. Вот об этом и рассказывает художник. Гораздо важнее сам механизм «события сюжета». Это событие подготовлено с классической последовательностью: по сути дела, пусть и редуцированно, повторена композиция хрестоматийной федотовской вещи «Сватовство майора». Выстроена s-образная (опрокинутая по горизонтали), длящаяся, перетекающая от узла к узлу композиция, последовательно раскладывающая эпизоды на самостоятельные «сценические планы». Каждый персонаж – девочка с узелками-гостинцами, кряжистая молодая крестьянка, новоиспеченный «городской», девица-разлучница – все обладают собственным пространством. Причем это пространство как бы просматривается персонажами на просвет. Режим просматривания и координация между персонажами (осуществляемая движением, позой, взглядами) не вполне совпадают, отсюда – некоторая застылость. Подобное торможение уместно, когда необходимо акцентировать значительность происходящего. Здесь оно мотивировано скорее другими обстоятельствами: экспозицией (как на эксплуатационном стенде) полезного действия старого сюжетного механизма в новых условиях. Похоже, работа сюжета в подобном выделенном, экспонированном состоянии была не столь уж эффективна: отлаженный механизм пробуксовывал в непретворенном жизненном материале. Есть примеры другого рода: материал, в данном случае исторический, претворен вполне последовательно. Сюжет пробуксовывает потому, что авторы не уверены в действенности причинно-следственных связей исторического порядка. Поэтому один художник «событие сюжета» трактует мистически, другой – сюрреалистически. Я имею в виду «Самосожжение народоволки» Л. Чупятова (1928) и написанную годом ранее «Смерть Марата» А. Гончарова.
Завершающим этапом в попытках «приручения» классического сюжетосложения в новых условиях считается масштабное полотно К. Петрова-Водкина «Новоселье» (1937). Принято (и сам художник придерживался такого же мнения) считать его неудачей. Между тем природа этого произведения сложна. Речь идет о вселении в новую квартиру петроградских пролетариев 1922 года. Эта хронологическая привязка важна: еще и речи нет о зощенко-булгаковских сатирических коннотациях испортившего всех «квартирного вопроса». Нет здесь и коннотаций победительности, агрессии («Мы старый мир разрушим»): напротив, мир вещей, трактованный с большой уважительностью как мир культуры, гармонично открыт (посредством системы окон, зеркал и отражений) новым насельникам. Какой путь они выберут? Половик на паркете – не шаржирующая, а смыслообразующая деталь: пойдут «поверх культуры»? Пойдут вглубь? (В чисто живописном и фактурном планах половик виртуозно «вписан» в поверхность, отсутствие диссонирующего контраста внушает надежды на последнее.) Открыты для новых насельников квартиры и наработанные культурой ценности и искусы. Помимо предметно-пространственных реалий, они незримо присутствуют (подразумеваются) в виде библейских ассоциаций, неизбежно сопутствующих горизонтальным композициям, отсылающим к иконографии «Тайной вечери». Будут ли учтены нравственные уроки или повторится все как встарь: предательство, верность и пр.? Это обременение стоит и за обрисовкой, собственно визуальной и вербальной, – здесь художник уподобляет себя П. Федотову с его рацеями, – типов новых людей. Петрову-Водкину от всей души хочется, чтобы новоселье было неким спасением, то есть продолжением культурно-нравственного бытия (в свете драматических результатов советского социального мегаэксперимента мы иногда забываем о глубинности демократических убеждений многих художников старшего поколения, для которых пролетарский миф, по выражению Бердяева, заменил миф крестьянский. Петров-Водкин, несомненно, искренне, не дежурно, сочувствует своим персонажам, грамотным пролетариям с дореволюционными фабричными корнями, – этот народ был не по учебнику знаком художнику). Однако объективность художника-наблюдателя корректировала идеальную картину мира: уже «ковчег» 1922 года «засорен», отягощен какимито своими внутренними проблемами. Тем большие акценты привносит в миропонимание художника опыт второй половины 1930-х: последовательное вымывание старого кадрового пролетариата, замена новоселья (в его реальном и символическом планах) процессом постоянного подселения – новые кадры приходят на смену выбывающим в небытие. Все это, как мне представляется, размывает установку художника. Изначально тема «Новоселья» – внедрение новых людей в непривычные, означенные не ими культурные пространства. Собственно, картина – «про это». Про осторожность внедрения, отсутствие ухватистости и собственничества, про нежелание «наломать дров». При этом – внедрение не социальных типажей, а живых людей – со своим жизненным сюжетом, своим рассказом (отсюда прием предъявления, экспонирования персонажа, фронтального или данного в повороте, как бы с длящегося обходного движения). Но рассказ негромкий, заявленный взаимопозиционированем, а не открытым жестом. Это важно: недосказанность, негромкость, деликатность, осторожность поведенческого рисунка. Ощущение, которое не сводится к теме «новые хозяева». Скорее к теме выбора пути, теме цивилизационного спасения. И вот эта установка, проведенная на всех уровнях реализации, от живописного до, так сказать, сюжетного (я бы сказал, что художник оперирует суммой микросюжетов), подвергается сомнению. Коррективы 1930-х так разительны, что прежнее содержание – сохранение культурного горизонта бытия – выглядит частным. Квартирой-ковчегом движут какие-то более решительные, мощные исторические силы. Возникает новая мотивировка эмоциональной темы негромкости, осторожности, частности – растерянность. Мир обитателей квартиры-ковчега, связанных какими-то прежними, дающими о себе знать непроявленным, осторожным гулом отдельных разговоров, историями, – уязвимый, хрупкий мир. Новые хозяева квартиры – не хозяева жизни. Их тяготит неуверенность в реальности собственного бытия (отсюда и ощупывающая, уважительно-материальная – как-никак, чуть ли не последнее прибежище устойчивости – трактовка предметной формы). Петров-Водкин едва ли мог отрефлексировать ситуацию, но ход событий он уловил. «Новоселье» не было неудачей: не страдало иллюстративностью, избытком рассказа и пр. Напротив, картина бросила новый отсвет на проблематику нарратива: сюжет растерял функции контроля, организации, управления повествованием в ситуации, когда само историческое действие предстало вне логики и последовательности причинно-следственных связей. Когда пульсация микросюжетов работает не на обобщающий результат-вывод, а на перманентную трансляцию исторической тревоги. Такова, на мой взгляд, причина «недорассказанности» этой вещи.
Чем же был замещен развитый сюжет в советской довоенной фигуративной живописи? Выше уже говорилось о различных приемах тропа, иносказания, к которым прибегали мастера самых различных направлений, – в том числе и после того, когда объединения перестали организационно существовать. Со становлением соцреализма постепенно изживался и троп. Современные исследователи (Б. Гройс, В. Тупицын и др.) упрекают живописный соцреализм в избыточной литературности, в готовности «сдать» свой предмет языковым практикам. Однако дежурные упреки в литературности и сюжетности, как мне представляется, носят компенсирующий характер: на самом деле, они обозначают нечто иное. А именно – последовательное вытеснение самостоятельной рефлексии по поводу предмета изображения. Самостоятельная, авторизованная картина мира замещалась конвенциональной, общепринятой. Событийность с дефиницией даже не предсказуемости, а просто самостоятельности вытеснялась вовсе. Право на существование сохраняла только событийность отрегулированная, без неожиданностей, причем исключительно вкупе с определенной, закрепленной за ней иконографией. Короче говоря, все теоретические предпосылки существования специального нарративного мира снимались. О какой литературности и тем более сюжетности можно здесь говорить! Гиперидеологизированная картина мира не могла делиться функциями контроля даже с сюжетом, обладающим хоть каким-либо потенциалом самостоятельного развития (такой острый сюжет, как, скажем, «допрос коммунистов», восходящий к хрестоматийной картине Н. Н. Ге и нашедший яркую реализацию в работах А. Дейнеки и Б. Иогансона, потенциально могущий вывести на самостоятельные рассуждения, никак не мог «перевалить» на вторую половину 1930-х). Гораздо более подходил для этой картины мира канон, действующий на всех уровнях произведения и обладающий к тому же в своем генезисе ресурсом сакрального (сцепка пантеон – канон в определенного рода искусстве действует по сей день). Каноническая, ритуально предъявляемая визуальность в качестве реальности, в том числе исторической, существовала практически вне нарративности (главным принципом теории нарратива, напомним, является изменение). А значит, не располагала к практикам переоценки, авторской интерпретации, угадывания, толкования (имеется в виду как со стороны «исполнителя», так и зрителя). На смену всему этому пришли паллиативы. Как бы они ни назывались, главным в них, согласно современной теории, был модус дескриптивности (описательности). (Напомним: в отличие от нарративности, подразумевающей выражение изменений посредством некоего самостоятельного повествователя.) Одним из влиятельных паллиативов был термин мотив, теоретически обоснованный А. Бакушинским[33] в конце 1920-х как раз в прагматике гиперидеологизированной картины мира. Мотив в его представлении несет надсюжетный характер.
Бакушинский сосредоточился на мотиве шествия. Соцреализм освоил и другие сюжетозамещающие мотивы (термин можно заменить словом «тема» и другими подобными, – на практике все они сближены именно замещением самостоятельной событийности сюжета некоей канонической представительностью): похороны, предстояние, апофеоз и т. д. Не говоря о разработанных уже академизмом матрицах смерть героя, герой и толпа, герой, выполняющий простую, черную работу, и пр.
Война способствовала не только десакрализации социалистического реализма. Она же парадоксальным образом приводила к его (во всяком случае – некоторых его линий) гуманизации, вызвав к жизни огромный, не контролируемый сверху массовый нарратив «о войне», состоящий из миллионов индивидуальных рассказов… Искусство просто не могло пройти мимо этого народного заказа на рассказ. Причем – разумеется, интуитивно – оно нашло возможности задействовать этот народный нарратив. Произведение отчасти выполняло функцию спускового крючка: нужно было создать саму ситуацию рассказывания, а на нее неизбежно накладывался повествовательный опыт миллионов участников войны. Тематизация самой ситуации рассказывания (отсылающей еще к репинским «Казакам…»: каждый казак «дописывает» общий документ, добавляет речение позатейливей) характерна для двух популярнейших в народе произведений того времени: «Письма с фронта» А. Лактионова и «Отдыха после боя» Ю. Непринцева. В обеих ситуациях военный нарратив «не равен» картине, самостоятельно развивается за ее пределами. (Вообще говоря, ситуация «рассказа в рассказе» – одна из самых устойчивых форм, артикулирующих повествовательность. Она дается буквально, но может существовать и в скрытой форме. Так, в картине «Поезд» М. Кантора, художника вполне современного, нет ни действия, ни общения персонажей, ни документа, текста как «инстанции повествования». Но традиционный русский вагонный разговор на главные бытийные темы в буквальном смысле материализован в обрисовке спящих попутчиков, в эмоциональной атмосфере, в самом характере живописного письма.)
В 1947–1948 годах Кукрыниксы пишут «Конец» – произведение, намного переросшее задачи пропагандистски-публицистического плана, вполне уместные, исходя как из содержания текущего момента, так и карикатуристской специализации авторского коллектива. Здесь мастерски, без педалирования и сползания в шарж, дано общее «событие сюжета» – физическая и нравственная агония вождей рейха. Задействовано все: психологическая убедительность, атмосферность, достоверность исторической фактуры. Но убедительнее всего другое. Наряду с главным, обобщающим действием (скорее фазами общего бездействия, знаменующего полную безнадежность) в картине присутствуют, причем вполне ощутимо, несмотря на свою свернутость, частные сюжеты. Они заданы композиционным путем: перед каждым гитлеровским бонзой – собственный зрительный (взгляд у каждого сфокусирован на своем) и одновременно – умозрительный план. Каждый мысленно просматривает, прокручивает в сознании свой отрезок пути, приведшего не только к общегосударственному, но и к личному краху.
В «Свежем номере цеховой газеты» А. Левитина и Ю. Тулина (1952), характернейшем образчике позднесталинского искусства, так же как в картинах Непринцева и Лактионова, есть «рассказ в рассказе» (на языке структурализма – «повествовательная инстанция»): цеховой листок, в котором, видимо, живописуются художества «отрицательного героя» (кстати, достаточно условно отрицательного – это паренек, вполне поддающийся исправлению: подобная снисходительность попросту невозможна в довоенном искусстве). Интересный момент: в картинах Лактионова и Непринцева представлены те же «простые люди», что и в «Свежем номере…», однако они были приобщены к закартинному военному нарративу, самому масштабному из всех возможных. Поэтому даже мысли о частном, бытовом, повседневном как снижающем не могли и возникнуть у интерпретаторов. А вот в «Свежем номере…» уже современники увидели мелкотемье: простой человек уже не приобщен к великому и сакральному, как в 1930-е, или просто к решающему в жизни страны, как в военные годы. Как справедливо замечает А. Бобриков[34], происходит «снижение статуса», выведение простого человека за границу «возвышенного». Эта процедура была достаточно болезненна, по крайней мере для художников и продвинутой аудитории. Последняя не могла воспринимать жанризм вне котурнов исторического. В результате изобразительный рассказ как таковой был в ее сознании сведен к советскому бидермайеру и, соответственно, адресован неподготовленному, «мещанскому» зрителю. Возможно, по отношению к работам С. Григорьева, Н. Сергеева, А. Волкова, М. Лянглебена и других бесчисленных жанристов первой половины 1950-х годов это и справедливо. Однако недооценены были и замечательные вещи Ф. Решетникова, обладавшего органичным, наследующим федотовский, даром сюжетосложения. Надо сказать, официальная эстетика быстро отреагировала на это выпадение сюжетных вещей из исторического контекста. «Мелкотемье», «натурализм», «лакировка действительности» – подобная негативная метафорика маркировала и действительно постановочные вещи, и попытки «трогательной реабилитации быта» (так критик Л. Аннинский назвал робкие попытки неореализма в тогдашнем лирическом кинематографе). На самом деле объективный запрос общества на частное представлял для советской живописи второй половины века почти неразрешимую задачу. Гораздо проще было вновь запустить, так сказать, замещающе-предъявительный принцип, отработанный в предвоенные десятилетия: идеологизированную (правда, без надрыва сакральности) картину мира, исполняющую обязанности реальности. Многое осталось от прошлого – прежде всего каноничность (полная скорректированность, «завизированность» высшими инстанциями) визуальности. Однако на смену сакральности всех этих шествий и клятв пришла инерционность. Торжествовала установка, которую вслед за Б. Брехтом можно назвать «показом показа»: живопись показывала, предъявляла носителей определенных функций, которые, в свою очередь, показывали содержание своей деятельности: колхозники – результаты коллективного труда, воины – историю подвигов или готовность к новым, учителя – своих учеников и т. д. Разумеется, возможны были различные компоновки: все вместе – в ситуации шествий-демонстраций, избирательно – при локализации темы. Чаще всего использовались композиции фризового плана. Сама установка «предъявления» диктовала ситуацию предстояния. Разумеется, большая часть арт-продукции носила ритуальный характер. Наиболее вдумчивых, рискующих противоречить официозу авторов тревожила эта инерционность (уже упоминавшийся исследователь композиционности Н. Волков писал: «Проблема общения как будто не стоит в последнее время перед нашими художниками. Все фигуры ставят лицом к зрителю. Повороты и движения не выходят за рамки чисто внешней связи, в лучшем случае связи внешним действием <…>. О пяти позирующих лицом к зрителю шахтерах можно все адекватно сказать словами. Но не скажешь адекватно словами о молчании»). Но и в русле «показа показа» постепенно нарастали по-настоящему важные моменты (в том числе отрицающие мировоззренческие аспекты «искусства показа»): «предъявлялись» личностное отношение к потоку жизни, экзистенциальные темы (обычный человек во всей полноте ощущения жизни в ситуации близости смерти или предательства), как правило, связанные с военным опытом. Затем возникли и конфликтные настроения, связанные с логикой развития общественных отношений: диалогичность «сурового стиля», вызывавшего на нелицеприятный разговор как зрителей, так и власть. Но вот что важно: искусство продолжало бояться повествовательности. Существовал даже не внешний, а какой-то внутрицеховой контроль над нарративом. Проблема предъявлялась, показывалась, заявлялась. Программировалась реакция на нее – в случае сурового стиля, как уже говорилось, достаточно полемическая. Но внутрикартинная активность, событийность казались внеположными позднесоветской картине. Так, критике была подвержена картина П. Смукровича на вполне уважаемую агитпропом тему расизма в США. Дело в том, что она не просто показывала «звериное лицо» расизма: художник смог выразить ожидание столкновения, драмы, причем с элементом непредсказуемости результата. Это воспринималось уже как опасная литературщина. П. Смукрович, взыскующий, в духе призывов официоза, реального, не назывного драматизма, проявлял излишнюю доверчивость. Даже когда речь шла о вполне канонической теме преступлений нацистов. У него есть полотно, где эсэсовцы изображены надо рвом с расстрелянными. Сама иконография, разработанная в живописи и кино, вполне канонична, ситуация железно мотивирует вывод: фашизм – безусловное зло. Но Смукровичу мало показа, ему нужен рассказ о зле в его развитии и о персонификаторах зла. Он фокусирует живописную оптику на каких-то внутренних сюжетах, говорящих деталях, конкретике персонажей. Внутренние микросюжеты обыденности зла цепляются один за другой. Подобное наращивание повествовательности даже профессиональной средой воспринималось как некая чрезмерность. Да что там «большие нарративы» – деталь, потенциальная неким саморазвитием, и то воспринималась с опаской. «Суровый стиль» пытался противостоять логике идеологизированного «предъявления» сфабрикованной, замещающей реальность визуальности: казалось, еще немного, и он прорвет этот экран и дорвется до реальной проблематики времени. Этот прорыв осуществлялся наращиванием экспрессии, активизацией образных ходов (разного рода тропами) и пр. Но стоило намекнуть на самостоятельное, не мотивированное (показом или прорывом, уже не так важно) саморазвитие, звучал сигнал тревоги.
Так, в «Геологах» П. Никонова персонаж в центре холста всего-то-навсего перематывает портянку, но это жест, не укладывающийся в логику бытовизма, производственничества, лирического жанризма и т. д. В силу этого он вызывал у критики повышенную тревогу – как потенциальный самостоятельно развивающийся, «уводящий в сторону» от генерального показа нарратив.
Боязнь рассказа преследовала советское искусство, причем и в пору, когда оно бытовало в ипостасях официальное/неофициальное (напомним интересный феномен: в годы перестройки несколько художников старшего поколения, вполне официального толка, именно в рассказе увидели некий горизонт свободы. Именно в годы распада официоза они «позволили себе» не только коснуться запретных тем, но и всласть, не сдерживая повествовательный драйв, «порассказывать истории». Такой неожиданный всплеск повествовательности проявился, например, у Д. Обозненко и И. Пентешина).
Впрочем, с конца 1950-х в Ленинграде работал абсолютно несистемный художник – А. Арефьев. Он погружался в радикально некондиционный в свете тогдашних представлений даже о «низком» в искусстве материал: жестокий мир трущоб, бандитских малин, сюжеты убийства, драк, суицида. Это был жанризм настолько высокой жестовоантропологической силы, что, пойди за ним сколько-нибудь влиятельная группа художников, сам принцип замещающей визуальности был бы опрокинут. Но несмотря на то, что «арефьевская группа» существовала, ее участники не доходили до той степени радикализма, которую демонстрировал лидер. Так и остался Арефьев, по крайней мере в плане артикуляции наррации, преждевременным. Зато для следующих поколений художников-рассказчиков его опыт был непререкаем.
Концептуальный поворот к сюжету стал возможен только в контексте, наверное, самого значительного сдвига в отечественном искусствопонимании, который приходится на конец 1960-х – 1970-е годы.
Он оказался связан не столько с осознанием искусством ценностей модернизма (соответственно – проблематикой самовыражения, «формы» и пр.) и не с критикой его социального бытия в СССР – отсюда разделение на официальное и неофициальное. (Хотя эти фундаментальные моменты, разумеется, способствовали этому сдвигу.)
Поворот обусловлен некоей объективизацией понимания работы искусства как инструмента сознания (ради этой объективизации на время забывались такие фундаментальные опоры модернизма, как самовыражение, иногда даже – индивидуальная стилистика и вообще – авторское). Из этого исходила установка позиционирования: по отношению к существующим концепциям искусства, границам компетенции видов и жанров, языкам описания и пр. В целом это был поворот от явления (показа) к «концепции». Прежде всего, концептуалисты и соц-артисты критически отрефлексировали механизмы действия официальной советской культуры. Однако их целью являлась не борьба: их позиция была более аналитической и описательной. Побывать в различных шкурах – в теле официального искусства и вне его (стратегия позиционирования), промониторить идеологическую насыщенность любого пространства, декодировать чужое поведение и на основе этого опыта выстраивать собственное «я» – такой они видели свою задачу. Язык советского искусства оставался для них замечательным спарринг-партнером: манифестирующий высшую, откорректированную реалистичность и одновременно – имитационный, то есть пустотный, готовый дематериализоваться. Словом, идеальный Иной. Как писала о концептуализме Е. Бобринская, «„я“ может реализоваться только в отношении к Иному»[35]. Встреча с Иным стала даже специально тематизироваться соц-артом: у В. Комара и А. Меламида в полотнах «Большевики возвращаются после демонстрации» (1981–1982); «Ялтинская конференция» (1982). Эти вещи написаны зализанным, созданным для канонических изображений языком (той же темы демонстрации в первой работе или знаменитого изображения «большой тройки», собравшейся в Ялте, во второй. Но в привычное врезается Иное: демонстранты встречают на улице ящера (аналог Зеленого змия?), в знаменитую фотографию «большой тройки» на место лидеров свободного мира «пробираются» Гитлер и какой-то динозавр, любимец поп-культуры. В «Девочке перед зеркалом» в мир пионерского детства врывается шокирующий, абсолютно не мыслимый для советской массовой психологии фрейдистский мотив. Алогизм? Фантазм? То, что на молодежном сленге будет называться стебом? Самое интересное, что язык как ни в чем не бывало визуализирует это Иное. Съедает, не подавившись. Возникает вопрос: может, Иным, вовсе не службистски-безобидным, а по-своему опасным, является не что иное, как сам этот всеядный язык? Более того, иногда язык, его бытование, становится сюжетом. В. Шкловский когда-то уподобил сюжет стилю. Стиль соцреализма в глазах молодых художников 1970-х годов характеризовался прежде всего сюжетностью (на самом деле это было не так, в целом сюжет был ослаблен, но художники легко находили нужные им примеры). Так вот, соц-арт предполагает, что в самой картинности соцреализма заключен сюжет. На этом построен цикл «Ностальгический соцреализм» В. Комара и А. Меламида. Вот, к примеру, «Заговор Хрущева против Берии». Обычное говорение вождей за покрытым красным сукном столом – отсылка к бесконечным картинам «теплая деловая встреча». Жуков почему-то с породистой собакой, отсылка к другому жанру – отпускному, охотничьему. Где общий, способствующий окончательному выводу сюжет? Нет сюжета. Но соцреализм, даже ностальгический, обязан быть сюжетным. Значит, он просто запрятан, закодирован. Так возникает тема конспирации, заговора…
Концептуализм пошел еще дальше: язык как нечто навязанное, манипулирующее сознанием, нуждается в критической рефлексии. Все фокусируется на Слове: И. Кабаков, лидер направления, недаром писал: «Любой текст для меня визуализирован»[36]. Зрение через речь, тотальная текстуализация – все это, согласно «московскому лирическому концептуализму» (определение Б. Гройса), производные сугубо советского идеологизированного пространства. Материальный план мог редуцироваться к словам, знакам, иконографическим схемам, анонимной массовой продукции (пособия, технические плакаты и пр.). Но в концептуалистском произведении всегда присутствует потенциал новых смыслов, контекстов и сюжетов. Так, в знаменитой работе И. Кабакова «Запись на Джоконду» вербальное запускает цепочку зрительных и даже акустических ассоциаций, воссоздающих контексты, сюжеты, вообще устройство тогдашней реальности. Так же объект «Остановка» менее известного художника Г. Корнилова на основании отрывных записок на столбе реконструирует (визуализирует) социологию позднесоветской жизни.
Если концептуализм и соц-арт дематериализовали (пусть и с потенциалом возрождения) сюжет, то в те же примерно годы работал художник, исключительно внимательный к изобразительности, к плану живописной реализации. Вместе с тем он был, наверное, крупнейшим во второй половине века мастером сюжетосложения. Г. Коржев – мастер советского официального искусства, в институциональном плане полностью соответствуя принятым в нем поведенческим, идеологическим представительским и прочим нормам. Он принадлежал к реалистически-почвенному направлению. Однако объективно Коржев очевидно превосходил горизонты возможностей этого явления. Разумеется, он отдал дань принципу «показ показа»: наиболее известные и признанные его вещи, в том числе хрестоматийный триптих «Коммунисты», написаны в русле той канонически предъявительной установки, о которой говорилось выше. Все это затрудняло его оценку в глазах «продвинутой» аудитории. Между тем это был глубоко и самостоятельно мыслящий художник. Пожалуй, только ранняя «Осень («Когда уходит чувство»)» – трогательная «новелла „из городской жизни“» с нехитрой драматургией выяснения отношений – выполнена в русле традиционного жанризма. В целом Коржева уже смолоду никак не упрекнешь в традиционализме. Так, он активно использовал возможности киноязыка: крупные планы, наплывы, элементы экранной формы – сочетание пустотности с гиперобъемностью («Уличный художник»).
В плане сюжетосложения (напомним: согласно нарратологии, в его основе – темпоральная структура и изменение состояния) возможности Коржева были неисчерпаемы. В его работах сюжетообразующий характер могут нести поступок (действие персонажа, влекущее изменение), происшествие (персонаж является пассивным объектом), косвенное изображение, скрытый сюжет, монологизация и диалогизация предметных реалий. Картины Коржева располагают к традиционному экфрасису повествовательного толка: у него практически нет риторики, повествование мотивировано, психологически и исторически «офактурено». Коржев – художник рассчитанной контактности, способности управлять восприятием структурно поданного повествования. На языке структурной нарратологии описательный («дескриптивный») экфрасис его вещей мало что дает. Наррация темпоральна: Коржеву важно предшествующее (скрытое) развитие сюжета, картина является результатом этого развития, подготовившего «изменения состояния». Описательный экфрасис (на языке структурной нарратологии – «дескриптивный») сравнительно ранней картины «Влюбленные» мало что дает: с теплотой «ухваченная» сценка неореалистического плана (в версии «Любить по-русски»): пожилая пара, поздняя любовь. Сила этой вещи в ретроспективной наррации, в показе предшествующего развития в его причинно-следственных связях. Показ дан не действием (и уж совсем не «показом показа» – эта установка подробно описана выше в связи арт-практикой, в нашей терминологии, «предъявительного» толка), а специфически коржевскими средствами реализацией материального плана. Рассказ визуализирован в исторической и психологической фактуре, он (упоминавшаяся способность управлять восприятием) настолько укоренен в коллективном национальном опыте, что свернутый сюжет (представления о перипетиях индивидуальных судеб, окрашенных поколенческим историзмом, спроецированные к тому же на опыт кинематографической репрезентации) мощно разворачивается в зрительском сознании. Но, разумеется, сила Коржева-рассказчика прежде всего в живописной реализации. У него нет отстраненного, не пережитого лично живописного жеста, так сказать, живописи «без субъекта». Авторизованность репрезентации предельна: само живописное письмо воплощает «изменение состояния» – художник вместе с героями проживает «историю жизни». Это история простых честных людей, переживших войну и сохранивших человеческое. Отсюда – неторопливый, основательный, без намека на маэстрию характер живописной реализации: приглушенный, со скрытой метафорикой заброшенного землей, но не погасшего костра, колорит, ощущение неброскости, усталости, «трачености» формы… Коржев – в условиях конфронтации нашего искусства по линии официальное/неофициальное на это как-то не обращалось внимания – вполне концептуально разрешал теоретически не разработанную оппозицию фабула – сюжет[37]. Он выбирает традиционные фабулы, но добивается нетрадиционного, авторизованного развития сюжета. Так, в «Дополнительном уроке» изначально достаточно сентиментально-жанровая фабула (старушка-учительница и ученик «из бедных»). В фабуле заложено позитивное развитие событий: мальчика, который, несмотря на тяжелое детство, столь серьезно отдается ученью, ждет большое будущее. Но фабула осложнена неожиданным поворотом сюжета и исторической фактурой. Во-первых, художник уточняет время действия – военные или послевоенные годы. Конкретизация дана как предметными реалиями (ватник мальчика, ношеный платок, в который кутается учительница), так и колоритом (приглушенная серо-желтая гамма с белильными просветами). Во-вторых, – и это главное, – мальчик слеп (возможно, это как раз следствие войны). Занятия ведутся по азбуке Брайля. Вот так, «на ощупь», ведет учительница мальчика из слепоты, из скудной реальности, к миру яркому и масштабному (отсылка – карта земного шара на стене). Конечно, воображаемому… А может, речь пойдет не только об умозрительном, но и о зрительном… Любая шрифтовая запись, при всей своей условности, потенциально конвертируется в зримый образ. А ведь рельефно-точечный шрифт Брайля еще и осязателен. Может, эта лесенка осязательности вернет мальчика в зримый мир. Уверен, Коржев, для которого момент диалектики зрительного и умозрительного всегда важен, думал об этом. Во всяком случае, оставил надежду… Такие вот неожиданные сюжетные ходы, проросшие из фабулы, стали фирменным приемом художника. Так и в «Дезертире» каноническая фабула возвращения в отчий дом отягчена драматической сюжетной коллизией измены воинскому долгу, раскаяния, границ милосердия…
Коржев принадлежит к редчайшему в то время типу охотника за сюжетами. «Журнализм», злободневность здесь ни при чем: художник берет в работу традиционные фабулы, от библейских до литературных (Дон Кихот и пр.), добиваясь самостоятельного сюжетного разворота. «Придумывает» сюжеты и сам: так, к середине 1980-х годов он создает целый народец тюрликов, результат негативных процессов эволюции человеческого типа. Коржев, в какой-то внутренней, не понятой современниками полемике с официально-оптимистической картиной мира, тяготеет к драматическому развитию своей сюжетики. Эта полемика проходит не по политической линии (поэтому художник никогда не пользовался вниманием со стороны политизированного андеграунда). Она проходит по линии цивилизационной. Разбивается оземь первый русский летун («Егорка-летун»), беззащитные люди гибнут на войне («Заслон»), в городских катастрофах («Наезд»), спиваются («Адам Алексеевич и Ева Петровна»), деградируют. Последнее – важный момент позднего творчества Коржева. Собственно, его «Мутанты» (серия «Тюрлики») – крайнее проявление деградации, прошедшей точку невозврата. Это «последнее предупреждение» художника, глубоко разочарованного состоянием общества. Он пытался захватить социально-нравственную деградацию на том ее отрезке, когда возможно еще выздоровление. Когда событие сюжета еще обладает потенциалом развития («Вставай, Иван!»). Но чаще его диагнозы становились все более безнадежными. Художник избегал политических обобщений, хотя, видимо, уже не питал иллюзий по поводу будущности советского проекта в целом. Кажется, он исследовал «простого человека» советского извода в его житейском контексте (пьянство, лишение родительских прав, невозможность социальной адаптации) – об этом говорят подробные, тщательно прописанные приметы среды и быта. На самом деле его интересовал, я бы сказал, горизонт антропологический. Коржев нашел собственный синтез категорий скрытого сюжета и телесности. Уже в «Обреченной» он показал его: цветущее обнаженное тело полной сил женщины у экрана рентгена. Еще не произнесен роковой диагноз, но роковой сюжет запущен. Так же и в других вещах: телесное, вполне активное – дышащее, здоровое, испытывающее какие-то потребности («желающая машина», по Делезу), несет в себе сюжеты распада (в данном случае Коржев, наверное, примирился бы с терминологией Р. Барта – «тело как текст»). Однако Коржев – слишком сопереживающий художник, чтобы ограничиться «голой текстуальностью». Сюжеты (социальные диагнозы, индивидуализированные конкретными человеческими судьбами) автор «разворачивает» как бы постфактум под знаком традиционных русских вопросов (Как дошли до жизни такой? Кто виноват? и пр.). Антропологическая установка, скрытая событийность сюжета, нескрываемая вовлеченность – на исходе века Коржев-рассказчик проявил себя как архаист-новатор.
Концептуализм «рассказывал некую историю» (выражение Ж. Женетта), минимизируя материальный план. Г. Коржев – находя новые языковые возможности самого материального плана, его многоуровневой разработки. Это были своего рода два полюса повествовательности. Разумеется, к повествовательному ресурсу обращались и другие художники. В Ленинграде – Петербурге с 1970-х годов постоянным «рассказывателем историй» является В. Овчинников. Его поэтика сочетает острую наблюденность и отсылки к библейской и – шире – литературной образности (персонажи художника выхвачены из текущей реальности – это легко узнаваемые типы альтернативной советской жизни: ангелы-непротивленцы, бомжи, инвалиды, мечтатели, аутисты, феи – подруги художников и пр. Одновременно это персонажи-отсылки: они напрямую обращены к библейским и литературным архетипам). Этой двойственной установке соответствует отработка формы. Форма квазиматериальна: она отсылает к поп-арту с его диалектикой гиперматериальности и пустотности. Пустотность здесь не содержательного плана. Думаю, она очень органично рифмуется с метафизичностью: бомжи обращаются в ангелов и т. д.
Нарративность у Овчинникова лимитирована: он оперирует в большей степени фабулами. Он не дает сюжету самостоятельного развития, вообще, действие у него заторможено, его главной характеристикой остается, в терминологии Н. Н. Волкова, «взаимодействие фигур как проблема общения». Действие опосредовано формой притчи с ее инвариантностью решений. К этому же поколению относится и В. Гаврильчик, художник сложного замеса, долгое время ассоциировавшийся с примитивизмом. На самом деле, Гаврильчик – художник скорее медиального плана: в основе его авторской оптики лежит сама эта примитивизирующая образность, вкупе с опорой на имперсональную визуальность фотографий в массовых журналах, советской рекламы 1950-х годов, типовой детской иллюстрации и пр. Художник берет эти советские клише (в прямом, печатном и образном смыслах) как данность, без соцартовского педалирования алогизма и бессмыслицы. Далек он и от иносказаний, тропов, то есть притчевой нравоучительности. Так что критической установки здесь нет вовсе. У Гаврильчика советское – не предмет абстрагирующей работы сознания. Все это – предмет проживания. В отличие от соц-артистов и метафизиков притчевого толка, Гаврильчик позиционирует себя не извне советского опыта, а внутри. Он – наследник и продолжатель, проживатель советской жизни, он же – ее изобразитель, он же и потребитель репродуцированных и транслированных в разного рода медиях образов этой жизни. Причем не только визуальных: за изображением, так сказать, за кадром в буквальном смысле, стоит некая языковая практика: мощный нарратив позднесоветского анекдота, матросские байки, кухонные разговоры, приказы, официальные репортажи и пр. В этом плане – по линии использования языковых практик – Гаврильчик сближается с московским концептуализмом. Правда, эти практики у концептуалистов как бы эксплицированы – явлены в виде написанных текстов. У Гаврильчика же – неотформатированный речевой режим: все его персонажи – пенсионеры, пионеры, бабушки, внучки, даже слон в зоопарке – реализуют свое право на прямую речь. Конечно, демократичная и незлобивая позиция Гаврильчика, начисто отрицающая властную, нормализующую функцию нарратива, «подсмотрена» у примитивистов. У них обычно отсутствует критическая установка. Ослаблена у них и функция «организации сюжетом рассказываемых событий»[38]. Собственно, эта ослабленность и визуализирована в наивности и трогательной неартикулированности (неуверенности) плана живописной реализации. Все это компенсируется подразумеваемым акустическим планом: мыслимым или произносимым монологом художника и его персонажей, сопровождающим сам процесс создания вещи.
Питерские митьки, группа, существующая с 1980-х годов, с самого начала презентировала себя, так сказать, многоканально: не только собственно изобразительной продукцией, но и литературой, перформансом, музыкой. Так что литературная составляющая, вполне естественно, окрасила и арт-практику некоторых митьков. Митьки начинали в ситуации глубокого застоя, условия существования они выбрали себе (это был намеренный эскапизм поколения «дворников и сторожей») самые скудные. Однако никакой преемственности, скажем, с «лианозовской школой», с ее иконографией барачной жизни здесь нет. Митьки сразу же мифологизируют свой мир как абсолютно «правильный»: незлобивый, лишенный властных амбиций, реагирующий на социальные вызовы в игровой форме, отзывчивый на все хорошее. Этот мир, конечно, авторизован: митьки склонны к самоописанию, к фиксации своей повседневности. Поход за пивом, объяснения с женой, медитации, дружеские встречи предстают в качестве явлений повышенной серьезности и бытийных контекстов. При этом митьки – и это редкость, так как неофициальные артгруппировки в стране (лианозовцы, метафизики, концептуалисты) работали под знаком групповой инаковости, отчужденности изолированности (внутренний круг, Нома и пр.), – стали синонимом открытости и какого-то стихийного демократизма. Они были озабочены контактностью. Для этого были задействованы приемы персонажности: визуальные типы митьков – посредников и агентов влияния. Они были узнаваемы (но не персонифицированы) не только благодаря тельняшкам, бушлатам или ватникам и ушанкам. Прежде всего благодаря ауре расслабленности, неделовитости, легкости выпадения из любых расписаний, планов, вообще временных потоков. Тем не менее они легко выполняли доверенные им многообразные повествовательные или представительские функции. Одним было поручено представлять движение «в миру»: включаться в повседневную жизнь городских окраин с ее нехитрыми ритуалами социальности: очередями, общением в пивных, отдыхом «на природе». Другие отвечают за «внешние контакты»: с Пушкиным, Лермонтовым, другими культовыми фигурами, сказочными персонажами, разного калибра политическими деятелями и пр. Естественно, общение происходит по митьковским правилам, описанным не без самоиронии: дружелюбие чрезмерно, вплоть до слезы в стакан (вообще, питие – любимейший митьковский сюжет), общение навязчиво. Но «внешние герои», как правило, охотно, «без обид», идут на контакт. Вообще, лозунг движения – «Митьки никого не хотят победить» – можно было бы и продолжить: «Митькам никто не может отказать». «Многоканальность» митьковского мифа, с одной стороны, была весьма эффективна: его трансляция охватывала небывало обширную аудиторию, которая характеризовалась высоким показателем вовлеченности: составляющие ее братушки и сестрички ощущали себя частью творимого мира. С другой стороны, для собственно художников нарастала опасность нивелировки: коллективный миф (и, соответственно, коллективные ожидания аудитории) требовал обобществления иконографии, сюжетики и даже интонации. Потребность оторваться от мифа прежде прочих ощутили В. Тихомиров и В. Шинкарев. Как художники они понимали опасность канона и стремились индивидуализировать собственную поэтику. Как литераторы, создатели идеологии и жизнеописания митьковства – они острее других ощущали засасывающую силу мифа как эманации коллективного сознания. Митьковский миф, как уже говорилось, апроприировал культовые фигуры истории и культуры. При этом апроприация имела два аспекта. С одной стороны – адаптация до уровня персонажей, действующих лиц митьковианы. Это специфический горизонт анекдота, злободневной или исторической байки, обозримый самой неприхотливой аудиторией. С другой стороны – вполне отрефлексированная Митьками (уже с большой буквы, как инстанцией современного художественного мышления) интонация снижения, вполне хармсовская, «высоколобая». Есть еще один миф, с которым митьковиана находится в сложных иерархических отношениях. Это советский кинематограф как явление массовой культуры: «Чапаев», «Место встречи изменить нельзя» и пр. Помнится, все коренные митьки не только сами знали наизусть реплики из «Места встречи…», но и вообще ретранслировали месседж классики масскульта, разумеется, в новой, неидеологизированной аранжировке, адептам митьковского движения. При этом они не могли не задуматься о механизмах мифологизации, вербальных и визуальных, и эта рефлексия так же входила в состав митьковской мифологии. Я описываю конструкцию митьковианы для того, чтобы показать ее «сложносочиненный» характер. В целом можно сказать, что митьковская реальность, очевидно, включала мифологическое слагаемое. Немудрено, что В. Шинкарев, одним из первых ушедший «в отрыв» от «коллективно-митьковского», попробовал разобраться с категориями сюжета и «непереваренной» нарративом реальности. Так была создана серия «Всемирной истории литературы». Это был проект из шестнадцати картин, посвященных произведениям известных и малоизвестных авторов. Картины, поделенные на блоки, сопровождались некими вербальными дополнениями – глоссами. Вполне концептуальный проект, если бы не явно пропедевтические цели, которые ставил перед собой художник: он хотел научить зрителя видеть пластические аспекты бытия литературных сюжетов (правда, пропедевтика здесь не без игровой подоплеки, но это все равно отличалось от практики московских концептуалистов и пост-концептуалистов: те бы «обезвредили» любой позитивно-учительский месседж алогизмом или шизоанализом). Пластическая реализация однотипна: рисунок силуэтного типа, набирающий экспрессивность и живописность в массовых сценах, акцентированная построенность пространства – и картины в целом, и прямоугольников, на которые разбивалась плоскость, сочетание почти минималистской пустотности и заполненности, действия и паузы. Меланхолический повтор приема осмыслен: в сущности, речь идет об одном и том же – поведении сюжета в обстоятельствах различных литературных произведений. Эти литературные обстоятельства позволяют герою-сюжету «показать себя»: свою способность к динамике и покою, событийности и психологизму. Масштаб произведения в данном случае не так важен. Шинкарев проводит мастеркласс на любом материале – от Гомера до автора текста «Елочки». Причем равно серьезно. В «Елочке» сюжет предстает в самых разных своих ипостасях: в качестве первичного жизненного, натурного материала, в прямом, линейно развивающемся повествовании, в нагнетании атмосферы до состояния саспенса.
Если В. Шинкарев в своем высвобождении от «коллективного митьковского» мобилизовал аналитический ресурс, В. Тихомиров пошел другим путем. В его представлении реальность давно уже была мифологизирована: наблюденное, прочитанное, просмотренное в кинозалах – все это было его жизненным пространством, нерасчлененным, синтетичным, а иногда и эклектичным. Выбранным, возможно, интуитивно, как антитеза расчерченному запретами и инструкциями позднесоветскому идеологизированному пространству. Мифологичность давала полную свободу, «отвязанность». Сюжет выступал не как регулирующий фактор: расцвеченный воображением художника, он как бы «выходит из себя», гуляет сам по себе. В картинах «по мотивам» культового советского фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» безудержные фантазмы художника идут значительно дальше выдержанных стилизаций режиссера А. Митты. Даже в сюжетах из повседневной жизни («Батя и гость») Тихомирова есть некая атмосферная чрезмерность, заданная не только обрисовкой типажа и сюжетной ситуации, но и расхристанной, размашистой живописностью. Сюжет отсылал к «непереваренной» реальности – чуть ли не физиологичной разрядке. Линейно-временной характер развития сюжета здесь не так важен – важна именно эта отсылка, чреватость грубым действием. Теория предполагает «обязательное наличие некоторой, хотя бы фиктивной реальности, предшествующей ее нарративному изложению»[39]. Здесь наоборот: нарратив дрейфует к брутальной реальности. Нечто подобное происходит в работах художника следующего поколения, Г. Ющенко. Разумеется, его «новый брутализм» имеет культурную подоснову (от Ж.-Б. Баския до Симпсонов). Живописная трэш-реализация, психотический драйв – осознанный прием физиологизированного, редуцированного до предела, но в то же время действенного изложения.
В. Голубев, художник митьковской биографии, в настоящее время, на мой взгляд, вырос в одного из наиболее интересных новых русских рассказчиков. У него уникальный аппетит к повседневному. Советское повседневное было в центре интересов соц-арта, концептуализма и постконцептуализма, метафизического направления. Оно исследовалось как язык, как материал фрейдистско-этнографического анализа, как метафизическое инобытие, как сакрализованная мифопорождающая система. Для всех подобных подходов (даже игровой установки младоконцептуалистов «Ливингстон в Африке») общим являлась некая дистанция (исследование, «раскопки», деконструкция и пр.). Дистанцированность означает выключенность из реального течения жизни (остановка времени, замедление ритма, изменение фокусировки и пр.). Уникальность Голубева в том, что он как рыба в воде ощущает себя именно в течении городской жизни: ее водоворотах, стремнинах, мелях, разветвлении на рукава, вплоть до ручейков. Каждодневность как она есть, обычные городские типы (в традиции русской литературы их называли маленькими людьми) в бытовых ситуациях, в житейских коллизиях – традиционный жанризм позапрошлого века, замешанный на современных приемах визуализации. «Событие сюжета» у него дано в причинно-следственных связях. Оно предполагает подготовку («Как он дошел до жизни такой») и развитие за пределами изображенного (зрителю дается старое доброе право на «додумывание»). Остросоциальное, государственное не педалировано: судьбы его персонажей – в их собственных руках, они – воспользуюсь типично учительской формулировкой – «сами отвечают за свое поведение». Поведение это чисто житейского содержания: измены, разочарования, жизненная неустроенность, нелепость поступков и ситуаций. Голубев часто вводит короткие речения: «Сойти с ума не удалось», «Когда подумаешь, кого он предпочел!», «Домой не хочется», «Персона нон-грата». Это язык персонажей: их видение ситуации, их самооценка. Экфрасисом корпуса произведений Голубева мог бы стать монтаж из фрагментов прозы В. Токаревой, сценариев фильмов типа «Афоня» – вообще, произведений чувствительного плана, популярных еще в семидесятые. Но если тогда тема сочувствия была окрашена социально (беды маленьких людей зависели от вмешательства государства и бюрократии, это подразумевалось), то персонажи Голубева, как уже говорилось, – сами по себе. Художник – менее всего моралист, оценку поведения героев он уступает их собственной самооценке. Он не смеется над ними, хотя маленький человек у Голубева – часто несуразный, нелепый, смешной человек. Конечно, в этих проявлениях он ему сочувствует. Но, похоже, художник и побаивается своих персонажей: витальный напор, который они проявляют в простых житейских ситуациях, неожидан для него самого.
Петербургский художник Д. Шорин принадлежит к следующему поколению. И его городские персонажи принадлежат другому поколению, другому облику, другому психологическому и поведенческому рисунку. (Примерно тот же типаж показывают москвичи А. Виноградов и В. Дубоссарский в недавней серии «На районе».) При этом у них те же социальные корни, что и у голубевских, – это жители спальных районов. Интересно, пожалуй, только повествовательная живопись (в разных своих изводах) сохранила интерес к тому, что теоретик называет «смыслопорождающим отбором ситуаций, лиц, действий и свойств из неисчерпаемого элементов и качеств событий»[40]. И Шорин, очень внимательный к житейской фактуре, занимается этим отбором. Его персонажи разительно отличаются от обаятельных, витальных, расхлябанных неудачников Голубева. Это молодежь следующего поколения: невысокого пошиба, воспитанная на глянце и алчущая без особых к тому оснований гламура – в отношениях, стандартах стиля жизни и пр. Она показана в каких-то бесконечных выяснениях отношений, разочарованиях, томлениях. Собственно, гламур для бедных – сквозной сюжет многолетней серии Шорина (отдельное ее ответвление – воображаемое осуществление мечты, мифологизированные картины обретенного успеха). И одновременно – момент живописной реализации, несомненно, рефлексирующей эстетику редуцированного гламура. Если говорить о каждой конкретной вещи, то сюжет присутствует в скрытой форме – в прямых и мысленных монологах, в самом облике персонажей, во взаимоположении фигур в пространстве и пр. Это молчаливые сюжеты (вообще, это напоминает какой-нибудь «Дом-2» с выключенным звуком). «За стеклом» – по другую, внешнюю нашу сторону – и сам художник (в отличие, скажем, от Голубева, в общем-то сочувствующего своим расхристанным витальным неудачникам до готовности к прямому общению). Шорин – тоже не ощущает себя моралистом, нельзя сказать, что его установка – критическая. Но определенная отстраненность есть. Я бы назвал подход художника эстетико-антропологическим.
Николай Копейкин сегодня – ведущий русский художник нарративного плана.
В его генезисе – митьковство, которое, похоже, играло и некую компенсаторную роль: автор, с его филологическим и менеджерским образованиями, нуждался в митьковской терапии беззаботности, разгильдяйства и благодушия. «Москва – Петушки» В. Ерофеева, похоже, сыграли свою роль – как искус независимой, неогосударствленной жизни.
Копейкин вполне трезво оценивает себя как художника-рассказчика. Причем он рассказчик особенный. Он не столько высматривает «событие сюжета» в повседневной жизни, сколько его придумывает. Разумеется, почва подготовлена текущей жизнью, в том числе культурной и политической.
«Подготовлен» и типаж: гротесковая обрисовка ложится на адекватную, взращенную наличной реальностью натуру. Но, перефразируя В. Беньямина, можно сказать: подлинная картина настоящего проскальзывает мимо. Его можно удержать только в сюжете, вспыхнувшим на миг в момент его (настоящего) постижения. Копейкин смог отрефлексировать свою потребность (и способность) мгновенно реагировать на злободневное, увлекаться «текущим моментом». Но как найти собственную форму визуализации нарратива, сохраняя и литературную составляющую, и пародийную интонацию, при этом отодвигаясь от анекдота и карикатуры? Копейкин, как мне представляется, вполне органично выходит на некую иронико-эпическую форму, отсылающую к ироикомической поэме времен Сумарокова. Художник создает две такие эпические вещи – одна посвящена взаимоотношениям снеговиков и углевиков, другая – слонам в Петербурге. Обе вещи со всеми их внутренними сюжетами отличаются большой степенью сочиненности. Вместе с тем в них есть баланс наблюденности, изобразительной «ухваченности». В этом – поэтика Копейкина: он выдумщик и одновременно – изобразитель. Своих персонажей он выдумывает (или, исходя из наблюденных реалий, радикально трансформирует в гротесковом духе), добиваясь предельной убедительности воплощения (в точном смысле слова – придать плоть фантазмам и выдумкам). Так, в «слоновьем эпосе» он очень четко отработал отношения зооморфного и антропоморфного. У него дар вочеловечения: слоны или, скажем, снеговики действуют в предложенных художником обстоятельствах – сюжетах вполне «по-людски». Правда, и расчеловечивать он умеет: многие персонажи в старой басенной традиции, но во вполне современной форме визуализации, выказывают, как говорили в советских фельетонах, «звериное нутро»: запредельную, животную витальность, страхи, агрессию и пр. На «эпосе», с его сложным взаимодействием и взаимопроникновением отдельных сюжетов, Копейкин отработал важные для своего нарратива качества: ощущение присутствия некоего сказителя-изобразителя (рассказчика, распорядителя сюжетов, одновременно – посредника между изображенным и зрителями). Этот изобразитель не только выдумывает сюжеты. Он наделяет обыденное некоей сверхсилой (часто вплоть до иррационального и фантастического). Он дает действию драйв. От «эпоса» идет и ощущение целостности повествования, которое присутствует и в сюжетно независимых, «отдельных» картинах: создается уверенность, что они представляют некое сквозное действие, развивающееся за их пределами.
Петербургские рассказчики в целом демонстрируют понимание сюжета как прямого высказывания – различного рода отсылки и аллюзии направлены на расширение подтекста, а не на стратегии опосредования. В современном западном искусстве не так много художников, артикулирующих подобную установку: А. Катц, Э. Фишль. Особенно важен последний: он явно открыт литературным ассоциациям (причем литературе, пронизанной психоаналитическими мотивами, – Дж. Апдайку, например). Но все-таки в основе – прямое высказывание, то, что на языке нарратологии называется «событие сюжета».
О К. Звездочетове этого не скажешь. Как мне представляется, он разделяет установку «сюжет как стиль», описанную выше в связи с серией В. Комара и А. Меламида «Ностальгический соцреализм». Подобное сравнение может вызвать удивление: визуальность Звездочетова, условная, мозаичная, скорее рисуночная, нежели живописная, менее всего похожа на объективизирующую манеру «Ностальгического соцреализма». К тому же раешный, безобидный юмор художника (он недаром выставлялся с митьками) никак не рифмуется с многоплановой, «умышленной» иронией соцартистов. Звездочетов синтезирует различные стили сатирического или юмористического рисования (от позднего сатирического лубка до послевоенной советской карикатуры). Сразу скажем – идеологический заряд первоисточника его не интересует, да и сам он не спешит афишировать свою критическую позицию. Но сатирическая картинка должна быть сюжетной, причем с некоей оценкой, моралью. Зритель автоматически пытается считывать сюжет. Художник бросает манки – какие-то микроистории, столкновение разновременных эпизодов, смешение типажей. Но попытки найти «мораль», «фишку», искать причинноследственные связи теряются в общей картине тотального, как бы самостоятельно, помимо воли художника развивающегося веселья, комикования, смеховой волны. Сюжетом, таким образом, является сама навигация по визуальности, способной придать смеховой статус всему изображенному.
А. Виноградов, В. Дубоссарский – художники-выразители своего поколения, как назвал их В. Мизиано (имея в виду поколение, утвердившееся во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг.). Они предложили, наверное, самую мощную живописную реализацию установке «сюжет как стиль». Правда, они редуцировали понятие «стиль» до манеры, но этому было оправдание. Соцреализм был конструкт, метод. Выдающиеся советские мастера выказывали ему верность чисто ритуально, на деле – пестовали свою индивидуальность. В понятии метода была какая-то умышленность, к тому же снижающая: овладевший методом якобы поднимался до высот искусства. Эдак каждый мог сравняться с насельниками советского живописного Олимпа. Так что классики отрабатывали свои индивидуальные амбициозные задачи, а в текущей арт-продукции господствовала именно живописная манера – до предела редуцированная, но гибкая и более демократичная, чем канонизированная маэстрия мэтров соцреализма. В этой манере писалось все – от колхозных праздников до будней космонавтов. Отсюда – потенциал универсальности. Потенциал тотальности тоже наличествовал: в этой манере писалось замещение реальности – инсценированные исторические сюжеты, не существующие социальные гармонии. Значит, ей все было по плечу: сюжеты с Пикассо на Красной площади и Шварценеггером на колхозных полях в этом плане ничем особым не отличались. Виноградов и Дубоссарский отрефлексировали эту систему визуализации как в изобразительном, так и содержательном планах. Конечно, ее надо было «взбодрить» – довести потенциальность до некоей точки кипения (отсюда барочная приподнятость изложения). Конечно, апгрейдить оптику: добавить «немного Уорхола» и, может быть, Иммендорфа и Нео Рауха… Думаю, они продумали и отсылки философского плана – и к «обществу спектакля», и к «фабулизации мира». Но главное осталось: «манера» как источник нарративности. Один сквозной сюжет идет от универсальности: самодостаточно интересна и суггестивна сама работа «машины визуализации». Второй связан с тотальностью этой манеры. Все, что в ней написано, – не равно себе и считывается как часть децентрализованного универсума, приобщается к цельному фабулизированному миру. Поэтому какой-нибудь обычный «пейзаж с березкой» пронизан неожиданным драйвом. А городская сценка (фрагментированный крупный план – человек, придерживающий за руку другого) заставляет ощутить состояние саспенса.
Творчество А. Каллимы, представителя поколения, выступившего уже в 2000-е, в отношении сюжета демонстрирует некую переходную позицию. Художник заставил говорить о себе монументализированными композициями, в которых присутствовала чеченская тема. Собственно, уже это присутствие предполагало некую нарративность: в политизированном сознании оно играло роль спускового крючка для цепи больших и малых историй. Каллима виртуозно использовал эту потенциальность саморазвивающегося нарратива, хотя собственно в картинах избегал развитого сюжетосложения. Парящие в воздухе парашютистки «довоенной» сборной Чечни, сомнамбулически погруженные в себя чеченские подростки – все это «чревато» рассказом о безмятежном мирном прошлом или проблематичном будущем.
В дальнейшем Каллима перестает эксплуатировать «болевую» фактуру темы. В его монументальных горизонтальных композициях всегда присутствует бравурное действие – растянутые, в утрированных пропорциях фигуры даны в прыжках, столкновениях, противоборстве. И хотя художник форсирует фигуративность и намеренно драматизирует действие («Драка в парке»), изображение теряет конкретику. Предчувствие (или послевкусие) рассказа тает почти бесследно. В конце концов, сам художник говорит о «подспудном желании превратить нарративный облик человека в абстракцию, абстрагировать его до красивого иероглифа, до пятна».
Каллима находит свой способ избавиться от традиционной наррации. Разумеется, он не одинок.
Еще ранее массированную и последовательную попытку создать историю избавления от обязательств рассказывания историй предприняла группа AES+F. Серия «Last Riot» предельно насыщена повествовательными моментами: насилие, страсть, терроризм. Но… изображенные подростки почти дотягиваются друг до друга, оружие почти вонзается в юные тела, враждебные самолеты почти заходят в пике. Но все застывает. (В экранной версии начинается возвратное движение: удар – откат, выпад – возврат, пике – возвращение на курс.) Происходит какой-то праздник незавершения: манифестированным, обозначенным, но не реализованным, остановленным оказывается любое направленное действие: удар, ласка, агрессия. Этот балет взаимонесоприкасающихся тел являет собой метафору неуязвимости: за ним нет хотя бы фиктивной реальности наличного мира, которая должна предшествовать нарративному изложению. Никто никому не должен: сюжет, призванный упорядочивать реальность в качестве управляющей инстанции, исчезает. Оставляя за собой привилегию быть самодостаточной, неуправляемой инстанцией.
Повествовательность в серии В. Цаголова «Блуждающая пуля» носит новостной характер: это какая-то «хроника убойного отдела» – насильственная смерть за рулем, в офисе, в общественных местах. Смерть без человеческой предыстории и «послесловий» (горе близких, расследование и пр.) – голая смерть в современной урбанистической среде. Эта отчужденность от экзистенции интересовала современное искусство от Э. Уорхола до Тарантино. Живописная реализация у Цаголова опосредована массмедийным форматом, в том числе временным: это информация, новости, «ничего личного». В свое время Юнгер писал о снимке как о зоне нечувствительности: «На событие смотрит нечувствительный и неуязвимый глаз. Он фиксирует как пулю в полете, так и человека в тот момент, когда его разрывает граната». Живописный план у Цаголова напоминает проекцию на экран каких-то следственных материалов – отсюда пробелы, «дрожание» как след непостановочной съемки «с руки». Он «нечувствителен и неуязвим». Собственно, эта серия – рассказ о невозможности рассказа о смерти вне экзистенциальной подоплеки. Это фиксация без наррации. В известной серии Д. Мачулиной «Старый Новый» присутствие экзистенциального плана дано как раз с предельной наглядностью: это тщета. Тщетна радость победившей бегуньи (долго ли удержится рекорд?), напрасно ловит горячие новости с телетайпной ленты редактор, преходяще веселье новорусской тусовки, встречающей старый Новый год (название этой картины распространилось на всю серию). Роль атрибута традиционного жанра Veritas (череп, гниющие фрукты и пр.) здесь играет клейкая лента-мухоловка. Ею «повязаны» все персонажи, как бы экспонируемые на стенде бытия. Конечно, Мачулина форсирует считываемость месседжа, отсюда ощущение облегченности, «философствования для бедных». Так что, думаю, у серии есть второй план. Во всяком случае, основательность живописного решения серии, иконографические отсылки, насыщенность (изображенным или потенциальным) действием – вся эта многодельность на это намекает. Рискну предположить: это сюжет об опутанности нашей культуры сюжетами, причем в их инвариантности. О невозможности вырваться из пут (клейкая лента – чем не путы!) сюжетных архетипов.
К сегодняшнему дню интерес к нарративности нарастает.
Появляются произведения аналитического плана. Работа Е. Губановой и И. Говоркова «Случай в метель» ироникодидактична. Ее предмет – «двоякая событийность нарратива» (выражение С. Зенкина). То есть изобразительное повествование о событии и одновременно событие самого повествования, так сказать, внутренний сюжет визуализации. Серия состоит из шести полотен последовательно уменьшающегося формата. Первые три однообразны по живописному заполнению – снег, темень, метель. Художники визуализировали излюбленный прием русской литературы, столько раз в качестве завязки избиравшей метель! Три картины – раскадровка – пошаговое развитие действия: физическое преодоление, усилие, неизвестность. Затем – огонек, освещенное окно одинокой избы. Еще один шаг – приближение: фокусировка на оконном стекле, за которым – тепло, свет, какая-то иная жизнь. Наконец, еще ближе – крупный план – стакан: тоже традиционный русский образ сугрева, гостеприимства и пр.
Вообще, оптическое измерение в некоторых произведениях само берет на себя функции повествователя. Так происходит в драматическом, при всей внешней статике, триптихе С. Файбисовича «Alms giving» («Раздача милостыни»). Совершенная механическая photo-based визуальность и несовершенная телесность – поистине человечный сюжет. Визуальность молодого художника М. Федоровой урбанистична: она зиждется на отражениях, преломлениях света, бликах, вспышках, блицах. Обычно эта среда, так сказать, опредмечена: зеркалами, расстекловкой, витринами, семафорами, покрытием машин и пр. Для Федоровой важна персонажность: одни ее женские персонажи живут в этом «стеклянном доме» естественно, других он доводит до ситуации «женщины в состоянии нервного срыва». Даже когда эта предметная мотивировка отсутствует и художник выстраивает непрозрачную среду, какой-то миражный слой оптичности остается. Так, он играет важную роль в триптихе «Помойка общества потребления»: это своего рода линза, преломляющая солнечные лучи – зажигательное стекло. Недаром на периферии картины что-то горит, и марево окутывает изображение.
Неожиданные метаморфозы сюжетности предлагают пока еще недооцененные художники Е. и И. Кулик. Они работают «отдельно», но в близкой, объективизированной живописной манере. Елена – мастер уличных сцен, стрессовых городских состояний. Игорь склонен к социальности, то ли доводя злободневное до аллегорического, то ли просто реализуя собственные фантазмы: так, у него «космонавты» (военизированная полиция) вступают в схватку с какими-то птеродактилями. Но вот что интересно: отношение к картине как к оптической данности нейтрализуют потребность эмоционального или логического толкования. Сосуществование полицейского и ящера не шокирует, как трансгрессия, и не требует расшифровки, как аллегория или интеллектуальный монтаж. Это – данность единого оптического режима. Он и становится главным сюжетом, задача которого – течь и длиться, меланхолически транслируя картинку.
Инсталляции М. Алексеевой – попытка преодоления режима отчужденности. Художник воссоздает в небольших лайтбоксах разного рода анимированные (сочетание предметных бутафорских реалий и «закольцованного» видеофрагмента) интерьеры. В данном случае – интерьеры купе. Алексеева работает с двумя нарративами. Первый – рассказ о зрителе, о его ситуации смотрения («приникание» к глазку, если он существует, или если лайтбокс просто открыт благодаря снятию фронтальной стенки, – позиционирование себя по отношению к тому, что «внутри»). Вообще говоря, «обособляющее видение» – разного рода выгородки и обособленные пространства – в традиции андеграунда связано с дискурсом дисциплины и контроля. Алексеева пытается «одомашнить», интимизировать прием: отсюда – малый размер, «уютная», кукольная бутафория. Второй нарратив – пассажирский, попутнический. Известное дело: поезд, вагон – самая сюжетоемкая тема. Здесь рассказываются истории, завязываются жизненные интриги, «случаются» отношения (например, этот нарративный потенциал использует М. Кантор в картине, представленной на настоящей выставке). Интимизация, очеловечение «политики зрения» позволяет художнику снять коннотации надзора, контроля, отчуждения: «государственное» здесь заменено на частное, житейское. Но «стекло отчужденности» – купейное окно – остается: в слишком разных режимах – временных, оптических, эмоциональных – существуют пассажиры и зрители. Зрителю предоставляется широкий спектр реакций – от экзистенциальной тоски до житейской грусти («Вагончик тронется, перрон останется…»). Попытки в буквальном смысле «достучаться» до «заэкранной» реальности предпринимает А. Дементьева в видеоинсталляции «Drama House». Технический принцип интерактивности здесь находит прямое и нарративно насыщенное воплощение. «Здесь», по «нашу» сторону, – панель управления. По «ту» сторону, на некоем экране, окна многоквартирного дома – эта воплощенная повествовательность. Зритель нажимает кнопку (аналог дверного звонка) один или несколько раз – в соответствии с числом нажатий он получит доступ в ту или иную квартиру. В каком качестве? Отличная завязка сюжета.
С. Файбисович, Е. и И. Кулик, М. Алексеева, А. Дементьева, Моторнина и А. Барабанов («Диафильм № 1»), впрямую или опосредованно, работают с оптически-экранными средствами («инструменты видения» могут быть любыми – фотообъектив, экран компьютера, видео, анимация, диафильм и пр.). Нарративы А. Насонова я бы назвал постэкранными. Кино присутствует в его творчестве, так сказать, стереоскопично. Некоторые серии («Еще раз о кино», «Мои неснятые фильмы») прямо тематизируют эту связь: текстуально, иконографически-цитатно, визуально (ракурсы, первые планы, вообще раскадровка, но главное – сама живописная реализация, в которой многое намешано: с одной стороны – композиционная определенность, с другой – плывущий, чуть размытый белесым колорит (память о шосткинской кинопленке), но главное – специфическая иллюзорность, в которой читается идущее от детства ощущение световой проекция на кисее экрана. Насонов – младоконцептуалистского происхождения, он имеет опыт деятельности «после искусства», то есть набил руку в тотальной языковой и институциональной (развенчание самой мифологии производства искусства) деконструкции. Кажется, так он и делает. Кинематограф, особенно тот, к которому он прирос, то есть советский, является инстанцией управления: «сквозь него» просматривается некая сумма реального, дабы превратиться в четко организованную смыслои чувствопорождающую художественную структуру. Насонов, сохраняя многообразные, описанные выше, связи с киномиром (речь редко идет о конкретном фильме, во всех его сериях кинореальность присутствует в некоем синтезированном визуализированном, а часто подразумеваемом образе) аннулирует главное: механизм производства иллюзий, символов и смыслов. Прежде всего – посредством разрыва причинноследственных связей, вообще любой осмысленной процессуальности. Даже речевой: вместо диалогов и реплик дан некий опредмеченный визуально акустический мусор: «Апчхи», «Пи-пи-пи»… Так, в работе «Переход» от фильма «Война и мир» остался только плакат с изображением актера Тихонова в роли: все остальное – чужое: современная урбанистика, одинокие фигуры, какое-то дадаистское, без означивающих функций, написанное поверх изображения «Би-би-бип»… Праздник редукции и перекомпоновки? Но, похоже, художник не испытывает радости на развалинах чужого кинонарратива. Отсюда тема одиночества, меланхолия, а значит, завязка нового нарратива.
Видимо, к середине 2010-х тяга к нарративному действительно стала важным фактором современной художественной культуры. По крайней мере, два проекта, специально репрезентирующих этот интерес, принадлежат к числу наиболее серьезных произведений текущего периода. Симптоматично, что эти проекты созданы молодыми художниками М. Сафроновой и Т. Коротковой. Не менее показательно, что установка у обеих носит чуть ли не исследовательский характер.
Обе, решая индивидуальные творческие задачи, похоже, специально фокусируют внимание на природе, возможностях повествования. Более того, обе обеспечивают лабораторную чистоту исследования.
Как уже не раз говорилось, принято считать, что есть наличная реальность – «континуум событий» (в разряд которых попадают не только «действия», но так же и «ситуации», «лица» и «свойства» действий), и «повествователь», формирующий из них «истории» (согласно С. Зенкину). Иными словами, «истории», сюжеты, нарративы – это инстанции структурирующие, контролирующие, дисциплинирующие живую реальность. По сути дела, повествование, пользуясь выражением М. Фуко, является «операцией дисциплины». Чистота эксперимента художников в том, что упомянутый «континуум» уже подвергнут «операции дисциплины», является дисциплинарной институцией. Дело в том, что М. Сафронова в серии «Распорядок дня» предметом своего исследования избирает ситуацию лечебно-исправительного учреждения. Т. Короткова в «Репродукции» – фантастическую лабораторию будущего – стерильный высокотехнологичный мир деторождения. Со времен «Паноптикона» Бентама (архитектурный проект исправительного заведения со всевидящей, всенаблюдающей тюремной башней) тема контролируемого пространства болезненно интересует искусство. В период андеграунда к ней обращались И. Кабаков, Л. Ламм, С. Есаян, разумеется, в контексте советского коллективного опыта. М. Сафронова отсекает советское как лишнюю, отвлекающую историю. В «Распорядке дня» несвобода – данность без идеологических коннотаций. Люди здесь – «просто» больные, «просто» совершившие преступления. Они принимают пищу, гуляют, лечатся, спят – под контролем. Контроль просматривает пространства, прощупывает тела, регламентирует позы. Есть здесь и макет учреждения – своего рода привет Паноптикону. Здесь все ожидаемо, даже взрыв агрессии – жестокая бессмысленная драка. Это большая история о том, как контроль доводит до полного слияния социального с антропологическим. Возможны ли здесь индивидуальные нарративы? Может ли сюжет, сам являясь инстанцией контроля, оторваться от этой своей функции и отпустить на волю пару-тройку личных человеческих историй? А значит, нарушить «распорядок дня»?
В «Репродукции» Коротковой мания контроля задана темой стерильности. Она мотивирована функцией лаборатории. Она – отличный образный ход – закреплена в самой левкасной технике, сегодня уже раритетной в силу особой трудоемкости. Стерильность обеспечена многочисленными степенями отстраненности – защитной одеждой, экранами, обеспечивающими бесконтактное наблюдение, и пр. Контроль стерильности оборачивается безликостью – люди в халатах и бахилах и матери, выбирающие модели деторождения, равно имперсональны. Выживет ли в таких условиях хоть что-то частное, индивидуальное, неприкосновенное?
Мы уверены: выставка «Новые русские рассказчики» своевременна. Современное искусство, с его огромным опытом опосредований, перекодировок, деструкции, похоже, испытывает потребность «рассказывать истории». Поможем ему в этом.
2014Неакадемичные заметки о Новой Академии
Сегодня в отношении художественной общественности к Новой Академии Изящных Искусств образовалась, как мне представляется, некая пауза. Это вполне объяснимо: за десять лет чрезвычайно активной репрезентационной деятельности, связанной с Академией и ее главной фигурой, Тимуром Петровичем Новиковым, исчерпались и агиографический, и иконоборческий ресурсы обращения к этой теме. Позиционирование нового русского классицизма как победителя постмодернистского супостата, выставки в Русском музее и в Эрмитаже, подверстывание как само собой разумеющийся культурный жест имени Т. Новикова к именам масштаба Э. Уорхола – куда же больше? Полное игнорирование Новой Академии в некоторых отечественных искусствоведческих раскладах, то есть в первых попытках писания истории художественной современности, – куда уж горше?
А в пространстве между упомянутыми полюсами многое лежит, в частности, честный хлеб фактографической и публикаторской работы. Тем не менее плотность как возвышающей, так и ниспровергающей «новых академиков» риторики была такова, что в сегодняшнем художественном воздухе витает потребность историко-культурной верификации этого явления. Да, необходима именно верификация, в точном словарном значении этого слова (позднелат. verificatia – доказательство, подтверждение; от лат. verus – истинный и facio – делаю), то есть эмпирическое подтверждение теоретических положений путем «возвращения» к наглядному уровню. Уверен, именно возвращение к описанию и анализу конкретных художественных практик, к проблематике визуальной реализации способно более или менее адекватно определить масштаб происходящего и понять его последствия для современного искусства. Ведь и присутствие «новых академиков» на современной арт-сцене, и категорическое отсутствие их – одинаково показательны. По крайней мере, для сегодняшнего состояния этой сцены.
Между тем подобная историко-культурная объективизация – дело очень непростое. Этот процесс осложнен прежде всего тем, что в нем слишком много намешано «человеческого, слишком человеческого» (Ф. Ницше). Т. П. Новиков был настолько яркой личностью, что многие из его ближнего круга (надо сказать, неоднородного и по хронологии «приближенности», и по масштабу персонажей) воспринимают все «новиковское» как лично биографическое. То есть чаще всего неосознанно, стремятся это «новиковское» апроприировать: создают персональные мифологии, иерархии, системы опознавания по типу «свой/чужой». Думаю, это «слишком человеческое» повлияло и на состав настоящей выставки: я бы расширил его работами некоторых художников, соприкасавшихся с Академией, может, и не так долго, но воспринявших полученный от Тимура импульс и развивших его идеи неожиданно и самостоятельно.
Впрочем, репрезентационные сложности, в основе которых моменты лично-биографического порядка, неизбежны, когда во главе движения лидер, обладавший такой мощью суггестии, какая была у Тимура. Что там говорить, я и сам по сей день испытываю влияние этого «слишком человеческого». Оно заставляет в исторической перспективе воспринимать конкретные биографические факты символически. Вспоминаю 1997 год. У меня лекция о современном русском искусстве в World Trade Center, в одной из башенблизнецов. Среди заготовленных картинок для показа, конечно же как без них, – хрестоматийные работы Т. Новикова. Но оказалось, что художник уже «застолбил» себе место в Нижнем Манхэттене. Основание башни, фризом по всему периметру остекленного вестибюля, в «питерских» текстилях Тимура. Его хорошо знакомая городская иконография, на этот раз предельно монументализированная – разведенные мосты, решетки, крейсер «Аврора» и пр., – мощно работала вовне. Питерская «небесная линия» удивительным образом перенеслась в цитадель мирового урбанизма. Помню, подумал тогда: как это тимуровской эфемерности, дрожащей на ветру знаковости, удается совладать с агрессией окрестной мега-архитектуры? Однако «наша взяла!». А через короткое время художник позвонил. Строго деловой, но какой-то отстраненный по интонации разговор, без обычных сопутствующих пересудов и типичных тимуровских bon mot… Какие-то просьбы по поводу коллекции его работ в Русском музее, что выставить, что куда… В ответ я нелепо бодрым голосом: «Тимур, ты что? Сам потом придешь, разберешься!» – «Да нет, болен, очень болен, уезжаю за рубеж лечиться, очень надолго». Слухи об его состоянии – уже в самолете из Нью-Йорка ему было плохо, – оказалось, ходили по городу, но я сам только прилетел и, что называется, «не врубился»… А он прощался. Собирался за рубеж в бытийном смысле. Однако судьба отпустила ему еще лет пять, и он сумел принять этот дар – А. Хлобыстин нашел точное определение – с достоинством. Ослепший, Т. Новиков провел отпущенное время с максимальной художественной отдачей. И на год, кажется, но пережил Twin Towers. Говори теперь об устойчивости, стабильности картинки мира – «человеческое, слишком человеческое» мешает точно настраивать оптику.
Тем не менее попробуем приступить к определению места Новой Академии в истории современного искусства. Эта процедура требует хотя бы попытки историко-культурного укоренения ее концепции и художественной практики.
С какой ветвью классицизирующей традиции идентифицировал установки своей Академии Тимур? Прямо непосредственно с «эпохой академий», с европейским и петербургским, в частности, классицизмом? С эстетическим движением и его культом Прекрасного[41], господствовавшим в Западном полушарии с 1860-х годов и до позднего символизма? С маньеризмом и, в частности, с «декадентством», маркированным фигурами Оскара Уайльда и Вильгельма фон Гледена, в буквальном смысле иконизированными Т. П. Новиковым? С классицизирующим периодом великих модернистов – Пикассо, Матисса, Дерена? С неоклассикой тоталитарных государств, с так называемой «эпохой монументализма»? С постмодернистскими (в понимании Ч. Дженкса) изводами классического от Pittura Colta до Джефа Кунса, Пьера и Жиля, а то и «стиля Версаче» (именно на этой версии настаивает Э. Люси-Смит, одновременно требуя учитывать «локальные факторы»)?[42] На постмодернистскую природу явления указывает и М. Бессонова[43].
Кстати, о локализации: может, именно от российской аполлинической традиции ведет свои истоки Новая Академия? Диалектика аполлинического и дионисийского начал в русской культуре подробно описана в замечательной книге В. Н. Топорова[44]. Есть масса свидетельств, что «петербургский текст» Т. Новиковым был внимательно изучен и использовался в целях инспирации.
Итак, какую версию классического избрал Тимур в качестве основной для нового русского классицизма? Приходится признать: вопрос укоренения в конкретной традиции вообще не ставился. Культ Классики, Прекрасного, Возвышенного (далее – Культ) в риторике Тимура, не только теоретика, но и талантливейшего пропагандиста и пиарщика движения, был по-постмодернистки мерцающим. Канон представал в самом общем виде, а иногда и вообще амбивалентным. Так Тимур ничтоже сумняшеся обращался к опрощающе-народным, масс-культовым или китчевым версиям классики, нимало не заботясь о базисном принципе ревнителей канона: «Мне не смешно, когда маляр негодный / Мне пачкает мадонну Рафаэля». Если суммировать неоклассицистскую риторику Тимура в единичном высказывании, то оно, на мой взгляд, будет звучать (не без отсылки к известной в свое время книге Роже Гароди) как «классическое без берегов».
Рожденный во многом ситуационно и полемично (в борьбе за место под солнцем с московским постконцептуализмом и шире с contemporary art в понимании наиболее продвинутых на тогдашний момент мейнстримных критиков) и в результате не принявший правил игры совриска ни в его элитарно-коммерческом, ни в эзотерическом изводах, новый русский классицизм пришел к опять же постмодернистскому принципу открытости архива. Деятельность Тимура по выявлению (не говоря уже об идейном окормлении адептов) сочувствующих и попутчиков как в истории, так и в современности я бы сравнил с работой большого промышленного магнита, притягивающего к себе все, имеющее в составе вещества хоть какие-нибудь элементы классического.
А как же быть с чистотой концепта? С риторикой борьбы, разоблачения и отсечения инакомыслия, которой Тимур отводил важное место? Мне кажется, все «бойцовское» в случае Тимура носило характер обязательного, но не очень занимавшего художника ритуала. Агрессивно-наступательное отдавалось на откуп адептам, многие из которых обладали фельетонным даром и, не разделяя тимуровской широты взглядов, заходили в критике «атлантизма» в современной культуре достаточно далеко. Тимур не дезавуировал их (у настоящего движения должны быть свои несгибаемые бойцы-полемисты!), но сам до уровня «звериной теченской борьбы» (выражение П. Филонова) не опускался. Я бы вообще для характеристики его отношений к идейному императиву привел чисто практический и даже женски рассудительный пассаж Анны Карениной: «Но, может быть, это всегда так бывает, что сначала строят свои conceptions из выдуманных, условных фигур, а потом – все combinaisons сделаны, выдуманные фигуры надоели, и начинают придумывать более натуральные, справедливые фигуры»[45].
Странное дело: выше я, вслед за другими критиками, несколько раз употреблял по отношению к явлению «новый русский классицизм» термин «постмодернистский». И я не отказываюсь от него, но в избирательных его значениях: проектность, амбивалентность, мерцание смыслов. Вполне действенен – в отношении как «идеологии», так и собственно художественной реализации – термин «пастиш». Как вне игрового контекста можно рассматривать новиковские сентенции по поводу африканских шаманов, «направлявших» европейский модернизм, или, например, художественную акцию «Сжигание сует», посвященную 500-летию казни Джироламо Савонаролы?
Термин «постмодернизм» поневоле употребляешь с осторожностью: он явно не охватывает всех сущностно важных аспектов теоретической и творческой деятельности Т. Новикова. Прежде всего, аспекта этического.
Если классический канон в понимании Тимура действительно не имел или почти не имел твердо очерченных стилистических «берегов», то иначе обстояло дело с его этической составляющей. Культ Прекрасного, аполлинический культ, по Тимуру, требовал ограждения от Культа Безобразного. И если конкретные персонажи, которые в представлении Тимура исповедовали этот культ, каждый раз «назначались» в соответствии с настроениями и потребностями текущего момента, то в отношении безобразного как такового он был постоянен и бескомпромиссен.
Тимур, скорее всего, не читал книгу Умберто Эко, названную в русском переводе «История уродства» (в оригинале On Ugliness), однако анализируемые в ней работы, безусловно, знал. Эко тщательно отобрал и хронологически выстроил произведения изобразительного искусства, последовательно нащупывающие порог, край. Край чего? Вопрос непраздный. Видимо, искусство старого доброго времени с его традиционными этическими нормами исследовало ситуации «у бездны на краю» в нескольких целях. Здесь и любопытство к прихотливости Божьего промысла, и идея Ада, и почти патолого-анатомический интерес к строению материи как таковой, возможно, подводящий к рамкам, пределам религиозного сознания; и, позднее, эстетика аномалий, отклонений от уже эллинистических идеалов совершенного. Табуборческая активность этого искусства (редукция здесь неизбежна) измерялась, однако, общим вектором отклонения от магистрали, заданной религиозным, а затем и антикизирующим сознанием. Искусство, даже когда оно продвигалось по скользкой территории поэтизации порока, наличие этой главной линии вполне осознавало, правда, позволяя себе маленькие радости гедонистического наслаждения запретным и более серьезные вольности. Но в главном это искусство целиком пронизано мыслью об индульгенции: если это сошествие во ад и живописание этого ада, то наличие рая не подвергается сомнению; если это живописание уродства, то присутствие идеала красоты и нравственности тоже держится в уме; если это наслаждение пороком, то где-то в сознании засело: «Он простит, ибо слаб человек». Искусство модернизма, опять же в достаточно общем, редуцированном представлении, изначально обладало демиургическим комплексом. Оно думало не о подобии Божьем – в широком и в главном смысле, а о некоей соревновательности в созидании, и позитивном, и деструктивном. Табуированные зоны для модернизма сужались предельно. Постмодернизм же, с его стержневой идеей амбивалентности и пародийности, поднял идею табу на смех.
Тимур – современный художник, причастный к практике и идеологии постмодернизма, но он осознавал необходимость определенных табу, так как без них его миссия отводить искусство от края становилась невыполнимой. Вся его деятельность – художественная практика, теоретизирование, кураторство, создание институций – служила борьбе с «цветами зла».
С этической составляющей тесно связана диалектика игрового и пародийного. Игровое начало присутствовало уже в ранних акциях Тимура, например, в его «бюрократической» переписке с активистами Товарищества экспериментального изобразительного искусства по поводу «ноль-объекта»[46]. Для Тимура всегда были характерны вовлеченность и азартность. Они проявлялись и в деятельности созданных им институций: там щедро раздавались посты и звания, а также применялись публичные наказания. Вспоминается знаменитая сцена порки нерадивого академиста В. Мамышева-Монро за плохое усвоение навыков академического рисования. Но игра с ее азартом противопоказана тотальной, сквозной «головной» пародийности постмодернистского проекта. Поэтому в контексте деятельности Т. Новикова мне хотелось бы подчеркнуть именно эту, этически обусловленную установку на игровые практики – антипародийную. Да, Тимур играл, иногда и заигрывался. Но постмодернистский страх перед окончательностью высказывания, перед моралистским стейтментом как таковым ему не был свойственен.
Так, не боится он высказываться и по опасному (в силу риторичности и открытости, своего рода «виктимности», «подставленности» постмодернистскому ироническому модусу) вопросу о назначении искусства. Он употребляет абсолютно запретные для дискурса contemporary с его размытостью целеполагания понятия: «отдых», «сентиментальность», «умиление». Во введении этих понятий ощущается скрытая полемика с Малевичем, с его установкой на высвобождение живописи, первоначально – от статусно прекрасного, возвышенного, духовного, а затем – и от любого проявления человечности, например в коннотациях «теплое», «женственное», «милое». Малевич будет специально подбирать языковые формулы, действующие на оппонентов наиболее раздражающе: «механическое размножение» (пара к «женственной Психее»), «голландская печка еще теплее» (пара к теплой улыбке Венеры и Джоконды) и т. д.
Нуждался ли Т. Новиков в снижении интонации собственной риторики по поводу Культа? Ведь он не мог не знать о вполне развитой в русской культуре традиции остужения слишком горячих голов экзальтированных поклонников античности. Эту традицию заложил А. С. Пушкин с его эпиграмматическим «Ты, соперник Аполлона, Бельведерский Митрофан». А тут и Козьма Прутков подоспел с его «Древним пластическим греком». Недалеко и И. Тургенев: «…у нас на Руси таких людей довольно много. <…> синее небо Италии, южный лимон, душистые пары берегов Бренты не сходят у них с языка. „Эх, Ваня, Ваня“, или: „Эх, Саша, Саша, – с чувством говорят они друг другу, – на юг бы нам, на юг… ведь мы с тобою греки душою, древние греки!“» Знал ли Тимур эту традицию? Конечно, знал, мы с ним говорили на эти темы. Но Тимур необходимость снижения интонации, похоже, не ощущал. Риторика риторикой, а в практике неоакадемизма High and Low не могли существовать раздельно: заявленная норма возвышенно-прекрасного постоянно снижается, точнее, очеловечивается. Подобная антипафосная процедура не только нейтрализует описанную выше традиционную «обреченность» на «остужение», но и вводит этический подтекст: этика утепления Культа.
Здесь пора перейти к собственно художественной реализации – к «верификации» в контексте нашей задачи, к «возвращению» на наглядный уровень. Отмечу только, что Т. Новиков был полностью готов к непростой миссии достаточно радикального поворота возглавляемого им художественного поколения. Он смолоду проявил себя как необходимо авторитарный арт-лидер, культуртрегер: в 1980-е годы он твердой рукой сумел вывести сгруппировавшихся вокруг него своевольных и «отвязанных» «Новых художников» из тисков потерявшей к тому времени актуальность оппозиции «официальное/неофициальное». И ввести их в совершенно другое измерение: в результате искусство «Новых», существовавшее как локальный ленинградско-петербургский феномен, было реально интегрировано в транснациональный художественный процесс. Столь же решительно Новиков действует и на рубеже 1980–1990-х годов. Вполне сомасштабным выдвинутой задаче Тимур оказался и в собственном творчестве. Он стал не просто крупным художником, его художественный язык обрел системность.
Ею отмечены прежде всего коллажные фотографические и текстильные работы Т. Новикова. Старые добрые техники впитывали как губка качества ультрасовременных медиа: пафос контактности, оптическую цепкость, формат вечно длящегося, непрерывного сообщения. Материальный план (рукодельность, фактурность отпечатка сшитой на скорую руку ткани) обрел то качество, которое французский философ и историк искусства Г. Башляр называл «материальной сокровенностью». Композиционное одиночество картинки на бесконечном текстильном поле, ее незабитость визуальным сором способствовали резистентности предлагаемого художником к другим перцептивно-смысловым раздражителями. В результате Тимур достиг потрясающей визуальной стойкости, особенно в сравнении с мелькающей телевизионной картинкой: кораблик, минарет, солнечный диск, елочка – forever.
Итак, визуальный язык Т. Новикова вполне отрефлексирован и структурен. В какой-то степени он пришел к собственному «академизму», если под ним понимать устойчивость, чеканность, предсказуемость, каноничность формы. Однако Тимуру нужен был объединяющий разных в творческом плане художников горизонт. Хотя бы ориентир на пути к этому горизонту. На теоретическом, манифестационном уровне все было довольно просто: Тимур эффективно транслировал некий синтез эстетических и этических требований классического канона, в том числе в формулировках русских аполлинистов (требование «прекрасной ясности» и пр.).
На уровне визуальной реализации найти конвенциональный фактор оказалось сложнее. В идеале таким фактором представлялся академический рисунок. Тимур был неутомим в пропаганде академического рисования, выдвигал даже критерий «техничности» (например, в предисловии к каталогу выставки молодого тогда художника А. Морозова), устраивал своего рода пропедевтические выставки на эту тему. Настойчиво и изобретательно искал «на стороне» союзников, видящих в академическом рисовании не только тренинг, но источник возвышенных переживаний. И находил самых разных – от визионера сюрреалистического плана берлинца Е. Шефа до недооцененной до сих пор «лосховской прерафаэлитки» Т. Федоровой. В его сознании явно жила та «божественная линия», о которой писал Б. Григорьев, вспоминая уроки академического рисовальщика Д. Щербиновского: «Натурщик встал в позу. Щербиновский взял карандаш. Поставил его на верху бумаги, где начиналась шея, и повел линию, повел непрерывно до самой щиколотки. Остановившись на мгновенье, он завернул пятку и обчертил ступню. <…>. Со мной что-то произошло»[47].
Однако – и в этом парадоксальным образом проявились и противоречие новиковской версии неоакадемизма, и ресурс ее развития – высокими навыками академического рисунка в его окружении мало кто обладал. И Тимур, и ближайшие его соратники были отличными рисовальщиками, но – вот незадача! – не академическими.
Тимур самым серьезным образом обдумывал это противоречие. Он, как уже говорилось, настойчиво вербовал в свои ряды художников «со стороны». Но главная ставка могла делаться все же на свои силы. Естественно, он вытягивал все возможное из наличного материала. Таковым был опыт учебного академического рисунка у художников, уже находившихся под обаянием новиковского концепта классического. На долгие годы О. Маслов и В. Кузнецов стали рупором Новой Академии. Казалось, Тимур, как когда-то руководство императорской Академии своим соискателям званий, задавал этой паре некие программы: «пиры», «триумфы», сюжеты из «Сатирикона» и пр. Он «вытягивал» из них давно забытые за ненадобностью навыки профессиональной институтской «школы» и как бы демонстрировал: могут, когда захотят. За этим стояло многое. Нужно было тематизировать это «вытягивание», преодоление забвения. В послеинститутские годы оба художника, как и масса им подобных, в поисках индивидуального стиля стремились всячески дистанцироваться от того, чему их учили. И вот теперь индивидуальная поэтика тандема зиждилась как раз не на технике, навыках «школы», а на отношении к ним. Это была поэтика репрезентационности. Классика «примерялась на себя». В этой многоуровневой примерке, касавшейся и персонажей, и собственно суммы композиционных и колористических приемов, всегда присутствовало и героическое, и смешное. Когда-то В. Стасов разразился мощной тирадой против академизма: «лжетурчанки, лжерыцари, лжеримляне, лжеитальянцы и лжеитальянки, лжерусские, лжебоги и лжелюди». Staged tableaux О. Маслова и В. Кузнецова ничтоже сумняшеся играют с этим «лже» – академической репрезентацией классического и его «примеркой». То есть показывают, что сидит, как влитое, а что жмет. От этого «жмет» – очевидные и намеренные диссонансы: иногда цветовые и композиционные решения дают кричащие сбои, «оптика» картины распадается. Часто это делается намеренно – «лже» выступает в коннотациях игры, а не обмана или подмены. Смеются не над концептом классического, а над собой: не получилось, заигрались. Кроме примерки классического, в поэтике тандема есть и момент опьянения игрой. Аполлиническое соединяется с дионисийским. Дионисийское, по Ницше, имеет, помимо прочих, коннотации похмелья[48]. Впрочем, игра не переходит в пародию: пародия – дело головное, а здесь все-таки эксперимент проводится на себе, азарт включенности, вплоть до «похмелья», сильнее потребности в саморазъедающей иронии.
Принцип «репрезентационности» рисования (то есть показа того, что стоит за «включенностью» в процесс обращения к академическому рисунку и скульптурным штудиям) подхватила молодежь. Уже в ранних монументализированных «аполлонах» В. Беляева-Гинтовта ощущалась его чисто человеческая, личностная потребность в котурнах: неоакадемизм воспринимался им как внеироничный героический жест. А. Морозов смолоду пытался объединить в рамках аполлинического средиземноморскую чувственность и техно, Ю. Страусова в своих скульптурах – техно и психо.
Но все же примеров работы именно с академическим рисованием, как бы оно ни интерпретировалось, явно не хватало для верификации заявленной программы нового русского классицизма.
Тимур вполне осознавал эту проблему: объективный недостаток «рисующих» и нехватку времени на их подготовку. И нашел мощный ответ на этот вызов. Он актуализировал медийность как таковую. Под медийностью я разумею осмысленность, внеинерционность применения любой техники и технологии, в том числе и традиционной. В какой-то степени это понимание техники, технологии и материала перекликается с уже упоминавшейся «материальной сокровенностью» Башляра: обусловленностью образа толщей переживаний материального мира. У Тимура переживается сам материальный план произведения и работа с ним, будь то простейшие рукодельные практики или сложные компьютерные технологии. Они переживаются не механически, а образно, иногда даже экзистенциально.
Тимур, естественно, задал и тон, и уровень этих новых «взаимоотношений» с материалом и техникой. Он – и в этом был концептуальный вызов – пошел дальше «неслыханной простоты» своих «знаково-перспективных» коллажей. Он выступает с «гобеленами» – фотоимиджами-репродукциями хрестоматийных классических произведений, размещенными на простых или вызывающе роскошных тканях в рукодельном, рукотворном обрамлении. Не важно, каковы его «гобелены»: простодушно-домашние или нарочито роскошные, изощренно-мастеровитые. Главное, они настолько «неправильны», внеположны технологизму современной визуальной презентации, что сразу же пробивают наслоения профессиональных приемов описания и считывания смыслов, действуют сквозь них на другом, сердечном, чувствительном, чувственном уровнях. Ибо речь здесь идет о трогательном стремлении гуманизировать, одомашнить Прекрасное, тактильно оградить его именно как частное.
Это новое в контексте неоакадемического проекта понимание медийности Тимур настойчиво вводит в практики своих соратников. Так, он инициирует увлечение целого ряда молодых художников (Д. Егельского, Е. Острова, С. Макарова, А. Медведева и др.) «благородными» фототехниками, в частности – гуммиарабиком. Какова связь данного увлечения с «академизмом»? Разумеется, в обращении к давно уже не востребованным современной фотографией, отошедшим в историю пигментным процессам и способам печати есть своя аура архаизации, «старения». Ей под стать и сюжетный ассортимент (ню, скульптура, архитектурные детали и ведуты), и апелляция к предметному ряду учебных постановок (гипсовым маскам, бюстам, рельефам, капителям), и эффекты графической версии пикториальности (использование растушевки, соуса, акварельных потеков). Но главным связующим элементом мне представляется заимствованный у архаичных способов печати принцип поэтапности (многократная экспозиция и пр.). Акцентированная процессуальность. Никакой смазанности, динамизирующих композиционных срезов, фрагментирования в духе сinйma vйritй. Именно в ощущении торжественной постепенности «проявления» изображения, в очищении от случайных средовых связей и «натуралистических установок», то есть в своего рода феноменологизации, есть отсылка к академическому рисунку. Ведь он не конкретизирован во времени, а значит, идеален.
Тем не менее самым крупным медийным художником в среде «новых академиков» стала О. Тобрелутс, занимающаяся не архаичными, а новейшими технологиями. Впрочем, употребив слово «среда», я был не совсем точен. Тобрелутс с несомненным пиететом относилась к последнему жизненно-творческому проекту Тимура, участвовала во всех акциях Новой Академии, числилась ее профессором. Но она была больше спутником, чем последователем. Пионер анимации и компьютерной графики в Петербурге, Тобрелутсхудожник развивалась настолько самостоятельно, что Тимур понимал, он скорее не рекрутирует Ольгу в ряды союзников, а использует ее работы как инструмент экспансии своей эстетической доктрины. И действительно, крупные произведения Тобрелутс 1990-х годов (серии «Empire Reflections», «Models», «Sacred Figures») воспринимались как захват все новых территорий под флагом антикизации.
Но если отвлечься от пропагандистского эффекта, работающего на движение в целом, поэтика Тобрелутс глубоко индивидуальна. Ее принцип взаимоотношений с Культом, при всех технологических сложностях, почти детски простодушен. В его основе – нескрываемая жажда обладания. Эта жажда находит вполне аутентичную визуальную форму: начиная с серии «Empire reflections» она символически присваивает исторически фиксированные представления о Прекрасном. Это могут быть и сны о форумах императорского Рима, и китчевая красивость провинциальной фотостудии 1960-х, и агрессивная образность современного голливудского жанра пеплос. Качество Прекрасного абсолютно не важно, единственно необходимое – стремление персонифицировать, вочеловечить эту нестерпимую красоту. У Тобрелутс есть несколько способов проведения такой процедуры присвоения, точнее даже – освоения. Самый простой – перенос (учитывая электронный модус медиа, скорее телепортация) «себя» (своих друзей, родственников, современников – безвестных, почти имперсональных или, напротив, гиперзнаменитых идолов рекламы) в ситуации Прекрасного, в своего рода аркадии. Операция «вживления» требует ручного труда, тактильных контактов, преодолевающих умозрительность электронной образности. И художник в рамках дигитальной технологии применяет технику ручной штриховки и растушевки. Вживление требует и ответной, встречной реакции среды – не отторгающей, а податливо заманивающей, привечающей. И компьютерные фоны художника получают специфическую электронную пространственность, обрастая лессировочным свето-воздушным окружением или перспективными загадками-кунштюками. Словом, обретают захватывающую, заманивающую наподобие классических «обманок» или перспективных затей классического академизма, завораживающую картинность. Есть и еще один момент. Слово «аутентичность», которое я применил выше, имеет и другое значение: один из самых сильных факторов, показывающих уровень субъективной удовлетворенности жизнью. Герои Тобрелутс, безусловно, удовлетворены своей укорененностью в Прекрасном в любом его толковании.
Эта естественность и самодостаточность единения с Красотой является основой экспансионистской и пропагандистской эффективности художественной практики Тобрелутс в контексте неоакадемического проекта. Дело в том, что приемы символического присвоения, разработанные Тобрелутс в названных выше сериях, открыты для массовой аудитории. Тобрелутс опирается на мотивации и механизмы массового сознания, которые использовал и даже тематизировал поп-арт, но вносит в процесс коррективы эстетического и символического порядка. Безымянным жертвам консьюмеризма, рядовым потребителям продукции модных домов Армани, Хьюго Босс, Прадо в качестве материализации желаний все также предоставляется вещь. Но не в рамках удовлетворения банального комплекса обладания, а в рамках волшебного изменения всей жизни, одухотворения или героизации ее. Потому что в качестве предмета вожделений предлагается то, что носят боги. Но и земные боги, «повсеградно обэкраненные» (выражение Игоря Северянина) мировые топ-модели, актеры и спортсмены также жаждут обладания тем, что носят боги античные. А они носят совершенные тела, естественность поведения и, главное, бессмертие.
Тобрелутс ничуть не стесняется того, что опирается на мотивировки и механизмы воздействия, характерные для массовой культуры и, в частности, глянца. Отсекать профанное – это гордыня. Работать с профанным – значит служить Культу, внедрять его в массы. По сути дела, она в новой ситуации и новыми, дигитальными средствами претворяет традиционные для русской культуры (вспомним хрестоматийный рассказ Г. Успенского «Выпрямила») привлекательнейшие в своей утопичности, прекраснодушии и наивности идеи доступности и действенности Прекрасного.
Т. Новиков в рукодельных фонах и рамках своих текстильных коллажей стремился одомашнить Прекрасное. О. Тобрелутс, как показывалось выше, не прочь его демократизировать.
Б. Матвеева дает свою версию примирения High and Low, перекликающуюся с гобеленами Т. Новикова. Речь идет о коллаже, изображающем лежащего обнаженного юношуэфеба. Разнофактурные ритмизированные матерчатые фоны (обивочную ткань она использовала еще в раннюю пору), декадентски-жеманная поза юноши – все это из привычного ассортимента Матвеевой, давно уже играющей с эстетикой кэмпа (термин С. Зонтаг[49]). Но вот что необычно для нее: техника визуальной реализации, ставшая образно-содержательным фактором. Вырезанный из материи силуэт юноши пришит к фону крупными ритмизованными стежками. К фигуре точно так же – отчетливыми, как штрихи, стежками – пришиты гениталии. В результате получился простой и эмблематический образ амбивалентности и заменяемости: распустишь стежки, и чресла станут лоном, снова возьмешь иголку в руки – лоно обернется чреслами. Отличная, умная визуальная метафора проблематики гендера! Что ж, в своем использовании рукодельных техник ради одомашнивания, утепления дискурса Б. Матвеева здесь действительно приближается к поздним вещам Т. Новикова.
Он, по крайней мере в текстах, настаивал на простодушии и даже необдуманности многих своих жестов. Правда, как мне представляется, смирение и простодушие у Беллы здесь мнимые, если не пародийные: шутка ли, найти такой ответ на вызов сонма высоколобых авторов, кормящихся бесконечными гендерными исследованиями! Пример Б. Матвеевой, входящей в круг общения Новикова и вполне вовлеченной в деятельность Новой Академии, говорит о том, что союзники Тимура «по жизни» (раз уж столько говорилось о снижении интонации, воспользуюсь этим бытовым выражением) в своих творческих интенциях зачастую отстояли от него весьма далеко. Эстетика кэмпа, по моему разумению, претила базе нового русского классицизма, сколь бы эклектична эта база ни была. Слишком мало классического вещества было в кэмпе даже для сильного магнита, с работой которого мы уже сравнивали «селекционную» деятельность Т. Новикова. Кэмп представляет собой чемодан с тройным дном. В первом отсеке – смесь как минимум трех стилей: позднего академизма, мутирующего в прерафаэлизм, беклинского и штуковского символизма, а также ар-нуво и ар-деко. Во втором – специфическое декадентское гурманство: вкус к плоду горькому или перезрелому, этика имморализма, демонизма, различных девиаций и перверсий. В третьем – норма во всех аспектах: этическом, профессиональном, поведенческом и т. д. Здесь же – ирония (над этой нормой, над непреодолимым желанием ее нарушать, над самой потребностью иронизировать). Живопись Б. Матвеевой, чувственная и одновременно отстраненная, пряная и горькая, построенная на вкусовых сбоях и прорывах, имела и литературных предшественников: гендерные страдания занимали в начале прошлого века В. Розанова, М. Кузьмина, Л. Зиновьеву-Аннибал и многих других. «Пришла Проблема Пола, / Румяная фефела, / И ржет навеселе», – издевался Саша Чёрный. Обнаженными телами и статуями Б. Матвеева оперировала чуть ли не раньше, чем сформулировались постулаты неоакадемического Культа, но все гендерные манипуляции проводились исключительно в интересах насквозь авторизованной и драматизированной поэтики художника. С новым русским классицизмом эта поэтика соприкасается лишь своей ироничной стороной. Тем не менее сбрасывать трехдонный чемоданчик Б. Матвеевой с корабля неоакадемизма нет необходимости – этот корабль был спроектирован с большим запасом плавучести.
Вернемся к проблеме одомашнивания, интимизации Классики. Известно, что в период «Новых художников» Т. Новиков использовал в своих произведениях некачественные репродукции, фотографии и прочий визуальный сор. Все это оказалось вполне органично для, условно говоря, панковского, «дикого» периода. Но и когда «Новые» вошли в период «аккуратности», эта практика не прекратилась. Продолжалась она и в неоакадемический период: разве что к перечисленному ассортименту добавились «художественные» открытки, видовые и репродукционные. Эта практика в контексте творческой судьбы Т. Новикова имеет глубоко содержательный подтекст. Ф. Брэдли, соавтор замечательной книги «Narcissus Reflected», предлагает «исследовать коллаж как по преимуществу нарциссическую практику: интерес к дублям, копиям, отражениям – не что иное, как возможность организации картины вокруг этой отражающей оси»[50]. Исходя из его предложения, применительно к художественной практике неоакадемизма рядом с уже упоминавшимися Аполлоном и Вакхом представляется возможным поставить Нарцисса. Полагаю, проблема нарциссического в искусстве, занимавшая большой круг интересных Тимуру художников (П. Молиньера, Д. Вотерхауса, С. Дали, Р. Магритта, М. Эрнста, Я. Кусаму), была Т. Новиковым отрефлексирована. Создавший много автопортретов и неоднократно позировавший художникам своего круга Тимур явно задумывался о проблематике вглядывания и отражения. (Биографический драматизм не мог не привести его в последние годы жизни к мыслям о внутреннем взоре. Рискну предположить, что эти размышления подвигли Тимура на продолжение художества.) Отождествление себя с оригиналом репродукции считывается в наиболее эстетских фотоколлажах, связанных с образом О. Уайльда. Этот образ необходим Тимуру именно для самоидентификации. Как писал Н. Евреинов в известной книге «Оригинал о портретистах», репродукция или фотоотпечаток предполагает реальное или символическое наличие портретируемого. Где он? Рядом с автором коллажа? Или автор уже вобрал в себя личность оригинала репродукции? Или последний стал альтер эго автора коллажа, а то и поглотил его индивидуальность вовсе? Кстати, в контексте нарциссического можно воспринимать и работу Т. Новикова над рамкой и самой репродукцией: улучшение их вручную, ощупывание, поглаживание – почти телесная контактность, то есть интимизация в телесном плане. Будет преувеличением сказать, что подобный контекст был полностью отрефлексирован всеми художниками Новой Академии, но искушению поработать в нем поддались многие – от Д. Егельского до К. Гончарова.
Работа О. Тобрелутс «Нарцисс» тематизирует ее многолетнюю практику телепортаций своих портретных изображений в компьютерное зазеркалье. У И. Куксенайте на контекст нарциссического работает сама техника – процарапывание по стеклу волей-неволей обретает коннотации женственного и нетерпеливого: простого отражения мало, чтобы добраться до сути, нужно проскрести ногтями амальгаму. Е. Остров «растрирует» свои картины с изображением обнаженных эфебов: в этой демонстрации репродукционности тоска по оригиналу. Даже С. Бугаев (Африка), присутствие которого в Академии эпизодично, отдает дань нарциссическому контексту. В 1991-м появляется его работа без названия. На фоне коллажа из сцен мирной жизни традиционно по-советски бодрый матрос в бескозырке. Казалось бы, сочетание телесно-объемного фотоизображения с плоским коллажным фоном должно дать ощущение плакатной ходульности и создать типичную пародийную отсылку к агитпропу. Но нет, речь идет о другом. Глаза моряка художник покрывает марлевой накладкой. Не повязкой – это можно было бы мотивировать: героическая рана и т. д. Нет, вполне абсурдистская, нефункциональная накладка. Думаю, смысл здесь другой. Мифология рассматривания моряка на фотке в газете, тиражируемая во множестве фильмов, носит нарциссический характер: герой любуется сам собой или предполагает отражение в любящих глазах как жених, первый парень на деревне и пр. Накладка прерывает этот процесс или фильтрует его.
В уже цитированной выше книге Movements in Art since 1945 Э. Люси-Смит писал, что «неоклассицистическое движение было художественным направлением, в котором главный интеллектуальный концепт предшествовал художественной практике». Это не совсем так. Среди художников, считающихся коренными «академиками», многие развивались вне концепта. Вполне самостоятельно. Близость их к движению окказиональна, то есть зиждется не на верности программе, а на дружеских связях и эстетическивкусовых предпочтениях, например, на неудовлетворенности положением дел в современном искусстве. Думаю, именно такой характер носили отношения активных деятелей Новой Академии и Г. Гурьянова, человека и художника абсолютно внесистемного. Тем не менее в представлении широкой аудитории зачастую именно гурьяновские работы маркируют неоакадемическое движение. В чем причина подобной аберрации? На мой взгляд, все просто: полуобнаженные атлеты-куросы, акцентированное рисовальное начало (долгожданно мощный рисунок ассоциируется со «школой») – что это в глазах публики, как не академизм! Однако, если воспользоваться столь близкой художнику морской аналогией, Г. Гурьянов демонстрировал командную форму Новой Академии скорее на берегу. В плаванье же он ходил в одиночестве и своим кораблем управлял сам. Как художник Г. Гурьянов обратил на себя внимание акрилами, синтезирующими архетипы спортивности, целеустремленной активности, физической и социальной бодрости, разработанные А. Родченко, А. Дейнекой, А. Самохваловым, Л. Рифеншталь, Б. Игнатовичем, авторами киноплакатов начала 1930-х годов. Тематическая привязанность понятна, но почему акрил, почему такая форсированная цветность? Видимо, автор разрабатывал собственное понимание медийности как осмысленное, обретающее образный и даже «тематический» модус применения традиционной техники (современную версию постулата старика-академика П. Чистякова «по сюжету и прием»). Сигнальная активность акриловых звучаний как раз и подходила образам бодрости и напористости. Вместе с тем подобные цветовые гаммы «вычищали» исходную визуальность от налета служебности, обусловленной временем (задействованные художником образы-прототипы были ангажированы политическими режимами в полной мере). Словом, Г. Гурьянов придавал прототипам идеальность, микшируя погруженность в конкретное время. Часто, и это сближало Г. Гурьянова с неоакадемистами, он отождествлял себя с героями, наделял их собственным обликом. Но любопытный факт: на зрителя, в том числе и на себя, с картины не смотрел, напротив, прятал глаза, представая в образе киногероя в солнечных очках или капитана, глядящего в перископ. Это свидетельствует, если говорить языком кухонного психоанализа, не об «идеализированной самоидентификации нарциссического толка», а просто о «форме эмоциональной привязанности к другим людям». Скоро у Г. Гурьянова появляется и утверждается как основная новая тема – спортивные единоборства. Меняется гамма – от телесных тональностей до гризайльных, сильнее акцентируется графическое начало. Его рисунок легко принять за «академический», в нем есть слой построенности, умозрительной «лекальности». Но в главном он противоположен штудийности, ибо исключительно органичен. Гурьянов – денди, перфекционист, сосредоточенный на идее выращивания образа. Это касается целеустремленности, маскулинности, рисунка поведения, индивидуальной мифологии. Идея выращивания переносится и на рисование: идеальное рождается не в приближении к канону, а в самопрорастании. В изображении спортсменов такой рисунок дает возможность привнести тему психологической взаимопогруженности состязающихся. Они как бы повторяют друг друга – пусть не зеркально, но физически и психологически. «Как аттический солдат, / В своего врага влюбленный!» (О. Мандельштам). Постепенно возникает и зеркальность композиции: две линии гребцов, поднявших весла, как копья. Они обращены друг к другу, их мир замкнут друг на друге. Более того, их идеально сбалансированный, уравновешенный мир не только отстранен от нас, зрителей, он ускользает, в буквальном смысле уплывает. На этом этапе гурьяновская поэтика самоотверженного и героического отчуждения идеального (как единственная возможность спасти его в наше время) уже далеко отходит от тимуровской идеи одомашнивания Прекрасного.
Какова ситуация с Новой Академией «после Тимура»? Разумеется, существует несколько мнений. Выскажу свое. Выставки, представляющие неоакадемизм, проводятся постоянно. Среди причастных или причисляемых к Академии художников особо мощно проявили себя в 2000-е годы Г. Гурьянов и О. Тобрелутс. Не могу не сказать о двух совершенно различных, но ярко и спорно заявивших о себе художниках следующего поколения. Оба так или иначе проходили выучку в Академии, оба упоминают Тимура в качестве учителя, оба развиваются совершенно самостоятельно. Да никто из коренных «академиков» и не требовал от них присягнуть на верность движению. Им этого, скорее всего, и не нужно. Зато, твердо знаю, тимуровские импульсы прослеживаются и в этатическом эстетизме В. Беляева-Гинтовта, и в кибер-Аркадии А. Морозова. Некоторые художники позиционируют себя как продолжатели дела нового русского классицизма, наверное, они имеют на это право. Мне же Новая Академия представляется явлением историческим, важнейшим в истории нашего искусства 1990-х годов. Это, похоже, последняя в прошлом веке попытка своими руками спасти Красоту. Причем заставив работать на это безнадежное, казалось бы, дело расчеловечивающие искусство механизмы воспроизводства, тиражирования и массового потребления.
2011«Злобствовать на слова…»
Последнее время многие коллеги озаботились проблемами репрезентации. Прямо кипят. Целый номер «Художественной жизни» (73–74) специально посвящен критике репрезентации. Слово это – иностранное. Мне вспоминается монолог Макара Нагульнова из незабвенной шолоховской «Поднятой целины»: «Много у них слов, взятых от нас, но только они концы свои к ним поприделывали. По-нашему, к примеру, „пролетариат“ – и по-ихнему так же, окромя конца, и то же самое слово „революция“ и „коммунизм“. Они в концах какое-то шипенье произносют, вроде злобствуют на эти слова, но куда же от них денешься?» У нас все наоборот. Теперь мы по отношению к чужому слову «репрезентация» издаем какое-то шипенье, вроде злобствуем на него. С чего бы это? Чем репрезентация (имеется в виду система способов публичного показа и бытования современного искусства, о других значениях слова здесь не говорим) провинилась? Ведь еще недавно все готовы были отдать за нормальную, не урезанную идеологией или просто бедностью репрезентацию и институты, посредством которых она реализуется – нормальные музеи, публичные арт-пространства, конкурсы, премии, биеннале и пр.? Да тем провинилась, что стала истеблишментом. Со всеми вытекающими обстоятельствами: масс-медийной поддержкой, коммерциализацией, амбициозным масштабом. Дракон, да и только. Мало того, мощь репрезентации напрямую связывается с совсем неприятными вещами. Молодой куратор А. Паршиков в ХЖ так прямо и режет: «Раздутый скандал вокруг премии Кандинского, музейный проект галереи „Триумф“, небывалая международная популярность группы AES+F, масштабные выставочные проекты в регионах, площадки „Гараж“ и „Красный Октябрь“ – все это мелкие симптомы, общие места довольно серьезной проблемы». Проблема эта – «фашизоидная оптика». Проблема поставлена, видимо, в мировом масштабе – не только Пермь региональная имеется в виду, похоже, просто места не хватило упомянуть венеции-базели-майами и прочие оплоты истеблишмента. Почему масштабное, зрелищное, перфекционистское, психологически и оптически действенное, нашедшее отражение в массмедиа должно быть фашизоидным? По-моему, все это – нормальное осуществление художественного процесса. А ненормальное – так пугать и так пугаться. Более того, навязчивый поиск фашизоидного в современном искусстве сродни поиску шизоидного в оном же. Многие этому предавались. Дело заразительное. Так что попробуем без истерики.
Вообще-то критика господствующей системы репрезентации – дело нужное. И давнее. Салоны и Салон независимых. Академия художеств и передвижники. Все изводы авангарда. Fluxus. Нью-йоркский и венский акционизм. Все были недовольны господствующей системой репрезентации (как они ее понимали). И все расширяли ее границы. Хотя бы чуть-чуть. С одним условием – наличия «за душой» материала, которому было тесно в существующем формате. Но вот что интересно. Бунтари отвоевывали новые пространства репрезентации и боролись за старые. Несмотря на всю буйную риторику (особенно авангардистскую – взорвать музеи и пр.), ценили наработанные веками институции. Например, музеи – опору репрезентации. Даже если создавали под свои идеи (как Татлин, Малевич, Родченко и др.) достаточно крупные или совсем карманные, вроде чемоданчиков Дюшана или Бойса, собственные музеи. Попав в большой статусный музей, гордились тем, что эта неоднократно атакованная институция принимает пришельцев. «Новое было принято и утверждено сторонниками отошедших вглубь истории мастеров. Факт воистину небывалый в конституции и истории музейных советов» (К. Малевич).
Поиск альтернативы системе репрезентации велся из разных побуждений. В раннесоветское время авангардисты вполне идейно занимались жизнестроительством, бытом рабочих и крестьян. Д. Штеренберг даже жаловался Ленину: дескать, агитационный фарфор уходит коллекционерам, а надо бы – на столы пролетариев. Другие и вовсе уходили в производство. (Правда, умный В. Фаворский призывал «забыть игру в инженеров».) А, скажем, советским неофициальным художникам искать альтернативу приходилось во многом из практических соображений: им закрыли путь на нормальные выставки, отсюда пошли квартирные экспозиции и т. д. Побуждения были разные, а результат один. Где теперь этот агитационный фарфор? Где ткани? Даже квартирные выставки 1970-х теперь музеефицируются… Адреса все те же: музеи и другие инструменты репрезентации – аукционы, галереи и пр.
Запомним только: все упомянутые сотрясатели репрезентации обладали неким общим качеством – творческим масштабом. Как с этим обстоит сегодня?
Что предлагают современные непротивленцы и нестяжатели, стремящиеся уклониться от мощной, агрессивной и нахальной, блестящей, переливающейся всеми оттенками экранов, включающей, конечно, фестивализм, но и массу других форматов, волны репрезентации? И кстати, почему уклоняются? Может, накал творческих исканий, как в исторических прецедентах, требует новых масштабов или способов показа? Да нет, то, что предъявляется, в художественном плане пока крайне скудно. Для честного поединка с Драконом торжествующей репрезентации, прямо скажу, недостаточно. Так что речь идет о стратегии уклонения: рытье индивидуальных или групповых укрытий – окопов и щелей альтернативной репрезентации. То бишь о микроколлективах, творческих общежитиях, кружках, потаенных сетевых инфраструктурах. О прямой социальной активности – на уровне малых дел, почти муниципальных. Об утопическом горизонте. Об апелляции к несуществующему. Риторика борьбы, похоже, – единственный способ заявить о себе. Вызвать на бой и затаиться. Да и тут беда – все мало-мальски заметное и перспективное моментально вылезает «из окопов», как только его заметит и позовет на службу вышеупомянутый Дракон. Обидно? Но именно так устроен художественный мир. Обидно и за сложившуюся систему репрезентации – без сильных сотрясателей основ она костенеет в самодовольстве и самодостаточности. Может, пора перестать «злобствовать на слова», пока дело не заладилось? Забыть про репрезентации и институции, пока нечего репрезентировать?
Вспоминается А. Фет: «Если бы немец-сапожник задумал издавать в Петербурге газетку под неприличным названием, я и то отдал бы туда свои стихи. Стихи все очистят». Добавить нечего. Институции (здесь – «газетка», а вообще-то музеи, премии, аукционы и т. д.), в конце концов, приложатся. Где стихи взять?
Post Scriptum – через шесть лет. Увы, диагноз подтверждается. К борьбе подключаются свежие силы – бесспорно, небесталанные критики совсем молодого поколения (А. Новоженова, например).
Всячески приветствуются упоминавшиеся выше стратегии уклонения («отшатывания», как удачно выразился один из упомянутых молодых коллег). Но все же теперь направление главного удара – музей как машина репрезентации. Так, на музейно-институциональной критике специализируется А. Новоженова (она напоминает мне своим задором Роберту Смит, яркого критика «Нью-Йорк таймс», в 1990-е настойчиво – «Карфаген должен пасть!» – атаковывавшую музей С. Гуггенхайма с институциональных позиций).
Музейную институцию окружают с двух сторон. С одной – как неолиберальную, включенную в логику урбанистического потребления структуры музея (А. Новоженова: «Экспозиция как повод; кафе как основное содержание; книжная лавка как важное дополнение; всяческие программы для экстрапосещаемости»). Я же вспоминаю ресторан в нью-йоркском Музее Модерн Арт с нежностью – там я, вполне себе великовозрастный музейщик, впервые вырвавшийся на Запад, искал силы пережить профессиональное поражение – то, что я, после нашей-то тогдашней скудости, не преодоленной в полной мере по сей день, в упор сталкиваюсь с настолько – от хранения и «всяческих программ» до меню – отлаженным институционным механизмом. Боже, как мне хотелось внедрить хоть что-нибудь подобное у нас! Как мы гордились, когда запустили первый постоянный аналог modern and contemporary – музей Людвига в Русском музее: Олденбург, Бойс, Кунц! Какова все-таки разница между поколениями: поди объясни сегодня эту детскую радость. Ну, да хватит бить на жалость. Во всяком случае, с тех пор я люблю обедать в музейных ресторанах. Странное дело – класс ресторана и класс музея парадоксальным образом коррелируются. Таким вот сложным путем выходим ко второму направлению главного удара – классовому. Музей атакуется как институция, на этот раз обслуживающая не городской класс, а властную вертикаль. А последняя, как известно, предпочитает ныне, как встарь, имперскую, националистическую парадигму классовой. Тут опять действуют поколенческие механизмы: у людей моего поколения все это вызывает отторжение на лексическом уровне. Куда податься бедному музею! И все же мне симпатичен этот задор. Может, и получится музейная выставка, выполненная концептуально с пролетарских позиций. Или, на худой конец, с позиций прекаритета. До сих пор, честно сказать, я видел только одну попытку: выставку 2014 года «Disobedient Objects» в Музее Виктории и Альберта. Экспонировалось политическое искусство, сопровождающее массовые выступления Occupy! Более скучной, провальной выставки я в Лондоне не видал за много лет. Но я все равно за то, чтобы дать шанс!
2010Эстраден
Читаю «Устами Буниных». Веру Николаевну и Ивана Алексеевича навещает философ Ф. Степун. Чаепитие. Степун декламирует наизусть Блока. Вера Николаевна записывает в дневник: «Ян: как Блок эстраден».
Боже упаси вмешиваться во взаимоотношения великих. Не о них, взаимоотношениях Бунина и Блока, речь. Тем более, рискну предположить, Бунин здесь мыслит не в категориях литературной борьбы: чего уж там, 1931-й год, все давно отыграно. К тому же понятие «эстрадность» не носило тогда нынешних уничижительных коннотаций. Тогдашней попсой был Игорь Северянин, что не так уж плохо. Иван Алексеевич сам читывал с эстрады. Так что Бунин здесь не обличает, а констатирует. Наличие эстрадности. Как присутствия определенных эстетически-поведенческих установок.
Любой устоявшийся в своеобразности художник вызывает у публики определенные ожидания. Художник реагирует на это по-разному. Может смеяться. Пушкин так и делал:
«Читатель ждет уж рифмы розы; / На, вот, возьми ее скорей!» Может негодовать. К Чехову, сидящему в ресторане с друзьями, подошел господин с бокалом и предложил тост за певца сумеречных настроений. Чехов, как вспоминал Бунин, побледнел и вышел. Тут уже не о рифме речь идет – о содержании. Публика в лице этого господина видит в писателе то, что хочет и может видеть, и бестактно требует оправдания своих ожиданий.
А можно с этими ожиданиями и работать. Это когда искусство особо озабочено проблемой контактности. То есть когда деятель искусства манипулирует ожиданиями. Как бы подготавливает их. Культивирует. Направляет. Это вам не вульгарная работа на публику как таковую. С такой работой и публикой) каждый справится. Это вам не «пипл все схавает», по-нынешнему говоря. Это – тонкая настройка. Большой мастер, если уж он эстраден, публику ранжирует до избранности. Повышает уровень ожиданий до предела. И только на этой высшей планке включает фактор ожидаемости. Сохраняя дистанцию. Более того, чаще всего презрительную. Собственно, такой реакции избранная публика и ожидала. Такой декламации. Такой маски. Мизинца, протянутого так осторожно, что нет надежды оттяпать всю руку. Да что там – просто пожать. Все это – поведенческая стратегия. Но, ясное дело, она не может не влиять и на эстетику. Вполне избирательно влиять: что-то форсировать, что-то прятать. Вот что, думаю, имел в виду Бунин, говоря о Блоке: эстраден. И А. Ахматова, наверное, – то же, с ее «улыбнулся презрительно» и «трагический тенор эпохи».
Где мы, а где Бунин? Тем не менее все это очень даже применимо к современному искусству.
…Бреду по довольно заурядной выставке ARTPARIS + GUESTS в Grand Palace. Хотя немало парижских и приглашенных галерей включают в состав своих художников русские имена, по-моему, сейчас только две делают это концентрированно и целенаправленно – Galery Orel Art и Galery Rabouan Moussion. Так вот, уже на подходе к ним сигнал «эстраден» заглушает все остальное. А, знакомые все лица… А. Молодкин… Его «нефтянка» (объекты, «заправленные» нефтью), кажется, распространилась повсюду. Сам выставлял в Русском музее. С «квадратом Малевича». Здесь – доллар, который такой же кишкой-трубой подпитывается нефтью. Молодкин – художник опытный и далеко не наивный. Это простоватый зритель наверняка подумает: раз нефть, значит – конъюнктура. И раскусит нехитрую формулу: нефть = Малевич = кровь = доллар и чего там еще. Тем более если художник ему подмигнет: нефть-то чеченская. Молодкин в лоб работает с ожиданиями определенной категории зрителей: от магнатов-нефтяников до западных профессоров-леваков. Думаю, это еще не эстрадность, это – ранжирование аудитории. Та, что попроще, что довольствуется приколами, получив свое, «покидает зал». Далее начинается работа уже с «чистой публикой», почти профессиональной, способной считывать аллюзии на arte povera, на советскую, времен холодной войны, ритуальную карикатуру с долларом, вообще на «нефтяные спекуляции» отечественного искусства – от бесчисленных соцреалистических добытчиков «черного золота» до инсталляции Тимура Новикова «Война в заливе», где нефть – квадрат черного полиэтилена – тогда была арабской. В целом – достаточно тонкая вещь, своего рода экспликация возможностей эстрадности. Может быть, даже слишком дидактическая в этом плане… Или вот «Я горжусь» Д. Цветкова (Galery Rabouan Moussion). Бюстгальтеры с чашами в виде маковок с крестами. Прикол здесь тоже нехитрый: маломальски знакомый с российскими реалиями человек все знает о наших судорожных поисках национальной идеи да и о духоподъемной активности РПЦ. Вот вам – национальное, защитительное и поддерживающее – в одной чашке (бюстгальтера). Зритель, безусловно, чего-то подобного от Цветкова и ждет, в его предыдущих текстильных объектах – униформах и образцах вооружений – всегда присутствовал некий общественно-политический стёб. Однако благодаря уникальному чувству материала – «материально-сокровенного», по Г. Башляру, – этот стеб преображается в нечто более серьезное: детское удивление перед стремлением взрослых не понарошку играть в иерархическое и военное. Цветков и в «Я горжусь» не влипает в жанр карикатуры благодаря этой бойсовско-башляровской укорененности в материале: тактильный уровень выдержан безупречно, в результате месседж не растерял эстетический, даже эстетский заряд.
А вот показанный там же объект А. Гинзбурга «Suck» до эстрадности в нашем понимании не дотягивает. У нас-то понимание высокое, а здесь так, попса, Евровидение. Нефтяная тема переводится в вызывающий сексуальный жест. Когда-то мы, подростками, разглядывали выпуски запрещенного в СССР «Плейбоя». Так вот, там была целая серия карикатур на тему секса на бензоколонках, где обыгрывался шланг, – в тех самых коннотациях, что и у Гинзбурга. Так что автор в изобретательности недалеко ушел. Зато прибавилось политической конъюнктуры.
Ну да бог с ним, с ART PARIS’ом. Эстрадность распространилась куда шире. Возьмем самые симпатичные проекты последнего времени. Вот повсюду – от Венецианской биеннале до премии Кандинского – прокатанный «Город Россия» П. Пеперштейна. Здесь много чего понамешано. И типично пеперштейновский рисовальный драйв – смесь галлюциногенного автоматизма и дальневосточного каллиграфического неотрывного письма, и отсылки к огромному архиву русского прогностического проектирования – от хлебниковских рисунков до проектов Дворца Советов, и пародирование государственнической риторики нацпроектов. Аудитория Пеперштейна мгновенно считывает и аллюзии, и источники, и приколы. Сам художник неожиданно для него прагматично дирижирует – «Read my lips». Сугубая эстрадность? Дело к ней не сводится только благодаря отвязанному и самодостаточному рисованию, которое узнаваемо, ожидаемо, но непредсказуемо.
К. Петрову-Водкину принадлежит отличное выражение – «подмигивать предметностями». Можно подмигивать предметностями, но так же – аллюзиями, в том числе политическими, идеями, метафорами, даже авторством. Типа: вы-то меня узнаете, если уж я за что берусь… Я давно знаю Н. Полисского как уникального автора, в объектах которого органично сосуществуют совершенно неудобоваримые вещи. А именно: национальное чувство формы, но не в экспортном варианте, а как версия транснационального arte povera. Отечественная соборность – объединение в работе над объектом деклассированных николо-ленивских сидельцев – как наш ответ западному социальному активизму «малых дел». Кроме того, на объектах Полисского самым откровенным образом лежит отпечаток его поведенческого рисунка: просвещенный рубаха-парень, утонченный Левша, кто там еще. И вот когда такой матерый человечище берется за «большой адронный коллайдер»…
Здесь волей-неволей ожидаешь большой пародийный дивертисмент по поводу русско-западных отношений: аглицкую блоху на подковы подковали, наш ответ Чемберлену и пр. Боже упаси, ничего ура-патриотического, этого и у Лескова не было. Но просто уж больно ожидаемо все… Таким-то солидным, массивным объектом – и ударяем по нарративу, который можно пересказать по телефону…
Эстрадность зиждется на узнаваемом и ожидаемом. Между узнаваниями и ожиданиями нужно какое-то пространство новизны. Когда автор позволяет себе выкинуть коленце. Удивить неожиданным. Тогда что-то остается в сухом остатке. Остается искусству. А нет – все ограничивается манифестацией узнаваемого и ожидаемого, их долгожданной встречи. Да, вот еще – осадок остается. То-то и оно.
2010Формоборчество
Думаю, никто со мной спорить не будет: критики бывают разные, но наиболее слышны у нас критики, так сказать, дирижистского толка (термин «дирижизм» – изначально политэкономический. Сегодня, кажется, он более всего подходит к критической деятельности, предполагающей направляющее вмешательство в современное искусство в категориях доминирующей силы и планируемых результатов). Так вот, последнее время некоторые критики дирижистского склада выражают острое недовольство положением дел в contemporary art. В ситуационном плане это вполне объяснимо. Закрепившиеся в памяти телекартинки с самоорганизующейся протестной общественностью ну никак не компонуются в сознании с архивом арт-активизма по теме «раскачивание улицы». Разве что акция «…в плену у ФСБ»… Ее, пожалуй, можно воспринимать как знак пробуждения традиционной народной политической смеховой культуры, сегодня уже вполне воспрянувшей ото сна.
…Впрочем, и эта акция прошла вне контроля арт-дирижистов, как-то сама по себе… Обидно. А двух-полуторагодичной давности широко пропиаренные выступления старых персонификаторов акционистской «политической воли» А. Тер-Аганьяна и О. Мавромати вообще оказались, вопреки ожиданиям, какими-то малодухоподъемными. Замах был вроде как бытийным, а предмет – каким-то бытовым, чуть ли не жэковским или там таможенным: паспорт не выдали, работы не так вывезли, требованиям не вняли… Как говорится, так и до мышей доакционируем… С таким материалом массы не всколыхнешь… О власти и говорить нечего: как ни напрашивалась некоторая часть арт-сообщества на полноценную репрессию, режим так и не раскачали. Конечно, кое-что было – вялотекущие судебные процессы, нервотрепка, травля прогрессивных кураторов мракобесами, но видеть во всем этом предвестие общественных катаклизмов было бы… неадекватно самонадеянным. Иными словами, не доработало актуальное искусство в плане направляющего вмешательства и доминирования, не смогло не только что оседлать протестные настроения, но даже присоседиться к общественной самоорганизации… Ну да ладно, все это моменты ситуационные, будет еще возможность взять свое[51].
Гораздо глубже ситуационного слоя в недовольстве положением дел в современном искусстве лежат сомнения, так сказать, онтологического и телеологического, а главным образом – институционального свойства. Критике подвергается contemporary art как совокупная практика, как деятельность, коли она… Здесь перечислю: «Не отказывается от формальных поисков. А также и от исповеди страданий, от затравленного злопыхательства, от партизанской борьбы…» (А. Ерофеев). У Кэти Чухров есть свои добавления в запретный список: «Сегодня вопросы формы и остраняющие практики, свойственные модернистской эстетике, как и постмодернистские релятивистские субверсии, приобрели такой же уровень банализации, как салонные школы живописи в период постимпрессионистических прорывов».
Это, несмотря на характер изложения, понятно. У всех критиков-дирижистов форма ассоциируется с чем-то банальным, штучным в смысле овеществляющим художественное сознание, а значит – и коммерциализированным. Общепримиряющим рабочим термином уничижительного по отношению к форме характера становится понятие «дизайн». (При этом забываются надежды критиков-дирижистов былых времен на дизайн как на инструмент жизнестроительства. Ирония истории – эти надежды сопровождались борьбой со станковизмом, в конечном итоге – с той же «формой» как моментом буржуазным. С робким протестом В. Фаворского – «забыть игру в инженеров» – кто тогда считался!) Удержусь от подозрений коллег в банальном конфликте интересов: дескать, если художник сосредоточен на формообразовании, к тому же удовлетворен адекватным экспонированием, критическому дирижизму его «нечем взять». Поэтому от такого художника и отмахиваются: воспроизводи себе свой товар, и вся недолга! Нет, дело здесь глубже. Но все равно художнику обидно. Тем более что критики-дирижисты, по определению, энергичнее и деловитее всяких там расслабленных эстетов-эссеистов. Те знай прислушиваются к себе и к художнику, а тут – конкретные действия: критика институций, разметка территорий, выдача пропусков в зону актуальности. В самом деле, куда податься бедному художнику, коли хочется быть современным, не хуже других, а занятия формой возбраняются? (Заодно – и исповедальность, см. Ерофеева.) Ну ладно, Ерофеев по крайней мере разрешает «демонстрацию комплекса обстоятельств, из-за которых современный художник лишен возможности создавать художественный „текст“». Не буду проводить аналогии с русской поговоркой о плохом актере, которому… словом, мешают, лишают возможности… Спасибо, что хоть что-то демонстрировать разрешается. А вот К. Чухров уже и к погружению в социальные контексты относится с настороженностью: «…опыты когнитивного социального мониторинга, выполняющего исследовательскую и критическую функцию в искусстве, тоже нередко оказывается манерными и самореферентными подражаниями рефлексии». Куда, повторю, податься, если уже и прямая социологизация искусства не катит? В чем оно, будущее, в которое, как известно с кабаковских времен, возьмут не всех? Тем более что на венецианских биеннале и на всяких там арт-базелях, как назло, реактуализируется как раз «форма». Нет, разумеется, там присутствует масса работ документирующего порядка, фиксирующих политические, социальные, экологические и другие свинцовые мерзости текущей жизни. И в работах такого рода часто полемически проводится тема нежелательности формы как таковой и редукции авторства (неудивительно – как правило, все это делается в режиме, если воспользоваться названием давней акции «Коллективных действий», «кормления кучи», а у «кучи» авторство и форма относительны). Но вот там, где осуществляется некая избирательность, конечно, нестерпимо шикарно-буржуазно-эксклюзивная… Хотя бы в музейных коллекциях М. Прадо или Ф. Пино, отбивающих посетителей у основных проектов последнего венецианского биеннале, не говорю уже о непотопляемых галереях Арт-Базеля. Там американский минимализм, там Ф. Стелла, Р. Серра, Д. Флавин, Д. Джадд… Из других поколений – А. Капур, Р. Уайтрид. И это присутствие геометрического проекта, то есть воплощенной «формы» в разных ее ипостасях, становится все более доминирующим. И зрители за это искусство голосуют ногами, причем вполне продвинутые: воспитанные на голом миметизме сюда не пойдут… Конечно, на это доминирование без критического арт-дирижизма можно найти простые ответы. Объявить художников, галерейщиков и музейщиков участниками единой предпринимательской стратегии. Соответственно, подлинное современное искусство следует искать в другом месте. Вот только в каком? К. Чухров, чью по-своему замечательную в своей прямоте книгу (К. Чухров. Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства. СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2011) я здесь цитирую, предлагает искусство развеществить и разэкспозиционировать и, боюсь, развизуализировать: «Современное искусство <…> является по преимуществу визуальным, изобразительным искусством, где произведение – вещь. Неудивительно, что пространство, нацеленное на сакрализацию подобных „вещей“ (музей, галерея), не может допускать в себя практики, в которых автономная функция вещи, да и вообще функция произведения, отсутствовала бы». Хорошо, «не вещь». Пожалуйста, вне экспонирования. Пусть без «функции произведения». Что же это за искусство, «покинувшее свои пределы»? Оказывается, оно существует в виде некоей потенциальности искусства как жизнеисполнения, переигрывания жизни. Здесь автор пытается обособить свое понимание искусства от классически авангардного (я бы добавил – и бойсовского): там жизнь превращается в искусство, в социальную скульптуру. А здесь? «То, что может оказаться искусством, оказывается таковым только потому, что оно постоянно мигрирует по территориям, в которых искусства нет». Что ж, несмотря на путаность доказательств и тем более – примеров (О. Чернышева, А. Жмиевский, Б. Михайлов через запятую), кажется, конечная формула Чухров достаточно ясна: «…вечно искусство как парадоксальный эффект не-искусства, каждый раз выявляемый заново».
(В тексте Чухров заключено не менее парадоксальное самоопровержение: автор сначала последовательно руководит, навязывает, вмешивается в процесс, критикует существующее положение дел, то есть осуществляет дирижистское направляющее вмешательство. И только формулируя выводы, перестает подталкивать, «вести за руку» к новому пониманию искусства: еще бы, речь-то идет о потенциальностях, об эфемерии, страшно сказать, о саморазвитии… И эта пауза и, может быть, даже неуверенность перед окончательным суждением кажутся мне признаком искренности философствования…)
Но вернемся к проблеме местопребывания истинного contemporary art, коль скоро оно признано практикой невещественной (антропологической, исполнительской – «исполняемым бытием» и пр.). Где, в конце концов, в каком режиме и пространстве, оно осуществляется? Сразу отсекаем музей современного искусства как институцию неолиберальную (Чухров отвечает туманно: contemporary есть «миграционный процесс между ним и его (искусства) отсутствием»). А. Ерофеев – не философ, он критик практический. Как ни «прячется в тумане местность», он старается конкретизировать подлинное место contemporary. Он так же – но в другой системе описания – констатирует «механизм убегания искусства от самого себя в область неизвестного, не открытого, не охваченного дефинициями». Но как критик, повторяю, опытный он вынужден подтверждать свою модель примерами: «Так еще совсем недавно Авдей Тер-Аганьян заслужил себе место в истории. И Кулик, и Тимур Новиков, и „Синие носы“ личным подвигом расширили границы „территории искусства“». Значит, contemporary здесь – поверх барьеров, в зоне приращения искусства за счет преодоления границ. Вот тут возникают трудности: ну не может профессионал, сколько-нибудь знакомый с историей акционизма, хотя бы американского и венского, всерьез говорить о том, что «наши», перечисленные выше (возьмем хотя бы акционистов), расширили институциональные границы. Ведь у contemporary, хоть убей, нет локальных границ. Есть национальные культурные стереотипы и местные контексты, это правда. Так вот, «наши» акционисты с точки зрения институциональных границ развернулись полностью на освоенной западным искусством еще в 1950–1960-х годах территории. В этом плане никакого ухода действительно уважаемых художников «за пределы идентифицируемого творческого акта» не было. Мы, как говорится, ценим их за другое. Другое, в состав которого в качестве слагаемого входят и поставленные дыбом «местные» традиционалистские историко-культурные стереотипы, и подрыв разного рода локальных стабильностей, в том числе и институциональных, и т. д. Так что с расширением «территории искусства» – явная натяжка. Как и с примерами «исполняемого бытия» в качестве образцов подлинно современного – у К. Чухров. Думаю, натяжки вполне отрефлексированные. За ними – определенное видение развития искусства. Дело в том, что критика дирижистского толка основана на забегании вперед. Она играет на опережение и согласна на то, что подлинно современное еще не проявлено, не конкретизировано или задано двумя-тремя произвольно выбранными именами – моделями. (А. Ерофеев в небольшой статье об инсталляции П. Белого, которая мною здесь часто цитируется, демонстрирует блестящие прогностически-интерпретационные возможности как раз опережающего характера на достаточно скромном материале.) Дирижизм предполагает осуществление искусства в режиме долженствования. Разумеется, понимание должного у критиков-дирижистов различное. У одного это – езда в незнаемое и «овнутривание» этого незнаемого некоей совокупной артпрактикой антропологического толка. У другого – сосредоточенность на провокации (как правило, с социальными коннотациями) как двигателе художественного процесса. У третьего – поиск нетрадиционных способов репрезентации. И так далее. Общим является – артикулированность семантического и прагматического за счет визуального. Что в конце концов выливается в некую общую «сумму небрежения» формообразованием.
Клячу формы загоним? Не жалко. Потому что форма инертна, материальна и товарна. Потому что самые многосложные, медийно насыщенные инсталляции обладают развитым материальным планом, и этот план тянет «вниз», в музей, в дизайн, или, что практически одно и то же с точки зрения дирижизма, в предпринимательские стратегии. Значит, вектор развития – уход от формы, минимизация потерь, вызванных неизбежным – пока! – отвлечением внимания на вопросы материальной реализации. Правда, уже здесь, на практически-организационном уровне, заложена некая мина. Дело в «личном составе». Отрывно-забегающая установка вполне способна рекрутировать молодых художников. Сама новооткрытая с помощью критиков-дирижистов способность оторваться (в прямом и в переносном смысле), вырваться за рамки (шокировать, провоцировать и пр.) внушает эйфорию. Фигура критика-дирижиста в данном случае сродни фигуре тренера-«антропотехника» в книге П. Слотердайка «Ты должен изменить свою жизнь»: он обладает знанием, помогающим молодым спортсменам «идти на рекорды». Соответственно, развитие современного искусства видится как «цепь преодолений», нарастающих достижений. Но следующий шаг? После «рекорда»? (Выше, дальше, быстрее в плане отрыва от «нормы».) Любой адекватный художник даже в сфере акционизма (где понятие формы редуцировано или, скорее, опосредовано) начинает задумываться о том, с чем он идет в прорыв. Что он несет с собой. Отрыва как такового (нарушения стереотипов ради нарушения или даже отказа от функции произведения просто ради отказа), оказывается, мало. Получается или становиться почетным пенсионером одной акции (таковых у нас немало), или задуматься о категориях авторства, содержательности и временном режиме самореализации художника. В самом деле, многие ли помнили бы Кусаму за ее акции-протесты против Хэмфри, Иммендорфа за изобразительные дацзыбао времен его левацкой юности, Нам Джун Пайка или В. Аккончи за их первые видео антропологического порядка? Нет, в историю современного искусства они вошли главным образом целостными индивидуальными авторскими проектами, которые они вели всю свою жизнь. Если бы месседж художника ограничивался семантическим планом, история искусства, боюсь, представала в виде собрания стейтментов. Нет, художник выражает себя в форме (как ни широко сегодня ее понимание), движется на ощупь, иногда повторяется, пятится назад, меняет вектор движения. Кстати, в неизбежных самоповторах привыкли видеть некий знак коммерциализации. Бывает и так, искусство никогда не брезговало коммерцией, а иногда и использовало коммерческие стратегии, в этом плане претензии левого дискурса на некое обличение с историкокультурной точки зрения выглядит странно. Но в этом физическом производстве, прирастании образов-агентов видится и естественная забота о распространении своего послания, «продавливании» его вовне. При этом материальный план месседжа современного художника включает не только прирастание. Но и сомнение. Задумаемся о том, почему крупные мастера современного искусства, вроде бы давно уже «сделавшие свою игру», так озабочены проблематикой материального плана репрезентации. Не этим ли – критикой репрезентации посредством репрезентации – озабочены в последнее время и И. Кабаков и Г. Рихтер?
Прорывно-инновационно-провокационный стержень – важнейшая часть оснащения машины современного искусства. Если сравнить эту машину с ледоколом, то это – таран, которым крошатся торосы. Но чтобы проводить караваны во льдах, ледоколу нужны и машина, и рубки, и собственно «тело», корпус. Арт-дирижистам видится только таран, им кажется, что, держась за него, именно они и направляют судно. Иллюзия: арт-дирижизм осуществляется ради арт-дирижизма. В этом, конечно, есть свой интерес – драйв некоего штурманства, прокладывания маршрутов, самореализации в этом. Есть и практические моменты: наличие личного состава из молодежи, хоть и большой текучести, для осуществления экспериментов. Пребывание на виду, в фокусе массмедиа, для которой интерес к провокационно-результативной фактуре естественен.
Однако в целом это формоборчество оборачивается большими потерями. Кстати, откуда оно взялось? Термин «формализм» как идеологический инструмент использовался у нас в течение всего прошлого столетия, чаще всего – в качестве жупела в руках официоза (думаю, только в одном случае он имел бы реально-критический смысл: я имею в виду конец 1950-х – начало 1960-х гг., когда целое поколение художников, среди которых были и так называемые леваки Союза художников, и будущие неформалы, открыло для себя полистилизм Пикассо, а затем и других великих модернистов). В дальнейшем само понятие формы стало ассоциироваться у нас или с делами давно минувших дней, или с арт-практикой ретроспективного плана (московские «академии андеграунда», ленинградские метафизики и пр.). Поколение новаторов-шестидесятников пользовалось понятиями «язык», а затем и «текстуальность». Исторически сложилось так, что «мимо» нашего искусства прошло, так сказать, онтологическое отношение к форме в понимании мастеров послевоенных групп Zen-49 и затем Zero: форма без культурных отсылок – непосредственно переживаемая, «дымящаяся», живая. Колорит как кусок цвета, композиция в виде простейших отношений предметностей, динамика как «натуральное» движение (в последнее время западные музейные выставки, репрезентирующие это движение, стали включать работы наших кинетистов, чаще всего Н. Колейчука, но это проблемы не снимает). Думаю, если бы наше искусство прошло через такое опрощение формой, пережило аппетит к форме как таковой, вне историко-культурных «специй», масштаб многих исканий был бы другим.
Итак, попробую суммировать потери, связанные с арт-дирижизмом и его отношения с формой. Один – не самый важный – момент я уже наметил: арт-дирижизму нечем взять, не за что ухватить форму как таковую. Формообразование не поддается дирижированию и переигрыванию. Разве что сдаче в архив. Этот момент более важен: если критики описанного выше плана легко списывают в архив акционистов, переставших «идти на рекорды», то понятно их отношение к художникам, озабоченным материальным планом произведения и кропотливо и «несенсационно» работающим в этом направлении (повторюсь – эта озабоченность может выражаться не только в категориях качества и совершенства, но и, как у Кабакова или Рихтера, – сомнения. Сомнения в возможностях живописной репрезентации). Упреки в самоповторении, инерции, коммерциализации, «застое» неизбежны, особенно если художник «ушел в отрыв» не от барьеров и пределов, а, боже упаси, наоборот, в сторону традиционных показателей профессионального успеха – признания в галерейном и музейном мире. Думаю, эти упреки, высказанные или подразумеваемые, испытали на себе большинство заметных художников среднего поколения «в силе»: от А. Виноградова и В. Дубосарского до АЕСов, от В. Кошлякова до нынешнего А. Осмоловского, от С. Браткова до П. Пеперштейна и т. д.
И еще одно. Мне кажется, склонность к критическому дирижизму существенно обедняет выразительную палитру самих критиков, как правило, людей талантливых.
Вернусь к началу. Неудовлетворенность положением дел в современном искусстве, которое выказывают некоторые мои коллеги, может, и к лучшему. Не все «вмешиваться и направлять», не все сетовать на то, что «настоящих буйных мало». Может, переждать и самим «уйти в отрыв»: тряхнуть стариной и неспешно, с удовольствием погружаться в то, что Г. Башляр называл «материальной сокровенностью» произведения.
2012–2013О бедной картинке замолвите слово…
Я давно уже испытываю сомнения в практической ценности философической линии нашей искусствоведческой мысли. Нет, упаси меня бог сомневаться в значении мыслепорождения как такового, с которым эта линия связана.
Мои подозрения касаются только стороны прозаической – а именно практики применений. Проще говоря, того, что в искусствопонимании нарастает большой зазор между текстом и картинкой. А тут как раз оказия.
А. Фоменко – спасибо ему – перевел и вывесил на портале ART1 фрагменты текста Б. Гройса «Вечное возвращение атлетического тела»[52]. Собственно, благодарность моя касается не столько публикаторских усилий коллеги. Для меня важно то, что большой фрагмент, посвященный А. Дейнеке, был снабжен репродукциями. «Подумаешь, невидаль», – скажет читатель. Ан нет, жанр медитативной искусствоведческой лирики – так я назвал бы эссеистику философического толка – в издательской практике редко или крайне скупо сопровождается изобразительным рядом. Конечно, по бедности. Безусловно, и по характеру текстов – чаще всего они все-таки «про идеи», а не про произведения в их визуальной конкретике. Но – подозреваю – небрежение изобразительным рядом происходит не только поэтому.
Фрагмент «из Гройса с картинками», пусть в экранном, электронном, а не издательском варианте, показался мне удобным поводом для разговора в этом плане. Но сначала – обязательное. Борис Гройс – фигура легендарная. Вот уже лет тридцать он учит аудиторию нашего современного искусства (собственно, к самому созданию которой он, несомненно, причастен) мыслить. Вписывать продукт, произведенный contemporary art в самые широкие контексты. Легитимизировать его отсылками к разнообразнейшим мыслительным практикам и самоновейшим философскими течениям. В конкретные исторические периоды Гройс был главным медиатором между, скажем, московским концептуализмом (само название движения сформулировано Гройсом) и только что отрефлексировавшей свою специфику аудиторией современного искусства. Скажу больше, Гройс во многом научил типологичного современного художника формулировать собственные задачи. Опыт участия в жюри и конкурсах вынуждал меня прочитывать бесконечные стейтменты молодых и не столь молодых соискателей. Так вот, констатирую: язык описания большинства проектов современного искусства в России выдает нескрываемое влияние Гройса. Трудно подыскать пример большей авторизации художественного процесса, по крайней мере, какой-то его составляющей. Короче, переоценить роль философа в нашем современном искусстве невозможно! Все так. Но последнее время я все чаще ловлю себя на том, что мегатексты об искусстве существуют в режиме, автономном от арт-практики. Что я понимаю под мегатекстом? Более высокую системность, чем у «просто текста», ассоциативность и производность (необязательность, взаимозаменяемость) межконцептных переходов, рикошетирующих смыслов, нагнетание ощущения вечно длящейся, ограниченной только лимитами печатного процесса, почти самовоспроизводящейся текстуальности. Так вот, сам формат мегатекста, его резко укрупняющая, но теряющая функции фокусировки, оптика, «не считывает» что-то сущностно важное. То, что буквально требует реактуализации. Ну «нечем взять» ему такие немаловажные моменты, как специфика авторской поэтики, содержательность и индивидуальность самой визуальной реализации, а также многое другое, связанное с конкретикой содержательного и материального планов произведения.
Итак, «про Дейнеку» по Гройсу (привожу композицию из формулировок автора, курсив мой). Уникальность его искусства – в своеобразной интерпретации тела. Телесное у Дейнеки десексуализировано. Лишено функции социальных характеристик. Не связано с возрождением классического идеала совершенного человеческого тела. Репрезентируемое Дейнекой атлетическое тело легко опознается как тело пролетарское, а не аристократическое. Оно явно имеет свое происхождение не в доиндустриальной культуре Древней Греции и Рима, но сформировано квазисимбиотическими отношениями между телом и машиной, характерными для индустриальной эры. Атлетические тела у Дейнеки воплощают собой аллегорию телесного бессмертия. Но это не аристократическое бессмертие дисциплины и традиции, а бессмертие машины – машины, которая может выйти из строя, но не может умереть. Дейнека понимает спорт как мимесис индустриального труда, а атлетическое тело – как мимесис машины. В финале этого миметического процесса само человеческое тело становится машиной, а современный спорт глорифицирует это преобразование. Атлетические тела на картинах Дейнеки заключают в себе идею их грядущего серийного производства при коммунизме путем непрерывного труда и тренировки. Искусство понимается здесь как проект будущей трансисторической, вечной жизни – в лучших традициях русского авангарда и советского социалистического реализма. Спорт осуществляет математизацию человеческого тела. Каждое движение профессионального атлета моделируется математически и затем буквально воспроизводится его телом. В этом смысле тела спортсменов на картинах Дейнеки могут рассматриваться как субститут квадратов и треугольников, знакомых нам по картинам русских авангардистов. Тела спортсменов размещены на поверхности картин и фресок Дейнеки примерно так же, как геометрические фигуры на поверхности картин Малевича.
Важно понять, что это машинизация тела вовсе не была результатом «антигуманистической» установки авангарда, как это часто утверждают его противники. Мечта о телесном бессмертии выступает здесь как субститут традиционной концепции бессмертия духовного. А для его обретения «естественное» человеческое тело должно было стать искусственным, машиноподобным. Бессмертие понято здесь не как увеличение срока индивидуальной жизни, а как взаимозаменяемость отдельных тел, лишенных «внутренней жизни», которая бы «персонализировала» их, сделала незаменимыми и, стало быть, смертными.
Вообще, мегатексты – и этот фрагмент отличный тому пример – «работают по площадям». В самом деле, «накрыто» множество целей. Настолько много, что как-то не хочется подмечать очевидных противоречий. Хотя бы: дейнековское тело «лишено функций социальных характеристик» и вместе с тем «опознается как пролетарское». Как-то не тянет спорить и по существу конкретных положений. Скажем, о несвязанности телесного у Дейнеки с возрождением классического идеала. С чего бы это? Мне представляется, что Дейнека вполне в ряду таких мастеров своего времени, как А. Самохвалов, С. Лебедева, А. Матвеев, М. Манизер, В. Мухина и масса других, ориентировавшихся на античность. Ан нет. То ли дело А. Брекер.
«…В интерпретации Дейнеки атлетическое тело лишено признаков аристократизма, социальной и культурной привилегированности. Национал-социалистическую идеологию интересовали истоки, непрерывность традиции, наследуемость и трансисторическая расовая, генетическая субстанция исторически изменчивых форм цивилизации». Вообще-то пассаж Гройса парадоксальным образом иллюстративен: если Брекер действительно имел в виду наследуемость, расовую субстанцию и пр., то в его обнаженных героях легко увидеть следы, сопутствующие подобному аристократическому селекционному принципу: вырождение. Ломкость, хрупкость, стилизованность, «проступающие» сквозь героическую позу. Но философу «под концепт» нужно было другое. На самом деле и мой ситуационный ход тоже надуман, хотя в чисто визуальном плане, уверен, гораздо ближе оригиналу, чем совсем уж умозрительные коннотации Гройса. Я привожу свою интерпретацию, только чтобы показать: возможности подтягивания к концепту иллюстративного ряда безграничны, если вопрос адекватности не особенно волнует пишущего. На деле А. Брекер, хочется верить, никакой такой трансисторической субстанции в голове не держал: все его творчество – классицизирующее ар-деко, на беду художника востребованное нацистскими бонзами, которым он по слабости или подлости дал себя использовать. Кстати, и аристократизация немецкого искусства нацистских времен тоже момент надуманный: в работах всяких там хильцев и венделей полно кряжистых крестьян и бидермайерских пухлых селянок, в сравнении с которыми монументализированные, но хрупкие обнаженные Брекера – вылитые декадентствующие вырожденцы.
Точно так же занимательно, но малопродуктивно идеологизировать телесное и в нашем искусстве. Что там Дейнека – возьмем какую-нибудь коренастую «Девочку с бабочкой» С. Лебедевой или «Крестьянку» В. Мухиной с ее толстенными ногами и пятками: что это, вожделенный идеологией знак подлинно национально-почвенного? Да на самом деле – обращение к пластическому идеалу архаики. А манерно-академическое с вкраплениями ар-деко бывало и у нас – у Г. Манизера, например. Просто античное воспринималось в разных ипостасях – от архаического до салонно-классицизирующего. Так что на картинке замерять аристократическое и пролетарское трудновато. Умозрительно, концептуально – другое дело. Или взять иной сквозной мотив Гройса, к которому «привязан» Дейнека, – концепцию бессмертия «по-советски». На деле концепций было множество – от богдановской, федоровской (ей в тексте Гройса уделено особое внимание), функционально-идеологической («…умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела»), фантастическо-технократической (какая-нибудь «Голова профессора Доуэля»), опять же фантастически-селекционной («Строгий юноша» А. Роома), до чистой прагматики – попыток сталинской элиты мобилизовать науку на решение проблем личного долголетия вождей (опыты Богомольца, Лепешинской, Казакова и др.). Гройс выбирает из всего этого все того же Федорова, педалируя не традиционный метафизический, а технологический момент. Синтез федоровского, пародоксальным образом технологизированного, и спортивного, опять же математизированного («субститут квадратов и треугольников авангарда»), и есть советская концепция бессмертия. Собственно, дейнековский сюжет нужен автору для поддержки двух позиций, давно его занимающих. Первая – понимание соцреализма как преемника авангарда (слоган «Малевич=Сталин»), то есть частей единого политико-культурного проекта. Вторая (впрочем, кровно связанная с первой) – советская идеология бессмертия, одной из оснований которой является концепция человекомашины.
Повторюсь – к дискуссии этот текст не располагает.
Хотя бы в силу необязательности межконцептных переходов и вообще доказательности конкретных позиций. А нужна ли автору эта доказательность? Другое дело – разрыхление некоей смысловой почвы, внедрение в сознание читателей максимального количества связей. Распутывать их, тем более проверять на прочность… А уж каким-то образом поверять картинку в качестве доказательного материала… Это требует несколько иных навыков: а именно, вживания в визуальный образ. Часто подобное вживание досадным образом тормозит саморазвитие концепта, а то и предательски противоречит ему…
Как мне представляется, картинки (хотя бы те, которые вывесил Фоменко) вообще играют именно подобную, мягко говоря, недружественную по отношению к тексту, роль. Взять хотя бы уже первую дейнековскую репродукцию – «Текстильщицы» 1927 года, хрестоматийную остовскую вещь, изображающую трех молодых работниц. Все – вчерашние деревенские девушки, со всей узнаваемостью повадок, происхождения, прошлой жизни. Особенно центральный персонаж. Робкая, напуганная, едва справляющаяся со всей современной машинерией. Меня всегда удивляло выражение напряжения в ее угловатой фигурке и растерянности – в лице. Это ли тело, «лишенное социальных характеристик»? Наконец, если спортивное тело – мимесис индустриального труда, атлетическое тело – мимесис машины, то тем более тело работницы должно представлять мимесис станочного производства. Но перед нами, если посмотреть на картинку сколько-нибудь внимательно, как раз образ драматического несоответствия личности и социального типажа машинному производству. То есть, попросту говоря, образ того краткого промежутка, когда «деревенская телесность» еще не съедена жерновами индустриализации. Очень все это далеко от человеко-машины, здесь Дейнека Гройсу явно не союзник. Хорошо, но имеет ли вообще право на существование дискурс советской «человеко-машины»? Безусловно, имеет. Он основан на вполне конкретном материале – от «Будетлянских силачей» К. Малевича, «татлинизма» или «машинного искусства» (по определению К. Уманского»), театральных опытов В. Мейерхольда и Е. Вахтангова, оформления Ю. Анненковым спектакля «Бунт машин» в БДТ, и В. Комарденковым – «Разрушителей машин» в Театре Революции, «Электроорганизмов» К. Редько, арт-практики ФЭКСов, деятельности ГАХН, ЦИТ А. Гастева и пр. Были и конкретные произведения, зримо воплощающие эту идею, – хотя бы «Металлурги» В. Чайкова, этот кентавр живого и машинного. Но Дейнека? Каким боком его тела мутируют в сторону машинности? Напротив, с середины 1920-х телесное у художника, преодолевая условность и схематическую построенность (тоже, впрочем, вполне умеренные) эволюционирует в сторону «натурного», обретает кровь и плоть. «Коварный» Фоменко вывешивает «После боя» – вещь абсолютной наблюденности, натурности, даже повествовательности (заметим попутно, что сам художник «приватизировал» для пользы дела известную фотографию Б. Игнатовича «В душе», что тоже мало вяжется с субститутом авангардистских квадратов и треугольников). Работа выполнена во время войны, и Дейнека изображает солдат с той степенью живой телесности, которая как раз стихийно противостоит неизбежной взаимозаменяемости, навязанной машиной войны. Вот уж абсолютное непопадание концепта искусственного продуцирования бессмертия в живое тело искусства!
Впрочем, я абсолютно уверен, что выискивание подобных непопаданий в визуальные реальности нисколько не смутит автора. Это картинка (произведение Дейнеки, а может, любого другого) не попадает в концепт. Тем хуже для нее. Могла бы подлежать реактуализации, а так будет пылиться в архиве художественного сознания. В чем-то Гройс будет прав – традиционное искусствознание страдает грандиозным дефицитом новых подходов, интерпретаций, прочтений. Оно проскальзывает мимо конкретных вещей точно так же, как проскальзывают над ними мегатексты. И все же уступать свой предмет, безропотно дать его апроприировать философскому дискурсу? Тут тоже не все просто. Как уже говорилось, философ «бьет по площадям». И хотя часто не попадает по конкретным целям, взрыхляет мыслительную почву, разрушает окаменелости, обеспечивает полезные в мыслительном потенциале подвижки грунта. Даже несогласие с ним полезно – не ему, в данном случае – нам. В этой своей работе ума Гройс вправе жертвовать конкретикой картинки, вообще художником: в конце концов, он и не обещал какое-то специальное «дейнековедение» или «авангардоведение». Необязательные и даже неудачные мазки в его приоритетах не важны: он вправе создавать умозрительную философическую картину общего порядка. Вправе – но он один, Гройс. Грустно, что необязательность историко-культурных связей и произвольность ассоциаций, неумение или нежелание всматриваться в свой материал, материал искусства, в его внутренние ресурсы, подхватывается множеством искусствоведов и художников. В качестве единственно продвинутой методологии. Я не говорю о пересмотре истории искусств, куда чаще метода мегатекста применяется к описанию каких-то только что проклюнувшихся художников, в стейтментах, сопутствующих выдвижению (или самовыдвижению) на гранты и премии малозначительных проектов.
Вспоминается эпиграмма Ахматовой: «Я научила женщин говорить. / Но, Боже, как их замолчать заставить!»
Анна Андреевна как бы себя ни в чем не упрекает: сама умею – как не учить… А вот во что это вылилось… Думаю, все это относится и к Гройсу. Сам-то он, философ и профессор, мыслит оригинально и глубоко, сделал для нашей культуры неимоверно много. Как не учить… А вылилось это, если иметь в виду тьму адептов, во все то же: «как их замолчать заставить…»
2014Забытые
Разговор о забытых, выпавших из оборота именах вполне уместен в контексте того состояния, которое переживает сегодня проект contemporary art (CA). Это состояние плачевно. Сегодня дискурс СА по числу активно «говорящих», несмотря на свою виртуальную «безразмерность», умещается на одном продавленном диване: это практически выяснение в live journal отношений между ветеранами акционизма по поводу былого молодечества. Сужение дискурса сопровождается его измельчанием – этически-поведенческим, языковым и пр.: достаточно вспомнить истерические посты Тер-Оганьяна по поводу Pussy Riot. Недолго, согласно злому анекдоту, и до мышей до… поститься. Конечно, этот дискурс имеет несколько этажей. На верхнем могут быть вполне умные и достойные, но, как бы это сказать, сомнамбулически автореферентные философские практики гройсовского толка. Есть очень талантливый «левый» сектор, интенции которого, правда, разнонаправлены – от самоценности политической провокативности (А. Ерофеев) до неприятия любых господствующих форм репрезентации (Е. Деготь, Кэти Чухров). Есть и молодое поколение, по видимости продолжающее социально-исследовательские практики раннесоветских леваков (А. Желяев и др.). Правда, трудно не заметить, что их целенаправленная «лабораторность» улавливает пока что самые малые токи заинтересованности западных левых арт-институций (их множество, и всегда есть шанс полезно сблизиться на почве игровой социальности. Фаворский предостерегал когда-то от «игры в инженеров», но про социальную инженерию не говорил, да и кто он такой, Фаворский). Ладно нынешние, но дискурс CA, сегодня истончившийся, как стариковская кожа (шутка сказать, сорок лет ему, не меньше), и в лучшие времена не грешил бережностью к наличному составу. В этом была определенная объективность: он формировался (формировал себя) в условиях мифологии андеграунда. Чужие отсекались изначально, в попутчиках никто не нуждался (не только официозу, но и семидесятникам, ничем не запятнанным, кроме участия в союзовской «молодежности», давали отлуп: Н. Нестерова и отчасти Т. Назаренко стали более-менее своими лет через десять), тут – определенная политическая составляющая – «Натерпелись!». Была и составляющая личностная: дискурс формировали исключительно талантливые, продвинутые, жесткие люди: И. Кабаков, Д. А. Пригов, Тупицыны, Б. Гройс. За ними, а не за своими непосредственными университетскими учителями пошли К. Деготь, А. Ковалев и другие заметные критики следующего поколения. Либеральные критики старшего поколения отпали от дискурса CA сразу же: у них были другие интересы, да и язык другой, да и предмет (кстати, именно они продолжали восстанавливать историческую справедливость по отношению к забытым – взять хотя бы подвижнический труд О. Ройтенберг по открытию художников 1930-х годов). Для нас главное – дискурс CA даже в свой героический период был актуалистским. «В будущее возьмут не всех» – даже среди своих. Чего уж думать о вчерашних и посторонних. Так что борьба шла за актуальность. Мэтры неофициального искусства начиная с 1990-х годов были болезненно озабочены своим положением в дискурсе: не все умели работать с ним. Но я сейчас беру не бывших «неформалов»: там были свои потери – условно говоря, «смысловики», используя административный ресурс соответственно тренированной критики, явно оттеснили за штат художников, старомодно ценивших «поэзис». Иное дело, что сегодня даже И. Кабаков, похоже, нуждается в иной системе описания и понимания, для которых поэзис – не звук пустой. Но это – другая тема. Пока что скажу: «актуалисты», отрефлексированно или нет, рубили концы. Им легче было работать с вымышленными, залегендированными художниками (Комар и Меламид, Кабаков), в уста (руки) которых можно было вложить некую верифицирующую собственную арт-практику информацию, чем выстраивать отношения с реальными фигурами. В этом плане для дискурса СA забытой фигурой был даже великий, но чужой Г. Коржев. Мало-мальский интерес к нему не проявлен со стороны CA по сей день. Итак, нестыковки даже не с гипермасштабными, как Коржев, но просто заметными предшественниками из, условно говоря, традиционалистов носили и концептуальный, и ситуационный (все это рутинное деление на официальное/неофициальное) характер. Если нужна была опора в традиции, выбирались имена великих новаторов, на меньшее, чем Малевич, мало кто соглашался. Особенно из «смысловиков». Но и они воспринимали даже Малевича скорее умозрительно. Без пластически-телесных прикосновений. Вектор актуальности тем более не располагал к тому, чтобы оборачиваться в поисках реальных предшественников. А они были. Причем нельзя сказать, что не на виду. Б. А. Смирнов, учившийся еще в 1920-е годы, обладал всеми возможными званиями и наградами как художник прикладного искусства. Я уже в 1990-е обнаружил его фотоработы военных лет – абсолютно концептуалистские (он снимал войну как означенное пространство: знаки, символы, указатели – на стенах, бортах кораблей, солдатском чайнике). Он же сделал первую инсталляцию на гоголевскую тему: нарочито криво срисовал на листе ватмана – заднике знаменитую агинскую иллюстрацию, на стул положил всяческий визуальный сор – битое стекло, мусор, мухи-мормышки. Плюшкин! Художественные власти относились снисходительно: чудит старик! Дали показать везде, где можно. Никто не клюнул. А ведь случай редчайший – инсталляция 1970-х годов! Поразительным образом соприкасалась с исканиями концептуалистского толка арт-практика ленинградской группы «Одна композиция»: игровой антифункционализм, мимикрия в чужих материалах, буквализация стертых метафор (помнится, М. Копылков сделал рыбу-пилу так: к керамической рыбе, шамотному полотну, формой повторяющему натуральную рыбину, он приделал реальную ручку от пилы-ножовки). Словом, потенциальных союзников и даже родственников было много, но их не искали: актуализму концептуально не нужна укорененность. А вот другой круг забытых. Это уже художники contemporary art и биографически, и творчески. И выставочная судьба у них вполне успешная, но в корпус имен, представляющих российских или russianburn художников, они практически не входят. Почему в большие кураторские репрезентации (да и в коллекции тоже) «не берут», скажем, И. Захарова-Росса? С ним работают европейские музеи, он начинал как неформал, сделал еще в Ленинграде до своего раннего отъезда несколько замечательных акций, кажется, чуть раньше «Коллективных действий». Или вот ушедший уже С. Есаян, интереснейшая фигура, эстет-концептуалист. Как и у Захарова-Росса, у него состоялась выставка в Русском музее. Ну и что? Я могу назвать с десяток таких забытых имен. Тут приходится говорить уже о некоей тенденции. В русле CA были востребованы открыватели новых имен (в этой благородной роли в большей степени проявили себя галеристы – от М. Гельмана до Е. Селиной). Но и утвердился тип куратора – управленца авторитарного толка, заинтересованного в управляемом контингенте. Ладно, генералы. На них никто не посягает: выслуга лет, реальные заслуги, близость к Верховному… Описанному типу куратора чисто поколенчески доступен средний комсостав, старшины и рядовые. Тут уж они властны в выстраивании иерархий. И в этих иерархиях чужим не место. Строить отношения с какими-то далекими и независимыми (то есть имеющими самостоятельный выход на западный арт-истеблишмент) непродуктивно: наличного человеческого материала хватит «под» любой проект. Вообще, возникает удивительный момент: «держатели дискурса» (они же, как я писал когда-то, «терминодержатели») не только забывают самостоятельные фигуры из «неблизких» и как бы не столь известных. Они активно отторгают и имена более чем известные. Для дискурса актуального искусства они становятся забытыми. Я не поклонник М. Шемякина, не об этом речь. Художник многое сделал в плане отрицательной самопрезентации, если брать выстроенную им персональную мифологию и поведенческий рисунок. Он драчлив и с готовностью посягает на священные коровы. Кроме того, он ретроспективист, как писали во времена Серебряного века, художник возврата. Но ведь еще Ю. Тынянов обозначал через дефис: архаист-новатор. И наоборот. Кроме всего прочего, его упрекают в салонности. На фоне действительной стремительной салонизации многих постконцептуалистов-любомудров, «своих в доску» (многие действительно стали резать доску и гнуть металл), это обвинение в адрес чужого пробуксовывает. Так что, думаю, в отказе прописать Шемякина по адресу СА присутствует нечто другое: ключевым словом является все-таки «чужой». А дискурсодержатели здесь парадоксальным образом выполняют охранительные функции. Или вот через поколение – М. Кантор, самый востребованный западными музеями художник своего «выпуска». Он много потрудился, чтобы его у нас «забыли»: возродил недоброй памяти жанр художественного памфлета, грубо прошелся по всем известным личностям арт-сцены. Но хотя бы его политическая графика – редчайшей демократической пробы: глас вопиющего в пустыне, до отказа забитой социальными миражами. Ау-у! Нет ответа, по крайней мере с берега нашего искусства. Забыт. Когда дискурсодержатели берут на себя охранительные функции, дискурс становится общаком. Суммирую. Проблема забытых имеет два измерения. Первое – естественное желание возродить историко-культурную справедливость по отношению к несправедливо забытым именам. Второе – «забывают» чужих, некондиционных по отношению к матрице CA, тем более подвергающих эту матрицу сомнению. Этот путь привел дискурс CA к нынешнему плачевному состоянию: конформизму, воспроизводству первых учеников за счет талантливых прогульщиков, местечковости, диванности и пр. В конце концов, искусство потребует от дискурсодержателей отчета и кадровых изменений: ему-то, искусству, необходимы реактуализация забытых имен и явлений, установление новых связей, в том числе и с тенями забытых предков.
2012Полемическая типология успехов
Понятие «успех» принадлежит внехудожественной реальности – аксиологии (системе оценок, в какой бы форме они ни выступали, – от философских категорий до государственных и рыночных иерархий). Вместе с тем стремление к успеху настолько окрашивает арт-практику (уже в «Портрете» Н. В. Гоголя все об этом сказано), что, без сомнения, дает повод рассматривать себя как важное слагаемое художественного процесса. Разумеется, придумана масса маскирующих существо дела терминов. Например, стремление не к успеху, а к производству ценностей. Но ценность ли твое произведение или нет, а также чье произведение ценностей, решают делегаты определенных социальных, профессиональных или иных групп. От народа, от партии и правительства, от профессионального критического сообщества, даже, как показывают последние события в Питере, – от православных казаков. Так что бедному художнику надо опять же искать успех – кому у кого, а то и у всех скопом. Есть не менее распространенная подмена: служение. Дескать, служу народу, партии, конфессии и т. д. и премного благодарен за эту возможность, никакого успеха мне не надо. На это отвечал Хармс. «Художник. Я художник! Рабочий. А по-моему, ты говно!» Есть еще, конечно, вариант: служу искусству до последней капли крови, до успеха ли мне! Ответ в апокрифе: к Л. Н. Толстому пришел гимназист и на вежливый вопрос – где собираетесь служить, молодой человек? – ответил: буду служить России, все силы положу на ее благо! Толстой будто бы возмутился: я всю жизнь работаю, но до сих пор не смею сказать, что на благо России! Так что и служение искусству требует какого-либо замера успешности, иначе получается смешно.
Есть, правда, симпатичное исключение – outsider artist (этот термин критика Р. Кардинала применяется в США и Европе с небольшими разночтениями. В США, например, он гораздо более эластичен и охватывает значительно больший материал, включающий, кроме искусства традиционных наивистов и автодидактов, фольклорное искусство, искусство различных этнических и даже профессиональных групп, а также детей, тогда как в Европе понятие Outsider Art имеет более социальный оттенок и применяется к искусству людей с нарушенными социальными, психологическими и поведенческими стандартами). Так вот, этот самый outsider artist действительно может не думать об успехе – творчество как процесс носит терапевтический характер или просто приносит ему физическое удовольствие. Но как только его затягивают в профессиональный истеблишмент (а сегодня это происходит быстро, случай Х. Дагера, которого прославили посмертно, единичен), он попадает в пищевую цепочку поиска успеха.
Помню времена, когда само слово «успех» вызывало неприятие. Это когда рухнула советская иерархия имен и ценностей. Оказалось, своего конвенционального понятия «успех» не было подготовлено и в среде андеграунда. Кто успешен? Кто хорошо продается? О ком стали писать на Западе? И как писать – как о художнике или как о диссиденте? Или успешен тот, кого первым выпустили? Кто первым снял пенки с Нью-Йорка? Обо всем этом существует уже своя мифология – мемуарная литература, при всей разношерстности и субъективности парадоксальным образом сближенная по части отрицания успеха как сколько-нибудь объективного фактора.
Тем не менее как раз шестидесятники в своей золотой обойме в поколенческом плане наиболее успешны на мировой арт-сцене. И вполне справедливо, что Кабаковы персонифицируют стабильность этого успеха. Вообще-то расклад на столе успеха известен. Об этом напишут без меня.
Мне интересна другая концепция успеха. Оказалось, давненько живу – помню еще успех советский, всесоюзный, скажем, успех А. Мыльникова, Е. Моисеенко, М. Аникушина, Н. Томского, Е. Вучетича и др. Он был верифицирован всеми возможными званиями, наградами, музейными экспозициями. Он считался всенародным, хотя народу, разумеется, до этого не было дела. Можно ли его считать сфальсифицированным? Признаем: бесталанных людей среди этой группы не было. При этом они были выбраны профессиональной средой, значит, были как минимум крепкими профессионалами. Они были и строителями, и жертвами официоза. Жертвами – потому что в аксиологии советского официального искусства индивидуальность таланта не была среди приоритетов. «Уровень» – да, он был приоритетен. Как и неуклонное соблюдение правил игры. То есть поведенческих ритуалов. Как любой партийный функционер не мог обращаться непосредственно к народу, так и народный художник не мог апеллировать к аудитории (в отличие от кинематографистов, которые все-таки могли иной раз прибегнуть к аргументу «народ меня смотрит»). Он от нее абсолютно не зависел. Как и «секретарский» писатель – от читателей. Единственный, кто озаботился народностью, то есть интересами и вкусами аудитории, был И. Глазунов. Ей, аудитории, было наплевать на профессиональные огрехи и вкусовые провалы, вообще на катастрофическое падение «уровня». Это были их огрехи и их уровень – итээровской интеллигенции, образованщины. Впервые художник заговорил адекватным этой аудитории изобразительным языком. И речевые акты его вызывали живейшее сочувствие: преследования со стороны сильных мира сего, гонения, сначала на него как на национальный талант, затем – на всю русскую историю и на него как ее заступника. В результате добился успеха, народность которого в разы превосходила таковую любого официального художника. (Эта self made популярность довольно долго обременяла отношения Глазунова с официальной арт-элитой. Она не могла простить именно подкоп под конвенциональный профессиональный уровень – основу, пусть и не единственную, их успеха. Презирала она и заигрывание с аудиторией. А потом и с начальством: это было не принято. Не принят был в этой среде и самопиар. Кроме того, раздражала вопиющая некорпоративность: глазуновская манера пробивать свое напрямую – через совдеятелей и их жен, через дипломатический корпус, через прессу (не партийную, конечно, но прессу – а в СССР это было серьезно). Замкнуть на себе обе «советские» версии успеха Глазунову удалось много позже, когда профессиональные требования советского арт-олимпа снизились и даже здесь восторжествовал всесоюзный пофигизм. Но и олимп к тому времени уже вовсю раскачивался…) Понимала ли советская художественная элита лимитированность своего успеха рамками адаптированного к идеологической программе академизма (в разных его изводах, в свою очередь, адаптирующих и редуцирующих наиболее «съедобные», не радикальные, изобразительные языки XX века)? И, не менее важно, границами соцлагеря? Не думаю. Воспитанные в середине века, сделавшие художественно-государственную карьеру мастера мыслили категориями уникальности существующей в стране академической школы и традиции. «Прогнившее буржуазное искусство соперничества с советским не выдержит, поэтому капитал не допускает наших до прямого контакта с народной аудиторией (сытая публика музеев и биеннале не в счет). Лучшее, что было на Западе (хотя и подпорченное формализмом), – Р. Гуттузо, Р. Кент и пр., тяготеет к нам. Честное молодое искусство вытесняется на панель: Г. Коржев написал об этом специальную (и, кстати, отличную! – А. Б.) картину – „Уличный художник“». Так примерно убеждала себя советская арт-элита. Противоречие – соединение идеологии, заявленной как прогрессистская, с традиционализмом и даже консерватизмом работающей на нее художественной системы – разрешалось по-советски: снятием, вытеснением из сознания.
И все же я не могу относиться ко всей теме успеха «посоветски», как к некоему кладбищу неоправдавшихся надежд. Как-никак существовала негласная конвенция жизни в условиях тоталитаризма. Художник совестливый и ищущий, притом и не мысливший идти против течения, обреченный на советский успех благодаря изобразительной силе и заявленной лояльности, мог посылать месседж гораздо более объемный, чем было заявлено тематической программой. Среди таких художников были (собственно, бывали, говорить в полную силу им удавалось не всегда) и самые успешные по-советски мастера. А был художник такой силы, что в его образы просто боялись вчитаться, благо существовала инерция воспринимать все его вещи в ура-патриотическом и национально-духоподъемном ключе… У Г. Коржева, недавно ушедшего, были все мыслимые награды – воплощенный советский успех! Между тем это трагический художник, главная тема которого – если смахнуть внешне-сюжетное – великая жертвенность русского телесного во взаимоотношениях с «идейным» и государственным. Идеологи и соратники по советской карьере просто боялись во все это вдуматься, кураторы и критики нового времени посмотреть на Коржева непредвзято не удосужились. Такие вот ответвления советского сюжета… Ей-богу, я бы его продолжил. Заполнить бы российский павильон в Венеции коржевскими траченными войной телами, разбившимися летунами, слепыми, обманутыми мужиками, бомжами, библейскими персонажами… Отдельно – обильной женской плотью перед рентгеновским экраном, прекрасной, но уже таящей в себе разрушение… Люсиан Фрейд? Гелий Коржев! Если это поражение, то что же тогда успех…
2013Золотой дождь
Думаю, только два национальных павильона 55-й (2013 г.) Венецианской биеннале укладываются в сознании массового зрителя в виде анимационных компьютерных иконок. Это британский павильон Дж. Деррела: Уильям Моррис выбрасывает из Венецианской лагуны яхту Абрамовича. Яхта в руках жовиального бородатого дяденьки, социалиста, раннего экологиста, исповедника культа старых художественных ремесел, так и ходит туда-обратно, набирая разгон. Да и как ее не выбросить: продукт технической цивилизации (а Моррис, как и Рескин, свои старинным способом отпечатанные книги приказывал доставлять в Лондон на лошадях: паровозный дым мог осквернить произведение), вид на венецианские красоты застит, к тому же… владелец… сами понимаете… Второй павильон – российский. Проект Вадима Захарова в этом самом сознании – только ли массовом, руку на сердце положа? – тоже сводится к простенькой анимационной картинке: золотой дождь, монетка за монеткой, сыпется на прозрачные женские зонты. А рядом меняются слоганы-сентенции: пора признать свои (надо думать, мужские) грубость, жадность, нарциссизм, банальность, глупость и пр. Такая вот версия «Данаи».
Итак, яхта Абрамовича и Золотой дождь. Пожалуй, впервые «русский проект» в Венеции проник в массовое зрительское сознание. Проскользнул, как самодельная монетка, в дырку между первым и вторым этажами щусевского здания. Нажимаешь кнопку «Русский павильон» – выскакивает иконка «Золотой дождь». Такие вот дела.
В контексте развития современного искусства эта редукция к символу-иконке функционально оправдана. Можно и модно говорить о коммерциализации, но можно и о демократизации. Аудитория современного искусства расширилась, это волей-неволей держит в уме каждый. В конечном итоге в массовом сознании Бойс (в шляпе) – это что-то из войлока, Херст – акула в формальдегиде, Кунс – огромный щенок в цветах. Правда, за всем этим стоит некая процессуальность – редуцированный до знака результат отбора наиболее важного, базисного, казового в артпрактике художника. Вне совокупного творческого пути художника шляпа и штука войлока не говорят ни о чем. Или говорят о чем-то своем: скажем, могли бы служить графическим логотипом на визитной карточке коммивояжера.
Что стоит за сводимостью проекта В. Захарова к уже упомянутой иконке? Захаров принадлежит к младшему поколению московских концептуалистов. И как Беня Крик слыл грубияном среди биндюжников, Вадим Захаров среди этих, прямо скажем, ускользающих от прямого высказывания, заманивающих в лабиринт смыслопорождений, кажущих фигу из-под полы опосредований художников-любомудров слыл самым эзотеричным. Не думаю, что можно было подыскать что-либо подходящее, чтобы вынести в качестве символа-иконки, репрезентирующей его творческий путь в целом. Разве что знак ризомы как таковой. Это я к тому, что нынешняя (вполне возможно, привидевшаяся только мне) иконка никак не является обобщением всей творческой практики Захарова… Это что-то другое.
Оставим в стороне некие технические зачеты, безупречно выполненные Захаровым. Так, пожалуй, впервые за последние годы сложное пространство русского павильона выглядело цельным: дырой в потолке и несложной, hand-made, кинетикой – падением «золотых» – медяков, художник задействовал оба этажа. Второй технический зачет – экономная чистота реализации. Все скромно-стильно – даже вздернутая под крышу живая человеческая фигура (привет М. Каттелану, любящему поднимать свои объекты под самые стропила). Третий зачет – умная и ненавязчивая апроприация в общем-то почти не дающегося в руки нашим художникам приема – аттракционности. Теперь пора задаться почти неприличным вопросом. А. Данто в сложных случаях обычно формулировал его как aboutness. То есть содержательность, редуцированная до лобового – о чем все это? В самом деле, о чем? Может, о старом добром искусстве про искусство: современный художник может овнешнить (М. Бахтин), опредметить любую классическую иконографию, не говоря уже о том, чтобы буквализировать любой троп (иносказание, аллегорию и пр.). Да нет, эти ходы стократно отработаны и едва ли могут служить предметом специального интереса такого значительного мастера, как Захаров (это все тот же зачет, как обязательные упражнения в художественной гимнастике. Хотя автор и не преминул дать экспликацию реальных и возможных иконографических отсылок). Может, смысл в деталях? Действительно, здесь есть находки – тот же живой персонаж верхом на стропилах. Пожалуй, это единственный сюжет, допускающий толкования, пусть и направленные по одному вектору. Всадник в старом, римском смысле – хозяин социума. Мачо – в современном гламурном. Смотрящий – в российском блатном и политическом. Седок, верховой, – есть здесь и сексуальные коннотации – и во фрейдистском, и в древнеиндийском изводах. Но все это – в рамках простой констатации мужского превосходства. А дальше – еще проще – квазизолотой дождь, мешки с деньгами, женщины, заслоняющиеся от золотого дождя прозрачными пластиковыми зонтами. Всем сестрам по серьгам. Широкому левому антипотребительскому фронту: «Нет капиталу!», низведшему женщину до статуса предмета потребления, заодно звонкое «нет!» золотому тельцу, тянущемуся к искусству. Вторая серьга, вестимо, – women's lib.
Нет мачизму, мейл-шовинизму, сексизму. Ну и, наверное, мысль, навеянная пластиковыми зонтами: предохраняйтесь! Против всего упомянутого выше и против проплаченного искусства, которое норовит проскользнуть сами знаете куда. Как-то жидковато это все для aboutness. То есть простой констатации наличия мужского превосходства, пусть и «…непременно с разоблачением», маловато для сложной инсталляции с элементами перформанса и кинетики, если иметь в виду – «про что».
Меня не удивляет, что большинство моих коллег как-то не задаются этим простым вопросом. Неприлично. Есть некое пред-знание: концептуализм и трюизм (не работа с трюизмом, а трюизм как результат) несовместны, ветеран концептуализма не может не фонтанировать новыми смыслами. Так что дело в реципиенте, то есть во мне, – не догоняешь, не ухватываешь. Есть второе объяснение. В свое время у московского концептуализма (естественно, с «продленным днем», нью-йоркским или там кельнским) многое строилось на стратегии отчуждения. В частности, отчуждения от языка описания: с языком работают, «говорит» не художник, а персонаж (имелся в виду язык, в широком смысле, советского). Может быть, эта стратегия развивается Захаровым в новых условиях: художник работает с языком продвинутого транснационального информационного общества, со всеми его предпочтениями, страхами и коллективными ожиданиями как с конвенциональностью. Но сам себя со всем этим не идентифицирует. Более того, этот в широком смысле язык «приличного общества» художника совсем не устраивает. В этом смысле за чистотой реализации, о которой говорилось в начале, стоит холодок отстраненности и отчужденности. Может, подспудное содержание проекта – это «Нате!», если не «Пощечина общественному вкусу!»? Это мое допущение мне самому кажется, как говаривал Г. Державин, далековатым. Хотя бы потому, что Захаров жертвует стерильностью приема, показывая себя прежнего и, как мне кажется, более любимого: «Родник „Ах! Синоним греха“» на первом этаже и «Стул для наказания любовью» на втором. Это типично захаровский маньеризм – эвфуизм, загадочным образом повенчанный с реди-мейдом. Такие добавки размывают предполагаемую (впрочем, не очень настойчиво) идеологию проекта как критически направленную. Впрочем, в любом случае старозахаровские объекты-вставки по отношению к основному проекту смотрелись – воспользуюсь ресторанным понятием – как sides. Что же – main course? Мне представляется, венецианский проект позволяет говорить об общей проблеме, стоящей перед былым московским, давно уже транснациональным концептуализмом. Долгое время он пользовался привилегией не задумываться особенно о референтности: была Нома, то есть подготовленная, сочувствующая до соавторства, аудитория. И была сопротивляющаяся среда – ее можно назвать языком, обществом, идеологией, советским текстом, атмосферой, коллективным бессознательным, коллективной идентичностью, чем угодно. Хоть – вослед Чернышевскому – действительностью. В отношениях с этой средой, собственно, и реализовывалась самоидентификация концептуалиста. Принято акцентировать идеологически-текстуальную составляющую этой среды. Но по мере изживания советского все более очевидным становится ее материальная, физическая, перцептивно ощутимая составляющая.
От лингво-жанризма Кабакова до оптико-топологически-психоделических штудий Монастырского – все, при очевидном разнообразии установок, при индивидуальных режимах позиционирования, все каким-то образом выясняло свои отношения с действительностью. Значит, репрезентировало ее. В кабаковском «Пейзаже с горами» замечательным образом показана невозможность герметизма: добрались до горных (горних) высот и уперлись в развешенное на бельевой веревке исподнее.
На каком-то этапе 1990-х растворились и действительность, и референция. Нормальное западное существование не требовало от прежних наших выяснения отношений (левый, нонконформист, гедонист, пофигист и пр. – какая, к черту, разница). Хочешь – бодайся, хочешь – музейный (не из самых престижных) пенсион. «Взрослый мир» не нуждался в прежнем языке описания, апперцепции, режим неспешного уютного позиционирования с прежним родным социальным запахом был в новой ситуации никому не интересен. А ведь Номе и сочувствующим изначально была жгуче интересна персонажность: в чьем обличье явится репрезентатор. В образе «Украшателя Малыгина» или «Шутника Горохова»… Оказалось – для «взрослого мира» – не важно: смешно подделывать документы там, где их никто не спрашивает. Мне думается, И. и Э. Кабаковы с их потрясающей чуткостью к экзистенциальной повестке дня, пожалуй, органичнее всех пережили «смену вех». Они сохранили внешний привычный рисунок персонажности. Но зато – и неожиданно для многих – включили ресурс проживаемости. Очень личностный ресурс. Мучительная невозможность объективизации «героя» была ими отрефлексирована как биографическая и даже культурно-антропологическая данность. Мощное приращение экзистенциального не мог не почувствовать «самый разный» зритель.
Для многих концептуалистов потеря сопротивляемости среды стала фактором уязвимости. Она привела к воспроизводству ходов, идущих от времен, когда деревья (то есть составляющие советского текста) «были большими». Часть концептуалистов парадоксальным образом стала «художниками возврата» (А. Бенуа). Другие уходят в индивидуалистскую, почти автореферентную мифологию, интересную как раз великолепным презрением к поискам сколько-нибудь адекватной интерпретации (примеры такой стратегии не раз демонстрировал тот же В. Захаров). На языке П. де Мана это звучит примерно так: риторичность текста постулирует необходимость собственного неправильного прочтения. Другие ищут «новой контактности». Допуская на этом пути обескураживающе уязвимые действия. Только этим отчаянным стремлением зацепиться за новую реальность и нового зрителя я объясняю себе абсолютно оформительское, сувенирное, никак не адекватное контенту – собственным классическим и абсолютно живым вещам двадцатилетней давности – решение предметных реалий проекта А. Монастырского на прошлом, 54-м биеннале: что-то вроде деревянных новоделов советских тюремных нар и венецианских свай. В решении нынешнего российского проекта никакой отчаянности нет. Захаров (о роли куратора Удо Киттельмана я судить не могу) последовательно отрефлексировал ожидания аудитории. В его представлении эти ожидания типологичны: аттрактивность, возможность без ущерба для самооценки считывать метафоры и аллегории, режим включенности.
И – верно, чтобы дать понять зрителю (да и себе напомнить), что роль художника несводима к удовлетворению чьих-то там ожиданий, – Захаров включает в проект пару своих привычно эзотеричных вещей: посторонним вход воспрещен. Думаю, что-то он недорассчитал. Установка на ожидаемость дала сбой. Эзотеричные вещи в свете общего для проекта вектора на редукцию прямо-таки напрашивались на спонтанную угадайку. А общедоступная до трюизма риторичность проекта в целом вселяла недоверие: нет ли здесь подвоха, не дурит ли нас, согласно упомянутому выше П. де Ману, автор. Победила же компьютерная иконка с анимацией. Впрочем, раз уж к ней все свелось, по aboutness не плачут.
2014Манифеста
Прежде всего – снимаю шляпу перед М. Б. Пиотровским, отделом Димы Озеркова и вообще эрмитажным коллективом: реализован грандиозный проект, исключительно важный именно в современных условиях. Разумеется, поклон Касперу Кенигу и его кураторской команде: за ними – контент Манифесты 10, что уж тут говорить. Но еще раз подчеркну: главные риски (те, кто в теме, меня прекрасно понимают) – за Эрмитажем. Благодаря этому событию художественный Петербург показал свой масштаб и свое достоинство. Не все же слыть городом наступающего на искусство обскурантизма, исправно поставляющим вести о перформансах ряженых казаков, акциях, требующих фигового листа на каждое музейное тело, обиженных домохозяек и медийных жестах упоенного своим статусом натурала депутата-гееборца. Нет, я вовсе не считаю, что маргиналы куда-то растворились. Они скорее затаились в щели, как герой инсталляции Хуана Муньеса в Главном штабе. Но главное, я увидел массу молодых лиц, прежде всего волонтеров. Это для меня важнее даже присутствия верхушки профессиональной арт-элиты. Честно говоря, мне, как и многим коллегам моего поколения, приходила в голову мысль: тридцать лет работы над укоренением современного искусства в городе, и снова оглядываться и оправдываться? Может, зря все это, ну нет серьезного общественного заказа на contemporary. Вот эти молодые люди с оранжевыми сумками для каталогов через плечо обнадеживают больше всего – есть интерес, все – не зря. Это мое вступление – не оммажный жест. Еще раз подчеркну: Эрмитаж, поддержанный руководством городской культуры, проявив некую спокойную волю, не поддавшись страхам текущей конъюнктуры, подтвердил общественный заказ на современное искусство. Выявил существование большой (в отличие от привычной нам тусовки) аудитории, для которой это искусство небезразлично. Встряхнул автоматизм нашей профессиональной жизни, инспирировав большую и разветвленную Параллельную программу.
Теперь – о Манифесте как таковом, о том, за что отвечают, собственно, Каспер Кениг и приглашенные им кураторы. Типология подобной выставки предполагает два момента, обеспечивающих ее содержательность. Первый – выраженность концепции и ее соотнесенность с вызовами времени, то есть актуальность (под вызовами понимается социальная фактура, хотя в принципе таким вызовом может быть и резкий поворот в самом искусстве). Второй – выбор имен, его осмысленность и соотнесенность с концепцией.
Начну со второго. Интереснее всего, конечно, вещи, созданные специально «под Эрмитаж». Думаю, главная здесь удача – инсталляция Томаса Хиршхорна «Срез». Я никогда не был особым почитателем Хиршхорна – он всегда казался мне первым и любимым учеником в школе той усредненно-левой конъюнктуры современного искусства, которая взращена еврокураторами и поощрена еврочиновниками. Помню его «Памятник Батаю» на одной из Document – ведущий истоки от разнообразных конструктивистских «культурных очагов» и изб-читален в плане содержательной типологии, но антиконструктивистский по сумбурной слепленности из трэша. В этом монументе-очаге на окраине Касселя предполагалась учеба пролетариата «по Батаю». В результате местные гастарбайтеры смотрели там по дармовым телевизорам футбол. Думаю, это вполне устраивало автора: все-таки – «искусство в массы». Мне всегда казалось, что конъюнктура у Хиршхорна носит многомерный характер: он как бы удовлетворяет запрос на левизну (в данном случае – адаптацию философствования для масс, то есть типичная евросоюзовская практика вовлеченности посредством «малых дел») и иронизирует над этим запросом: мы-то с вами понимаем, откуда ноги растут («Как танцевать Грамши»). На этот раз, полагаю, Хиршхорн выставил свою лучшую, серьезнейшую, без конъюнктурного подмигивания, работу. Развалина некоей пятиэтажки (не важно – вообще типового коммунального жилья). За этим «типовым» – идущее от авангарда (нашего конструктивизма и Баухауса, проектов Миса и Корбюзье) и вплоть до хрущевок стремление к унификации, к пространственным ячейкам, достаточным для жизнеобеспечения единицы социума. Пролетариатолюбие, идущее от благородных жизнестроительных идей авангарда и выродившееся в тотальную унификацию хрущевок, – вот что стоит за этими развалинами. Но благородство помыслов засчитано – ибо в оставшейся неразрушенной части-башне развешаны оригиналы произведений русского авангарда. Это важно – именно оригиналы, из Русского музея. Они здесь не в качестве искусства, тем более – «искусства в массы», – потому как еле видны. Они здесь в качестве тотемов. Итак, проект оказался несостоятельным и как-то сам собой рухнул. Тотемы, естественно, не умирают, пока есть поклоняющиеся. Но и руины, следы ошибок и тотальных просчетов, тоже музеефицированы. Музеефицированию подлежит все, И. Кабаков был не прав, когда писал: «В будущее возьмут не всех». Все и вся возьмут, и этот шлак распада. Музей как укрытие для всего – запомним этот вывод, он еще пригодится.
Вторым важным моментом, подтверждающим статус этого биеннале как явления, оперирующего все-таки свежим, незасвеченным материалом, является показ серии Бориса Михайлова «Театр войны». Эта серия вроде бы на острие новостной политической конъюнктуры: события Майдана, ничего более. Однако ничего более неконъюнктурного я давно не видел. Большие цветные фотографии погружены в реалии майдановского быта – в них нескрываем документальный план. Есть и событийная острота – художник вовсе не отворачивается от действия: когда ситуация требует, снимает и его. Есть здесь план аллюзий на хоровые русские картины типа «Запорожцев», в то же время и мысли не возникает по поводу стилизации или постмодернистской деконструкции. Здесь другое. Под злободневным Михайлов, причем чисто визуальными средствами, нащупывает что-то глубоко архаично-телесное, затаившееся в народном бунте. Когда-то АЕS’ы показали удачную серию прогностически трансформированных видов европейских городов: урбанистическая среда вокруг фрэнк-ллойд-райтовского Гугенхайма прорастает минаретом, бедуины со своими осликами разбивают стоянку на римских площадях. Ну и везде – бородатые моджахеды с автоматами. Здесь была некая умышленность, проектность. Чего вовсе нет у Михайлова: он идет как раз от фактуры реальности, всматривания в бытовую гущу (кстати сказать, примеры специфического быта этого многомесячного «стояния» воспринимаются уже вполне этнографически). В городской среде «прорастает» архаическое, военно-племенное, кочевое, площадь оборачивается «диким полем». Вольница (вот тут содержится привет репинским «Запорожцам») привлекает и одновременно пугает своей диковатой витальностью, разрушительностью, «плотскостью» (недаром здесь – уверен, неотрефлексированно – схвачено так много ситуаций кормления, поглощения пищи). Это, конечно, не «Театр войны», как назвал свою серию Михайлов. Это антропология и физиология современного бунта в его архаических связях. Третьей работой, не только созданной под эрмитажную «прописку» биеннале, но и прямо заточенной на петербургскую ситуацию, я бы назвал серию «Нетрадиционные отношения» Марлен Дюма. Видимо, художник была наслышана об антигейских эскападах питерских законодателей со всеми сопутствующими им эксцессами и не смогла не высказаться по этому поводу. Высказаться с непривычной для нее камерностью. Это – небольшие графические портреты великих людей «нетрадиционной ориентации» (естественно, с акцентом на персоналии питерской культуры), выполненные в размытой «лирической» акварельной манере. Установка на «альбомность» (вполне считываемая, несмотря на то что «альбом» расформатирован) очень уместна – в альбомах содержится нечто интимное, сопротивляющееся идентификации по принципу большинства: фокусировка на индивидуальную, избирательную память. При этом камерность Дюма неуступчива: альбом не передают в чужие руки, не бьют им по голове в споре. Альбом – для своих. Своих не по сексуальной ориентации, а по гуманной ориентации. «Законы призваны помочь нам любить больше, а не меньше» (М. Дюма). Ау? Депутаты… Нет ответа…
И конечно, Ясумато Маримура – трогательное, не дежурное посвящение блокадному Эрмитажу. Монументализированная музейная фотография сегодня – особый жанр, построенный на возможности фотомедии эксплицировать медиальный ресурс музейной экспозиции. Глядя на эрмитажную серию, думаешь не о медиальном – о бытийном. Художник вживается не в произведения, а как бы в отсутствие произведений – серия создана на основе рисунков музейщиков В. Милютиной и В. Кучумова, сделанных непосредственно по следам эвакуации музейных ценностей. Феномен пустотности, трактованной как ожидаемость (музей продолжает свою функцию сбережения и защиты, «спрятав» свое «детище», в этом есть какая-то древняя символика испытаний ради возрождения) – вот, пожалуй, содержание серии. Это важнее внешних, достаточно востребованных приемов реконструкции и вовлеченности (автор снимает себя в виде реставратора в ватнике), это более глубокий контакт.
Конечно, есть еще «адресные» вещи… Правда, они представляются мне несколько иллюстративными. Или случайными. Так, Ринеке Декстра ни на шаг не отступила от своей эстетики, разве что происхождением своих моделей (русская танцевальная школа, как же!) отметившись в русской гостевой книге. Или вот привлекшая зрителей инсталляция Эрика ван Лисхаута – милая поделка на темы мифологии эрмитажных кошек. Даже вездесущий Тильманс… Скажем прямо, глубоко русскую ниву не вспахал… Франс Алис специально для Манифесты сделал роуд-муви, причем на «копейке». В конце путешествия он как бы разбивает ее, врезавшись в дерево (не где-нибудь – во дворе Зимнего, где ее остов и установили). Мило, если бы не помнить все эти с конца 1960-х документированные объектами роуд-видео (хотя бы ХА Шульта, гонявшего по Германии и оставлявшего в качестве документации в музеях «стоптанные» колеса. Я уж не говорю о народной комедии покойного Ивана Дыховичного «Копейка»). Жорди Коломер «русифицировал» свой давний проект «NO FUTURE», заменив эту надпись на «С чего начать?» (в каталоге, по крайней мере).
Уважаемые, давно начали. Тут пора перейти к концепции Кёнига, как я ее понимаю. Точнее, в побудительных причинах этой концепции. Дело в том, что, как мне представляется, опытнейший куратор задался целью промониторить только текущую (плюс-минус пару лет) ситуацию в питерском искусстве. Это немудрено: в ходе подготовки Манифесты он наслушался и насмотрелся всякого. Взять хотя бы реалии нашей массмедийной новостной жизни, прежде всего петербургской: неслабая экспансия маргиналов, почувствовавших себя уже хозяевами духовной жизни. Далее – события большой политики, во всем противоречии их восприятия. Соответственно, висящие в воздухе требования не затронуть каким-либо боком ненароком «традиционные ценности», не говоря уже о персонах. С другой стороны – требования, причем уже не висящие в воздухе, а вполне себе сформулированные, – отказаться от Манифесты напрочь, бойкотировать ее или использовать как инструмент политического давления. Все это создавало такой агрессивный фон, что на исследование истории вопроса бытования contemporary в Санкт-Петербурге, видимо, сил просто не хватило. А ведь Петербург со времен «Территории искусств» Понтюса Хюльтена и образовавшихся вокруг нее событий (боже мой, это ведь еще 1990-й, Ленинград) знавал мощные вбросы современного искусства, причем самого радикального. И за это время сформировалась среда, по крайней мере профессиональная, достаточно насмотренная, подвижная, не пропускающая биеннале и прочие Document’ы. Так что, повторюсь, начали мы давно, культуртрегерская проблема, конечно, никогда не решается в полной мере, но по крайней мере ею занимаются здесь много лет. Кёниг «сдавать» Манифесту не стал, за что ему спасибо. Но ситуация заставила его действовать с большой осторожностью. Прежде всего он отстранил Манифесту от злобы дня: почти никакого артивизма, оперативных реакций на злобу дня (все виды резистанса, как я понимаю, отошли в прямом смысле в эрмитажный подвал: в кино и в Публичную программы). Правда, глубокие вещи Михайлова и Дюма (о которых писалось выше) возвращали Манифесту на грешную нашу землю. Но основательно, слоем глубже новостных страстей. Главное, однако, в другом. Похоже, под прессингом текущих обстоятельств у Кёнига сложилась односторонняя картина нашей художественной жизни. Без предыстории. Его можно понять: если в новостных программах – сплошные мохнатые лица, готовые схарчить contemporary на корню, то дело, видимо, совсем запущено. Надо укрыться в «крепости Эрмитаж» и начинать с азов. Сосредоточиться на внутренней жизни музея и произведения современного искусства, в их пересечениях, формальных и семантических перекличках и т. д. (вообще, с акцентом на морфологию). Это игра беспроигрышная, тем более с ресурсом мега-музея под рукой. Музей подыгрывал как мог, предоставляя для Кёнига и эрмитажных Кабакова и Пригова и чуть ли не Матисса, не говоря уже о возможности внедрения в любую работающую экспозицию. Не скажу, что вся концепция была подчинена этой игре. Мне кажется, Кениг ухватил и показал несколько важных моментов современного арт-движения. Сгустилось – несмотря на пространственное разделение произведений – некое состояние фигуративности. Для кого-то враждебное, кем-то давно ожидаемое. Причем в связи всего с двумя мини-выставками. Небольшая персоналия боевой старушки Марии Лассниг, запоздавшая звезда которой взошла на прошлой Венецианской биеннале, получилась очень мощной. Николь Айзенман, поколениями моложе, замешала свой нарратив на самых разных визуальных источниках, от комикса до порнографии, тем не менее «переварила» все во вполне авторский, суггестивный story-telling. Открытием, для меня по крайней мере, было и видео Ваэля Шавки. Но таких выходов вовне немного.
Главное – увлекательная игра контекстов, перекрестная рифмовка, выявление неожиданных связей и отталкиваний произведений современного искусства, музейных объектов и экспозиционно-интерьерных сред. Здесь есть несомненные удачи. Чего стоит сопоставление, скажем, скульптурного «Этюда с натуры» Л. Буржуа, этого симбиоза антропои биоморфности, со сглаженным музейно-благостным восприятием, а теперь высвобожденным барочно-телесным фантазмом пиранезевской Вазы! А роскошное нисхождение «Эмы» Г. Рихтера в эрмитажную толпу – какая неожиданная перекличка с академизмом! А скульптура Катарины Фрич, концептуально работающей в парадигме High and Low (соответственно, с бросовыми, как бы демократическими материалами). Императорский будуар с его тенями фижм и кринолинов все поставил с ног на голову: поверхность ракушки, трэша из трэшей, отрады японских туристов, неожиданно дает почти тактильное ощущение ампирных парадных плиссировок… Есть еще несколько сопоставлений, активизирующих искусствопонимание: М. Хаймовиц в Музыкальном салоне, что-то еще… Конечно, всегда интересно, как поведет себя в новом месте Й. Бойс (правда, и музейных пространств, куда бы его не «пристраивали», почти не осталось). Или Брюс Науман. Повторюсь: интеллектуальное или чисто знаточескигастрономическое смакование ситуационных связей – дело беспроигрышное, давно уже ставшее предметом специальной музейной фокусировки (возьмем хотя бы давнюю, 1999 года, выставку в МоМA «The Museum as Muse». Да и мы в Русском сравнительно недавно, в другом масштабе, естественно, эксплицировали этот прием – «Искусство про искусство»). Однако одно дело – подобная игра в поисках новых смыслопорождений. Другое – когда она окрашена сильным акцентом пропедевтики. Вот это мне кажется главным просчетом куратора (обусловленным недооценкой питерского зрительского бэкграунда) – установка на пропедевтику. Краткий курс молодого бойца contemporary. Тут уж бойсов не напасешься. И Кёниг пускает в ход вещи, так сказать, типологического плана. Интересные не новаторством и масштабом, а эффективностью «работы по специальности». Карла Блэк в Двенадцатиколонном зале идеально закрывает нишу «физическое – спиритуальное» простым, как опыты в школьном кабинете, способом: белый порошковый ковер на полу, знаменующий «природное», взаимодействуя со вполне структурированной архитектурой, готов и к дематериализации, и к полету. Оливье Мессе – пожалуйста, цвет как монументальный реди-мейд. Отто Цитко – монументальная цвето-линейная средовая агрессия. Анна Янсенс – аквариумно-лабораторный подход: исследования феноменов дифракции. Вадим Фишкин – работа с временными режимами. Вещи добротные, но, как бы это сказать, не то чтобы просто не радикальные, но совсем уж «в русле». Перед каждым автором – арт-практика десятка предшественников. Тот же Фишкин, работающий теперь в Любляне, – художник явно четкого, современного мышления. Но сколько можно манипулировать, условно говоря, циферблатом! Ведь десятки имен только на последних выставках приходят на ум… Конечно, тема неисчерпаема, но… типологичность пугает. Кстати, выбор российских (с поправкой на изменение гражданства и местоположения) имен на подобные выставки всегда заставляет задуматься. Ну, Е. Ковылина – работа отличная, известная, переадресованная «под» Зимний дворец. П. Пеперштейн – фигура выставочно вездесущая, блестящая, узнаваемая. Правда, боюсь признаться, последнее время это качество стало едва ли не главным содержанием его вещей: похоже, его остроумное, легкое, хваткое рисование существует как бы для того, чтобы свободно течь, развиваться и… узнаваться. А. Сухарева – вполне профессиональна и… пока вполне типологична. В целом «русский выбор» достаточно произволен (впрочем, это общая проблема участия на транснациональных смотрах представителей не самых продвинутых арт-истеблишментов). Тимур Новиков и Владик Монро – тут как раз все понятно. Установка Кёнига на музеефикацию как спасение и источник обновления вполне совпадает с задачей наших кураторов на музеефикацию этих действительно важных имен. Эта задача, в сущности, экспортного показа и включения в транснациональные иерархии – вполне внятная и хорошо осуществленная. Правда, несколько в ущерб отечественному зрителю, ждущему от Манифесты новых впечатлений: у нас оба художника показываются настойчиво много. Эта проблема экспортности встает особенно остро в Параллельной программе. Художники и галеристы – их вполне можно понять – стараются донести до возможно широкой аудитории (добавим, чего греха таить, наиболее ценной частью которой являются западные профессионалы – кураторы и собиратели) наиболее казовые вещи. А это, как правило, вещи уже прокатанные, нашей профессиональной аудиторией виденные. Таковых немало в Кадетском корпусе. (Но в целом интереснейшая Параллельная программа – особая статья. Уверен, найдется автор, который ее напишет.) Актуальность, «впередсмотрящесть» Манифесты таким образом несколько снижается.
Рассматривая же такой масштабный проект, как «Манифеста в Эрмитаже» в целом, скажу следующее. Сотрудничество с мега-музеем, к тому же в сложных обстоятельствах неспокойного внешнего мира, располагает к идее музея как крепости (образ спасения, перегруппировки сил, подготовки – пропедевтика! – кадров, пересмотра стратегий). Эта линия реализована Кёнигом безупречно. Но Манифеста по статусу своему – все-таки форпост, зона риска, позиция сорвиголов (радикалов, по-нынешнему говоря). Драматургия этого события развивается (разрывается!) между двумя этими образами-концептами. Увлекательное зрелище!
2014«Дано мне тело, – что мне делать с ним»
Телесное обросло мемами. Краккауер – орнамент массы, С. Зонтаг – полое тело, шизоидное тело, Р. Краусс – политика репрезентации телесного… Или телесная репрезентация политики… Недалеко от высокомудрого ушло и обыденное сознание: тот, кто отрезал себе причинное место, та, кто придумала «вагинальную живопись», тот, кто кусал публику как собака, тот, кто прибил гениталии к площади. Словом, о бедном телесном замемлите слово… Некому сказать попросту, по культурно-антропологически, по-шекспировски: а тело пахнет так, как пахнет тело… Прошло время людей типа Ренуара, который объяснял выразительность своих ню, по-стариковски мечтательно показывая на их бедра: это надо было любить, это надо было гладить…
Между тем поворот к телесному был обусловлен простыми, в сущности, вещами: реактуализацией чувственного как присутствия. Как в художнике, так и в зрителе. Чтобы вернуть этой позиции присутствия, казалось бы, само собой разумеющийся содержательный статус, нужна была встряска. Пусть и шоковая, пародийная. С конца 1940-х годов почти до конца своей жизни, до 1967 года, М. Дюшан работал над ассамбляжем «Дано». Деревянная дверь, дыра в ней, сквозь которую в классическом перспективном сокращении – обнаженная женская фигура. Водопад и светильный газ – два момента «из прошлого» художника, из времен «Большого стекла», – вовлекают знатоков в «игры прочтения»: апелляцию к текстуальности раннего Дюшана. Но все это – под сурдинку. Подавляюще главным, конечно, является модус смотрения: зритель буквально приникает к дырке, застигая себя в ситуации подглядывания. Вот в издании «Искусство с 1900 года» (тексты Х. Фостера, Р. Краусс, И.-А. Буа, Б. Бухло, Д. Джослита), боюсь, становящемся сегодня настольной книгой молодого бойца-искусствоведа, эта ситуация так примерно и описывается: «…этот визуальный опыт не позволяет вынести за скобки тело, которое служит ему опорой и связывает с объектом суждения; это тело уплотняется до состояния некоего объекта, становясь низменноплотским в ответ чувству стыда». То есть, упрощаю, зритель уподобляется Peeping Tom’у. Возвращает себе (повторяю, пусть и в пародийной форме) телесность.
Вопрос не такой уж простой. Еще Батай писал, применительно к искусству и художнику, о подчиненности власти, дискурсу, диктату соглашений, «возвышенному» (время добавило к последнему антиномическое – «низкому», по аналогии со знаменитой выставкой в MоMA «High and Lоw», а также, пожалуй, девиантному). Концептуализм закрепил в художническом подсознании статус произведения как фактора «ментального, а не визуального или чувственного». Чтобы разрушить этот стереотип, как бы предвиденный Дюшаном, нужно было актуализировать телесное в зрителе. В этом плане многое сделал Д. Бюрен, принципиальный борец со стереотипами и инерционностью апперцепции. Приведу свой собственный опыт. Когда-то, в самом начале 1990-х, мне посчастливилось с группой кураторов попутешествовать по местам боевой славы современного искусства Франции. Никогда не забуду впечатление от объекта Д. Бюрена. Посреди поля стоял куб из бетона. В раздевалке тебе выдавали купальный костюм с фирменными бюреновскими полосками. При приближении оказалось, что полый куб установлен в бассейне, причем на определенной высоте, примерно на метровом расстоянии от пола. Нужно было поднырнуть под нижнюю часть любой из стен куба и заплыть под водой внутрь. Толщина стен была всего ничего – тоже не больше метра. Но под водой зритель (я, во всяком случае) терял ориентацию и впадал в панику. И только потом видел световое пятно и, оттолкнувшись, уже через секунду выныривал во внутренне пространство – голый открытый квадрат с подобием бетонных скамеек. Боже, какое это было наслаждение – посмотреть на небо после стольких испытаний. Что это было? Элементарная работа с апперцепцией. Бюрен чуть-чуть изменил правила игры, и мы испытали массу впечатлений как результат простейшей навигации в пространстве. Бюрен показал, как надо работать с телом, – перенастраивать, перезагружать аппарат апперцепции.
И. Кабаков в инсталляции «Где твое место» в буквальном смысле «приделывает ноги» к мыслительному, аналитическому аппарату зрителя. Одни зрители вровень с картинами. Другие пробивают потолок, и их гулливерские ноги торчат рядом с «нормативным посетителем». То есть Кабаков дозирует в зрителе совокупность ментального и, как говаривал Фуко, «физичного», не опасаясь мутаций. Надо сказать, Кабаков вообще очень чувствителен к тому, что В. Подорога называл, применительно к искусству, «телесным чувством». С присущим ему качеством самонаблюдения художник вспоминал о своем раннем опыте рисования: «Происходила <…> какая-то разрядка мощной энергии, как бы идущей откуда-то из глубины меня. Предусмотреть результат этих движений пера, этих „маханий“ было невозможно, он возникал сам по себе, но в его постепенно получавшейся конфигурации, узоре для меня как бы сохранялась память и переживания этой идущей из глубины энергии». Физическую укорененность рисования манифестирует Ребекка Хорн в своем знаменитом перформансе 1973 года: на лице художника маска с закрепленными в ней карандашами. Спонтанные движения головой по листу бумаги, собственно, и создают образ: рисование – след телесного. М. Уайт, исследователь творчества Р. Серра, добавляет в нашу копилку: его (Серра) рисунки в их физической, тактильной реальности апеллируют к жизненному опыту в целом, это след живого.
Укорененность в телесном, повторю, имеет еще один план – полемический. Это – критический жест, как пишет Корнелия Батлер, «вибрации тела – отказ от знака». Что ж, все закольцовывается – антиментализм, антизнаковость, антиумозрительность.
Правда, реальность развития искусства сложнее. Да, произошло некое разделение. На тех, кто работает непосредственно телом. И тех, кто пользуется этой работой: интерпретирует, создает контексты и дискурсы. Так сказать, телесники и менталисты. (Боюсь развивать эту мысль дальше. Иначе получится – эксплуатируют чужое тело. А ведь менталисты, как правило, – заядло левый народ.) Первые стараются войти в роль и не думать. Во всяком случае, в процессе перфоманса или акции. Хотя бы из чувства самосохранения: тут не до мыслей, когда рычишь или самочленовредительствуешь. Вторые рефлексируют и ни в коем случае не позволяют себе чувственных или хотя бы личных проявлений. (Разве что отвязанные аспирантки дадут себя вовлечь в опасные связи – какой-нибудь перформанс по типу «Мясной радости» Шееман. Но это на статистику не влияет.) Они запускают телесное в новую систему опосредований.
Например, вернемся к Ренуару. При всей хрестоматийности этой фигуры этот его разговор у собственных картин на современном языке описания можно трактовать вполне концептуально: как институциональную критику искусства. Дескать, есть традиция эстетического и музейного опыта. А тут – бедра погладить, актуализировать личный сексуальный опыт. Делать то, что Р. Якобсон называл «пальпированием искусства». Ничего страшного. Просто налицо подтачивание институционального статуса искусства. То есть опять стрелки переведены с телесного опыта на стратегии, философские легитимации и пр. Не более того.
К чему я веду? Разумеется, чуть-чуть троллю своих коллег, посягая на святость границ концептуального дискурса. Но есть здесь и нечто более серьезное. «Работающие телом» требуют легитимизировать авторски телесное: это я, мое тело месяцами просиживает в МоМА напротив тысяч чужих тел, это я свое тело режу по живому, отдаю в тюрьмы на расправу и т. д. К вам мы стучимся своими телами, отворите! Ничуть не бывало. Отворим, но заманим в силки дискурсов, языков описания, опосредуем, перенацелим.
Как будет развиваться ситуация? Во многом будет зависеть от зрителя, от того, крепко ли ему Кабаков «приделал ноги».
2015Художники
Еще, еще! Сетчатка голодна!
И. БродскийАлёна Кирцова
Кажется, я наблюдаю искусство Алёны Кирцовой всю жизнь – со времен Шпицбергена, где она родилась. Или наблюдаю Шпицберген, на котором никогда не был, в репрезентации Кирцовой, – важно, что ее живопись присутствует где-то на донышке моего сознания уже очень много лет. И писать о ней мне приходилось. Вовсе не отказываюсь от высказанных когда-то по поводу Кирцовой умозаключений. Основанный на попытке вживания в ее поэтику образ – сомнамбулическая абстракция – не кажется мне неверным. Это цветои жизнепонимание, в котором сплавлены способ переживания (проживания) жизни и переживание (проживания) цвета, остается базисным фактором развития художника. Даже когда цветопереживание объективизируется, как в «Справочнике по цвету», это системное, исследовательское неотделимо от экзистенции. Отчего же я сегодня испытываю неудовлетворенность? Что-то пропустил, не дописал… Не то чтобы Кирцова изменилась под влиянием обстоятельств – онато как раз художник абсолютной внутренней независимости: ни единого шага не сделает поперек собственных представлений о саморазвитии. Нет, это надо мной пытаются властвовать обстоятельства внешней жизни: нерадужные размышления о состоянии общества и современного искусства в целом. При чем тут Кирцова – при ее-то самососредоточенности, самостоянье? Чего-чего, а социальных аллюзий и вообще стремления к выходу вовне она отродясь не выказывала. От своего плана не отходила ни на йоту. Как оказалось (отвечаю только за свой опыт), нужны были кризисные моменты, переживаемые обществом и определенными изводами contemporary art, чтобы заметить: поэтическая оптика Кирцовой захватывает иные, внеположные чистому колоризму среды. Иными словами, живописная репрезентация художника обладает исторической чувствительностью.
Делюсь своими заметками.
Алёна Кирцова училась у Василия Ситникова – в период расцвета альтернативных московских академий. Ситников был фигурой яркой и противоречивой – он вполне отрефлексировал свою роль: гремучую смесь городского сумасшедшего и маэстро-артиста. Роль ролью, но художником он был достаточно глубоким: трэшевые сюжеты (сувенирная Русь и нарочито вульгарные обнаженки) Ситников умудрялся остранять (именно в старом опоязовском значении «затруднения формы») виртуозно разработанным материальным планом. Думаю, фирменные ситниковские «свечения» и попытки монохромии надолго запомнились Кирцовой. Она начинает как фигуративист. Затем возникают ее вещи переходного характера: интерьеры и «внешний вид» массовой советской архитектуры. Здесь был довольно сложный язык, замешенный на приемах подачи интерьерных проектов советского авангарда и опыта color-field painting. След этого вида абстракции, который называют еще «послеживописным» (Post Painterly Abstraction), пожалуй, более различим: большие плоскости сочиненного, технизированного цвета, «режущие» пространство. Правда, и здесь, в ее «Интерьерах», уже заложена неспособность жить «по приему»: какие-то фрагменты решены не в логике механической «эмалевидной» заливки цветовых полей. Возникает неожиданная сосредоточенность на живописности: кусок какой-нибудь типовой кухни прописан во всем богатстве оттенков. Отсюда – внеположная? задуманная? – интонация интимности.
К 1980-м Кирцову заметили. К тому времени московское увлечение абстракцией давно схлынуло. Почти все мастера предыдущего поколения прошли через это увлечение, какой-то период имевшее фрондирующий и одновременно пропедевтический характер (подобный увлечению кубизмом в 1910-е, о котором К. Петров-Водкин писал: «На нем мы все ограмотились»). Ю. Злотников и пара-тройка других непотопляемых энтузиастов – вот и все, что осталось к тому времени от московской несалонной абстракции (о салонной и говорить не стоит). Кирцова упорно долбила свое: «чем дальше, тем беспредметнее» (что-то Бродский сегодня не отпускает). В московской «центровой» художественной среде, в которой она чувствовала себя как рыба в воде, неоспоримо брало верх «искусство идей»: лингвоцентризм, разного рода концептуализирующие практики – от фраймирования до деконструкции. Абстракция (впрочем, равно как и неопосредованный фигуративизм) бытовала где-то на обочине. На Кирцову, абсолютно «свою» по связям, кругу, стилю жизни, смотрели доброжелательно, но снисходительно: чем бы дитя ни тешилось. Постепенно она, со своим тюканьем кисточками и абсолютной самодостаточностью в цвето-тональных изысках, стала восприниматься чуть ли не как некая постоянно действующая акция: «искусство идей» настолько укрепилось, что легко контекстуализировало (а по правде говоря, апроприировало) любой художественный жест. Вот вам комар-меламидовский Апеллес Зяблов, вот кабаковский Кучеренко Лев Сергеевич, а тут у нас Алёна Кирцова в долгоиграющем перформансе «Опыт телесного. Художник как абстракционист». Или «Абстракционист как художник». Кирцову абсолютно не волновало, как воспринимается ее работа. Вообще не волновала жестовая, тем более телесная сторона самореализации: ее абстракция была ориентирована на принципиально другой опыт. Перед нами, так сказать, интровертная версия абстракции. Если классический абстрактный экспрессионизм был радикально экстравертным психоделическим жестом, если в последующих геометризованно-объективизированных версиях абстракции проблемы психологического плана сводились к нулю, то здесь мы сталкиваемся с проекцией именно индивидуального опыта. Выбор абстракции мотивирован психическим строем личности. Дело в том, что художник не столько самовыражает себя, то есть самовыплескивается, саморассказывается, сколько воссоздает, выстраивает себя – «собирает из кусочков», «склеивает». Материалом этого самовоссоздания являются манипуляции цветом и пространством, временной фактор, диалектика отношений с поверхностью холста – эти знакомые элементы культуры классической абстракции. Но есть еще и другой, фундаментальный фактор, который, собственно, и играет главную роль в своего рода персонализации и даже автобиографизации абстракции. Это взаимонастроенность описанного выше инструментария художника и его ассоциативной и медитативной техники, механизмов его психологического и психического состояний. Исключительно сильный автобиографический импульс (это может быть визуальное воспоминание, потянувшее за собой цепочку самых разнородных бытийных ассоциаций) воспроизводится, воспереживается, воссоздется в неком бесконечно длящемся пограничном психологическом состоянии, визуализированном как ступени между миражом и действительностью. В свое время я – повторюсь – назвал работы Кирцовой сомнамбулической абстракцией. Собственно, ambulo – это хожу, брожу. Сновидение (с ударением на втором слоге)? Если бы не боязнь бесконечных у нас аспирантских апелляций к фрейдовскому «Толкованию сновидений», с одной стороны, и к «Иконостасу» П. Флоренского – с другой, я бы так и написал. Конечно, универсальная «формула сна» П. Флоренского «сновидение есть общий предел ряда состояний дольних и переживаний горних, границы утончения здешнего и оплотнения тамошнего», ближе к теме. И все же я побаиваюсь (хоть и поменьше, чем зацикливания на психоаналитических матрицах) акцента на спиритуально всеобщем. Все-таки в работах этого периода неизбывен привкус уникальности личного бытия. И оплотнение мне хотелось бы трактовать в контексте индивидуальной визуализации. В «Ступенях», замечательной вещи, принадлежащей Русскому музею, все это есть. Оплотнение – еще не опредмеченность, не материализация, – только жажда «границы уточнения», которую испытывает авторская, по-кирцовски замешанная цветовая субстанция. То есть жажда обрести форму. И бесконечное блуждание, карабканье – ambulo! – индивидуального сознания по этой внутренней предлестнице. Примерно так.
В течение следующих двух десятилетий присутствие искусства Кирцовой на арт-сцене становится все ощутимее. Попрежнему она разрабатывает интровертную версию абстракции, однако пробует и другое: ассамбляжи из битого бутылочного стекла, например. Не то чтобы ее тянуло к новой предметности – просто возникла потребность выхода вовне, к ощущениям тактильного порядка. Но главным в развитии художника мне представляется попытка системности. Период, когда Кирцова – помните? – «собирает из кусочков» себя и свое видение, завершен. Если говорить о психологической подоплеке, то она, несомненно, есть, и заключается она в новой мироощущенческой фокусировке. «Миражность», текучесть состояний сознания, похоже, остались в прошлом. Возникает некая сбалансированность между зрением и умозрением (само это слово, относящееся к «миру идей», в русской языковой традиции предполагает определенную взвешенность и успокоенность, для характеристики других режимов сознания язык выдвигает другие слова: поток мыслей, сбивчивость, горячечность, сумбурность мышления и т. д.). Иными словами – новая мироощущенческая фокусировка дает устойчивую и ясную картинку мира. На языке описания Серебряного века это называлось прекрасной ясностью – кларизмом. Contemporary art подобных определений не выдвигает вовсе. Речь идет не только о категориях ясности и устойчивости, но вообще о неких универсалиях позитивистского толка. Современный художник (contemporary artist), пребывающий в состоянии движения от проекта к проекту, обычно манифестирует свою позицию по отношению к конкретному явлению, как правило, социального порядка. (Я уже не говорю о ролевых или игровых функциях, или об опции освобождения от авторской субъективности, то есть анонимности.) Мироощущенческая картинка мира, вообще некая стабильность мировосприятия как постоянная константа, – дело редкое (если – и это бывает чаще всего – эта установка не пародируется). Кирцова же настаивает на некой объективизации своего месседжа. Отсюда – отсылка к системности, методологичности, научности. Разумеется, не без ироничности (это в современных условиях – необходимое средство безопасности). Поэтому Кирцова называет серию «Справочник по цвету». Столь прямая отсылка к Матюшину – конечно, жест оммажный, но не без насмешливости. Над зрителем, готовым понять художника буквально, но и над самой искусствометрией, которой отдал столь щедрую дань русский авангард (потребность в экспликации – текстовой и рационально-изобразительной, в виде графиков и таблиц – испытывал не только Матюшин, но и К. Малевич с его «теорией прибавочного элемента в живописи», и многие другие. А, скажем, Крымов, художник тончайший, но не авангардный, создавший вполне формализованную валерную систему, в экспликациях уже не нуждался).
Сегодня в contemporary art искусствометрия имитационна. «Квазинаучность» – производное от «проектности», без которой типологичный contemporary artist и дыхнуть не сможет. В русле проектности имитация научности практически – признак хорошего тона: игра в исследования, классификации, архивизации (все это на Западе обычно дается с приставкой mock – mock-archeology… и пр.). У Кирцовой, думаю, эта отсылка к искусствометрии имеет несколько смыслов. Конечно, это своего рода манок, прием обманчивой самоидентификации: дескать, вот она я, современный художник, по всем вашими опознавателям «свой/чужой». Есть у этой системности и более глубокие основания – репрезентационные. В обоих смыслах: как способ показа (модульность, серийность, подчеркнутая пребыванием картин под номерами, симметричная развеска) и как установка видения, «картинка мира». Мир «взят» широко раскрытыми, промытыми (так любил говаривать К. Петров-Водкин) глазами. В условиях устойчивой (упор, отцентровка) ситуации смотрения. В состоянии внутренней психологической уравновешенности. Так что все это все-таки «про кларизм»: ясную картину мира, когда оптическое и мироощущенческое сбалансировано.
Присутствует ли в этой серии установка на объективизацию, опирающаяся на опытно-экспериментальную базу? В конце концов, если уж в названии серии есть прямая отсылка к Матюшину, дадим название его работы полностью – «Закономерность изменяемости цветовых сочетаний. Справочник по цвету». Думаю, Кирцова вполне серьезно стремится к объективизированности цветовидения. Но – собственного. Так что, разумеется, все это – не про справочник. Не про «Азбуку цвета» (учебное издание, подготовленное М. Эндер, ученицей Матюшина). Ничего пропедевтического. Справочного. Авторское.
Как уже говорилось, в предшествующий период Кирцова в своих абстракциях «выстраивала себя по кусочкам». Выполнено. Как результат – отстроена какая-то классичность, уравновешенность, сбалансированность мироощущения. Эта упорядоченность на этот раз настроена вовне, в живую природу. Границы – снова вспомним Флоренского – очерчены так, что захватывают внешний горизонт. Живописно-пластическое «содержание» аккуратно развешанных прямоугольников репрезентирует сугубо кирцовское видение. Прежде всего – это видение универсалий, закономерностей. Матюшин предостерегал от «ловли частностей, как рыбы из воды». Частностей, предметных реалий здесь нет – опредмечены цвето-тональные планы. Они нарезаны, как ломти. Есть ли здесь какая-нибудь внешняя образная нагрузка? Каковая была хотя бы в малевической «Красной коннице», где цветовая «геологическая» слоистость почвы имела символический смысл? Думаю, нет. Кирцова не отвлекается от главной установки: универсалии поведения цвета в ситуации предельно сосредоточенного, очищенного, отрефлексировавшего свои приоритеты художнического сознания. Есть ли здесь нечто экспериментальное? То есть поставленность задачи – скажем, как фиксация дополнительных цветов в матюшинской группе? Думаю, в данной серии, в «Справочнике», – нет.
У Кирцовой здесь не задействован фактор зрительной динамики. Цвет неспешно регулируется по светосиле, по «оплотнению» (термин Флоренского здесь уместен, но уже не в метафизическом, а скорее «физическом» контексте). Ставка именно на основательность, я бы сказал, монументальность цветовидения, это подчеркнуто торжественномедленным – опять же без срывов и импульсивности – снижением линии горизонта: обязательная симметрия развески показывает последовательность этого снижения от яруса к ярусу. В работах нижнего яруса неба – все больше. Изменяется ситуации смотрения – позиция воспринимающего становится все более «горней». Тем не менее эта серия, как мне представляется, без метафизической подоплеки. У каждой картины – свой оптический охват: при сближенности общей гаммы в каждом конкретном случае акцентируются – по параметрам качества и количества – два основных цвета, далее действует светотеневой регулятор – светосила варьируется от активности до угасания. Каждый вытянутый по горизонтали холст – со своим горизонтом и однотипной цветовой структурой – репрезентирует не только свой «цветовой коридор», но картину цветоустройства мира. При этом, естественно, авторизованную. Цвет, конечно, пережит, прожит. Даже при установке на «объективность», устойчивость состояния цветовой субстанции. Этот монументализированный покой цветоустройства, повторю, – результат внутреннего самовыстраивания художника. На какой-то период ее жизни.
В 1990-е годы в нашем художественном сообществе Кирцова признается серьезнейшим колористом, нацеленным на общие закономерности цветовидения. Естественно, многие институции привлекали ее к экспозиционной работе. Вспоминаются ретроспектива М. Врубеля (Дюссельдорф, Кунстхалле), Фотобиеннале 1998 года в Москве, выставки в Московском музее современного искусства. Кирцова дает цветовые растяжки, причем гамма выбирается не по принципу дополнительности или контрастности к «фирменной» колористике экспонента. Регулятор светосилы линейки цветов (видимо, коммуницирующих с экспонируемым материалом по какой-то авторской ассоциативной связи) задает зрительскому глазу импульс цветочувствительности. Такая у него работа.
«Справочник по цвету» был показан в галерее Stella Art в 2006 году. Конечно, это был этапный в творчестве Кирцовой момент. Но значение выставки, как мне представляется, важнее обстоятельств конкретной творческой судьбы. Живописная репрезентация переживала у нас не лучшие времена. «Искусство идей» вступило в фазу изживания материального плана произведения, который допускался в его служебном качестве, как средство визуализациитрансляции. Статус спиритуального (я имею в виду отечественный художественный контекст с его неизбежными повторами движений транснационального арт-маятника) уже давно подорван и заклеймен младоконцептуалистами задорным обозначением «духовка» (кстати, интересный вопрос – «вежливый отказ» тогдашней актуальной критики даже заводить разговор, скажем, о М. Ротко). Пришло время подкопа и под материальную реализацию в целом – в критике 2010-х годов качество формообразования воспринимается как «дизайн» (естественно, с негативными коннотациями). Ну а живописные качества как таковые вообще не принимаются в расчет: еще чего, смаковать колористику! Для этакого гурманства нужна особая культура глаза! Излишество! Настройка на текстуальность не требует от материального плана никакой самоценности, ничего большего, нежели служить носителем месседжа. Это вам не Г. Башляр с его «материальной сокровенностью» (любопытно: теперь у нас обходится молчанием, как не вписывающаяся в дискурс, и мощная реактуализация, скажем, вызывающе живописного Л. Фрейда). Словом, на Кирцову с ее внеироничностью, методологичностью, последовательностью постановки и разрешения глубинных живописных задач, с ее постоянной сверкой с «оптической правдой» (М. Матюшин) многие стали смотреть другими глазами. Чем черт не шутит: может, именно по ее бесконечным шкалам будут замерять температуру современного искусства? Во всяком случае, решили многие, к этому «градуснику» стоит время от времени обращаться.
В 2010 году Кирцова показывает серию «Север» (как и «Справочник» в 2006-м – в Stella Art Foundation. С этой институцией она теперь сотрудничает постоянно).
Живописный раздел «Севера» открывается работой «Белое море. Водораздел». Эта вещь неожиданна фиксированными границами цветов (своего рода цветоразделом – отсутствием тональных растяжек), но главным образом – острой композиционностью.
Динамикой взаимонаправленных ненюансированных цветовых плоскостей эта вещь, пожалуй, отсылает к ранним произведениям, близким color-field painting. Думаю, Кирцова вводит ее в серию «Север» по двум причинам. Первая – ее излюбленная тема «поведения» условно белого в условиях обострения конкуренции с другими, в данной ситуации разнонаправленными, цветовыми плоскостями.
Вторая, похоже, связана с самим характером цветовидения.
Динамика этой вещи напоминает: «прекрасная ясность» – баланс зрительного и умозрительного, не означает, что потенциал взрыва цветовых впечатлений исчерпан.
Но это своего рода предупреждение. На этом этапе Кирцовой важнее подчеркнуть другое: «натурность» своих интенций. В серии есть работы ассамбляжного характера, с названиями конкретизирующего типа: «Белое море», «Игарка», «Ферапонтово» и др. Соответственно, и «материальный подбор» здесь с потенциалом документированного и тактильно-доказательного: выветренная древесина, уложенная связками, как высушенная рыба, ракушки, камни. Есть – без этого Кирцова не была бы Кирцовой – некие тональные корректировки. Но в целом ассамбляжи репрезентируют Север осязаемо, как вещдоки.
Живописная часть «Севера» («Водораздел» скорее играет своего рода роль эпиграфа) так же начинается вещами выраженного натурного импульса. Никогда ранее Кирцова не прописывала так основательно природные реалии – поле с травой, облака. Постепенно обобщение берет верх: цветовые планы «вбирают» натурную конкретику. И все равно живописец как бы подчеркивает: визуальность здесь вполне земного характера. И по характеру оптики, и по колориту (ставка на «земли» – охры, умбру, марс).
В серию включены – и это новый для художника ход – коллажи. Полоса фольги, делящая – по линии горизонта – плоскость: бумажный лист теплого зеленого тона. Та же бумага и фольга, плюс пряди пакли – обозначение травы в одном коллаже, облака – в другом. Газетный лист, по которому в одно касание проведены горизонтальные трассы цвета (полыньи? границы предполагаемых цветовых растяжек?). Далее – коллажи, в которых на бумажную основу наклеены вырезанные из полосы газетного набора озера, или – подобие каменной гряды. Вещи минималистского толка, без предметных реалий, и вещи – с намеком на мимесис. Думаю, их объединяет идея оттенка. Монтируя цветовые составляющие самого разного характера (газетный набор, бумага, фольга, пакля), художник дает понять, что в совокупности они могут давать единую тональную волну, жертвуя собственной «окраской».
Теплохолодность тоже волнообразна. Особенно впечатляет тональная работа набора: массивы шрифта (наклеенные, в различных конфигурациях, на тепло-зеленую бумагу, прореженные, пройденные поверх горизонтальным движением кисти) дают различные тональные отклики на эти ситуации. Тон шрифта «теплеет» и в разной степени (в зависимости от конфигурации) высветляется. В свою очередь, массивы шрифта предстают равномерным рядом оптических плотностей (обычно такие ступенчатые изображения подобных плотностей – gray scale – используют в качестве эталона различения белого). Но белого сколько-нибудь высокой яркости здесь нет, он как бы подразумевается цветовой памятью. В целом все коллажи тяготеют к теплым оттенкам серого.
«Серая шкала» – верно, самая утонченная по цветовидению, самая изысканная, эстетская серия Кирцовой. В ней присутствует та же отлаженная годами системность: симметрично расположенные прямоугольные холсты, каждый из которых решен по принципу тестирующей линейки – тональной растяжки определенного цвета. Содержание серии – состязание «за серое»: за территории между ахроматическими белым и черным. Состязание, в котором невозможны стремительные ходы: глаз в обеих направлениях – сверху-вниз и наоборот – медленно ощупывает неожиданно открывающиеся «складки местности» – градации серого. Это состязание абсолютно чистое, без подсуживаний и посторонних сюжетов. Как пишет сама Кирцова: «Строгость и четкость серых: отсутствие мелодрамы».
Как мне представляется, в этой серии нет, условно говоря, естественно-научного подхода, что называется «Koloritgeschichte». Художник погружен в оптическое, но за этим не стоит экспериментальных, заранее поставленных задач. Задачи сугубо образные. Мне кажется, они – в новом балансе зрительного и умозрительного. Белый и черный в чистом, эталонном качестве в колористике картин-пейзажей не присутствуют, они пульсируют, вспыхивают (белый) и гаснут (черный) в сознании, в «цветном мозге» (выражение А. Кирцовой). Поэтому в одной из картин художник использует прием – мощную диагональ, пересекающую поле холста. Этот луч выполнен в другой фактуре – готовой серебряной краской. Притом поверх всего медленно разворачивающегося благородства эманаций серого! Думаю, как опосредованный след ослепительно белого, вспышки в сознании!
Данное произведение (пейзаж «Серая шкала-3») представляется мне важным в контексте дальнейшего развития художника. До этого основные серии – горизонтально вытянутые парные прямоугольники – аккумулировали «энергии широкого охвата» (М. Матюшин). В последней по времени – серия «Дыры» – ситуация меняется. Вместо прямоугольников – квадрат в квадрате. Получается система рам с широкими полями, внутренний, единственно цельный, квадрат играет роль отверстия – «дыры». Живописные поля каждой рамы решают свою задачу: на теплохолодность, на тональные растяжки, на фактурную контрастность. При этом они обеспечивают процесс последовательного высветления: «дыра» – эманация некоего неопознанного (метафизического?) света. Все это имеет мироощущенческую подоплеку.
В «Справочнике» цвето-тональные линейки – ступени обеспечивали медленное восхождение над горизонтом. В уже упоминавшемся пейзаже «Серая шкала-3» «энергии широкого охвата» были сфокусированы в мощном диагональном луче. В «Дырах» они направлены вовне пространства картины, куда-то в глубь мироздания. Цветовые рамы, как ракетные ступени, дают зрительному импульсу соответствующую силу, разбег, потребный для прорыва. В Космос? В иные измерения? В глубины спиритуального?
Думаю, стоит присматриваться к неторопливой эволюции искусства Кирцовой. Особенно в наше время больших упрощений.
Цвет историчен – это утверждает Джон Гэйдж, имея в виду некую обусловленность цветовидения состоянием науки и общественных представлений о природе цвета. Конечно, он впрямую зависит от состояния contemporary art. Цвет историчен и в других аспектах. Боюсь, общественно-политическом. Конечно, экзистенциальном. Как там у Бродского: «…Я был в Риме. Был залит светом. / Так, как только может мечтать обломок! / На сетчатке моей – золотой пятак. / Хватит на всю длину потемок». Пафос редукции, охвативший многие процессы и художественной, и общественной жизни, как-то разбивается об усилия одинокого художника, методично отстраивающего систему своего авторизованного цветоустройства. Надолго отстраивающего. На всю длину потемок.
2014Андрей Пахомов
Сколько себя помню, Андрей Пахомов – уж такой график, всем графикам график, – коренной, потомственный, упертый. Даже нарисованный правильно, крепко, как бы без отрыва грифеля от листа. Видите, мне нравится прием лексического повтора. Как эту стилистическую фигуру использовал Абрам Эфрос! Любо-дорого смотреть, как он долбит в одну точку, пригвождая, скажем, Г. Нарбута к искусству книги и не давая оглянуться на другие жанры: «Он книжник, он книжная личинка; книга его родина, книга его прихлопнула, в ней он жил, и другого облика для Божьего мира у него не было. В этом смысле он прямо-таки гофманическое существо; он был одержим книжными недугами; у него кровь была смешана с типографской краской; он пропах запахом наборных, печатных и переплетных; каждый его рисунок всегда вызывает в нас ощущение новой книги, только что оттиснутой и сброшюрованной, зеркально чистой и свежепахнущей». Можно и в пахомовском случае начать с подобного зачина: сын великого графика, рисовальщика, литографа и книжника, профессора кафедры графики и руководителя персональной мастерской, родившийся, как другие с серебряной ложкой во рту, – в графитовой колыбельке. Естественно, чтобы рисовать, учиться рисунку и книжному и литографскому делу, а потом самому учить, профессорствовать, вести мастерскую, иллюстрировать книжки, выпускать ежегодно в жизнь новый графический народец, – весь в типографской краске и с грифельной пылью на щеках. Все так – и об отце, Алексее Федоровиче Пахомове, академике, создателе ленинградской графической школы, авторе произведений, которые давно уже классичны. И о сыне, Андрее Алексеевиче, много лет – как атлант какой-нибудь питерский эркер – поддерживающем эту самую школу.
И все не так.
Касательно Алексея Федоровича: не от хорошей жизни он сосредоточился на графике, – он, со второй половины 1920-х в течение десятилетия лидировавший в своем чрезвычайно плотном по наличию живописных талантов поколении. Конечно, в графике он выразил и воспроизвел себя, она была ему верной женой и плодом этого союза стали уникальные пахомовские дети, отцовство которых узнается с первого взгляда – будь это крепкие головастые довоенные детсадовцы и пионеры, истонченные блокадные дети или задумчивые медлительные крестьянские подростки из толстовской «Азбуки». А вот какие сны ему снились из живописного далека? Оправдывался ли он в мыслях перед отставленной в силу железной необходимости – несовместимости с тогдашней художественной жизнью – живописью? Конечно, живопись была более требовательной, рисковой, нетерпимой, могла погубить и разорить, пустить по миру – особенно в те-то приснопамятные времена, – жалел ли он о так и не пережитых драмах? Никто не ответит. Вот и с Андреем Пахомовым возникают вопросы – как ни нагнетал я лексические повторы, укореняющие его на его законном почетном графическом месте, что-то было не так. Место его было, как уже говорилось, атлантово – поддерживать эркер или там балкон, то бишь графическую школу и традицию. Человек ответственный, серьезный, закрытый, то есть не привыкший жаловаться, что устал, – он так и стоял годами. И стоит, хотя давно заметил – эркер-балкон прохудился. Нет, внешне вроде ничего, но поперечные балки сгнили – ногой не наступишь. Не выдержат, проломятся. Значит, декорация? Видимость служения? Внешняя форма, без возможности опереться, подышать свежим воздухом? Да, но бросишь, отойдешь в сторону – тут уж и сама декорация обрушится. Кому-нибудь на голову. Как это бывает с нашими питерскими балконами. Так что терпел. Пока… Но тут самое время поговорить об этой самой заядлой графической традиции. А там и о графике вообще – о возможностях и пределах ее бытования в современном арт-мире.
Не будем говорить о Лебедеве, Тырсе и прочих отцах-основателях. Поговорим о ситуации 1970-х, когда молодой Пахомов начал утверждаться в ленинградской графике. Сейчас мало уже кто помнит, какова она была. К этому времени ленинградский рисуночный стиль откристаллизовался. Это очень точное определение, ибо подразумевает некую законченность и в то же время структурность. Явно ощущалась трехмерность, даже когда художники работали линеарно. Объем «держали в уме», это страховало от родового порока стилизации, который был заложен в генезисе ленинградского рисования. Я думаю, эту опасность первым почувствовал еще В. В. Лебедев – она присутствовала даже в его изысканных рисунках сажей и плотницким карандашом. Он нашел способ противостоять этому – «средовой, импрессионистической штриховкой», а в детских литографированных книжках другим повторяющимся приемом: плоскость всегда протыкается деталью или незаполненным подразумевающимся пространственным планом. Пространство зовет! Стилизации побаивался и К. С. Петров-Водкин: он знал за собой слабость идеализированного неоакадемизма. Он – в зрелом своем рисовании – бежал от этого искуса посредством повышенного внимания к объему. Это достигалось рисованием штриховыми массами – пространственными планами и приемами навигации «внутри» произведения. Но главное: Петров-Водкин положил начало интереснейшей установке, так сказать, двойного действия. Типология детских образов в его творчестве со второй половины 1920-х имеет два измерения: мироощущенческое и пластическое. Эту установку подхватили и развили «петрово-водкинцы» (в широком смысле – не обязательно его штатные ученики, но и художники, испытывающие его влияние). Лобастые, крепко сбитые, граненые, как малые штофы мальцевского стекла, фигуры детей сближены у А. Самохвалова («Голова мальчика», 1925–1926; «Семья рыбака», 1926), А. Пахомова («Стрелки из лука», 1935; «Крестьянский мальчик», 1929), Л. Чупятова («Голова с пейзажем», 1919) единой трактовкой (формовкой) объема. К ним в целом и в особенности к трактовке голов применимы слова Петрова-Водкина о «силе, прессующей предмет в его гранях впадин и выпуклостей». Но в этой формовке присутствует и сила, противостоящая давлению извне. То есть давлению среды. Отсюда – ощущение самостоятельности, штучности, отдельности этих типологичных образов. Формообразование явно приобретает здесь образно-содержательный контекст.
А. Ф. Пахомов дольше других, уже отойдя от живописи, продолжал развивать эту линию рифмовки детского типа и типа формообразования. (Она была подхвачена несколькими поколениями ленинградских графиков, в том числе тех, кто воспринял пахомовское через руки его учеников: покажи мне, как ты рисуешь ребенка, и я определю степень твоей самостоятельности. Не будем говорить об эксплуатации приема. Будем добрее и назовем это ритуалом. Итак, это ритуал питерской графической субкультуры: балерин рисуют по-лебедевски, детей – по-пахомовски.) Я думаю, в 1960-е Алексей Федорович – центральная фигура в деле уже упомянутой кристаллизации стиля: он рисовал композиционно и законченно, даже если вещь оставляла ощущение наброска. Его поздние рисунки и литографии, помимо прочего, являли какую-то «новую вещественность», хотя специально объемы не отрабатывались (естественно, не было речи и об иллюзорности). Но некая весомость стояла даже за силуэтом, за штриховкой: рисунок, ложась на ладонь, как бы оттягивал ее – новая вещественность! Т. Шишмарева, В. Власов, Б. Ермолаев и несколько других высококультурных мастеров старшего поколения внесли свою лепту в кристаллизацию рисуночного стиля. Они стремились к большему обобщению, к формульности, артикулировали линеарность, но в основных параметрах своего рисования – основательность, законченность, весомость, гомогенность как некая экспликация в каждом рисунке рисуночного стиля в целом – были солидарны с Пахомовым. «Поколению детей» (в лице хотя бы Б. Власова) важно было модернизировать этот рисуночный стиль (в прямом смысле – приобщить к модернизму, на тогдашнем языке описания – сделать «левее»). Думаю, А. Пахомов, начав профессиональную карьеру, не осознавал трудностей работы на уже «застолбленном» пространстве. Он и не мыслил порывать со «стилем». Какое-то время он тоже думал направить его «чуть левее» – к опыту позднего Пикассо и Матисса. Так, в литографиях «Рыба» и «Сова» ощутимо увлечение линогравюрой Пикассо, в то время достаточно распространенное. И в иллюстрации, и в рисунках, оригинальных и литографированных, он продолжал детскую и подростковую тему. Нужно было дать некую отбивку от отцовского визуального архива. И постепенно он находит свою версию стиля. Пахомов заходит на территории, которые были под негласным запретом художников поколения 1920-х годов, в частности – мирискусническую. Это поколение, как уже говорилось, всячески остерегалось стилизации, а наследие родоначальников питерского графизма было, что уж тут говорить, настоено, как водка на кореньях, на стилизме и стилизации. Пахомов шагнул за флажки: в его пастели «Erregung» оживает сомовская интимность. В ню 1990-х он использует силуэтность. Конечно, она «мотивирована» освещенностью, но она – мирискуснической природы. По отношению к этим рисункам и литографиям я бы употребил термин процессуальность: разыгрывается – чисто изобразительными средствами – определенный сюжет. В «Стоящей» фигура девушки – вид сбоку – «поделена» черной заливкой по силуэту. Одна часть фигуры вполне телесна, но девушка как бы вступает в ночную зону, одновременно – зону условности. Черный ложится по силуэту фигуры и лица, причем грудь остается островком белого. Возникают неизбежные символические коннотации – яблоко греха? При этом силуэт, по определению, средство условное, с неожиданной вуайеристской назойливостью фиксирует телесные детали. Словом, никакой окончательности, процессуальность. В 1990-е Пахомов много работает над литографией как медией, стремясь предельно использовать ее выразительные ресурсы. В натюрмортах он обыгрывает саму опосредованность печатного процесса: реален, фактурен, тактилен отпечаток, а его предметный прообраз, первичный, данный в непосредственности ощущений, миражен, ускользающ. Отсюда – привкус метафизичности. В цикле, который я бы условно назвал «ню с тенями (силуэтами)» заливки (с их то сплошной, кроящей, то зернистой фактурой черного или сепии) создают эффект загадочности: логика объемов нарушена, но возникает какая-то новая цельность. В работах с манекенами Пахомов осознанно добивается ощущения искусственности: сам статус модели, ее механическая поза, патетичные, маньеристские складки драпировок при общей ломкости формы, специально созданные «пульфонные» фактуры – все принадлежит какому-то умозрительному бытию. Тема застывшей птицы – символический жест – вполне органична: так маркируется инобытие, иное состояние сознания. Да, Пахомов в 1990-е не скрывает неудовлетворенности «наличной реальностью». Его все более привлекают сюрреалистический и символический аспекты визуального («Кукла на велосипеде», «Im Flug», «Ein Jahr danach»). При этом его лучшие ню и любовные сцены припорошены легким слоем скурильности: мирискуснический термин, имеющий двойственную, лукаво ускользающую основу (scurrile – непристойность, непристойная шутка и scurra – шут).
Правда, мало кто считывал этот месседж. Мешала озабоченность вызовами, со всех сторон преследовавшими нашу питерскую графическую культуру. Варвары (всяческие «новые» и «дикие») наступали – не умеющие (в конвенциональном цеховом смысле) рисовать, непочтительные к иерархиям, вовсе не озабоченные приращением графической культуры. Но им, варварам, удавалось высказываться «помимо канона» – так энергично и ярко, что не замечать этого не могли самые стойкие ревнители традиций.
Как-то само собой получилось (механизмы властных отношений уже не работали, да Пахомов и не был никогда вхож в начальственные кабинеты), волею судеб он был «брошен» на поддержку питерской графической культуры. Это нигде не фиксировалось и никем не санкционировалось. Получилось, воспользуюсь канцеляризмом, – по факту. Не вызывает сомнений: ко второй половине 1990-х Пахомов – не только наиболее культурный питерский график. Но и наиболее укорененный: знающий графическое дело изнутри, блюдущий не только творческие, но и цеховые традиции. К тому же практического склада, не говорун: натурально, печатает, иллюстрирует, готовит новые кадры. А еще достаточно замкнутый, мотивированный делом – такого не соблазнишь гламуром и биеннальным марафоном. Кому еще поддержать ветшающую архитектуру питерской графики? Вот она, атлантова должность, – вперед!
И Пахомов заступил место атланта. Принял должность. Почетную. И тянет лямку до сих пор. Вместе с тем, как мне представляется, уже с 2000-х он ощущает то, что на языке культурной социологии называется «вненаходимость». То есть физически (всем своим прошлым – связями, профессиональным и семейным опытом, «школой жизни») он находился в одном пространстве (та самая атлантова должность служения графике). Но столь же физически ощущал внутреннюю необходимость перехода в другое пространство. В какое – об этом ниже.
То, что с ним происходило, трудно вербализовать. Трудно объяснить самым верным студентам. Потому что происходящее шло вразрез с мифологией питерской графической культуры. Но подавлять это в себе – бесполезно. Они, эти процессы, просто идут в твоем сознании или не идут. У Пахомова – пошли. Как они реализовывались практически, в материальном плане произведений? Разумеется, уподобляться условным собирательным «диким» Пахомов не мог – слишком «вооружен» был для этого профессионально. И отказываться от наработанного «класса» ради радикальной редукции вовсе не хотел. Антиканонические, антирутинные процессы, происходившие в его художественном сознании, развивались по другому сценарию. Началось с рисунков обнаженной натуры. Не то чтобы в этом было что-то новое: Пахомов рисовал ню всегда. Новым было то, как он стал рисовать: с огромной сосредоточенностью, с какой-то тотальностью. Или обнаженная натура, или ничего! Если говорить о форме, тут бывало всякое: и абсолютно новый уровень рисования, и рудименты своего собственного маньеризма (а что вы хотите – у каждого что-нибудь стоящего художника есть западание в свой собственный маньеризм): отработанная пластика деталей – прическа, пальчики и пр. Но это было переходным или даже прощальным, потому что смысл этой тотальной обнаженности лежал вне сферы стилистики. В чем же? Кто-кто, а Пахомов про академические постановки обнаженной натуры знает все. Это – ценз академического образования. Канон, идущий бог знает с каких времен, причем всегда сохраняющий классицистскую прививку: даже во времена способных оживить самую одеревеневшую натуру Репина и Серова, даже при господстве стилистической маэстрии Шухаева и Яковлева. Даже петрово-водкинские постановки: изысканные – парижской поры и с черными пятками – для учеников 1920-х, – неоклассическая линия жила и здесь, причем вполне ощутимо. Но всегда есть одна общая составляющая: обнаженная натура – не что иное, как инструмент достижения каких-то практических целей: образовательных или даже стилеобразующих. Вот на этом примерно и зиждется академический канон. По крайней мере – касательно постановки обнаженной натуры. Что происходит в монументализированных рисунках Пахомова? Во-первых, при всей переходности серии (иногда, как уже говорилось, против основной установки, все же артикулирующей маньеристские моменты) – стилевая, формальная, графически-культурная сторона не так уж и существенны. То есть важно, что Пахомов достиг высокой планки изобразительности. Он, конечно, «держит в уме» взятую высоту, но понимает, что все эти формальные рекорды не цель, а средство. Точно так же забывается и прежняя функциональность (профессиональный ценз). Дело в том, что оба эти показателя действенны при одном базисном условии. Обнаженная натура (учебно-постановочная, а там, глядишь, и «вольная», свободная от образовательных функций) традиционно является объектом (далее можно подставить любой термин – творения, арт-практики, созидания. Я бы употребил менее патетическое – созидающего жеста, скажем). Так вот, в самом формате пахомовских обнаженных, в их солидарной работе в режиме нон-стоп, в их роевой, коллективной суггестии неостановимо возрастает субъектность. Эти тела берут на себя созидательную роль, в лучшем случае – разделяя ее с фигурой художника, а часто и перехлестывая ее. Объект и субъект акта творения в одном теле – это что-то другое, это – не только графика.
Это – ближе contemporary art. Потому что именно contemporary art работает с телесным на каком-то ином уровне. Здесь придется коснуться терминологии. Авторы, пишущие о современном искусстве, употребляют термин «графика» разве что в каталожном, фиксирующем смысле: техника, материал. В этом клубе предполагается, что представитель актуального искусства не имеет узкой специализации. Даже если он использует специфические, легко опознаваемые традиционные выразительные средства и материалы. Ну не придет никому в голову назвать графиком, скажем, Базелица, хоть он и печатает, и рисует. Или Р. Петтибона, хотя это художник не только рисующий, но концептуально отсылающий к жанрам комикса и карикатуры. Так же, например, как и Ф. Клементе: что бы он ни создавал, фреску или картину, драйв экспрессивного, подпитанного энергетикой граффити, рисования очевиден. Или В. Кентридж, у которого и картины, и анимации построены на силуэтности и драматизме отношений черного и белого. Однако ассоциировать это с графикой? И. Кабаков всю жизнь много и плодотворно рисует, в бытность свою советским художником «без всяких обид» именовался графиком и даже книжным графиком. Но сегодня, исходя из его опыта ведущего художника contemporary, эти определения кажутся неадекватными. И дело не в некоей новой иерархичности – якобы актуальный художник «главнее» тех, кто придерживается старой жанровой системы. Как дело и не в обязательности этого нового искусствопонимания: есть не менее влиятельный классический истеблишмент, артикулирующий как раз традиционное. Скажем, неоакадемический рисунок. Или традиционный формат – скажем, графику малых форм. Или определенные печатные техники. Нисколько не возбраняется. Правда, к сожалению, чаще всего традиционализм у нас неотрефлексированный, не осмысляющий свою природу. Но это так, к слову. В содержательном плане этот терминологический казус очень важен. Он выражает другое отношение к материальному плану образа. Понятия «графизм», «стиль», «традиция», «графическая культура», – словом, все, что носят коннотации канонического, самодовлеющего, – теряют свою актуальность. (Нечто похожее происходит и в живописи – современный критик едва ли будет разбираться, скажем, в проблемах тепло-холодности колорита, иногда – к сожалению, не будет.)
Взамен рисование развивается вовне. Старый скомпрометированный термин «искусство в жизнь» реализуется на другом, неожиданном уровне – непосредственном, телесном. «Новая актуальность» рисунка есть способность физического укоренения и экспансии в любой среде, вообще физическое присутствие, экспансия. Термин «стратегия» выдвигается как оппозиционный термину «стиль». «Стиль» стоит между художником и реальностью (де Зейгер), отсылает преимущественно к формальным категориям (уже упоминавшийся ряд – графическая культура, традиция, жанр и пр.), «стратегия» – к категориям присутствия и опыта. Ключевым вопросом становится: «Как это тебя касается?» Причем часто в буквальном смысле. Касается телесно и касается твоего опыта (жизненного, социального, сексуального и пр.). Что происходит, чем царапает, как цепляет, чем «заводит», пугает, как это взаимодействует с опытом твоей жизни?
Укорененность в телесном имеет еще один план – полемический. Это критический жест по отношению ко всему «головному», априорному, навязанному нашему непосредственному опыту: то есть знаковому, жанровому, символическому, аллегорическому и пр. Это хорошо выразила К. Батлер: вибрации тела – отказ от знака (см.: Butler С. H. OnLine. MoMA. P. 148).
Какое отношение все вышесказанное имеет к обнаженным Пахомова? Думаю, прямое: в своей совокупности они выражают эту экспансию непосредственно телесного. Выражают – «поверх барьеров», то есть вариаций канонического (уже упоминавшихся стилистических, формальных, жанровых и пр. Агамбен даже говорит о «теологическом наследии, пропитавшем наш лексикон телесности»). Получился ли этот отрыв? Если говорить об отдельных листах – нет. Следы «стилистического» присутствуют везде, а кое-где и возобладают. Но в совокупном, роевом воздействии, пожалуй, да. (И энергия преодоления рудиментов «формализма» работает на это воздействие как дополнительный ресурс.) Художнику, как уже говорилось, не важна индивидуальная маэстрия. Не важна и индивидуальность моделей: скорчившиеся и расслабленные, колючие и грациозные, они репрезентируют телесность в целом. Ту «вибрацию тела», которая выходит за пределы листа и за пределы поля экспонирования. Выходит куда-то вовне. Таким образом, художник, оставаясь в парадигме рисования, соприкасается с арт-практикой другого типа. Думаю, осознанно или нет, он апеллирует к ресурсу перформанса. Естественно, перформансисты с их возможностью работать непосредственно с телом и телом, с их органической возможностью использовать сенситивность как выразительное средство, проложили дорогу пониманию таких базисных установок contemporary art, как отмеченные выше, присутствие и телесность. Палитра возможностей здесь так же неисчерпаема, как и у собственно палитры, палитры в традиционном смысле. Джорджо Агамбен вспоминает перфоманс 2005 года Ванессы Бикфорт: сто обнаженных женщин, стоящих неподвижным строем и «излучавших чуть ли не военную враждебность». Это одна краска. На другом конце спектра – другая. Например, перформанс М. Абрамович «Импондерабилия» (1977): художник и ее друг, обнаженные, стоят в дверном проеме (вход в музей) таким образом, что входящий неизбежно соприкасается с ними. Это своего рода тактильная передача тепла, проверка на человечность. (Мне случилось видеть, как в ходе своей ретроспективы в МоМА в 2010-м Абрамович заменила себя волонтером, как бы передавая эти функции человеку из публики.) Между блокировкой телесного и высокой точкой его присутствия – большое пространство. Пахомов, разумеется, не может добиваться подобных эффектов впрямую. Но серийность его рисунков, настойчивое воспроизводство формата, ощущение мускульной непрерывности рисования как физического процесса – все это имеет телесный, антропологический бэкграунд.
Ощущение этого телесного модуса усиливается в новой теме Пахомова, которую он настойчиво ведет на всем протяжении 2000-х, – теме запрокинутых юношеских голов.
Их трудно каталогизировать – разве что под номерами. Их трудно выставлять: зрителю не охватить их совокупность, рядность, а ведь именно в серийности, как бы в самовоспроизводимости их сила. Их трудно продавать: опять же – вычлени хоть один лист – рассыплется какая-то архаическая родовая, роевая сцепка. Что стоит за этой «фабрикой голов» (почему бы и нет – прижилось же понятие фабрика снов)?
Думаю, этот формат в прямом (имеется в виду – под обрез листа или холста) и переносном (сосредоточенность на голове, отсечение всех остальных сюжетов телесности) смыслах для Пахомова в то время был наиболее органичен. Что я понимаю под «сюжетами телесности»? Да что угодно. От рудиментов неоклассики до жанрово-сюжетных моментов – хотя бы все той же, упомянутой выше, скурильности, окрашивающей или не окрашивающей жанр ню. Нет в рисовании Пахомова и привязки к типу, тем более – к личности: ни с формальной, ни с содержательной сторон. Видимые отсылки – то к подростку Дионису, то к эфебу, то к пэтэушнику – носят побочный, факультативный характер: углубляться в стилистические или социальные материи было бы делом произвольным. Нет привязанности даже к характеру: хотя у каждой модели, пусть в юношески непроявленной форме, есть свой норов: от благонравия до бунта. Пахомовское «производство голов» – не про «классику», не про социальный типаж, не про «жанр». Пахомовские рисунки в их совокупности – «про» апперцепцию. Про телесное присутствие. Про нащупывание живого.
Сартр, кстати, разделял тело и плоть. Тело служебно, оно всегда находится, как он писал, «в ситуации», то есть «в процессе совершения того или другого жеста, того или иного движения, направленного на достижение определенной цели». Этим (не говоря о макияже и одежде) оно и противится «воплощению». По его словам, нет ничего менее «во плоти», чем танцовщица, даже обнаженная. Плоть же – перцептивный образ необходимости и свободы.
Выше говорилось об отсечении сюжетов телесного в «головах» Пахомова – это и есть отказ от «ситуации». Какое уж тут «движение, направленное на достижении цели», когда дана одна голова. Так что «сюжеты», «ситуации» по Сартру, преодолены самим форматом (обрезом). А свойственный большинству рисунков классицизирующий холодок преодолевается «физичностью», тактильностью некоего совокупного рисования, энергией его переноса с листа на лист. Значит ли это, что мы являемся свидетелями «чистой случайности присутствия плоти»? Я сомневаюсь насчет чистой случайности – элемент подготовки мне кажется очевидным. Присутствие плоти? Повышенная контактность, физичность рисования не вызывает сомнений. Но плоть? Здесь я бы внес коррективу. Запрокинутые головы, в которых акцентирован «горла перехват», это еще не плоть. Это попытка визуализировать живой акустический инструмент – «голос плоти». Ну а что же плоть, этот, по Сартру, образ необходимости и свободы?
Пожалуй, эта проблематика последовательнее всего репрезентирована в серии «Торсы». В самом слове «торс» присутствует отсылка к античности или, по крайней мере, к академическим гипсам. Но собственно в визуальной образности серии этой отсылки на этот раз нет вовсе: «Торсы» знаменуют, пожалуй, наименее формальный период в творчестве художника. Многие вещи выполнены в живописи. Пахомов чувствует себя совершенно уверенно в этой медии: работает в жидкой живописи на сближенных тональностях, эффектно обыгрывает просвечивания как средство мерцания и смягчения основного цвета. Опять же конвенциональные представления о живописности ему, похоже, не интересны: не колоризм как таковой его волнует, что-то другое. Его торсы странно, нетрадиционно, неэффектно с точки зрения композиционности обрезаны. Лимонов в статье о Ж. Жене писал о его крупных планах: «География одежды, топография тела, пристальные крупные планы лица, ресниц, ногтей, заусенцев». Может, у Пахомова за этой крупной нарезкой телесного тоже скрывается эротический импульс? Пожалуй, нет: он не детализирует (то есть не завлекает оптическими подробностями, что Петров-Водкин называл «подмигиванием предметностями»), его крупные планы («топография тела»), как правило, пустынны и меланхоличны. Хотя, конечно, и огоньки – костры желаний – тоже вспыхивают. Но в целом фрагментирование у Пахомова, как мне кажется, акцентирует момент естественности, непреднамеренности, алеаторности. Обрез, работа с рамкой как бы нейтрализуют то, что Сартр, как уже отмечалось, называл «ситуацией» (мы бы сказали – сюжет, канон, вообще любая функциональная преднамеренность). Торсы не «рассказывают истории»: о своей жизни, эстетическом воплощении, жанровом предназначении и пр. Сартр писал, что плоть проявляется как чистая случайность присутствия. Так вот, бытие торсов – присутствие в нашем опыте. Тактильном – когда они телесно, перцептивно ощутимо касаются нас. Метафизическом – когда они проплывают мимо как образы инобытия. Пожалуй, это им самим, торсам, решать, как им присутствовать в нашей жизни, – как телесное касание или как бесплотная тень…
P. S. Так случилось, что эта статья была последним текстом, который Андрей Пахомов держал в руках. Он понимал, что как современный художник состоялся более всего в своих циклах последнего пятилетия. Вместе с тем он не решался показывать их сколько-нибудь широко – все-таки он был человеком академической системы и среды, а его «Головы» и «Торсы» слишком многое оставляли позади как лишнее обременение. Это многое касалось конвенциональных представлений о школе, каноне, «качестве», «заслугах» и пр. Пахомов, думаю, не очень-то рассчитывал на поддержку, во всяком случае, в привычной ему среде. Даже мне, знавшему Пахомова несколько десятилетий, он показывал свои вещи с некоторой опаской и внимательно следил за моей реакцией. При этом, уверившись, что эти произведения оценены по достоинству, он продолжал нервничать: достаточно ли адекватно они будут проанализированы, будут ли считаны интенции, прочувствованы нюансы? Дело здесь было не в самоутверждении, Андрей знал себе цену и в коллекционировании похвальных отзывов не нуждался. Дело было в самореализации: он твердо выбрал путь, наконец-то ощутил себя не «хранителем огня» – традиции, школы и других «долгих дел», а современным художником. И рассчитывал в этом качестве представителя contemporary art на понимании. Ничто не предвещало, что этим циклам суждено было стать завершающими. Перечитывая статью, я нашел, что слишком акцентирую моменты, связанные с переходом художника в новое качество: вся проблематика преодоления канона, связанные с этим рефлексия, переживания, сомнения и страхи, выглядят сейчас слишком личной. Важен результат: все те же «Головы» и «Торсы», которые «отвечают» за Пахомова как современного художника. И все же ничего менять в тексте я не стал: в конце концов, не так много у нас признанных художников, которые сквозь отвердевшие наслоения успеха, признания, репутации, инерции жизни рискнули «пробиться» к себе, к своему истинному я. Поэтому и связанная с этим жестом рефлексия поучительна.
2016Коллекции Апология личного выбора
Жан-Жак Гуерон. Русское нонконформистское искусство
За последние полтора десятка лет мне приходилось описывать около двадцати «русских коллекций» – как специально посвященных неофициальному искусству, так и более широких по охвату, то есть включающих и произведения художников, выступивших уже в постсоветское время. Должен сказать, собрание J. J. Gueron’а произвело на меня сильное впечатление. Вроде бы оно принадлежит сложившейся типологии: неофициальное или «другое искусство», андеграунд, второй авангард, нонконформизм – под этими названиями традиционно изучалось и собиралось искусство, объединяемое неким вызовом позднесоветскому официозу, «коммуникацией по поводу свободы» (Ю. Герчук). Для некоторых собирателей (Нортона Доджа, например) это противостояние, сама этика сопротивления официозу являлись моментами эстетическими. В первые послесоветские годы, период интеграции русского искусства в транснациональный художественный процесс и особенно – в арт-рынок политический бэкграунд тоже был важен. Публичный интерес стимулировали как реальный отсвет социальной истории, объективно лежащий на этом материале, так и сложившаяся к тому времени мифология сопротивления. В последующие десятилетия оппозиция официальное/неофициальное казалась мне несколько рутинной, акцентировка политического, на мой взгляд, отвлекала от новых вызовов. Кроме того, сюда вмешивался и коммерческий фактор: многие коллекционеры воспринимали участие «своего» художника в перипетиях отгремевших боев как своего рода верификацию и дополнительный бонус.
И вот снова «Gueron’s collection. Russian non-conformist art».
Однако у меня возникает общее впечатление не типологичности, а свежести. В чем дело? Вроде бы «набор художников» достаточно характерен. Это главным образом, как их называют в России, «шестидесятники»: чрезвычайно активное и мощное поколение (собственно, два поколения), заявившее о себе в конце 1950-х – в 1960-е годы и до сих пор в лице ряда своих представителей занимающее ведущие позиции среди russianburn artists. Идейно и институционально вышедшие из системы огосударствленного советского искусства (вышедшие демонстративно, с политическими жестами, или незаметно, самим фактом своего художнического существования), эти художники вот уже почти полвека привлекают внимание музейщиков и собирателей. Что ж, еще одна репрезентация хорошо знакомого материала? Но, как уже говорилось, коллекция Gueron’а оставляет свежее и в чем-то неожиданное впечатление. Имена хорошо известные, но вскоре замечаешь, что акценты собиратель расставил по-своему, во всяком случае, иерархия предпочтений у него своя. Кроме выверенного именного состава коллекции, привлекает ее редкое качество: художники представлены исключительно серьезными, выражающими базисные качества поэтики, вещами cream of the cream. К тому же аутентичными в том плане, что репрезентируют художника в момент раскрытия его индивидуальности. Это редкое качество: надо сказать, художники-шестидесятники, добившиеся международного аукционного и галерейного успеха в весьма зрелые годы, нередко варьируют наиболее успешные свои работы (впрочем, одни ли они…). Пробиться, так сказать, к первоисточнику не просто… В произведениях, собранных Gueron’ом, практически нет впечатления production, воспроизводства. Работы отобраны так, как будто коллекционер стоит за спиной художника и ждет его завершающего жеста. Конечно, это иллюзия, но иллюзия действенная: за ней – индивидуальность собирателя.
Это интересная и отдельная тема. Опыт работы с «русскими коллекциями» позволяет мне наметить несколько типов собирателей. Есть мегаколлекционеры, «стреляющие по площадям», – то есть стремящиеся охватить все, сколько-нибудь значительное на поле современного искусства российского происхождения. Есть коллекционеры-игроки (таковых было много в девяностые годы), которые все время соперничают с оппонентами: у тебя десять (тут подставляется любое известное имя), а у меня – дюжина. Конечно, есть собиратели-инвесторы, делающие ставки на арт-рыночные котировки. Есть коллекционеры-исследователи, цель которых – найти невостребованные имена и, говоря пушкинскими словами, «их уважать заставить». Я бы назвал и феномен индивидуалистического коллекционирования: собирание «несмотря ни на что», то есть на принятые иерархии, артикуляция коллекционерского своеволия. Что ж, и подобный подход способен давать неожиданные удачи.
В последнее время в коллекционерском мире большое место занимают коллекции, которые я бы назвал конвенциональными: они валоризованы авторитетом создающих их кураторов. В самой их конвенциональности присутствуют и позитивный, и снижающий моменты. К первому я бы отнес отрефлексированный, как правило, безупречный отбор, профессионализм стратегии. Но есть и минус – некая отстраненность от личности владельца, опосредованность…
Так вот: ценность коллекции Gueron’а, как мне представляется, – прежде всего в том, что в ней найден удачный баланс авторского, личностного и – репрезентативного. Она имеет дело с хрестоматийными именами и явлениями, без которых не обходится ни одно собрание советского андеграунда, частное или музейное. Поэтому в собрании есть ресурс конвенциональности, противостоящий любым формам маргинальности. И в то же время собрание носит откровенно личностный характер: в рамке «художники-шестидесятники» (а именно это поколение формирует основной корпус собрания) Gueron нащупывает собственные сближения и даже сюжеты. Этот подход выявляет авторские (в подобной ситуации собирательства этот термин вполне приемлем) пристрастия и увлечения, индивидуальные интерпретации и эмоциональные акценты. Более того, «вживание» собирателя в материал таково, что позволяет обратить внимание историков искусства на некоторые не замеченные ими сюжеты, казалось бы, давно отрефлексированного материала.
Попробую объясниться. Название выставки с его ключевым словом традиционно и в течение сорока лет выставочного марафона существует в самых разных коннотациях. Одни выставочные репрезентации, как уже говорилось, проходили под знаком политическим, другие – интеграционным, если иметь в виду готовность этого искусства интегрироваться в мировой арт-процесс, третьи – динамика подобных нарастает – стремятся показать вклад russianburn artists в конкретику отдельных международных явлений и направлений (например, недавняя, 2014 года, выставка «Post Pop: East meets West» в Saatchi Gallery). В «Художниках русского нонконформизма», по версии Gueron’a, нет выявленного сценария или концепции. Концептуальную и драматургическую рамки задает сам материал: осмысленное собирательство есть артикуляция возможностей новых интерпретаций, заданных реакциями – жестами собирателя.
Какие вкратце поводы для рефлексии каких-то новых моментов истории искусства этого периода дает многолетнее авторское собирательство Gueron’а?
Конечно, собиратель был под неизбежным (при близком общении) обаянием художнической мифологии. Это касалось художников, с которыми он сблизился, – М. Шемякина, например, и В. Янкилевского. Но это художники разных интенций, поэтому ясно: прислушиваясь к художникам-друзьям и сопереживая их версиям развития искусства, Gueron тем не менее твердо вел свою линию. Как мне представляется, обширный и разнородный материал искусства шестидесятников он воспринимал прежде всего как специфическое проявление позднего модернизма. (Этот ракурс позднее проявился в исследованиях позднесоветской архитектуры 1960–1980-х гг., которая в последних изданиях предстает как архитектура позднего модернизма.) Об этом говорит сама установка собирателя. Он явно отдает предпочтение вещам выраженной авторской стилистики, почерка, узнаваемой изобразительности (напомню, что перед художниками концептуального направления задача артикуляции авторского не стояла, напротив, они настаивали на стратегиях анонимности, имперсональности и – или – девальвации авторского за счет персонажности. Кроме того, для этого направления характерно истончение материального плана выражения за счет вербального и умозрительного: лингвистических практик, идеологем и пр.).
Все эти моменты, характерные для постмодернизма, для большинства выбранных Gueron’oм художников не имели решающего значения.
С другой стороны, главная тенденция, высвеченная коллекцией, оппонирует и прочерчивающей все искусство века линии конкретного или редуцирующего искусства, сформулированной еще Тео Ван Дусбургом в манифесте «Art Concret»: «Произведение искусства <…> не заимствует ничего от природных форм, не содержит ничего чувственного или сентиментального <…> Техника, исполнение должны быть механистическими…» Его продолжатель М. Билл требовал отказа от «натуралистических репрезентаций», радикальной эмансипации от «природных моделей».
Линию art concret продолжала группа Zero, кроме того, явления середины 1950-х – 1960-х: оп-арт, color-field painting, hard-edge painting, затем – минимализм.
Gueron, не скрывающий «аппетита» к материальному плану произведения, к авторизованному формообразованию, к демиургическому началу, переформирующему мир по собственным лекалам, ищет путь выражения своих собирательских интересов… Он прокладывает его между лингвоцентризмом концептуального искусства и пост-поп-арта, с одной стороны, и самососредоточенностью, контр-репрезентативностью Concrete art в современных его ипостасях – с другой. На этом пути он открывает для себя и для зрителей самые неожиданные сюжеты.
Таким сюжетом (в буквальном смысле – художник был прежде всего мастер нарратива) являлся А. Арефьев.
Художник, хоть и умерший в 1978 году в Париже, прожив всего около года в эмиграции, в больших европейских коллекциях почти не представлен. Он был погружен в беспросветно жестокий мир советских трущоб, в сюжеты уличной продажной любви, драк, суицида. Это оказался жанризм настолько высокой жестово-антропологической силы, что шокировал даже подготовленного западного зрителя. Что же говорить о тогдашнем советском, воспитанном на нормативной оппозиции «высокое/низкое» (напомним – и это до сих пор удивительно – Арефьев пришел к своей жесткой эстетике еще в начале 1950-х!). Сегодня авторитет Арефьева безусловен, но западные коллекционеры, формировавшие свои собрания в 1980-х – начале 2000-х, как правило, обошли вниманием этого внесистемного, при жизни не оцененного в полной мере художника. Gueron – не обошел.
Второй сюжет коллекции – несравнимо большее по объему собрание произведений М. Шемякина. Шемякин – в последнее время редко входит в типологичные, отрефлексированные «продвинутыми» кураторами коллекции (я называю их конвенциональными). Тому есть несколько причин. Шемякин – художник-индивидуалист, на современной арт-сцене – персонаж полемичный, неудобный. На волне интереса к неофициальному искусству он еще в 1970–1980-е годы добился известности во Франции и затем в США: не только как художник, но и как публичная фигура, олицетворяющая вызов как советским, так и западным институциям. Эта публичность протестного плана, эффективная в условиях общественного интереса к перипетиям борьбы андеграунда с советскими властями, в новых для него условиях нормализованной и коммерциализированной художественной жизни не привела к успеху: попросту не вызвала особый интерес музейнобиеннального истеблишмента. Пиаровская стратегия не сработала во многом благодаря изменившимся настроениям времени. Не встретила понимания со стороны арт-истеблишмента и творческая стратегия: Шемякин – художник большой изобразительной силы. Но в 1980-е годы критический мейнстрим декларировал как раз кризис прямой миметической и иконической репрезентации. А здесь – артикуляция изобразительности, причем с нарративным потенциалом, к тому же классическая, перфекционистская реализация материального плана, будь то графика, живопись или скульптура. Все это воспринималась как нечто если не архаическое, то не актуальное. А некоторыми неблагожелателями – и как явление коммерческого искусства. В конце 1980-х – начале 1990-х состоялось триумфальное возвращение Шемякина (и искусства Шемякина) в Россию: множество выставок, театральных постановок, памятников. Востребованность – на каком-то этапе – политической элитой. И здесь снова художник позиционировал себя как публичная, не без политического бэкграунда, фигура. С элитой местного contemporary art отношения не сложились: она в ту пору была озадачена процессом интеграции в транснациональный художественный процесс, соответственно, принимая рамки концептуальности и прямой социальной актуальности. В эти рамки Шемякин не вписывался…
Столь ощутимое присутствие произведений Шемякина (собственно, с шемякинской работы, приобретенной в 1972-м, начинается для Gueron’a-коллекционера «русская тема») представляется мне удачей собрания: давно назрела необходимость по-новому рассмотреть творчество художника как таковое, вне полемического контекста. Собрание отображает творчество Шемякина многогранно, в развитии: с конца 1950-х по настоящее время. В генезисе Шемякина, художника очень мощного культурного бэкграунда, несколько базисных явлений. Среди важнейших – русская и немецкая литература, их визионерская, ирреальная и символическая линии. Здесь и ретроспективизм мирискуснического толка. Кроме того, мне представляется, – довольно редкая «оптическая» линия, советская версия «новой вещественности», связанная, например, с графическим наследием раннего Н. Акимова. Более того, казалось бы, полярная творческим интенциям Шемякина филоновская «атомизация». И разумеется, опыт парижской школы в разных ее изводах, особенно на раннем этапе, – Х. Сутина. Из этого сложного замеса вырастает самостоятельное явление – шемякинская визуальность. Художник, в духе ленинградского подпольного философствования 1960-х годов, для самоописания собственных творческих интенций использует термин метафизика. (Напомню: Шемякин формировался в специфической ленинградской интеллектуальной среде с ее литературоцентристским уклоном, традиционной фрондой по отношению к официозу и острым ощущением подпольности бытия. Это постоянное ощущение зыбкости и опасности существования имело как философские, так и практически-жизненные основания: в Ленинграде, где в отличие от Москвы не было западных корреспондентов и дипломатов, ради которых соблюдались некоторые приличия, секретная служба особенно свирепствовала, пресекая любые попытки вольномыслия.) Что ж, я бы уточнил: метафизика визуальности. Дело в том, что смолоду Шемякин отличается чрезвычайной разработанностью (по всем векторам – фактурным, тактильным, оптическим) «физики» произведения – его материального визуального плана. При этом сами основания материальности все время подвергаются неким критическим процедурам: трансформациям, ломке, атомизации, дематериализации и пр. Все это в понимании художника – «метафизика»: своего рода поверка визуализации различными состояниями сознания. Здесь многое идет от символизма. Философ А. Эткинд справедливо писал: «Символизм делал материалом творчества глубокие уровни и измененные состояния сознания, ранее остававшиеся как бы вне культуры: сновидные, медитативные, наркотические, гипнотические, пратологические». Для молодого читателя, не знакомого с реалиями советского бытия, могут вызвать удивление те моменты биографии Шемякина, которые связаны с репрессиями, в том числе психиатрическими, которым он подвергался: речь ведь не шла о политическом действии – прямом протесте, диссидентском месседже и пр. Но состояния сознания? Они также интересовали режим. Напомню свидетельство замечательного актера П. Смирнова-Сокольского: «…у нас огосударствили не только всякие отрасли, но даже дыхание, болезни, сны людей».
Попытки найти адекватную форму состояниям сознания характерны для всех поисков Шемякина, уже в молодые годы достаточно разнонаправленных. В 1969 году он пишет «Wilh Friedeman Bach» – гротесково стилизованный портретный образ. При всей остроте характеристики возникает, однако, ощущение преодоления стилизации: человеческая натура, как опара, вылезает из стилизованной «формы». Это «вылезание» – процесс, телесное борется с условным за право представлять натуру. С тех пор одно из проявлений «метафизического» у Шемякина – процессуальность. Для него не существует «окончательности», «отлитости» формы. Это – следствие боязни однозначности образа. Со второй половины 1960-х он создает, в разных материалах и техниках, собственную эмблематику: образы условно геральдического плана («Адам», «Венера и Купидон», «Галантные сцены»).
Эта шемякинская геральдика вызвала массу подражаний: казалось, художник изобрел благородную форму, «за которой» можно укрыться от злобы дня – некий рыцарский геральдический щит. Подражатели занялись дальнейшим украшательством этого «щита» – фактурным и декоративным. И действительно, что может быть устойчивей эмблематики! Однако шемякинская «метафизика» заключается как раз в отрицании устойчивости, однозначности, – внимательный зритель замечает процессуальность оптического в геральдических композициях художника. Они собраны, концентрированы, ювелирно подогнаны в мельчайших составляющих. Они почти вещественны, предметны. И в то же время несут в себе начала дематериализации: изображение развеществляется – на мазки, штрихи, следы шероховатости литографского камня или нажима штихеля. Возникает ощущение миражности, ускользаемости, – не столько оптическое, сколько мироощущенческое. Дальше – больше. В таких сериях, как «Метафизические головы», «Метафизические бюсты» и пр., возникает качество иконичности – это доминирующие архетипы, живущие в сознании художника. Icons призваны апеллировать к спиритуальному ресурсу и ревниво относятся к буквальному материальному воплощению: миражность здесь оборачивается внутренними свечениями и инсайтами… (Много лет спустя, в «Оммаже Филонову», в «Нижинском» и др., Шемякин вернется к теме внутренних свечений: знаменитая филоновская атомарность перетолкована художником. Подобно тому как метеорит зрительно предстает в единстве со светящимся «хвостом», трассой его движения, филоновские атомы, основы формои смыслообразования, предстают в сложнейшей паутине линий – цветовых проекций атомарных движений. Эта линейно-цветовая феерия парадоксальным образом сохраняет системность и способность оптически собираться, фокусироваться.) Столь пристальное внимание к состояниям сознания вызывает мысль о сюрреализме. Думаю, что термин «метафизическое» ближе Шемякину не только в связи с его юношескими философическими исканиями. Все же сюрреализм лимитирован историко-культурными обстоятельствами, логикой манифестационности: абсурдизм и его оборотная сторона – натуралистическая составляющая, – заявлены как жест ниспровержения традиции. Изобразительной и ментальной: сюрреализм работает с экстремальными режимами сознания, демонстративно взрывающими «норму»… Шемякин далек от любого рода категоричности и манифестационности. Визионерство, инсайты, миражи, прозрения для него – естественные состояния сознания, тут он ощущает себя не столько ниспровергателем, сколько продолжателем великой традиции, одной из «станций» которой является символизм. Соответственно, он избегает приемов монтажа несовместимого, как это делают сюрреалисты, алогизм как таковой ему малоинтересен. В его работах есть своя логика – логика грезы, транса, амока, то есть состояний сознания.
Особенно характерны в этом плане его иллюстрации (скорее работы «на темы» литературных произведений). Например, карандашные рисунки к «Преступлению и наказанию» Ф. Достоевского (1969). Они по-своему даже функциональны. Один из исследователей подсчитал, что писатель в романе более ста раз употребляет слово «воздух». Шемякин в качестве визуального аналога вводит установку атмосферности. Она предстает в различных проявлениях, которые коррелируются с состояниями сознания героев: обыденность, просветление, болезнь («как в припадке» – пишет Достоевский), сны-миражи и сны-кошмары. (Самосознание Раскольникова неоднократно анализируется им самим в бесконечных внутренних монологах: «Прочь, миражи, прочь, напускные страхи, прочь, провидения!»)
А вот выполненные цветными карандашами эскизы к балетной постановке по «Преступлению…» (1985). На первом плане – гротесково стилизованные изображения Порфирия Порфирьевича и Раскольникова, боковые пространства в глубину последовательно нарезаны на отсеки шестью перегородками… У художника все осмыслено как в функциональном, так и в образном плане. Каждая перегородка служит кулисой: из-за нее вырывается фигура с топором, соответственно, зрительно действие повторено шесть раз. В этом навязчивом повторении есть знак измененного, больного сознания, но есть и понимание специфики балетного текста, который реализуется в синхронно повторяющемся движении. Голое расчлененное перегородками пространство есть свидетельство предельной бедности: съемные углы, пристанище обездоленных. С другой стороны – это образ казенного места: полицейской конторы, арестантской палаты, госпиталя. Особую, символическую и самостоятельную роль играет повторяющееся изображение топора. Простой внешне ход (каждый ребенок, даже не читавший роман, знает: Раскольников – «тот, кто с топором») обрастает смыслами: вещественное доказательство, галлюцинация, наконец, символ, как бы «овнешняющий» (выражение М. Бахтина) смысл названия романа. Топор – орудие преступление, но и символическое средство наказания. Исследователь творчества Достоевского Ю. Карякин так описывает амбивалентность мотива: «В течение всего времени, когда происходило убийство (старухи процентщицы. – А. Б.), лезвие топора Раскольникова было направлено исключительно на него, как бы угрожая и приглашая стать на место жертвы. Не топор во власти Раскольникова, а Раскольников стал орудием топора. Но вот Раскольников убивает Лизавету, и тем самым получается, что топор все же сумел жестоко наказать Раскольникова».
В иллюстрационных циклах, монументальной пластике, работе для театра Шемякин демонстрирует высокую степень погруженности в исходный материал, несмотря на высокую степень его претворения, авторизации. Визуализация «управляема» рефлексией, даже если эта рефлексия «работает» с измененными состояниями сознания (характерный для поэтики Шемякина прием – прямая, обескураживающая своей «лобовой» узнаваемостью иллюстративность, постепенно подтачиваемая логикой трудноуловимых, но настоятельных ассоциативных последовательностей).
Итак, мы уже говорили, – логика транса, сновидения, гипнотических погружений? Но как быть с более многочисленными вещами Шемякина, так сказать, натурного плана – без «заданного» (литературным, музыкальным или «историческим» источниками) камертона? Тут ход реализации образа несколько иной. У Шемякина – дар стихийной визуальной метафоризации. Взять хотя бы излюбленный им в семидесятые годы мотив туш и мясников с тушами, широко представленный в собрании. В своих многочисленных «Carcasses» он буквально «пересчитывает ребра», каждый раз добиваясь новых метафорических отсылок: к клавиатуре, к шнуровке гусарского ментика. Повторюсь: здесь нет ничего «головного», заданного: метафоризация стихийна. Как и силуэтность, например, в «Boucher’s» 1973 и 1977 годов: она носит арабесковый, почти каллиграфический характер. Но если это знакопись, то семантически глухая («темный след», если воспользоваться пушкинским образом). Есть вещи, в которых неконтролируемая линеарная стихия выплескивается наружу: «Bust Metaphysique» (1971), «Fumeur» (1985). П. Филонову принадлежит выражение – «психика живописи». У Шемякина «психика рисования» выходит на передний план: круговерть цветных линий, сгущения и растяжки, решительные прочерчивания и туманности – все это не средства «обрисовывания», изобразительной репрезентации. Это самостоятельное, автономное бытие линии. Автоматическое письмо – снова вспомним сюрреалистов? Скорее алеаторное, эстетически осмысленное. Шемякин – художник модернистского жеста, в какой-то степени он (недаром ему так любезен ретроспективный вектор) знаменует своим искусством завершающий этап модернизма. Значит – приближен к постмодернистским практикам. О том, что Шемякин как художник в этом плане пограничен, напоминают и его мании классификаторства и поиска подобий: «Triptyque phylosophique» (1977). При всем том он не делает решающего шага: слишком ценит свой индивидуалистский художнический жест, непосредственность и субъективизм, спиритуальные и психические интенции, изощренность формальной реализации – все то, что contemporary art подвергает сомнению. Один из лучших изобразителей, Шемякин вполне отрефлексировал этот свой ресурс: иногда кажется, что, обратившись, например, к абстрактному искусству, он и его не воспринимает как отчуждение от видимого, а именно изображает абстрактное произведение таким, каким оно должно быть в его представлении. Шемякин верен себе и не променяет этот свой дар изобразительности на «другие языки описания»: речевые, постфилософские, предметные, знаковые и пр.
Владимир Янкилевский, судя как по количеству представленных произведений, так и по всеохватности репрезентации, – также представляет для Gueron’а особый интерес. Между тем само это «также» в свете сложившихся в современном постсоветском искусстве иерархий и контекстов неожиданно: Шемякин и Янкилевский (равно как и несколько других крупных художников, представленных в собрании) редко соседствуют в пространстве общих выставок, по крайней мере в последние годы. Их пути разошлись прежде всего в силу таких старомодных материй, как эстетическое. Шемякин – ретроспективист и высокий формалист (в истинном значении слова), не чужд – вспомним его литературные интересы – категорий безобразного и низменного. Однако для него не существует связка High and Low в понимании contemporary art: нехудожественное, трэшевое, найденное «готовым» (readymade), физиологичное, – короче говоря, все то, что не претворено в форме, его мало интересует. Между тем для художников концептуального и постконцептуального плана не существует как раз старомодно «высокое»: они стремятся подорвать сам статус «произведения», работают с самыми «нехудожественными» материалами, отрицают мастерство (и уж тем более маэстрию по типу шемякинской) исполнения. Во всем этом – логика искусства, работающего не с формой, то есть реализацией, воплощением, а напрямую – с идеологией, мышлением, повседневностью.
Для меня собрание Gueron’а интересно в том числе потому, что не придерживается сложившихся иерархий и позволяет «раскачать» профессиональные стереотипы и предпочтения. В частности, касающиеся стратегий, признанных несовместимыми… Непредвзятый взгляд собирателя находит переклички и сопоставления как бы «поверх стратегий».
В. Янкилевский – фигура не полемичная. Едва ли найдется критик, который будет оспаривать его ведущие позиции не только в российском, но и в транснациональном художественном процессе. При том что он коренной, с 1962 года (со знаменитой Манежной выставки, посвященной 30-летию МОСХа, первой открытой конфронтации официального и нонконформистского искусства, благодаря участию Н. С. Хрущева получившей резко политизированную окраску), деятель неофициальной культуры, Янкилевский в своем продвижении на международную арт-сцену никогда не использовал политический ресурс, вообще избегая всех факторов, отвлекающих, в его представлении, от собственно творческой проблематики. При всей значимости Янкилевского в иерархии современного искусства соотнести ее с определенной классификационной нишей непросто. В нем, несомненно, многое – от классического типа модернистского художественного сознания: явный комплекс демиурга, созидателя собственного мира и собственной мифологии, глубоко серьезное, чуждое иронии ощущение своей миссии. Многое отсылает к классическому постмодернистскому канону: очевидная концептуализация художественной стратегии, умение проблемизировать языковые аспекты, работа с материалом «низкого» (Low): репродукциями, муляжами, реди-мейдами. Правда, кое-что в этот канон не укладывается. Например, отказ от иронии и игры, базисных стратегий концептуализма. А главное – сомнение в тотальной текстуализации мира. Мне уже приходилось в отношении этого художника использовать определение, бытовавшее в литературоведении 1920-х годов: архаист-новатор. Тому есть основания. Для Янкилевского чрезвычайно важен антропологический фактор: человек, включенный во время, меняющийся во временном процессе. При этом временной поток не линеен, в нем возможно одновременное и разнонаправленное существование множества временных циклов. Скорее можно говорить о трех измерениях хронотопа: архаическом, футурологическом и повседневном. Все три взаимопроникаемы. Подобное миропонимание предполагает некую целостную картину мира, нарушение временного договора грозит распадом. Поэтому художник ищет форму выражения этой тройственности. И он ее находит в форме триптиха, в которой, как правило, эксплицированы все три ипостаси временного потока. Эту установку художник описывает так: «Каждый человек носит в себе одновременно прошлое, настоящее и будущее, прошлое как память, настоящее как актуальность и будущее как мечта».
Творческий путь художника прослежен в собрании очень внимательно. Похоже, Gueron’у важно понять, как складывался феномен «The World According to Jankilevsky». Ранняя графика представлена особенно широко. Это путь от вполне натурных зарисовок («Портрет матери», «В. Вейсберг») к вещам повышенной, «предфовистской» цветности («Портрет жены», 1958), затем – вполне модернистская ломка, обострение формы – в духе А. Калдера («Проект монумента», 1960), наконец, предельное, не без влияния Миро, обобщение, почти порывающее с миметическим (серия «Recontrez», «Le Plage», «Paysage de Forses», все —1960).
Молодой Янкилевский принадлежал к группе художников (Ю. Соболев, Юло Соостер, И. Кабаков, В. Пивоваров), которых на рубеже 1950–1960-х годов нарекли «Клубом сюрреалистов». Думаю, в силу ограниченности тогдашней терминологии. Другое дело, все они осознанно и рационально выходили за рамки натуроподобия, по выражению Рильке – «за спину природы». Причем – в случае Янкилевского особенно – очень далеко «за спину». Так, в 1960-е Янкилевского уходит все дальше в направлении от «природных репрезентаций» к условности, знаковости, предельной опосредованности отношений с видимым миром. В серии «Темы и импровизации» (1962) появляются уже фирменная «энергетическая клинопись» Янкилевского: некий симбиоз скорописи формул на доске, трассирующих линий-разрядов, импульсивных, в духе action painting, живописных жестов. При всем том художник смолоду ощущал свой дар рисовальщика, способность «схватить» острохарактерное или придумать его. Это качество сохранится на всем протяжении его творческого пути, оно будет проявляться в самых сложных ассамбляжах, где, казалось бы, прямая речь уступлена муляжам и реди-мейдам. Тем не менее в характерности их поз и положений в пространстве будет реинкарнирован рисовальный драйв Янкелевского (в собрании есть рисунок «Атмосфера Кафки»: в условном, едва намеченном урбанистическом пространстве – уходящая мешковатая фигура в пальто и шляпе. Эта фигура, сочетающая формульность и «ухваченность» характеристики, пройдет по многим сериям, триптихам и ассамбляжам художника: горожанин, кочующий от повседневного к вселенскому и обратно («Люди в ящиках» и др.). Да, Янкилевский склонен к предельной, вплоть до формульности, опосредованности. Но его картина мира (нелинейное время) немыслима без категории энергии. Энергий техно (его атомные станции, а то и их насельники набраны из каких-то электроэлементов и гаек, фрагментов робототехники), энергий космических (зияющие энергетические дыры материи) и энергий тотемных, архаических. Все три вида энергии взаимосвязаны. Это заложено в фирменных антропологических архетипах Янкилевского, головах, синтезирующих архаическое, ацтекское и «научно-фантастическое» (вообще говоря, дискурс научности, занимавший «продвинутую» советскую интеллигенцию во второй половине 1950-х, существенно повлиял на становление художника). В собрании представлено несколько таких архетипов. Они подвижны: внутри идет постоянная борьба. Побеждают (то есть преобладают) какие-то доминантные черты то пришельца, то робота, то мутанта, то какого-то древнего вождя или пророка, то современного горожанина. Сама борьба («прорастание» одного в другом) визуализирована в характере рисования. Gueron как бы предлагает проследить этот процесс эволюции в последовательности изображений «голов», «торсов», «prophets». Отдельная тема – многолетние серии «Мутанты», «Содом и Гоморра» и др. Здесь эволюция безысходна: исковерканно-телесное обременено ошибками творения – генетическими, анатомическими, иными, обусловленными, возможно, техногенными катастрофами. Линия бьется, как под напряжением: пытка антропологической катастрофы.
Как я уже говорил, коллекция сама подсказывает сюжеты… Парадоксальным образом мощно представленный Янкилевский вывел меня к скромным рисункам Валентины Кропивницкой. Вот уж странный переход: после размаха трехмерных триптихов – скромные карандашные рисунки камерного, в сущности, художника. Она происходила из знаменитой художественной семьи: отец, Евгений, был создателем знаменитой Лианозовской группы, художником и поэтом был брат Лев, мужем – Оскар Рабин, деятельный лидер московского нонконформизма. Кропивницкая была в тени. Всю жизнь она рисовала странные композиции: грустные андрогины-фавны в пейзаже – у костра, под деревьями, на берегу озера. Никаких сюжетных завязок: полное, сомнамбулическое самопогружение. Рисование тщательное, отсылающее к усредненному символизму начала прошлого века. Критика пыталась найти объяснение этому странному монотонному рисованию: эскапизм? Мне же неожиданное сопоставление подсказывает другое: речь идет об эволюции, Кропивницкая тоже показывает какую-то незавершенную, прерванную эволюционную ветвь – поэтическую. Пастораль андрогиновфавнов может длиться только в этих рисунках и нигде более, резервов развития у этих мирных большеглазых существ нет, поэтому они так грустно сидят, не глядя друг на друга…
Выставка продолжает сюжет эволюции – на этот раз снова в «большом формате»: широком показе произведений Олега Целкова. Он – коренной «шестидесятник», то есть выразитель поколения, представители которого в разных областях культуры предприняли первые шаги по высвобождению от идеологического прессинга – и осознали себя как некую социально-культурную общность. Естественно, иконография Целкова – агрессивные гнилозубые мокроротые существа о двух и более головах – уже в московский период воспринимались в идеологическом контексте: как тупиковая, «советская» ветвь эволюции, плод «антропологической контрреволюции (З. Красильникова).
Кстати, Gueron – и в этом сильная сторона его подхода – всегда внимателен к генезису «своих» художников. Так, он показывает, так сказать, «домутантный» период: «Автопортрет» и «Натюрморт» 1956 года, вещи повышенной, фовистской цветовой температуры и вполне фактурного, энергичного мазка. Это как бы подготовка появления фирменных целковских персонажей-мутантов с картофелеобразными лицами и узкими подслеповатыми глазками. Сам Целков – видимо, не чуждый мыслей об эволюции – считает, что они представляли «как бы новую человеческую расу». Но какую? Кажется, Целков, «юморист и неисправимый террорист», по точному выражению Алена Боске, тяготился монотонной одномерностью социально ориентированных толкований своего искусства. Если сравнивать его еще московскую вещь «Portrait au masque»
1974 года с более поздними работами, замечаешь: на смену веселой хулиганской экстравертности приходит универсальность. Живописная реализация также меняется: вместо открытого экспрессивного мазка – механическая эмалевидная заливка, как бы напыленность, «пульфонность» цвета. Мазок создает впечатление контактности, тактильности, «напыленность» – отчужденности, некого экрана. Кроме того, ощущение «техно» отсылает к универсальности, взаимозаменяемости. Целковский народец теперь – какой-то иной плоти, иной материальности. Он размножается по-другому, возможно, делением, как в «Deux», мыслит по-другому (в «Tete enfant» причудливая конструкция над головой, видимо, показывает материализацию мысли). Он пытается мимикрировать «под землян», отсюда – какие-то предметные реалии: шляпы, орденские планки и пр. Но он еще – по ту сторону экрана, стекла. Хотя рвется на «человеческую» сторону, царапает невидимую преграду. Кто эти мутанты? Дети еще не устоявшегося, не отформовавшегося в полной мере пра-мира? А может, после-мира, уставшего, утратившего волю к формообразованию. Я думаю, что Целкову важны не результаты интерпретации – их может быть как угодно много, а само их наличие. Ведь каждый факт толкования, интерпретации – подтверждение реальности, витальности его параллельного мира.
Оскар Рабин сыграл ведущую роль в героический, московский период нонконформизма. В собрании он представлен, разумеется, не в силу своей исторической роли, думаю, Gueron’у он важен в силу его интереса к живописной репрезентации, к присутствию в современном искусстве изобразительного плана. Представлены классические рабиновские мотивы – селедки, голая лампочка на шнуре, керосиновая лампа на фоне пейзажа. Ранние рисунки свидетельствуют о натурной, миметической цепкости художника: сначала дается крепко сбитая композиция, которая затем «пробуется на разрыв», ломается по каким-то силовым линиям. В работах московского периода предметности как бы демонстрируются, экспонируются благодаря перспективным смещениям: пространство «взбухает», выталкивая предмет на обозрение. Это прием содержательный, «обрекающий» предмет на внеобыденные контексты иносказательного плана. Он поддержан живописной кладкой, развивающейся от драматически темного до светящегося и постепенно обретающей символическое звучание. Коллекционер, как мне представляется, вполне осознанно выстраивает линию метаморфоз материального плана произведений как своего рода сквозной сюжет. Борьба с весом, преодоление притяжения, победа «метафизики» над «физикой» – постоянная внутренняя тема пластики А. Нея. Эти метаморфозы разнонаправлены. У В. Овчинникова, совсем недавно ушедшего художника из Санкт-Петербурга, автора собственной визуальной мифологии, своего рода «русского Ботеро», – фигуративность не только не исчезает, она форсирована. Но это – квазиматериальность, на самом деле фигуры у Овчинникова объемные, какие-то граненые, осязаемые, лишены веса, готовы воспарить. Они как бы на грани земного и горнего, что, собственно, мотивировано и сюжетами – «Le reve de Jacob» (1980). В работе Н. Нестеровой, художника следующего поколения, «Colin-maillard», сюжет вполне развит: это игра бедно одетых послевоенных подростков. Один из них «водит», у него завязаны глаза. «Невесомость», нематериальность имеет здесь двойную природу: из-за повязки на глазах герой временно потерял ориентировку в реальном пространстве. Но и в целом речь идет о воспоминании, некоем состоянии сознания.
В целом шестидесятники, каждый по своему, смолоду стремились преодолеть примитивное понимание реализма как прямого отражения реальности, которое вдалбливалось официозом (требования правильного партийного искусства опирались на определенные мировоззренческие посылы – «ленинскую теорию отражения» прежде всего). «Приключения» живописной репрезентации, о которых ведется речь, во многом – следствие ухода от декларируемых «сверху» требований прямого отражения реальности (другое дело, что эта «жизненность» априори была сфальсифицирована, ибо картина мира была изначально идеологизирована). Одним из способов отрыва от стереотипа была карнавальность (в ту пору чрезвычайно популярны были работы М. Бахтина о карнавализации современной культуры). Близка неофициальным художникам и «декадентская», музейная, иногда нарочито театрализованная концепция искусства» (Е. Бобринская). В коллекции эта линия (разумеется, в развитии, то есть в том числе и вещами 1980-х годов) представлена работами А. Харитонова, В. Калинина («Памяти Сомова»), Б. Свешникова. Отдельным вектором описанного выше движения служила артпрактика В. Немухина. Пройдя через абстракцию, Немухин вынес из этого опыта понимание ресурса жестовости. Очевидно, он размышлял и о поп-артистской «вещности», данной иллюзорными средствами или средствами редимейда. Все это – и жест, и «вещность» – воплотилось в теме карт. Разумеется, здесь был и романтический след русской литературы: мотив судьбы и риска. В результате появились натюрморты большой объективизирующей силы. Визуализация (натуральные карты как реди-мейды или изображения карт) подразумевала жест, его динамику: «Метать карты на стол». Алеаторика, непредсказуемость также входили в состав немухинской образности, неумолимо отдаляющейся от «правильной», санкционированной картины мира.
Но гораздо распространеннее была тенденция, отражающая работу с репрезентацией реальности в целом. В стихотворении популярного уже тогда в России и переводимого лучшими переводчиками Ж. Превера «Как нарисовать птицу» предлагалось масса способов, как миновать заземленно-миметическое. Шестидесятники опробовали свои, одновременно пытаясь найти язык описания феномена «непрямой» репрезентации реальности. Наиболее популярным объясняющим термином была метафизика (об этом уже говорилось в связи с Шемякиным). Соответственно, рабочим названием для этого направления было выбрано «метафизическое». Одна из центральных фигур здесь Д. Краснопевцев. В коллекции он широко представлен как каноническими натюрмортами, так и ранними рисунками и композициями, представляющими становление художника. Сначала – осторожно «ощупывающие» предметности рисунки. Затем – внимание к архитектуре органической формы, к пустотностям и оболочкам («Натюрморт с раковиной»). Наконец классические натюрморты, завоевавшие Краснопевцеву звание главного метафизика: четкий, выраженный миметический каркас при «выпаренности» плоти, «выкачанности» воздуха. Ситуация безвесия, когда цезуры и пустоты играют не меньшую роль, чем предметности. Ощущение вневременья, когда даже процесс разрушения законсервирован и распад остановлен. Образ тотальной отчужденности… Не столько отужденности предметного мира от воспринимающего. Скорее отчужденности человека от реальности.
«Метафизическая машина» В. Вейсберга, как мне представляется, работает на другом топливе. Во всяком случае, не на отчужденности. В моих глазах он – художник особой чувствительности к духовному статусу изображения. Он не производит никаких постановочных манипуляций – простейшие композиции из банальных банок, по-студенчески просто усаженная модель, ню в традиционнейшей для вековой традиции позе. И вот тут-то материальнопространственное бытие изображаемого тревожит его своей беззащитностью, одинокостью, бедностью. Его знаменитые свечения – не знак дематериализации, развоплощения, как это может показаться. Это, напротив, эманация теплоты – современная и очень авторская версия сфуматто.
В работе Б. Заборова Jeune Fille sur fond bleu – вполне развитый отчетливый изобразительный план, однако внимание фокусируется не на нем. На некоей апперцептивной линзе между изображением и зрителем. Модель остается юной, но зритель знает сыгранный сюжет ее жизни, он находится на другом берегу «реки времен», на берегу живых или выживших. Линза, о которой идет речь, – это визуализация опыта памяти, своего рода поэтика утрат.
Феномен В. Яковлева может восприниматься в контексте взаимоотношений с реальностью, выстроенном его современниками и друзьями. Контекст один, но содержание месседжа совершенно иное. Современники стремились бежать от «нормы», понимая под ней огосударствленное, коллективизированное сознание. Для Яковлева с его душевной болезнью (какая пронзительная метафорика в этом старинном термине – если, конечно, забыть об инерционности его бытования) норма представлялась благом восстановления контактности с миром. Поэтому простейшие мотивы его искусства – портреты, цветы, склоненные друг к другу фигуры – обладают такой экзистенциальной подоплекой: это победа фокусировки, обретение прекрасной ясности! А трагический образ, в духе того времени названный «Метафизической головой», – не о метафизике здесь речь. И не о дематериализации (лицо истончается, изображение обобщается до имперсональности). И не об абстракции – жирные линии, перечеркивающие лицо, только внешне напоминают жесты абстрактного экспрессионизма. Все драматичнее: сознание плывет под напором болезни, материализовавшимся в этих ударах кисти…
Рефлексия процесса и содержания репрезентации стимулировала естественный поворот в искусстве многих шестидесятников. Это был поворот от стремления перевоплотить реальность согласно состояниям своего сознания к принципиально другому. А именно: к сосредоточенности на внутреннем. На умозрении. На режимах работы собственного сознания: автоматизме или, напротив, прозрениях, инсайтах. Соответственно, здесь был важен спиритуальный ресурс. Художник часто ощущал себя транслятором или посредником. Это было в высшей степени свойственно Михаилу Шварцману, представленному в коллекции отличными вещами: «я – иерат – тот, через кого идет вселенский знакопоток» (для переводчика – поток знаков). Когда-то блестящий критик А. Эфрос так писал о великом художнике С. Чехонине: «Он гудел в свои ампирные формы, как в боевые трубы». Шварцман создает структурные «органные» формы. Они как бы специально рассчитаны на органное гудение. На трансляцию, визуальную и даже акустическую, неких трансцендентных месседжей. Метафизика произведений Э. Штейнберга связана с постоянной апелляцией к «духу Малевича». Однако эти своего рода «спиритические сеансы» обостряются и актуализируются двумя неожиданными и внеположными и супрематизму, и друг другу ситуациями: «музейной» (отсюда – классическая валерная живопись) и «бытийной» (от нее идет стремление документировать факты личной биографии художника). И Шварцман, и Штейнберг то отдаляются от натурных репрезентаций, то снова приближаются к ним. Е. Мяхнов-Войтенко, полузабытый ленинградский художник, посмертный интерес к которому пробудился буквально за последние два-три года, работал в чистой абстракции. Но настолько ли беспредметна была его экстравертная абстракция мощного жестового замеса? Думается, здесь присутствовала какая-то вторичная апперцепция: своего рода тактильная прапамять каких-то утраченных соприкосновений и ощущений. Отсюда – артикуляция «темного следа» (А. Пушкин): геологического (стратотипы – разрезы горных пород), палеонтологического (отложения с остатками ископаемых организмов), ботанического. Последний особенно протяжен во времени: от следов ископаемых остатков флоры до сохраненного между страниц альбомов праха засушенных на память цветов и веток… Впрочем, альбомы и домашние гербарии – это уже не прапамять, это более близкий эмоциональный след… Н. Мастеркова во времена лианозовской группы начинала очень своеобразными «плетеными» абстракциями. К 1980-м годам она выросла в потрясающего мастера-перфекциониста. В ее генезисе ощутимы самые разные арт-практики: русский конструктивизм и икона, оп-арт и Пьер Сулаж, Луиз Невельсон и народные тряпичные половики-«кругляши». Все это пропущено через мощную формодробильную установку ее сознания. В полученную взвесь впечатываются какие-то глубинные образы сознания. Упорядоченные, матричные, и деструктивные, засасывающие, как космические дыры… Даже при такой космически-оптической опосредованности произведения Мастерковой, как уже говорилось, носят перфекционистский характер в плане отработанности формальных характеристик.
Концептуализм «уходит» от материально-формального плана произведения к производству концептов, своего рода текстуальных историй, характеризующих способы мышления и интерпретации. По крайней мере, в проекте. На деле порвать с материальным планом произведения нелегко. Недаром И. Кабаков, лидер московского концептуализма, жаловался, что «вещь» (материальный план. – А. Б.) буквально «повисает» на нем «как абсолютная нелепость». Gueren отобрал произведения трех мастеров концептуального плана – И. Кабакова, Э. Булатова и Г. Брускина. Все представлены графикой, причем мощными, «говорящими» вещами. В замечательном рисунке Кабакова 1970 года авторство, вполне в духе концептуализма, минимализировано: это, в сущности, чертеж типового петербургского фасада. Детали – водосточная труба, что-то еще – знак разрушения, небрежения. Предлагается не столько материально-эстетическая вещь, сколько отношение к петербургскому мифу. В реальности он суховат и «чертежен», к тому же изрядно подточен временем. Но воображение готово расцветить этот чертеж какими угодно красками. Тем более если это воображение такого художника, как М. Шемякин, которому и посвящен рисунок. Рисунок цветными карандашами Э. Булатова «Выход», по сути дела, эмблематически выражает новую философию репрезентации, которую разрабатывали концептуалисты. Сам художник писал о «возможности уйти сквозь картину»: преодоление материального плана, прямой «отражательности», последовательного развития образа. Есть многократно экранизированная новелла М. Эме «Человек проходит сквозь стену». Так вот, в этом рисунке художник в буквальном смысле проходит сквозь стены – экраны репрезентаций. Одна – вербальная – остается за спиной. Как и оптическая решетка, за которой – много значений: символическое, физико-оптическое и пр. Материальный, предметный план – и, соответственно, третий экран репрезентации – представляет автопортрет художника, образ вполне узнаваемый и «реальный». Но и художник в буквальном смысле «утыкается лбом» в еще один план: спиритуальный? космический (вспомним еще раз Миро)?
В знаменитых лексиконах и алфавитах Гриши Брускина концептуальное начало проявляется прежде всего в дисциплинарной регламентации пространства. Изображения распределены по ячейкам, за этим распределением – неумолимая регламентация жизни некими ментально-символическими процедурами. Правда, еще Бодрийар в связи с коллекционированием писал о «заполнении клеточек» как об экзистенциальной практике. Гуашь из собрания Gueron’a принадлежит к большому корпусу «алфавитов», посвященных созданию еврейского мифа (одновременно фундаментального и «личного», рождающегося в процессе поисков самоидентификации художника). Здесь действительно есть все признаки универсалий и объективизаций. Есть и архетипическое – в образах мифологических персонажей. Но вот что парадоксально – гуашь оставляет впечатления как никогда тесных отношений художника с реальностью: ментальные рамки универсалий как-то преодолеваются инстинктом наблюдения, вкусом к «схваченным», чуть ли не жанровым подробностям бытия. Обитатели дисциплинарных ячеек, в том числе и мифологические, как бы сходятся воедино в образе некоей живой восточной толпы…
Что ж, J. J. Gueron высматривает в каждом «своем» художнике именно то, что ему близко. Не «спрашивая разрешения» у господствующего дискурса, который, возможно, что-то пропустил, озабоченный другими проблемами. А близка ему в российском искусстве последних десятилетий драматургия изобразительности. Собственно, она и диктует внутренние сюжеты коллекции. Поучительные и иногда неожиданные. Авторское, индивидуальное начало в собирательстве, как и в искусстве, всегда интереснее соблюдения принятых правил.
2016Петр Авен. Советский фарфор Между Октябрьской революцией и Отечественной войной
Крупнейший современный философ искусства А. Данто озабочен архаичным, казалось бы, вопросом – «про что» (aboutness), собственно, искусство в эпоху глобализации? И отвечал с какой-то архаической простотой: искусство «про» тех, для которых оно является переживаемым опытом. То есть, если я правильно его понимаю, – искусство не только «про» изображенное, не только «про» художников и их время, но и «про» нас, его воспринимающих[53]. Перефразируя, я бы сказал, коллекция Авена не только «про» фарфор и фарфористов, но и «про» собирателя, и «про» нас, находящихся с собирателем и материалом (фарфором) в режиме постоянного диалога. Так я понимаю проживаемость коллекции.
Поэтому я ищу в коллекции фарфора выходы вовне – в том числе и вовне собственно фарфорового пространства. Какие двери открывает коллекция? За этими дверями многое. Содержательные аспекты культуры повседневности (сегодняшнее определение той проблематики, на которую «вышел» еще М. Фармаковский, создавая при Русском музее Историко-бытовой отдел). Быт как сфера эстетической практики. Затухание и реактуализация дополнительных по отношению к утилитарной функций. Жизнестроительные аллюзии – «малые утопии», как называет их Дж. Челант[54] и реальное изменение предметной среды. Идея тиража (multiplicata) как коммуникационная проблема и многое другое.
Фарфор Серебряного века: новые контексты
Коллекцию открывает группа произведений, непосредственно принадлежащих наследию мирискусников, а также вещи, находящиеся в орбите этих произведений (сразу оговорюсь – речь идет о хронологически первых, условно говоря, авторских экземплярах, датировка наличных отливок и их отношения с исходными моделями вне сферы моих интересов, да и компетенций). Это «Влюбленные», «На камне», «Дама с маской», разумеется, серовское «Похищение Европы», «А. Павлова в роли Жизели» и «Карсавина» С. Судьбинина, «Дама с попугаем» В. Кузнецова и Н. Данько и выполненная ими же фарфоровая стилизация «Портрета Молчановой» Д. Левицкого. Это две фигуры из серии В. Кузнецова «Месяцы года», редчайший «Лель» Д. Стеллецкого. Добавил бы сюда уникальную «Карсавину» Д. Иванова и «Псишу» О. Глебовой-Судейкиной. Родственно связанные с предыдущими вещами, они вышли на фарфоровую историческую сцену с некоторым опозданием. В чем родственность? Не натяжка ли это – ведь во временной паузе столько всего уместилось. Возьмем, однако, хотя бы балетную тему.
На мой взгляд, В. Гаевский удачно описал «постоянный метасюжет» русского балета – «столкновение парадного обряда и интимного жеста, ритуальных действий и вольных чувств…»[55]. «А. Павлова в „Жизели“ Судьбинина и „Балерина Т. Карсавина в роли Жар-птицы“ Иванова – что общего у этих вещей, между которыми пролегли революции и войны… Поразительно интимный жест, нота несрежиссированной человечности».
В целом эта часть собрания – феерическая репрезентация главных интенций Серебряного века: ретроспективизма, осененности «театральным гением» (выражение А. Остроумовой-Лебедевой»), таинства «петербургского текста»…
Но сначала – о некоем противоречии. Существует целая литература о связях «Мира искусства» с модерном. И наиболее существенной, осязаемой связью принято считать конвенциональное понимание значимости эстетического осмысления предметной бытовой среды и жизненного уклада в целом, а также связанную с ним проблематику тиражности и даже массовости. Здесь средоточие петербургской (западничество) и московской (фольклорный романтизм) специфик, влияний английских (Моррис, Бердсли, Макинтош) и немецко-австрийских (мюнхенский и венский «Сецессион», выступление Ольбриха и Беренса на Дармштадтской выставке 1901 года), теории (публикации Дж. Рёскина, апология Морриса в статьях А. Бенуа) и практики (открытие в 1902 году в Москве «Выставка Нового стиля», в 1903-м в Петербурге, с участием основных мирискусников, выставки «Современное искусство»: по замыслу организаторов – постоянного предприятия, принимающего заказы на оформительские работы). И действительно, какие-то виды искусства – мебель, печатная графика и др. – удивительно «подходили» модерну. Поэтому, скажем, словосочетание «русский плакат модерна» вполне прижилось, оно репрезентативно. А вот «русский фарфор модерна» не звучит. То есть по отношению к массовой продукции, может быть, термин и работает. А вот касательно той группы произведений, о которой идет речь, – нет. В чем дело? Я специально уделяю этому вопросу столько времени, потому что метод от противного, возможно, позволит показать какие-то новые нюансы содержания и бытования предметов, открывающих коллекцию.
Фарфор и модерн: вежливые расхождения
Итак, русский плакат подошел модерну по нескольким линиям[56]. А вот мирискуснический фарфор не стал рупором стиля модерн. Более того, разошелся с модерном без оглядки.
В самом начале 1920-х Э. Голлербах, человек мирискуснической культурной закваски, работая в Русском музее, собрал в одну папку все найденные им русские стихи о фарфоре, от М. Ломоносова до Е. Данько. Написал и предисловие, в котором отмечает: «Возможность „эстетической терапии“ не подлежит сомнению, и потому необходимо, чтобы художественный фарфор был принадлежностью быта, а не только красовался в витринах музеев»[57]. Любопытна сама по себе эта ссылка на художественную терапию в условиях крайнего ожесточения нравов и правил социального бытия в зиновьевском Петрограде, но об этом позже. Риторика эстетического преобразования быта была в ходу у мирискусников в 1900-е годы, так что автор в новых условиях продолжал старую линию. Интереснее то, что содержание голлербаховской папки полностью противоречило, пусть и вскользь прописанной, установке «искусство в быт». Основной корпус стихов принадлежал младшим символистам и акмеистам (В. Брюсов, Н. Гумилев, М. Кузьмин, Г. Иванов, Б. Садовский, А. Ахматова и др.), проявившим, по тому же Голлербаху, «любовь к вещественному миру», в том числе к фарфору (старших символистов эта материя не волновала). Так вот, во всех приведенных стихотворениях отношения с фарфором (естественно, в разных контекстах – от «мистики вещей» до «предметной» фетишизации любовных интенций) – сугубо индивидуалистская история. Так оно и было – фарфор Серебряного века устранился как от предметно-средовых обременений модерна, так и от стилевых стандартов. Эти обременения у модерна (во всех его наименованиях) – осмысленное эстетическое формирование вещного мира и бытового уклада – были, в отличие от тотальных жизнестроительных амбиций авангарда, выполнимы и даже отчасти выполнены. Но даже в таком сравнительно практичном варианте авторов фарфора, открывающего коллекцию, эти обременения не особо тревожили. Это был проект узкой группы индивидуалистов. Они охотно говорили о себе как выразителях духа нашего времени. Но понимали – прежде всего когда речь шла о фарфоре – «наше» буквально как «свое».
Иными словами, у фарфора Серебряного века и у модерна нет некоей «средней температуры по палате». Для бытования модерна как международного стиля нужны были какие-то стандартные жизненные показатели. У мастеров Серебряного века стандартных показателей быть не могло: индивидуальная творческая жизнь осуществлялась в показательном разбросе «данных»: сердцебиение и амок, прилив дикарской энергии и жеманная мигрень, сексуальное возбуждение и метафизические страхи, «Безумной нежности припадок, / Предвосхищенье смертных мук». Позитивное желание привить обывателю некие общие навыки предметно-средовой эстетической гигиены (а что – писал же А. Бенуа о «гигиеническом стиле» в архитектуре) и такие перепады температуры несовместимы.
Вместо того чтобы солидно пригласить чистую публику в удобный пульмановский вагон разумно обустроенного современного стиля, эти мастера вразброд выгребают к укромному острову, не предназначенному для массовых гуляний. Прямо по В. Тредиаковскому – «Езда в остров любви». Туда, где, уже по Н. Гумилеву, «поднялся павильон фарфоровый». Парадоксальным образом эта костюмированная, игровая, искусственная, стилизующая пасторальные жанры «езда» оказалась – не про эстетизацию жизни в ее предметных формах. Она оказалась «про» жизнь. Про ее драматизм и хрупкость в ситуации ожидания энтропии. Ключевым словом произведений пасторального модуса стало «разбить». Героиня «Стихов Нелли» (литературной мистификации В. Брюсова, создавшего своего рода общее место позднего декадентствующего символизма) отождествляет себя с фарфоровой пастушкой: «И, что на столике я чья-то статуэтка, / Готова верить я сама. <…> И кто-нибудь меня неосторожно тронет, / Смеясь, порывистым движением руки, / Фигурку хрупкую безжалостно уронит / И разобьет ее в куски». Самоощущение культуры выдвинуло фарфор на передний план. Настолько, что большой пласт прозы и особенно поэзии Серебряного века можно рассматривать как экфразис фарфоровых образов 1900–1910-х годов.
Экфразис и новые прочтения
Общим местом стало определять искания Серебряного века термином «ретроспективизм». В последнее время в качестве почти синонимически близкого к нему стали употреблять термины «пасторальный» (пасторальный метажанр, пасторальный код и пр.[58]). А также – театрализация, лицедейство, даже – театрократия[59]. Всегда ли такие сближения справедливы? Действительно, трудно спорить: вектор интересов большинства мирискусников – возвратный («художник возврата» – определение А. Бенуа). Однако у каждого крупного мастера этот возврат имел свои особые коннотации. Так что приходится искать конкретику ретроспективного у каждого мирискусника. Скажем, В. Серов и Е. Лансере в своих петровских сериях менее всего пасторальны и театральны: «радостное настроение простора, ветра» (Е. Лансере) в этих работах – знак непредвзятой, не опосредованной «стилем» попытки вжиться в реалии эпохи. «Версальский» А. Бенуа – тот действительно театрален в духе пасторалей Мариво: стилизует не только изображение, но и собственные эмоциональные реакции. Этикет версальской жизни (собственно, при Людовике IV и был разработан этикет: гостям раздавались карточки – этикетки с правилами поведения) строго соблюдается персонажами Бенуа: они совершают променад, вожделеют, даже в купальне ведут себя строго по этикету. Некий этикет предусмотрен и для зрителя. Это не непосредственный контакт, а опосредованный: ситуация смотрения смоделирована – зритель наблюдает как бы из зрительного зала. Даже эротические моменты – «подглядывание» за маркизой в купальне – срежиссированы: это не самозабвенный живой вуайеризм, а скорее рассматривание в лорнет картинки (живой картины?) игривого содержания: в борьбе телесного с условным все-таки побеждают правила игры, этикет. Ну а Сомов? Экфразис сомовских образов, созданный современниками, большей частью акмеистами, а также соратниками по «Миру искусства», пожалуй, наиболее обширен. При всем обилии точных наблюдений и ярких метафор, содержательный план этого экфразиса (практически без корректив принятый искусствоведами последующих поколений) достаточно редуцирован. Он строится на нескольких близких оппозициях. Живое – мертвенное; реальное (телесное) – искусственное, кукольное, театральное; эротичное, сладострастное – хладное, безобразное; текучее, мимолетное – вечное. Каждой оппозиции легко подыскать соответствующую цитату. Типологический прием описания – «проявление» этих конфликтующих начал «сквозь» материальный план, также имеющий свою типологию персонажей[60]. А также типологию ситуаций и атрибутов: «Любовь к радугам и фейерверкам, к мелочам техники, милых вещей, причесок, мод, камней, „сомовщина“ мной овладела»[61].
Видимо, художник вполне осознавал наличие сомовщины, во всяком случае, он неоднократно отмечает, с каким трудом вынужден работать над очередной «маркизой».
Думается, обращение Сомова к фарфору во многом обусловлено не только предложением завода и проекцией личного коллекционерского опыта, но и желанием преодолеть инерцию стиля. В этом плане фарфор давал неожиданные возможности. Сам процесс работы с объемом – не изображение драгоценного, рассыпанного в мире, а непосредственное материальное исполнение его – лепкой, раскраской (с последующей закалкой формы, крытья и изображения огнем, которая не могла восприниматься иначе, нежели в свете общей мифотворческой установки мирискусников), как бы возвращал Сомова к демиургическим первоистокам творческого процесса. Пожалуй, работа с фарфором в силу самой своей рукотворности – тактильности, акцентировки касания, осязательности контакта с материалом – давала новое ощущение протекания времени. Качество, исключительно важное для культуры Серебряного века, – так в связи с М. Кузьминым и акмеизмом исследователь говорит о «поэзии протекания, красочной фактуры и свободы»[62].
Иными словами, осязательная процессуальность формообразования преодолевает условность хронотопа (весь этот, по выражению А. Бенуа, «трогательный быт забытых мертвецов») ради возвращения в ситуацию «здесь и сейчас». Это преодоление чрезвычайно важно в контексте самовыражения художника, репрезентации своеобразия его личности. Приведу сомовскую дневниковую запись: «Женщины на моих картинах томятся, выражение любви на их лицах, грусть или похотливость – отражение меня самого, моей души. <…> А их ломаные позы, нарочитое их уродство – насмешка над самим собой и в то же время над противной моему естеству вечной женственностью. <…> Это протест, досада, что я сам во многом такой, как они. Тряпки, перья – все это меня влечет и влекло не только как живописца (но тут сквозит и жалость к себе)»[63].
С этой цитатой хорошо компонуется фрагмент из предисловия Э. Голлербаха к уже упоминавшейся папке стихотворений о фарфоре: «Фарфор – женственно-пассивен и кокетлив, он любит украшения, нарядную, изящную живопись, прихотливое кружево узоров, яркие, блестящие краски. Неслучайно фарфор – женского рода и по-французски (la porcelaine) и по-немецки (das Porzellan), то есть у народов, создавших шедевры фарфорового искусства. Фарфор покорно отдается художнику-декоратору, и от ласковых прикосновений кисти душа его расцветает радостно и ярко. Пассивность фарфора граничит с упорством и это сообщает ему особое достоинство, как материалу»[64]. Конечно, здесь напрашивается принцип трансфера, однако углубляться в психоаналитический дискурс не буду принципиально: опыт многих искусствоведов учит, что доверие к нему как-то уводит в сторону от предмета исследования. Однако глубинную мотивировку обращения именно Сомова к фарфору этот монтаж цитат дополняет глубинными обертонами. Есть определенное продолжение этой психологической темы. Нетрудно заметить – и на это обращалось внимание – непроработанность женских образов в фарфоровой серии Сомова. Собственно, и в живописи, и в графике художника «психологизм» нивелирован: Сомову нужно определенное, достаточно условное, состояние – ожидание, призыв, готовность и пр. (Показателен в этом плане сет сомовских акварелей в собрании Авена.) Ничего более сложного. Это легко объяснить ретроспективизмом. Н. Врангель даже писал о притягательности «отдаленности». Скорее тут историческая достоверность: язык страсти в восемнадцатом веке формализован, язык мушек был вполне достаточен для амурных дел. Второе объяснение – сама природа фарфора, не вполне предназначенная для разработки психологических характеристик. Можно объяснить эту условность и все тем же трансфером: в «непроявленности» женских образов, их «пустотности» – готовность к подмене: переодевание мужского в женское (и наоборот) в духе восемнадцатого века; гендерные интриги остро занимают и Серебряный век, и Сомова в частности.
Зато вполне определен в «Свидании» тип кавалера, как говорили в прошлом веке, «строящего куры» (от faire la cour – ухаживать): юноша с напомаженным коком, вневременно, то есть «на все времена» незначительное лицо. Вспоминается тыняновское, из «Смерти Вазир-Мухтара», описание влюбленного коллежского асессора: «человеческое лицо невысокого пошиба, с усиками и баками». Почему Сомов оставляет этот «невысокий пошиб» – и в авторской модели, и в росписи для Императорского завода? При том, что метод одрагоценивания фарфоровой пластики остается неизменным. При том, что и костюм молодого человека фантазиен: «цветной узор / Пестрит жилетов нежные атласы» (М. Кузьмин).
Думаю, мы имеем дело с очень важным моментом – снижением стиля. Обычно «фирменным» образным приемом Сомова считают амбивалентность в отношении жизни/ красоты и смерти/разложения. Как писал М. Кузьмин: «…или подчеркнутая прелесть (почти не одухотворенная) кожи, молодости, эфемерной плотской жизни, летучего блеска глаз, почти такого же, как отливы шелка, меланхолическая и хрупкая, или же вдруг ясно выступает тлетворный знак уничтожения и из-за реальных черт видится костяк или труп». (В «Терцинах к Сомову» Вяч. Иванова примерно то же: «И, своенравную подъемля красоту / Из дедовских могил, с таким непостоянством / Торопишься явить распад и наготу / Того, что сам одел изысканным убранством».) Но эта риторика амбивалентности – в рамках высокого стиля.
С персонажем «Влюбленных» – дело принципиально иное.
Возможно, это самоирония: художник отрефлексировал некую инерционность собственного стиля и решил бороться с ней (или хотя бы указать на нее) снижением иконографической нормы: не маркизы и даже не пастушки, а такой вот «невысокий пошиб», который он «одел изысканным убранством». Но скорее это мог быть месседж «сомовщине» как некому публичному явлению. Здесь еще один импульс вовне, посылаемый этой буквально брезжущей смыслами скульптурой. Полноте, существовала ли реально эта сколько-нибудь публичная «сомовщина» как некая ценностная ориентация или хотя бы как поведенческий стиль? Ведь выше в связи с модерном писалось о том, что мирискусники как-то манкировали обязательствами модерна по эстетизации предметной среды? Предметной среды, сколько-нибудь массовой, мирискусники не создали. Сомов называл свои скульптуры униками, и даже тиражи Императорского завода по его моделям были малы. Другие мастера Серебряного века, «отметившиеся» в предметном искусстве (панно, мебель и пр.), работали со считаными заказчиками высшего круга (в отличие от более массовой продукции представителей национальной версии модерна). Можно сказать, Серебряный век противился тиражной трансляции.
Однако если сколько-нибудь широкого «предметного» воспроизводства не было, то «тиражировались» литературные и поведенческие стереотипы и их носители, персонификаторы, известные и имперсональные. И. Бунин в «Поэтессе» «замахивался» на самых известных, чуть ли не на А. Ахматову и М. Кузьмина: «Пучков, прочтите новый триолет…» Язвительным описателем этого типажа был молодой В. Ходасевич, даже у известных поэтов (Г. Иванова) находивший способность «показаться изысканно-томным, жеманным, потом задумчивым, потом капризным». Таких поэтов, по словам критика, в Петрограде «мелькнуло много». В. Ходасевич писал про это явление: «Это – одна из отраслей русского прикладного искусства начала XX века. Это не искусство, а художественная промышленность (беру слово в его благородном значении). Стихотворцы, авторы стихов, „которые могут и должны служить одной из деталей квартирной обстановки“, их читатели „томные дамы и фешенебельные юноши“ – первый эшелон публичного извода „сомовщины“»[65]. Существовал и более массовый эшелон, воспринявший месседж Серебряного века с еще большими упрощением и искажением. У этого поведенческого и предметного стиля есть свой экфразис – тоже снижающий, часто пародийный. «Вот тебе и Борисов-Мусатов» – слова героя «Приключений Растегина» А. Н. Толстого могут служить эпиграфам к этому экфразису. Напомню только эпизод приобщения авантюриста Растегина к «современному стилю»: «– К стилю я давно охоту имею. Некогда все было, сам знаешь. А уж за стиль взяться, тут дело не маленькое. Александра Ивановича знаешь, на Маросейке торгует, так он до того дошел, – спит, говорят, в неестественной позе, по Сомову. За ночь так наломается, едва живой. А ничего не поделаешь. Валяй, брат, вези меня брить!
Обработка Александра Демьяновича под стиль началась немедля».
Что ж, фарфоровое трио Сомова и ряд других произведений фарфоровой пластики, не став влиятельной силой в формировании собственно предметной среды, добились большего. В силу уникальности, малотиражности и прочего их физическое, материальное присутствие в предметном мире было крайне ограничено. Однако «овнешняя» (идиома М. Бахтина) интенции Серебряного века, они повлияли – пусть в вечном поиске баланса оппозиций высокое/ низкое – на стиль жизни. Недаром С. Дягилев, наиболее прозорливый арт-менеджер эпохи, вытребовал в 1906-м все три авторских экземпляра сомовского фарфора для парижского показа. Он разглядел в них то, что искусствоведы стали выискивать в визуальной культуре двадцатого века только к его завершению: качества, делающие произведения иконами стиля, icons.
Национальное: мифопоэтическое прочтение
Уже говорилось о том, как простое сопоставление штучных произведений собрания пластики 1910-х годов (они и в физической реальности считаны) вызывает к жизни культурологическую рефлексию. Так, диалог широкоизвестного «Похищения Европы» В. Серова и чрезвычайно редкой вещицы Д. Стеллецкого «Лель» заставляет задуматься о двух ветвях мифопоэтического мышления – «западнической» и национальной. Последняя имела мощное и многолетнее продолжение: легко преодолев революционный рубеж между двумя эпохами, она укоренилась в национальном фарфоре. На разных этапах эта линия окрашивалась и «официальной народностью» (А. Пыпин), в том числе и советской ее версией, и суховатым этнографизмом. Тем не менее она дала немало замечательных – естественно, мифологизированных – образов национального Золотого века.
«Изыскание самостоятельного национального стиля» было задачей официальной, спущенной сверху (и, заметим мы, обреченной на реактуализацию при любых последующих политических пертурбациях). Е. Лансере, с 1912 года занявший пост художественного руководителя императорского фарфорового и стеклянного производства, в эскизе настольного украшения «Жатва» (частично реализованного в 1915 г. Н. Данько) и в прямом (планировалось использовать скульптурные основания парадных сервизов), и в переносном смысле опирался на риторику и патетику фарфоровой темы в духе «кавалерских банкетов». Петербургский скульптор В. Кузнецов в серии «Месяцы года», представленной в коллекции несколькими вещами, пошел в поисках национальных истоков гораздо глубже: в дохристианскую славянскую Русь. Конечно, славянская тема в культуре 1910-х была представлена многосторонне: живопись Н. Рериха, «дягилевская» триада И. Стравинского с «Весной священной» в сердцевине, «языческий» выплеск позднего символизма и самого А. Блока. Скульптура Кузнецова отличается каким-то внутренним покоем. Вообще, архаические отсылки (и большинство «славянско-языческих» реминисценций в культуре этого времени) отягощены разного рода драматургией: сюжетно-событийной, как в картинах Рериха, психоделической (экстатическое «Выплясывание земли» в «Весне Священной»). Все это было вполне в духе психологических установок эпохи.
Ничего подобного – у Кузнецова. Он был известным скульптором-монументалистом, декорировавшим многие ключевые здания петербургского модерна: Азово-Донской банк, дом Мертенса, Училищный дом им. Петра Великого и др. Фарфоровые образы Кузнецова статуарны (я вкладываю в этот термин наличие внутреннего центра тяжести, резерв устойчивости). Дело не в отказе от экспрессивного жеста (они, скульптуры, жестикулируют крайне скупо, как будто боятся потерять равновесие). Дело в идущей от архитектурного декора идее поддержки тектоники фасада. Поддержки не столько физической, сколько метафорической: скульптура фасада как бы готова поддержать устойчивость буквально – подняв руки, как кариатиды, распрямив спины, если речь идет о рельефе. Отсюда пластическая метафора устойчивости: надежная постановка фигуры в пространстве, некоторая замедленность действий. А. В. Иванова видит в этом театрализованное начало: по аналогии с драматургией «Весны священной» – заколдованность магическими заклинаниями[66]. Я же не думаю, что здесь есть хотя бы начальная сюжетная завязка. Просто метафора физической поддержки: стены или ментальной картины мира. Строго говоря, Кузнецов не следует народному месяцеслову, он использует традиционные названия знаков Зодиака. «Народное» здесь – хронологическое соответствие знака трудовому – земледельческому, охотничьему и пр. – циклу жизнедеятельности древних славян. Собственно, фигуры «показывают» устойчивость этих связей. То есть демонстрируют труд как обряд. Обрядность – повторяемость, цикличность (до сих пор репрезентирующиеся фольклорным искусством). «Замедленность» движения у фигур Кузнецова – метафора цикличности, повторяемости, несведенности действия к разовому моментальному жестовому акту. В конечном итоге – метафора прирастает: теперь это и антитеза ускоряемости ритма, связанной с отказом от первоистоков земледельческой культуры. Спешить нельзя: сбой обряда грозит сбоем течению всего природо и жизнеоборота. Метафоричный план продолжает обогащаться. Теплых оттенков белое крытьё (почти сплошное – момент технологически трудный, чреватый большим процентом брака-засорки – при обжиге) – знак льняной, домотканой культуры. В легкой геометризации пластических решений (конечно, здесь не обошлось без влияния «геометрического проекта» культуры XX века периода его становления) также высвечивается метафорический смысл. Обобщенность, «спрессованность» (работа времени) вплоть до легкой огранки – знак самодостаточности формы, ее отдельности, отстраненности от наличного времени. И ее готовности к хронологической навигации – рассекать календарное, быть на все времена. Все это – знак архетипа. Послание из архаики. Как приставка «пра», согласно словарям, обозначающая: «1) отдаленную степень родства по прямой линии (напр., прадед); 2) изначальность, древность (напр., праязык)». Это очень важно для развития фарфоровой пластики – пракосарь. Прапастух. Мы вернемся к этой теме, когда будем рассматривать послереволюционную агитационную скульптуру.
Агитационный фарфор: деология, мифология, практика
Агитационный фарфор в собрании Авена представлен с предельной полнотой. Вообще, этот материал многократно описан, существует целая традиция, у истоков которой – современники этого героического периода русского фарфора: тот же Э. Голлербах, В. Охочинский, П. Фрикен, А. Эфрос и Н. Пунин, конечно же Е. Данько. Классичной остается работа Л. Андреевой[67]. В. Толстой, Н. Лобанова-Ростовская, Т. Кудрявцева, Н. Попова, Н. Петрова, Э. Самецкая, молодой, недавно заявивший о себе монографией, посвященной Н. и Е. Данько, В. Левшенков и др. провели огромную работу исследовательски-публикаторского плана. Рискну сказать, что труды Л. Андреевой, сочетающие фактографическую базу, тонкий стилистический анализ и культурологическую широту, повлияли на само направление поиска нашего искусствоведения в сторону скорее знаточескую: казалось, теоретические проблемы раннего советского фарфора, исследованные на безупречном фактографическом фоне, разрешены на долгие времена. К тому же культурно-функциональная природа фарфора была исследована с подобной же полнотой, правда, на материале XVIII века, Н. Сиповской[68]. Вследствие ли этих, как будто «закрывающих» тему в силу своей значительности, исследований, или других обстоятельств знаточеская установка (мотивированная к тому же коллекционерским бумом) в значительной степени возобладала над культурно-интерпретационными практиками. Между тем фарфор – благодарный материал для культуральных и культурно-антропологических подходов, продемонстрированных хотя бы в уже упоминавшейся книге Дж. Челанта «Маленькая Утопия», сопутствовавшей одноименной выставке. Фарфор, особенно агитационный, – идеальный «текстовый ансамбль» (термин Г. Клиффорда), ждущий интерпретаций в этом направлении. Наконец, далеко не исчерпано эстетическое измерение этого материала, постоянно корректируемое и новыми методологиями исследования, и обновляющейся (благодаря, надо отдать должное, все той же знаточеской линии) информационной базой.
Созданную еще в 1920-х годах мифологию советского агитационного искусства (ленинский план монументальной пропаганды в его целостности: монументальная скульптура, «Окна РОСТА», плакат, оформление празднеств, агитпоездов, витрин, знамен и пр.), в которую вполне органично вписывался агитфарфор, представляли как идеальную сцепку поэтики и аксиологии (внехудожественной реальности – идеологических программ и т. д.). Фарфор при этом был эталоном именно синтеза: все другие виды искусства, кроме совсем уж «прикладных», обладали ресурсом саморазвития, накопленного в дореволюционное десятилетие энергии авангардного поиска. Все это, терминологически суммированное в последующие десятилетия как «формализм», могло увести в сторону от конкретики агитационных задач. Фарфор был более «податлив», в его природе был заложен модус готовности к выполнению государственных (дипломатических, политически-репрезентационных и пр., см. об этом у Н. Сиповской) функций. (На другом языке описания этот модус часто определялся как «женственность». Так, тот же Голлербах писал: «Фарфор покорно отдается художнику-декоратору, и от ласковых прикосновений кисти душа его расцветает радостно и ярко». Фарфор с готовностью «отдается» и государству, и эта «государственническая» традиция в России прослеживается с первых его шагов.) Итак, лозунг ложился на фарфор как влитой, предрасположенность к формообразованию в духе новых государственных запросов также была высока. В этом плане снижать романтический пафос этой мифологии агитфарфора было бы несправедливо: это явление органичное, исторически мотивированное, какие бы идеологические декорации ни достраивались post factum. Однако определенная объективизация все же необходима. По вполне понятным идеологическим причинам советское искусствоведение акцентировало уникальность феномена агитфарфора (в качестве предшественника выдвигалась разве что заведомо менее масштабная по художественным интенциям продукция Неверского фарфорового завода времен Великой французской революции). Но по тем же причинам агитфарфор не рассматривался в русле других гипермасштабных проектов по изменению и созданию государственных и политических символов в России.
Фарфор: опыт репрезентации государственной власти
Самым напрашивающимся в этом контексте примером может служить петровская деятельность по регулированию и прямому созданию «символов и эмблемат» новой империи. Она носила тотальный характер и, проникая «вглубь» тогдашней жизни, утверждалась на самых разных носителях: от архитектурного декора до эфемерии фейерверка (фарфор, естественно, в число этих носителей еще не входил. Хотя отблеск – хотя бы в прямом смысле, тогда возьмем фейерверк – этого проекта ложится и на ряд произведений агитфарфора, например тарелку 1921 года Кобылецкой, в которой лозунг как будто высвечен пиротехнически, гирляндами огней). Каждое царствование вносило свои коррективы в визуальную репрезентацию государства, иногда – весьма существенные в стилистическом плане (эпоха Александра III), и Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) не стоял в стороне. Даже невыразительное и стилистически эклектичное царствование Николая II, воспользовавшись 300-летним юбилеем династии, пришедшимся на весну 1913 года, разработало собственную программу. Требования триумфальности сочетались здесь с подспудной темой легитимизации, преследующей это правление. Выбор репрезентации был несложен, современный исследователь удачно обозначил подобную установку как «визуальное народоведение»[69]: обилие этнических типов народов, населяющих империю, само по себе свидетельствовало об ее величии. Программа визуального народоведения была достаточно разветвленной и включала этнографическую съемку, многочисленные издания соответствующего типа, горельефный фриз В. Богатырева и М. Харламова, изображающий народы, населяющие империю, в Мраморном зале Российского музея этнографии (тогда – Этнографический отдел Русского музея императора Александра III). ИФЗ «ответил» 152 фигурами (скульптор П. Каменский) представителей народов России. Они показаны вне жанровой подоплеки («схвачены» не в момент исполнения фольклорных хороводов или работы на промыслах, а как бы демонстрирующими себя, предъявляющими себя инстанции власти). Это именно репрезентаторы – обилия этносов, их достатка, лояльности, удовлетворенности мироустройством. (Немудрено, что установка визуального народоведения пришлась и к сталинскому двору: «юбилейные» фигуры ИФЗ неоднократно повторялись, «Народы России», собственно уже СССР, прирастали новыми, специально созданными скульптурами.) «Визуальное народоведение» было, пожалуй, только частью системы визуальной репрезентации государства и власти. Оно, несомненно, имело символическую составляющую, но «материально-изобразительный» план с его наглядностью, осязательностью, дидактичностью, скрытой повествовательностью играл едва ли не самостоятельную роль. Большая же часть этой репрезентации обычно разворачивалась в пространстве символическом и оперировало тропами – иносказаниями типа аллегорий и символов, системами знаков (знамена, форма и пр.). В мирное время визуальная репрезентация господствующей власти корректировалась с точки зрения новых идей (иногда, как в петровское время, весьма радикально) и изменений стилевого плана, но не подлежала уничтожению. В революционный период нередко возникает борьба политических символов, своего рода перетягивание каната власти. Но когда сильнейшие побеждают, они утверждают (или возрождают) собственную политическую символику. В России империя рухнула неожиданно и мгновенно. Так что борьбы символов (как это было на всем протяжении революционного движения в царской России) практически не было. Даже впоследствии, в период Гражданской войны, в белых армиях всячески избегали использовать имперские символы в их классическом виде: аффектированная старорежимность не была козырем в политической пропаганде. Так что В. Маяковский в стихотворении, написанном немногим больше месяца после отречения Николая II (а именно, 17 апреля 1917 г.), искусственно драматизирует перипетии этой «борьбы символов»: «…оттуда, / где режется небо / дворцов иззубленной линией, / взлетел, / простерся орел самодержца, / черней, чем раньше, / злей, / орлинее. <…> Штыков зубами вгрызлась в двуглавое / орла императорского черное тело».
Символоборчество и символотворчество
Старая символика рухнула вместе с государством. Она с особым азартом уничтожалась снизу, стихийно. Заступников практически не было. «Я так боялся, что останется династия. <…> Видел, как везде сбивали царские гербы», – это не Маяковский писал, Сомов[70]. После Февральской революции активно развивалась «народная геральдика». В ее основе лежала символика революционного подполья. Особенно активно «низовое символотворчество» развивалось в знаменном деле: воинские части, профсоюзы, районные советы создавали собственные знамена и транспаранты. Лозунги диктовались «повесткой дня», символика была старой, революционно-демократической (об этом – ниже). Изобразительные решения, как правило, непрофессиональны – повествовательны, композиционно перегружены. Если говорить о ситуации «сверху», то Временное правительство как-то тормозило с централизованным символотворчеством. Орел оставался государственным гербом, правда, без императорских атрибутов. Получив в наследие традиционную революционную символику, Временное правительство использование ее во многом отдало на самотек, «низам». Само же не смогло управиться с ней эффективно. Символическое для власти постоянно переходило в практическое поле: развитие событий (хотя бы на фронте) требовало защитительной полемики по поводу старых символов (знаки отличия, погоны, военная иерархия и пр.). Уступки были безоговорочны, старые символические и иерархические формы отстоять не удавалось (хотя их мобилизационную и дисциплинирующую функции пришедшие к власти люди вполне понимали). В глазах же прогрессистской общественности сама постановка вопроса о целесообразности немедленного слома всех элементов символической репрезентационной системы воспринималась как заигрывание со старорежимным. Взаимоотношения с символикой революционного подполья также складывались непросто. Возможно, здесь «февралистов» подводила либерально-демократическая закваска: слишком уж риторика и символика, доставшаяся во многом еще от «Народной воли», была традиционно агрессивна. Все-таки одно дело «эй, дубинушка, ухнем» как метафорика, другое – как государственный лозунг. Реальные кровавые эксцессы, которым подвергались со стороны революционных масс офицеры, и так преследовали сознание «временных»… Большевики уже в дооктябрьский период наращивали мощь старого оружия революционной пропаганды, превращения революционных метафор в реалии междоусобной борьбы нисколько не боялись. Побеждающие политические силы (большевики и левые эсеры) постепенно забирают у Временного правительства власть и революционные символику и ритуалы. Это процесс, большевики, перетягивая на свою сторону революционные лозунги и символы, вели игру беспроигрышно: в глазах общественности речь шла об углублении революции. Наконец Октябрьский переворот происходит, старореволюционная политическая символика (с ее несомненным, завоеванным поколениями борцов с царизмом, авторитетом) апроприирована полностью, ее элементы начинают временно выполнять функции государственной геральдики. Это была большая символическая победа большевиков. Но какова связь всего этого с агитационным фарфором?
Все вышесказанное вовсе не направлено на подрыв мифологии агитфарфора как выражения революционной энергии. Просто некоторые уточнения позволят объективнее прочесть заключенный в нем исторический месседж.
Первое уточнение связано с историей визуальной репрезентации государства. Опыт участия в подобных проектах (пусть не столь масштабных), как мы убедились, у императорского фарфора был. Были и руководители, способные, хотя бы в силу достаточной исторической культуры, подсказывающей ряд прецедентов, отрефлексировать задачи коллектива: что, собственно, хочет от производства новая власть? На это накладывались и определенные художественные амбиции. Чехонин, Вильде и др. едва ли обладали революционным радикализмом Маяковского и ряда «левых»: «Моя революция». И уж наверное не обладали, подобно лидерам авангарда, совершенно наивными, как это показала история, претензиями поучаствовать – чуть ли не на равных с Советской властью – во всемирноисторических процессах жизнестроительства. Но попробовать – почему бы нет – осуществить давнюю мечту (ее лелеяла хотя бы такая неконъюнктурная художница, как Н. Гончарова) получить государственную поддержку своему художеству без казенных институциональных обязательств, «на чистой идее»? Думаю, такова была психология организаторов раннесоветского фарфорового дела, по крайней мере С. Чехонина.
Второе уточнение исторического порядка. Итак, уже в Феврале полностью победила революционная символика. Царская последовательно уничтожалась. Новая не изобреталась «в боях Революции и Гражданской войны»: она в течение десятилетий разрабатывалась российской революционно-демократической интеллигенцией. Автор интересной книги о политической символике Февральской революции пишет о «развитой политической субкультуре революционного подполья», которая «включала целую систему ритуалов, традиций, символов, играющих важную роль в воспроизводстве структур революционного подполья, постоянно возрождавшихся, несмотря на все полицейские преследования»[71]. Она-то и разработала визуальную репрезентацию революционного движения. Добавим: если речь идет о визуальных символах, то не только о «субкультуре подполья». «Революционные символы» в разной визуальной трактовке присутствовали не только в нелегальной, но и в подцензурной демократической печати.
Коллекция агитфарфора Петра Авена включает практически полный корпус революционных символов. Их не так много: красный флаг, серп, молот, цепь, сноп, шестеренка, щит, лукошко, рукопожатие, восходящее солнце. Заводские трубы – этот мотив, эмблематизированный в фарфоре Н. Альтманом, Р. Вильде, И. Школьником, также отработан революционно-демократической традицией. Он встречается не только в графике революционных журналов революции 1905 года (И. Грабовский и др.), но даже в монументальном искусстве (мозаика С. Шелкового по фасаду доходного дома герцога Н. Лейхтенбергского в Санкт-Петербурге (ул. Б. Зеленина, 28, арх. фон Постельс). Встречается и религиозная иконография, соответствующим образом трансформированная: Георгий Победоносец, Ангел, Храм, Горний Град, иконные горки (в собрании Петра Авена – тарелка с росписью А. Голенкиной), Башня (в нескольких базисных толкованиях) и др. Я бы добавил в этот ряд изображения цветов, чрезвычайно распространенных в агитфарфоре. Обычно цветы в этот символический ряд не ставятся: «живопись цветов и фруктов» на все времена. При чем здесь революционная символика? Скорее уж цветочные мотивы стоит рассматривать в ракурсе индивидуальной стилистики конкретных авторов (так, Л. Андреева дает виртуозный стилистический анализ эволюции «цветочного стиля» Чехонина). Мне все же хотелось бы обратить внимание на момент, который может показаться парадоксальным: символический подтекст изображения цветов, связанный с революционно-демократической литературной и песенной традицией. Дело в том, что даже большая поэзия вводила тему цветов в социальный контекст: «Сытые» в одноименном стихотворении А. Блока «скучали и не жили, / И мяли белые цветы». Но особенно настойчиво действовали в направлении «социализации» цветочного мотива «пролетарские поэты». Малоизвестные по отдельности, в совокупности они транслировали месседж, существенно влиявший на сознание широких кругов политизированных современников. В их лирике образ цветов приобретал самые разнообразные коннотации. Так, Е. Тарасов обращается к цветку, принесенному к нему, узнику, в темницу, как к товарищу по несчастью: «Цветы побледнели от боли. Прощайте. Усните. Мне нечем помочь: Я – пленник. Я тоже в неволе».
А. Боровиковский также находит цветы «среди цепей»: «От жизни, от надежд, заброшен ключ от двери, / И там среди цепей он отыскал цветы / В сердцах людей, людьми отвергнутых, как звери». Цветы узникам, цветы на могилу героев-революционеров, гирлянды, венки, венчики – образы-топосы нехитрой русской пролетарской поэзии предреволюционных и революционных времен (впрочем, готовые мигрировать в сферу высокой художественности – вспомним блоковское: «в белом венчике из роз»…). Таким образом, цветы воспринимались массовым сознанием не только как декоративный мотив. Иначе соседство лозунгов и революционных символов с бесконечными цветочными композициями выглядело бы искусственным. Для сознания же художественного существовал еще один, более «ученый» аспект: опыт декорирования празднеств Французской революции гирляндами цветов. А также роль цветочных орнаментов и гирлянд в декорациях ампира. Но, конечно, топосы пролетарской поэзии, укорененные в массовом сознании, есть тот трудноуловимый феномен субъективной реальности, который стоит иметь в виду, стремясь к более объемному пониманию такого явления, как агитфорфор.
«Я знаю силу слов…»
Следующий объективизирующий момент – собственно лозунги. В агитфарфоре в ярчайшей форме воплощена вера в непосредственно действенную силу слова, которая была свойственна политической культуре России. Эта вера окрашивала практику революционного движения, в Февральскую революцию она испытывает невиданный подъем (ироническое определение А. Керенского как «главноуговаривающего» репрезентативно само по себе, вне зависимости от исторической объективности) и достигает своего пика в первые годы Советской власти. (В тоталитарный период она приобрела архаизированный сакральный характер, но это предмет особого разговора.)
Естественно, в тот период еще не была создана теория речевых актов (Д. Остин публикует свои исследования – одно из направлений аналитической философии – только в конце 1940-х годов). Но главный ее тезис – «How to do things with words» – удивительным образом суммирует интенции революционных вождей: как делать дело словами, как превратить слово в действие. Уже в знаменитом сборнике «ЛЕФ» 1924 года русские формалисты тщательно изучали «язык Ленина». Воздействие речей вождя достаточно откровенно описывалось как пригвождение слушателя к стенке с требованием выслушать и приступить к исполнению, инструмент действенности речи – как «лексический разряд». Много позже исследовался «язык Сталина». Современный автор[72] отмечает общность риторических приемов вождей. Это стремление к тотальному упрощению всего словесного материала и его каркасов – синтаксиса, лексики, метафор, сравнений. И бесконечный прием повтора: «Раз высказанная мысль при помощи перестановки слов и словосочетаний, энергичных и настойчивых их повторений вбивается как гвоздь в сознание людей». Речевая практика со своим хронотопом дает возможность этого повтора. У лозунга (на любом носителе – бумага плаката, материя транспаранта, фарфоровое белье) такой возможности нет. Вдалбливание в сознание путем повторов возможно средствами тиражирования – количественного приращения носителей одного и того же тезиса. Этим объясняется некоторая избыточность агитационного материала. Блок попытался в «Двенадцати» указать на это как на феномен времени: «Старушка убивается – плачет, / Никак не поймет, что значит, / На что такой плакат, / Такой огромный лоскут? / Сколько вышло бы портянок для ребят, / А всякий – раздет, разут…»
Советские исследователи – даже З. Минц[73] – ополчились на эту старушку как на представительницу «бывших»: видимо, мифология революционного агитирования не поддавалась снижающей интонации.
Таким образом, лозунговый модус революционного фарфора не был «головным», умышленным, «спущенным сверху», – это был плод политической культуры времени, перенасыщенного речевыми актами. Они, говоря языком современной аналитической философии, есть «перформативные высказывания», которые, по Д. Остину, являются осуществлением действий. «Такого рода высказывания не являются описаниями, поэтому к ним неприменимо различение истинно/ложно. Они осуществляют некоторое действие: обещание, уговаривание, приказывание, предупреждение».
Споры о функции
При этом уже в генезисе агитационного фарфора была некая двойственность. Он, в отличие от плаката или лозунга, не мог быть орудием прямого массового действия. «Почему же? – может спросить читатель. – Ведь даже по отношению к дворцовым сервизам XVIII века мы вправе говорить о политических и дипломатических функциях?» Да, безусловно. Но мы не вправе говорить о массовости, общедоступности. Сложную идеопрограмму, заложенную в сервизе – дипломатическом послании (хотя бы в Берлинском десертном сервизе Екатерины II), должен был (и мог) считывать крайне ограниченный круг людей. Зато сегодня мы представляем себе благодаря этому месседжу наивный прагматизм тогдашней realpolitik. Простейшая агитпрограмма революционного фарфора была доступна массовой аудитории. Более того, она и рассчитана была на доступность, на выполнение коммуникативной функции: лозунги и символы, многократно повторяемые в совокупности агитационного фарфора как некоего единого тела, служили начальной фазой политизации, приобщения к политической культуре. Кроме коммуникативной, она была рассчитана и на выполнение, говоря сегодняшним языком, компенсаторной функции (компенсаторная функция политических символов выражается в том, что символические изменения порой являются замещением нереализованных, или отложенных, или только декларированных властью практик). Часто акции агитационного порядка (переименование улиц и городов, возведение (разрушение, восстановление) монументов и пр.) замещают проведение реальных преобразований, а то и маскируют отказ от них[74].
При всех этих надеждах и расчетах, повторюсь, прямая, боевая действенность агитфарфора ограничивалась минимум двумя моментами. Первый – сравнительная малотиражность (хрупкость, аристократизм материала и технологии, ограниченность тогдашних производственных возможностей). Не могу удержаться и не привести стихи Е. Данько 1921 года, отражающие и ситуацию на бывшем Императорском заводе, и ручной режим производства: «Я в заводе опустелом / Мрак холодный сторожу, / Над моим фарфором белым / Тихой кистью ворожу. / Чтобы пурпур вышел ярок, / Тускло золото как мед, / Будет обжиг, рьян и жарок, / Верный конус упадет». Второй – «природа» фарфора: в матрице функциональной памяти «посуды» неоспоримо главную роль играла все-таки мирная функция потребления пищи. Впрочем, с точки зрения революционной прагматики и это можно оспорить… В позднесоветские времена лекторы по марксистко-ленинской эстетике любили цитировать «Приказ по армии искусства» В. Маяковского: «На улицу тащите рояли, / барабан из окна багром! / Барабан, / рояль раскроя ли, / но чтоб грохот был, / чтоб гром». Цитировали ради идеологически выгодного комментария: поэт, конечно, погорячился. Конечно, основная функция рояля – музыкально-исполнительская. Но когда речь идет о судьбе революции… Тут они многозначительно разводили руками… Эти непреодолимые ограничения понимал Д. Штеренберг, делившийся своими сомнениями с В. Лениным. Агитационный запал с первых же шагов агитфарфора гасился неопределенностью адресата: фарфор оседал у коллекционеров. Паллиативом был выпуск народного «компродовского», то есть выполненного по заказу Комиссариата продовольствия, толстого фарфора с упрощенной росписью. Но главное решение было – распространять фарфор внерыночно. И не путем обмена, как мечтал, в духе военного коммунизма, Штеренберг, а номенклатурно-распределительно: по конференциям, съездам, по представительствам за рубежом. А потом стали продавать на Запад. Опять же коллекционерам, а не революционному пролетариату (справедливости ради укажем: в собрании есть тарелки с переведенными лозунгами, так что теоретически они могли нести агитационный месседж). Так что вопрос адреса был болезненным. Тем более что для художников, хочешь не хочешь – прикладного искусства, этот вопрос всегда требовал определенности (Е. Данько: «Для живых украшай тарелки, / Для усопших урны готовь»). Руководители производства и теоретики революционного искусства находили утешение в признании проектного, прогностического начала революционного фарфора – «создать из завода мировой научный центр» (А. Луначарский), «маленькая капля, небольшой опыт, но кроющий широкие возможности» (Д. Штеренберг) и пр. Но зародившаяся прежде всего «в верхах» романтическая жажда непосредственно участвовать в боях, поднимать массы оставалась… Она и окрасила мифологию агитфарфора на многие десятилетия. Еще раз повторюсь – нет никакой необходимости ее «подтачивать»: это один из наиболее человечных и симпатичных советских мифов. Но ради более объемной картины явления, как мне представляется, стоит сосредоточиться на проблеме: что, в конце концов, репрезентировал агитационный фарфор? Феномен визуальной репрезентации нового государства (продолжающий вековую стратегию «закрепления» власти политической символикой)? Победу большевиков в борьбе за символы? (Не в борьбе символов: белое движение, ОСВАГ, несмотря на то что с ним сотрудничали Е. Лансере и И. Билибин, в этом плане никак себя не проявили: не выдвинули новой символики и с опаской относились к старой, имперской. Основной упор делали на окарикатуривании образов советских вождей. Так что речь идет именно о борьбе за символы российского революционно-демократического движения между большевиками и другими партиями «левой ориентации», окончившейся полной победой первых.) Вообще способность эффективно мобилизовать символический модус путем «авторизации» традиционной политической символики, возвращения ей эмоциональности и, по К. Юнгу, «спонтанности», то есть «работой с формой») – на конкретную политическую работу? Возможность (пусть пока проектную, перспективную) объединить производство и художество, причем с той долей органики, которой так и не добились впоследствии конструктивисты-производственники? Я имею в виду органику, при которой художник не жертвует артистизмом ради «игры в инженеров» (выражение В. Фаворского). Более того, способность объединить вокруг общезначимого проекта – без идеологической и «теченской» (П. Филонов) борьбы – художников разных самоидентификаций: «идейных» и прагматичных (примкнувших, артспецов – по типу военспецов и др.), ретроспективистов и авангардистов, «единоличников» и «коллективистов, представителей направлений»? Последняя позиция – объединение вокруг проекта – нуждается в уточнении. Обычно вместе с агитфарфором показывают супрематические вещи К. Малевича и его учеников. Их включают в единый контекст с агитфарфором по нескольким причинам. Пожалуй, главная – в том, что супрематическая динамика развития формы и росписи носит явно атакующий характер. В памяти возникает плакат Л. Лисицкого «Клином красным бей белых», в которой супрематическая форма утилизирована в качестве ступени-ускорителя, выстреливающей оголтело агитационным лозунгом. Между тем это сближение по вектору оптической перформативности – своего рода аберрация. Малевич если и хотел агитировать, то только за «осуществление супрематической формы». Это исходит из его замечательного по честности письма Н. Пунину 1923 года. Утилитарность Малевича не волнует (для него утилитарный предмет – «недомысл»), тираж, этот камень преткновения агитационного фарфора, тоже: «…в случае их удачного выхода из огня все же пусть остаются униками и не размножаются для массовой продажи. <…> Мне они нужны были только для эксперимента и дальнейшей работы, а когда вернусь и Вы поставите в хорошие условия меня, тогда уже начнем дело во всемирном масштабе. <…> Вы должны обратить внимание, что мы втроем (с Н. Суетиным и И. Чашником. – А. Б.) базой новой являемся и можем обновить завод. <…> Тоже полагаю, что важность чистоты выявления супрематизма для меня и для Вас станет одинаково, и поток плоскостной индивидуальных „Я“ с их вибрирующим тембром и разрешением завивающих кудрями эмоций Вами постепенно будет осушаться, и Фарфоровый завод не будет болотом. Пусть лучше завод разделится на Изобразительное и Супрематическое, конечно, не исключая и „Материальной культуры“. В чистоте дела все выиграет, и Вы тоже, как художественный идеолог, критик»[75]. Здесь все противоречит идее агитационного фарфора, а качества, которые кажутся нам привлекательными, – тембр и эмоциональность, отвергаются.
Вот что удивительно – агитационный фарфор преодолевает благодаря реализации своей художественной природы во всей ее сложности однозначность голой служебности и ритуальной знаковости политической символики (А. Эфрос называл эту ритуальность – «переметить все куски жизни своим клеймом»). То есть обобщение уровня знаковости, семиотичности, «клейма» (последний термин точнее в силу своей архаичности, которая, конечно, окрашивает «низовое» символораспространение), художников не устраивает. Они стремятся авторизовать и «вочеловечить» (Г. Державин – А. Блок) и агитацию, и символику. Для Малевича же с его космизмом и «человеческие завоевания» агитфарфора – тембр и эмоциональность – третируются как избыточные (Обидный образ «кудрявых эмоций». Ср.: «Кудреватые митрейки» у В. Маяковского – в 1929–1930-е годы). Но уже Н. Суетин в нескольких уникальных тарелках с росписью скорее силуэтного характера, принадлежащих к собранию, отходит от горизонта универсалий к человеческому горизонту.
Думаю, все эти моменты, так или иначе, в прямом или в сжатом, потенциальном, в непосредственном или мифологизированном видах, нашли свое выражение в агитфарфоре. Нашли благодаря его уникальной репрезентационной емкости[76].
Подвести итог описанию репрезентативного модуса фарфора хотелось бы все же художественным образом: «Революция – это расплавленное государство. Государство – это застывшая революция». Д. Мережковский прозорливо «ухватил» последовательность перехода энергий в ходе исторического процесса: оплавления до полной потери формы старого государства с его политической символикой, процесс переплавки, когда горячими, пластичными, подвижными были все формы и установления общественной жизни (их визуальное выражение – не только на уровне идей и символов, но и человеческих типов, жизненных ситуаций и пр.). Наконец, момент застывания, отвердевания революции в клише государства, в нашем случае – избыточно властного, а затем и тоталитарного. И он связан с выделением энергий. Пусть не без угара… Кто как не фарфор (для которого метафорика огня, отсылающая к способу производства, изначально органична) особенно чувствителен к этой «отдаче тепла».
Итак, художник-фарфорист или будущий фарфорист (далеко не у всех был производственный опыт) 1918 года, сидевший над бельем в мастерской, оборудованной на 24 художника, в бывшем Училище Штиглица, или «в заводе опустелом» «за заставой» (Е. Данько), что он «имел на руках»? Некоторые представления о государственном заказе как о визуальной репрезентации государства. (Для непосвященных был музей, правда, ненадолго эвакуированный, но в конце 1918-го уже возвращенный, и библиотека. Заведующим всем этим и ментором для начинающих – по опыту и старшинству – был Р. Вильде[77]. Представления о политической символике – она была повсюду: «на зданиях, на колоннах, на мачтах, на трибунах, на заборах, на поездах, на автомобилях, на флагах, на околышах, на шинелях, на пушках, на декретах, на газетах, на календарях – вдруг возникли, растеклись, распластались тысячами тысяч серпы, молоты, пятиверхие звезды и лозунги советского строя», – не поленился посчитать современник. Да, паек, (правда, с февраля 1922-го пайковое снабжение снято, перешли на хозрасчет). Конечно, тепло общения с коллегами – где еще возможно было общение столь разных по положению в артсообществе и по возрасту художников. Ну, и тепло практическое: художники и рабочие грелись вокруг печей для обжига («Муфель топили сосновыми поленьями, которые давали длинное пламя»[78]). И, как оказалось, доступная фарфору эманация того метафизического тепла, о котором говорил Д. Мережковский и которое высвобождалось в ходе исторических перемен. Ну, и главное: наличный художественный ресурс, индивидуальный стиль, способность поставить его на общее дело.
Феномен С. Чехонина
С. Чехонин был фигурой эталонной. Не в плане индивидуального стиля: конечно, ему подражали, но это дело трудное, в силу выраженности авторского начала в его графическом почерке. Он был эталоном в плане системности факторов, подготовивших его в качестве лидера. Советские вожди, А. Луначарский прежде всего, поняли масштаб и отрефлексированность его представлений о визуальной репрезентации государства (поняли, но до главной государственной геральдики так и не допустили. Что-то помешало. Артистизм? Независимость? Доверили более традиционным мастерам Гознака). Он прекрасно знал прецеденты и был подготовлен к созданию новых «символов и эмблемат» как никто другой. В нем разглядели и уникальное геральдическое чутье. Разглядели, видимо, все же новые власти: соратники по дореволюционной артпрактике лидера в нем решительно не видели. А. Эфрос post factum так описывает дореволюционного Чехонина: «Это был очарователь и дамский кумир; это был эмальер, ювелир, фарфорщик, акварелист богатой жизни; это был созидатель виньет и миниатюр для коллекционеров, гербовщик родовой плутократии и формовщик дворянских эмблем, поэт вековой государственности, воскреситель старой эстетики дней Александровых, чистейший чувственник прелести ампира, образец ретроспективизма, пай-дитя „Мира искусства“, изготовитель очаровательных и драгоценных безделиц, самых хрупких и самых бесцельных вещей, какие в состоянии был произвести российский императорский декаданс»[79]. Автор, разумеется, переборщил: масштаб тогдашнего Чехонина влиял на восприятие Чехонина прежнего. Получился образ некоего коллективного Сомова. На деле, судя, как сегодня говорят, по мониторингу арт-прессы, художник не выделялся из группы мирискусников последнего призыва, на которых лежал флер если не вторичности, то «продолжения дела отцов». Единственное, что успели заметить в Чехонине, – его чувство стиля, отраженное прежде всего в «графической мелочи» (так называли тогда элементы культуры книжного и журнального оформления и вообще любого печатного дела). Все, пишущие о Чехонине (а о нем писали лучшие авторы, занимавшиеся, в частности, фарфором, – от А. Эфроса и Е. Данько до Л. Андреевой), отмечали неожиданность того размаха и масштаба, которые он проявил в собственном творчестве и в объединении художественных сил завода и вокруг завода. Видимо, мифология агитфарфора, предпочитающая категории порыва и натиска, настройки на революционную волну, не испытывала потребности отрефлексировать сам феномен «явления Чехонина» в совокупности объективных факторов, которые мы старались наметить. В некоей объективизации, думается, нуждается и подход к чехонинской изобразительности. Исторически случилось так, что язык описания фарфорового творчества отрабатывался «на Чехонине». Регистр эмоциональный и собственно каллиграфический в росписях Чехонина чрезвычайно широк: от простодушно-народного до изощренного, «огосударствленного». Соответственно настроен и язык описания. Один полюс дается, например, в такой стилистике: «Его обычно чуть высокомерный, полный самообладания мазок тут словно забывается и делается безмятежным, веселым, раскидистым, а сам цветок – пышная желтая или алая роза – непривычно жизнеобильным для Чехонина и простодушно раскрытым» (Л. Андреева). А вот другой полюс, «торжественный», для которого непосредственность опосредована стилем: «…белизна фарфора белее листа бумаги, а черная глянцевитая краска чернее пятна туши. Чехонин переносит на фарфор свои рисунки blanc et noir, вкрапливает в них золото и серебро, обработанные с необычайным мастерством. На матовой поверхности золота он гравирует нежные и четкие узоры. Эта техника (в производстве – цировка), требующая особой твердости руки и безошибочного глаза, доведена им до совершенства» (Е. Данько). Конечно, за этим стоит опыт описания графики, в разгар знаточества 1920-х годов, достигший высот изощренности, но все равно это очень симпатичная стилистика. Опыт соприкосновения с материалом вне опосредований терминологического порядка, литературные качества письма – эти моменты практически не встречаются в современном искусствознании. Так что реактуализация подобного опыта вполне возможна. И все же чехонинский экфразис нуждается в определенных корректировках. Чехонин был художник великой пластичности. Он мог делать простые травяные орнаменты и соответствовать определению Данько: «ведун лесных трав и мхов». Мог демонстрировать (репрезентировать скорее, потому что использовал, по Б. Брехту, «показ показа» – избирательно эксплицировал элементы стилистики и формообразования) свои авангардные пристрастия. Данько упоминала в связи с орнаментами Чехонина термины «беспредметность» и даже «абстракция». Сам он легко давал своим вещам названия типа «Кубистическая с молотом». При этом он оставался скорее стилизатором с декоративистским уклоном, способным «переварить» любое направление, вплоть до супрематизма. Переварить в моем представлении значит включить в свою систему визуализации с присущими ей автоматизмом и драйвом. Уже современники, в силу понятных идеологических обстоятельств, пытались обезопасить Чехонина от упреков в том, что он профессионал par exellence и ему не столь важен политический месседж произведения: он может визуализировать все что угодно. Потом, когда мифология агитфарфора устоялась, об этом упреке забыли. Между тем, полагаю, вполне возможно вернуться к этой теме (разумеется, вне идеологического контекста).
Чехонин, на мой взгляд, был авангардным художником в том смысле, что использовал прием автоматизма. При этом он был мастером большого самоконтроля (существуют апокрифы (апокрифы ли?), что он создавал композиции «под аванс», скажем, вырисовывал их «на треть». Когда представители государственных органов платили гонорар полностью, тут же, на глазах, завершал дело). Одно другому не противоречит: в работе над шрифтами и орнаментами он давал себе волю. Возникали энергии кистевого письма как не равные отведенному для изображения месту. Они как бы перехлестывались «через силуэт», их заряд «гуляет» по фарфоровому полю. Это иногда приводило к ощутимому зрителем, но не выраженному изобразительно повышению «энергосодержательности» образа. Иногда – к тому, что суггестия лозунга или изображения «гасились» в ходе визуальной реализации: лозунг в буквальном смысле «прорастал» цветами, буквы, как в литографированных книжках футуристов, «опредмечивались», «жестовая сила» шрифта (Ю. Тынянов) реализовывалась вне лозунга, самостоятельно. Во всем этом читались какие-то проекции психической жизни. Это впечатление оптической и эмоциональной расфокусировки возникает спонтанно и гасится, когда зрение снова концентрируется на геральдической выкованности и четкости. Однако в автоматическом режиме, заложенном в свое время художником, снова возникает тема саморазвития всех этих буквиц, цветов и злаков: художник вертит тарелку, выписывая их кистью в «ритмах телесного чувства» (В. Подорога) с такой энергией, что они срываются по фарфоровому полю в какую-то самостоятельную жизнь.
Вопрос о самоценности и внеидеологичности профессионализма Чехонина стоит поставить и в плане анализа его влияния на других художников, близких ему по интенциям. Несомненно, что Чехонин содействовал становлению в качестве фарфористов целого круга мастеров. Это влияние, конечно, имело стилистическое измерение. Но и другое – я бы назвал его психо-физическим. Это драйв визуализации. Воспроизвести психологическое состояние художников эпохи агитфарфора невозможно, но какие-то позиции все-таки поддаются фиксации. Так, несомненно, заводской художник (сидел ли он в помещении Училища Штиглица или пребывал на заводе) обладал представлениями о масштабности всего того, что составляло аксиологическую часть проекта.
Можно представить, что эта масштабность и необычность задания пугала (хотя об историческом опыте государственных визуализационных программ в этой среде, несомненно, говорилось). Событийность текущей реальности могла восприниматься по-разному (только советская мифология предполагала некую общую идеологическую температуру приятия революции), но она была беспрецедентной, не укладывалась в привычные рамки, в том числе визуальные. Что мог «положить на стол» художник, включившийся в проект? Для «просто» больших художников – уровня Н. Альтмана, В. Лебедева, К. Петрова-Водкина, П. Кузнецова и др. (одни из них увлеклись спецификой производства, другие ограничились предоставлением эскизов) эта проблема носила скорее технический характер: фарфор был средством трансляции (пусть адаптированной к возможностям носителя) их индивидуальной поэтики (включающей, естественно, мировоззренческий оттенок – в этом плане месседж Альтмана органически отличен от посыла Петрова-Водкина). «Просто» профессионалы, вроде, скажем, В. Тимирева, могли показать не более того, что они из себя уже представляли, – а он, Тимирев, был графиком назидательно-дидактического плана, вполне соответствующим уровню массовой просветительской печати девятисотых годов. Его росписи типа «Царствию рабочих и крестьян…» вполне показательны в своей усредненности (другое дело – восприятие тогдашней рабочей аудитории: вполне возможно, именно такая повествовательность и была ей наиболее адекватна, в отличие от решений «опережающего» порядка. Но эти рассуждения опять уводят нас к теме мифологии агитфарфора – мифологии адресата и потребления). З. Кобылецкая, работавшая в штиглицевской мастерской, тоже имела дореволюционный фарфоровый опыт. Влияние на нее Чехонина очевидно уже на стилистическом уровне: он «за ручку» ввел ее в мир цветов и лозунгов, не говоря уже о том, что она реализовывала многие эскизы мастера в материале, перекомпоновывала его решения в собственных композициях. Уже скоро она ушла в отрыв, проявляя и колористическую, и композиционную индивидуальность. Думаю, Чехонин открыл ей начала автоматизма: то, что формообразование способно работать в «самостоятельном режиме». В «случае Кобылецкой» это означало – довериться движению руки, почти тактильно соприкасающейся с природным: цветами, свободно ложащимся по белому фону, шрифтами, утерявшими типографское начало и буквально «прорастающими» растительным. Это телесно-природное чувство постепенно уводило Кобылецкую от агитационного к натурфилософскому (все-таки визуализированные импульсы «вбивания смыслов в сознание» отличны от поглаживающих, распрямляющих движений, передающих цветочно-растительный мир). А в конце концов вынесло за пределы фарфора: к иллюстрированию ботанических изданий. Но вот, например, М. Лебедева? За ней – хорошая школа (Общество поощрения художеств, ученица И. Билибина, график по специализации), несомненный талант, еще не проявленный, не закрепленный: билибинская сказочность, тяжелая беклинская символичность… Что мог дать ей Чехонин? Думаю, прежде всего – драйв визуализации. Он своим примером внушал, что визуализации доступно все. Самые абстрактные понятия. Взять, к примеру, лозунг «Революция рвет сети предрассудков». Как его наполнить визуальной плотью? Ведь здесь нет повода ни для орнаментики, ни для отработанной уже символики (серпы-молоты и пр.). Лебедева находит потрясающее решение: создает какую-то удивительную гигантскую сиреневую рыбу, изображение, буквально фонтанирующее ассоциациями. Тут и библейская – проглоченный рыбой-китом Иона. И средневековая арабско-ирландская – фольклорная, сказочная. Здесь отсылка прямая: в этих сказках путешественники принимают кита за остров и сходят на его спину, как на сушу. В нашем случае, правда, сюжет обновляется: люди на голове рыбы-кита – не обманувшиеся путешественники, а штурманы новой жизни, как бы руководящие движением рыбы, то есть в буквальном смысле прорыванием рыбацких сетей, которые оказываются, уже в метафорическом плане, сетями предрассудков… При этом изображения по бортам лотка вполне реалистичны, повествовательны: сети, раскинутые селянами, вполне натуральны. Сам лозунг введен неумело, зрительно он теряется. Но это уже не важно: визуализация, замешанная на контрасте иносказания (тропа) и реальности, с примесью нелепости, легкой растерянности и несомненной силы воображения, – вполне убедительна. Нужно было обладать сумасшедшей отвагой, чтобы в положении начинающего художника нырнуть в стихию таких нереализуемых изобразительно абстракций. Или – иметь подстраховку в лице Чехонина. Призывавшего к невозможному – визуализации понятий самой высокой степени отвлеченности. Но готового протянуть руку, если не хватало дыхания. Впрочем, не всех надо было подталкивать и приободрять. Вильде был прагматик-декоративист, осознанно выбиравший путь, исходя из оценки собственных возможностей. Успевший усвоить стилистические навыки модерна, он легко оставил их, убедившись в актуальности чехонинского подхода. Он не мог равняться с Чехониным в сочности и изобретательности росписи, орнаменты у него всегда были суховаты. Не было у него и чехонинского драйва: ни о каком саморазвитии росписи не шло и речи, напротив, он был мастером точного расчета. Поначалу он не понимал специфики агитационности: идеограммы он воспринимал прежде всего как изобразительные мотивы. Зато они сидят на форме как влитые (бочонок «1917–1924»). В кувшине с эмблемой «Серп и молот» новая чехонинская геральдическая новация изобразительно подается наравне с розой и бабочкой: все увязано в одну графическую ткань и все увидено сквозь одну и ту же оптику – чуть укрупняющую и одновременно стилизующую изображение. Это было счастливой находкой: укрупнение придавало форме неожиданность и занимательность, а стеклышко стилизаторства легко заменялось: чехонинское на футуристическое (рисунок для тарелки по заказу Госиздата) и т. д. Постепенно форма отходила от силуэтности и обретала предметность (тарелка «Есть знание в голове…», она существует и в варианте надписи «Всем кто смел…»). Пришло и понимание агитационности: оно выражается прежде всего в оптической активности крепко сбитой эмблематичной композиции (блюдо «КИМ»). Эта активность носит и оборонительный (форма замыкается изображением на первом плане как щитом), и наступательный характер (повторяющиеся изображения серпа и молота как бы надвигаются на зрителя, ассоциируясь с марширующим строем). Как живописец Вильде бывал суховат, его росписи не выдерживают сравнения хотя бы с работой Е. Розендорф (тарелка с надписью «Да здравствует Советская власть» 1921 года примерно с таким же, как обычно у Вильде, предметным ассортиментом). Но у Розендорф это натюрморт из виртуозно, чуть ли не с эффектом trompe l’oeil прописанных предметов. Для Вильде важна геральдическая осмысленность композиционных связей. В результате именно Вильде в агитационном фарфоре стал играть старинную роль эмблематиста, требующую твердой руки и способности занимательно рассказать стоящую за каждым символом историю.
Стремление к рассемиотичению, то есть преодолению знаковой герметичности, – отдельный сюжет в истории агитационного фарфора. И собрания Авена, в частности. И художнику, и аудитории революционных и первых послереволюционных лет нужны были новые толкования древней символики в новых политических, социальных и культурных контекстах.
Символика башни
Собственно, за любым политическим символом стояла историческая и социальная конкретика. Но приобщающаяся к политике масса, как правило, видела в революционной символике знак обладания: уже приводилось наблюдение А. Эфроса, подметившего ее стремление «переметить все куски жизни своим клеймом». Однако более «продвинутая» аудитория желала видеть в некоторых символах большее. А именно ресурс синкретичности – политико-морально-религиозный смысл. Одним из таких символов была Башня. В любом Словаре символов Башня раскрывается в десятках значений, иногда противоположных по смыслу – от рабства и казни до очищения и величия, и между ними – десятки толкований.
Собственно, к теме башни в амбивалентности ее значений меня подвигла странная картина, представленная как работа неизвестного художника, с которой мне довелось иметь дело в начале 2000-х годов[80].
…Фантастическая архитектурная композиция: в изумруднозеленых райских кущах высятся монументальные порталы, арки, – ордер, трактованный с какой-то беренсианской утрировкой масштабных соотношений. Все это играет роль стилобата для ввинчивающейся в небо спиралевидной многоярусной башни. Форма башни (отсылающая к зиккуратам, усеченным пирамидам, поставленным друг на друга, в шумерско-ассирийско-вавилонском обиходе символизировавшим «вершины мира») отчетливо вызывает в памяти библейскую легенду о Вавилонской башне. То есть принадлежит архетипу сооружения, изначально предназначенного для мистического, внечеловеческого общения с небом. Согласно библейскому сказанию, гордыня строителей башни, дерзавших взобраться на небо, разгневала Бога, смешавшего их языки, дабы они не могли понимать друг друга, а самих их рассеял по свету. Художник, несомненно, «держал в уме» иконографию башни, суммарно говоря, на тот момент (работа создавалась где-то в конце 1920-х) – библейско-брейгелевско-татлинско-шуховскую. От себя он добавляет некую транслирующую антенну. И вот эту-то конструкцию поражает ангел, материализующийся из барочных облаков. Поражает каким-то электрическим разрядом – да так, что дым клубится, а двое рабочих в красных блузах, по типажу напоминающие персонажей какой-нибудь «Красной панорамы», закрывают от нестерпимо яркого свечения глаза… Ангел разящий и антенна, Вавилонская башня и городской пролетариат – эта поразительная эклектика, в сущности, была в порядке вещей в 1920-е… А вот смысл этой работы… Она буквально обречена на многоплановые толкования… На чьей стороне художник? Богоборчество было в политической моде, но «небо», похоже, побеждает. А языковый срез? Башня – в ее новом изводе – образ воссоздания единого коммунистического языка, подобие лингвистического интернационала? Но почему художник сосредоточен на некоем ударе по башне, причем каком-то революционно-технологичном (прямо какие-то «лучи инженера Гарина» из фантастического романа А. Толстого, написанного в то же примерно время).
Зато и сам художник, как оказалось, стал выдающимся изобретателем: Г. И. Покровский (1901–1979), впоследствии известный физик и военный инженер, автор трудов по физике взрыва и центробежному моделированию в горном деле и строительстве, создатель плотин, генерал и профессор. Одно очевидно – эта работа идет наперекор мифологии всеобщего энтузиазма и тотальной уверенности в светлом будущем.
О татлинской башне (памятник III Интернационалу) с ее сложнейшей, почти эзотерической символикой написано столько, что касаться этой темы здесь не имеет смысла. Однако в сознании сколько-нибудь продвинутого художника 1920–1930-х годов ее образ не может не присутствовать – в каноническом и полемическом смыслах. В соотнесенности с архетипом – иконографией Вавилонской башни. Думаю, такая соотнесенность присутствовала в сознании и у «Н. х.» (неизвестного художника), автора росписи редкой тарелки из собрания Петра Авена (Н. х., «1917–1922»). Его версия архетипа – усеченные объемы в винтообразном, ввинчивающемся в небо движении. Похоже, он в меру сил спорит с Татлиным. У того – сквозные металлические фермы, движение в другую сторону – справа налево. У Н. х. – объемы сплошные, из архаического материала теплой фактуры. Татлинская спираль принципиально необитаема, «стерильна», она – для людей будущего (думаю, технологическая невыполнимость имела и образный подтекст: работаем для будущего). У Н. х. башня строится в городской среде 1920-х – трубы дымят, строители современного пролетарского вида мостят дорогу, рядом – автомобили, жизнь кипит – здесь и сейчас. Повествовательность, даже жанровость, видимо, – знак укорененности в современной жизни… Но почему, почему возвращается тема Вавилонской башни – чем она притягивает неизвестного художника? И почему рядом с рабочими и автомобилями какое-то архаичное сооружение: видимо, горн для обжига кирпичей, из которых возводится башня? Что это – дерзость «безбожника у станка», пренебрегающего вечными истинами библейской притчи: уж наша-то башня, которую мы возводим в честь новой жизни, в отличие от Вавилонской, переживет века? Вторая попытка «достучаться до небес»? Или, наоборот, в выборе архаичного материала – намек на хрупкость всей затеи? Здесь все имеет символический смысл, во многом, к сожалению, невосстановимый.
А вот Е. Трипольская в своих шахматах «Индустрия и сельское хозяйство. 1933–1934» (Дмитровский фарфоровый завод) «снижает» интонацию. Вещь эта перенасыщена новой символикой, часто – производной, наивной, выведенной из отчетов «с полей» или из учебников. Но и старая идет в дело. Шахматная ладья (тура, башня, осадная или защитная) имеет древние коннотации силы, и автор пускает их в дело: темная сплошная полива заставляет парные башни-ладьи (со стороны черных) выглядеть внушительно-опасными. Снижение интонации, однако, достигается за счет «белых». Прямо на их башнях-ладьях рельефно выведено опрощающе утилитарное – силос. Кстати, и здесь, в шахматной серии, в фигурах слонов, сложносочиненных по пластике, появляется тема татлинской башни-спирали. По навершию башни шла надпись «Сто», по боковой поверхности – знак «%», видимо, речь шла о стопроцентной коллективизации. Почему именно башню-спираль выбрала Трипольская в качестве носителя колхозного «символа веры»? Сама тема спирали здесь загадочно не мотивирована, а может, и не отрефлексирована.
Завершает «башенный сюжет» собрания Авена работа другого Н. х., дающая в росписи высокого бокала новую версию архетипа – упрощенное графическое воспроизведение проекта Дворца Советов Б. Иофана, В. Щуко, В. Гельфрейха, декорированное по нижней трети знаменами. По сути дела, сам проект был плодом коллективного разума партии – недаром его главные элементы (например, увенчание Дворца Советов монументальной скульптурой Ленина) санкционировались на уровне постановлений ЦК. Эта многометровая фигура Ленина, завершающая гигантскую постройку, в реальной городской ситуации едва ли различимая человеческим зрением, носила, несомненно, тотемный характер (уже само расположение Дворца было выбрано ритуально – на месте храма Христа Спасителя). Ритуальной была и экспансия так и не реализованного вживе проекта вовне, в реальную среду: символически замещающие его агенты – в виде макетов, моделей, живописных изображений, и, как мы видим, изображений на фарфоре, – внедрялись в реальную, несимволическую жизнь. Компенсаторная функция (о которой мы уже писали выше) совмещалась с ритуальной. Что ж, фарфор на исходе 1930-х поучаствовал в той актуализации архаического сознания, для которой стало обязательным отождествление символов и/или изображений персонификаторов власти с самой властью.
Цех фарфористов
Отдельным сюжетом в собрании Петра Авена видится мне в четырех тарелках М. Адамовича. Он пришел на завод уже в конце 1918-го: отучившийся в Строгановском училище, побывавший в Италии, имевший опыт росписи банковских и церковных зданий. Он проявил себя как мастер агитационного фарфора и в этом качестве представлен в коллекции шире, создал несколько архитектурных образов мирискуснического пантеистического настроя, приобщил себя к жанру руин, добившись почти гюбер-роберовской изысканности. Все это было странно в условиях производства, заточенного на пропагандистские усилия. Но не неожиданно: в конце концов, и гипер-эстетизм Добужинского нашел свое место в арт-продукции завода. Затем, видимо, не без влияния Чехонина, Адамович создал несколько вполне агитационных росписей, не слишком заботясь об индивидуальности манеры, зато усвоив прагматику «атакующего стиля». Несколько росписей в красно-кирпичной (они-то и присутствуют в собрании Петра Авена) и зеленой гаммах выделяются из всего остального, созданного в фарфоре Адамовичем. Это очень цельная серия – и по колориту, и по сюжетике, и по характеру изобразительности. Но главное, что объединяет работы, – какой-то особый режим протекания времени. Он удивительно замедлен. Тарелки расписаны сценами военной тематики, но практически вне действия: неспешно беседуют солдаты, другая группа военных в шинелях медленно и как-то нехотя отбывает в путь, замер всадник… Какая-то расслабленность традиционных сценок из бивуачной жизни – однако нет положенной этому типу изображений жанровости и бытовой конкретики. В трех росписях изображено странное сооружение – пиранезиевского размаха конструкция: то ли элеватор, то ли эллинг. Солдатики с мешками и в обмотках выглядят представителями какой-то другой цивилизации рядом с этим образом техно. Сооружение взорвано, опрокинуто на землю. Адамович и ранее писал руины, оставаясь в знаковой и эмоциональной традиции «Мира искусства»: преклонения перед ушедшей культурой и своего рода «примерки» ее, патетической, ироничной, а в его случае и драматичной, к обстоятельствам текущего дня. Здесь руина техно-происхождения, солдаты, явно крестьянского типажа, демонстрируют полное равнодушие к уткнувшемуся в песок артефакту. Сегодняшний зритель, воспитанный на киножанре постапокалипсиса, может увидеть здесь тему возрождения простейших форм жизни социума после гибели цивилизации.
В культуре того времени были деятели планетарного замаха, как правило, энтузиасты будущего. О цивилизационных проблемах в связи с великим переломом без оптимистической риторики задумывался чуть позже разве что А. Платонов. Что имел в виду художник, писавший эти вещи, вернувшись с Гражданской войны? Серия тарелок Адамовича ставит вопросы и не дает ответов…
Об А. Щекотихиной-Потоцкой написано не меньше, чем о Чехонине. Эстетическое измерение, поэзис ее искусства лучше всех, на мой взгляд, исследовала Л. Андреева. Я бы хотел коснуться некоторых моментов формирования художественного мышления мастера. Как известно, она вышла из патриархальной старообрядческой семьи. Это не означало, что ее сознание было архаизировано. Но очевидно и то, что какие-то импульсы русской архаики, столь важные для нее, идут оттуда – из детства, от среды (как и сохраненный интерес к ритуальности поведенческого и этнографического плана, тому, что В. Вейдле выделял как совокупное требование членов традиционного общества – «сохранить за ними быт (уклад. – А. Б.) на вечные времена». Все это найдет выражение в ритуализированном композиционном, цветовом и «вещном» космосе Щекотихиной). На это накладывается уровень символизации, обусловленный уже соприкосновением с культурой Серебряного века, практикующей работу с новыми уровнями сознания: «…символизм делал материалом творчества глубокие уровни и измененные состояния сознания, ранее остававшиеся как бы вне культуры: сновидные, медитативные, наркотические, гипнотические, пратологические» (А. Эткинд). (Из этого набора в отношении Щекотихиной я бы выбрал сновидные и пратологические.) Так или иначе, постоянное перемещение (на уровне изобразительных архетипов) архаического в современное и наоборот в искусстве Щекотихиной обусловлено не стилизаторскими, а какими-то бытийными факторами.
В результате в сознании художника (разумеется, не только Щекотихиной) укореняются представления о некоей матрице национального Золотого века. Миф национальной архаики: какие-то символические горизонтальные, неиерархические связи социума, естественная справедливость, необюрокраченная вера – все то, что А. Блок называл «незапыленностью государством».
Щекотихина не была озабочена поиском национальной идентичности. Сама фразеология эта была ей чужда. Эта идентичность органично присутствовала в ее миропонимании, чрезвычайно открытом, принимающем реальность не с осторожностью рефлексии, но с блоковским ликующим «узнаю»! Так она приняла и революцию. Революция парадоксальным образом уживалась в ее собственной мифологии национального Золотого века с религиозным чувством. Это понятно. С одной стороны, художник, при всей специфике своих интенций, живет в модерном обществе и вовсе не мечтает о цивилизационной регрессии, возвращении к первоистокам. «Горизонт для пробуждения мифического прошлого образует исключительно будущее»[81]. Революция и воспринималась в свете горизонта будущего. Речь шла не о разрушении. Речь шла о воссоединении: стихийного ощущения красоты и стихийного ощущения справедливости. Поэт Н. Клюев (так же происходивший из старообрядческой среды) создал удивительно близкий ее миропониманию образ революционно-религиозно-национальной северной России: «Мужицкая ныне земля, / И церковь – не наймит казенный. / Народный испод шевеля, / Несется глагол краснозвонный. / Нам красная молвь по уму: / В ней пламя, цветенье сафьяна <…> / А Лениным – вихрь и гроза / Причислены к ангельским ликам». Все это вполне отвечает парадигме национальной идентичности, сформулированной А. Ахиезером («Россия: критика исторического опыта»): «В процессе нашего исторического развития возникает по-своему достаточно логичный смысловой ряд, включающий в себя крестьянскую утопию, Беловодье, Святую Русь, коммунизм и другие образы Золотого века. Сам Золотой век выступает в качестве одного из ключевых субдискурсов Должного».
Это многое объясняет. За исключением, может быть, «Страданий России» и «Красного лика», росписи Щекотихиной, при всей бурности, спонтанности ее изобразительного языка, внутренне – чуть ли не идилличны. Действие, будь то гуляние, катание на лодке, чаепитие и пр., ритуализировано, как это и положено при укоренении современного в толще народной жизни, то есть апелляции к архетипу. «Русское Должное» – это, помимо прочего, внутренний мир и покой. Даже когда художник обращается к такой проблемной теме, как, сегодняшним языком говоря, межнациональные отношения. Щекотихина в 1921 году выполняет роспись «Русский и немец» с подписью на немецком: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Тема, видимо, задана недавней революцией в Германии. Естественно, память о жестоком военном противостоянии на фронтах Империалистической была в контексте времени не актуальной (скорее ближе был сюжет братания). Так или иначе, художник показывает своих персонажей без военных мундиров. И без почти обязательных пролетарских атрибутов – это скорее мастеровые, сохранившие связь с патриархальными ценностями. Они одухотворены и как-то стеснительно нежны в своей почти иконной бестелесности. Братство духовное – вот во что вылился у Щекотихиной общепролетарский лозунг. Интонация росписи – и стилистическая, и эмоциональная – гармонична. Программа задана идеологической конъюнктурой, но цвето-пластическая реализация темы восходит к библейскому, новозаветному: «Нет ни эллина, ни иудея…» Вряд ли образ адекватен коминтерновским пропагандистским запросам. Вообще, это интересная тема, визуализация этнического у Щекотихиной (см. тарелку «Россия», чашки «Красный лик», «Деревня» и др.). Художник здесь чаще всматривается в себя, чем вовне: в свой внутренний сказочный мир и опыт смотрения иконы, фрески, северных прялок и изразцов. В свою Россию. Соответственно, мифологизировано – то есть пропущено сквозь авторский мифологический фильтр – и этническое. Этот фильтр избирателен. Мужские и девичьи образы пронзительно чисты и одухотворены, образы стариков – а их много, это, собственно, патриархального вида старцы, делегаты исконного, родового в настоящем – истовы и по-иконному взыскующе строги. Сквозь этот фильтр не проникнут лица, не соответствующие авторским представлениям не об этническом даже (она легко пишет головки негров, персов и пр.), – а о прекрасном. Ибо в ее авторской мифологии этническое равно народному равно крестьянскому равно прекрасному равно революционному. Такие уж у нее требования к национальной идентичности. У И. Бунина, например, мифология другая. И фильтр другой, не пропустивший бы этнику щекотихинской нормы: «А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, – сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме! Весь, Мурома, Чудь белоглазая… И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей антисоциальностью, давших столько „удалых разбойничков“, столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж дивиться результатам?»
Коллекция Авена включает основные вещи Щекотихиной, где на передний план выходит и современное, советское. Я назвал бы это наблюденным советским, в отличие от вымечтанного советского. Имеется в виду не столько событийность, сколько сама типажность этого советского. Щекотихина смело бралась за воплощение типажа революционных рабочих, городских девиц, матросов. Она использует иногда даже общий композиционный (скорее экспозиционный) прием: изображение дается на фоне взятой в едва ощутимой обратной перспективе Дворцовой (тогда – площадь Урицкого, это «увековечено» в надписи по борту). Ход вполне геральдический, укрупняющий (см. тарелку, где изображена «в тех же декорациях» семейная пара с младенцем, – видимо, «товарищи с Востока»). На фоне площади, проросшей травой и сорняками, изображен и «Комиссар» (образ обобщающий – конкретный персонаж может быть и совслужащим, и чекистом). Пожалуй, на этот раз Щекотихина, в сравнении со многими художниками, обратившимися к советскому материалу, точнее и осознаннее (как бы заменяя в своей оптике стеклышки фольклорной мифологизирующей условности или отсылки к конкретным стилевым моментам – мирискуснической стилизации, например, – на увеличительное стекло) высматривает внешние характеризующие приметы времени и социальной принадлежности. Кажется, в «Комиссаре» это «срисовано» тем же беспощадным И. Буниным: «развратнейшие пузыри-галифе и щегольские, тысячные сапоги». Означенным в плане характеристики времени могло быть и само наименование площади: Урицкий, застреленный Л. Канегиссером, причислен к лику советских мучениковсвятых, по найденной у поэта-терориста записной книжке расстреляны сотни невинных, в Москве ранен Ленин, красный террор волной накрыл Россию. Но как ни считывай возможные знаки, Щекотихина абсолютно нейтральна: ее «Комиссар» типологичен, и все. Никаких оценочных коннотаций. Это отдельный вопрос – оценка текущих событий Щекотихиной. Она не одинока в своем желании «давать типажи». М. Лебедева создает тарелку «Телефонист». Есть и другие прецеденты – Е. Розендорф, В. Белкин, тут, правда, мешала стилизаторская нотка. (О скульптуре речь пойдет дальше.) В это же примерно время подобный типажный материал осваивают живопись и графика. Есть редчайшие случаи нелицеприятных типажных обобщений – у Б. Григорьева, Ю. Анненкова. В целом создается канон изображения представителей власти – серьезно-патетический (с редким добавлением юмора). Все остальные могут подвергаться какому угодно изобразительному критицизму. Но – не эти. Складывается и иконический, знаковый образ комиссара и в плакате (естественно, один – в РОСТа, другой, с обратным знаком, – в плакатах ОСВАГа, но советский плакат явно жизнеспособнее). Этот канон переносится и в фарфор. «Комиссар» Щекотихиной – у истоков всего процесса. Могла ли она дать хоть какую-то нравственно-политическую или психологическую характеристику социальному типу, являвшему собой реальную движущую силу Советского государства? Или что стоит, скажем, за некоторой – не забудем, что говорим с позиции сегодняшнего дня, – нравственной глухотой художника в росписи тарелки «Кто не работает, тот не ест»: человек в фуражке, явно совслужащий, уплетает за обе щеки яблоко. Нагляднейший, оптимистичный образ заслуженного, разрешенного пайкового потребления! Щекотихина пишет, как всегда, сочно и аппетитно, она явно не озабочивает себя мыслью о неуместности этого оптимизма в голодный год. Или вот та же тема в исполнении М. Лебедевой: фигуру ветхой старушки «из бывших» (шляпка, боты, перчатки, узелок с чем-то на продажу), виртуозно вписанную в левое полукружие тарелки, зрительно выносит за борт, из жизненного пространства, острие Красной звезды. Кто не работает, тот не ест. Не живет. Безжалостность? Идеологические шоры, мешающие сколько-нибудь адекватно воспринимать реальность? Думаю, здесь другое.
Как уже говорилось, в сознании художника революция обещала стать целостным Русским Должным: матрица мифологизированного Золотого века сложилась из двух половинок – архаической и революционной. Для культурного сознания, чуткого к Должному, это, помимо всего прочего, знаменует снятие ближних, конкретных реалий социальной истории со всеми ее конфликтами, коллизиями и противоречиями.
Это накладывается на то, что подметил о. Иоанн Мейендорф: «Одна из черт русской культуры <…> уменье, тенденция жить как бы одновременно в двух мирах, некий дуализм по отношению к истории, манихейское представление о том, что в этом мире все несовершенно, но есть тайники души, откуда исходит свет, где ощущается истина: они свободны, независимы от исторического процесса…»[82] Для уверовавших в Золотой век историческое, буквально только что давшее столько трагедийных и просто опасных для человека эксцессов, списывается со счетов.
В результате, нивелируя различия между прошлым и будущим, Должное объемлет рай потерянный и рай обретенный: золотой век архаики встречается с золотым веком завершающей историю Революции, конец встречается с началом[83]. Так что, похоже, нежелание или равнодушие Щекотихиной к обострению политических характеристик обусловлены этой уверенностью в «совмещении половинок»: это событие такого планетарного масштаба, настолько долгожданное, что рядом с ним частные несправедливости и конкретные судьбы! Это «снятие» коллизий и конфликтов дорого обойдется художникам, сосредоточенным на Должном. Впрочем, ментальность ментальностью, а рука и глаз в типажных работах фиксировали тревожные сигналы и вне специальной установки сознания. Как писал тот же И. Бунин, «вот оно, изумительное дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние <…> и часто совершенно наперекор своей задаче».
«Советское типическое» в большей степени, конечно, <…> «хлеб» фарфоровой скульптуры. Именно скульптура оказалась наиболее подготовлена к отражению тех новых социальных типов, которые породила Революция и Гражданская война. Разумеется, тут сыграла роль своего рода «память жанра»: русский фарфор, в том числе и фарфор частных заводов, вполне поспевал за течением исторической жизни, фиксируя поначалу национальные, а потом и социальные типы. Но главным было то, что на уровне поставленных временем задач оказалась молодой, в хорошем смысле амбициозный скульптор Н. Данько.
Н. Данько: от неоклассицизма до ар-деко
Данько прошла уникальную в смысле будущей практической востребованности подготовку. В течение пяти лет она занималась монументально-декоративной скульптурой под руководством скульптора-неоклассика В. Кузнецова, сотрудничая с ведущими архитекторами времени И. Фоминым, В. Щуко, А. Таманяном. Автор уже упоминавшейся монографии, посвященной сестрам Н. и Е. Данько, В. Левшенков, бережно собрал адреса, по которым работала Н. Данько. Авторство еще трудно вычленить, но очевидно, что она участвовала в серьезном и осознанном синтезе искусств под руководством единомышленников-неоклассицистов. В 1913 году Данько вслед за Кузнецовым, приглашенным Е. Лансере, впервые появляется на Императорском заводе. В 1915 году она в качестве исполнителя участвует в создании многофигурного настольного украшения – вазы «Жатва» и скульптурной группы «Хоровод» по эскизам Е. Лансере. Эта, на мой взгляд, недооцененная работа являет собой уникальный по размаху образец неоклассицизма в европейском фарфоре 1910-х годов. По архитектурности замысла и последовательности проведенного на всех уровнях формообразования принципа акцентированной пластичности это произведение сопоставимо с настольной скульптурной группой «Невеста Европа» А. Амберга (Музей Виктории и Альберта; модели выполнены в 1905-м, KPM выпустил весь сет в 1914–1918 годах, отдельные фигуры, как и фигуры из «Хоровода», выпускались в течение нескольких следующих лет). Непосредственно с «Хороводом» связана первая самостоятельная работа Данько в фарфоре – композиция «Русские плясуньи в национальных костюмах, пляшущие под музыку мальчиковпастушков» (модель 1916–1917 годов). Это произведение никак не назовешь работой начинающего художника: Данько демонстрирует феерический регистр возможностей. Прежде всего – архитектоничность.
Подобно тому как кариатиды играют тектоническую роль, несмотря на то что «вес», которые они «держат», символичен, фигуры плясуний несут некий символический груз. Это выраженное пластикой эмоциональное состояние достоинства, величавость… При этом они даны в повороте, в полудвижении (в английском есть термин stately dance, специально фиксирующий подобный баланс статики и динамики). Этот мотив плавного полудвижения проходит волной по всей группе плясуний, добавляя скульптурной композиции новые смыслы – лада, единого крестьянского мира.
Именно здесь материализуется накопленный опыт участия в архитектурном синтезе. Пластическое и архитектоническое явно преобладает над миметическим, тем более – этнографическим. При этом вся эта напряженная архитектоническая работа в буквальном смысле «запрятана» за эффектной декорацией: этнографической, исторической (отсылки к крестьянской теме в скульптуре частных заводов и к «Народностям России» П. Каменского) и пр.
Данько впервые проявляет здесь качество, которое ляжет в основу ее профессиональной установки как автора фарфоровой скульптуры: многоплановое понимание задания, конъюнктуры. Как профессионал прикладного (applied) искусства, она охотно погружается в самый разнообразный тематический материал. Можно сказать, она – универсальный изобразитель реальности (новой или старой, мифологической, сказочной, фольклорной, театральной – любой). Этому плану соответствуют и выразительные средства – «ухваченность» позы, жеста, психологических и социальных характеристик или, напротив, предельная условность, аллегоричность, или фантазийность, или что-то другое). При этом художник вполне осознает одномерность миметического, отображающего подхода (ее называли «зеркалом улицы», думаю, это ее не радовало). Да, фарфоровая масса ложится по любым формам, в фарфоре отливается при соблюдении технологий все что угодно (при этом, я согласен здесь с Л. Андреевой, фарфор не «всеяден», сильные драмы, тревоги ему «противопоказаны»). Но изображение («тема») становится образом только тогда, когда за этим стоит самостоятельная работа фарфора: план пластической реализации. Тема – своего рода медиатор между организацией материала реальности (по жанру, по типу художественного мышления – прямое изображение, троп-иносказание, аллегория; беспредметность, объектность и пр.) и работой фарфора как материала (форма в ее архитектонике, композиционности, тактильности, цвете, фактуре). В идеале медиация приводит к органике, полному взаимопониманию и взаимопроникновению «темы» и «материала». Есть случаи работы на контрасте, когда осознанно используется эффект непонимания. Уровень, близкий к ремесленному, – тема «заявлена», но взаимоотношения с материалом служебны, безразличны, случайны.
Отрефлексированность метода позволяет Данько вести сразу несколько линий внутри одной темы. Скажем, крестьянской, заявленной композицией «Плясуньи» в предреволюционном году. В 1918 году художник продолжает эту тему, причем в двух изводах. Чернильница «Жница в снопах» восходит к антикизирующему прообразу, многажды воспроизводившемуся и трансформировавшемуся, вплоть до русской мемориальной пластики XVIII–XIX века. Все располагает к привычной Данько неоклассицистской эстетике. Но художник трезво оценивает и функцию (чернильница работает в соприкосновении с рукой, рассчитана на касание), и масштаб (не дворцовый sur tout de table, а что-то более частное, миниатюрное), и органичность артикуляции тактильных качеств материала. В результате получается скульптура «по руке», формирующая ближнее домашнее пространство.
Второй извод крестьянского – кружки, масленки, сахарницы, солонки, слепленные в 1918–1920 годах и бывшие в производстве многие годы: «Молоко», «Славянка», «Старуха», «Сахар Медович». Это откровенно фольклорные, сказочные вещи, как бы опредмечивающие, овеществляющие метафору черпания живой воды: ими, по крайней мере кружками, действительно можно было зачерпнуть из родника сказки и фольклора[84].
Характерно: Данько не была, подобно Щекотихиной, зачарована собственной мифологией национального Золотого века. Соотношения фольклорного с функциональным, материальным (природа фарфора как материала) и метафорическим у нее были строго просчитаны.
В коллекции Петра Авена присутствует скульптура В. Кузнецова «Красногвардеец» (1918) – хронологически первый в фарфоре социальный тип, репрезентирующий победивший класс практически в момент прихода к власти. Рабочих изображали многажды – мало кто объективизированно, как таковых. Большинство – в коннотациях жертвенности или будущей победительности, что неизбежно переводило изображение в регистр тропа, то есть иносказания. Кузнецов изобразил красногвардейца просто. Без снижения интонации, но и без котурнов. Это вызывает некоторое разочарование – приземленность, не без натурализма. Чуть позже как из рога изобилия посыпятся типажи, созданные Данько, – «Вышивающая знамя», «Партизан в походе», варианты «Матросов» и множество других. Они хрестоматийны. Здесь возникает интересный вопрос о позиции. Мы воспринимаем (воспринимали по крайней мере) «советское типажное» – «по Данько». То есть ей каким-то образом удалось создать типажи конвенционально канонические. Это как данность было воспринято уже современниками художника. Словом, какие-то стороны советской реальности в ее типологии были просто закреплены за ней. «Бытовые статуэтки и группы представлены следующими мастерами: Н. Данько – „голодающие“, „грузчики“, „с покупками“, „краснофлотец“, „красноармеец“, „Анна Ахматова“, комплект шахматных фигур», – бесхитростно фиксирует путеводитель[85].
И эта картотека типажей, репрезентирующих советское, сохранилась надолго: «Н. Данько стремилась в своих работах правдиво отразить советскую действительность, показать строителей нового социалистического общества. Особенно запоминается группа „Активисты“, передающая облик передовой молодежи своего времени»[86]. Мы как-то не задумывались, что это странно. Метод соцреализма в момент создания большинства ее вещей советско-репрезентативного плана еще и не думал нависать над искусством. М. Горькому не приходило в голову ни то, что его формулировки будут общеобязательны, ни сама сущность собственных унылых пассажей: «…изобразить <…> значит, извлечь из суммы реально данного смысл и воплотить в образ»[87]. И вообще, сама проектность метода соцреализма предполагала некоторую временную цезуру между «действительным бытием и его художественным образом». У Данько никакой цезуры не было. Увидено – воплощено. Так по крайней мере казалось в силу того, что репрезентация советского было намертво приклеена к скульптурам Данько. На самом деле у художника действительно был удивительный дар типического. Гончаров считал, что типизация требует наблюдения уже установившихся жизненных форм. Достоевский искал характеров незавершенных, пластичных. Визуальная машина Данько перемалывало все – и процессуальность, и данность, и завершенность. Правда, художник не всегда попадала в десятку. Так, пластической зарисовкой остается скульптура «Крестьянка с рыбой и газетой». Сценка, милая и не дотягивающая ввиду полной непроявленности не то что до социальных связей, но даже до поведенческого рисунка, даже до жанровости. Хрестоматийность некоторых произведений объясняет и их реальную непрочитанность (а может, и нечитаемость). Взять хотя бы образы революционных матросов. Уже в Октябре происходит становление двух взаимонепримиримых мифологий. Для одной красные матросы – движущая сила революции и Гражданской войны (а затем – и коллективизации). Свою лепту в эту мифологию внесли самые разные советские художники и писатели, и не только одиозного типа. У истоков второй – И. Бунин «Окаянных дней»: матросня, жестокость, пьянство, кокаин. Д. Лихачев через много десятилетий вторил Бунину. (Есть, впрочем, и третья, более мягкая мифологическая версия. С ней выступил В. Набоков, обратившийся к матросу как излюбленному типу, фигурирующему в советской литературе: «…женолюбив, как всякий хороший, здоровый парень, но иногда из-за этого попадает в сети буржуазной или партизанской Сирены и на время сбивается с линии классового добра. На эту линию, впрочем, он неизбежно возвращается»). Думаю, щекотихинская «Прогулка матроса» – у истоков этой линии. А матросы Данько, уже современников раздражавшие своим щегольством и изнеженностью? Со временем на эти странности визуальных характеристик перестали обращать внимание, и они были безоговорочно закреплены за мифологией первого порядка. Можно ли прочесть эти образы заново? Или Данько просто закрепила характерный единичный облик и без особой рефлексии «назначила» его типажным, отвечающим за «Красный флот»?
Есть еще один интересный момент, связанный с самой типизирующей позицией художника, как бы санкционированной советской властью. Г. Поспелов пишет, на материале искусства позапрошлого века, об «отторжении типического начала в каждой отдельной личности». Исследователь формулирует это как «потребность сбросить омертвляющую связанность человека с любой житейщиной»[88]. По аналогии – испытывала ли Данько потребность сбросить омертвляющую связь «с любой социальщиной», – речь-то идет о 1920–1930-х годах?
Уверен – не только испытывала, но и сбрасывала, хотя бы в «Портрете А. Ахматовой» и в портретах актеров в ролях. Особая страница творчества Данько – так называемые отрицательные типажи. Как-то получилось, что и в этом направлении типажи художницы стали как бы конвенционально признанными – как припечатала Данько, так и будет. Здесь тоже есть свои аберрации зрения. Данько никогда не была революционным фанатиком, что попадались и в ее вполне интеллигентной и просвещенной среде. Деление на социально близких и классово враждебных наверняка коснулось и ее круга жизни. Так что представление о Данько как о своего рода прокуроре в фарфоре неверны и обусловлены той тяжелой атмосферой взаимоистребления, которая установилась в стране со второй половины 1930-х. Как мне представляется, для Данько была важна традиция создания образов сатирического и шаржевого плана, идущая от частных фарфоровых заводов, прежде всего гарднеровского. На это налагался особый характер культуры начала 1920-х – смеховой, пронизанный иронией, даже в контексте творчества отдельного писателя и художника сочетающий пафос и снижающую интонацию. Высмеивали и своих, и чужих, своих подчас больнее, бывших и нынешних, совслужащих и нэпманов, кокоток и стриженых комиссарш, зарвавшихся пролетариев и прагматичных спецов. Конечно, в этой культуре присутствовала доля классовой и идеологическая нетерпимости. К середине 1930-х эта доля разрослась, как раковая опухоль. Но до этого было далеко. Первые опыты социальной критики носили, как это ни странно, амбивалентный характер. Возьмем, к примеру, замечательную «Буржуазку-торговку» А. Митрохиной-Брускетти из собрания Петра Авена: трудно искать здесь социальную вражду. Скорее сочувствие. Скульптура вылеплена, отлита и расписана, как драгоценность. Как драгоценная вещица, которую история готова смахнуть со стола, воспринимается и сама буржуазка. В «Трусихе» чуть больше социальной критики, но не настолько, чтобы «иллюстрировать», как это сделал коллега, этим типажом блоковское: «И старый мир, как пес безродный, / Стоит за ним, поджавши хвост». Скорее ближе «Багаж» С. Маршака, написанный за год до создания скульптуры.
Вообще говоря, сатирический текст фарфора 1920–1930-х годов вполне вписывается в другой, более обширный текст.
В своих станковых сериях и журнальных рисунках начала 1920-х В. Лебедев, В. Козлинский, А. Радаков, К. Рудаков, Г. Эфрос, Н. Радлов, Д. Митрохин – все как один – принялись обличать проглянувшие родовые пятна капитализма: проституток, нэпманш, модниц-жен ответственных работников и пр.[89] Отдельная тема – шпана. Здесь, как это ни странно, проявился своеобразный эстетизм – аномальный облик, агрессивная пластика, жестовая сила (Ю. Тынянов) асоциального элемента, переполнившего советскую улицу после Гражданской войны, интересовала художников с, как сказали бы сегодня, социально-антропологической стороны. Женское направление художнического критицизма обладало своей особенностью. Конечно, главный вектор здесь был обличительным. Однако обличение это было чрезвычайно аппетитным, вкусным, я бы сказал, игривым: казалось, художники вновь открывали для себя прелести женской фигуры, пикантность поз и туалетов, откровенность ситуаций. Рождался единый связный текст, в какой-то степени преодолевающий изначально критическую установку и в целом посвященный женскому, элегантному, живому. Как уже говорилось, фарфор вполне вписывается в этот текст. И все же главным направлением развития советского фарфора во второй половине 1920–1930-х годах было другое. В его основе лежала понятная и вполне директивная идея фиксации советской современности. Компенсаторный фактор остается: фарфор делает упор на праздничной, героико-победительной и эталонной сторонах советской жизни, символически восполняя реальные трудности и беды (разумеется, какие-то коллективные прагматичные интересы эпохи не даются художнику в виде директивной программы, расписанной подетально. Такие работы собрания Петра Авена, как хотя бы «Революционный Петроград» Т. Безпаловой-Михалевой, «Первомай» Л. Блак, северные темы И. Ризнича – художников второго поколения, выращенных уже, как тогда говорили, целиком на советском воздухе, искренне оптимистичны. Просто в советском воздухе витали новые интересы). Зато прогностический фактор иссякает вместе с лозунговым пафосом мировой революции, вовлечения масс в борьбу, приобщения к политике и пр. Да и не дело художников прогнозировать историю: это сфера большой политики, подающей сигналы посредством уже созданных государственных институций.
Время индивидуальных мифологий Русского Должного (по типу щекотихинской) прошло. Индивидуальная архаика, личный Русский Космос – все это в прошлом: Должное спускается сверху не только как идеологический эталон, но и как визуальный канон. Архаические пласты человеческого мышления нельзя было отдавать фантазмам художниковиндивидуалистов. Они были апроприированы для властных манипуляций: для определенного уровня сознания символ власти и сама власть – тождественны, равно как картина процветания и процветание как таковое.
(В коллекции Петра Авена немало большеформатных – на блюдах и вазах – портретов тогдашних представителей околосталинской верхушки. Любопытно, что здесь нет уже альтмановско-анненковских динамических изломов формы, характерных для энергетически заряженных, действительно агитационных вождистских портретов революционной и непосредственно послереволюционной поры. Они символизировали атакующий характер вождей революции и идей революции. Теперь изображение ценно цельностью и жизнеподобием: мастера-разрисовщики ЛФЗ имитируют документальность фотопортрета кропотливой работой кисточкой. Меняется – в рамках символической – функция портретов. Она становится более архаической, почти тотемной: портрет тождественен присутствию самого персонификатора власти.)
Ресурс фантазийности
Что же делать с индивидуальными мифологиями? Власть не интересует, как представляет художник, скажем, Русский, он же Революционный, Золотой век. Но она рачительна, и ресурс фантазийности, сказочности, полета воображения было бы неразумно не использовать. Тем более что представления об адресате уже состоялись: большой сегмент производства отводился продажам «на Запад». Итак, социальные и миростроительные коннотации (амбиции) отсекаются. «Очищенное» от социальных аллюзий мифологическое канализируется в пространство сказки.
Кстати, до сих пор не исследовался сам момент появления такой обильной сказочности в фарфоре. Не говоря уже о «старых» сказочниках поколения Щекотихиной, к сказке (как правило, русской и восточной или «внелитературной», авторской, вроде миражных образов самопогруженного великого визионера А. Воробьевского), обратились почти все новоприбывшие примерно к середине 1920-х (и несколько позже) на завод художники: Т. Безпалова-Михалева, М. Мох, Л. Блак, тот же А. Воробьевский… Что это было – проявление внутренней индивидуальной потребности в сказочном самовыражении? Некий коллективный ответ на невысказанный заказ: утилизация мифологического в формах (сейчас сказали бы – формате), функционально оправданных внешним рынком? Или (если прибавить к сказке анималистику И. Ризнича) своего рода эскапизм, неманифестированный уход от лобовых заданий официоза? (Полный уход не удавался никому. Все эти мастера в разной мере не смогли избежать официальных заказов. В особенности подводил наличный изобразительный ресурс И. Ризнича, великого изобразителя звериного мира: способность изобразить все что угодно, от корабля и до плотины, преследовала его всю жизнь в виде государственных «датских» заказов (так в просторечье называли задания, которые надо было выполнить к определенным датам: съездов, советских годовщин, юбилеев ушедших и живущих партийных деятелей и пр.).
Восточный сюжет
Еще один «фарфоровый сюжет» требует постановки более общих вопросов культурологического порядка, благо коллекция к этому располагает. А именно – восточная тема нашего фарфора. И не столько сама по себе – скорее как часть проявления некоей стилевой общности, проявившейся пусть не стабильно, но вполне отчетливо в артпрактике второй половины 1920–1930-х годов. Эта стилевая общность – ар-деко. Европейское ар-деко замешено на североафриканском и восточном примитиве. Во времена авангарда примитив был фактором формообразующим. В период ар-деко – колористическим (он придавал колоризму особую остроту, как пряность – блюду), ритмизующим и мироощущенческим. У советского искусства был свой ориентализм, и он выполнял сходные задачи.
Но начнем с другого. Восточная тема интересует русский фарфор с XVIII века. Сначала в плане экзотически сюжетном. XIX век сохраняет вкус к пряной восточной сюжетике. Но по мере развития колониальной политики возникает тема «нашего Востока», постепенно восточные народы становятся предметом «визуального народоведения империи» (см. выше). На Восток работает агитационный фарфор и в вербально-лозунговой, и в изобразительной ипостасях (О. Татевосян. Тарелка «К III Конгрессу Коминтерна». Дулевский завод, 1921). В этом же году и по тому же поводу Н. Данько[90] создает «Пробуждающийся Восток» – смелый и вызывающе гедонистический образ (девушка в шальварах, но с обнаженной грудью читает газету). Он ближе типажу гурий и турчанок частных заводов – продукции, выполнявшей в собиравшей ее помещичьей среде, дичавшей от деревенской изоляции, эротическую роль. Хотя раскованность могла идти и от настроений времени: марксистского феминизма А. Коллонтай и Л. Рейснер. За последующие полтора с лишком десятка лет Данько с дюжину раз обращается к разному Востоку – советскому и близлежащему (так и неясно – в «Персиянке с виноградом» модель – жительница РСФСР? Благо, на Кавказе было вдосталь своих персов. Или это привет труженикам зарубежного Востока? Сказанное относится и к персам Т. Давтяна («Перс, пьющий чай»). И к «Афганке» Е. Трипольской (ее «Амбал», похоже, «наш»). Если добавить сюда жанрово-этнографическую скульптуру О. Мануйловой и еще работы пары авторов, получится внушительный ряд. Здесь также играли роль и личные влечения, и коллективные интересы эпохи. Последние были просты. Закрепить «свои» народы Востока и в сознании всего населения СССР, и в массовом сознании самих этих народов. В этом плане само внимание к их быту и типажу со стороны художников метрополии было политически полезным. Равно как и интерес к трудящимся Востока. Могло ли быть иначе, если «Обращение Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ленина и Народного Комиссара по Делам Национальностей И. В. Сталина ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» было подписано уже 20 ноября (3 декабря) 1917 года: «Мусульмане Востока, персы и турки, арабы и индусы, все те, головами и имуществом которых, свободой и родиной которых сотни лет торговали алчные хищники Европы, все те, страны которых хотят доделить начавшие войну грабители!»
Риторика Ленина обращена прямо через голову правительств, к широким слоям мусульман. Отношения с правительствами были сложные, да и правительства менялись. Так или иначе, и Персия, и Афганистан были в зоне самого пристального геополитического интереса Советской России, а затем СССР. Фарфористы отрабатывали и этот интерес.
Но наряду с политикой и этнографией были другие движущие силы, затягивающие фарфор в ареал советского и зарубежного Востока. Так сказать, негосударственный ориентализм (его вектор ненамного изменился с приходом большевиков). Ориентализм личный, частный. Объяснимый спецификой художественного сознания фарфористов второй половины 1920–1930-х годов, ориентированной на ар-деко. В последние годы немало написано по поводу советских архитектурных аналогов ар-деко[91]. Долгие годы, несмотря на массированные стилистические совпадения, сам термин предпочитали у нас не задействовать. В советском фарфоре не менее очевиден не только курс на ар-деко, но и реализация базисных установок стиля. Более того, убежден, когда материал отечественного ар-деко войдет в мировой научный оборот, некоторые советские мастера будут признаны ведущими мастерами стиля. В рамках данной статьи я вынужден коснуться этого аспекта лишь пунктирно. В чем причины тех драматических сложностей, которые сложились в отношениях советского искусства и ар-деко? В 1925 году на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже, давшей наименование новому стилю – ар-деко, советский павильон (главный художник А. Родченко), получил целую гроздь гран-при и медалей. Однако никаких коммуникативных последствий это вручение не имело. Советский авангард, еще до оформления стилеобразующих интенций в стиль, уже относился к этому явлению с недоверием. Авангард раздражало в ар-деко все – осознанная адаптация авангардного радикализма, утилизация его формообразующей энергии в мирных прикладных целях. Отказ от глобальных жизнестроительных амбиций (здесь раздражение было особенно острым), пролетарское государство отучило советских авангардистов от попыток включиться в миросозидание со своим проектом обустроить жизнь «землянитов». У государства был свой план, делиться оно ни с кем не собиралось, авангарду оставалась риторика будетлянства. Но и она постепенно замещалась риторикой служения классу, пролетарскому государству, вождю. Лидеры ар-деко вообще отказались от идеи социальной и планетарной проектности как слагаемых своего искусства. Они работали здесь и сейчас. Откладывать на будущее ничего не хотели, несмотря на все несовершенство наличного человеческого материала. Более того, не испытывали никакого желания подтачивать статус своего искусства – то есть уйти в производственничество, например. Они просто налаживали производство художественных вещей. Это звучало обывательски, потому что художественность – последнее, что хотели бы видеть конструктивисты-производственники на выходе своей производственнической активности. Авангардисты были людьми левых убеждений или убеждали себя в этом, когда пролетарское государство мобилизовывало их на банальную службу, они с готовностью подчинялись. Мастера ар-деко были индивидуалисты, гедонисты, не чуждались буржуазного лозунга – искусство жить! Словом, несовпадений было уйма. Но главным, как мне представляется, камнем преткновения была судьба авангарда. «Наши» понимали, что авангарду суждено уйти. Но куда – в чистое умозрение? В пропагандистскую деятельность? В музей? Единственное, что они не представляли, – это адаптация авангарда для динамизации урбанистической и личной среды, для интимизации общения с ним.
Данько-художник была не из авангардной среды, поэтому личных претензий к ар-деко у нее не было. Она являлась не только универсальным изобразителем, универсальным типизатором, но и универсальным адаптатором стиля, когда нужно было, апроприировала мирискусническую стилистику, неоклассицистскую тектонику, взрывную динамику футуризма («Вазочка футуристическая», 1919). На рубеже 1920–1930-х годов она присматривается к супрематизму – благо, Н. Суетин был рядом, на заводе. Данько как бы дередуцирует супрематистский пластицизм, возвращая его на человеческий горизонт. Даже урбанистический горизонт, потому что адаптированный супрематизм немедленно взял на себя функции динамизации повседневности. В группе «Рабочий контроль» (первая половина 1930-х) изображена продвинутая фабричная девушка, выводящая на чистую воду двух старообразно одетых бюрократов, инженеров или бухгалтеров (а может, и вредителей). Пьедесталом служит архитектон в виде усеченной спирали. Еще немного – и он раскрутит себя так, что сбросит нечистых на руку бюрократов. В чернильнице «Физкультурницы» (1933) геометризованные объемы основания играют роль трамплина. Но поразительнее всего курительный прибор «Курильщик и спортсмен» (1931). Курильщик сидит в кресле-архитектоне башнеобразной усеченной формы. Его длинные, согнутые под острым углом ноги пытаются затормозить любое движение. Но кресло оптически ввинчивается вниз, увлекая в это движение и курильщика. Его песенка спета, похоже, он скоро покинет сцену в самом прямом смысле – провалится куда-то в небытие. Спортсмен погружен в себя, его кредо – накачивать мускулы. Эта группа как-то очень урбанистична: в позах персонажей чувствуется напряжение, городская жизнь зовет, и дело, конечно, не в пагубных привычках. Винтообразное движение кресла – это метафора свернутой киноленты. Сжатый нарратив, который еще проявит себя! Что ж, адаптированный архитектон, лишенный метафизических коннотаций, приобретает сценичную занимательность, чуть ли не аттракционность. Почему бы и нет – ар-деко торопит: спешите жить, мирная пауза не затянется. Гедонизм в советском искусстве? Возможно ли это – сталинское государство оставляет частному все меньшее пространство, да и оно постоянно сужается. Тем не менее гедонизм находит себе временную нишу. Любопытно проследить эволюцию телесного у ОСТовцев и членов «Октября», то есть молодых фигуративистов. Проследить хотя бы на спортивном материале Ю. Пименова и А. Дейнеки. В спортивных сценах второй половины 1920-х годов – посыл экспрессионистский, как бы разделенная с немецкими художниками память об антропологической катастрофе мировой войны. Эти сцены чуть ли не приравнены к батальным – истонченные тела в бессмысленном перенапряжении. И вдруг на какое-то время проявляется естественная телесность, свежесть, удовольствие от состязаний. Скоро все подомнет другой канон – государственно-служебный: холсты заполнят тела-функции – рожать, стрелять, побеждать, терпеть. Но был-таки просвет: частная телесность, удовольствие от личного, не мобилизованного для какой-либо надобности физического напряжения. Почему государство дало такое послабление? Правда, и сказано было: «Жить стало веселее». На всех этажах общества было услышано – санаторной культурой, творческими союзами, Л. Кагановичем, который вводит джаз на железных дорогах. Фарфор откликается скульптурой: спортсменами и спортсменками. Данько, как всегда, впереди: поняла смысл телесности и нашла для своих спортсменок, детских и девичьих фигурок, ресурс ровного, как бы изнутри идущего фарфорового свечения. Но самый мощный поворот к ардеко, как это ни парадоксально выглядит, Данько делает в многосложном, многофигурном письменном приборе «Обсуждение Сталинской конституции в колхозе Узбекистана» (модель 1936 года). Как могло получиться, что наиболее естественное, гедонистическое, человечное произведение советского фарфора ар-деко было создано в рамках сугубого официоза? К тому же в рамках восточной темы. Это была в конце 1930-х годов тема драматическая. Средняя Азия с ее доселе вполне феодальным обликом и укладом насильственно, с хрустом костей и позвоночников перетаскиваемая прямо в светлое будущее, в социализм, являла собой ту чистоту социального эксперимента, которая была недоступна в метрополии. Эта была даже не социальная инженерия, а социальная хирургия самого радикального толка, без тех рефлексий и сантиментов, которые все же возникали в интеллигентском сознании, по крайней мере в конце 1920-х – начале 1930-х, по ходу крутых изменений народной жизни в европейской части. Сочувствующих среднеазиатской национальной идентичности как некоей органике традиций, уклада, организации форм жизни среди советского культурного истэблишмента, похоже, не было. Патриархальное «по-азиатски» выглядело слишком уж нестерпимо архаичным, требующим не перековки даже, а тотального слома. В этой социальной и эмоциональной глухоте, видимо, сказывалась еще и имперская традиция – отношение к азиатским народам как к младшим братьям, которых старшие товарищи ведут вперед, а если и наказывают, то вразумляя, во их же благо (впрочем, все это можно сформулировать и жестче – своих не жалели, ближних, чего уж там о чужих…).
Таков примерно контекст, в котором создавался многофигурный прибор. Данько удалось дезактивировать – разумеется, в своем собственном сознании, – ту социальную радиацию, которую бросал на все живое описанный выше эксперимент. Естественно, она не обманулась его мифологическими плодами. Она не прорывалась и к другой мифологии – к архаике, к уничтоженному. Видимо, она все понимала. Ее притягивали для воплощения самые простые формы организации социальной жизни. Для официоза это значило: Сталинская конституция дошла до самого народного нутра. Для нее – возможность соприкоснуться с тем устройством жизни, которое оказалось самым живучим, а значит, самодостаточным. Что, собственно, происходит? Люди за достарханом беседуют чуть оживленнее, чем это принято: это понятно, это символический обмен ритуального оживления (как-никак Конституцию обсуждают!) – на нормальное состояние жизни («оставьте нас в покое»!). Люди читают, пьют чай, играют на инструментах. Беседуют. В специально обустроенных для естественной жизни местах – в неглубоких нишах. Люди по возможности сидят или полулежат. Не спешат. Ценят тень. Экономят энергию движений. Они, конечно, выказывают всем своим видом довольство и благодарность. За Конституцию. И Данько, конечно, все это будет транслировать, на то и заказ. Но и для себя кое-что найдет. Очень важное, то, что у здешних людей не смогли отнять. А для наших – не очень-то знакомое. Перекидывающее мост к марокканским циклам Матисса, необходимым для понимания советского ар-деко. Конечно, урбанизм, драйв… Но существеннее естественность – Нега. Вот этого протяженного во времени, независимого от власти ощущения добивалась Данько. Получилось. И наиофициальнейший письменный прибор, нелепый государственный сталинский подарок самого страшного года нашей истории искрится неприлично безмятежными красками ар-деко.
Коллекция Авена располагает большим ресурсом смыслопорождающих «фарфоровых сюжетов», далеко выходящих за пространство собственно фарфора. Выходящих и символически, и мироощущенчески. В этом смысл ее, как мы условились обозначать это важнейшее качество, проживаемости. Коллекционером и культурой в целом.
2014Примечания
1
Дёготь Е. Террористический натурализм. М.: Ad Marginem, 1998. С. 28.
(обратно)2
См.: Сарабьянов Д. В. К. С. Малевич и искусство первой трети XX века // К. Малевич. Каталог выставки. Амстердам. Стеделейкмузеум, 1988. С. 67.
(обратно)3
См.: Васильева Н. М. А. Н. Бенуа и его книжное собрание // Гос. Русский музей. Из истории музея: Сб. статей и публикаций. СПб., 1995.
(обратно)4
См.: Наков А. Беспредметный мир. Абстрактное и конкретное искусство. Россия и Польша. М., 1997. С. 45.
(обратно)5
См.: Баснер Е. Метаморфозы «чужого сюжета» в живописи М. Ф. Ларионова и Н. С. Гончаровой.
(обратно)6
См.: Зданевич И. Наталья Гончарова и всёчество. Москва, 5 (18) ноября 1913 / Публ. Е. В. Баснер // Гончарова Н., Ларионов М. Исследования и публикации. М., 2003. С. 172.
(обратно)7
В книге «Борьба за знамя» (М.: Издательская программа Московского музея современного искусства, 2008) этот левый дискурс 1920-х, пожалуй, впервые, при всей апологетичности общей установки, проанализирован достаточно серьезно.
(обратно)8
См.: Творчество. 1936. № 6. С. 8.
(обратно)9
Ерофеев А. «Неофициальное искусство». Художники 60-х годов // Вопросы искусствознания. 1993. № 4. С. 197.
(обратно)10
Ерофеев А. «Неофициальное искусство». Художники 60-х годов // Вопросы искусствознания. 1993. № 4. С. 202.
(обратно)11
См.: Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999.
(обратно)12
См.: Сидоров А. А. Русская графика начала XX века: очерки истории и теории. М.: Искусство, 1969. Разумеется, автор тогда не имел возможности даже упомянуть Л. Троцкого. О нем как о персонаже истории русской графики см.: Боровский А. Северный грифель: статьи о графическом (1978–2012). СПб., 2012.
(обратно)13
Мастера современной гравюры и графики: сб. материалов / Под ред. В. Полонского. М.; Л., 1928.
(обратно)14
См.: Wye D. Preface // Thinking Print: Books to Billboards, 1980–95. New York: The Museum of Modern Art, 1996. P. 9.
(обратно)15
См.: White М. Drawingas Drawing // Richard Serra Drawing. A Retrospective. The Menil Collection.Yale University Press, 2012.
(обратно)16
См.: Butler C. H. OnLine. MоMA. P. 148.
(обратно)17
См.: -psiholog.info/t/240/19925-myslitelnye-stulya-imyslitelnye-kolpaki.html.
(обратно)18
Подорога В. А. Евнух души. Позиция чтения и мир Платонова // Параллели. Вып. 2. М., 1991. С. 49.
(обратно)19
Кабаков И. 60-е–70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 47. Wien, 1999. S. 10.
(обратно)20
См.: OnLine. P. 10.
(обратно)21
Здесь нет возможности рассматривать все многообразие материала, которое покрывает актуальнейшая сегодня междисциплинарная наука нарратология. «Нарративному повороту» посвящена огромная литература (см., например, систематизирующие обзоры соответствующей проблематики, проведенные двумя авторами: Шмид В. Нарратология. М., 2008; Борисенкова А. Нарративный поворот и его проблемы // Новое литературное обозрение. 2010. № 3). Приведем только два более или менее конвенциональных, по Вольфу Шмиду, значения термина «нарративный», принятых в научном обороте. Первое, широкое, «подразумевает, согласно структуралистскому пониманию, „изменение состояния“». Второе, узкое, «сочетает структуралистскую концепцию с классической – подразумевается не только „изменение состояния“, но и передача этого изменения посредством некой повествующей инстанции» (см.: Шмид В. Нарратология. С. 15).
(обратно)22
См. определение Ж. Женетта: «Повествовательный дискурс может существовать постольку, постольку он рассказывает некую историю» (Там же. С. 18).
(обратно)23
Брагинская Н. В. Экфрасис как тип текста: (к проблеме структурной классификации) // Славянское и балканское языкознание: сб. ст. М., 1977. С. 259–283.
(обратно)24
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 21. Л., 1980. С. 72.
(обратно)25
Справедливости ради отметим, что не менее эффективно прием экфрасиса использовали и в Европе. Причем еще более открыто апроприируя его в прагматических целях. Например, в социальной пропаганде. Ф. Энгельс дотошно описывает реалии известной в свое время картины «Силезские ткачи» вполне второстепенного Карла Хюбнер (1814–1879), которая в его понимании «сделала гораздо больше для социалистической агитации, чем это могла бы сделать сотня памфлетов. Картина изображает группу силезских ткачей, принесших холст фабриканту, и с необычайной силой показывает контраст жестокосердного богатства с одной стороны, и безысходной нищеты – с другой. Упитанный фабрикант, с медно-красным, бесчувственным лицом, пренебрежительно отшвыривает кусок холста; женщина, которой принадлежит этот холст, видя, что нет никакой надежды продать его, лишается чувств и падает; ее обнимают двое маленьких детей, в то время как стоящий рядом старик с трудом ее поддерживает. Приказчик рассматривает другой кусок холста, владельцы которого с мучительным напряжением ждут результата осмотра; молодой человек показывает подавленной отчаянием матери жалкий заработок, который он получил за свой труд; на каменной скамье сидят в ожидании своей очереди старик, девушка и мальчик, а двое мужчин, взвалив на спину куски забракованного холста, выходят из комнаты; один из них потрясает в бешенстве кулаком, между тем как другой, положив руку на плечо своему товарищу, указывает на небо, как бы говоря: будь покоен, есть еще судья, который покарает его. Вся эта сцена разыгрывается в холодной, нежилого вида прихожей с каменным полом; только фабрикант стоит на коврике. Между тем в глубине картины, позади прилавка, открывается вид на богато обставленную контору, с роскошными шторами и зеркалами, где несколько приказчиков пишут, не обращая внимания на то, что происходит за их спиной, а сын хозяина, молодой франт, стоит, опершись о прилавок, с хлыстом в руке, покуривая сигару и равнодушно взирая на несчастных ткачей. Эта картина выставлена была в нескольких городах Германии и, конечно, подготовила много умов к восприятию социальных идей» ().
(обратно)26
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1981. Т. IX. С. 46.
(обратно)27
«Нас инстинктивно тянуло <…> подальше от литературщины, от тенденциозности передвижников…» (Бенуа А. Н. Возникновение «Мира искусства». М., 1994. С. 21).
(обратно)28
См.: Эфрос А. Профили. СПб., 2007. С. 55.
(обратно)29
См.: Бенуа А. Н. Художественные письма 1908–1917. СПб., 2006. Т. 1. 1908–1910. С. 285.
(обратно)30
См.: Поспелов Г. Г. Русское искусство XIX века: очерки. М., 1997. С. 127.
(обратно)31
Словом, будет пройдена та часть пути, который Р. Барт описал следующим образом: «Исследователь более позднего времени, суммируя опыт актуальных практик, понимает, что „реалистичнее“ всех будет не то произведение, в котором „живописуется“ реальность, а то, которое, пользуясь реальным миром как содержанием, глубже всех проникает в ирреальную реальность языка» (цит. по: Берг М. Литературократия. М., 2000. С. 74).
(обратно)32
Этими терминами оперирует Н. Н. Волков, один из немногих исследователей сюжета в живописи. См.: Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977.
(обратно)33
См.: Бакушинский А. В. Исследования и статьи. М., 1981. С. 89.
(обратно)34
См.: Бобриков А. Большая женщина Сталинской эпохи. URL: .
(обратно)35
Бобринская Е. Чужие? М., 2013. С. 187.
(обратно)36
Бобринская Е. Чужие? М., 2013. С. 191.
(обратно)37
У Б. В. Томашевского читаем: «Фабулой называется совокупность событий, связанных между собой, о которых сообщается в произведении… Фабуле противостоит сюжет: те же события, но в их изложении, в том порядке, в каком они сообщены в произведении, в той связи, в какой даны в произведении сообщения о них» (Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. Л., 1925. С. 137).
(обратно)38
Борисенкова А. Нарративный поворот… С. 327.
(обратно)39
Зенкин С. Работы о теории. М., 2012. С. 388.
(обратно)40
Зенкин С. Работы о теории. М., 2012. С. 388.
(обратно)41
Имеется в виду The Aesthetic Movement, масштабность которого в очередной раз продемонстрировала недавняя выставка The Cult Of Beauty в лондонском Музее Виктории и Альберта. См.: The Cult of Beauty. The Aesthetic Movement 1860–1900 / Ed. by St. Calloway and Linn Federl Orr. V&A Publishing, 2011.
(обратно)42
См.: Lucie-Smith Ed. Movements in Art since 1945. Themes&Hudson, 2001.
(обратно)43
См.: Бессонова М. Избранные труды. М., 2004.
(обратно)44
См.: Топоров В. Н. Из истории петербургского аполлинизма: его золотые дни и его крушение. М., 2004.
(обратно)45
Толстой Л. Н. Анна Каренина. М., 2002. С. 673–674.
(обратно)46
См.: Хлобыстин А. Слепой художник. Стратегия и тактика Тимура Новикова // Новиков Т. Новая академия изящных искусств. М.: Айдан галерея [б. д.]. С. 126.
(обратно)47
Сидоров А. А. Русская графика начала XX века. М., 1969. С. 68.
(обратно)48
См.: Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм. М., 2001. С. 65.
(обратно)49
См.: Зонтаг С. Заметки о Кэмпе. Мысль как страсть. М., 1997.
(обратно)50
Breadly F., Lomas D. Narcissus Reflected. Edinburg: Fruitmarket gallery, 2011. P. 9.
(обратно)51
Дополнение из 2013 года. Обе стороны, и охранители, и акционисты, правда, уже нового поколения, «взяли свое» всего через несколько месяцев – акцией «Pussy Riot».
(обратно)52
Полностью опубликовано: Гройс Б. Александр Дейнека. М.: Ad Marginem, 2014.
(обратно)53
См.: Danto A. C. Unnatural Wonders. New York: Columbia University Press, 2005. P. 16.
(обратно)54
См.: Celant G. The Small Utopia. Ars Multiplacata. Fondazione Prada, 2012.
(обратно)55
Гаевский В., Гершензон П. Разговоры о русском балете. М., 2010.
(обратно)56
Так, он, переживая период становления, добивался определенной стабильности профессиональных критериев (очевидный «перепад уровней» в плакате 1890-х годов, обилие неудач даже у крупных мастеров – К. Коровина и др., – следствие как раз неразработанности профессиональных основ), модерн же предлагал универсальные принципы формообразования, которые «оттачивались» во многих видах искусства («Линия Орта», которую Д. Сарабьянов называет «исходной, формирующей стиль линией», и др.). Столь же чутко воспринял плакат устойчивую иконографию модерна: видимо, своеобразная знаковость была близка заложенному в его природе стремлению к идеографическому обозначению понятий. Или вот процесс сближения искусства и промышленности, который окрашивал главные начинания модерна: само рождение нового плаката (Ж. Шере и др.) обусловлено было новшествами в типографской промышленности, причем специфическое качество полиграфичности, ориентированности на воспроизведение становится признаком современной художественной формы в плакатной графике (не только, впрочем, плакатной; А. А. Сидоров в свое время убедительно писал о полиграфическом «оттенке», который приобрел на рубеже веков сам термин «графичность»). Или проблема массовости искусства, которая в модерне ставилась противоречиво и остро, – нет необходимости распространяться о том, как принципиальна она была для плаката. Можно найти еще немало линий сближения, основных и частных, но отметим главное: плакат во многом стал рупором модерна, «визитной карточкой» его главных стилевых поисков (справедливости ради добавим – в их внешнем, зримом, отнюдь не глубинном выражении). Все эти линии не стыкуются, когда речь идет о фарфоре. Вроде бы все, что сформулировано выше, ему бы не помешало. Причем все вроде бы было заложено в новом фарфоре: и типологичность решений (общий вектор стилизации, эстетства, то есть весь этот своеобразный эклектизм, который имел в виду А. Белый, не говоря уже о совпадениях иконографического плана), и производственный оттенок, и тиражность. См.: Боровский А. Плакат модерна // Музей: сб. ст. Вып. 10. М.: Сов. художник, 1989.
(обратно)57
ГРМ. Ф. Голлербаха Э. Ф., папка № 32, ед. хр. 75.
(обратно)58
См.: Клементьева Н. В. Пасторальная традиция в русской художественной культуре начала XX века: автореферат дис. … канд. искусствоведения. СПб., 2006.
(обратно)59
Об этом см.: Иванова А. В. Из стихии Серебряного века // Эхо русских сезонов: каталог. СПб., 2009.
(обратно)60
См.: Завьялова А. «Маркиза»: название, герой, жанр в творчестве Александра Бенуа, Константина Сомова и их последователей // Собранiе. 2008. № 2.
(обратно)61
Кузьмин М. Дневник 1905–1907. СПб., 2000. С. 378.
(обратно)62
См.: Марков В. Ф. О свободе в поэзии: статьи, эссе, разное. СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. 368 с.
(обратно)63
Цит. по: Хмельницкая Е. Фарфоровые статуэтки Константина Сомова // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. 2012. Июль – Авг. С. 60.
(обратно)64
ГРМ. Ф. Голлербаха Э. Ф., папка № 32, с. 5.
(обратно)65
Цит. по: Шубинский В. Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий. М., 2012. С. 160–162.
(обратно)66
См.: Иванова А. В. Из стихии Серебряного века. С. 8.
(обратно)67
См.: Андреева Л. Советский фарфор. 1920–1930 годы. М., 1975.
(обратно)68
См.: Сиповская Н. Фарфор в России XVIII века. М., 2008.
(обратно)69
См.: Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011.
(обратно)70
Константин Андреевич Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979. С. 175.
(обратно)71
Колоницкий Б. И. Символы и борьба за власть. К изучению политической культуры Российской революции 1917 года. СПб., 2001. С. 16.
(обратно)72
См.: Яров С. Риторика вождей: В. И. Ленин и И. В. Сталин как ораторы // Звезда. 2007. № 11.
(обратно)73
См.: Якобсон А. Конец трагедии. Нью-Йорк: Изд-во им. А. Чехова, 1973.
(обратно)74
См.: Нарский И. К вопросу о прошлом и будущем политической локальной истории поздней Российской империи // Горизонты локальной истории Восточной Европы в XIX–XX вв. Челябинск, 2003. С. 30.
(обратно)75
Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000. С. 189.
(обратно)76
Репрезентативность – вообще ключевое слово в отношении фарфора, оно вбирает и те значения, которые мы уже употребляли, – податливость к идеологическим конструктам и даже женственность. Есть и иное значение, касающееся практики бытования в культуре, – показ. Уже упоминалось, что в силу объективных обстоятельств производственного плана массовость агитфарфора была предметом политических желаний, а не производственных реальностей. Его «перформативность» осуществлялась не столько за счет тиражного приращения, массовости оборота, сколько за счет «ударности», цельности показа артпродукции различных мастеров, существования в качестве единого выставочного тела. Эта установка отражалась на собственно творчестве: при массовом производстве неизбежна канализация наиболее идеологически ударных и технологически упрощенных образов и торможение, если не отсеивание, всех прочих. Торжествовал же другой принцип – многообразие палитры поисков, вовлеченность различных художников. То есть если первичная, «большая» репрезентативность в качестве предмета имеет избирательный охват всех тех явлений и идей времени, которые мы пытались выделить выше, то вторичная рефлексирует уже художественные реалии. Этим объясняется дальнейшая судьба агитфарфора как материала «показа»: выставочного, коллекционного, витринного (в прямом смысле – он и показывался уже летом 1918 года в витрине магазина на Невском, тогда проспект 25 Октября.
(обратно)77
См.: Безпалова-Михалева Т. Обо мне и моих товарищах. ГРМ. Ф. 202. Ед. хр. 1.
(обратно)78
См.: Безпалова-Михалева Т. Обо мне и моих товарищах. ГРМ. Ф. 202. Ед. хр. 1.
(обратно)79
Эфрос А. Профили. С. 213.
(обратно)80
См.: Боровский А. Воспоминания о будущем // Новый Мир искусств. 2002. № 5.
(обратно)81
Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. с нем. М. М. Беляева, К. В. Костина, Е. Л. Петренко и др. М., 2003. С. 96.
(обратно)82
Цит. по: Хоружий С. С. О старом и новом. СПб.: Алетейя, 2000. С. 190.
(обратно)83
См.: Гавров С. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в России. М., 2004. 352 с.
(обратно)84
Интересная культурная параллель: на другом фланге предметного мира, который можно условно назвать конструктивистским, то есть принципиально безобразным и антимиметическим, тоже возникает своя метафорика вещи. В приключенческом романе М. Шагинян «Месс-Менд» правильные, идеологически продвинутые вещи, сделанные по заветам героя, революционера Мик-Мага, «помогают пролетариям бороться с буржуазией: в нужный момент замки размыкаются от одного нажима рабочего, двери подслушивают, зеркала – фотографируют» (См.: Деготь Е. От товара к товарищу. К эстетике нерыночного предмета // Логос. 2005. 5 (50).
(обратно)85
Тройницкий С. Русские фарфоровые фигуры. Л., 1928. С. 22.
(обратно)86
Алексеев Б. Фарфор. Гос. музей керамики и усадьба Кусково. М., 1958. С. 8.
(обратно)87
Горький М. Советская литература. М., 1934. С. 20.
(обратно)88
Поспелов Г. Г. Русское искусство XIX века: очерки. М., 1997. С. 33.
(обратно)89
См.: Боровский А. Северный грифель: статьи о графическом. СПб., 2012.
(обратно)90
Скульптура традиционно приписывается Е. Данько. В. Левшенков, автор недавней монографии, посвященной сестрам Данько, убедительно доказывает авторство старшей сестры, Наталии Яковлевны. Елена Яковлевна – автор росписи. См.: Левшенков В. Творчество сестер Н. Я. и Е. Я. Данько. СПб., 2012. С. 430.
(обратно)91
См.: Малинина Т. Формула стиля. Ар-деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции. М.: Пинакотека, 2005; Азизян И. А. Диалог искусств XX века. М.: Изд-во Российской академии архитектуры и строительных наук, 2008; Архитектура сталинской эпохи. Опыт исторического осмысления. М., 2010.
(обратно)
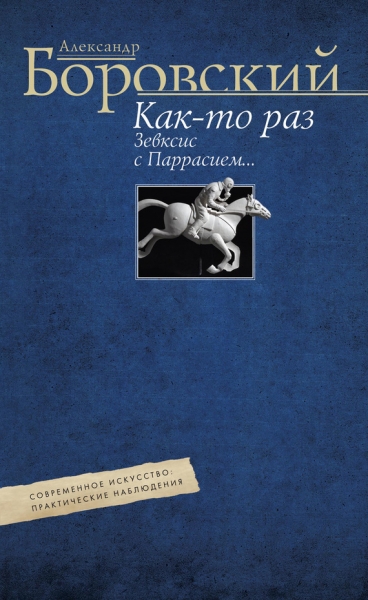
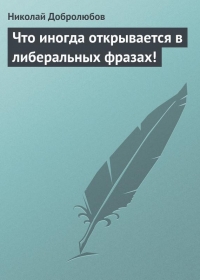


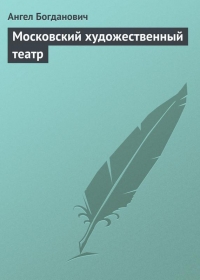


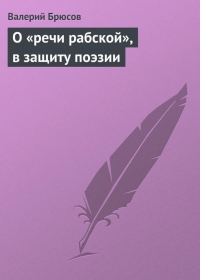
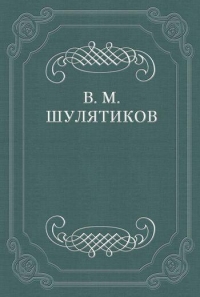
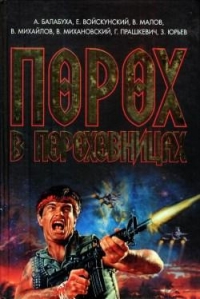
Комментарии к книге «Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения», Александр Боровский
Всего 0 комментариев