Владимир Шулятиков Страница итогов
Вышедшая отдельным изданием повесть «Трое» позволяет сделать некоторые общие выводы относительно того типа «новых людей», обрисовке которого посвящены произведения Максима Горького.
Если раньше г. Горький предлагал вниманию читателей отдельные сцены из босяцкого быта, если раньше он рисовал босяков в «героические» моменты их жизни, в моменты, когда они имеют возможность противопоставить людям других общественных слоев нечто положительное, обнаружить перед этими людьми свое духовное превосходство, – то теперь автор «Челкаша» задается более широкими задачами: он старается набросать синтетическую картину «босяцкой» жизни, он старается дать обстоятельную характеристику человека «босяцкого» склада, он заглядывает в самые потаенные уголки душевного мира этого человека, следит за тем, как в душе этого человека постепенно рождаются, крепнут и растут «босяцкие» настроения и стремления, как кристаллизуется «босяцкое» мировоззрение: он создает целые эпопеи босяцкой жизни.
Первым опытом подобного рода эпопеи был «Фома Гордеев»… В «Фоме Гордееве» человек «босяцкого» склада души выступил облеченный в несколько необычный костюм: герой названного произведения – сын совершенно иной общественной среды, чем истинные герои г. Горького. Правда, купеческий сын Фома Гордеев живет той же самой своеобразной душевной жизнью, какой живут настоящие «босяки». Но рост и развитие владевших им «босяцких» настроений и стремлений не определялись всецело условиями окружавшей его среды, его «босяцкие» настроения и стремления носили отчасти характер чего-то стихийного, чего-то пришедшего фатальным образом извне, чего-то наносного. То чувство, которое доминирует в душе босяков, через призму которого они смотрят на весь окружающий мир, которое так властно руководит их действиями и подсказывает им ту или иную оценку жизненных фактов – чувство обиды[1], в жизни Фомы Гордеева не могло иметь особого смысла и значения, какие оно имеет в жизни «бывших людей»: оно было рождено в душе Фомы Гордеева не волей тех «враждебных» обстоятельств, с которыми приходится считаться «бывшим людям».
Повесть «Трое» – вторая законченная эпопея босяцкой жизни – представляет гораздо больше материала для характеристики и анализа «босяцких» настроений и стремлений. В «Троих» г. Горький ведет читателя к самому источнику этих настроений и стремлений. Герой повести Илья Лунев вышел именно из босяцкой среды: все движения его души, все его скорби и думы, все его чувства и желания – суть плоть от плоти и кровь от крови названной среды.
Перед читателем впервые фигура босяка встает нарисованная во весь рост; впервые г. Горький знакомит читателя с итогом душевных и моральных переживаний, доступных босяку, впервые заставляет босяка пройти весь длинный путь «от колыбели до могилы» перед лицом представителей самых разнообразных общественных групп, последовательно определить свое отношение к ним и последовательно выработать свое миросозерцание…
Нарисованная во весь рост фигура босяка поражает определенностью своих очертаний… Г. Горький в повести «Трое», по-видимому, сказал свое решительное слово о босяке, точнее – о психологии босяка. Только теперь, имея в своем распоряжении «Трое», можно оценить истинное значение «босяцкого» героизма и ответить на вопрос, куда идут «обиженные» люди г. Горького, какие новые пути они открывают в жизни, на какое «творчество жизни» они способны? Кроме того, ознакомившись, на основании повести «Трое» ближе с содержанием душевного мира босяка и с общественным мировоззрением последнего, можно вскрыть причины, в силу которых герои г. Горького завоевали себе столь широкие симпатии в среде современной русской интеллигенции.
I
Обратите внимание на заключительные страницы повести «Трое».
Илья Лунев, не нашедший в жизни той правды, которую искал, принужденный сделаться свидетелем ряда катастроф, обрушившихся на голову наиболее близких спутниц, бросает окружающему его «мещанскому» обществу дерзкий вызов, из оборонительного положения старается перейти в наступательное.
На именинах у бывшего квартального надзирателя Автономова – мужа своей любовницы и компаньонке по торговле – он вдруг начинает шокировать присутствующих разговорами о предметах, относительно которых в «мещанских» салонах принято хранить глубокое молчание, высказывает симпатию своей знакомой – проститутке, осужденной за воровство, заявляет, что «среди гулящих девушек есть очень хорошие», что сытые люди – воры, затем переходит к изобличениям, открывает свою связь с Автономовой, признается, что он задушил и ограбил купца, а похищенные у этого купца деньги вложил в торговое предприятие. Наконец, он обращается к присутствующим с краткой, но громкой речью:
Я вот смотрю на вас, – жрете вы, пьете, обманываете друг друга… никого не любите… что вам надо? Я порядочной жизни, чистой… никогда ее нет! Только сам испортился… Хорошему человеку нельзя с вами жить, сгниет». Вы хороших людей до смерти забиваете… Я вот – злой, да и то среди вас, как слабая кошка среди тысячи крыс в темном погребе. Гады, однако, вы… Меня сожрали… сгноили…
Но лишь только он произносит эту речь, ему «вдруг стало грустно»: перед ним встал вопрос: «а дальше-то что буду делать?» – он глубоко задумался…
Действительно, ему ничего больше не оставалось делать, точно так же как ничего больше не оставалось делать Фоме Гордееву после знаменитой речи, произнесенной им перед собранием волжских купцов.
Фома Гордеев, высказавший купцам горькую правду в глаза, очутился перед «закрытой дверью», и автор спешит вычеркнуть его из списка активных участников «жизненней битвы»: Фома Гордеев погружается в состояние умопомешательства. Точно также Илья Лунев сходит с арены жизненной битвы, точно также сознательная жизнь прекращается для него с той минуты, как он весь высказался перед «обществом».
Высказаться перед целым обществом, значит для героев г. Горького дать генеральное сражение неприятелю, значит получить единственное доступное им удовлетворение. Самый факт «изобличения» целого общества уже есть для них великое торжество.
В другого рода торжестве им отказано. Все развитие их душевной жизни предрасполагает их к тому, что они чувствуют себя победителями именно тогда, когда имеют случай крикнуть в лицо общества ряд суровых обвинений; они торжествуют, если они могут отомстить обществу, унизить его и насладиться его унижением.
Илья Лунев недаром называл себя злым человеком, сравнивая себя с «слабой кошкой», окруженной тысячами крыс: он намекал на те «хищнические» стремления, которые так ярко характеризуют душевный мир «обиженных людей», намекал на властно говорящую в душе «обиженных» людей потребность – потребность врачевать свои внутренние язвы чужими страданиями, заглушать стон внутренней боли чужими стонами.
Столкновения с окружающей средой слишком глубоко поранили «босяцкое» сердце, слишком много вонзили в него «заноз», – чувство боли потеряло для него свой острый характер. В глубине «босяцкого» сердца не может родиться взрыва настоящего «сильного» гнева. «Босяцкая» душа в состоянии отвечать на новые «оскорбления», наносимые ей жизнью, – лишь ощущениями безысходного, гнетущего страдания.
Как что-то стихийное, рождаются в душевном мире босяка темные чувства; эти чувства хозяйничают в душе босяка, как хищники, – давят босяка своей тяжестью, уничтожают его.
Обрисовывая душевное состояние босяка, переживающего трудные минуты, г. Горький всегда прибегает к одним и тем же образам, всегда старается передать парализующее действие «темных» чувств: тяжелая скука давила и угнетала его (Илью Лунева): «он весь сосредоточился на ощущении мучительной тоскливой тяжести в груди»; «в сердце его неподвижно лежало тяжелое темное чувство», «он чувствовал обиду тяжелую, уничтожавшую его»…
«Темные» чувства распространяют свою власть над «босяцкой» душой так далеко, что даже влияют на направление работы мысли босяка, – вносят в эту работу патологические элементы: думы босяка тяжелы, как кошмар, «тяжелые думы» наваливаются на него, подавляют его.
Обессиленный, униженный тяжелыми темными чувствами босяк естественно старается прежде всего освободиться от ига этих чувств, прежде всего излечиться от своих душевных недугов. И как раз он чувствует себя освобожденным от душевной тяжести в те минуты, когда ему удается насладиться зрелищем чужих недугов, когда ему представляется возможность кому-нибудь нанести оскорбление, кого-нибудь обидеть, кого-нибудь помучить, кому-нибудь причинить боль.
Правда, босяку очень и очень далеко до классического мучителя-хищника, обрисованного кистью Достоевского, хищника, представленного в образе Фомы Опискина (героя повести «Село Степанчиково и его обитатели»). В душе Опискина «хищнические» стремления вызваны условиями, аналогичными с теми, какие вызвали в душе героев г. Горького, – т. е. явились реакцией «униженного» сердца против обид, наносимых жизнью, явились противоядием против пережитой внутренней боли. Но в душе Фомы Опискина эти стремления взяли верх над всеми прочими чувствами и движениями. Мучить людей и наслаждаться их муками – составило для Фомы Опискина смысл всей жизни.
Герои г. Горького более высоко ценят жизнь, видят смысл жизни в искании правды, идут по дороге, противоположной той, какая привела Фому Опискина к чудовищно-эгоистическому идеалу. Но, как всем вообще больным, босякам г. Горького в известной степени свойственны эгоистические стремления.
Их обиженное сердце требует жертв и боль его успокаивается тогда, когда оно находит себе жертву.
Илья Лунев очень часто таким путем достигает «успокоения».
Приятное чувство охватило его, когда однажды он жестоко оскорбил безобидную и безответную проститутку Матицу.
Оскорбил он Матицу за то, что последняя, пригласив его к себе, завела необычную беседу, заговорила о чистой жизни, о жалкой участи товарищей детства Ильи… Илья вдруг «ощутил прилив неукротимого желания обидеть проститутку» и осыпал ее градом укоров; обвинил ее в двоедушном поведении, назвал обманщицей и притворщицей.
«Он чувствовал, что жестоко обидел Матицу и это было приятно ему, и от этого и на сердце стало легче и в голове яснее».
Такое же приятное чувство он ощутил в сердце, когда оскорбил гимназистку Соню, явившуюся к нему с самыми гуманными намерениями, желавшую протянуть ему руку помощи. Он усмотрел в отношении к нему гимназистки что-то оскорбительное, что-то холодное и гордое: и тогда «буйное желание отплатить ей хватило его, как огнем и, намеренно, не торопясь, он обкладывал ее (гимназистку) тяжелыми и грубыми словами»:
«Барство ваше, гордость эта – вам не дорого обходится… и в гимназиях всяк может этого набраться… А без гимназии – швея вы, горничная… По бедности вашей ничем другим быть не можете… верно-с?
– Что вы говорите – тихо воскликнула она.
Илья смотрел ей в лицо и с удовольствием видел, как раздуваются ее ноздри, краснеют щеки.
Когда девушка, оскорбившись, ушла, он некоторое время «стоял неподвижно, упиваясь острой радостью удавшейся мести. Возмущенное, недоумевающее, немного испуганное лицо девушки хорошо запечатлелось в его памяти и он был доволен собой».
Так поступает Илья Лунев с людьми, которых не может считать в числе своих врагов. Даже любимую им Олимпиаду он временами не щадит, временами готов ее «мучить», причинять ей нравственную боль.
По отношению же к прочим людям он дает полную волю своему озлобленному чувству.
Под влиянием чувства обиды он убивает купца Полуэктова. И в те минуты, когда он душит купца, он постепенно освобождается от душевной тяжести.
С горячей ненавистью и с ужасом в сердце он смотрит, как мутные глаза Полуэктова становились все более огромными, но все сильнее давил ему горло и, по мере того, как тело старика становилось все тяжелее, тяжесть в сердце Ильи точно таяла.
Его мысли постоянно возвращаются к одной теме; он постоянно думает о том, как бы ему отомстить людям за свою надломленную жизнь. То он сгорает желанием поджечь дом буфетчика Петрухи Филимонова и, когда сбежится народ на пожар, объявить себя, с торжеством, виновником поджога. То ему хочется бросить камень в окна находящейся мимо него квартиры, произвести смятение среди пирующих в ней людей и насладиться зрелищем их смятения. То мечтает он о богатстве: если бы ему посчастливилось сделаться обладателем многотысячного состояния, он сумел бы, конечно, показать себя людям – он заставил бы их «на четвереньках ходить перед собой».
Он стремится проявлять тем или иным путем свою силу: проявить перед людьми свою силу – значит, в его глазах, причинить людям боль, унизить их, отомстить им[2], успокоить свое «больное» сердце «злобной радостью» при виде чужой слабости и чужих страданий.
В сцене на семейном празднике у Автономовых он именно справляет «лукуллов пир» своего озлобленного чувства, проявляет бурно свою «силу».
Он созерцает яркую картину людского унижения и людской слабости, стоит перед растерянной толпой представителей «чистого порядочного» общества.
Сознание, что Автономовы сконфужены перед гостями, глубоко, приятно, радовало его. Он становился все спокойнее, стремление идти вразрез с этими людьми, говорить им дерзкие слова, злить их до бешенства, это стремление расправлялось в нем, как стальные пружины, и поднимало его на какую-то приятную и страшную высоту. Он становился все спокойнее…
Раньше часто его прельщала мысль признаться перед толпой в убийстве купца. Раньше ему нравилось ходить среди людей заинтересованных убийством, слушать их пересуды и «чувствовать в себе силу удивить всех этих людей, сказать, – «а ведь это я сделал»… Рисуя в своем воображении картину поджога и признания в поджоге, он дополнял ее картиной признания в убийстве; «это я задавил купца Полуэктова!» должен был он тогда воскликнуть и, бросивши в лицо толпе подобное восклицание, удовлетворить «буйному чувству» мести.
Теперь он удовлетворил свое чувство: он признался перед обществом в убийстве. Теперь он, по его собственным словам, «смеется над людьми», унижает их неожиданным и дерзким признанием…
Одним словом, занимавшие его мстительные замыслы он осуществил, насколько был в состоянии их осуществить. И если он придавал особенную ценность чувству мести именно потому, что оно врачевало его душевные раны, освобождало его от тяжести в душе, то он достиг теперь своей цели, поскольку эта цель была для него достижима: он взял от мстительного чувства все, что мог взять, он пережил несколько мгновений полного освобождения от гнездившихся в «обиженном сердце» темных чувств, он поднялся на «приятную и страшную высоту».
И тогда, переживши эти мгновения, он ощутил в своей душе «равнодушную пустоту», – интерес к жизни был для него потерян.
II
Судя по началу повести «Трое», можно было бы предположить, что истинным «горьковским «героем, истинным носителем «босяцких» настроений и «босяцкого» мировоззрения явится, наряду с Ильей Луневым и Павел Грачев. Если в лице Ильи Лунева г. Горький дал яркий образ того типа босяков, который он раньше намечал, создавая фигуры Коновалова («Коновалов») и Орлова («Супруги Орловы»), если он дал яркий образ босяка, особенно склонного к рефлексу, особенно часто ощущающего в себе приливы «лютой бродяжьей тоски», – были основания ожидать, что, выводя в качестве одного из главных героев повести Павла Грачева, он (г. Горький) поставит себе целью возможно полнее раскрыть те стороны «босяцкой» натуры, на которые он указывал раньше, рисуя образы Сережки («Мальва») или Гвоздева («Озорник»).
Действительно, г. Горький в начале повести представил Грачева, как натуру, более склонную к активному «творчесту жизни», более способную отдаваться непосредственно жизненным впечатлениям и непосредственно отвечать на них, натуру, более способную «вмешиваться в самую гущу жизни», чем Илья Лунев. Грачев наделен задорным характером. В Грачеве есть задатки острого, критического ума. Казалось он был призван осуществить идеал босяцкой житейской мудрости, гласящей: «надо всегда что-нибудь делать, чтобы вокруг тебя люди вертелись и чувствовали, что ты живешь… Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала… Болтайся в ней туда и сюда, пока сил хватит»…
«Зубастый Пашка» – под таким прозвищем известен был он, этот истинный сын городского пролетариата, во времена своего раннего детства. Тогда среди своих сверстников он пользовался репутацией «первого озорника и драчуна»…
Рано лишившись матери и отца, он рано выступил на поприще самостоятельной борьбы за существование, рано попал в мастерскую, рано начал сознательную жизнь, полную своеобразных приключений.
Его судьба во многом напоминала судьбу «классических» босяков, босяков, которые еще несколько столетий тому назад служили предметом художественного изображения, – напоминали судьбу героев так называемого «плутовского романа» (novela picaresca)[3]: зубастый Пашка вел «кочующий» образ жизни, переходил постоянно от одного хозяина к другому – от сапожника к типографу, от типографа к живописцу, от живописца к водопроводчику и т. д. И нигде он не уживался: то хозяева прогоняли его за «озорство», то уходил он от хозяев сам, соскучившись и утомившись работой. Во время одного «побега» из мастерской ему пришлось даже познакомиться с «острогом»…
Неудачи, преследовавшие его, и обиды, наносимые ему жизнью, не приводили его в отчаяние; не отнимали у него энергии: напротив, он относился к своим злоключениям, как стоик; он даже склонен был смотреть на них несколько с сатирической точки зрения.
Однажды Илья Лунев, скитаясь по улицам с своим товаром, встретил «зубастого» приятеля. Грачев производил впечатление человека, бросающего судьбе дерзкий вызов. От всей фигуры его веяло чем-то необыкновенно задорным, какой-то безграничной удалью.
Сын кузнеца шел по тротуару беспечной походкой гуляющего человека, руки его были засунуты в карманы дырявых штанов, на плечах болталась не по росту длинная и широкая синяя блуза, тоже рваная и грязная и большие опорки при каждом его шаге звучно щелкали каблуками по камню панели. Картуз со сломанным козырьком был молодецки сдвинут на левое ухо, половину бритой головы свободно пекло солнце, и рожу и шею Пашки покрывал густой налет какой-то маслянистой грязи.
Весело приветствовал он Илью, с неподдельным юмором начал рассказывать о своей жизни. «Живем, как можем, есть пища, – гложем, нет, – попищим, да так и ляжем… хи, хи!» О своих «скитаниях» по мастерским он отозвался с усмешкой, не без оттенка гордости.
И тогда, в момент описанной встречи, Грачев, несомненно, являлся более совершенным босяком, чем его товарищ детства. Он отказался тогда преклониться перед идеалом, которым увлекался Илья: он низко оценил стремление последнего к «чистой, спокойной, независимой» жизни. Он хотел чего-то большего, шел дальше Ильи.
Одним словом, фигура Грачева обещала сделаться особенно интересной. По-видимому, г. Горькому представлялся случай изобразить пример настоящего босяцкого героизма, нарисовать портрет нераздвоенного, идеального человека, который бы из борьбы с враждебными обстоятельствами вышел полным победителем, сумел стать «выше судьбы», – человека, который воспитал бы в себе «сверхчеловеческую» волю и сверхчеловеческое величие духа.
Но г. Горький не воспользовался представившимся случаем. Он не показал развития в душе Грачева «героических» порывов. Наоборот, он показал, что подобные порывы, не более, как мираж. Он неожиданно отнял у «зубастого Пашки» и его задор, и его стоицизм, и его сатирический ум, и активную энергию…
Грачев обратился, сначала, в человека, не выдержавшего борьбы с враждебными обстоятельствами, подавленного несправедливостями жизни. Он заговорил и о душевной его судьбе, и о заботах, гнетущих его, и об усталом сердце. Мало того, он оказался в меньшей степени способным оказывать сопротивление натиску жизни, чем Илья, оказался неизмеримо «слабее» последнего. Его роман с Верой Каштановой ясно обнаруживает его душевную несостоятельность.
В то время, как Илья в своих отношениях к Олимпиаде старается всячески проявить свою духовную «силу», Грачев, увлеченный Верой, ведет себя, как безвольный, потерявший голову, пассивно страдающий человек. Если связь Олимпиады с другими мужчинами вызывает в душе Ильи чувство оскорбления, то «измены» со стороны Веры погружают Грачева в безграничное отчаяние: в порыве отчаяния он то бьет Веру, то плачет; он грозит, что бросится в омут головой, если Вера уйдет от него.
Когда Грачев по вине Веры вынужден лечь в больницу, он, озлобленный, отталкивает свою возлюбленную от себя. «Видеть, я ее, подлячку, не могу», – заявляет он Илье. – Но Илья возмущен подобным отношением товарища к Вере. Он упрекает Грачева в малодушном эгоизме. «Ты мед пил – хвалил: силен! напился – ругаешь: хамелен!» Он доказывает ему, что Вера не менее его страдает, что наконец, она невиновна. И Грачев должен признать себя побежденным – сдаться на доводы противника…
После того, как Вера неудачно пыталась ограбить купца и была арестована, Грачев совершенно потерял присутствие духа: он «сидел как ушибленный. Руки у него двигались вяло, лицо было унылое, говорил он медленно и глухо»… Он жаловался на то, что его совесть мучит: «Сижу и думаю: а ну, как это я ее в тюрьму вогнал».
Подобная «растерянность» с точки зрения настоящего «босяка» непозволительна. Настоящий «босяк», правда, может проникнуться сознанием «греховности» совершенного им поступка, но это сознание «греховности» не должно заставлять босяка «мучиться», заставлять его переживать моральную пытку. Босяк может быть уверен, что в будущем его постигнет возмездие за свой поступок, но он должен спокойно ожидать возмездия и ожидание возмездия не должно поселять в его душе внутреннего разлада. Так именно смотрит на свое «преступление» Илья. Он думал о том, что «совершил тяжкий грех», что и впереди его ожидает возмездие. Но эта мысль «не тревожила его: она остановилась в нем неподвижно и стала как бы частью его души». Он был исполнен «спокойной и твердой готовности» получить возмездие «во всякий день и час»…[4] Постепенно он даже приходит к убеждению, что совершенное им дело составляет лишь несчастие его жизни. «Что купец? Он несчастие мое, а не грех»…
Грачев опять должен уступать, таким образом, пальму первенства Илье.
Несогласно с истинно «босяцким» мировоззрением Грачев поступает по отношению к интеллигенции. Взгляд г. Горького на интеллигенцию достаточно известен: стоит только вспомнить, напр., ту характеристику, которую г. Горький дал интеллигенции в фантастическом рассказе «Еще о черте», стоит вспомнить, как г. Горький изображает не только интеллигентов – буржуев, но и интеллигентов – прогрессистов (напр., в лице Ежова: «Фома Гордеев»). И в данном случае, появляющаяся в конце повести развитая, одушевленная самыми гуманными стремлениями гимназистка София Никоновна не производит «впечатления безусловно положительного человека – в ней слишком много самодовольства; когда она старается выяснить свои убеждения, она имеет вид школьника, произносящего заученные фразы, твердящего правила, вычитанные из прописей.
Грачев, напротив, находит в ней нечто в высшей степени положительное. Он начинает перед Ильей хвалить Соню и ее знакомых, начинает смотреть на себя, как на существо низшее, по сравнению с ними: «Я тебе говорю – что я против них». Он категорически заявляет, что только около них «можно жить… около них можно для себя все найти…»
Такое отношение к «слабым, безвольным» людям, коренным образом противоречит представлению босяка о собственном достоинстве: «босяк» думает, что все, требуемое для него, он может находить в себе самом и нигде больше, что жить он может только, ни от кого не завися, ни от кого ничем не пользуясь…
Познакомившись с Софьей Никоновной и ее товарищами, Грачев «успокоился». Если раньше думы, подобно «черным воронам» клевали его «усталое сердце», если у него не было никаких надежд на более светлое будущее, то теперь его сердце «загорелось надеждами», и дума стала «петь ему песни отрадные?.. Грачев увидел перед собой очертания «желанного берега».
Но «успокоение», которого достиг Грачев, вовсе не означало его победы над враждебной судьбой. С истинно-босяцкой точки зрения, оно говорило о духовном банкротстве «зубастого Пашки».
Обратите внимание на сцену, когда Илья в последний раз встречается с Грачевым, на сцену в суде.
Грачев присутствует на суде в качестве простого зрителя. Он чувствует себя очень неловко. «Он сидел, согнувшись, низко опустив голову, и мял в руках шапку»[5]. Когда же Вера проявила необычайную твердость духа, отказалась от помощи со стороны адвоката, признала себя во всем виновной, открыла, что ей руководило одно желание – желание разбогатеть, что никакие внешние обстоятельства, влияние среды, на которых адвокат хотел построить свою защиту, тут не причем – Грачев был совершенно уничтожен. Он «бледный и расстроенный стоял у стены, челюсть у него тряслась».
В этой сцене Грачев опять принужден стушеваться перед фигурой Ильи, опять оказаться «слабее» последнего в духовном отношении.
Илья возмущается тем, что его приятель не имел в себе силы вступиться за Веру, не принял на себя ответственности за поступок Веры: по мнению Ильи, Грачев должен был бы открыть правду, заявить судьям, что Вера совершила воровство ради него, желая помочь ему в чересчур трудной борьбе за существование. И читатель чувствует, что действительно Илья поступил бы так, сделал бы подобное признание, если бы очутился в положении Грачева.
Грачев, наоборот, не только не способен исполнять то, чего Илья хочет потребовать от него; он теряет последние остатки мужества, когда Илья начинает обвинять его в том, что он «погубил человека». Он лишь «вздрогнул, будто его кнутом ударили, поднял руку, положил ее на плечо Лунева и жалким образом сказал: Разве я?..»
Вслед за этим г. Горький расстается с своим героем: жалким, растерянным, униженным. Грачев исчезает с горизонта читателя.
«Босяк» безвозвратно умер в Грачеве… И его, лишенного способности отдаваться босяцки героическим порывам и настроениям, оказавшегося бессильным осуществить идеал цельной автономной личности, г. Горький заставляет начинать новую жизнь – жизнь интеллигентного мастерового.
Это очень характерно для г. Горького.
Вообще, он заставляет истинных героев своих произведений всегда торжествовать перед людьми, посвящающими себя какому-нибудь методическому труду и не старающимися уйти от этого труда. Он изображает представителей этого труда необыкновенно «слабыми». Носитель «босяцкой» удали оказывается сильнее целой толпы рабочих, занятых в пекарне («Двадцать шесть и одна»), Он отнимает у этих людей, которых г. Горький рисует «тупыми, равнодушными», дошедшими до крайнего предела душевной слабости, полумертвыми – отнимает у них их единственную радость. – радость ежедневно видеть горничную Таню, разговаривать с ней, оживать душой в ее присутствии.
Фигура сапожника Перфишки ярко иллюстрирует «босяцкую» точку зрения на ремесленников. Перфишка» до последней степени «загнанный человек. Методический труд убил в душе Перфишки все «живые» стремления, все желания.
При виде его Илья недоумевает, как «можно всю жизнь жить в грязи, ходить в отрепьях, пить водку и, умея играть на гармонии, не желать уже ничего иного, лучшего».
Перфишка, в глазах босяка, – «никчемный» человек…
Павел Грачев, конечно, неизмеримо далеко ушел и от Перфишки, и от обитателей пекарни: он человек уже «нового» закала, человек, старающийся всеми силами подняться над «грязью» жизни, человек, одушевленный сознательным стремлением к «свету». «Никчемным» человеком назвать его уже нельзя.
И тем не менее, г. Горький все-таки «развенчал» его. Он только допустил при этом некоторые оговорки. Он все-таки заставил его сделать несколько шагов по направлению к лагерю «никчемных». Он поступил, как тенденциозный художник. Он сам слишком увлекся «босяцкой» точкой зрения своих героев.
Почему так произошло? Почему он подошел к представителю «производительного» труда с ненадлежащей оценкой?
Чтобы ответить на данный вопрос, разберем взгляды «босяка» на значение «трудового начала» в процессе роста жизни.
«Курьер», 1901 г., №№ 352, 355
Примечания
1
Мы уже имели случай на страницах «Курьера» отметить значение этого чувства в психической жизни героев г. Горького (см. «Курьер», № 222, 236), тогда же мы характеризовали героев г. Горького, прежде всего, как «обиженных людей».
(обратно)2
Самая мечта его о «чистой порядочной жизни в стороне от людей», – мечта, которую он так долго лелеял и которую он думал осуществить, основывая магазин, – отчасти было ответом именно на его стремление проявлять перед людьми свою силу.
(обратно)3
Родиной «плутовского романа» была Испания; этот род литературных произведений был именно посвящен самой разносторонней обрисовке босяцкой среды. Весьма многие психологические элементы, характеризующие героев г. Горького, еще в ХVI столетии были отмечены испанскими новеллистами. Детальное сравнение героев г. Горького и героев «плутовского романа» может и служить темой для очень интересного исследования.
(обратно)4
Точно также относится к своему «греху» снохач Силан Петрович («На плотах»): он сознает, что впоследствии он расплатится за свою «преступную» любовь, но это не мешает ему спокойно наслаждаться мгновениями счастья.
(обратно)5
Заметим кстати, что в сцене суда Софья Никоновна представлена в особенно невыгодном свете. Она имеет чересчур самодовольный вид: она смотрит так, точно сама судит всех – «и Веру, и судей, и публику», губы ее «брезгливо поджаты», гордые глаза блестят «из-под нахмуренных бровей холодно и строго».
(обратно)
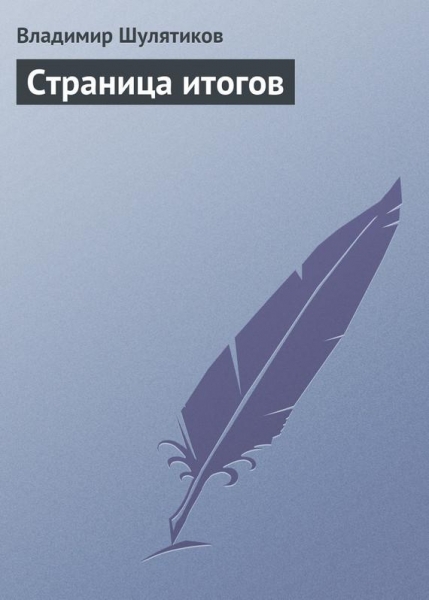

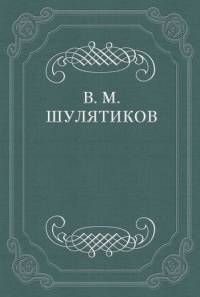
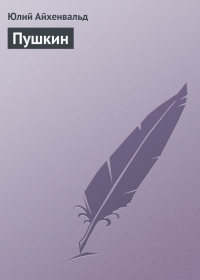

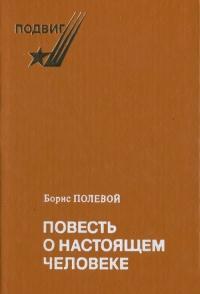
Комментарии к книге «Страница итогов», Владимир Михайлович Шулятиков
Всего 0 комментариев