Владимир Шулятиков Неаристократическая аристократия[1]
I
Новейшая русская литература, на первый взгляд, дает в руки оппонентов марксизма неотразимое оружие: она доказывает, по-видимому, самым блестящим образом, доказывает, как дважды два – четыре, полнейшую невозможность связывать «идеологические» течения с «материальной подпочвой».
Социальная действительность говорит о ликвидации «феодального» хозяйства и о завоевательных успехах капиталистической буржуазии. Литература, напротив, стоит под знаком возврата к прошлому, реставрации «аристократического» искусства. Непримиримой противницей «феодализма» заявляет себя буржуазия и в борьбе с переживаниями последнего видит исключительно свою «освободительную» миссию. В то же время устами своих идеологов, в роде гг. Струве[2] и Бердяевы[3], она слагает славословия «аристократической» цивилизации и аристократии, как носительнице «культурных идеалов», предавая анафеме «убожество» буржуазно-демократической психики и буржуазно-демократического творчества в области идеологии.
Получается радикальное противоречие, которое, по-видимому, можно объяснить себе только в том случае, если идеологию признать совершенно независимой от «подпочвы». Раз, на самом деле, подобная точка зрения верна, раз идеологическое творчество представляет собою самодовлеющую ценность, то становится вполне понятным, каким образом, нисколько не изменяя самому себе, своим враждебным чувствам к «феодализму», буржуазное общество может делать «культурные» заимствования у своего противника… Итак, идеологии возвращается ореол, который окружал ее до того момента, как экономический материализм предпринял свою разрушительную критическую работу. Господа, сторонники традиционной оценки искусства, не правда ли: на вашей улице праздник? Да еще какой! Вага неприятель отнимал у вас одну позицию за другой, вам приходилось последовательно расписываться в собственном банкротстве… и вдруг все труды неприятеля обращаются в ничто.
Но мы все-таки подадим вам благой совет: не спешите торжествовать.
Вопрос не так прост, как с первого взгляда может показаться. Отрешив буржуазии от собственной культуры и усвоение ею культуры, созданной другим классом, нельзя понимать в буквальном смысле: заявляя о своих аристократических «симпатиях», в частности, воскрешая художественное credo романтизма, буржуазия тем самым не выдает себе форменнго и безусловного testimonium paupertatis[4], не совершает акта заимствования чего-то совершенно чужого, не являющегося органическим продуктом ее собственной деятельности. Всякого рода заимствования могут иметь место только там, где они вытекают из реальных интересов заимствующего класса. Когда речь идет о различных реставрациях и воскрешениях, центр тяжести вопроса заключается не в том, что известная общественная группа берет нечто у другой группы, фигурировавшей некогда на исторической сцене, а в том, что среди первой группы развелись известные тенденции, делающие возможным утилизацию старых идеологических форм. Другими словами, эти старые формы важны не сами по себе, а как отражение «нового», отражение «материальных» наслоений текущей жизни.
Итак, чтобы вскрыть материальную основу возрождения «аристократической» литературы, мы должны говорить о «новом», которым характеризуется современное положение буржуазного общества. И это «новое» есть не что иное как преобразования, произведенные в недрах означенного общества появлением фабрики нового типа.
Согласно обычному представлению, фабричное производство основывается на применении труда широких масс неквалифицированных рабочих. Действительно, в таком духе заявила о себе фабрика на первых порах своего существования. Смена мануфактуры фабрикой сопровождалась именно обесценением квалификации и созданием армии необученного пролетариата. Доступ в капиталистические мастерские получили не только женщины, но и дети, старики, калеки и даже психически больные. Но теперь наблюдается явление противоположного порядка. Новейшая техника, в своем поступательном развитии, сделала для собственников усовершенствованных машин эксплуатацию неквалифицированного или малоквалифицированного труда невозможным. Малоквалифицированный труд, труд стариков, женщин и детей в ее рамках (в рамках новой, «вполне автоматической» фабрики) применения не находит. Женский и детский труд, правда, был первым словом капиталистической утилизации машин, но не ее последним словом. Чтобы пускать в ход или останавливать систему машин или аппаратов, необходимо общее знакомство с механикой, то есть требуется высокообученный труд. Далее, начиная и оканчивая каждый производственный процесс, приходится считаться с технологическими свойствами вырабатываемого продукта, и, следовательно, нужны специальные технологические познания и опытность»[5].
Отсюда дифирамбы буржуазных публицистов и экономистов в честь квалификации. Высокая выучка рабочих объявляется фундаментом благоденствия промышленности. Более того, в ней усматривают условия торжества человечества над природой и даже залог «социального мира». Представим себе, – рассуждает один из типичнейших идеологов новой буржуазии[6], – что все мировое производство осуществлялось бы посредством простого вращения различных машин или немногих механических движений руки: таким путем работа человечества была бы чрезвычайно упрощена, но вместе с тем становилось бы невозможным «господство над материей». Ибо о господстве над материей нельзя говорить там, «где о ней ничего не знают», оно может быть лишь при «сознательной утилизации» ее. Люди в подобном идеальном состоянии оказались бы не господами, а рабами производства. Тайны функционирования машин были бы от них скрыты, и при малейшей неточности мирового машинного механизма они очутились бы в беспомощном положении. «Этот утопический пример должен нам показать, как необходим обученный труд, если желательно оставаться господами производства. Труд должен быть возможно более обученным, то есть квалифицированным». Поэтому громадное значение имеет вопрос: растут или уменьшаются кадры квалифицированных рабочих? И великую опасность представляет наличность «необученной» резервной армии в отдельных производствах. Но можно утешить себя: технический прогресс действует в желательном направлении: он порука тому, что будущее принадлежит «квалификации».
Далее, обладание квалификацией отнимает, – по мнению адвоката новейшей фабрики, – почву у «материалистического отношения» к работе. Работа, в глазах людей, не знакомых с техническими секретами производства, является чем-то чрезвычайно неинтересным и, следовательно, неприятным, даже тяжелым. Квалифицированный рабочий напротив, чувствует себя в фабричном зале очень хорошо: изучивши механизм и ход машин, он не считает последних своими врагами и поработителями, так как «управляет» ими. Ему доступна «радость выполнения»[7]. А радость выполнения делает его миролюбиво настроенным по отношению к предпринимателю и устраняет возможность острых классовых конфликтов.
В силу вышесказанного рабочему вменяется в обязанность чтить интересы техники выше всего и во всех своих действиях исходить из соображений, подсказанных этими интересами. Кто же поступает вопреки «верховному принципу промышленности», кто подымает свой голос в защиту каких-нибудь требований «материалистического» характера, предъявляемых, например, «малоуспевающими» рабочими, тот получает наименование беспочвенного и зловредного политикана.
«Малоуспевающие», неудовлетворяющие требованиям высокой квалификации, подлежат удалению из стен новой фабрики. В рамках каждого отдельного предприятия, обставленного согласно последнему слову техники, и каждой отдельной профессии, численность рабочего персонала сокращается. Десятки и сотни заменяются единицами. Масса исчезает. И над поредевшими рядами представителей физического труда начинает очень заметно расти пирамида «промежуточных организаторских звеньев» – средних и высших техников, должностных лиц»[8].
Вот то, что следует рассматривать в конечном итоге как «определяющее основание», как «Bestimmungsgrund» переворота, совершающегося ныне на идеологических «высотах». Новая фабрика ведет длительный упорный поединок со старыми капиталистическими организациями. Этот поединок для буржуазного мира, взятого в целом, имеет значение далеко не частного, чреватого последствиями, лишь для ограниченной группы лиц эпизода. Он раскалывает всю буржуазию на два лагеря – на защитников старого и нового капиталистического строя. Pro и contra новых экономических веяний высказываются не только непосредственные вожди промышленности, но и различнейшие представители интеллигентных профессий: ученые всех цехов, начиная с политико-экономов и кончая естествоиспытателями, философы и юристы, священнослужители и поэты. Каждый из них при этом говорит на своем особом языке для выражения своих симпатий или пользуется узаконенными его профессией символами и образами.
О чем же, ближе определяя, должен вторить разноязычный хор идеологов новой буржуазии?
Победа новой фабрики над противником обусловлена ролью, которую играет квалификация. Двери капиталистических организаций открываются перед широкой массой. Таковы два основные явления, которые должна подчеркнуть идеология. И последняя разрешает свою задачу, выступая с проповедью индивидуализма и отрицательного отношения к толпе.
Культивируется идеал личности, обладающий высокими духовными дарованиями, способной к безусловному самоопределению, презирающей «толпу», стремящейся «вдали от толпы» воздвигнуть прочное здание собственного благополучия. «Аристократ духа» противопоставляется серенькой пошлой «мещанской» массе, каста немногих – демосу. Получается столь решительный апофеоз «квалификации» (но не квалифицированных рабочих, заметим в скобках), с каким мы хорошо знакомы по приснопамятным дням романтизма. В чисто буржуазной атмосфере зарождаются «аристократические» мотивы.
Дело доходит даже до преклонения перед форменной аристократией. Возникают такие теории, как ницшеанство. «Каждое возвышение типа «человек» было до сих пор делом аристократического общества, и так будет всегда», – гласит категорическая формула автора «По ту сторону добра и зла». Европейское общество разлагается, согласно воззрению Ницше, потому что в нем пали социальные, сословные перегородки и происходит смешение всех и всего. Необходим «пафос расстояния», коренное различие общественных групп, длинная лестница рангов и рабство в том или ином смысле. Необходимо, чтобы была «господствующая каста», которая смотрела бы на других как на подданных и на орудия. Необходимо «постоянное упражнение в приказывании и послушании». Только при этих условиях становится возможным стремление души к непрерывному самосовершенствованию, «образование все более и более высоких, редких, утонченных, содержательных состояний, короче, возвышение типа «человек», дальнейшее «самоопределение человека». Великим несчастьем для Европы явилась французская революция XVIII века, погубившая аристократию, послужившая источником демократического движения, которое равносильно вырождению человечества. И взоры Ницше постоянно с любовью обращаются назад: прошлое дало целый ряд ярких примеров господства аристократических групп. В качестве таковых Ницше отмечает историю древне-греческих городов, ренессанс и ту изобретенную его воображением эпоху, когда «люди с еще естественной природой («mit einer noch naturlichen Natur»), варвары в любом страшном смысле этого слова» напали на более слабые и миролюбивые расы и сделались неограниченными владыками их.
Судя по подобным заявлениям, можно было бы, пожалуй, причислить Ницше к лагерю идеологов самой аристократии. Но сделать это им не позволяет одно важное обстоятельство. Автор «По ту сторону добра и зла», восхваляя преимущество аристократии, приводит основание, определившее, характер его социальных .симпатий: он ценит аристократию не самое по себе, не просто как определенную общественную группу, к которой он питает какое-то органическое пристрастие; нет, пристрастие его к ней, так сказать, «вторичного» происхождения. «Благородная каста в начале всего была кастой варваров: ее преобладание коренилось прежде всего не в физической, а в духовной силе, – это были более цельные люди». Они обладали еще крепкой волей, не знающей никаких колебаний. Другими словами, аристократия пользуется расположением немецкого философа постольку, поскольку последний видит в ней носительницу известных психических качеств, поскольку ее представители воплощают, по его мнению, идеал сильных, способных к внутреннему самоопределению и развитию личностей. Налицо мотивы, возвращающие нас к рассуждениям о «квалификации». Или возьмем пример из области художественной литературы. А. Чехов – писатель, заподозрить которого в «органическом» пристрастии к аристократии никак нельзя. Между тем, в «Вишневом саде» по части аристократических «симпатий» дело обстоит не совсем благополучно. Правда, дается картина ликвидации помещичьего хозяйства, правда, автор показывает полнейшую неприспособленность «феодалов» к новой жизни, их «материальное» и духовное банкротство. Но при всем этом безусловно отрицательного, враждебного отношения к бывшим господам исторической сцены автор не обнаружил. Напротив, его произведения в общем представляют собой элегию по отживающей старине[9]. «Аристократическая» жизнь некогда начиналась иначе. Стало быть, есть, что пожалеть. Пусть «аристократы» сегодняшнего дня, аристократы эпохи заката своей цивилизации не выдерживают ни малейшей критики, пусть поэтому почва для симпатий к «аристократии» исчезает, – но она исчезает не без некоторого небольшого остатка. Дело ограничивается легким намеком, прочувственной слезой.
II
Общеизвестно пристрастие, которое романтическая литература прошлого питала ко всему туманному, темному, разрушающемуся, к могилам и смерти. Новейшая литература страдает этим пристрастием отнюдь не в меньшей степени. И вот готово возражение против защищаемого нами взгляда.
Вы утверждаете, могут сказать нам, что новейшая литература – продукт капиталистической буржуазной среды, то есть среды, развивающейся, имеющей перед собой известное будущее. Между тем, мрачные, «могильные», пессимистические настроения являются всегда, как удостоверяют социологические исследования, достоянием общественных групп, обреченных на дегенерацию и гибель. Следовательно, ваш тезис в корне ошибочен: «могильное» художество надо вернуть по принадлежности. «Благородная каста» отживает свой век, и естественно видеть в «туманном» и «могильном» воображении художников отзвук неблагоприятствующего ей фатума. На это мы ответим нижеследующим образом.
Без сомнения, всякий класс, потерпевший «на жизненном пиру» неудачу, должен пользоваться черными тонами для своих идеологических построений, но отсюда еще не вытекает, чтобы «мрачная» идеология была монополией только такого рода классов. «О тьме», «туманах», могилах я смерти могут говорить представители класса, вовсе не думающего в данный момент погружаться во мрак «ничтожества» или «небытия», а, напротив, занимающего или собирающегося занять «на жизненном пиру» первое место. Конечно, тот, кому улыбается счастье, во станет рядиться при обычных условиях в траур, а предпочтет праздничные одежды. Но возможны ли иного сорта случаи. «Могилы» и «смерть» могут для известной общественной группы сыграть роль символов, указывающих на путь, по которому она приближается к победе. С таким именно случаем мы и имеем сейчас дело.
Чем представляется смерть новейшим художникам слова? Актом уничтожения, и только? Нет.
Поучительный комментарий к культу смерти, исповедуемому ими, дает, например, стихотворение г. Мережковского «Двойная бездна».
…Жизнь, как смерть, необычайна… Есть в мире здешнем мир иной; Есть ужас тот же, та же тайна — И в свете дня, как в тьме ночной. И смерть и жизнь – родные бездны. Они подобны и равны, Друг другу чужды и любезны, Одна в другой отражены. Одна другую углубляет, Как зеркало, а человек Их соединяет и разделяет Своею волею навек. И зло и благо – тайна гроба И тайна жизни – два пути — Ведут к единой цели оба И все равно, куда идти.Смерть, вопреки обычному воззрению, объявляется равноценной жизни, ставится, так сказать, на одну точку с последней. Между ними далее констатируется некоторая интимная и таинственная связь. Связь эта ближе определяется так:
Будь мудр, – иного нет исхода. Кто цель последнюю расторг, Тот знает, что в цепях – свобода И что в мучении – восторг. Ты сам – свой бог, ты сам – свой ближний, О, будь же собственным Творцом, Будь бездной верхней, бездной нижней, Своим началом и концом.В мучении – восторг; в смерти – жизнь. Смерть квалифицируется как источник жизни. Именно в качестве такого она и воспевается современными поэтами. Находите в смерти жизнь! – гласит та глубочайшая мистическая мудрость, жрецами которой они себя выставляют.
Госпожа Гиппиус[10] описывает электрический снаряд согласно правилам названной мудрости:
Две нити вместе свиты, Концы обнажены. То «да» и «нет», – не слиты, Не слиты – сплетены. Их темное сплетенье II тесно и мертво, Но ждет их воскресенье, И ждут они его. Концов концы коснутся — Другие «да» и «нет». II «да» и «нет» проснутся, Сплетенные, сольются, И смерть их будет – Свет.Та же «мудрость» диктует Федору Сологубу[11] следующее объяснение происхождения жизни:
Вся она, в гореньи трупа, мной замышлена была. Это я из бездны мрачной вихри знойные воззвал, И себя цепями жизни для чего-то оковал. И среди немых раздолий, Где дарил седой хаос, Это я своею волей Жизнь к сознанию вознес.Понятно, что при столь высокой оценки смерти пребывание в гробу оказывается для «мудрецов» столь же привлекательным, как жизненные наслаждения. «Все равно – умереть или жить». Смерть – это то же «бытие» и вдобавок еще, употребляя выражение Ф. Сологуба, «несказанное». «Мудрецы» даже готовы зачастую предпочитать ее жизни.
Мечтатель, странный миру, Всегда для всех чужой, Царящему кумиру Не служит он хвалой… Он тайной завесил Страстей своих игру, — Порой у гроба весел И мрачен на пиру… (Федор Сологуб)Все, так или иначе свидетельствующее об отсутствии жизни или о сокращении ее, служит «мудрецам» материалом для бесконечных песнопений. С пафосом восхваляются «бесплодные» пустыни и «бесплодные» моря, «вечно немые цветы», «молчание» далекого неба, тишина болот, тьма во всех видах, всевозможные руины, наконец, уродства живых организмов, страдания и болезни.
Увечье, помешательство, чахотка, Падучая и бездна всяких зол, Как части мира я терплю вас кротко, И даже в вас я таинство нашел. (К. Бальмонт)Ставится точка, над «и»: новооткрытое «таинство» санкционируется как нечто, имеющее безусловно положительную ценность: «Чума, проказа, тьма, убийство и беды… благословляю вас, да будет счастье с вами!»
Появляются специалисты по части проповеди подобного «таинства». И первый из них, бесспорно, сан общепризнанный, фаворит читающей публики – «Л. Андреев. «Да. Я нашла, я знаю теперь, что я буду делать, – восклицает Маруся в заключительной сцене драмы «К звездам». Я построю город и поселю в нем всех старых… всех убогих, калек, сумасшедших, слепых. Там будут глухонемые от рождения и идиоты, там будут изъязвленные язвами, разбитые параличей. Там будут убийцы»… Одним словом, там будет налицо все, что некогда благословил автор «Горящих зданий». «И царем города я поставлю Иуду и назову город «К звездам». Благодарнейшая тема для форменной мистерии: из города мертвых должно начаться восхождение человечества к «горным высям». Л. Андреев постоянно возвращается к этой теме. Но при разработке ее в других своих произведениях он менее рельефно подчеркивает «конечные цели» своих экскурсий в царство «тления и праха» или же вовсе умалчивает о них. Так горние выси не упоминаются во «Тьме». Герой его ограничивается лишь дифирамбической частью проповеди «таинства». «За нашу братию! – произносит он тост перед толпой проституток. – За подлецов, за мерзавцев, за трусов, за раздавленных жизнью! За тех, кто умирает от сифилиса»… Перечисляются, сообразно сюжету и обстановке рассказа, несколько иные персонажи, чем в реплике Маруси; но суть дела от этого не меняется. Речь идет все о тех же представителях «сокращенной» жизни. Трус или подлец в глазах Петра, ценящего в жизни прежде всего и исключительно борьбу, как раз являются наиболее ярким отрицанием жизненной энергии.
«Тьма» в свое время вызвала массу толков и комментариев. Переворот, совершившийся с Петром, казался столь неожиданным и парадоксальным, что даже наиболее благосклонные к Д. Андрееву критики пожимали плечами и заявляли: да, на этот раз Л. Андреев погрешил против художественной правды. Несостоятельность занятой автором позиции пытались доказать, разбирая моральные рассуждения, которыми оправдывается в рассказе «бегство от жизни». Но не в этих рассуждениях центр тяжести вопроса. «Если нашими фонариками не можем осветить всю тьму, так погасим же огни – и все полезем во тьму» – силлогизм, который может быть правильно понят только в том случае, когда мы понятию «тьма» придадим специфическое модернистское значение. Погружение его во «тьму» знаменует собой не отказ от «света», а стремление к последнему: «свет» должен непременно воссиять из «тьмы». Употребление же местоимения «весь» (всю тьму, все полезем) подчеркивает лишь безусловную необходимость постулируемого акта. Чем больше «тьма», чем многочисленнее ряды погасивших «фонарики», тем лучше, тем ближе к свету, к «звездам»! Апология «тьмы» вложена в уста революционера: в этом собственно пикантность рассказа. Но ничего неожиданного это обстоятельство не должно было представлять собой для почитателей и знатоков андреевского искусства. «Тьма» в миросозерцании Л. Андреева играет такую роль, что перед нею, действительно, меркнут все «фонарики». Она выставляется им как единственное положительное средство, помогающее бороться с настроениями жизни.
Вопрос о «тьме» занимал его еще тогда, когда он писал свою «Мысль». «Я не раскаиваюсь, – читаем мы в исповеди Керженцева, – что убил Савелова, я не ищу в каре искупления греха, и если для доказательства того, что я здоров, вам (судьям) понадобится, чтоб я кого-нибудь убил с целью грабежа – я с удовольствием убью и ограблю. Но в каторге я ищу другого – чего, я не знаю еще и сам. Меня тянет к этим людям какая-то смутная надежда, что среди них, нарушивших ваши законы, убийц, грабителей, я найду неведомые мне источники жизни и стану себе другом». Нас не должно здесь вводить в заблуждение упоминание о законах. Не протест против них диктует доктору Керженцеву его оценку каторги. Что такое убийцы для Л Андреева, мы знаем из разъяснений, сделанных Марусей. Убийство, как и сумасшествие или паралич, для него, прежде всего, одна из возможностей «сокращения» жизни. Каторга тянет его к себе именно в качестве среды, где царствует «тьма». И «тьма» прямо называется здесь источником жизни. В восемнадцатом отрывке «Красного смеха» приведено письмо одного офицера. «Только теперь я понял великую радость войны, это древнее первичное настроение убивать людей… Вечно отнимать жизнь – это так же хорошо, как играть в лаун-теннис планетами и звездами. Бедный друг, как жаль, что ты не с нами и принужден скучать в пресноте повседневщины. В атмосфере смерти ты нашел бы то, к чему вечно стремился своим беспокойным благородным сердцем. Кровавый пир – в этом несколько избитом сравнении кроется сама правда». Обращаем внимание на подчеркнутую фразу: смерть квалифицируется как нечто, долженствующее служить целью стремлений человека, не примирившегося с современным укладом общественной жизни, целью стремлений «борца против мещанства». Другими словами, отмечается, что проблема смерти или «тьмы» имеет для автора «универсальное» значение, значение вопроса, выдвигаемого общим процессом развития жизни, а не возникающего в отдельных исключительных случаях – в мозгу людей особой психической конструкции – и не представляющего чисто психологического интереса. Вместе с тем, приведенная цитата из «Красного смеха» освещает еще одну сторону модернистского учения о «сокращении» жизни. Репликами Маруси и Петра устанавливается желательность и необходимость «погружения во тьму». Затем, на примере Петра, показывается, как можно реально осуществить процесс этого погружения. Но образ действия, точнее, бездействия Петра отнюдь не единственная возможность достигнуть желаемого.
В «Красном смехе» рекомендуется более активная тактика. Приближаться «к источнику жизни» можно, создавая «атмосферу смерти» путем личной инициативы, всюду сея вокруг себя «тьму». Андреевские герои договариваются до идеи чуть ли не поголовного истребления человечества.
«Мне хочется, – признается лицо, от имени которого ведется рассказ, – сжечь их (имеются в виду все люди) дома, с их сокровищами, с их женами и детьми, отравить воду, которую они пьют; поднять всех мертвых из гробов и бросить трупы в их нечистые жилища, на их постели… О, если бы я был дьявол! Весь ужас, которым дышит ад, я переселил бы на их землю»… Л. Андреев спешит сделать оговорку: он заставляет своего героя, высказывающего подобные мысли, воскликнуть: «Да, я должен сойти с ума!» В наиболее прямолинейной, в наиболее энергичной форме апологию всеобщего истребления развивает сумасшедший доктор. Он грозит собрать толпу солдат, не вынесших ужасов войны и потерявших рассудок: «Я выйду в поле, я кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих рыцарей без страха и объявлю войну всему миру. Веселой толпой, с музыкой и песнями мы войдем в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно, там все будет кружиться и плясать, как огонь… Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать и грабить и жечь. Веселая, беспечная ватага храбрецов, мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха – мы попляшем на развалинах. Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими – всех тех, кто еще не сошел с ума; и когда, великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром… какой веселый смех огласит вселенную!..» Будет достигнуто идеальное «сокращение» жизни… в мечтах психически-ненормального человека, скажете вы? Нет! В мечтах последовательного теоретика «модернизма».
Как известно, выводить в качестве действующих лиц сумасшедших и влагать им в уста изложения таких взглядов, которые читающей публике могут показаться особенно парадоксальными или компрометирующими, – один из излюбленных приемов беллетристов. А в данном случае ссылка на сумасшествие играет роль даже не столько маски или ширм, за которые прячется автор, сколько способа подчеркнуть «сократительные» симпатии. Сумасшествие, повторяем, – это для модерниста та же «тьма». Если откинуть в монологе доктора некоторые риторические украшения, некоторую чрезмерность пафоса, то окажется, что монолог этот воспроизводит в точности credo отнюдь не страдающих психическими аномалиями андреевских героев. Конец монолога содержит в себе мысль, которую высказывает Маруся: «отечество» доктора – это не что иное, как город, управляемый Иудой. А с аналогичной проповедью «истребления» мы встречаемся в «Савве». «В огне и громе перейти хочу я мировую грань», – заявляет герой названной драмы. На первый взгляд, Савва – тип анархиста. Автор даже нарядил своих героев в костюм рабочего. Но костюм взят напрокат, «анархизм» же Андреева, при ближайшем рассмотрении, сводится к простой проповеди активного «погружения во тьму». Савва объявляет войну не определенному классу или классам, а всем людям современного общества – «всему миру». Он хочет «уничтожить все», не только, например, тюрьмы и дома терпимости, но университеты и фабрики, даже самые города и, в случае надобности, все человечество. «Пусть на земле совсем не будет человека. Раз жизнь ему не удалась, пусть уйдет и даст место другим – и это будет благородно». И в минуту, когда, казалось, первый шаг на пути перехода «мировой грани» был сделан, когда автор должен заставить своего ликующего героя высказаться вполне, раскрыть все главные движущие пружины его психического мира, Савва произносит настоящий гимн «великой радости» разрушения: «Ага! Зазвонили! Звоните, звоните! Скоро зазвонит вся земля. Я слышу! Я слышу! Я вижу, как горят ваши города. Я вижу пламя! Я слышу треск! Я вижу, как валятся на голову дома! Бежать некуда! Спасенья нет! Спасенья нет! Огонь везде!» Савва – не сумасшедший, а речь его является повторением мотива, легшего в основание первой части монолога доктора, даже тон отзывает пафосом названного монолога. «Земля выбрасывает вас. Нет вам места на земле! Нет! Он идет! Я вижу его! Он идет, свободный человек! Он родится в пламени! Он сам – пламя и разрушение». Именно как «пламя и разрушение» и привлекателен для Саввы образ «свободного человека». Модернистская свобода прежде всего – синоним решительного отрицания жизни. Доктор Керженцев, – этот, согласно характеристики, данной ему автором, несомненный тип «свободного человека», – предлагает превосходный комментарий к пониманию «освободительных» тенденций, о которых постоянно повествуют произведения «нового искусства». Если судьи вынесут ему оправдательный приговор, предупреждает он их в последних строках своей исповеди, то он наделает крупных неприятностей не только им, но и всему человечеству, не только всему человечеству, по и всей земле. Он всю остальную свою жизнь посвятит науке и откроет «одну вещь, в которой давно назрела необходимость». Эта вещь – взрывчатое вещество необыкновенной силы: такое сильное, которого не видали еще люди: сильнее динамита, сильнее нитроглицерина, сильнее самой мысли о нем. «Я талантлив, я настойчив, и я найду его. И когда найду его, я взорву на воздух вашу проклятую землю»… Постулируется «требование действительно радикального «освобождения» от жизни.
Но проповедники «смерти» и «тьмы» не так страшны, как они стараются себя аттестовать. Их ультра-разрушительные планы – цветы риторического красноречия. Человечество и земля уничтожаются ими только на бумаге. Необходимо иметь в виду, что жизнь отрицается ими не безусловно, что смерть в их глазах является чем-то положительным и желательным лишь постольку, поскольку она рассматривается как переходная ступень к новым формам бытия, как «источник» последнего. Поэтому их мечтания об обращении земли в «дом сумасшедших» или о разрушении ее нельзя принимать за чистую монету. Но нечто вполне реальное за этим мечтаниями все-таки скрывается. Гиперболическими образами и формулами утверждается настоятельная необходимость «сокращения» жизни. А само это «сокращение оказывается необходимостью, да еще настоятельною, потому что представители «новой литературы», его проповедующие, – типичные идеологи «новой» буржуазии (ее различных групп и подгрупп).
«Сокращение» жизни, о котором они говорят, – это сокращение численности народонаселения. Их проповедь есть не что иное как внесение в область художественной литературы мальтузианских мотивов. Недаром некоторые из них выступают даже в качестве форменных мальтузианцев (М. Арцыбашев[12] со своим «Саниным», например, где рекомендуется вытравление плода.) В социологических науках мальтузианские течения ныне, как известно, весьма и весьма сильны. И модернистская «тьма» вместе с означенными течениями восходит по одному общему «материальному» источнику.
Читатели, может быть, уже догадались, что это за источник. Это – «сократительная» тенденция новейшей индустрии, выражающаяся в изгнании «массы» из отдельных предприятий, отдельных мастерских, отдельных профессий. В борьбе между собственниками промышленных организации «старого» и «нового» типа «масса» учитывается авангардом капиталистической буржуазии – как тормоз, как препятствие, лежащее на пути развития. Широкие кадры «необученного» или малообученного пролетариата – фундамент, на котором старая фабрика основывает свое благополучие. И пока, рассуждают теоретики новой фабрики, таковые кадры имеются в наличности, до тех пор и только до тех пор новым предприятиям может угрожать опасность поражения. Исчезнут эти кадры – «старая» буржуазия лишится своего единственного средства к существованию; если теперь она может конкурировать, и порой весьма успешно, с капиталистическим авангардом, этим она всецело обязана возможности бесконечно усиливать эксплуатацию труда (квалифицированный труд подобной эксплуатации не допускает), постоянно располагая резервом свежих рабочих сил, постоянно обновляя свой «исполнительский» персонал, тогда как, резервы новой фабрики крайне ограничены, и последняя очень озабочена созданием для себя соответствующей пролетарской армии. Создавать такую армию она может единственно путем профессионального воспитания рабочих. Между тем, естественное движение народонаселения, простой прирост его дают старой фабрике ее пролетарскую массу. Отсюда – мальтузианские воззрения капиталистического авангарда. Необходимо, доказывают его идеологи, чтобы рост народонаселения насколько возможно задерживался: в «чрезмерном» увеличении последнего – корень всех социальных бедствий; напротив, сравнительное бесплодие «массы» – залог общественного благоденствия. В переводе на более абстрактный идеологический язык мы и получаем пресловутую формулу: отрицание жизни ведет к ее утверждению, к смерти – жизнь, смерть – «несказанное бытие».
Следует заметить, что эта формула не монополизирована явными, или официальными защитниками новой фабрики. Ее выдвигают также те, кто, не принадлежа собственно к верхам капиталистического авангарда, тем не менее оказывается в привилегированном положении на «жизненном пиру» благодаря победам новейшей машинной техники. Означенная техника реорганизует производительную деятельность даже в стенах таких предприятий и учреждений, где машины отсутствуют. Всюду создается спрос на высокую квалификацию, и обладание ею становится conditio sine qua non[13] успеха в борьбе за жизнь. Вместе с тем, собственники ее всюду оказываются противопоставленными лицам, лишенным ее, – «толпе». И последние, в глазах названных собственников, играют ту же роль, что неквалифицированный труд в глазах владельцев и адвокатов новой фабрики, – роль тормоза и препятствия на пути «прогресса». Отсюда мальтузианские симпатии так называемой профессиональной интеллигенции[14].
Приведенный нами ряд литературных примеров иллюстрирует, насколько велик страх перед «массой» и «толпой», овладевший различными отрядами новой буржуазии, и насколько сильна в них вера во всеспасающее «сокращение» массы и толпы. Таков именно социально-экономический генезиз всевозможных лирических восхвалений смерти и тьмы, генезиз видений города «к звездам», или земли, обращенной «в сумасшедший дом», генезиз мечтаний об уничтожении нашей планеты.
Одна из областей искусства особенно наглядно подтверждает правильность нашего взгляда. Мы говорим о театре. Ни для кого не тайна, что современный театр представляет собой настоящую капиталистическую организацию. В нем есть и предприниматель-капиталист, и промежуточные «организаторские» группы (актеры и техники), и пролетариат (рабочие, действующие за сценой и под сценой), и орудия производства (машины, декорации, бутафорские принадлежности). В настоящую минуту театр, как известно, переживает полосу переворота: реалистическая и натуралистическая сцена объявляется отжившей свой век; стараются культивировать в нем условное «искусство». Какими экономическими причинами объясняется этот переворот?
Кто познакомится с произведениями теоретиков «нового театра» например, с книгой режиссера Мюнхенского шекспировского театра Савица[15] и, откинув идеологическую часть их аргументации в пользу театральной реформы, обратит внимание на приводимые ими экономические факты, тот даст следующий ответ. Театры, ведя ожесточенную конкуренцию между собой, выработали чрезвычайно сложную и громоздкую сценическую обстановку. Поставить какую-нибудь пьесу, где действуют много лиц и «толпа», – очень трудная для руководителей современного театра, задача. Обстановка, актеры и статисты требуют слишком крупных денежных затрат.
Кассы театров опустошены; театры постигает хронический кризис, необходимо во что бы то ни стало сократить издержки производства. Одно из средств удовлетворить означенной необходимости – это изгнать «толпу» со сцены, заменив ее немногими, но зато высококвалифицированными статистами. Другими словами, на сцене происходит тот самый процесс, который характеризует вообще новейшую капиталистическую промышленность.
«Немногие статисты, представляющие на сцене толпу, должны во всяком случае хорошо играть и вырасти в выполнении своих мимических задач. Благодаря же увеличению их числа в художественном отношении – не получается никакого выигрыша[16]. Наоборот, настоящая толпа на сцене, по мнению сторонников театральной реформы, только шокирует зрителей, оскорбляет на каждом шагу их эстетические чувства: это собрание актеров, не умеющих ни ходить, ни стоять, ни одеться как следует; а их «необученные глотки» (ungelehrte Kehle) – прямо-таки нечто ужасное. Под идеологическим лозунгом во имя эстетики постулируется отказ антрепренеров пользоваться услугами столь компрометирующих сцену исполнителей.
С изгнанием толпы, подчас очень шумной, на сцене как бы замирает жизнь. Остаются актеры, лишь «условно», лишь намеками передающие то, что раньше зритель наблюдал в воплощенном в массе образов, дававших своей совокупностью рельефную картину действительности. Теперь действительность исчезает, уступив место коллекциям каких-то манекенов, едва двигающихся, едва говорящих. Перед зрителем жизнь проходит завуалированною, сквозь призму тумана или, употребляя выражение Л. Андреева, «как отдаленное эхо». Она «сокращается» до максимума.
Требованиям новой сцены спешат ответить в свою очередь и драматурги[17]. Они так же изгоняют «толпу» из своих пьес. Так же они озабочены тем, чтобы создаваемые ими литературные образы обладали минимальной жизнеспособностью, чтобы это были скорее символы, отвлеченные формулы, чем портреты живых людей. Характер сцены предопределен в сильной степени, но не всецело, решающим фактором в данном случае оказывается все-таки жизнь, развертывающаяся за рамками сцены, и, с своей стороны, подсказывающая драматургу «могильные» мотивы, пристрастие драматургов ко всему, так или иначе говорящему о «сокращенной» жизни, – ко всему умирающему, увядающему, разрушающемуся.
Но, – уверяют теоретики нового театра, – завуалированная жизнь, блуждающие по сцене манекены, отнюдь не могут служить доказательством того, что театральное искусство, так сказать, отворачивается от жизни; напротив, по их глубочайшему убеждению, стилизация равносильна наиболее яркой и выпуклой передаче жизненных явлений. «Сокращая» жизнь на сцене, они думают, что возвращают жизнь на сцену. Равным образом новейших драматургов, повествующих о всевозможных ужасах и видениях смерти, нельзя причислить к лагерю безнадежных пессимистов, раз навсегда поставивших крест над жизнью.
Их «могильное» направление – иллюстрация модернистской формулы о «несказанном бытии».
И они, наравне с «реформаторами театра», одинаково идеологи не отживающей, обанкротившейся общественной группы: напротив, группе, их выдвинувшей, принадлежит если не сегодняшний, то, во всяком случае, завтрашний день. Если же наблюдается некоторое сходство между модернистским культом смерти и кладбищенскими экскурсиями старой аристократической литературы, сходство это следует признать чисто внешним. Мы уже выяснили сущность «аристократизма» новейших художников слова. В связи со сказанным сейчас можно сделать следующее дополнение. Упорство, с которым модернисты возвращаются постоянно к «старым домам» и «вишневым садам», в числе своих источников имеет несомненно также и охарактеризованное пристрастие к «смерти» и к «тьме». Что «старые дома» разрушаются, что хозяйство «вишневых садов» ликвидируется и последние продаются «кулакам», – факт общеизвестный, о котором русская литература говорила с очень давних пор, Нового, собственно, в данном случае представители art nouveau ничего не сообщают. И если, тем не менее, они постоянно избирают обстановку «старых домов» и «вишневых садов» для фона своих произведений, не рискуя оказаться в глазах читающей публики несовременными, ветхозаветными писателями, это происходит, между прочим, потому, что «старые дома» и «вишневые сады» – своего рода готовые «города мертвых». Обстановка отходящей в область исторических преданий культуры дает в распоряжение новейших художников слова бесчисленную массу аксессуаров, помощью которых можно создать поистине «могильное» настроение. Пусть владельцы старых домов, потомки «феодальных» поколений представляют собой постепенно все более и более уменьшающуюся в своей численности и вырождающуюся касту. Но это именно и делает их столь привлекательными объектами художественных изображений в глазах модернистов. «Феодал» и «аристократ», за которым только прошлое и ничего в будущем, – да ведь это искреннее воплощение «тьмы», сама ходячая «смерть»!
Перечисляя обитателей своего проектируемого города андреевская Маруся забыла упомянуть о нем. Но он бесспорно должен быть признан полноправным гражданином идеального общежития, нарисованного модернистским воображением. И фигура его в произведениях новейших беллетристов неизменно чередуется с фигурами сумасшедших и разного рода дегенератов. Это обстоятельство уже само по себе ясно указывает на одну из главных причин, побудивших сторонников молодого искусства утилизировать старую тему «феодального» оскудения, включить в число своих фаворитов столь мало современного «героя».
III
Если процесс производства сведется к простому вращению различных машин, к чисто механическим приемам, для господства человечества над материей, над природой настанет конец, – таков, как мы отмечали выше, один из аргументов, выдвигаемых истолкователями миросозерцания новой буржуазии. Этот аргумент, будучи взят absolute, вне связи с общей нитью рассуждений означенных идеологов, должен продиктовать нам неверную характеристику последних. Получится представление, будто мы имеем дело не с патентованными защитниками новейшего капитализма, а, наоборот, с его противниками, не с панегиристами машинной техники, а с людьми, предающими ее анафеме. И мы принуждены будем отвести им место в рядах общественных групп, заинтересованных в сохранении или реставрации старых форм хозяйства. Деятели «новой» литературы выступают с категорическими протестами против машины. Некогда устами Боратынского[18] романтизм с ужасом заявлял: «век шествует железный» и в «Русских ночах»[19] В. Одоевского оплакивал душу человека, превращенную, по его мнению, в «паровую машину», в которой можно видеть одни «винты и колеса»; но следы какой бы то ни было жизни отсутствуют. Новая литература повторяет романтические жалобы. «Винтами и колесами» называют себя рабочие, фигурирующие в «Царе-голоде» Л. Андреева. Машина описывается как чудовище, отнимающее жизнь. Города с их фабриками и всевозможными сооружениями, созданными машинной техникой, оказываются в изображении модернистской литературы могилой человеческого развития. Им противополагаются в качестве положительного идеала панорамы какой-нибудь «буколической» или древне-эллинской культуры. Подобное отношение к машине истолковывается обыкновенно как признак антибуржуазного образа мышления модернистов. С своей стороны, «новые» литераторы стараются всеми силами утвердить за собой репутацию решительных оппонентов «третьего сословия», urbi et ordi[20], заявляя о своей ненависти к «лавочному материализму» и «мещанству». Но понятие о лавочном материализме и мещанстве отнюдь не тождественно понятию «буржуазия» (точнее, капиталистическая буржуазия). А усвоенная критиками и читающей публикой социальная оценка модернизма основывается на недоразумении, аналогичном тому, в которое впал бы социолог, если бы стал судить о мировоззрении современных социал-этиков и социал-реформаторов по одному тезису, произвольно выхваченному из цикла их идеологических построений.
На самом деле принципиальными противниками машинной техники они считаться не могут. У них же самих мы можем найти свидетельство их сочувствия современному техническому прогрессу. Жалобам, расточаемым Л. Андреевым на «бесформенное чудовище», убивающее человеческую душу, может быть противопоставлено принадлежащее тому же беллетристу восхваление новейшей техники – как источника необыкновенной силы человека. «Я люблю этих железных гигантов (поезда), – исповедуется автор рассказа «На станции», – когда они проносятся мимо, покачивая плечами и переваливаясь на рельсах от колоссальной тяжести силы и уносят куда-то незнакомых мне, но близких людей, они кажутся мне живыми и необыкновенными; в их быстроте я чувствую огромность земли и силы человека и, когда они кричат повелительно и свободно, я думаю: так кричат они и в Америке, и в Азии, и в огненной Африке». Правда, заявления подобного рода встречаются в модернистской литературе не часто, но это отнюдь не изменяет сути дела. А суть в том, что мнимая машинобоязнь модернистов не что иное как аргумент, взятый absolute, из числа силлогизмов, долженствующих служить целям идеологической защиты современного капитализма. Подчеркивание этого аргумента – специальность «новой» литературы. Другие аргументы затрагиваются последней лишь мимоходом. Оттого в поле зрения критиков они обыкновенно исчезают. И «новое» искусство предстает в свете неверного социологического анализа.
Чтобы надлежащим образом оценить модернистскую машинобоязнь, необходимо принять во внимание и модернистские гимны технике. Машина порабощает, обессиливает человека, машина делает человека свободным и сильным: вот два положения, одновременно защищаемые сторонниками новых литературных веяний и составляющие, по-видимому, непримиримую «антиномию». Но разрешить эту «антиномию» вовсе не так трудно. Обоим положениям нельзя придавать «безусловного» характера; и тому и другому сопутствует ограничивающая оговорка. Машина порабощает, обессиливает человека при известных условиях; машина делает человека свободным и сильным при известных условиях. Только такой смысл скрывается за означенными тезисами модернистской идеологии. Вопрос сводится, следовательно, к ближайшему определению этих условий. А определение их можно получить, обратившись к центральному, по мнению новой буржуазии, фактору экономической жизни. Таковым фактором оказывается квалификация. И в окончательной редакции выставленные модернистами положения гласят следующее: машина порабощает, обессиливает человека, лишенного квалификации; машина делает свободным и сильным человека, обладающего квалификацией. Квалифицированный работник управляет машиной, машина управляет не квалифицированным работником, – доказывают постоянно в своих трактатах современные социал-этики и социал-реформаторы. Модернистская «антиномия» является точным воспроизведением их доказательств.
Машина «управляет» рабочими массами, нарисованными автором «Царя-Голода». Массы, – припомним сказанное нами выше, – в представлении идеологов новой буржуазии указывают на старую организацию промышленных предприятий: они характеризуются названными идеологами неизменно как армия необученного или малообученного труда. Другое дело, когда машина не требует для себя массы рабочих рук, когда при ней состоят единичные производители, – следовательно, производители, отвечающие требованиям повышенной выучки. Такого сорта машины в глазах модернистов «уже не чудовища». Правда, говоря об одной такой машине, Л. Андреев не упоминает вовсе о людях, приводящих ее в движение и регулирующих ее ход. Но, повторяем, культ квалификации, исповедуемой «новой» буржуазией, не есть культ квалифицированного пролетариата. Капиталистический авангард поклоняется идее отвлеченной квалификации. Потому-то похвальное слово машинной техники превращается у модернистского писателя в похвальное слово силе человека, то есть человека вообще, внеклассовой абстракции.
Итак противопоставление индустриального города и «буколической» панорамы, машины и человека, выдвигаемое новейшей литературой, нельзя понимать буквально как противопоставление двух безусловно исключающих друг друга синонимов. Опять-таки мы имеем дело не более как с одним из многочисленных перепевов мотива, который в произведениях апологетов современного капитала играет роль основного: в новой плоскости рассматривается все та же проблема квалификации. И модернистское божество – Человек при ближайшем анализе оказывается связанным самыми тесными узами с машиной, на первый взгляд столь ему враждебной. Он – носитель тех качеств, которых требует от «исполнительского» персонала – как низшего так и высшего, как от рабочих, так и от администраторов – современная прогрессирующая машинная техника, – обладатель повышенных профессиональных знаний и профессиональной сноровки.
«Все фигуры романа, – писал пророк модернизма девяностых годов А. Волынский по поводу одного натуралистического произведения, – за ничтожными исключениями скорее похожи на превосходные анатомические препараты, чем на чувствующих и мыслящих людей. В них нет души, потому что физиологические описания окончательно вытесняют в романе игру ума, волнения духовные, нравственные, чисто человеческие, которые художнику предстояло изобразить прежде всего, впереди всего, на первом плане картины. Люди не выступают в романе свободными индивидуальностями, потому что, лишенные внутренней инициативы, они постоянно сливаются друг с другом в одну огромную стихийную массу»… Истинный художник изображает не внешнюю, а внутреннюю жизнь людей. Подобная специальность художника получает наименование «творческого акта». Изучение и воспроизведение социальной среды приравнивается «к собиранию безжизненных внешних документов». Искусство должно очиститься от «тяжелых пластов чисто бытового материала». Тогда, покинув «мир внешних случайных форм», «идея красоты» перенесется в «нетленный мир идеальных законов и вечных умственных и нравственных запросов.[21]
Борец за идеализм г. Волынский превращает принципы эстетики, которая бы отвечала явлениям «сокращающейся жизни», которая бы легализировала изгнание широких масс, «толпы» со столбцов литературных произведений. К тому же требованию сводится в конечном итоге эстетическое credo современных апологетов «нового» искусства (например, учение г. Неведомского об «аполитическом» искусстве).
В настоящее время у нас и в Западной Европе делаются попытки: насаждения так называемого «условного» театра. На сцене этого театра «толпа», масса «необученных глоток» заменяется отдельными, высококвалифицированными статистами. Толпа, так сказать, спрятана от зрителей. Вместо нее выступают representative men[22]. Имея их перед собой, зритель должен воображением дополнить то, чего на сцене нет, но что подразумевается. По символам, по условным «обозначениям» требуется судить о реальном содержании, вскрывающемся за ними. «Тяжелые пласты чисто бытового материала» удалены таким образом. Из реалистического и натуралистического искусство становится символическим.
Пример условного театра наглядно показывает, с какой точки зрения мы должны оценивать «жемчужины и перлы» модернистской поэзии, ее тенденцию говорить намеками, полутонами, нюансами. Вое это средства, с помощью которых осуществляется процесс очищения искусства от «тяжелых пластов». При чем на счет названного процесса следует отнести не только «стилизованное» изображение массы, толпы, но и исчезновение детальных картин природы, ее явлений и вообще внешнего, «материального мира». Реалистическая и натуралистическая обрисовка природы и внешнего мира отвечает признанию гражданских прав в литературе за «толпою». Перемена отношения к последней обусловливает перемену в художественном восприятии окружающей среды вообще. Наряду с «представительными» людьми появляются а «представительные» предметы. Вместо массы деревьев, долженствующих изображать лес, зритель видит на сцене условного театра одно, два дерева. Смоченная водою одежда актера должна создавать, по замыслу «условников», обстановку бури. Точно так же в литературных произведениях модернистов вместо детально вырисованного образа дается какая-либо отдельная черточка, вместо целого – какая-либо часть его, вместо тона – полутон.
Таково происхождение серых красок на палитрах новейших художников слова, происхождение всевозможных «дымок» и «туманов», которыми окутываются в модернистской литературе все предметы явления внешнего мира, происхождение эстетического правила – изображать означенный мир всегда отстоящим, так сказать, на более или менее значительном расстоянии, всегда – «из прекрасного далека».
Опять мы имеем дело с теми самыми художественными приемами, которые, как известно, некогда характеризовали собой «романтизм», «аристократическое» искусство. И опять у нас нет решительно никаких оснований приписать новейшим литературным веяниям аристократическую родословную.
Источник текста: В. Шулятиков. Литературно-критические статьи. М. – Л.: Земля и фабрика, 1929. Стр. 152–174.
Примечания
1
Статья В. Шулятикова «Неаристократическая аристократия» была напечатана в сборнике «Литературный распад» (книга 2-я, 1909 г.), с примечаниями редакции о несогласии ее с методологическими приемами и оценкой автором литературных явлений. В настоящем издании приведенная статья «Неаристократическая аристократия» интересна главным образом в плане тех парадоксальных выводов, к которым пришел ШТ., объясняя с настойчивой прямолинейностью явления литературного порядка непосредственно экономическим фактором.
(обратно)2
Струве Петр Бернардович (1870) – публицист-экономист. От представителя легального марксизма (редактора, «Нового Слова», «Начала») Струве постепенно докатился до приверженца идеализма, до вождя буржуазного либерализма (редактировал газету конституционно-монархического характера), затем и до правого кадета, после революции – эмигранта, сотрудника реакционной «Русской Мысли».
(обратно)3
Бердяев (см. пр. 39).
(обратно)4
Свидетельство.
(обратно)5
Цитируем из книги австрийского марксиста. Hanns Deutsch «Qualifizierte Arbeit und Kapitalismus. Werttheorie und Entwickelungstendenzen», стр. 94.
(обратно)6
Ethik und Kapitalismus. Grundzüge einer Sozialethik von Liz. Theol. F. Traub, стр. 220.
(обратно)7
См. статью того же автора: «Arbeit und Arbeiterorganisation», в сборн. «Festgaben fur F. J. Neumann», стр. 127.
(обратно)8
В некоторых производствах, по вычислению немецкого инженера W. V. Oechelhauser'a, штаты их выражаются отношением 1:10, 1:7, 1:6, даже 1:4 (к числу рабочих). См. его публичную речь «Technische Arbeit einst und jetzt», стр. 28.
(обратно)9
Сокращена цитация из «Вишневого сада», она в том же контексте полностью войдет в приведенную в настоящем издании статью о Чехове. См. «Теоретик талантливой жизни».
(обратно)10
Гиппиус Зинаида Николаевна (Мережковская) (1867) – представительница декадентства. На своем поэтическом знамени провозгласила приоритет мистицизма, эстетизма в противовес позитивному реалистическому мировоззрению. В настоящее время в эмиграции.
(обратно)11
Сологуб Федор (1863–1927) (псевдоним Федора Константиновича Тетерникова) – писатель-декадент; принадлежит к школе русских символистов. Один из типичных выразителей неустойчивой оскудевающей интеллигенции 80-х – 90-х годов.
В творчестве Сологуба, чрезвычайно характерном для эпохи литературно-общественной реакции, видную роль играет отвлеченный мистицизм, элементы эротики и порнографии. Наиболее известен его роман «Мелкий бес».
(обратно)12
Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) – писатель-декадент эпохи общественно-литературной реакции. В своих произведениях Арцыбашев обнаруживает симпатию к деклассированно-индивидуалистическим мотивам («Куприян», «Бунт», «Рабочий Шеверев» и др.). Видную роль в творчестве А. сыграла «проблема пола», трактуемая автором в настойчивых эротико-сексуальных тонах. (Известный роман Арцыбашева «Санин».)
(обратно)13
Бесспорно верным.
(обратно)14
Даже известные группы пролетариата, «рабочая аристократия», не застрахованы от них: пример: английские высококвалифицированные рабочие, в среде которых мальтузианство пользуется, как известно, некоторым кредитом.
(обратно)15
Von der Absicht des Dramas. Dramaturgische Betrachtungen uber die Reform der Scene, namentlich im Hinblick auf die Shakespearebiihne in Munchen von Jocza Savitz – (Иоста Савиц – «О характере драмы» – драматические обозрения о реформе сцены с точки зрения шекспировской сцены в Мюнхене.)
(обратно)16
Savitz, loc. cit., стр. 21.
(обратно)17
Подробнее мы говорим об этом в сборнике «Кризис театра» (ст. «Новая сцена и новая драма»). Заметим здесь, что «модернизованный» театр является все-таки неудачной попыткой разрешения театрального кризиса: сокращая «переменную» часть капитала, он слишком «фанатично старается экономизировать» в то же время на орудиях и средствах производства. В этом заключается причина его фиаско на Западе и у нас, причина, почему, не успевши расцвесть, подобного рода театральные предприятия повсеместно отцветают. Это именно тип «дутых» капиталистических предприятий, столь обычных в эпохи реорганизации промышленности, предприятий, отвечающих общей тенденции повышения состава капитала, односторонне по развивающих надлежащим образом его постоянной части.
(обратно)18
Боратынский Евгений Абрамович (1800–1844) – поэт пушкинской плеяды. Один из творцов «великосветского стиля». В его творчестве в духе философского романтизма преобладающими мотивами являются разочарование, грусть, легкая эротика… Наиболее значительная поэма Боратынского – «Эдда».
(обратно)19
«Русские ночи» – общее название повестей Одоевского. Повести Одоевского носят ярко выраженный романтический характер, их цель возбудить в читателе стремление к высоким идеалам и отвращение к мелочной прозаической действительности.
(обратно)20
Везде.
(обратно)21
А. Л. Волынский: «Борьба за идеализм», стр. 105, 107, 145, 309. Волынский (1863–1926) – литературный псевдоним Акима Львовича Флексера, известного критика-идеалиста (см. полемику Волынского с Михайловским и Плехановым). Литературно-критические статьи, помимо журналов, выходили отдельным изданием: «Русские критики» (1896), «Борьба за идеализм» (1899) и др.
(обратно)22
Отдельные представители («Вместо нее (толпы) выступали ее отдельные представители»).
(обратно)
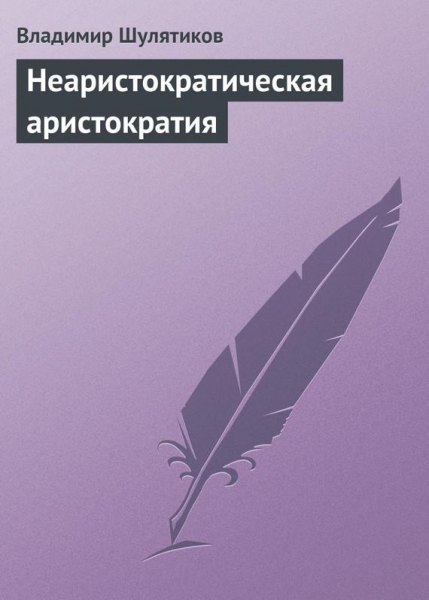

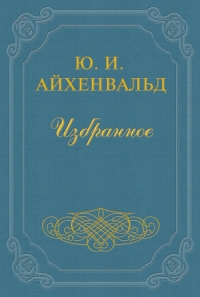
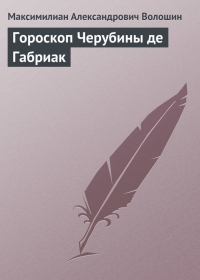

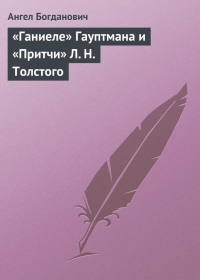
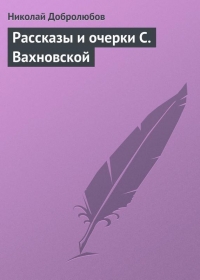
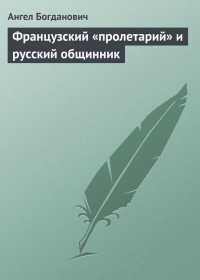
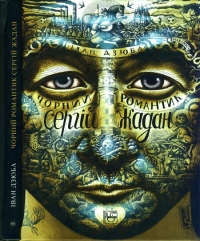
Комментарии к книге «Неаристократическая аристократия», Владимир Михайлович Шулятиков
Всего 0 комментариев