С. Н. Булгаков Человекобог и человекозверь
Не только образованная Россия, но и весь культурный мир с напряженным интересом встретили посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого. В них воскресает великий мастер, силою послушного резца высекающий живые образы. Какая свежесть и непосредственность в «Хаджи-Мурате» и даже в отдельных сценах дидактических произведений, какая потрясающая простота и сила в «Дьяволе», какой зной душевный в «Отец Сергии»![1] При всей незаконченности и неотделанности этих произведений, в них мы имеем такие создания русской художественной литературы, которые могут ставиться в один уровень даже с ранним творчеством Л. Н. Толстого, а выше этого могут ли быть вообще поставлены художественные произведения?
Однако наша задача не есть эстетический анализ или художественная критика посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого – как бы ни была интересна сама по себе такая задача, но ее мы отстраняем. Нам хочется уяснить жизненный смысл и мудрость этих произведений при свете нравственной философии вообще и общего мировоззрения самого Л. Н. Толстого в частности, и в этом отношении они представляют собою громадный, исключительный интерес, отнюдь не меньший, чем чисто художественные их красоты. Для настоящего художника его творчество есть и раскрытие его души в самых глубоких и недосягаемых ее тайниках – оно интимнее, чем дневник, и искреннее, чем исповедь. Оно есть одновременно мышление и искание художника, хотя и не разумом, а художественной интуицией, которая, однако, сильнее и острее рассудочного мышления. Глубочайшая искренность и правдивость, вытекающая из полнейшей внутренней свободы, есть отличительная черта истинно художественных произведений, – а вместе и мера их гениальности. Искусство делается неискренним и тем самым становится ниже себя, когда оно утрачивает эту внутреннюю свободу, превращается в служебное орудие, делается тенденциозным. В таком случае оно служит только особым методом изложения или доказывания уже заранее установленных положений, но не средством самостоятельного искания, – таково дидактическое искусство, которое в строгом смысле вовсе не есть искусство, как бы мастерски оно ему ни подражало. Немало таких дидактических произведений и в литературном наследии Толстого, и как бы ни было велико мастерство, в них проявляющееся, все-таки они не могут быть отнесены к искусству, ибо написаны на заданную тему; это ремесленно-техническое употребление красок, а не живопись. Но есть в их ряду и такие произведения, где этот тенденциозно-дидактический элемент сводится к минимуму и почти испаряется в огне художественного искания, где художник вновь обретает себя и становится подобен путешественнику, отправляющемуся в неведомые страны, или исследователю, углубляющемуся в новые, неизвестные области изучения. В них Толстой с былой неустрашимостью и страстной искренностью опускается на дно человеческой души – и прежде всего, конечно, своей собственной, – ибо ведь о чем бы ни писали художники, они дают в конечном итоге самих себя, они опознают жизнь в себе и чрез себя, освещают подземелье своим собственным светом. Такое значение мы особенно придаем повестям «Дьявол» и «Отец Сергий»; первая и в чисто художественном отношении стоит чуть ли не выше всех произведений, теперь опубликованных. Сюда можно было бы еще причислить в качестве художественного перла и «Хаджи-Мурата», но по содержанию своему он относится преимущественно к раннему периоду творчества Толстого, эпохе создания «Ерошки»[2] и «Казаков», и поэтому мы его оставим без рассмотрения.
Сопоставляя Толстого как богослова, моралиста и проповедника, автора многочисленных произведений религиозно-философского характера, и Толстого-художника, мы получаем возможность поставить одну из самых коренных проблем духовной жизни, именно о нравственной природе человека, или о силе зла и греха в человеческой душе. Именно этот вопрос со страшной силой и мукой ставит Толстой в «Дьяволе» и «Отце Сергии», и читатель оказался бы недостоин своего писателя, если бы не попытался отдать себе отчет в этом вопросе и вместе с автором и вслед за автором переболеть его.
Однако для того, чтобы нам вплотную подойти к этим вопросам, надо предварительно расчистить почву и запастись общими точками зрения, как они определялись в истории человеческого самосознания.
Есть два воззрения на нравственную природу человека и природу зла: одно учит о врожденности зла, о коренной поврежденности человеческой природы, о нравственной болезни, поражающей человеческое сердце, волю и сознание; для другого человеческая природа является здоровой и неповрежденной, и оно ищет причину зла где угодно, только не в человеческом сердце: в заблуждениях ума, в невежестве, в дурных учреждениях. Согласно первому, человеческая природа двойственна и дисгармонична, поскольку она представляет смешение двух враждующих начал, – добра и зла; согласно второму, естественный человек есть воплощение гармонии, равновесия душевных сил и здоровья, и истинная мудрость велит не бороться с природой, но ей по возможности следовать. Конечно, в конце концов оба эти воззрения упираются в некоторую недоказуемую уже и потому аксиоматическую данность, имеют в своей основе нравственное самоощущение человека. Оба воззрения резко противостоят друг другу.
Первое находит полное и, можно сказать, окончательное выражение в христианском учении о человеке, согласно которому человечество больно грехом и этот грех отравляет всю природу человека. Он имеет различные проявления, как духовные, так и телесные. Его присутствие сказывается в постоянном соблазне зла, бессилии или слабости добра и, отсюда, в постоянном их противоборстве. «Не понимаю, что делаю, – о себе, а в своем лице и о всем человеческом роде говорит апостол языков, – потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, т. е. во плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу ‹делать› доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7, 15–24). В этих простых, но бесконечно мудрых и глубоких словах выражено то, что человек находит во внутреннем опыте своем, именно: мучительное сознание бессилия добра, косности духа, скованного грехом. Из этого самодиагноза христианство делает дальнейшие выводы в области морали в том смысле, что нравственная жизнь основана лишь на постоянной борьбе с собою, с низшими сторонами своего собственного существа, со стихией греха, и не на доверии к «естественному», но на недоверии к нему, на постоянном и неусыпном самоконтроле и различении в себе добра и зла. В этом смысле христианская мораль, проистекающая из дуалистического понимания нравственной природы человека, видящая в ней смешение добра и зла, необходимо является аскетической в смысле неустранимости дисгармонии и борьбы этих двух начал. «Самопротивление и самопринуждение» – в таких словах выражает сущность аскезы еп. Феофан (Затворник)[3].
Но человек, предоставленный своим собственным силам, не может, по учению христианства, окончательно победить в себе грех, превзойти самого себя. Тот свет совести, при котором он видит свою душу, только открывает перед ним всю силу и глубину греха в нем, родит желание от него освободиться, но не дает еще для этого возможности. Человек, предоставленный своим природным силам, должен был бы впасть в окончательное отчаяние, если бы ему не была протянута рука помощи. Но здесь и приходит на помощь искупительная жертва Христова и благодать, подаваемая Церковью Христовой в ее таинствах. Опираясь на эту руку, открывая сердце свое воздействию божественной благодати, усвояя верой искупительное действие Голгофской жертвы, освобождается человек от отчаяния, становится вновь рожденным сыном Божиим, спасается от самого себя, от своего ветхого человека, который хотя и живет, но непрестанно тлеет и уступает место новому человеку. Благодать не насилует, она обращается к человеческой свободе, которая одна лишь вольна взыскать ее; но, оставленный одним своим естественным силам, человек не может спастись. Вот почему основной догмат христианства, об искуплении человеческого рода Божественною кровью, представляет собою вместе с тем и нравственный постулат христианской антропологии, того учения о нравственной природе человека, в котором отрицаются возможность самоспасения и неповрежденность человеческой природы. Он есть необходимый ответ на этот вопль бессилия, идущий из глубины человеческого сердца, а Церковь с ее благодатными таинствами есть целительное установление любви Божией, в котором восстановляются силы и врачуется греховное и больное человечество. Когда Христос ходил по земле, окруженный грешниками, мытарями, блудницами, то в ответ на упреки в неразборчивости, направленные со стороны фарисеев, Он отвечал обычно, что Он пришел «призвать не праведников, но грешников к покаянию», ибо «не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мф. 9, 12–13). А поэтому, по слову св. Ефрема Сирина, «вся Церковь есть Церковь кающихся, вся она есть Церковь погибающих».
Это основное христианское учение о человеке и о спасении проходит, конечно, через всю историю Церкви; оно легло в основу ее догматики, проповеди, практики. Очевидно, что оно из христианства совершенно неустранимо и составляет центральную часть проповеди Евангелия, т. е. благой вести о совершившемся и совершающемся спасении человеческого рода от греха.
Рассматриваемая вне догматической формы проблема нравственной природы человека не раз составляла предмет философского умозрения; на нее давался ответ в разных философских построениях. Я приведу в кратких чертах некоторые, наиболее яркие учения этого типа. Начнем с блаж. Августина, в котором мы имеем не только великий ум, но и пламенное сердце; этот гений пафоса много искал и страдал ранее своего присоединения к Церкви; им были опытно изведаны глубины греха и человеческой немощи. Свой духовный путь он рассказал в бессмертной своей «Исповеди». Его философствование, его учение было плодом не только возвышенного умозрения, но и страстно прожитой жизни, полной исканий и заблуждений, падений и грехов, но вместе с тем проникнутой всепокоряющим стремлением к высшему благу. «Горе той душе, – говорит блаж. Августин, – которая дерзает помышлять и ласкать себя надеждою, что, удалившись от Тебя, Боже мой, найдет она что-нибудь лучше Тебя! Тщетно бросается она во все стороны, тщетно блуждает по всем распутиям; нигде не находит она желаемого, повсюду встречая одни томления и огорчения. В Тебе одном, Боже наш, успокоение наше»[4]. В различных актах своей духовной драмы, на своем долгом, длившемся десятилетия, пути возвращения блудного сына в отчее лоно, Августин до глубины осознал все бессилие человеческой воли к добру и всю мучительную раздвоенность человеческого духа. «Две воли боролись во мне, ветхая и новая, плотская и духовная, и в этой борьбе раздиралась душа моя»[5]. «Это болезнь души и всего существа нашего, состоящая в том, что мы по своей поврежденности и греховности как бы раздвояемся… таким образом, у нас выходит две воли… в этой-то видимой борьбе между добром и злом и состоит воля наша»[6]. «Добро во мне – Твой дар, от Тебя исходящий; зло во мне – мое преступление, Тобою осуждаемое»[7]. Этим выношенным целой жизнью убеждениям Августин позднее дал философское выражение, главным образом в спорах с Пелагием[8] и пелагианством. Основные заблуждения пелагианства он видит, во-первых, в отрицании первородного греха, во-вторых, в признании, что оправдывающая нас благодать подается нам не даром, но по заслугам нашим, и, в-третьих, в допущении возможной безгрешности после крещения. По учению же Августина, хотя человек и был создан со способностью не грешить – в этом и состояла его свобода (liberum arbitrium), но вследствие первородного греха эта свобода превращается в несвободу (servum arbitrium)[9], человек есть раб греха, и его собственная свобода есть лишь влечение ко злу, самостоятельная же способность к добру (facultas bene operandi) у него отсутствует. «Не только большие, но даже и минимальные блага могут быть только от того, от кого происходит всякое благо, т. е. от Бога» (Delib. arb. 2. 19,50). Отсюда человек, в представлении Августина, есть в значительной мере пассивный объект воздействия благодати: «Она порождает в нас волю (к добру), она же содействует и ее осуществлению» (ut velimus operatur incipiens, vobentibus cooperatur perficiens: De grat. et lib. arb. 17, 33). Правда, в свободе человеческой лежит «согласие или несогласие воле Божией», но и самую волю к вере Бог вызывает в человеке. Поэтому благодать есть «внушение доброй воли» (inspiratio bonae voluntatis: De corr. 2, 3) и она действует с неотвратимой (irresistibilis) силою: «Если Бог хочет спасения, не может противиться воля никакого человека» (Deo volenti salvum f acere nullum hominum resistit arbitrium: De corr. et gr. 14, 43). Отсюда Августин неизбежно приходит к учению о предопределении (praedestinatio) одних ко спасению, других к погибели, к тому религиозному фатализму, который через тысячу лет возродился в кальвинизме: человеческая воля влекома ко спасению неотвратимо и неодолимо (indiclinabiliter et insuperabiliter). Философы справедливо усматривают в мировоззрении Августина противоречие между учением о свободе воли, от которого он не может и не хочет отказаться, и учением о предопределении[10]. И западная церковная доктрина не последовала за Августином, который утрировал учение о греховной порче человеческой природы, но остановилась на семипелагианском, более умеренном учении, которое не устраняет совсем человеческой свободы и человеческих заслуг в деле личного спасения и чуждо идее предопределения (на Востоке же идеи Августина никогда не имели особенного влияния). Для нас здесь интересны идеи Августина не с точки зрения их соответствия или несоответствия общецерковному учению, но как мощное и яркое выражение пессимистического воззрения на нравственную природу человека в греховном его состоянии.
Перенесемся теперь на полторы тысячи лет и от духовного отца средневекового католицизма обратимся к духовному отцу идеалистического человекобожия, к философу протестантизма Канту. То, что Кант (а за ним и его последователи) называл у себя «коперниканским деянием», сводится к возведению человеческого разума в роль законодателя мира: отныне вселенная обращается около человека как своего центра, а не человек следует за природой. Однако, при всем своем рационалистическом антропоцентризме, Кант был исполнен подлинно нравственного пафоса и серьезность его настроения противилась плоской идеализации человеческой природы. Вот почему в нравственной философии Канта мы находим, хотя и несколько неожиданно, глубокое учение о «радикальном зле в человеческой природе», изложенное в трактате «Религия в пределах только разума» («Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft»)[11] и в век оптимистического просветительства заставляющее вспомнить об августинизме. Не без легкой иронии говорит он здесь о добродушном предположении моралистов от Сенеки[12] до Руссо (18), что мир сам собой идет от худшего к лучшему. По мнению философа, «человек по природе зол», «vitiis nemo sive nascitur» («никто не родится без пороков»), – вспоминает он стих Горация, и это подтверждается наблюдениями над человечеством в культурном и некультурном состоянии. «Говорят о затаенной фальшивости даже при самой близкой дружбе… о склонности людей ненавидеть тех, кому они многим обязаны, и к чему благодетель всегда должен быть готов. Говорят о сердечном благоволении, которое все-таки дает повод для замечания: „В несчастии наших друзей всегда есть нечто такое, что нам не совсем не нравится“. Говорят и о многом другом, скрытом под внешностью добродетели, не принимая в расчет тех пороков, которые и не скрываются, так как для нас хорошим кажется уже и тот, кто – злой человек по обычному, всеобщему уровню» (32–33). «Член английского парламента, в пылу задора, позволил себе высказать такое мнение: „Каждый человек имеет свою цену, за которую он себя продаст“. Если это справедливо (что каждый может решить сам за себя), – если нигде нет такой добродетели, для которой нельзя было бы найти такого искушения, чтобы низвергнуть ее сразу, – если вопрос о том, добрый или злой дух перетянет нас на свою сторону, решается только теми, кто предлагает и обещает скорейшую расплату, – для людей вообще становится истинным то, что сказал апостол[13]: „Здесь нет никакого различия, здесь все грешники, нет никого, кто делал бы доброе, – ни одного человека“» (38). «Если такое предрасположение лежит в человеческой природе, то, значит, в человеке есть естественное предрасположение к злому. И само это предрасположение – так как его в конце концов все-таки надо искать в свободном произволе, значит, и оно может подлежать вменению – есть морально-злое… скорее это надо называть извращенностью сердца… известным умышленным коварством человеческого сердца, а именно: обманывать себя в области своих собственных добрых или злых настроений» (36–37). Источник этого зла – в человеческой свободе, притом каждого отдельного индивида; Кант отрицает поэтому первородный общечеловеческий грех, повреждающий самую природу человека. Это естественное предрасположение к злу хотя и не может быть уничтожено человеческими силами, но «в то же время его возможно превозмочь, так как оно появляется в человеке как свободно-действующем существе» (36). «Каким образом возможно то, что в естественном порядке злой сам по себе сделает себя человеком добрым, это превосходит все наши понятия. Ибо каким образом злое дерево может приносить добрые плоды?» (44–45). И тем не менее заповедь: ты можешь, ибо ты должен, – не ослабевая, звучит в душе (45). Недостаточно только перемены нравов по каким-либо внешним мотивам (как «неумеренный возвращается к умеренности ради здоровья, лживый к истине ради чести», или как общество может восстановить экономическую солидарность чрез социализм ради всеобщей выгоды), нет, требуется изменение сердца, «революция в образе мыслей человека» (47), новое рождение, о котором говорится в беседе с Никодимом[14]. Не превышает ли эта задача сил человеческих, справедливо спрашивает себя Кант, но отвечает: «И все-таки долг приказывает быть таким, а он ничего не приказывает нам, кроме того, что для нас исполнимо» (47). Нельзя было ближе подойти к самому центральному нерву христианства – учению об искуплении благодатной помощью свыше, но, подойдя к нему, Кант с новой силой рванулся прочь, опять к своему идеалистическому человекобожию, к учению о самоспасении и самоискуплении человека, причем дело И‹исуса› Христа получает у него символически-прообразовательное значение этого самоискупления человека. Для этого оказывается достаточно лишь первоначального морального задатка в нас вообще (49) и постоянного движения от лучшего к худшему[15]. Так глубоко заглянув в человеческое сердце и увидав гнездящуюся в нем змею греха, он не пришел в ужас или отчаяние, но нашел в этом новую опору человеческой гордости, ибо как можно иначе назвать это учение о самоискуплении? После разговора с богатым юношей Господь сказал: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божие. Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? но Он отвечал: невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18, 25–27). Кант же утверждает, что человек может пройти сквозь игольные уши, может, ибо должен, и веру в искупление называет «опиумом для совести» (80, примеч.). Тем не менее суровый и возвышенный ригоризм кантовской этики долга хотя и возлагает на немощные плечи бремена неудобоносимые и тем повинен в горделивости, все же, в своей нравственной серьезности и глубоком сознании греха и зла в человеке, стоит неизмеримо выше тех оптимистических учений о естественной гармонии, по которым все в человеке обстоит благополучно и он не нуждается в борьбе с собой, но может следовать своим инстинктам и видеть в этом следовании высшую норму и высшую свободу.
Для того чтобы изложить воззрения Вл. С. Соловьева в интересующем нас отношении, нам пришлось бы пересмотреть все его учение, в котором вопросу о зле отводится столь видное место. В разные периоды своей жизни и творчества обращался к нему Вл. Соловьев. Учению о нравственном зле или грехе посвящены и вдохновенное произведение его молодости «Духовные основы жизни», и зрелый плод предзакатной поры «Оправдание добра», и лебединая его песнь – гениальные «Три разговора». «Разум и совесть, – читаем в предисловии к „Духовным основам жизни“, – обличают нашу смертную жизнь как дурную и несостоятельную и требуют исправления. Человек, погруженный в эту дурную жизнь, должен, чтобы ее исправить, найти опору вне ее. Верующий находит такую опору в религии. Дело религии – возродить и освятить нашу жизнь, сочетать ее с жизнью Божественной»[16]. Нашей природе свойственно сознание своего долга, но оно не дает еще силы для его исполнения. «Греховная природа есть для нас нечто данное, неотразимое. Для того чтобы изменить или исправить нашу греховную природу, необходимо, чтобы открылось в нас какое-то другое, действительное и потому способное действовать, начало другой жизни, сверх настоящей, дурной природы… Эта новая, благая, жизнь, которая дается человеку, потому и называется благодатью… Чтобы действительно стать на пути благодати, недостаточно признания ума, а нужен подвиг воли: человек должен подвигнуться для принятия в себя благодати, или силы Божией»[17]. Благодать эта подается Церковью участвующим в ее жизни, и основой человеческого спасения является Голгофская жертва. Мы имеем перед собой учение, в общем напоминающее августинизм, хотя и освобожденное от некоторого его фатализма и отводящее больше места человеческому усилию и свободе. В «Оправдании добра» первичным началом нравственности Вл. Соловьев полагает стыд: «Я стыжусь, следовательно, я существую не физически только, но и нравственно; я стыжусь своей животности, следовательно, я существую еще как человек». «Чувство стыда возбуждается (притом) не злоупотреблением известной органической функцией, а простым обнаружением этой функции: самый факт природы ощущается как постыдный… Здесь… высшее достоинство человека… свидетельствует о себе, что оно еще сохранено в глубине существа»[18]. «Основное нравственное чувство стыда фактически заключает в себе отрицательное отношение человека к овладевающей им животной природе… Это самоутверждение нравственного достоинства действием разума возводится в принцип аскетизма». Предметом аскетизма является не материальная сторона бытия вообще, но подчинение ей духа, захват со стороны материальной жизни духовного существа в человеке. Нормой здесь является: «животная жизнь должна быть подчинена духовной»; но это подчинение покупается неустанной борьбой человека с низшими сторонами своего существа, или с плотью, которая есть не что иное, как «животность возбужденная, выходящая из своих пределов, перестающая служить материей, или скрытой (потенциальной) основой, духовной жизни». «Плоть сильна только слабостью духа, живет только его смертью. Отсюда общая максима аскетики: подчиняй плоть духу, насколько это нужно для его достоинства и независимости… и, по крайней мере, не будь закабаленным слугой бунтующей материи»[19]. В переводе из Петрарки[20] Соловьев молитвенно взывает к Пречистой Деве:
Страсти безумной злое горение Да утолится тобою! С неизреченной тоскою Видела ты неземные мучения. Ими спасенный, зачем я страдаю? Мною владеет враг побежденный! Мыслью смущенной К тебе прибегаю.Вопросу о зле посвящены главным образом и «Три разговора». Здесь читаем: «Зло действительно существует, и оно выражается не в одном отсутствии добра, а в положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над высшими во всех областях бытия. Есть зло индивидуальное – оно выражается в том, что низшая сторона человека, скотские и зверские страсти, противится лучшим стремлениям души и осиливает их в огромном большинстве людей. Есть зло общественное… есть, наконец, зло физическое» (547). В борьбе со злом индивидуальным, кроме совести и ума, потребно «вдохновение добра, или прямое и положительное действие самого доброго начала на нас и в нас. При таком содействии свыше и ум и совесть становятся надежными помощниками самого добра, и нравственность вместо всегда сомнительного „хорошего поведения“ становится, несомненно, жизнью в самом добре… чтобы завершиться живым единством воскресшего былого с осуществляемым будущим в том вечном настоящем Царстве Божием, которое хотя будет и на земле, но лишь на новой земле, любовно обрученной с новым небом»[21].
Теперь обратимся к характеристике учений противоположного типа. Общею чертою их является оптимистическое понимание человеческой природы и отрицание или же игнорирование и ослабление силы зла и греха. В греческой антропоморфной религии вырабатывается эстетический идеал человека, фактически стоящий вне этики, «по ту сторону добра и зла», и состоящий в гармоническом развитии естественных способностей человека, в годности или добротности (καλοκἥγαθ῎α[22]). Отсюда гармония и мера есть общепризнанный принцип всей греческой этики; он выражает собою, можно сказать, основное самочувствие эллинизма. И позднее, в эпоху Возрождения, когда снова открыта была языческая древность, с особенным торжеством воспринята была эта эстетическая этика[23], эта влюбленность в натурального человека, из которой, до известной степени, и выросло искусство Ренессанса. Вторая особенность античной этики, которую надлежит здесь отметить, это – ее интеллектуализм, связанный с убеждением, что зло есть заблуждение, а добродетель поэтому есть предмет обучения. Корень зла из сердца и воли перемещается в разум, причем тем самым отрицается коренная поврежденность человеческой природы. Это понимание нашло свое выражение у величайшего праведника древности – Сократа[24]. «Никто не счастлив, никто не блажен против воли» и «никто не порочен добровольно». Без правильного знания невозможно и правильное действие, причем там, где есть правильное знание, само собою разумеется правильное действие. Поэтому «все: и справедливость, и благоразумие, и мужество, – все это – знание» («Протагор»). Никто поэтому не является злым добровольно, потому что никто не хочет быть сознательно несчастным. В учении Сократа отрицается возможность слепой иррациональной воли к злу, или сатанизма, влечения к злу, даже вполне осознанному. И эта идея этического интеллектуализма – представление о человеке как о tabula rasa[25], на которой научением и воспитанием все возможно написать, – также глубоко воспринята в новое время и легла в основание многих современных теорий. Вера в гармонию человеческой природы, долго придавленная аскетическим мировоззрением средних веков, со стихийной силой и с победным торжеством вспыхивает в эпоху Возрождения, когда натуральный человек как бы открывает сам себя в своей красоте и силе. «Человек существует для самого себя» (Латини[26]), «человек может делать из себя все, что он хочет» (Альберти[27]), «природа нашего духа универсальна» (Пальмиери[28]), «человек стремится к тому, чтобы везде и всегда быть как бог» (Фицино[29]). Вот изречения[30], в которых отражается дух новой эпохи, ее вера и упование.
И этот дух все крепнет в дальнейшей истории, наибольшего напряжения достигая в новое время. Эпоха «просвещения» (Aufklarung), особенно XVIII век, с особенной страстностью исповедовала веру в естественного человека и естественное состояние. Этому человеку она приписывала способность непогрешимости в божеских и человеческих делах: ему доступны все истины религии и, ввиду наличности этой «естественной» религии, не нужна помощь сверхъестественного откровения, которое есть смесь пережитков и суеверий: ecrasez l'infame Вольтера становится боевым кличем эпохи, причем во время Великой французской революции это выразилось в прямом гонении на христианство и попытке заменить его естественной религией разума, или деизмом Робеспьера[31]. Человеку доступна и совершенная мораль, не нуждающаяся в религиозной санкции и черпающая свою силу в естественной гармоничности человеческой природы. Были перепробованы разные способы построения морали: и эстетической (Шефтсбери[32]), и симпатической (Фергюсон[33], Ад. Смит[34]), и эгоистической (Смит, позднее Бентам[35]), причем общею для них предпосылкою является вера в предустановленную гармонию человеческих сил и стремлений и полное забвение силы греха и зла. Общественная философия этой эпохи также определяется этой верой в естественное состояние, от которого хотя и отступает искаженная действительность «l'ordre positif», но которое надо восстановить в силе. Политики ищут неотчуждаемых прав человека, юристы – естественного права, вечного и абсолютного, экономисты – естественного состояния в области хозяйства – в этом пафос Руссо и Кенэ[36], Робеспьера и Ад. Смита. Забвение или незнание естественного порядка и нарушение его норм – вот главный и даже единственный источник зла – индивидуального и социального. Нужно «просвещение», чтобы его познать и восстановить, – отсюда вера в просвещение составляет пафос всей этой эпохи: интеллектуализм древности возрождается с небывалой силой. Естественно, что сознание этой эпохи хотя и не было совершенно нерелигиозным или антирелигиозным, но оно, несомненно, было нехристианским, ибо в основах своих отрицало главный постулат христианства – невозможность самоспасения и необходимость искупления.
XIX век внес в это мировоззрение то изменение, что отвлеченный и бесцветный деизм он заменил естественно-научным механическим материализмом или энергетизмом, а в религиозной области провозгласил религию человекобожия: homo homini Deus est (человек человеку Бог) – говорит устами Фейербаха самосознание эпохи. Какое учение о нравственной природе человека находим мы здесь? С одной стороны, здесь развивается мысль, что человек всецело есть продукт среды и сам по себе ни добр, ни зол, но может быть воспитан к добру и злу; при этом особенно подчеркивается, конечно, лишь оптимистическая сторона этой дилеммы: именно что человек при соответствующих условиях способен к безграничному совершенствованию и гармоническому прогрессу. С другой стороны, выставляется и такое мнение, что если у отдельных индивидов и могут быть односторонние слабости или пороки, то они совершенно гармонизируются в человеческом роде, взятом в его совокупности, как целое: здесь минусы, так сказать, погашаются соответственными плюсами и наоборот. Так учит, например, Фейербах. Очень любопытный и характерный поворот этой идеи мы находим у знаменитого французского социалиста Фурье[37], учение которого тем именно и замечательно, что в нем центральное место отведено теории страстей и влечений; в них он видит главную основу общества. Все страсти и влечения человека – учит Фурье – вложены Богом и сами по себе законны, здоровы и прекрасны. И только люди, не постигая целей Божиих, стали различать между страстями дурные и хорошие и подчинять их морали. «Долг происходит от людей, влечение исходит от Бога» (Le devoir vient des hommes, l'attraction de Dieu). Поэтому нужно решительно преодолеть старую мораль и считать все влечения полезными, чистыми и благотворными. Страстное влечение оказывается тем рычагом, которым Фурье хочет старое общество перевести на новые рельсы. Проблема общественной реформы к тому и сводится, чтобы дать гармонический исход различным страстным влечениям, поняв их многообразную природу, расположив их в гармоничные «серии» и группы, и на этом многообразии в полноте удовлетворяемых страстей основать свободное от морали и счастливое общество, которое овладеет в конце концов силами природы и обратит земной шар в рай. Большего доверия к природе человека, большего оптимизма в отношении к ней, нежели в социальной системе Фурье, не было, кажется, еще высказываемо в истории: проблески гениальности здесь соединяются с нравственным безумием, духовной слепотой и чудачеством. Нам нет нужды излагать в подробностях всю эту систему, облеченную в странную и запутанную форму. Для иллюстрации приведу только один пример, здесь особенно интересный: как разрешается вопрос об отношении полов? Конечно, для Фурье и половое влечение, подобно всякому другому страстному движению души, происходит от Бога, само по себе чисто и непорочно и подлежит удовлетворению в наибольшей полноте. «Свобода в любовных делах превращает большую часть наших пороков в добродетели». Хотя в будущем обществе и допускается «весталат», т. е. девство для желающих, но общим правилом является полная свобода в половых отношениях. Между мужчиной и женщиной устанавливаются отношения троякого рода; супругов, производителей (не более одного ребенка) и любовников, причем каждый волен осуществлять эти связи в разных комбинациях, по желанию; моногамия отвергается в принципе, ибо, конечно, моногамический брак имеет в своей основе аскетическое осуждение и подавление влечения к внебрачным связям, между тем как никакое влечение не должно быть подавляемо.
Однако даже Фурье в существующей дисгармонии страстей все-таки видит самостоятельную проблему, подлежащую разрешению, – большинство же других социалистов и общественных реформаторов не видят здесь даже и проблемы. Они рассматривают человека исключительно как продукт общественной среды: одни – экономической, а другие – социально-политической, и, значит, личность для них есть, в сущности, пустое место. Различаются в разных учениях только рычаги, которыми может быть сдвинут земной шар с теперешней своей орбиты: у Бентама это личная польза, у Маркса – классовый интерес и развитие производительных сил, у Спенсера – эволюция, у позитивистов – законы интеллектуального прогресса.
К какому же из этих двух типов следует отнести нравственное мировоззрение Л. Н. Толстого? Оно не укладывается всецело ни в один из них, но имеет черты, свойственные тому и другому. По основам своего понимания мира и человека Толстой должен быть отнесен, несомненно, ко второму типу, поскольку он разделяет веру в естественного человека, не поврежденного в своей основе и извращенного лишь ложным воспитанием – «соблазнами и обманами». Органом непогрешимости в человеке является его «разум», через который познается религиозная истина. Как известно, религиозное мировоззрение Толстого есть чистый, беспримесный рационализм, как он определился еще в век «просвещения» и свойствен так наз. деизму. И рационализм этот неизбежно соединяется с сократическим пониманием морали, т. е. с убеждением, что зло происходит вследствие незнания или заблуждения и поэтому ему можно научить. «Как только человек пробуждается к разумному сознанию, сознание это говорит ему, что он желает блага», и «чем яснее и тверже становится разум», тем упрочивается это «желание блага всему существующему»[38]. Поэтому-то так враждебно относится Толстой к идее откровения, а также к возможной сверх разумности вероучения. Для него все это суть «обманы веры»[39], «извращения» разума. Для того чтобы освободиться от обманов веры вообще, человеку надо помнить и понимать, что единственное орудие познания, которым он владеет, есть его разум[40]. «Вера – это знание того, что такое человек и для чего он живет на свете, и такая вера была и есть у всех разумных людей… Учения самых мудрых и доброй жизни людей все в главном сходятся к одному»[41]. Отсюда становится понятным его отношение к различным историческим религиям и, так сказать, его метод вероучения: из всех них он выводит за скобку то, что является общим для всех и соответствующим разуму, и это-то всеобщее и естественное вероучение считает истиной, не извращенной разными суевериями и обманами. Таково задание, по которому составлен «Круг чтения», этим определяется отношение Толстого и к христианству церковному, к которому он так враждебен, считая его вредным суеверием. Отсюда понятна и естественна его ожесточенная вражда к тому, что составляет самую основу жизни церковной, к учению о первородном грехе или, выражаясь по-кантовски, о радикальном зле в человеческой природе, а еще более об искуплении от греха Голгофской жертвой и о благодати, подаваемой Церковью в таинствах и молитвах. По его мнению, «догмат падения и искупления человека заслонил от людей самую важную и законную область деятельности человека и исключил из всей области знания человеческого знание того, что должен делать человек, чтобы ему самому быть счастливее и лучше»[42]. Религия Толстого есть существенно религия самоправедности и самоспасения разумом и разумным поведением, она несколько сближается здесь с учением Канта во второй его части, которая так мало согласована с первой. Из бесчисленных выражений этой враждебности к учению об искуплении и вере в Искупителя я приведу лишь одно, заимствованное из материалов, только недавно ставших достоянием публики. Я разумею изданную Толстовским музеем переписку Л. Н. Толстого с его теткой, гр. А. А. Толстой. Эта переписка, вместе с ее воспоминаниями, вообще говоря, представляет самое живое, интересное и ценное из биографических материалов о Толстом, и это объясняется тем, что на этот раз корреспондентка его сама представляла крупную и интересную личность, – порой она решительно заслоняет даже и своего знаменитого племянника. Кроме того, в отличие от большинства лиц, окружавших Толстого, с горячей дружбой она соединяет полную независимость и критическое отношение к нему. А. А. Толстая сознательно и убежденно принадлежала к Православной Церкви, и потому понятно, что, по мере того как Толстой все больше впадал в «толстовство», между ними обозначилось религиозное расхождение, которое находит выражение и в этой переписке, охватывающей период 1857–1903 гг. И, естественно, на первое место в этих разногласиях выступает и догмат искупления. Она рассказывает, между прочим, в своих воспоминаниях, как Толстой в 1897 году, при последнем их свидании в Петербурге, «без всякого к тому повода стал доказывать, что каждый разумный человек может спасать себя сам и что, собственно, ему для этого „никого не нужно“. Понять было нетрудно, кого он подразумевает под словом никого, – и сердце мое содрогнулось и заныло, как бывало»[43]. Она пишет ему по этому поводу, между прочим, следующее: «Сознание св. Павла: „Добра, которого хочу, не делаю, а делаю зло, которого не хочу“ (Рим. VII, 19), должно повторяться в душе каждого разумного существа. Да, я хочу добра, а моя греховная природа противится этому желанию на каждом шагу моей жизни. Кто же мне поможет победить эту двойственность, кроме благодати Св. Духа, которую Христос велит призывать и которую обещает ниспослать всем, просящим ее горячо и неотступно. Без этой помощи я впала бы в совершенное безумие, между тем как вы считаете возможным выполнить только силой собственной воли. По крайней мере, эта мысль встречается во всех ваших сочинениях… Как же нам, со всеми нашими недостатками, выполнить это божественное учение в его обширном смысле? Кто же загладит наши бесчисленные падения и ту массу грехов, совершенных нами прежде, чем мы дошли до сознания этого учения? Есть ли в нашем сердце довольно силы, чтобы возбудить в себе раскаяние, соответствующее нашему падению? Мы едва отдаем себе отчет в малейшей части того зла, которое переполняет нашу жизнь»[44]. «Из этого священного здания (церковного учения) нельзя выкинуть ни одного камня, не нарушая гармонии целого. Но выше, больше всего дорожу лицом Спасителя, Спасителя всего мира и личного моего Спасителя, без искупительной жертвы которого немыслимо спасение. Верю, что только общением с Ним посредством молитвы и причащения Его тела и Его крови могу очищаться от грехов, а силою Св. Духа укрепляться на пути к Его вечному царству… Церковь для меня сосуд, хранящий таинства, которые для меня и дороги, и необходимы… Мне кажется, – заключает А. А. Толстая, – что вы вдаетесь в то уже известное учение, которое отрицает Богочеловека, но признает человекобога»[45]. В ответных письмах Л. Н. Толстого обнаруживается весь тот упор, который в нем был именно против догмата искупления. Он пишет: «Если я точно в своей жизни делаю одно дурное и не делаюсь хоть на волосок лучше, т. е. не начинаю делать немножечко поменьше дурного, то я непременно лгу, говоря, что я хочу делать доброе. Если человек хочет точно не для людей, а для Бога делать хорошее, то он всегда подвигается на пути добра… жизнь вся есть движение по этому пути». Далее он ссылается на милосердие и всепрощение Божие, «на несуществование грехов перед Богом для человека, любящего Его», и даже приводит такой аргумент, чтобы отстранить идею искупления: «Не проще ли Богу прямо простить мои грехи?..» «Вы говорите, что помощь эта произошла 1880 лет назад, а я думаю, что Бог, каким был всегда, такой и теперь, и всегда оказывает помощь людям»[46]. На основании этих и других суждений подобного же содержания можно бы предположить у Толстого вообще слабое сознание греха и его ядовитой силы под предлогом Божия милосердия, иначе говоря, можно понять это как учение о милосердии Бога не к человеку, но к греху, что есть, конечно, скрытое безбожие, хотя оно нередко и проповедуется в качестве христианства. И однако в применении к Толстому это было бы несправедливо. Он слишком глубоко заглянул в человеческую душу, он слишком много познал опытом своей собственной жизни, чтобы вместе с оптимистами совершенно отвергать силу греха, провозглашать нравственное здоровье естественного человека. Напротив, ни в чем так не близок Толстой к христианству церковному, как в сознании греха, его силы и непобедимости, перед которой детским лепетом кажутся толки о самоспасении. Толстой слишком хорошо знал в надменном человекобоге грязного человеко-зверя. Вот как говорит он о грехе в последнем своем сборнике, «Путь жизни»: «Человек рожден в грехах. От тела все грехи, но дух живет в человеке и борется с телом. Вся жизнь человека – это борьба духа с телом. Большая ошибка думать, что от греха можно освободиться верой или прощением от людей. От греха ничем нельзя освободиться. Можно только сознавать свой грех и стараться не повторять его. Если же впредь отказываешься от борьбы, то отказываешься от главного дела жизни… Горе тому человеку, который скажет себе, что освободился от грехов»[47]. «Человек не зверь, не ангел, но ангел, рождающийся от зверя, – духовное существо, рождающееся от животного, и все наше пребывание в этом мире есть не что иное, как это рождение»[48]. В этом учении Толстой действительно переходит на сторону учений о «радикальном зле» в человеческой природе. Оставляя в стороне вопрос, насколько могут быть согласованы обе части этого учения, посмотрим, что же дает ему эта духовная зрячесть, ведающая силу греха и все человеческое бессилие до конца его побороть? Толстой, моралист и проповедник, не устает повторять, что самый путь борьбы с грехом исполнен чувства приближения к Богу и поэтому радостен, – о радости и покое как о чем-то уже достигнутом он нередко говорит по разным поводам. Например, в цитированном уже письме к А. А. Толстой мы читаем: «Движение это радостно, во-первых, тем, что чем ближе к свету, тем лучше; во-вторых, тем, что при каждом новом шаге видишь, как мало ты сделал и как много еще этого радостного пути впереди… человек, начавши эту истинную жизнь, всегда знает и может поверить, оглянувшись назад, что он как ни медленно, но приближается к свету и узнает это направление и в движении в этом направлении полагает жизнь».
В этом главный нерв религиозной проповеди Толстого и ее пафос: радость пути и радость сознания, как много этого пути осталось. Радость есть сила всякой религии. Радостью победило мир христианство в сердцах богоизбранных. Конечно, это совсем иная радость и об ином, нежели у Толстого, но настоящая радость о «Духе Святом» есть, может быть, единственный документ религиозной подлинности вообще. И Толстой хорошо понимал это, а потому он часто и настойчиво говорил о достигнутой им радости, как будто стараясь в этом кого-то уверить, может быть, раньше всех самого себя. Но что говорит нам об этом Толстой, великий художник?
Мы сказали уже, что художественные произведения можно рассматривать не только как таковые, но и как выражение души автора, ее самосвидетельство; в своем творчестве художник дает прежде всего самого себя; оно есть в этом смысле исповедь, своего рода духовная автобиография, дневник. И если взглянуть с этой точки зрения на два наиболее значительных произведения Толстого из числа увидевших свет после его смерти, именно «Дьявол» и «Отец Сергий», то о них особенно приходится сказать, что в них распахиваются глубины сердца, те глубины, откуда исходит высокое и низкое, где змеится порок, клокочет злоба, клубится отчаяние. И оба они суть вопль религиозного отчаяния и сомнения, в них слышится стон человеческого бессилия, безысходности, богооставленности.
Я видел ночь на сердце у тебя, И видел я, как змеи вились в нем[49]. (Гейне)Толстой приблизил источник света к той тьме, в которой ничего не различает не получивший религиозной зрячести глаз, но им осветилась лишь бездонная пропасть, раскрывающая погибельный зев свой. И вот почему ужасом и тоской напоены эти страницы и беспросветным кошмаром ложатся на душу. В отличие от тенденциозно задуманного, хотя и не удавшегося «Воскресения» в них уже никто не «воскресает», в них роковым образом гибнут человеческие души и в своем падении губят за собою и другие существования. Неодолимое могущество дьявола и бессилие добра – вот их подлинная тема. Человекозверь беспощадно душит человека – ив обыденной срединности и непритязательности, и на вершинах, где он мнит себя уже человекобогом. Здесь ставится поэтому та же вековечная проблема зла и греха в человеческой душе, и художественно разрешается она в самом пессимистическом смысле. Ужас жизни и ужас пред жизнью – вот истинная тема этих рассказов, это почти андреевщина: только здесь не манерная позировка, но подлинная душевная мука. Удушающим зноем веет с этих кошмарных страниц; они отравляют душу своей мукой, своей правдой, но и своей ложью, и в сравнении с их огненным языком каким-то лепетом кажутся уверения резонирующего проповедника о том, что все хорошо и радостно, и притом одинаково радостно сознавать и свое движение к идеалу, и дальность этого идеала, и длину оставшегося «радостного» пути (письмо к А. А. Толстой), – пусть бы только попробовал проповедник этими соображениями утешить своих героев в их падениях. Двум могучим страстям и соблазнам – демонам блуда и гордости – посвящены эти повести: «Дьявол» написан в 1889 году, т. е. в том же году, когда написана и «Крейцерова соната». Как и последняя, повесть эта вся насыщена знойной, палящей чувственностью, тревожащей и разжигающей; трудно даже представить себе, что эти вещи вышли из-под пера 60-летнего старика (сюда надо присоединить также страницы из «Воскресения», где описывается обольщение Катюши, и из «Отца Сергия», с описанием ночевки барыни и его падения), и надо сознаться, что при всей эротической взвинченности новейшей беллетристики мало в ней найдется страниц, напоенных такой кровяной и мучительной чувственностью, как эти, – даже и в ранних произведениях Толстого, где этот элемент почти нигде не отсутствует, не ощущается в такой степени ее злобное, адское пламя. По-видимому, мы имеем здесь дело с каким-то глубоким интимным переживанием.
Раньше, чем говорить о «Дьяволе», отметим в кратких словах, как вообще вопросы о поле и половой любви трактуются у Толстого. В его отношении к этому вопросу есть одна сторона, которую надлежит выделить как бесспорную: это – его проповедь возможной чистоты в отношении между полами, ригоризм в этике пола. Можно только благоговейно, с чувством глубокой благодарности преклониться пред этой могучей проповедью. Много незримого добра в душах посеяно им этой проповедью, многим, надо думать, помог он в борьбе с «дьяволом» похоти. Замечательно, что Толстой в тех сторонах своей проповеди, в которых она наиболее сильна и жизненна, бессознательно приближается к церковной этике, повторяет ее требования. В частности, и по вопросу о половом общении им совершенно разделяется аскетическая этика Церкви, которая, во-первых, девство ставит выше брака, а во-вторых, и брачную жизнь рассматривает как подлежащую известному аскетическому регулированию. Толстой, по своему обычаю, открывает открытые Америки, проповедует эти старые истины в «Крейцеровой сонате» (послесловие) в парадоксальной, преувеличенной и потому неприемлемой форме. В последнем же его сборнике, «Путь жизни», мы находим то же самое учение изложенным в более спокойной форме. Здесь читаем, например: «Хорошо жить в честном браке, но лучше никогда не жениться. Редкие люди могут ‹это›. Но хорошо тому, кто может. Неправда, что целомудрие противно природе человека. Целомудрие возможно и дает несравненно больше блага, чем даже счастливый брак. Христианское учение не дает одинаковых правил для всех[50]; оно во всем только указывает то совершенство, к которому надо приближаться; то же и в половом вопросе: совершенство – это полное целомудрие. Всякое же, посредством усилия, большее или меньшее приближение к половому целомудрию есть большее или меньшее исполнение учения. Брак оправдывается и освящается только детьми, тем, что если мы не можем сами сделать всего того, чего хочет от нас Бог, то мы хоть через детей, воспитав их, можем послужить делу Божию. И потому брак, в котором супруги не хотят иметь детей, хуже прелюбодеяния и всякого разврата. Неиспорченному человеку всегда бывает и отвратительно, и стыдно думать и говорить о половых сношениях. Береги это чувство. Оно недаром вложено в душу людей»[51]. Этика Толстого в половом вопросе ближе всего подходит именно к наиболее аскетической форме христианской этики, к монашеской, где борьба с полом ведется не на жизнь, а на смерть, а идеалом служит сверхполовое и внеполовое равно-ангельское состояние. Однако этот религиозный идеал у Толстого, как и в других случаях, обмирщается, превращается в одно лишь голое отрицание; оторванный от своей религиозно-мистической основы, он иссыхает в отвлеченную мораль. И потому все его стремление к преодолению пола получает односторонний, утопический, а вместе и бесплодный характер. Это станет ясно, если мы доктрину Толстого сопоставим с некоторыми другими учениями, прежде всего с учением Вл. Соловьева о «смысле любви», который в этике пола приближается до полного с ним совпадения на общей почве церковно-этического учения, но в вопросах метафизики пола составляет полную противоположность. В творчестве Толстого есть одна глубоко залегающая в нем черта, с течением времени все явственнее обозначающаяся, – это односторонность восприятия пола. Его собственное отношение к женщине колеблется между двумя полюсами: она или самка, отравляющая ядом чувственности («Крейцерова соната», «Дьявол»), сосуд дьявола, почти не человек, или же ‹она› есть отвлеченный человек, бесполое существо, не отличающееся от мужчины: «Всякая женщина для мужчины прежде всего должна быть сестрою, и всякий мужчина для женщины – братом»[52]. Поэтому для Толстого брак есть только несколько урегулированная форма разврата и вообще любви, помимо стремления к половому общению, нет и уж тем более нет женственности как космического и всечеловеческого начала, которое мистически «влечет к себе» (Гете) не половою страстью, но чистой и вечной влюбленностью; нет и тайны единения двух полов воедино, которая, как Церковь учит, совершается в браке во образ тайны Христа и Церкви, одним словом, нет любви сверхчувственной ни в браке, ни вне брака. Но именно только такая любовь и должна лежать в основе брака; ее сохранять и воспламенять мы призваны, и если она гаснет – под бременем ли духовного упадка или чувственности, – в этом больший грех, нежели в грехах и порывах чувственности. Но эта любовь, Афродита небесная, заключена и неразрывно связана с этим греховным и смертным телом, похотью, Афродитой земною, и с нею связана и тайна деторождения: «В беззакониях зачат есмь и во гресех роди мя мати моя»[53]. И в этой сплетенности, неразрывности, но и в то же время и различности обоих начал любви и лежит ее трагедия, та роковая, мучительная и противоречивая двойственность «идеала Мадонны и идеала содомского», на которую жаловался Достоевский, и эта трагедия любви не гармонизируема и не разрешима в пределах земной жизни; она обосновывает аскетику любви и подвиг любви, ее крест, о котором напоминает брачующимся Церковь в чине таинства брака песнью о мучениках. Эту двойственную природу любви и идеальные ее задачи выражал Соловьев в статьях своих «О смысле любви», и потому его аскетикаесть вместе с тем и апофеоз любви, «Песнь песней», в противоположность аскетике Толстого, где любовь совершенно убивается и мужчины и женщины превращаются лишь в братьев и сестер. В художественных произведениях у Толстого только изредка мелькает момент этой высшей, ясновидящей и верующей любви, чтобы тотчас же окончательно уступить место похоти. Ни Позднышев, ни Иртенев любви не знают вовсе, а в любви Нехлюдова к Катюше лишь вспыхивает и гаснет этот свет иного мира. «В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь Светлого Христова Воскресения». Да, это одна минута, но она говорит больше и громче, нежели годы, – в такие минуты люди родятся и умирают духовно.
В отношении Толстого к полу и к женщине есть нечто, приближающее его к Отто Вейнингеру[54], с одной стороны, и к В. В. Розанову – с другой. Вейнингер пришел к той же брезгливости к полу и отвращению к браку, которое необходимо приводит его и к проповеди о полном половом аскетизме и связанном с ним прекращении деторождения, личный же исход его драмы – роковое его самоубийство – всем известен. У Вейнингера этот вывод связан с таким откровенным отрицанием женственности, сведением ее к одной похоти и небытию, радикальнее которого не было высказано в литературе: здесь отрицается не только половое общение, но и любовь. Противоположный полюс, но в той же плоскости, занимает В. В. Розанов, который, вместе с Толстым, сущность любви сводит к половому общению, но, в противоположность Толстому и всему христианству, отрицает и осуждает чувство половой стыдливости и аскетизма и стремится восстановить языческую или же, как он ошибочно считает, ветхозаветную реабилитацию плоти, – притом даже в более радикальной форме, нежели делали это многие из язычествующих социалистов.
Между Толстым и Розановым в данном вопросе существует полное совпадение, остается только разница моральных коэффициентов: в том, в чем Толстой видит грех и падение, Розанов усматривает благо и норму; но эротический материализм, если позволено так выразиться, в понимании природы любви у них одинаковый и он одинаково враждебен романтизму любви. Пол у них совершенно приравнивается к сексуальности и ею исчерпывается. Отсюда понятно, что вся схема трагедии любви чрезвычайно упрощается; она сводится к борьбе с похотью и к падениям, понимаемым только в физическом смысле. Нельзя отрицать, конечно, что в этом пункте действительно сосредоточивается жгучесть загадок любви и ее коллизий, но к нему она отнюдь не сводится. Тем не менее у Толстого мы находим, по крайней мере в цикле произведений 80–90‑х годов, только такую, упрощенную и огрубленную, постановку полового вопроса; тот художественный эксперимент, который он производит, разрешая мучающую его проблему, включает лишь эти элементы, ставит ее в заведомо упрощенном виде. От этого насколько он теряет в содержательности и значении, настолько выигрывает в силе. Но никак нельзя принять эту упрощенную постановку вопроса, при которой нравственная жизнь или смерть, даже вопрос о бытии или небытии Божием, решается тем, может ли выйти победителем человек в борьбе с искушением пола. К счастью или несчастью, жизнь не так проста и в ней нет ни неизгладимых грехов, ни окончательно неисправимых положений.
Теперь обратимся к «Дьяволу». Конечно, всем известна эта небольшая повесть, бесспорно принадлежащая к числу художественных перлов творчества Толстого. Его сила и неотразимость заключается в необыкновенной, истинно гениальной простоте замысла и художественных средств; такая простота есть духовная роскошь, доступная лишь великому мастеру. И рассказывается в ней самый обыкновенный житейский эпизод о том, как молодой барин был в мимолетной связи с крестьянкой, но затем женился и считал прошлое преданным полному забвению, как вдруг это прошлое воскресает в нем с неотразимой, всеразрушающей силой: проснулась всепожирающая страсть к этой крестьянке, и она в конце концов побеждает все и приводит героя к преступлению и самоубийству или гибели (в двух вариантах). Оставляя в стороне целый ряд второстепенных, но великолепно вылепленных фигур, сосредоточим внимание на главном персонаже – Иртеневе и его драме. Если его физический облик был привлекателен, то «духовный облик его был такой, что чем больше кто знал его, тем больше любил… не одна мать любила его… товарищи его с гимназии и университета всегда особенно не только любили, но и уважали его. На всех посторонних он действовал так же. Он старается добросовестно заниматься своим делом, вести хозяйство, а в известном отношении хотя и не возвышается над средним уровнем, но проявляет застенчивую стыдливость и, во всяком случае, полное отсутствие цинизма. Даже и уступая животному влечению, он сознает, что «в глубине души был у него судья более строгий, который не одобрял этого, и надеялся, что это в последний раз» (14).
После женитьбы, давшей ему комфорт жизни, или «семейное счастье», которое описано с эпической насмешливостью, он считает совершенно поконченным прежнее, как вдруг, под впечатлением случайных встреч, вспыхивает старая страсть. С изумительной простотой и правдивостью описана борьба его с собой. «Он чувствовал, что теряет волю над собой, становился почти помешанным. Строгость его к себе не ослаблялась ни на волос; напротив, он видел всю мерзость своих желаний, даже поступков… Он знал, что только стыд перед людьми, перед ней, должно быть и перед собой, держал его. И он знал, что он искал условий, в которых бы не был заметен этот стыд… И потому он знал, что он мерзкий преступник, и презирал, и ненавидел себя всеми силами души… каждый день он молился Богу о том, чтобы Он подкрепил, спас его от погибели; каждый день он решал, что отныне он не сделает ни одного шага, не оглянется на нее, забудет ее. Каждый день он придумывал средства, чтобы избавиться от этого наваждения, и употреблял эти средства. Но все было напрасно» (40). Повесть кончается двумя вариантами: по одному – он убивает только себя, по другому же – Степаниду, а духовно и себя. Иртенев мечется в отчаянии перед преступлением: «Господи! Да нет никакого Бога. Есть дьявол. И это она. Он овладел мною. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол». И с этими мыслями он убивает ее. Так своеобразно истолковывается здесь евангельская заповедь, которая странным и непонятным образом поставлена эпиграфом повести: «Если глаз твой соблазняет, вырви его, если рука, то отсеки ее»[55]. Здесь уничтожается не рука и не нога, а самая жизнь: лучше смерть, чем жизнь во власти царящего в мире дьявола, и Толстой сочувственно, уже от себя, прибавляет: «И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной тогда, когда он совершал свое преступление, то все люди также душевнобольные. Самые же душевнобольные это, несомненно, те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят» (54). Едва ли не такой же оправдательный вердикт сквозит между строк и относительно Позднышева, сделавшегося жертвой того же дьявола. Такова мораль.
От мирового зла и страдания Шопенгауэр учит искать выхода в нирване, в умерщвлении воли к жизни; стоики учили мудрому и спокойному самоубийству, – но куда можно уйти от власти дьявола, освобождает ли от нее и самая смерть? С христианской точки зрения, нет более губительного греха и недуга, как отчаяние и уныние. Мне хочется в pendant[56] к толстовской повести привести здесь полный солнечной ясности и брызжущего смеха рассказ из «Трех разговоров» Вл. Соловьева о том, как два монаха из Нитрийской пустыни, оба строгие подвижники, попали в Александрию, там три дня и три ночи кутили с пьяницами и блудницами, а затем пошли назад в пустыню. Один всецело охвачен угрызениями совести и раскаянием, а другой идет и радостным голосом псалмы распевает, и когда первый стал упрекать его, что он не сокрушается о грехах, тот отвечает:
«– А о чем мне сокрушаться?
– Как! А Александрия?
– Что ж Александрия? Слава Всевышнему, хранящему сей знаменитый и благочестивый град!
– Да мы-то что делали в Александрии?
– Известно, что делали: корзины продавали, святому Марку поклонились, прочие храмы посещали, в палаты к благочестивому градоправителю заходили, с монахолюбивой доминой Леонилой беседовали…
– Да ночевали-то мы разве не в блудилище?
– Храни Бог! Вечер и ночь проводили мы на патриаршем дворе.
– Несчастный! А целовался-то с нами кто, чтобы о горшем умолчать?
– А лобзанием святым почтил нас отец отцов, благочестивейший архиепископ.
– Да что, ты насмехаешься, что ли, надо мной? Или за вчерашние мерзости в тебя сам дьявол вселился? С блудницами скверными целовался ты, окаянный!
– Ну, не знаю, в кого вселился дьявол: в меня ли, когда я радуюсь дарам Божиим и благоволению к нам мужей священноначальных и хвалю Создателя вместе со всею тварью, – или в тебя, когда ты здесь беснуешься…»
Дело кончилось тем, что один, впав в полное отчаяние о своем спасении, бросил пустыню, вернулся в Александрию, начал вести развратную жизнь и был казнен как преступник, второй же сделался прославленным святым. «Вот, значит, – прибавляет Варсонофий (от лица которого ведется рассказ), – все грехи – не беда, кроме одного только – уныния» (с. 495), «потому что из него рождается отчаяние, а отчаяние – это уж, собственно, и не грех, а сама смерть духовная» (491). «Не вижу я, – писал Соловьев о толстовстве здесь же, – признаков вдохновения добра… не вижу также радостного и благодатного спокойствия в чувстве обладания этими дарами, хотя бы только начальными… Если добро исчерпывается исполнением „правила“, то где же тут место для вдохновения?» (551).
В церковном учении и аскетической литературе твердо установлено мнение, что человек своими силами, без помощи благодати, подаваемой Церковью, не в силах победить в себе грех вообще и, в частности, одолеть злую похоть. «Ибо не чувствовать жала плоти некоторым образом значило бы пребывающему в теле выйти из плоти и облеченному бренною плотию стать выше природы. И потому невозможно человеку, так сказать, на своих крыльях взлететь к столь высокой небесной награде, если благодать Божия даром целомудрия не возведет его от грязи земной»[57]. «Истребить в собственной плоти нечистое вожделение – это есть большее чудо, нежели изгнать нечистых духов из чужих тел; избавить собственное сердце от мучительных недугов уныния – это гораздо важнее, нежели исцелить телесные немощи и болезни другого»[58]. Так учит Церковь, и вот почему нет для нее учения более чуждого и неприемлемого, нежели о самоспасении и самоправедности, которое как раз именно и составляет пафос проповеди Толстого. Но в повести «Дьявол» он делает как бы художественную проверку именно этого своего учения, и, мне кажется, не может быть более уничтожающей критики учения о самоспасении и самоправедности, нежели эта художественная самокритика. Ибо художественный эксперимент этот с математической самоочевидностью приводит к проклятию жизни, отвержению мира как царства дьявола и к самоубийству как единственно достойному выходу: или пистолет, или Распятие – как это осознано было в душе Гюисманса[59]. Известный пессимизм как следствие остроты ощущения греха и зла есть необходимая стадия религиозного прозрения – нужно сознать всю бедственность своего положения, чтобы искать из него исхода, и пока блудный сын еще доволен своею жизнью «в стране далекой»[60], он не встанет, не пойдет к своему отцу. Но если одним этим прозрением дело исчерпывается, неизбежно наступает отчаяние вместе с сознанием своего бессилия. Это предрассветное состояние человеческой души и изображено в повести «Дьявол»; в этой ее односторонности ее сильные и слабые стороны, ее правда и ее кощунственная ложь, ибо если правдиво это изображение трагедии греха, то богохульно это проклятие мира.
«Отец Сергий» как художественное произведение является гораздо менее цельным, чем написанный «залпом» «Дьявол», и вообще стоит много ниже его. В нем прежде всего имеется дидактический элемент – вся последняя часть, именно рассказ о жизни о. Сергия после бегства из монастыря, приписанный через 7 лет (1898 г., а вся повесть написана в 1890 и 1891 гг.), который поэтому имеет столь же мало художественной убедительности и жизненности, как заверения о «воскресении» Нехлюдова и начавшейся у него новой жизни, и эта развязка ослабляет силу и значение самого рассказа. Кроме того, надо еще выделить некоторые сторонние элементы, чтобы понять действительный его смысл. О. Сергий изображен монахом, старцем затворником и чудотворцем, и на этом фоне разыгрывается его душевная драма. И можно ее понять поэтому как критику церковного христианства в его наиболее сильном представителе. Однако и такое истолкование надо отвергнуть – если этот замысел, при постоянной враждебности Толстого ко всему церковному, временами и дает себя чувствовать, то это только мешает свободной разработке его настоящей темы. Совершенно ясно, что в образе о. Сергия нет ничего общего с теми образами старцев, с которыми сроднилась русская народная душа, и не о старце же Амвросии Оптинском, отражение которого мы имеем в Зосиме Достоевского, говорит нам этот образ. Здесь не Оптина пустынь, но Ясная Поляна, и через мантию монаха здесь слишком просвечивает всем известная блуза. Одним словом, при всей православной внешности о. Сергия из него удалены все действительные элементы православного старчества, и нетрудно понять, как много прямо автобиографического вложено в эту повесть. Поэтому при обсуждении ее жизненного смысла следует прежде всего совершенно отвлечься от мысли, что здесь изображается церковный религиозный опыт, которого Толстой не понимал, не знал и знать не хотел, а потому не мог изображать. Нет, это терзание одинокой, оторвавшейся от Церкви, отъединенной от всего мира души, на которую налегла страшная тяжесть греха и искушения. Имея славу святого, но без всякого подлинного духовного опыта, о. Сергий ведет отчаянную и непосильную борьбу с демоном гордости, изнемогает в бессильном стремлении получить дары любви и застывает в холоде богооставленности, безблагодатности. Эпиграфом к этой повести можно бы поставить слова ап. Павла: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне никакой пользы». От холода себялюбия изнемогает о. Сергий, и кто хочет видеть в этом образе хоть какое-нибудь отношение к православному иночеству, пусть спросит себя по совести, имеет ли он хоть какое-нибудь сходство с этими богоносными светильниками, чистыми сосудами любви, как Тихон Задонский, Серафим Саровский, Амвросий Оптинский?..[61] Все они вскормлены совсем иным религиозным опытом, чем о. Сергий, им чужд тот дух самоправедности, тот идеал самоспасения, которым живет этот монах-толстовец, яснополянский аскет; они видели в любви только дар благодати, чудо, более громовое, нежели сведение огня с неба. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 2–3).
Я предполагаю, что читателю памятна внешняя фабула «Отца Сергия». Поступил он в монастырь не из любви к Богу и стремления к уединению, как вступают в него истинные подвижники, но по мотивам поруганной гордости, как бы мстя кому-то и желая что-то показать, – и эта гордость есть тот скрытый внутренний упор, который и держит его на аскетическом пути. В нем отсутствует совершенно то внутреннее смирение, без которого нет истинного иночества, да нет и самого христианства, и когда он бичует себя, то это – самобичевание бессильного гордеца, а потому душу его тяготит чувство пустоты, какого-то духовного безвкусия, мертвенности, на этой почве поднимаются страшные искушения, и в конце концов губит его демон блуда, как это изображено в короткой и отвратительной сцене его падения. Но не этот демон – герой этой пьесы, как объясняет и сам Толстой: «Борьба с плотью тут эпизод или, скорее, одна ступень; главная борьба с другим – со славой людской». Или, как читаем в самом рассказе: «Источников борьбы было два: сомнение и плотская похоть, и оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разных врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась и похоть» (20). Но главный враг, который побеждает о. Сергия, – все-таки гордость, самолюбование и желание славы. «Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелениями, как ему говорили, либо поучениями, – он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание Божественного света истины, горящего в нем. „Насколько то, что я делаю, для Бога и насколько для людей?“ – вот вопрос, который постоянно мучил его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для Бога деятельностью для людей» (31–32). «Он спросил себя, любит ли он кого… испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче… Ему приятна, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него и теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты» (39). Таковы признания этой гордой, холодной, стоической добродетели, вымогающей у Бога чудо личным усилием своим, но забывающей, что «мытари и блудницы пойдут в Царствие Божие» (Мф. 21, 31–32) вперед самоправедных фарисеев. О. Сергий представляет собой то неоднократно описывавшееся в духовной литературе состояние, которое именуется «прелестью» и из которого бывают так легки и опасны губительные срывы. И конечно, о. Сергий, павший и осознавший это падение и в нем смирившийся, ближе к Богу, нежели горделивый затворник-чудотворец, а еще ближе, конечно, простая, любящая, самоотверженная, так тепло и ярко изображенная Пашенька.
Жизненный смысл и этой повести такой же, что и предыдущей: ясное сознание силы зла и греха без духовной опоры вне себя, без покаяния и отпущения грехов, без благодатной помощи и возрождения ведет или к духовному одеревенению, «нечувствию» и самообольщению, или же к отчаянию. И почти одними и теми же словами выражаются затаенная боль и мука религиозного бессилия и отчаяния как в «Дьяволе», так и в «Отце Сергии». После падения и убийства дочери купца в душе о. Сергия звучит одно: «Да, надо кончить. Нет Бога. Как кончить? Броситься?.. Повеситься?.. Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся, хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было – Бога не было» (41).
Мы чувствуем, как бессильны, бледны и даже неуместны отвлеченные рассуждения в противопоставлении художественным образам. Художника можно поверять только художником. Вот почему мы, естественно, склонны искать спасения от этого кошмара под духовным кровом другого великого художника, который, во всяком случае, уж не меньше Толстого знал глубины зла и греха, не меньше искушен был неверием и сомнением, однако в борьбе, в которой Толстой пал побежденным, он выходил победителем, хотя и весь в крови от ран. Конечно, я разумею Достоевского, в частности последнюю исповедь его души и посмертное завещание – «Братья Карамазовы». Если рассматривать и это произведение прежде всего как художественную повесть о самом себе, или самосвидетельство, как мы рассматривали и произведения Толстого, то нельзя не увидеть, что при всем колоссальном различии между «Братьями Карамазовыми» и серией последних художественных произведений Толстого: «Дьявол», «Отец Сергий», «Воскресение», «Крейцерова соната» и др. – они имеют одно и то же содержание, именно: в них изображаются борения человеческого духа на пути его к Богу, художественно раскрывается тайна духовного рождения и смерти, со всею мучительною трудностью непосильной для человека борьбы с демонами, соблазняющими душу. Поэтому-то их и можно рассматривать в известном смысле как духовную автобиографию. В частности, персонажи «Братьев Карамазовых», помимо прямого своего смысла, имеют и символическое значение, олицетворяя борьбу противоречивых сил в человеческой душе, раздираемой их борьбой. Если Толстой рассказывает нам о демоне блуда в «Дьяволе» и «Отце Сергии», то Достоевский дает изображение демона сладострастия в лице Федора Карамазова, которого, как будто чтобы подчеркнуть самобичующий характер этого образа, наделяет своим собственным именем. Но та же отрава струится в крови и всех его сыновей – не только Дмитрия, готового на преступление и гибель, но и, по тонкому замечанию Смердякова, у философа Ивана, и даже у смиренного и чистого послушника Алеши, который без слов понимает очень большие тонкости по этой части (разговор с Дмитрием). Также и религиозным сомнениям дано у Достоевского универсальное выражение – бунта против миропорядка, неприятия мира вследствие царящего в нем зла. Если у Толстого в моменты обострения религиозных сомнений мир отдается дьяволу, то Иван Карамазов, не отвергая существования Бога, не принимает Его творения, мира, и «почтительнейше возвращает билет». Это не отчаяние, охватывающее в момент падения, но сознательный, глубоко продуманный и выстраданный бунт во имя искренности и любви к правде, нежелание принимать на себя роль друзей Иова и становиться адвокатом Бога. И яд сомнений Ивана оставляет след даже в душе Алеши, от них, казалось бы, достаточно забронированной, как это вдруг обнаруживается в трудную минуту, когда после смерти старца не оказалось столь страстно желаемого им нетления. Этот же яд проникает и в душу Дмитрия, когда он уже в остроге и готовится «принять страдание». От него не гарантирован никто, и потому каждый должен сам достигать к нему иммунитета. Но этому смятению и тьме здесь противостоит спокойный и ясный свет пригородной обители; бок о бок со стариком Карамазовым в романе, и, конечно, в душе автора, живет благостный старец Зосима, через которого просвечивает нам так много родимого, народного, святого, – pater seraphicus, как, очевидно, вспоминая вторую часть «Фауста», назвал его Иван. И Зосима окружен духовно близкой к нему братией и верующим народом. Невольно напрашивается здесь на противопоставление – описание народа в «Отце Сергии» и в «Братьях Карамазовых» («Верующие бабы»). «Тут были странницы, – читаем в „Отце Сергии“, – всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся пред всякой святыней и всяким старцем. О. Сергий знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип. Тут были странники, большею частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться; тут были и серые крестьяне и крестьянки со своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах: о выдаче дочери, о найме лавки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного и прижитого ребенка. Все это было давно знакомо и неинтересно о. Сергию». А теперь припомним залитую небесным светом сцену старца Зосимы с бабами, чтобы почувствовать этот контраст восприятий, тем более поразительный, что и Толстой и Достоевский имели перед собой один и тот же объект наблюдения, народную толпу вокруг оптинского старца о. Амвросия. Пусть вспомнят эту бабу, оплакивающую своего младенца, женщину, душу которой разъедает грех, веселую и счастливую бабу, жертвующую свои гроши. И вообще, если в повести Толстого сгущается тьма и опускается мрак, словно в каком-то подземелье, и нет просвета и преодоления, то в романе Достоевского свет и тьма, сочетаясь и подчеркиваясь в какой-то своеобразной гармонии и ритме, взаимно ограничиваясь, тем самым определяют друг друга. Старец Зосима показывает на себе, что может выйти в конце долгого и трудного очистительного пути из той человеческой стихии, которая старческим сладострастием клубится и пенится в душе Федора Карамазова и разрушительной страстью злится в душе Дмитрия. И в ту роковую ночь, в которую решаются судьбы всех главных действующих лиц, когда убитый старик Карамазов лежит, поверженный, в своем доме, а в келье монастыря покоятся мощи только что почившего о. Зосимы, когда Ивана и убийцу Смердякова с новой силой гложет демон сомнения и гордости, а Дмитрий вакхически отдается оргийности своей природы, в эту самую ночь Алеша, только что переживший страшный приступ религиозного сомнения, с трепетом повергается на землю и встает новым человеком, ощутив в душе нити иного мира. Все силы души напряжены, ни одна не дремлет – действуют демоны, но бодрствуют и ангелы, а над ними милосердный и любящий Бог. То же говорит верующим бабам о. Зосима: «Ничего не бойся, никогда не бойся и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе – и все Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого не простил бы Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью любовь… Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и в грехе тебя любит… На людей не огорчайся, за обиды не сердись… А будешь любить, то ты уже Божья… Любовью все покупается, все спасается. Уж коли я, такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, кольми паче Бог. Любовь – такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся».
Ступай и не бойся – вот то твердое слово религиозного спокойствия среди ужасов жизни, в котором каждый нуждается и которого так и не мог сказать для себя Толстой. А кто же решится сказать, что Достоевский менее глубоко познал ужас жизни, бездны в душе человека и проклятие в судьбе его? И демон сладострастия был ведом Достоевскому в еще более тонкой форме, чем Толстому. Ибо это не грубая кровяная чувственность от избытка здоровья, оголенное влечение самца к самке, к которому, в сущности, сводятся все ресурсы этого демона у Толстого, нет, здесь присоединяется еще мучительная загадка красоты и женственности, ее воплощающей. Каким образом красота, которая неотразима и божественна, может служить приманкой и одеждой греха, и рядом с «женою, облеченною в солнце», воцаряется «вавилонская блудница»? Эта трагедия раздвоенности красоты, в которой, может быть, глубже всего выражается мировая трагедия, всегда мучила душу Достоевского, как об этом свидетельствует его творчество; демон сладострастия как бы крадет красоту, пользуется этой всепокоряющей силой: «Сладострастие – буря, больше бури! Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, и определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут… Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, что, уже с идеалом содомским в душе, не отрицает идеала Мадонны… В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей… Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей!»[62] Это уже не элементарно-животный соблазн, который почти исключительно имеет в виду Толстой, это соблазн самой красоты, а она, по непреложному верованию Достоевского, все же «спасает мир», который «во зле лежит».
В этой великой Одиссее духа, которая называется «Братья Карамазовы», раскрыты язвы и гнойники сердца, смрад греха и надрывы гордости, обнажены трагические противоречия, живущие в душе человека. «В бездне греховной валяяся, милосердия Твоего призываю бездну» – взывает словами церковной песни человеческая душа, осознавшая всю силу и глубину греха. «Верую, Господи, помоги моему неверию» – трепетно молит она же, испуганная силою зла. И слышит ответ: «Да не смущается сердце ваше и не устрашается, веруйте в Бога и в Меня веруйте»[63]. И слова эти были услышаны и глубоко залегли в душе Достоевского, – ими проникнуто все его творчество. Если поставить вопрос, как же примиряются и находят разрешение мировые и жизненные диссонансы в его творчестве, мы должны ответить: логически они непримиримы, ибо такая задача абсолютно превышает силы смертного, – никому не дано ее разрешить, оставаясь в смертном теле, и вот почему лишь «благочестиво лгут» «адвокаты Бога», изготовляющие различные слащавые теодицеи. Мир во зле лежит, в нем есть ужас, мрак, тление, он в руках «князя мира сего». Но если эти антиномии или конфликты неразрешимы, зато они преодолеваются – в религиозном опыте святых, видящих мир в свете его будущего идеального состояния «добро зело». Они преодолеваются и каждым из нас в меру личного религиозного опыта, поскольку реальность иного мира ощущается для него наряду с реальностью мирового зла. Преодолеваются и в творчестве Достоевского, ибо Федору Карамазову в художественном образе, а стало быть, и в душе автора – противостоит благостный старец Зосима, Ивану и Дмитрию с неугомоном страстей их – ясный Алеша, а философии Смердякова и черта, приходившего к Ивану Федоровичу, противостоят поучения старца Зосимы. Поставленные рядом, все эти образы и идеи представляют противоречие и диссонанс, но очевидно, что автор находит в своей душе точки опоры и для борьбы, и для побед. В чем же эта опора? В одном – в зримом или незримом, но всеми ощущаемом присутствии солнца, которым освещается и согревается творчество и душа Достоевского и которое с унылой безнадежностью отсутствует у Толстого, ибо им отринуто оно за ненужностью и упразднено с враждебностью, несмотря на сгущавшуюся тьму религиозного отчаяния. И это солнце есть живое чувство Христа, Лик Христов. Искусству Достоевского была вверена совершенно единственная и исключительная задача – являть этот Лик, будить живое чувство его, а когда живо это чувство, то призраком кажется зло мира, и не смущается и не устрашается наше сердце. Вспомните Его незримое, но осязаемое присутствие между Раскольниковым и Соней при чтении рассказа о воскресении Лазаря или аналогичные страницы в «Бесах» и «Подростке», вспомните явление Его в «Легенде о Великом Инквизиторе»: возможно ли представить хотя что-либо подобное у Толстого, отвергшего Учителя под предлогом «учения». Припомним «Кану Галилейскую»[64], духовный центр всего романа «Братья Карамазовы», да и всего творчества Достоевского, – этот вдохновенный религиозный гимн.
У гроба любимого старца читают Евангелие. Алеша, истомленный переживаниями дня, в полусне слушает чтение. «Это Кана Галилейская, первое чудо… Ах это чудо, это первое чудо! Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый раз сотворяя чудо, радости людской помог… Кто любит людей, тот и радость их любит… Это повторял покойник поминутно, это одна из главнейших мыслей его была… Без радости жить нельзя – говорил Митя… Все, что истинно и прекрасно, всегда полно всепрощения – это опять-таки он говорил…» «И снится ему, что раздвигается комната… брак, свадьба… И из-за стола встает к нему навстречу он, любимый отец и учитель… „Тоже, милый, тоже зван и призван, – раздается над ним тихий голос… – Веселимся, – продолжает сухонький старичок, – пьем вино новое, вино радости новой, великой… Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот я и здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке… Что наши дела?.. А видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его?“ – „Боюсь, не смею глядеть“, – прошептал Алеша. – „Не бойся Его. Страшен величием перед нами, ужасен высотой Своей, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрестанно зовет, и уж во веки веков. Вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут…“ Что-то горело в сердце Алеши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его… Он простер руки, вскрикнул и проснулся».
В лучах этого Солнца тонет человеческая скорбь, и тает лед греха, и «не смущается и не устрашается» сердце, но вне его холод и мрак… Мы достигли здесь центрального пункта, из которого расходятся пути Толстого и Достоевского, в котором они противополагаются друг другу. Это – две совершенно разные религии, два разных чувства мира, два ощущения зла и добра в мире и в человеке. Одна есть религия живого Христа-Спасителя, в котором «обитает вся полнота Божества телесно»[65], другая есть учение, отделенное от своего живого источника, превращенное в доктрину и навьюченное, как долг, на слабые плечи человека. Здесь существует глубокая противоположность, и притом до конца осознанная. Достоевский сразу в «Дневнике писателя» отметил новый курс Толстого, приведший его в конце концов к так называемому толстовству, и поставил ему удивительно проницательный диагноз. А. А. Толстая в своих воспоминаниях рассказывает о своей беседе с Достоевским о Толстом: «Этот очаровательный и единственный вечер навсегда запечатлелся в моей памяти; я слушала Достоевского с благоговением: он говорил, как истинный христианин, о судьбах России и всего мира; глаза его горели, и я чувствовала в нем пророка. Когда вопрос коснулся Льва Николаевича, он просил меня прочитать обещанные письма громко… Вижу еще теперь перед собой Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: не то, не то! Он не сочувствовал ни единой мысли Л. Н.; несмотря на то, забрал все, что лежало писанное на столе – оригиналы и копии писем Льва. Из некоторых слов его я заключила, что в нем родилось желание оспаривать ложные мнения Л. Н.…Через пять дней после этого разговора Достоевского не стало»[66]. В свою очередь, и Толстой, хотя вообще и с похвалой говорит о Достоевском, однако к тому, что составляет в нем самую сущность, относится с нескрываемой антипатией. В дневнике В. Булгакова[67] встречаем, например, такие суждения о «мыслях» Достоевского: «Не сильны, расплывчаты… и потом какое-то мистическое отношение… Христос, Христос!»[68]. А согласно только что вышедшему дневнику Гусева, Толстой считал себя призванным и исправлять Христа: под 2 окт. 1907 года здесь записаны следующие его слова: «Прежде я не решался поправлять Христа, Конфуция, Будду, а теперь думаю: да я обязан их исправлять, потому что они жили 3–5 тысяч лет тому назад»[69].
А специально о «Братьях Карамазовых» приведен в дневнике Булгакова следующий отзыв: «Как это нехудожественно! Удивительно нехудожественно. Действующие лица делают как раз не то, что должны делать. Так что становится даже пошлым: читаешь и наперед знаешь, что они будут делать как раз не то, что должны, чего ждешь». И к этому сделана еще невероятная, прямо поразительная (искренняя ли) прибавка: «Я читал только первый том, второго не читал»[70].
Мы видели здесь и духовные плоды этих двух религий, веры Достоевского в живого Христа и веры в «поправленное» учение Христа. Надо выбирать. Заслонит ли для нас мрак души о. Сергия свет старца Зосимы, померкнет ли этот образ? Прав ли Иртенев в своем отчаянии до конца, ощущая в мире только дьявола, или же это есть высший грех и смерть души – последнее отчаяние? Мы не пойдем здесь за Толстым-художником, как не идем и за религиозным проповедником. Человек должен и из раненого сердца исторгать гимн радости, воспетый в звуках великим музыкальным гением в наиболее трагическую эпоху жизни[71] и повторяемый восторженно будущим каторжником Дмитрием Карамазовым. И повторим за ним: «Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекся Бог мой; пусть я иду в то же время вслед за чертом, но все-таки я Твой сын, Господи, и ощущаю радость, без которой миру нельзя стоять и быть… О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой жить человеку невозможно, а Богу быть, ибо Бог дает радость, это Его привилегия великая… И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость!»[72]
Сноски
1
«Дьявол» (1889–1900) и «Отец Сергий» (1889–1890) впервые были опубликованы В. Г. Чертковым в 1911 г.
(обратно)2
«Ерошка» – герой «Казаков» (1863); по предположению И. Б. Роднянской, Булгаков имел в виду повесть «Поликушка» (1863).
(обратно)3
Феофан Затворник (в миру – Георгий Васильевич Говоров; 1815–1894) – епископ Владимирский, затворник Вышинской пустыни.
(обратно)4
Августин. Исповедь. Кн. VI. Гл. 16.
(обратно)5
Там же. Кн. VIII. Гл. 5.
(обратно)6
Там же. Кн. VIII. Гл. 9.
(обратно)7
Там же. Кн. X. Гл. 4.
(обратно)8
Пелагий (360-после 418) – христианский ересиарх, монах-теолог, автор учения и инициатор движения пелагианства. Смысл первородного греха трактовал как проявление единичной воли, не наследуемой людьми. В 411 г. проповедовал в Африке и Палестине; ересь был осуждена на Карфагенских соборах (412, 416, 418 гг.) и утверждена в качестве таковой указом императора Гонория (418 г.). Последователь Пелагия Юлиан, епископ Эклянский, оппонент Августина Блаженного, был осужден за пелагианскую ересь на Ефесском соборе в 431 г., лишен кафедры и изгнан с родины. Подобная участь постигла и другого последователя Пелагия – Целестия. Подробный анализ августиновской концепции греха и искупления С. Н. Булгаков развернул в заключительном «Экскурсе» третьего тома «О Богочеловечестве» (Невеста Агнца. Париж, 1945. Раздел «Августинизм и предистинация». С. 587–621).
(обратно)9
Liberum arbitrium – свободный выбор; servum arbitrium – рабский выбор (лат.).
(обратно)10
Windelband. Geschichte der Philosophie. 2-te Aufl. 1900. 231–233. Ср. также: Loofs. Augustin, Pelagius und Pelagianismus, Semipelagianis‑mus (в «Realenzykl. f. prot. Theol. u. Kirche»); Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. 4-te Aufl. 1906. 3-te Haupttheil. Кар. I.
(обратно)11
Кант Иммануил. Религия в пределах только разума / Пер. Н. М. Соколова. ‹СПб., 1908.› Все цитаты сделаны по этому переводу.
(обратно)12
Сенека Луций Анней (ок. 5 до н. э. – 65 н. э.) – римский философ, поэт и государственный деятель, воспитатель Нерона. Соч.: О провидении. Керчь, 1901; Трагедии. М.; Л., 1932; Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. См. о нем: Фаминский В. И. Религиозно-нравственные воззрения Л. А. Сенеки (философа) и отношения их к христианству. Киев, 1906. Художественную актуализацию моральных установок и судьбы Сенеки предпринял современный историк и драматург Э. Радзинский в пьесе «Театр времен Сенеки и Нерона».
(обратно)13
Рим. З, 10–12.
(обратно)14
…в беседе с Никодимом. – Ин. 3, 1–6.
(обратно)15
Вот какими чертами обрисовывается у Канта это самоспасение: «Перемена мыслей есть именно исход из злого и вступление в доброе, совлечение ветхого человека и облечение в нового, так что субъект греха отмирает, чтобы жить для справедливости. Но в ней как интеллектуальном определении заключаются не два моральных акта, разделенных промежутком времени. Это только один-единственный акт, ибо отказ от злого возможен только при замене его добрым образом мыслей, который производит вступление в доброе, – и наоборот. Добрый принцип, следовательно, заключается как в отказе от злого, так и в усвоении доброго образа мыслей, и скорбь, которая правомерно сопровождает первое, совершенно исчезает из второго. Переход из испорченного образа мыслей в добрый (как „отмирание ветхого человека“, „распятие плоти“) уже сам по себе есть жертва и знаменует собой появление длинного ряда тех зол жизни, которые принимает на себя новый человек в образе мыслей сына Божия и только ради блага. Но за ним все-таки остаются и проступки прошлого, как совершенные, собственно, другим – именно ветхим человеком, – как наказание. Пусть он, следовательно, как бы физически есть тот же самый наказуемый человек и как такой должен быть судим перед моральным судом, значит и перед собственным, – но он все-таки в своем новом образе мыслей перед божественным судьей, перед которым решается его дело, морально совершенно другой, – и эта его чистота, как чистота сына Божия, которого он в себя восприял, или (если мы олицетворим эту идею) сам этот последний несет за него и за всех, которые в него (практически) веруют, как заместитель скверну греха – через страдание и смерть дает высшей справедливости удовлетворение, как избавитель и как адвокат делает то, что они могут надеяться явиться перед своим судьей как оправданные, но только так, что он это страдание, которое новый человек, когда он умирает для ветхого, должен взять на себя на всю свою жизнь, предоставляет представителю человечности как смерть, выстраданную раз и навсегда. – Здесь есть еще излишек над заслугой дел и заслуга, которая нам засчитывается из милости. То, что у нас в земной жизни (может быть, и во все другие времена и во всех мирах) всегда только состоит в простом делании, нам засчитывается, как будто бы мы здесь были в полном обладании ими, – на что, впрочем, мы не имеем никакого законного права, поскольку мы сами себя знаем, так что обвинитель в них прежде всего будет требовать обвинительного приговора; это, следовательно, всегда приговор из милости, хотя он вполне соответствует вечной справедливости, если мы освобождаемся от всякой ответственности ради этого блага в вере» (75–77).
(обратно)16
Собр. соч. Вл. С. Соловьева. Т. III. 270.
(обратно)17
Там же. 280–281.
(обратно)18
Там же. Т. VII. 48–50.
(обратно)19
Там же. 66–67.
(обратно)20
Петрарка Франческо(1304–1374) – итальянский поэт и мыслитель. Соч.: Автобиография. Исповедь. Сонеты. М., 1915; Книга песен. М., 1963; Лирика. М., 1981; Эстетические фрагменты. М., 1982. Сонеты, избр. канцоны… М., 1984. См. о нем: Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М., 1974.
Ниже цитируется соловьевское переложение Петрарки [ «Хвалы и моления Пресвятой Деве» (1883)].
(обратно)21
Там же. Т. VIII. 551.
(обратно)22
Термин греческой эстетики «калокагатия» («прекрасно-доброе»).
(обратно)23
См.: Wernle P. Renaissance und Reformation. Tubingen, 1912. 14–15.
(обратно)24
Zeller. Die Philosophie der Griechen. II Theil, I Abth.
(обратно)25
Tabula rasa – чистая доска (лат.).
(обратно)26
Латини Брунетто (ок. 1220 – ок. 1294) – итальянский писатель и юрист, автор трехтомной энциклопедии «Книга сокровищ» (опубл. на фр. яз. в 1863 г.), поэмы на итальянском языке – «Малое сокровище». Перевел трактат Цицерона «О нахождении» (ок. 1260). Данте считал его своим учителем и упомянул в 15‑й песне «Ада».
(обратно)27
Альберти Леон Батиста (1404–1472) – итальянский ученый, архитектор, писатель, музыкант, теоретик искусства. См. о нем: Леон Баттиста Альберти. М., 1977.
(обратно)28
Пальмиери Маттео (1406–1475) – итальянский ученый-гуманист.
(обратно)29
Фицино (Фичино) Марсилио (1433–1499) – итальянский философ, учредитель Платоновской академии во Флоренции, переводчик произведений классиков античной мысли и христианских авторов. Теолог и комментатор Писания. Толкователь философии Эроса и эстетики числа. Автор трактатов: «Платоновская теология о бессмертии души» (1469–1474); «О христианской религии» (1476).
(обратно)30
Wernle P. Op. cit.
(обратно)31
Робеспьер Максимильен Мари Изидор де (1758–1794) – политический мыслитель, деятель Французской буржуазной революции конца XVIII в. Казнен на следующий день после контрреволюционного переворота 27 июля (9 термидора) 1794 г. Сторонник «естественной религии». Инициатор культа «Верховного существа» (1794 г.). Соч.: Речь о всеобщей подаче голосов. Пг., 1917; Переписка. Л., 1929; Избр. произведения: Т. 1–3. М., 1965. См. о нем: Карлейлъ Томас. Французская революция: История (1837). М., 1991; Робеспьер Ш. Воспоминания. Л., 1925; Манфред А. З. Робеспьер – выдающийся деятель Великой французской буржуазной революции. М., 1958; Он же. Великая французская революция. М., 1983; Кожокин Е. М. Государство и народ. От Фронды до Великой французской революции. М., 1989; Философия и революция: Сравнив с достигнутым высокий идеал: (К 200-летию Великой французской революции). Ч. 1–2. М., 1989; Великая французская революция и пути русского освободительного движения: Тезисы докладов. Тарту, 1989; Великая французская революция и проблемы мировой литературы: Рефер. сб. обзоров. М., 1991.
(обратно)32
Шефтсбери Антони Эшли Купер (1671–1713) – английский философ, эстет и моралист. Деист, сторонник оптимистической космодицеи. Соч.: Эстетические опыты. М., 1975.
(обратно)33
Фергюсон Адам (1722/1723-1816) – шотландский философ, историк и политический мыслитель. Автор «Истории гражданского общества» (1767; СПб., 1817–1818. Ч. 1–3). Соч.: Наставления нравственной философии. СПб., 1804; Начальные основания нравственной философии. СПб., 1804.
(обратно)34
Смит Адам(1723–1790) – английский философ и экономист. Основной труд – «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776; рус. пер. – М., 1962).
(обратно)35
Бентам Иеремия (1748–1832) – английский философ и юрист, основатель утилитаризма. Автор трактатов: «Теория наказаний и наград» (1811); «Деонтология, или Наука о морали» (1834). Соч. (рус. пер.): Избр. сочинения. Т. 1. СПб., 1867.
(обратно)36
Кенэ Франсуа (1694–1774) – французский экономист, мыслитель-физиократ; один из авторов «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751–1780).
(обратно)37
Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) – французский утопист-социалист. Соч.: Избр. сочинения: Т. 1–4. М.; Л., 1951–1954.
(обратно)38
Толстой Л. Христианское учение. Изд. «Посредника», 1908. С. 13–14.
(обратно)39
Там же. С. 49 и сл.
(обратно)40
Там же. 55.
(обратно)41
Толстой Л. Путь жизни. Вып. 1: О вере. 15.
(обратно)42
В чем моя вера. 2‑е изд. 95–96.
(обратно)43
Толстовский музей. Т. I: Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. 1857–1903. СПб., 1911. Воспоминания А. А. Толстой. 71.
(обратно)44
Там же. 48–49.
(обратно)45
Там же. 325–326.
(обратно)46
Там же. 54–55.
(обратно)47
Путь жизни. Вып. 6: Грехи, соблазны, суеверия. 14–15.
(обратно)48
Христианское учение. 13.
(обратно)49
Цитируется стихотворение Г. Гейне (1797–1856) «Я не сержусь» из цикла «Лирическое интермеццо» (1821–1823).
(обратно)50
К сожалению, Толстой слишком редко вспоминает об этом, ибо именно на отрицании этого положения построены его уродливые теории опрощения, отрицания государства, просвещения и друг‹ие›.
(обратно)51
Путь жизни. Вып. 8: Половая страсть. 1, 10, 15.
(обратно)52
Там же. 1.
(обратно)53
В беззакониях зачат… – Пс, 50, 7.
(обратно)54
Вейкингер Отто(1880–1903) – австрийский философ, автор популярной в России книги «Пол и характер» (1903).
(обратно)55
Неточная цитата; Мф. 5, 29.
(обратно)56
Pendant – в дополнение (фр.).
(обратно)57
Писания пред, отца Иоанна Кассиана Римлянина / Пер. ‹с лат.› еп. Петра. ‹2‑е изд.› М., 1892. С. 76. (Иоанн Кассиан Римлянин (ок. 360-ок. 435) – преподобный, основатель монашества в Галлии, церковный писатель. В своей практике утвердил западный вариант пустынножительства. Соч.: Творения / Пер. еп. Петра. Изд. Пантелеймонова монастыря на Афоне, 1892. См. о нем: Феодор, архим. Аскетические воззрения препод. Иоанна Кассиана. Казань, 1902.)
(обратно)58
Там же. 446.
(обратно)59
Гюисманс Морис Карл (Жорж Шарль Мари; 1848–1907) – французский писатель-символист. Соч.: Поли. собр. соч.: В 3‑х т. М., 1912.
(обратно)60
…«в стране далекой»… – Ср.: Лк. 15, 13.
(обратно)61
Серафим Саровский [в миру Прохор Исидорович (Сидорович) Машнин; 1760–1833] – св., православный подвижник, проповедник. Канонизирован в 1903 г. См.: Летопись Серафиме-Дивеевской женской обители: Сочинение архим. Серафима (Чичагова). 2‑е изд. СПб., 1903.
(обратно)62
«Братья Карамазовы» (Кн. 3. Гл. 3) (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1972–1990. Т. 14. С. 100).
(обратно)63
«Да не смущается…» – Ин. 14, 1; 14, 27.
(обратно)64
Глава о Кане Галилейской в «Братьях Карамазовых» (Кн. 7. Гл. 4) (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 326–327).
(обратно)65
…«обитает вся полнота Божества телесно». – Кол. 2, 9.
(обратно)66
Толстовский музей. Т. I: Воспоминания гр. А. А. Толстой. 26.
(обратно)67
Булгаков Валентин Федорович (1886–1966) – мемуарист, секретарь Толстого с 1910 г. Автор книг «У Л. Н. Толстого в последний год его жизни» (М., 1911), «Христианская этика» (М., 1917), «Толстой – моралист» (Прага, 1923), драмы «На кресте величия» (Таньцзин, Б. г.). Соч.: Встречи с художниками. Л., 1969; Лев Толстой, его друзья и близкие: Воспоминания и рассказы. Тула, 1970; О Толстом: Воспоминания и рассказы. Тула, 1978.
(обратно)68
Булгаков В. У Л. Н. Толстого в последний год его жизни ‹М., 1911›. 118.
(обратно)69
Гусев Н. Н. 2 года с Л. Н. Толстым. ‹М., 1912›. 34.
(обратно)70
Булгаков В. Указ. соч. 317.
(обратно)71
Хор на слова оды Ф. Шиллера (1759–1805) «К радости» (1786) в Девятой симфонии (1823) Бетховена.
(обратно)72
Сборная цитата из «Братьев Карамазовых» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 99; Т. 15. С. 31).
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
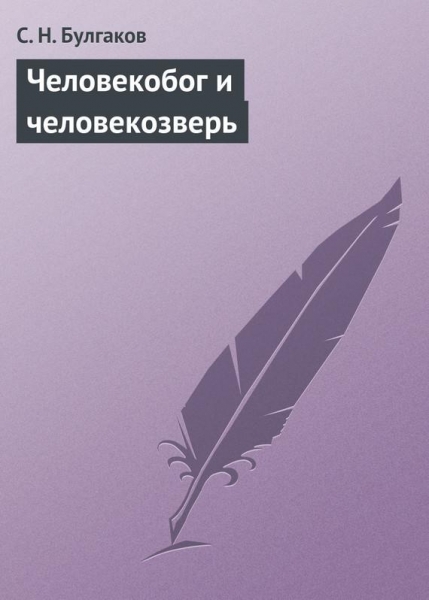
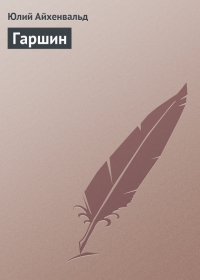
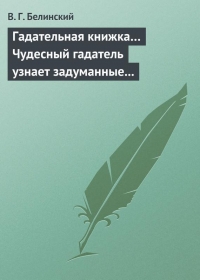

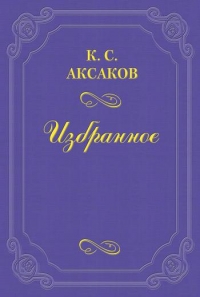

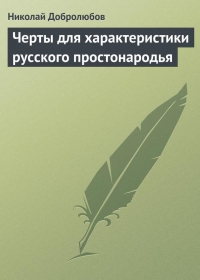
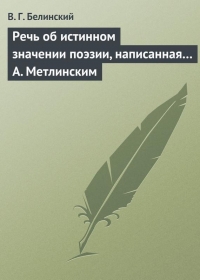

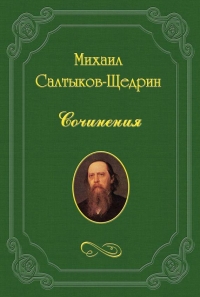
Комментарии к книге «Человекобог и человекозверь», Сергей Николаевич Булгаков
Всего 0 комментариев