Григорий Кружков Очерки по истории английской поэзии. Поэты эпохи Возрождения. Том 1
© Г. Кружков, автор, 2015
© Прогресс-Традиция, 2015
* * *
Предисловие Очерки по истории английской поэзии
Два тома «Очерков по истории английской поэзии» предлагают читателю целую галерею поэтов и их творческих судеб поэзии – на протяжении без малого пяти веков. Лишь восемнадцатый век – эпоха Просвещения – едва затронут (Кристофер Смарт, Уильям Купер); основное внимание уделено Золотому веку английской поэзии, каким не без основания считается век шестнадцатый, а также поэтам романтического и викторианского периодов.
Первый том почти полностью посвящен поэтам Возрождения, притом не только таким важнейшим фигурам как Филип Сидни, Шекспир и Донн, но и, например, Джон Скельтон, Джордж Гаскойн и другие, о которых у нас знают чрезвычайно мало.
Отдельный раздел, отданный Шекспиру, основан на опыте переводческой работы автора над поэмой «Венера и Адонис», пьесами «Король Лир» и «Буря». Предлагается, в частности, новая интерпретация сюжета «Короля Лира» с учетом календарных обрядов смерти Старого Года. Мнение о том, что сюжет «Бури» является одним из немногих оригинальных сюжетов у Шекспира, пересмотрено; показано, что он является перелицовкой сюжетов его собственных пьес. В статье о сонетах Шекспира сделан акцент на их неоплатоническом аспекте, рассмотрена возможность прямого или косвенного влияния итальянских гуманистов Марсилио Фичино и Джордано Бруно.
Следующий раздел рассматривает различные аспекты творчества Джона Донна на фоне исторической обстановки его эпохи. Здесь показывается, в частности, как атмосфера шпиономании в последнее десятилетие правления Елизаветы отражается в элегиях Донна; а также делается попытка объяснить происхождение его незаконченной поэмы «Путь души» (1601).
Второй том посвящен поэтам XIX века и первой трети XX-го. В разделе о романтических поэтах отметим обширный очерк о практически неизвестном у нас поэте-крестьянине Джоне Клэре. Большое внимание уделено крупнейшим поэтам викторианского периода Роберту Браунингу и Альфреду Теннисону.
Статья о прерафаэлитской школе в поэзии освещает малоизвестные у нас явления английской поэзии, в частности творчество замечательной поэтессы Кристины Россетти, сестры Данте Габриэля. Еще меньше известно в России творчество поэтов-декадентов 1890-х годов Эрнста Даусона, Лионеля Джонсона и других членов Клуба рифмачей, собиравшихся в лондонской таверне «Старый чеширский сыр». Статья об этом поэтическом сообществе приподнимает завесу над интереснейшей страницей английской культуры, известной нам, отчасти, по творчеству Оскара Уайльда и Обри Бердслея, отчасти по воспоминаниям Йейтса.
Отдельный раздел второго тома отдан поэзии нонсенса и его классикам Эдварду Лиру, Кэрроллу, Честертону и Беллоку, о которых автор пишет не только как о живом продолжении средневековой смеховой традиции, но и о явлении типично викторианском, отнюдь не только и не просто комическом.
Последний раздел второго тома посвящен поэзии XX века: главным образом поэтам неоромантического направления Киплингу, Йейтсу и Грейвзу и тяготеющим к ним, особенно в поздние годы, Одену. В этом разделе одной из центральных является статья о мифопоэтических системах Йейтса и Грейвза «Белая Богиня и Черный кентавр», предлагающая интерпретацию одного из самых темных стихотворений Йейтса.
Статьи обоих томов широко иллюстрируются стихотворными примерами. Можно сказать, что издание отчасти содержит в себе и хрестоматию, – разумеется, не полную и субъективную, но хрестоматии другими и не бывают. В данном случае она отражает личные пристрастия и прочие обстоятельства переводческой работы автора. Наконец, в книгу просочились и поэтические заметки на полях (marginalia), возникавшие в процессе занятий английскими авторами или в связи с ними.
Автор надеется, что его труд вызовет интерес не только специалистов и студентов-филологов, но и самого широкого круга читателей – любителей поэзии. Ведь жизнь поэта, легка ли она оказалась (очень редко) или тяжела (намного чаще) – всегда захватывающая драма и подвиг духа. Стихи читаются совсем иначе, когда мы знаем обстоятельства, вызвавшие их появление. Скрещение судьбы и поэзии высекает искры смыслов, ускользающих от внимания читателя, знающего только стихи либо только биографию.
Г. КружковВступление Английская монархия и английская поэзия в эпоху Возрождения
Шестнадцатый век – самый драматический в летописях Англии, самый славный в истории ее литературы. Есть ли в галерее английских монархов фигуры живописней, чем Генрих VIII и великая Елизавета? Есть ли победа более легендарная, чем разгром испанской Непобедимой Армады? Или поэт славнее Шекспира? За какие-нибудь сто лет страна на окраине Европы, раздираемая междоусобицами, превратилась в великую державу, готовую бороться за свое первенство на всех океанах, прошла путь почти от разбитого корыта до той Англии, которую вскоре по праву назовут «Владычицей морскою».
Английское Возрождение, в основном, совпало с эпохой Тюдоров. Точкой отсчета следует считать битву при Ботсворте (1485 год), в которой пал король Ричард III, пресловутый злодей из одноименной пьесы Шекспира. Так завершились войны Алой и Белой Розы. Оба куста, алый – Йорков и белый – Ланкастеров, оказались ощипанными до цветочка, и на престол взошел Генрих VII (1485–1509), родоначальник новой династии Тюдоров. Страна была обескровлена, знатные лорды перебиты, французские владения почти полностью утрачены. Ровно через семь лет после Ботсвортской битвы, в 1492 году, Колумб откроет Америку и начнется великая гонка за землями и сокровищами Нового Света. Большую часть этого жирного пирога на первых порах захватит Испания. Но Генрих Тюдор (отдадим ему справедливость), несмотря на свою вошедшую в поговорку прижимистость, уже тогда не жалел денег для развития английского флота. И результаты сказались – в годы царствования его славной внучки Елизаветы.
Не властолюбие королей, но сама логика вещей толкала страну, уставшую от раздоров, к абсолютной монархии. На это ориентировался уже Генрих VII, а еще больше – его сын Генрих VIII Тюдор (1509–1547). В конце концов он установил полную власть не только над государством, но и над английской церковью, провозгласив себя ее верховным главой (1534 г.). Это означало разрыв с римским папой, но здесь англичане уже не были первыми: антипапская Реставрация, начатая виттенбергским доктором богословия Лютером, к тому времени уже победила во многих немецких землях, а также в Голландии; со временем Англия все больше начнет ориентироваться на своих протестантских союзников в Европе.
Генрих VIII вошел в историю как деспот и «Синяя Борода» на английском троне. Это был властный и упрямый король, укрепивший и сплотивший страну, – но в то же время и расколовший ее по религиозному принципу, что еще отзовется век спустя, в эпоху Английской революции и гражданской войны. Он был отлично образован, поощрял гуманистические знания и ренессансную культуру; именно при нем молодому придворному сделалось неприлично не музицировать, не петь, не писать стихов. Но сей любитель искусств без жалости отправил на эшафот великого Томаса Мора, казнил графа Сарри и ряд других придворных поэтов. Венценосный рыцарь, сражавшийся на турнирах за честь прекрасных дам и собственноручно сочинявший для них мадригалы, он без долгих раздумий предал палачу свою жену королеву Анну Болейн, а потом и королеву Елизавету Говард; хорошо еще, что король казнил не всех своих жен (их у него было шесть), а только через одну.
Малолетний сын Генриха Эдуард VI, коронованный в 1547 году (это он описан в романе Марка Твена «Принц и нищий»), был неизлечимо болен и правил недолго. После него трон захватила дочь Генриха от его первого брака с Екатериной Арагонской, Мария Тюдор (1553–1558). Обвенчавшись с испанским принцем Филиппом, она резко развернула Англию назад, к католичеству. Если каких-нибудь десять лет назад казнили тех, кто оставался верным католической вере и не признавал королевского «Акта о супрематии», то теперь на костер и под топор палача десятками и сотнями пошли те, кто не хотел возвращаться под власть римской церкви. Неудивительно, что когда Мария Католичка умерла, многие англичане облегченно вздохнули. К власти пришла дочь Генриха VIII и Анны Болейн, двадцатипятилетняя Елизавета Тюдор (1558–1603), и началось одно из самых длинных царствований в английской истории.
Время показало, каким «Макиавелли в юбке» оказалась новая королева. Серьезно образованная, отлично знающая несколько языков, она к тому же обладала исключительными политическими и дипломатическими талантами. В то время существовало предубеждение против женщин на троне, но Елизавета сумела и этот «недостаток» обернуть к своей выгоде, превратить в козырную карту. Она предложила народу идею королевы-девственницы как символа мистического союза между монархиней и государством. Расчет был точный: женщина – это грешная Ева, от которой все беды, но дева – это Пресвятая Мария, от которой приходит спасение. Елизавета так и не вышла замуж, корона заменила ей брачный венец. Но притом – вот что любопытно! – оставаясь как бы обрученной с английским народом, королева на протяжении всего царствования вела переговоры о замужестве со многими европейскими властителями, используя себя как приманку, а предполагаемый брак как мощный рычаг политики, и мастерски, годами, водила за нос претендентов – в частности испанского короля Филиппа.
Постепенно и без резких движений Елизавета восстановила англиканскую церковь, по своим догматам и устройству осуществляющую некий компромисс между католичеством и лютеранством. При этом образовалось два крыла радикалов: католиков, сторонников папы, и пуритан, стоявших за полное освобождение от римских обрядов, – с каждым из которых государству пришлось в дальнейшем вести борьбу. Особенно опасными были католики, которых поддерживали не только континентальные державы, но и независимая от Англии Шотландия и примыкающие к ней северные графства. Елизавете пришлось опасаться шотландской королевы Марии Стюарт, своей кузины, которую северяне прочили на трон Англии. К счастью для Елизаветы, Мария запуталась в амурных интригах и, обвиненная в причастности к убийству своего мужа лорда Дарнли, вынуждена была бежать в Англию, где вскоре оказалась на положении пленницы. В 1586 году, когда Испания активно готовилась к нападению на Англию, тайная служба Елизаветы разработала и осуществила операцию (можно сказать, провокацию) по вовлечению Марии Стюарт в преступную переписку с Испанией и получила все необходимые ей улики. Шотландская королева была обвинена в заговоре против Англии, предана суду и казнена 8 февраля 1587 года. В следующем году испанская Непобедимая Армада из 134 кораблей с огромным экспедиционным корпусом на борту отплыла к берегам Англии, намериваясь раз и навсегда покончить с «королевой-еретичкой», но была решительно атакована английским флотом в проливе Ла-Манш, возле порта Кале. Разгром завершила буря, потопившая многие испанские корабли, лишь жалкие остатки Армады сумели вернуться на родину.
Победа над Непобедимой Армадой воодушевила англичан. Борьба против испанцев на море, имевшая до этих пор эпизодический характер, – вспомним пиратские подвиги Фрэнсиса Дрейка, произведенного Елизаветой в рыцари! – приняли характер настоящей морской войны: набеги на испанские колонии в Америке, захваты идущих оттуда в метрополию «золотых» и «серебряных» флотилий, нападения на портовые города в самой Испании (например взятие Кадиса в 1596 году). Английские добровольцы и регулярные части сражались в Нидерландах, помогая молодой Голландской республике противостоять тем же испанцам. Одновременно расширялась международная торговля. С 1554 года существовала Московская компания, каждое лето посылавшая свои корабли в Архангельск; в 1581 году была основана Левантийская компания для торговли с Ближним Востоком, а в 1600-м – знаменитая в будущем Ост-Индская компания. Англичане старались закрепиться и на берегах Нового Света. Сэр Уолтер Рэли совершил экспедицию в Гвиану, на берега реки Ориноко, где он искал золотой край Эльдорадо. По его же инициативе была основана первая английская колония в Северной Америке – Вирджиния.
Все эти новости, новшества и достижения становилось всеобщим достоянием – через королевские и парламентские указы, отчеты о путешествиях, листовки с балладами на злободневные темы, через театральное действо, наконец. Кругозор среднего англичанина резко расширился, страна почувствовала стоящей себя на большом историческом и географическом перекрестке; и не случайно, что именно эти годы патриотического подъема совпали и с годами бурного расцвета английского театра, поэзии и драматургии.
Первым английским ренессансным поэтом, в сущности, был уже Джеффри Чосер (1340?–1400) – современник Боккаччо и Петрарки. Его поэма «Троил и Крессида», наравне со стихами итальянцев, послужила непосредственным образцом для английских поэтов XVI века от Уайетта до Шекспира. Но наследники Чосера не сумели развить его достижения. Столетие после смерти Чосера было временем поэтического отката, затянувшейся паузы. Может быть, это связано с политической нестабильностью Англии XV века? Судите сами. В XIV веке – 50-летнее царствование Эдуарда III – и явление Чосера. В XV веке – чехарда королей, война Роз – и ни одного великого поэта. В XVI веке – 38-летнее царствование Генриха VIII и первый расцвет поэзии, затем – 45-летнее царствование Елизаветы и все наивысшие достижения английского Ренессанса, включая Шекспира. Получается, что для поэзии важна именно стабильность, если даже это жесткая власть или деспотия. Тут есть о чем задуматься.
Разумеется, для расцвета английской поэзии были и другие причины. Одна, вполне очевидная, – начало английского книгопечатания, положенное Уильямом Кэкстоном в 1477 году. С тех пор количество издаваемых в Англии книг росло в геометрической прогрессии, впрямую повлияв на подъем национального образования – школьного и университетского. Среди первых книг, напечатанных Кэкстоном, были и полузабытые поэмы Чосера, которые таким образом стали достоянием широкого читателя.
Впрочем, и в XVI веке развитие английской поэзии шло неравномерно: после казни графа Сарри в 1547 году наступила заминка на три десятилетия – до появления на поэтическом горизонте таких звездных имен, как Филип Сидни, Эдмунд Спенсер и Уолтер Рэли. Лишь в 1580-е годы начинается ускорение, и в последнее десятилетие елизаветинской эпохи – резкий взлет: Кристофер Марло, Уильям Шекспир, Джон Донн.
Английская культура Возрождения литературоцентрична. Увы, она не может похвастаться шедеврами живописи или скульптуры. Сказался ли тут недостаток солнца или преобладание воображения над наблюдением, характерные для народов северных лесов – германцев и кельтов, не будем гадать, но факт остается фактом: культурным героем англичан стал не художник, а поэт. Стихописание в Англии XVI века сделалось настоящей манией. Не говоря уже о том, что искусство поэзии считалось непременной частью рыцарских совершенств и в этом качестве распространилось при дворе и в высшем обществе, те же стихи – через школьное обучение, театр, через книги и баллады-листовки – вошли в быт практически всех грамотных сословий. Редко какой лондонский подмастерье не мог при необходимости сочинить сонет или хотя бы пару рифмованных строф. Стихами писали не только дружеские послания и любовные записки, но и книги ученые, назидательные, исторические, географические и так далее.
Век рифмачей; кругом так и кишат Стишки, стишки… нет спасу от стишат, –ехидно заметил Бен Джонсон. Конечно, стихоплетство – еще не поэзия, и количество не всегда переходит в качество… хотя в конечном счете все-таки переходит. «Век рифмачей» (a rhyming Age) оказался на своем пике веком поэтических гениев.
Стихи, как мы уже сказали, бытовали тогда на разных уровнях. Они могли служить средством общения или инструментом придворной карьеры – высокие вельможи не были нечувствительны к стихотворной лести; и в то же время поэзия осознавалась как искусство, то есть служение прекрасному. Но печатать свои стихи, то есть делать их достоянием посторонней публики, поэту-дворянину не подобало. Ни Уайетт, ни Сидни и пальцем не пошевелили, чтобы предать огласке свои стихи, их честолюбие не выходило за пределы узкого кружка знатоков, «посвященных».
Положение стало меняться лишь к концу века, когда в литературу вошло новое поколение литераторов-разночинцев. Стремясь заручиться поддержкой, они посвящали свои книги вельможам – покровителям искусств или самой монархине. Писатель-профессионал по сути своей не может существовать без материального покровительства – либо мецената, либо публики. Но книготорговля не была еще тогда достаточно развита, чтобы поэт мог жить (или просто выжить) на свои стихи. Только расцвет театров в шекспировскую эпоху дал поэту-драматургу подобную возможность. Такие писатели, как Шекспир и Джонсон, фактически использовали оба вида поддержки – властных покровителей и театральной толпы. Пройти между Сциллой и Харибдой удавалось немногим, писавшим только «для души»: к их числу отнесем, например, талантливейшего ученика Джона Донна, священника Джорджа Герберта.
Поэзия Ренессанса была тесно связана с монархией, с жизнью королевского двора. Первый крупный поэт тюдоровской эпохи Джон Скельтон был сперва учителем латыни принца Генри (будущего короля), а затем чем-то вроде придворного шута. Автора первых английских сонетов Томаса Уайетта романтическая легенда связывает с Анной Болейн, женой Генриха VIII; при падении несчастной королевы он лишь чудом избежал гибели. Джордж Гаскойн, лучший поэт середины века, всю жизнь старался обратить на себя внимание двора, войти в фавор правящей монархини – и умер, едва достигнув желанной цели. Филип Сидни, «английский Петрарка», после своей геройской смерти на поле боя был канонизирован как образцовый рыцарь и поэт, стяжал государственной пышности похороны и посмертные почести. Уолтер Рэли, широко известный как солдат, политик, ученый и мореплаватель, обладал также первоклассным литературным даром: стихи Рэли к «королеве-девственнице» принадлежат к лучшим цветам ее поэтического венка. Елизавета и сама посвящала стихи своему любимцу, верному «Сэру Уолтеру». Увы, после смерти старой королевы колесо Фортуны повернулось: могущественный фаворит оказался узником Тауэра, и «самая умная голова в королевстве» в конце концов пала, срубленная рукой палача.
Примеры того, как дела литературные переплетались с делами государственными, легко умножить. Многие из этих историй трагичны, но главное в другом. Стихам придавали важность. Да, порою на их авторов писали доносы, их могли арестовать и даже убить. И в то же время принцы и вельможи считали долгом оказывать покровительство поэтам, их сочинения переписывали и бережно хранили. Без поэтов и блеск двора, и жизнь государства в целом, и внутренний мир отдельного человека были неполными. Когда казнили Карла I, он взял с собой на эшафот две книги: молитвенник и пасторально-лирическую «Аркадию» Филипа Сидни. Этим символическим жестом закончилась целая эпоха: в пуританской, буржуазной Англии поэзия заняла принципиально другое место. Лишь полтора столетия спустя поэты-романтики воскресили век Шекспира и заново оценили богатейшее наследие своей ренессансной поэзии.
Сегодня, вглядываясь сквозь толщу полупрозрачного времени, мы видим: это – целая Атлантида, огромный ушедший под воду материк. Сотни поэтов, тысячи книг, сотни тысяч стихотворных строк. Представленные в этом томе тридцать или около того авторов – лишь небольшая выборка из этого удивительного разнообразия. Она поневоле субъективна, хотя и включает все главные имена той эпохи. Из поэтов первого ряда лишь Эдмунд Спенсер представлен номинально, одним сонетом: будь это хорошо уравновешенная антология, следовало бы дать по крайней мере один отрывок из его прославленной «Королевы фей» – аллегорической поэмы, прославляющей королеву Елизавету.
Шире хотелось бы представить английских поэтесс, в частности, хотелось бы включить Изабеллу Уитни, издавшую в 1573 году первую в Англии книгу стихов, написанных женщиной. Но ее остроумное «Завещание лондонцам», в котором она отписывает своим читателям весь любимый ее Лондон – подробный путеводитель по улицам, лавкам и рынкам города – в переводе неизбежно потерял бы и свою достоверность, и очарование. Хотелось бы дать стихи Эмилии Ланьер, выдвигаемой иногда (впрочем, без достаточных оснований) на роль «Смуглой дамы» шекспировских сонетов. И все же я надеюсь, что книга отражает широту и размах поэтической эпохи, разнообразие жанров, тем и авторских индивидуальностей. Наряду с классическими произведениями Шекспира и Донна, читатель найдет здесь и шедевры лирики, принадлежащие перу менее известных поэтов, например стихи Чидика Тичборна, сочиненные перед казнью («Моя весна – зима моих забот»), или «Литанию во время чумы» Томаса Нэша. В книгу включены и стихи королевских особ: Генриха VIII, Елизаветы и Иакова I, а также безымянные песни и баллады.
Этот том охватывает в основном эпоху Тюдоров – от Генриха до Елизаветы. Поэзия времен Иакова Стюарта отражена лишь сочинениями авторов уже знакомых, то есть «плавно перешедших» в новое столетие и новое царствование (в том числе Донна и Джонсона), а также именами их учеников Джорджа Герберта и Роберта Геррика. В заключительном разделе выделяется фигура Эндрю Марвелла: это уже совсем другая эпоха – Английской революции и протектората Кромвеля. И все-таки (такова инерция стиля) поэзия Марвелла – еще во многом ренессансная, она являет собой завершение традиций и английских петраркистов, и английских метафизиков – своеобразный эпилог и подведение черты под тем, что сделали поэты XVI века.
Часть I До Шекспира
«БуффоН»: о Джоне Скельтоне
Зачем стегать улитку, По естеству не прытку? Иль парусом, как лодку, Оснащать селедку? К чему писать, рифмачить, В чужих умах рыбачить? Желчь изливать, ученость Иль сердца удрученность? (Дж. Скельтон, «Колин Дурачина»)На пороге тюдоровской эпохи английской поэзии, на рубеже XVI века нас встречает весьма колоритная фигура в рясе священника и в шутовском колпаке, со связкой ученых книг в одной руке и жезлом с погремушками в другой. Это – Джон Скельтон, которого Эразм Роттердамский называл в своих стихах aeterna vates – «бессмертным поэтом», а также Britannicarum literarum decus et lumen – «светочем и украшением британской литературы».
Джон Скельтон. Гравюра неизвестного художника. 1797 г.
Скельтон родился, по-видимому, в 1464 году. Он успешно зарекомендовал себя в науке, получив степень в Оксфорде, а также звание «поэта-лауреата» в трех университетах (Оксфорда, Кембриджа и Лувена), – для получения которого в то время требовалось только сочинить сотню гекзаметров и латинскую комедию, продемонстрировав тем самым знание латинской просодии и аристотелевой поэтики. Он перевел «Историю мира» Диодора Сицилийца и «Письма» Цицерона, а также составил «Новую английскую грамматику», до нас не дошедшую. В 1498 году, надеясь на прибыльные бенефиции, Скельтон принял сан священника.
Вскоре он обратил на себя внимание двора: королева доверила ему своего младшего сына, будущего короля Генриха VIII, поручив ученому риторику «добросовестно вразумлять и благотворно наставлять непослушного отрока».
Но получилось не совсем так. «Благотворным влиянием» на принца дело не ограничилось. Сама обстановка двора неожиданным образом стала влиять на ученого мужа, мало-помалу раздразнив и подстрекнув в нем славолюбие, поэтический и сатирический задор, склонность к эксцентрике и пародии. По восшествии на престол юного Генриха он попал в фавор, сделавшись первым придворным поэтом и одновременно привилегированным шутом короля, спутником его в разных эскападах и тайных вылазках в народ. Говорят, что после одной такой вылазки Скельтон по заказу короля написал свою «кабацкую поэму» под названием «Бражка Элиноры Румминг». Он также написал «Лавровый венок», в котором воспел собственную персону (а заодно и своих придворных покровительниц) и торжественно ввел себя, любимого, в Храм Славы. Третьей его поэтической проказой была «Книга воробушка Фила», ироикомическая поэма, оплакивающая смерть ручного воробышка некой отроковицы из монастырской школы в Кэроу, близ Нориджа. Наконец, его четвертой далеко идущей проказой была дерзкая кампания против кардинала Вулси, которую он развернул в своей поэме «Колин Дурачина» и множестве сатирических стихов, распространявшихся в Лондоне. Несмотря на шутовскую форму нападок, всесильный кардинал принял их всерьез. Даже король на этот раз не мог защитить Скельтона: он попал в тюрьму, каялся, снова грешил и в конце концов вынужден был искать «права убежища» в Вестминстерском аббатстве, где и умер затворником поневоле в 1529 году – за несколько месяцев до краха и смерти самого Вулси.
Пренебрежение, в которое впал Скельтон уже в елизаветинскую эпоху, и последующая его непопулярность у читателей на восемьдесят процентов объясняется неудобочитаемостью его стихов: они написаны в тоническом размере, а английская поэзия уже приняла силлабо-тонику. Есть даже специальный термин: skeltonics, то есть «скельтонические вирши». Я употребил в переводе слово «вирши», потому что для нынешнего англичанина они звучат примерно так же, как для нас – русская виршевая поэзия XVII века. Впрочем, даже современникам они должны были казаться чересчур архаичными и простонародными. Сам Скельтон так писал о своих «скельтонизмах»:
Пусть вирши мои корявы, Занозисты, шершавы, Облуплены дождями, Изгрызены мышами, Но есть в них и другое – В них есть зерно благое.Оценивая вирши Скельтона, обязательно следует учесть одно важное обстоятельство. Он писал в переходную эпоху, когда фонетика английского языка была на переломе: еще не совершился до конца так называемый «великий сдвиг гласных» и (что еще важнее) статус конечного «е» (читаемое или немое) оставался неопределенным в течение всего царствования Генриха VIII; так что, как вы сами понимаете, писать правильные силлабо-тонические стихи было довольно трудно. Неудивительно, что Скельтон предпочел опираться на ударения и на рифмы.
Рифмы Скельтона, как в русском раешнике, звонки, порой каламбурны. Стиль его можно назвать неудержимым. Он не лезет за словом в карман, мысль его обгуливает предмет со всех сторон, прицепляя к нему множество близких и далеких уточнений и ассоциаций. Это многословие дрейфует в сторону пародии – заметим, пародии сознательной и торжествующей.
Джон Скельтон. Гравюра из книги начала XVI в.
В старости Скельтон гордо называл себя «британским Катуллом». Видимо, он имел в виду необузданный темперамент римского поэта, яростные и не стесняющиеся в выборе выражений сатирические выпады (в частности против Цезаря и его сподвижников), а также любовь к гротеску и преувеличению. Но не только: в словах Скельтона есть, по-видимому, и намек на стихотворение Катулла, посвященное смерти любимого птенчика его возлюбленной:
Плачь, Венера, и вы, Утехи, плачьте! Плачьте все, кто имеет в сердце нежность! Бедный птенчик погиб моей подружки. …………….. Он с колен не слетал хозяйки милой. Для нее лишь одной чирикал сладко. То туда, то сюда порхал, играя. А теперь он идет тропой туманной В край ужасный, откуда нет возврата.Именно эти стихи послужили основой для Скельтоновой «Книги воробышка Фила», хотя он подключил в свою поэму и совсем иные традиции – в частности, традицию шутовской (карнавальной) панихиды. А уж от «Воробышка Фила», как нетрудно убедиться, отталкивался поэт XVII века Марвелл в своей антологической «Жалобе нимфы на смерть ее олененка». Так что влияние Скельтона ощущалось и через сто лет после его смерти.
Можно сказать, что Скельтон – первый английский поэт нового времени, то есть первый поэт, которого можно читать без словаря. Это – занятное и полезное чтение. Скельтон ввел в английскую поэзию огромное количество свежих, не бывших в употреблении слов. В частности, в «Книге воробышка Фила» он называет по именам восемьдесят (!) видов английских птиц, собравшихся на похороны. Он отлично владеет сочной народной речью. Например, описывая хозяйку питейного заведения Элинор Румминг (изобретательницу той самой «бражки»), Скельтон замечает, что ее лицо было «как ухо жареного порося, утыканное щетиной». Он умеет смешивать простонародную речь с ученой и библейской терминологией. Он даже смешивает разные языки, переходя на макаронический стиль письма. В особенности он отыгрывает этот прием в своей «постмодернистской» поэме «Попка, скажи!» (Speak, Parrot), в которой попугай-полиглот, нафаршированный ученостью, разглагольствует без умолку и несет всякую околесицу. Основываясь на этой вещи, Скельтона вполне можно считать если не отцом английской поэзии нонсенса, то (во всяком случае) ее славным прадедом.
Чтобы лучше оценить роль Скельтона, полезно взглянуть на его творчество в исторической перспективе. На протяжении почти всего пятнадцатого века английская поэзия пребывала в столь длительном и тяжелом застое, что, казалось, истощилась сама почва поэзии – ее язык. Как пишет один из критиков, после смерти Чосера Гауэр продолжать писать «в духе Чосера, но похуже». После смерти Гауэра Лидгейт и Хоклив продолжали писать «так же, но еще похуже». Под конец века явился Стивен Хоз, который подхватил эстафету и продолжил писать в прежнем духе, но «даже еще хуже, чем Гауэр, Лидгейт и Хоклив». Ясно, что английская поэзия к началу тюдоровской эпохи представляла, по сравнению с Чосером, седьмую воду на киселе. Нужно было заново вскопать почву языка, перевернуть ее свежими пластами кверху. Именно эту работу и выполнил Скельтон. А то, что соха с виду корява, так другой соха и не бывает.
Наверное, ни один писатель в английской литературе не собрал столько живописных эпитетов и кличек, как этот ныне редко читаемый, «эпизодический» поэт, стоящий на грани между двумя эпохами – средневековьем и ренессансом.
Генрих VIII называл его «моим адским викарием», обыгрывая его должность приходского священника в Диссе (Dis по-латыни значит Ад).
Ричард Путтенхем в «Искусстве английской поэзии» (1589) заклеймил его «грубым и ругливым рифмачом, сочинителем нелепостей», Фрэнсис Мерес в «Сокровищнице ума» (1598) – просто «буффоном».
Джон Мильтон назвал его «одним из худших людей, что умело и усердно впрыскивают свой яд в окружение правителей, знакомя их с отборными описаниями и критиками пороков».
Классицист Александр Поуп кратко припечатал его «скотским Скельтоном» („beastly Skelton“).
Некоторые критики договорились до того, что якобы «развращающее воздействие этого сквернослова и грязного негодяя легло в основание всех будущих преступлений его царственного ученика» (Агнесса Стрикленд, 1842[1]).
Джон Скельтон. Гравюра из книги начала XVI в.
А вот утонченная и умная поэтесса Элизабет Браунинг (жена Роберта Браунинга) им открыто восхищалась. Да, признавала она, это – настоящий «санкюлот красноречия», «Силéн, приходящим в пьяный экстаз от собственного негодования», «сатир в поэтах». В своем восхитительном господстве над языком он, как зверь, разрывает его когтями и зубами – дико, яростно, скорее уничтожая, чем созидая. «Но нашим последним словом о Скелетоне, – заключает Элизабет Браунинг, – должно быть то, что он, вне всякого сомнения, оказал благотворное влияние на поэтический язык. Он был автором, уникально подходящим к задаче разглаживания всех узлов веревок, растягивания их до последней возможности. Грубый работник за грубой работой; могучий, грубый Скельтон!»[2]
Джон Скельтон (1460–1529)
КНИГА ВОРОБУШКА ФИЛА,
ИЛИ
ПЛАЧ ДЖЕЙН СКРОУП,
УЧЕНИЦЫ МОНАСТЫРСКОЙ ШКОЛЫ В КЭРОУ,
ПО СВОЕМУ МИЛОМУ ДРУЖОЧКУ,
ПОГИБШЕМУ ЗЛОЙ СМЕРТью
ОТ ЛАП КОТА ГИЛьБЕРТА
(отрывки)
Heu, heu, me![3] Горе, горе мне! Ad Dominem, сum tribularer, clamavi:[4] Сохрани и избави, Боженька милый, Душу воробышка Фила От адовой черной пасти, Где мрак и всякие страсти, – От темного Ахерона, Подземной реки студеной, А тако же от Плутона, Владыки бездны бездонной, А тако же от Эринний, Духов мертвой пустыни, А тако же от Горгоны, Змееволосой матроны, А тако же от проклятой Мегеры, ведьмы патлатой, – Да не спалит ее факел Крылышек моей птахи, – А тако же от Прозерпины, Влекущей в мглы и трясины, И от Кербера же паки, Злющей адской собаки – Страшной, со ста головами, Гремящей во тьме цепями, Неусыпной и лютой, – Но крепко однажды вздутой Доблестным Геркулесом. Заклинаю Зевесом: Сохрани и избави, Cum tribularer, clamavi, Воробышка моего! Амен. Повторяйте за нами. Do mi nus! О сладчайший Исус! Levavi oc ulos meos in montes[5], Слезами моими троньтесь, Ангелы в вышних! О Боже, услышь в них, В каждом вздохе и всхлипе Скорбь мою о Филипе – О дорогой моей, милой Пташечке быстрокрылой! Я, как та Андромаха, Что, от горя и страха Оцепенев на месте, Внимала черной вести О смерти Гектора, мужа, Вот так или еще хуже Я на месте застыла, Узнав, что взяла могила Воробышка моего Фила. А и был он плутишка, Глупый мой воробьишка! Обучен моей науке, Знал он всякие штуки. Скажу: «Поклюй из ладошки!» – Все подберет до крошки. А положу между грудок – Тотчас, ловок и чуток, Клювиком пощекочет – И все достанет, что хочет. А накрошу на колени – И там, не ведая лени, Покопошится малость И доклюет, что осталось… Рано утром, бывало, – Я еще не вставала, – К сонной ко мне подлезет И, как блажной, куролесит, Будит меня, как кочет, Крылышками хлопочет, Перышки все взъерошит, Ластится и тетёшит. Видит Бог, мысли грешной Нет в его грудке нежной, В бархатной сей головке – Ни малейшей уловки. Я ему разрешала Лазить под одеяло; А ежели больно клюется Иль далеко заберется, Знаю я свою крошку: Это он ловит блошку. ……………. К мести, к мести взываю, Боженьку умоляю: Накажи поскорее Отъявленного злодея И всю их породу котовью; Пускай заплатят кровью За смерть воробушка Фила; Уж как я его любила, Как я его растила! А ты, бесовский котище, Ужасный, хитрый и хищный, Чтоб лопнуть твоим глазищам! Чтоб в лапы ты к леопарду Попал за свою неправду, Чтобы тебя он мучил, А ты стонал и мяучил; Чтобы в пустыне ливийской Встретил ты василиска, Чьи смертоносные взгляды Губят всех без пощады; Чтобы черти лесные, Мерзостные и злые, В чаще тебя поймали И на куски разодрали; Чтобы с гор мантикора, На убийцу и вора Спрыгнув, как на мышонка, Вырвала ему печенку; Чтоб Меланхет, который Первым из гончей своры Клык вонзил в Актеона, Мчащего ошеломленно Через бугры и ямы, – Чтоб Меланхет тот самый В горло тебе вцепился, Крови твоей напился! Чтобы дракон Уэльса Твой требухи наелся; Чтобы медведь толстобрюхий Рыча, отгрыз тебе ухи; Чтоб Ликаон с личиной Оборотня волчиной Сгреб тебя на погосте, Переломал тебе кости! Чтобы пламенем Этны (Загасить его тщетны Все ливни, сколь их ни лило) Хвост тебе подпалило; Чтобы ты в страхе метался – А мир на то любовался: От Оксфорда до Йоркшира, От Кента до Девоншира – Весь мир – от моря до моря – На это кошкино горе. Что, худо? А птенчика Фила, Которого я любила, Зачем умертвил ты, злюка? Так поделом коту мука!Сокол по кличке удача Сэр Томас Уайетт – набросок к портрету
Фортуна хмурится. Где взять лекарство? Меня швырнуло в прах Судьбы коварство. Т. У.I
В королевской библиотеке Виндзорского замка вот уже четыреста лет хранятся две папки с рисунками Ганса Гольбейна. Художник приезжал в Англию дважды: первый раз в 1527–1528 годах, а во второй раз – в 1532 году, когда он окончательно обосновался в Лондоне. Ганс Гольбейн Младший (1497–1543) был выдающимся портретистом, а его виндзорские рисунки – лучшее, что он создал в графике. Искусствоведы считают, что это – подготовительные наброски к живописи, они выполнены, в основном, серебряным карандашом и цветными мелками, но впоследствии чужая рука прошлась пером по контуру некоторых рисунков и добавила кое-где акварельной подкраски.
Сэр Томас Уайетт. Ганс Гольбейн Младший
Перед нами – портреты придворных Генриха VIII. Среди них – сэр Томас Уайетт, поэт. Умное, благородное лицо прекрасно «рифмуется» с дошедшими до нас стихами, письмами, переводами. Глядя на него, я думаю о том, как трудна моя задача. На живописный, красочный портрет мне не замахнуться. Попробую лишь очертить чернилами «по контуру» карандашный рисунок, оставленный в стихах и документах, расцветив его по своему разумению более или менее правдоподобными соображениями и догадками.
II
Двор Генриха VIII был сценой одной из самых патетических драм в мировой истории, и притом блестяще украшенной сценой. Король Генрих унаследовал от отца мрачный, еще вполне средневековый двор и полностью преобразовал его, превратив жизнь королевской семьи и своих придворных в то, что Екатерина Арагонская назвала «беспрерывным празднеством». Его прижими стый батюшка Генрих VII позаботился о том, чтобы наполнить казну, и эти денежки очень пригодились наследнику.
В глазах народа Генрих выглядел идеальным королем. Шести футов росту, румяный и статный, с величественной осанкой и манерами, он любил пиры, танцы, маскарады и сюрпризы. Он приглашал лучших музыкантов из Венеции, Милана, Германии, Франции. За музыкантами шли ученые и художники. Среди последних были необузданный Пьетро Торриджано из Рима (сломавший в драке нос Микеланджело), Ганс Гольбейн из Аугсбурга, рекомендованный Генриху Эразмом Роттердамским, Иоанн Корвус из Брюгге и другие. В Лондоне жил знаменитый Томас Мор, автор «Утопии», чей дом сравнивали с Платоновской Академией. Говорили, что по числу ученых английский двор может затмить любой европейский университет. Король и его придворные упражнялись в сочинении стихов и музыки, постоянно устраивали красочные шествия, праздники, даже рыцарские турниры (собственно говоря, бывшие уже анахронизмом). В общем, это был Золотой век, в особенности по сравнению с ушедшей, казалось, в далекое прошлое эпохой войн, интриг и злодейств.
Томасу Уайетту суждено было сыграть одну из приметных ролей на этой сцене. Он появился здесь молодым человеком, только что окончившим Кембриджский университет, и сразу выдвинулся благодаря своим исключительным талантам: он легко писал стихи, замечательно пел и играл на лютне, свободно и непринужденно говорил на нескольких языках, был силен и ловок в обращении с оружием (отличился на турнире в 1525 году).
К тому же этот образцовый рыцарь был из знатной дворянской семьи. Он родился в 1503 году в замке Аллингтон в Кенте. Отец его, сэр Генри Уайетт, во времена междоусобиц сохранил верность Генриху VII, за это (как сказывают) Ричард III его пытал и заточил в Тауэр, где лишь сочувственный кот, приносивший узнику по голубю каждый день, спас его от голодной смерти. Сохранился портрет сэра Генри в темнице – с котом, протягивающим ему через решетку голубя, а также отдельный портрет «Кота, спасшего жизнь сэра Генри Уайетта». После освобож де ния из тюрьмы Генри Уайетт возлюбил котов, а благодарный Генрих VII – своего верного подданного, которого он сделал рыцарем Бани. Генрих VIII также любил старого Уайетта: среди почетных должностей, пожалованных ему, была должность коменданта Норвичского замка, на которую он был назначен вместе с сэром Томасом Болейном. Так завязывались узлы фортуны: отец Томаса Уайетта сдружился с отцом Анны Болейн, его будущей дамы и королевы; история с котом, однажды позабавив короля, в критический момент могла спасти жизнь сына того самого, спасенного котом, дворянина.
Королева Анна Болейн. Ганс Гольбейн Младший, ок. 1533 г.
Здесь, при дворе, и встретился молодой Уайетт с юной Анной Болейн, вернувшейся в 1521 году из Франции, где она получила воспитание в кругу фрейлин королевы Маргариты Валуа. Смуглая, черноволосая, с выразительными черными глазами и нежным овалом лица, она сразу приобрела много поклонников. Анна прекрасно танцевала и играла на лютне. У нее были красивые руки, впоследствии, когда злая молва превратила ее в ведьму, стали говорить, что она была шестипалой: друзья уточняли, что речь шла о небольшом дефекте ногтя. Ее распущенные до пояса волосы с вплетенными в них нитями драгоценностей были совсем не по моде того времени, но она их носила так. Она затмевала анемичных дам английского двора и своими талантами, и остроумным изяществом разговора. Мог ли Уайетт не обратить внимание на ту, кому посвящал стихи Клеман Маро, мог ли сам не принести ей поэтической дани?
О своей госпоже, которую зовут Анной
Какое имя чуждо перемены, Хоть наизнанку выверни его? Все буквы в нем мучительно блаженны, В нем – средоточье горя моего, Страдание мое и торжество. Пускай меня погубит это имя, – Но нету в мире имени любимей.В точности неизвестно, когда король Генрих обратил свой благосклонный взор на красавицу Анну Болейн. История соперничества монарха и поэта – тема многочисленных легенд и исторических анекдотов. Мы не знаем, какова была природа той куртуазной игры, которая уже связывала Анну с Уайеттом, но ясно, что после появления на сцене влюбленного Генриха VIII ситуация для придворного создалась непростая. В сонете «Noli me tangere» («Не трогай меня»), переложенном с итальянского, он уже говорит об Анне, как о запретной дичи королевского леса.
Noli me tangere
Кто хочет, пусть охотится за ней, За этой легконогой ланью белой; Я уступаю вам – рискуйте смело, Кому не жаль трудов своих и дней. Порой, ее завидя меж ветвей, И я застыну вдруг оторопело, Рванусь вперед – но нет, пустой дело! Сетями облака ловить верней. Попробуйте и убедитесь сами, что только время сгубите свое; На золотом ошейнике ее Написано алмазными словами: «Ловец лихой, не тронь меня, не рань: Я не твоя, я цезарева лань».По некоторым сведениям, к тому времени среди любовниц Генриха уже была сестра Анны, Мария, и король предполагал, что легко удвоит счет. Встретив сопротивление, он тоже заупрямился и повел осаду по всем законам военной стратегии. Но крепость оказалась хорошо защищенной и не сдавалась в течение целого ряда лет – случай единственный и неслыханный в практике короля. Надо сказать, что королева Екатерина сама рыла себе яму, поддерживая целомудренное поведение своей фрейлины: она старалась не отпускать ее от себя, часто играла с ней в карты целыми вечерами, терзая влюбленного короля, и так далее. Если бы Екатерина повела себя иначе, король, возможно, сумел бы одержать победу – и охладеть; Анна предвидела такой вариант, ей не хотелось повторить судьбы сестры: она желала получить всё или ничего. Наконец король заговорил о женитьбе. Это означало развод с испанкой, разрыв с Римом, но Генрих решил идти до конца.
Доспехи короля Генриха VIII, ок. 1520 г.
Рассказывают, что примерно в это время Генрих VIII получил от Анны перстень в залог ее согласия на брак. Томас Уайетт еще раньше завладел маленьким бриллиантом, принадлежавшим Анне: он как бы играючи взял его и спрятал за пазу хой, дама попеняла ему и потребовала возвращения вещицы, но кавалер не отдавал, надеясь на продолжение галантной забавы. Владелица больше не возобновляла иска, так что Уайетт повесил бриллиант на шнурок и носил на груди под дублетом. Случилось вскоре, что король Генрих играл в мяч с придворными, среди которых были сэр Фрэнсис Брайан и Томас Уайетт, и будучи весело настроен, стал утверждать, что один особенно удачный бросок принадлежит ему, – хотя все видели противоположное. Уайетт вежливо возразил, но король поднял руку и ткнул в воздух указательным перстом, оттопыривая при этом мизинец, на котором блестел перстень Анны Болейн: «А я говорю, Уайетт, это мой бросок».
Поэт приметил перстень, но, чувствуя, что король в добром расположении духа, решил поддержать игру и когда Генрих повторил во второй раз: «Уайетт, он мой!» достал шнурок с бриллиантовой подвеской, известной королю, и сказал: «Если Ваше величество позволит, я измерю этот бросок: надеюсь, что он все-таки окажется моим». С этими словами он наклонился и стал вымерять шнурком расстояние; король же, признав бриллиант, отшвырнул мяч и сказал: «Коли так, значит, я обманулся» – и не продолжал игры. Многие бывшие при том придворные не уразумели ничего из этого происшествия, но были такие, что поняли и запомнили. (Джордж Уайетт. «Некоторые подробности из жизни королевы Анны Болейн»).
В 1532 году Генрих жалует Анне Болейн титул маркизы Пембрук, тогда же она становится его любовницей. В январе 1533-го выясняется, что Анна беременна, и король тайно венчается с нею. Спустя несколько месяцев брак легализуется и состоится коронация, сопровождаемая трехдневными торжествами и водным праздником. Анна, как Клеопатра, в золотом платье, с распущенными черными волосами, восседает на борту галеры, украшенной лентами, вымпелами и гирляндами цветов. Два ряда гребцов, налегая на весла, влекут корабль вперед, сотни меньших судов и суденышек сопровождают его. Тауэр, подновленный и сияющий, встречает королеву музыкой, знаменами, триумфальными арками и толпой разодетых придворных. «Лань Цезаря» заполучила, наконец, свой золотой ошейник.
III
По наблюдениям современной критики[6], образы охоты и соколиной ловли играют важную роль в стихах Уайетта. С образом лани связан и его знаменитый шедевр – стихотворение «Они меня обходят стороной»:
Они меня обходят стороной – Те, что, бывало, робкими шагами Ко мне прокрадывались в час ночной, чтоб теплыми, дрожащими губами Брать хлеб из рук моих, – клянусь богами, Они меня дичатся и бегут, Как лань бежит стремглав от ловчих пут.Мы порой недооцениваем психологическую сторону ренессансной лирики, представляя ее игрой с некоторым набором условных тем и образов. Но ведь эти люди знали и умели многое, чего мы сейчас не знаем и не умеем. Скажем, он были азартными охотниками. Изображая превратности любви в терминах оленьего гона и соколиной охоты, они касались таких областей подсознательного, которые лучше объясняют измену и жестокость, равнодушие и свободу, чем моральная психология более позднего времени. Скажем, спущенный с перчатки сокол может вернуться к хозяину, а может и улететь навсегда. И это не зависит от того, как он прикормлен и воспитан. Причина может быть любая – переменившийся ветер, пролетевшая вдали цапля – или никакая. Измена сокола – закон Фортуны, верность – ее редкая милость.
IV
Итак, Генрих настоял на своем. Он объявил себя главой английской церкви, развелся с Екатериной Арагонской и женился на Анне Болейн, но с этого времени тучи начали сгущаться над его царствованием, и атмосфера непрерывного празднества, сохраняясь при английском дворе, стала приобретать все более зыбкий и зловещий характер. Дальнейшие события известны: рождение принцессы Елизаветы в 1534 году, Акт о престолонаследии, объявивший принцессу Мэри незаконнорожденной, насильственное приведение к присяге дворянства, казнь епископа Фишера и самого Томаса Мора, еще недавно лорда-канцлера короля, охлаждение Генриха к Анне Болейн, которая так и не смогла дать ему наследника мужского пола… Судьба королевы была окончательно решена после рождения ею мертвого младенца в 1536 году.
Анна и несколько ее предполагаемых «любовников» и «сообщников» в государственной измене были арестованы. Одновременно взяли и Томаса Уайетта. Из окна своей темницы в Тауэре он мог видеть казнь своих друзей Джорджа Болейна, сэра Генри Норриса, сэра Фрэнсиса Уэстона, сэра Уильяма Брертона, Марка Смитона и ждать своей очереди. 19 мая казнили Анну Болейн. На эшафоте ей прислуживала Мэри, сестра Томаса Уайетта – ей Анна передала свой прощальный дар – миниатюрный молитвенник в золотом, с черной эмалью, переплете. В последнюю минуту перед казнью королева обратилась к зрителям с такими словами:
Люди христианские! Я должна умереть, ибо в согласии с законом я осуж дена и по законному приговору, и против этого я говорить не буду. Не хочу ни обвинять никого, ни говорить о том, почему меня судили и приговорили к смерти. Я лишь молю Бога хранить Короля и послать ему мно гие годы правления над всеми вами, ибо более кроткого и милосерд ного государя доселе не бывало, а для меня он всегда был полновластным и добрым Господином. Если кто-нибудь вздумает вме шаться в мое дело, я прошу его рассудить как можно лучше. А теперь я оставляю сей мир и всех вас, и молю вас молиться за меня. Господи, смилуйся надо мной. Богу препоручаю я душу мою.
«И когда раздался роковой удар, нанесенный дрожащей рукой палача, всем показалось, что он обрушился на их собственные шеи; а она даже не вскрикнула», – продолжает первый биограф королевы Джордж Уайетт.
Томасу Уайетту повезло. 14 июня он был освобожден из Тауэра; неясно, что его спасло – покровительство Кромвеля или петиция отца, взявшего своего сына «на поруки» и увезшего в Аллингтон. Король вскоре вернул ему свою милость. Но жизнь Уайетта будто переломилась пополам («в тот день молодость моя кончилась», – писал он в стихах). Достаточно сравнить два портрета, выполненные Гансом Гольбейном до и после 1536 года[7]: на втором из них мы видим полностью изменившегося человека – преждевременно постаревшего, с каким-то остановившимся выражением глаз – ушла легкость и свобода, сокол удачи улетел.
Теперь он будет перелагать стихами покаянные псалмы и писать сатиры на придворную жизнь. Например, так:
Я на коленях ползать не привык Пред деспотом, который правит нами, Как волк овечками, свиреп и дик.Опасные строки? Но ведь это лишь перевод стихов итальянца Луиджи Аламанни, обращенных к другу Томазо. Уайетт переадресовал их к Джону Пойнцу (которого мы также можем видеть на рисунке Ганса Гольбейна) – придворному и другу, понимающему его с полуслова:
Я не способен ворона в орла Преобразить потугой красноречья, Царем зверей именовать осла; И сребролюбца не могу наречь я Великим Александром во плоти, Иль Пана с музыкой его овечьей Превыше Аполлона вознести; Или дивясь, как сэр Топаз прекрасен, В тон хвастуну нелепицы плести; Хвалить красу тех, кто от пива красен – И не краснеть; но взглядом принца есть И глупо хохотать от глупых басен…Впрочем, кому какое дело, что пишет или переводит ученый дворянин в своем имении, на лоне природы? Уайетт уцелел, но был отправлен с глаз долой, сперва – в Кент, под опеку отца, потом – с дипломатическим поручением к императору Карлу V. Как посол при испанском дворе, сэр Томас постоянно находился между молотом требований анг лийского короля и наковальней католической монархии. Несмотря на все трудности (и даже угрозы со стороны инквизиции), он действовал весьма успешно: ему удалось даже устроить изгнание из Мадрида кардинала Пола, злейшего врага англичан. Возникшая угроза примирения Карла с французским королем Франциском потребовала особого внимания со стороны Генриха: на помощь Уайетту были высланы Эдмунд Боннер и Симон Хейнз, которые более путались под ногами, чем помогали делу. Уайетт высокомерно третировал их, в результате, вернувшись в Лондон, они написали донос, обвинив его в изменнических сношениях с врагами Англии. Кардинал Кромвель, покровитель Уайетта, положил бумагу под сукно, но в 1540 году Кромвель сам был обвинен в государственной измене и казнен. Боннер, ставший к тому времени епископом Лондона, и Хейнз, капеллан короля, возобновили свои происки: в результате Уайетт был заключен в Тауэр и подвержен усиленным допросам.
Герб лорда-хранителя печати с девизом Ордена Подвязки.
В те последние годы царствования Генриха VIII головы с плеч слетали и без столь серьезных обвинений. Но Уайетт проявил удивительное хладнокровие и силу духа. Его защитительная речь была настолько блестящей и убедительной, что судьям ничего другого не оставалось, как оправдать его. Он удалился в Аллингтон, где, как обычно, предался чтению и охоте. Осенью 1542 года королевский приказ прервал эти мирные досуги – Уайетт должен был отправиться в порт Фалмут для встречи прибывающего в Англию испанского посла. В дороге, разгоряченный долгой скачкой, он простудился и умер от скоротечной лихорадки в Шелборне, в возрасте 39 лет. Во времена, когда многие умирали от еще более скоротечных причин, это была почти удача.
V
Кончилось царствование Генриха VIII, и власть перешла к его дочери Мэри, дочери Екатерины Арагонской, отменившей реформацию и восстановившей связь с Римом. Когда в 1554 году она объявила о своем браке с королем Филиппом Испанским, злейшим врагом Англии, многие возмутились и выступили с оружием в руках против коварной католички. Сын Томаса Уайетта, сэр Томас Уайетт Младший во главе отряда в три тысячи солдат пробился в Лондон, но был разбит правительственным войском и обезглавлен.
Интересно, что именно его сын, Джордж Уайетт, внук Томаса Уайетта, спустя тридцать лет напишет первую биографию Анны Болейн (дважды цитированную выше), в которой он также сообщает интересные сведения и о своем деде-поэте.
Стихи Уайетта были впервые опубликованы в 1557 году в первой английской антологии поэзии, полное название которой звучало так:
Песни и сонеты,
сочиненные высокоблагородным лордом Генри Говардом, покойным графом Сарри, и другими
Впрочем, эта книга сделалась более известной под именем Сборника Тоттела (Tottel’s Miscellany). Упомянутые в названии лорд Генри Говард и граф Сарри – одно и то же лицо, стихи же сэра Томаса Уайетта занимают в ней более скромное место, рядом с большим отделом стихов «неизвестных авторов», среди которых наверняка находятся стихи его друзей-поэтов графа Рошфора и сэра Фрэсиса Брайана. (Все трое – Сарри, Рошфор и Брайан – сложили свои головы под топором палача.)
Именно издатель Тоттеловского сборника ввел живописные заголовки стихов, которые четыреста лет подряд украшали антологии английской поэзии и которые я счел естественным сохранить в своих переводах: «Влюбленный рассказывает, как безнадежно он покинут теми, что прежде дарили ему отраду», «Он восхваляет прелестную ручку своей дамы», «Отвергнутый влюбленный призывает свое перо вспомнить обиды от немилосерд ной госпожи», и прочее. В современных изданиях эти названия искоренены как не достовер ные, не авторские. Зато они старые – и передают аромат своего времени.
За тридцать лет сборник Тоттела переиздавался семь раз. В 1589 Путтенхэм писал в своем трактате «Искусство английской поэзии»:
Они [Уайетт и Сарри] отчистили нашу грубую и домо дельную манеру писать стихи от вульгарности, бывшей в ней доселе, и посему справедливо могут считаться первыми реформаторами нашей английской метрики и стиля… Они были двумя ярчайшими лампадами для всех, испробовавших свое перо на ниве Английской поэзии… их образы возвышенны, стиль торжествен, выражение ясно, слова точны, размер сладостен и строен, в чем они подражают непринужденно и тща тельно своему учителю Франциску Петрарке.
Томасу Уайетту принадлежит честь и заслуга впервые ввести сонет в английскую литературу, а также дантовские терцины. Белый пятистопный ямб – размер шекспировских пьес – изобретение Сарри. Так сложилась, что именно графу Сарри на протяжении столетий отдавалось предпочтение. «Эдинбургское обозрение» в 1816 году, отзываясь на первое большое издание двух поэтов и, в целом, благожелательно оценивая стихи Сарри, о его старшем современнике и учителе отзывалось так: «Сэр Томас Уайетт был умным человеком, зорким наблюдателем и тонким политиком, но никак не поэтом в истинном смысле этого слова».
В этом опрометчивом суждении был, тем не менее, свой резон. «Эдинбургское обозрение» руководствовалось классическим мерилом и вкусом. С этой точки зрения, граф Сарри – значительно более очищенный, «петраркианский» поэт. Если думать, что английский Ренессанс начался с ус воения Петрарки, тогда Томас Уайетт – дурной ученик, «испортивший» и «не понявший» своего учителя. Но дело в том, что для английской поэзии Петрарка был скорее раздражителем, чем учителем. Уже Чосер нарушил все его главные принципы и заветы. Народный, а не очищенный язык; здравый смысл и естест венные чувства, а не возвышенный неоплатонизм. Таков был и Уайетт, бравший новые формы у Петрарки, а стиль и суть – у Чосера и у французских куртуазных поэтов. Все это легко увидеть на любом его переводе из Петрарки. Скажем, на цитированном выше сонете «Noli me tangere». Мог ли Петрарка сказать, что преследование возлюбленной – «пустое дело» или «я ус тупаю вам – рискуйте смело, кому не жаль трудов своих и дней»? Никогда – ведь это убивает самую суть петраркизма. Чтобы продолжить сравнение, я позволю себе привести тот же самый сонет (На жизнь мадонны Лауры, CXC) в переводе Вячеслава Иванова:
Лань белая на зелени лугов, В час утренний, порою года новой, Промеж двух рек, под сению лавровой, Несла, гордясь, убор златых рогов. Я все забыл и не стремить шагов Не мог (скупец, на все труды готовый, чтоб клад добыть!) – за ней, пышноголовой Скиталицей волшебных берегов. Сверкала вязь алмазных слов на вые: «Я Кесарем в луга заповедные Отпущена. Не тронь меня! Не рань!.. Полдневная встречала Феба грань; Но не был сыт мой взор, когда в речные Затоны я упал – и скрылась лань.Разумеется, перед нами не оригиналы, а лишь русские переложения английского и итальянского сонетов. Но, сравнивая оригиналы, мы увидим тот же контраст стилей, контраст мироощущений. Никакой идиллической природы – «зелени лугов», «лавровой сени» и «волшебных берегов» – у Уайетта нет в помине. Никакой экзальтации, никакой выспренности («полдневная встречала Феба грань») – лишь суть, выраженная энергично и доходчиво: «Попробуйте и убедитесь сами».
Именно эта суровая и здравая экспрессия оказалась стержневой для английской поэзии XVI века вплоть до Шекспира и Донна. Даже утонченный Филип Сидни, главный пропагандист петраркизма в Англии, когда речь доходила до практики, допускал такие вещи, от которых Петрарка отшатнулся бы с ужасом – например сравнение возлюбленной с разбойником, ведьмой, сатаной! А Донн сделал антипетраркизм едва ли не своим главным приемом в лирике. Он мог, скажем, изобразить Амура не как мальчугана с крылышками, а как отяжелевшего охотничьего сокола:
Амур мой погрузнел, отъел бока, Стал неуклюж, неповоротлив он; И я, приметив то, решил слегка Ему урезать рацион… («Пища Амура»)Таким образом, Томас Уайетт не только явился в нужное время и в нужном месте. Он оказался очень прочным и необходимым звеном английской традиции, связывающим Чосера с поэтами-елизаветинцами. Заимствуя у итальянцев, он не подражал им, но развивал другое, свое. Стихи его порой шероховаты, но от этого лишь более осязаемы.
VI
Тот свод стихотворений Уайетта, которым мы сейчас располагаем, основан не только на антологии Тоттела, но и на различных рукописных источниках, среди которых важнейшие два: так называемые «Эджертонский манускрипт» и «Девонширский манускрипт». Первый из них сильно пострадал, побывав в руках неких набожных владельцев, которые, презирая любовные стишки, писали поверх них полезные библейские изречения и подсчитывали столбиком расходы. По этой причине почерк Уайетта кое-где трудно разобрать. И все же стихи не погибли. Как отмечает исследователь рукописи мисс Фоксуэлл (не вкладывая, впрочем, в свои слова никакого символического смысла), «чернила Уайетта оказались лучшего качества, чем чернила пуритан, и меньше выцвели»[8].
Особый интерес представляет Девонширский манускрипт. Это типичный альбом стихов, вроде тех, что заводили русские барышни в XIX веке, только на триста лет старше: он ходил в ближайшем окружении королевы Анны Болейн, его наверняка касались руки и Уайетта, и Сарри, и самой королевы.
Предполагают, что первым владельцем альбома был Генри Фицрой, граф Ричмонд, незаконный сын Генриха VIII. В 1533 году Фицрой женился на Мэри Говард (сестре своего друга Генри Говарда), и книжка перешла к ней. После свадьбы невесту сочли слишком молодой, чтобы жить с мужем (ей было всего-навсего четырнадцать лет) и, по обычаю того времени, отдали под опеку старшей родственницы, каковой, в данном случае, явилась сама королева Анна Болейн. Здесь, в доме Анны, Мэри Фицрой подружилась с другими молодыми дамами, в первую очередь, с Маргаритой Даглас, племянницей короля. Альбом стал как бы общим для Мэри и Маргариты, и они давали его читать знакомым – судя по записи, сделанной какой-то дамой по-французски, очевидно, при возвращении альбома: «Мадам Маргарите и Мадам Ричфорд – желаю всего самого доброго».
На страницах альбома встречаются и пометки королевы, подписанные именем Анна (Àn), одна из которых останавливает внимание – короткая бессмысленная песенка, последняя строка которой читается: «I ama yowres an», то есть «Я – ваша. Анна». Эта строчка обретает смысл, если сопоставить ее с сонетом Томаса Уайетта («В те дни, когда радость правила моей ладьей»), записанным на другой странице того же альбома. Сонет заканчивается таким трехстишьем:
Недаром в книжице моей Так записала госпожа: «Я – ваша до скончанья дней».По-английски здесь те же самые слова и даже буквы: «I am yowres». Разве мы не вправе увидеть тут вопрос и ответ, тайный знак, который сердце оставляет сердцу так, чтобы чужие не углядели, чтобы поняли только свои – те, кто способен понимать переклички и намеки. Для живущих в «золотой клетке» королевского двора такая предосторожность была вовсе не лишней, что доказывает дальнейшая судьба альбома и почти всех связанных с ним персонажей.
Трагическими для этого маленького кружка стали май, июнь и июль 1536 года. В мае – арестована и казнена Анна Болейн с пятью своими приближенными. В июне – обнаружен тайный брак между Маргаритой Даглас и сэром Томасом Говардом: оба преступника были арестованы и брошены в Тауэр. И, наконец, в июле умер Генри Фицрой, муж Мэри.
В эти печальные месяцы Девонширский сборник пополнился, может быть, самыми своими трогательными записями. Во-первых, это стихи Маргариты Даглас, которая, в разлучении с супругом (из Тауэра ее отправили в другую тюрьму), писала стихи, ободряя своего любимого и восхищаясь его мужеством. А на соседних страницах Томас Говард, которому сумели на время переправить заветный томик, записывал стихи о своей любви и верности. Два года спустя он скончался в своей тюрьме от малярии.
История Девонширского альбома ярче многих рассуждений показывает, каким рискованным делом была куртуазная игра при дворе Генриха VIII. Неудивительно, что достоинствами дамы в том узком кругу, для которого писали придворные поэты, почитались не только красота, но и сообразительность, решимость, умение хранить тайну. И не случайно первым стихотворением, занесенным в альбом, оказалась песенка Уайетта «Take hede be tyme leste ye be spyede»:
Остерегись шпионских глаз, Любить опасно напоказ, Неровен час, накроют нас, Остерегись.Многие вещи нарочно маскировались, зашифровывались в стихах Уайетта. Загадка с именем Анны: «Какое имя чуждо перемены?» – простейшая. Недавно критики обратили внимание, что образ сокола в стихах Уайетта 1530-х годов может иметь дополнительное значение. Я имею в виду прежде всего стихотворение: «Лети, Удача, смелый сокол мой!»:
Лети, Удача, смелый сокол мой, Взмой выше и с добычею вернись. Те, что хвалили нас наперебой, Теперь, как вши с убитых, расползлись; Лишь ты не брезгаешь моей рукой, Хоть волю ценишь ты и знаешь высь. Лети же, колокольчиком звеня: Ты друг, каких немного у меня.Белый сокол был эмблемой Анны Болейн на празднестве ее коронования в 1533 году. Значит, можно предположить, что и эти стихи относятся к тому же «болейновскому» лирическому сюжету[9]. Они могли быть написаны, например, в 1534 году, когда Томас Уайетт в первый раз попал за решетку (за уличную стычку, в которой был убит стражник). Там он, вероятно, написал и веселый сонет «О вы, кому удача ворожит…» – о несчастливце и вертопрахе, который, вместо того чтобы радоваться весне, вынужден проводить дни на жесткой тюремной койке, «в памяти листая все огорченья и обиды мая, что год за годом жизнь ему дарит».
Но маяться в веселом месяце мае Уайетту пришлось недолго. Вскоре он был освобожден, и удача продолжала ему улыбаться.
Томас Уайетт (1503–1542)
Влюбленный рассказывает, как безнадежно он покинут теми, что прежде дарили ему отраду
Они меня обходят стороной – Те, что, бывало, робкими шагами Ко мне прокрадывались в час ночной, Чтоб теплыми, дрожащими губами Брать хлеб из рук моих, – клянусь богами, Они меня дичатся и бегут, Как лань бежит стремглав от ловчих пут. Хвала фортуне, были времена Иные: помню, после маскарада, Еще от танцев разгорячена, Под шорох с плеч скользнувшего наряда Она ко мне прильнула, как дриада, И так, целуя тыщу раз подряд, Шептала тихо: «Милый мой, ты рад?» То было наяву, а не во сне! Но все переменилось ей в угоду: Забвенье целиком досталось мне; Себе она оставила свободу Да ту забывчивость, что входит в моду. Так мило разочлась со мной она; Надеюсь, что воздастся ей сполна.Отвергнутый влюбленный призывает свое перо вспомнить обиды от немилосердной госпожи
Перо, встряхнись и поспеши, Еще немного попиши Для той, чье выжжено тавро Железом в глубине души; А там – уймись, мое перо! Ты мне, как лекарь, вновь и вновь Дурную сбрасывало кровь, Болящему творя добро. Но понял я: глуха любовь; Угомонись, мое перо. О, как ты сдерживало дрожь, Листы измарывая сплошь! – Довольно; это все старо. Утраченного не вернешь; Угомонись, мое перо. С конька заезженного слазь, Порви мучительную связь! Иаков повредил бедро, С прекрасным ангелом борясь; Угомонись, мое перо. Жалка отвергнутого роль; К измене сердце приневоль – Найти замену не хитро. Тебя погубит эта боль; Угомонись, мое перо. Не надо, больше не пиши, Не горячись и не спеши За той, чьей выжжено тавро Железом в глубине души; Угомонись, мое перо.Он восхваляет прелестную ручку своей дамы
Ее рука Нежна, мягка, Но сколь властна она! В ней, как раба, Моя судьба Навек залючена. О, сколь персты Ее чисты, Изящны и круглы! – Но сердце мне Язвят оне, Как острие стрелы. Белей снегов И облаков Им цвет природой дан; И всяк из них, Жезлов драгих, Жемчужиной венчан. Да, я в плену, Но не кляну Прекрасной западни; Так соизволь Смягчить мне боль, Любовь свою верни. А коли нет Пути от бед Для сердца моего, Не дли скорбей, Сожми скорей И задуши его!Сатира I
Любезный мой Джон Пойнц, ты хочешь знать, Зачем не стал я больше волочиться За свитой Короля, втираться в знать И льнуть к вельможам, – но решил проститься С неволей и, насытясь ею всласть, Подальше от греха в свой угол скрыться. Не то, чтобы я презираю власть Тех, кто над нами вознесен судьбою, Или дерзаю их безумно клясть; Но не могу и чтить их с той слепою Восторженностию, как большинство, Что судит по расцветке и покрою, Не проникая внутрь и ничего Не смысля в сути. Отрицать не стану, Что слава – звук святой, и оттого Бесчестить честь и напускать туману – Бесчестно; но вполне достойно ложь Разоблачить и дать отпор обману. Мой друг! ты знаешь сам: я не похож На тех, кто любит приукрасить в меру (Или не в меру) принцев и вельмож; Ни славить тех, кто славит лишь Венеру И Бахуса, ни придержать язык Я не могу, держа иную веру. Я на коленях ползать не привык Пред деспотом, который правит нами, Как волк овечками, свиреп и дик. Я не умею жалкими словами Молить сочувствия или скулить, Ни разговаривать обиняками. Я не умею бесконечно льстить, Под маской чести прятать лицемерье Или для выгоды душой кривить, И предавать друзей, войдя в доверье, И на крови невинной богатеть, Отбросив совесть прочь, как суеверье. Я не способен Цезаря воспеть, При этом осудив на казнь Катона, Который добровольно принял смерть (Как пишет Ливий), не издав ни стона, Увидя, что свобода умерла; Но сердце в нем осталось непреклонно. Я не способен ворона в орла Преобразить потугой красноречья, Царем зверей именовать осла; И сребролюбца не могу наречь я Великим Александром во плоти, Иль Пана с музыкой его овечьей Превыше Аполлона вознести; Или дивясь, как сэр Топаз прекрасен, В тон хвастуну нелепицы плести; Хвалить красу тех, кто от пива красен – И не краснеть; но взглядом принца есть И глупо хохотать от глупых басен; За лестью никогда в карман не лезть И угождать в капризах господину… Как выучиться этому? Бог весть; Для этой цели пальцем я не двину. Но высшего двуличия урок – Так спутать крайности и середину, Чтоб добродетелью прикрыть порок, Попутно опороча добродетель, И на голову все поставить с ног: Про пьяницу сказать, что он радетель Приятельства и дружбы; про льстеца – Что он манер изысканных владетель; Именовать героем наглеца, Жестокость – уважением к законам; Грубьяна, кто для красного словца Поносит всех, – трибуном непреклонным; Звать мудрецом плутыгу из плутыг, А блудника холодного – влюбленным, Того, кого безвинно Рок настиг, – Ничтожным, а свирепство тирании – Законной привилегией владык… Нет, это не по мне! Пускай другие Хватают фаворитов за рукав, Подстерегая случаи шальные; Куда приятней меж родных дубрав Охотиться с борзыми, с соколами – И, вволю по округе проблуждав, Вернуться к очагу, где пляшет пламя; А в непогоду книгу в руки взять И позабыть весь мир с его делами; Сие блаженством я могу назвать; А что доныне на ногах колодки, Так это не мешает мне скакать Через канавы, рвы и загородки. Мой милый Пойнц, я не уплыл в Париж, Где столь тонки и вина, и красотки; Или в Испанию, где должно лишь Казаться чем-то и блистать наружно, – Бесхитростностью им не угодишь; Иль в Нидерланды, где ума не нужно, Чтобы от буйства к скотству перейти, Большие кубки воздымая дружно; Или туда, где Спаса не найти В бесстыдном Граде яда, мзды и блуда, – Нет, мне туда заказаны пути. Живу я в Кенте, и живу не худо; Пью с музами, читаю и пишу. Желаешь посмотреть на это чудо? Пожалуй в гости, милости прошу.Coнет из тюрьмы
Эй, вы, кому удача ворожит, Кого любовь балует, награждая, Вставайте, хватит праздновать лентяя, Проспать веселый праздник мая – стыд! Забудьте несчастливца, что лежит На жесткой койке, в памяти листая Все огорченья и обиды мая, Что год за годом жизнь ему дарит. Недаром поговорка говорит: Рожденный в мае маяться обязан; Моя судьба вам это подтвердит. Долгами и невзгодами повязан, Повержен в прах беспечный вертопрах… А вы ликуйте! С вами я – в мечтах!Прощай, любовь
Прощай, любовь! Уж мне теперь негоже На крюк с наживкой лезть, как на рожон; Меня влекут Сенека и Платон К сокровищам, что разуму дороже. И я, как все, к тебе стремился тоже, Но, напоровшись, понял, не резон Бежать за ветром бешеным вдогон И для ярма вылазить вон из кожи. Итак, прощай! Я выбрал свой удел. Морочь юнцов, молокососов праздных, На них, еще неопытных и страстных, Истрать запас своих смертельных стрел. А я побуду в стороне; мне что-то На сгнивший сук взбираться неохота.Песня о несчастной королеве Анне Болейн и ее верном рыцаре Томасе Уайетте
Милый Уайетт, так бывает: Леди голову теряет, Рыцарь – шелковый платок. Мчится времени поток. А какие видны зори С башни Генриха в Виндзоре! Ястреб на забрало сел, Белую голубку съел. «О́ни-сва кималь-и-пансы…»[10] Государь поет романсы Собственного сочине… Посвящает их жене. Он поет и пьет из кубка: «Поцелуй меня, голубка». И тринадцать красных рож С государем тянут то ж: «О́ни-сва кималь-и-пансы…» – И танцуют контрадансы Под волыночный мотив, Дам румяных подхватив. А другие англичане Варят пиво в толстом чане И вздыхают говоря: «Ведьма сглазила царя». …В темноте не дремлет стража, Время тянется, как пряжа, Но под утро, может быть, Тоньше делается нить. Взмыть бы, высоко, красиво, Поглядеть на гладь Пролива! – Гребни белые зыбей – Словно перья голубей. Улетай же, сокол пленный! – Мальчик твой мертворожденный По родительской груди Уж соскучился, поди.Король Генрих VIII (1491–1547)
Получил образование под руководством Джона Скельтона, привившего ему интерес к поэзии. Став королем, поддерживал изящные искусства, приглашая в Лондон художников, поэтов и музыкантов со всей Европы. Любил музицировать на лютне и сам сочинял музыку. Сохранившиеся его стихи предназначены для пения. Среди них – застольные и любовные песни, а также церковный гимн. В 1530-х годах порвал с римским папой и объявил себя главой Английской церкви. Закрыл монастыри и произвел секуляризацию их земель. Вторая половина его царствования омрачена репрессиями против не признавших его «Акт о Главенстве» (в их числе был и автор знаменитой «Утопии» Томас Мор), тиранской подозрительностью и жестокостью.
Король Генрих VIII. Ганс Гольбейн Младший, 1536 г.
Зелень остролиста
Зелень остролиста и верного плюща, Пусть ветер зимний злится, по-прежнему свежа Зелень остролиста. Как остролист зеленый Не изменяет цвет, Так, в госпожу влюбленный, Не изменюсь я, нет. Зелень остролиста, и т. д. Так зеленеет остролист И зеленеет плющ, Когда с дубов слетает лист И холод в поле злющ. Зелень остролиста, и т. д. Своей прекрасной даме Божусь я и клянусь, Что к ней одной пылаю И к ней одной стремлюсь. Зелень остролиста, и т. д. Прощай, драгая дама, Прощай, душа моя! Поверь, не увядает К тебе любовь моя. Зелень остролиста и верного плюща, Пусть ветер зимний злится, по-прежнему свежа Зелень остролиста.Джордж Болейн, Виконт Рошфор (1504?–1536)
Брат королевы Анны Болейн и друг Томаса Уайетта, поэт. Обвинен в прелюбодейной связи со своей сестрой-королевой и казнен в Тауэре вместе с четырьмя его друзьями-придворными.
Смерть, приди
О Смерть, молю тебя, приди И отдых мне пожалуй! Пусть из измученной груди Умчится дух усталый. О колокол, звучи, Твой погребальный звон Да будет в темной сей ночи Ветрами разнесен. Ты смолкнешь поутру – И я умру! О боль моя, как ты страшна, Ты рвешь меня, как львица! И все же ты не так сильна, Чтоб жизни дать продлиться. О колокол, и т. д. Один, один я утра жду В угрюмом заточенье. Как объяснить мою беду, Как высказать мученье? О колокол, и т. д. Прощайте, радости мои, Входи, мой жребий грозный! Оплакать бы грехи мои, Да только слишком поздно. О колокол, молчи, Твой погребальный звон Я слышу в темной сей в ночи, До сердца потрясен. Помилуй, Боже! Смерть страшна; Все ближе, ближе… Вот – она!Праща и песня Судьба графа Сарри
I
Ему повезло: он родился в одном из самых влиятельных семейств королевства, стоявшем весьма близко к трону, – на котором в то время восседал его суровый тезка Генрих VIII. Но в этой удаче был подвох: положение и родовые связи невольно вовлекли его в центр придворных интриг и стали причиной его смерти на эшафоте в неполные тридцать лет.
Генри Говард родился в 1517 году. Когда ему было семь лет, умер его дед Томас Говард – второй герцог Норфолкский; произошла обычная в аристократических семействах передача эстафеты: отец Генри, носивший в тот момент титул графа Сарри (т. н. «титул учтивости», не дающий звания лорда), стал герцогом, а освободившийся титул графа Сарри достался семилетнему Генри.
Надо сказать, что Томас Говард, третий герцог Норфолкский, был не просто хитрым царедворцем, боровшимся за власть при дворе короля Генриха VIII: это был редкостный, даже для своего времени, негодяй – жестокий, подлый, беспринципный. Достаточно сказать, что он рьяно помогал отправить на эшафот двух своих племянниц – сперва королеву Анну Болейн, потом королеву Екатерину Говард. Неудивительно, что, рожденный от такого отца, Генри не обрел в своей семье ни лада, ни мира: среди обрекших его гибели были его сестра, давшая роковые показания против него на Тайном совете, и родной отец, без раздумий пожертвовавший головой сына, чтобы спасти свою.
Ранние годы Генри провел в родовом имении в Кеннингхолле, а лет десяти он был избран в товарищи своему сверстнику, незаконному сыну короля, носившему имя Генри Фицроя, графа Ричмонда. В течение ряда лет они были почти неразлучны, проводя время в Виндзоре и в других замках, принадлежащих короне. Они и обвенчаны были почти одновременно и очень рано, лет в четырнадцать-пятнадцать: Сарри – с леди Фрэнсис де Вир, Ричмонд – с Мэри Говард, сестрой своего друга; такие подростковые браки, с отсрочкой, были в обычае того времени. Сразу после женитьбы молодоженов разлучили: Фрэнсис и Мэри были отправлены ко двору (в дома принцессы Мэри и Анны Болейн соответственно), а мужья-подростки вернулись в Виндзор. Фактически мужем и женой Генри и Фрэнсис сделались лишь через три года после венчания, в 1535 году.
Генри Говард, граф Сарри. Ганс Гольбейн Младший.
Характер Генри, как он предстает из документов и его стихов, был гремучей смесью искренности и доброты с пылкостью и необузданностью; достаточно было любого повода, чтобы его рассудительность и рыцарское вежество обернулись бешеной вспышкой гнева или маской ледяного презрения. Нрав, можно сказать, гамлетовский – или (еще ближе к нам) лермонтовский.
В первый раз, как показывают королевские архивы, граф Сарри попал в тюрьму в 1535 году за рукоприкладство. Поскольку объектом прикладывания руки был дворянин, а произошел инцидент в парке королевской резиденции Хэмптон-Корт, то, по законам того времени, ему вполне могли отсечь руку за такое преступление. Но на первый раз ходатайство Норфолка первому министру Кромвелю спасло Сарри: его всего лишь сослали на время в Виндзор.
В 1536 году ему выпало быть гофмаршалом (фактически церемониймейстером) на суде Анны Болейн; о его чувствах по этому поводу мы ничего не знаем – в любом случае их было безопасней хранить про себя. Через месяц при подозрительных обстоятельствах умирает его лучший друг Генри Фицрой, граф Ричмонд, – видно, само существование бастарда Генриха VIII, которого король мог в любой момент сделать своим законным наследником, не устраивало какую-то из борющихся за власть придворных партий. В следующем году Сеймуры, приобретя большое влияние благодаря браку короля с Джейн Сеймур, обвинили Сарри в тайных симпатиях к католикам и отправили его в заточение в Виндзор почти на два года. Там он написал одно из самых своих известных стихотворений, посвященных памяти Ричмонда и их мальчишеской дружбе, окрепшей в стенах королевского замка. Стихи замечательны и описаниями виндзорских сцен и «забав», и общим элегическим настроением:
Дубрава, отряхнувшая с плеча Осенний плащ, где, скакуна пришпоря, чрез пни и рвы мы гнали рогача, Дав захлебнуться лаем гончей своре; Опочивальни нашей строгий вид, Простые и неубранные стены, Как нам спалось вдали от всех обид И горестей, как были сны блаженны! ……………… Припомню – и отхлынет кровь от щек, От вздохов разорваться грудь готова; И, не умея слез унять поток, Я сетую и вопрошаю снова: «Обитель счастья! Край, что столько мук Принес мне непостижной переменой! Ответствуй: где мой благородный друг, Для всех – любимый, для меня – бесценный?»II
Тем временем придворная схватка вступила в новую фазу, Сеймуры и Кромвель начинают терять свое влияние, и вот мы видим графа Сарри снова блистающим при дворе его величества. На рыцарском турнире 1540 года, посвященном свадьбе Генриха VIII с Анной Клевской, он главный победитель. Но «фламандская кобыла», как называл ее венценосный супруг, скоро была отправлена в отставку, и король женится на двоюродной сестре Сарри, Екатерине Говард, что, разумеется, еще более укрепляет положение графа при дворе. Он выполняет различные военные поручения короля и хоть однажды (в 1542 г.), за потасовку с неким Джоном Ли, оказывается – опять-таки – в тюрьме Флит, но это только эпизод. Вообще, может сложиться впечатление, что тюремные отсидки были благоприятны для поэтической музы графа Сарри – в темнице он получал досуг и то спокойствие духа, которое необходимо для творчества. Возможно, что именно сидя в тюрьме Флит, он написал свой сонет, посвященный некой Джеральдине, в которой легко угадывается Элизабет Фицджеральд, дочь графа Килдарского, тогда четырнадцатилетняя девушка (в следующем году ее выдадут замуж за шестидесятилетнего сэра Энтони Брауна).
Два этих разрозненных факта – победа в турнире и сонет – через шестьдесят лет произведут такое сотрясение в изобретательной голове Томаса Нэша, что он вставит графа Сарри в свой роман «Злополучный путешественник, или жизнь Джона Уилтона» (1594) – первый плутовской роман в английской литературе. Живописная легенда о рыцаре, расстающемся со своей дамой Джеральдиной в Лондоне и совершающем паломничество на ее родину во Флоренцию, чтобы там с оружием в руках отстоять красоту своей дамы, – целиком плод причудливого воображения автора. Описание вызова и самих поединков явно пародийное, так что граф Сарри выступает у Нэша в роли почти что Дон Кихота (к тому времени еще не написанного).
Он и был, в определенном смысле, Дон Кихотом. Не случайно один из современных биографов Сарри пишет: «Хотя его поэзия опередила свое время на целых полвека, его политические взгляды устарели, наверное, на двести лет». Эталон рыцарской чести и рыцарского вежества, Сарри был живым анахронизмом в макиавеллианской Англии своих дней.
Но то, что мы ясно видим теперь (и что угадал хитрюга Нэш), было еще невдомек Майклу Дрейтону, который принял рассказ о Рыцаре Прекрасной Джеральдины за чистую монету и включил трогательное послание графа Сарри к своей возлюбленной в свои «Героические эпистолы Англии» (1598). Приведем Содержание, предваряющее стихи:
Генри Говард, сей благороднейший граф Сарри и превосходный Поэт, влюбляется в Джеральдину, происходящую из благородной семьи Фицджеральдов в Ирландии, прекрасную и скромную Леди и одну и придворных дам королевы Екатерины Доуваджер, увековечивает хвалы ей во многих превосходных Стихах редких и разнообразных достоинств; по прошествии нескольких лет, вознамерившись увидеть достославную Италию, источник и Геликон всех превосходных муз, посещает сначала прославленную Флоренцию, откуда Фицджеральды выводят свое родословие от древнего рода Джиральди; там в честь своей возлюбленной он вывешивает ее портрет и заявляет о своей готовности отстоять ее красоту с оружием в руках против всякого, кто осмелится явиться на ристалище, где, выказав неустрашимую и несравненную доблесть и своей рукой увенчав ее красоту вечною славой, он пишет нижеследующее послание своей дражайшей Возлюбленной….
Мы сожалеем, что обязаны здесь держаться канвы достоверных фактов и набросить как бы тень сомнения на версию Нэша-Дрейтона. Не всякий поймет эту скрупулезность, не всякий нас оправдает, и это понятно – увы! то, что читатель выигрывает в точности, он проигрывает в удовольствии.
III
Как поэт, граф Сарри следовал по пути, уже проложенному Уайеттом: сочинял сонеты, терцины и куртуазные стихи в старинном духе. Но он отнюдь не был лишь тенью старшего поэта, которым искренне восхищался. Именно Сарри ввел разные рифмы в первом и втором терцете сонета (у Уайетта рифма была четверная), создав тем самым канон английского сонета: три отдельных строфы плюс двустишие. Он также ввел в употребление белый пятистопный ямб (в переводе «Энеиды» Вергилия) – ключевой размер английской поэзии, на котором написаны не только все пьесы Шекспира и его современников, но и поэмы Мильтона, Вордсворта, Браунинга и многих других. Известно, что сонеты Сарри ценились потомками выше уайеттовских, ибо были глаже по языку и мелодичнее; впоследствии за эту же гладкость их ставили ниже… Но дело совершенно не в этих играх и перестановках. Несомненно, что Сарри более петраркианский поэт, чем Уайетт, и менее отрефлексированный: может быть, причиной тому его пылкий темперамент. Некоторые стихи удивляют своей смелой и точной траекторией. Рассмотрим один сонет, написанный в виндзорском заточении.
Весна в Виндзоре
Устало подбородком опершись На руку, а рукой – на край стены, Тоскуя, поглядел я с башни вниз – И удивился зрелищу весны, Вновь разодевшей в пух цветущий луг, Вновь разбудившей птах в тени дубрав; И так нежданно вспомнилась мне вдруг Веселая пора любви, забав, Нестрашных бед и сладостных тревог, Всего, чего вернуть не станет сил, что шумных вздохов я сдержать не смог И жаркими слезами оросил Дол, зеленевший юною травой, – И чуть не спрыгнул сам вниз головой.Стихотворение явно построено по кинематографическому принципу. «Устало подбородком опершись /На руку…» – крупный план, показано даже не все лицо, а только щека, подбородок, легший на ладонь. «… а рукой – на край стены» – камера съезжает немного вниз, давая контраст живой руки и грубого камня крепостных стен. «Тоскуя, поглядел я с башни вниз –» – камера скользит по стене и вдруг (на поставленном тире) отрывается и дает широкую панораму, насыщенную голубым и зеленым: «И удивился зрелищу весны…»
«Вновь разодевшей в пух цветущий луг, / Вновь разбудившей птах в тени дубрав…» Камера начинает перемещаться большими плавными взмахами – сначала луг, одетый пухом цветения, потом лес (фонограмма – пенье птиц)… и тут, на входе в зеленое облако леса, взгляд внезапно расфокусируется, и следует наплыв:
И так нежданно вспомнилась мне вдруг Веселая пора любви, забав, –Здесь поэт (сценарист) дает общие слова, за которыми читатель (режиссер) сам может угадать лица, сцены и воспоминания, просвечивающие сквозь зеленое марево листвы.
Нестрашных бед и сладостных тревог, Всего, чего вернуть не станет сил, –Наплыв обрывается, и мы осознаем (шаблонный прием кино) причину расфокусирования – увлажнившиеся глаза смотрящего: «Что шумных вздохов я сдержать не мог / И жаркими слезами оросил / Дол, зеленевший юною травой…» Обратите внимание: оросил не щеки, не рукав; значит, действительно, поэт облокотился на самый край стены и слезы капают уже туда, наружу. Предпоследние, гениальные кадры – слезы-самоубийцы, обрывающиеся вниз вдоль крепостной стены, подсказывая естественную для узника мысль о развязке:
И чуть не спрыгнул сам вниз головой.
Последней, заключительной строке сонета всегда придавалось особое значение, был даже особый термин для этой строки – замóк. Замок виндзорского сонета безупречен.
IV
Мы подходим к самому трудному месту нашего рассказа – эпизоду с рогаткой. Как явствует из документов Тайного Совета, в апреле 1543 года Сарри с несколькими товарищами (среди которых был Томас Уайетт младший) был арестован по двойному обвинению – в том, что он ел скоромное в Великий пост, и в том, что буйствовал ночью на улицах Лондона, стреляя из рогаток по окнам горожан.
Впрочем, слово «рогатка» мы ставим для наглядности. В документе употреблено слово stonebow, которое может означать специальную пращу или арбалет для метания камней. Я не очень хорошо себе представляю эти устройства – и как вообще хулиганы шестнадцатого века обходились без каучуковой резинки, но, видимо, у них были свои методы. Раз речь идет о битье окон камнями, я полагаю, что можно сказать «рогатка» – и все будет понятно.
Другой вопрос: зачем Генри Говарду, уже далеко не мальчику, а мужу, участвовавшему к тому времени в настоящих боевых действиях, рыцарю Подвязки, в конце концов, – зачем ему бить стекла из рогатки? Скорее можно понять Томаса Уайетта младшего – безотцовщина (батюшка умер в предыдущем, 1542 году), неприкаянность, дурное влияние старших товарищей… Вот и забыл отцовские письма-наставления, – хотя впоследствии и утверждал, что берег их как зеницу ока и каждый день перечитывал. В тот день, небось, не перечитал.
Всегда думай и представляй, что ты находишься в присутствии какого-нибудь честного человека, тебе известного, – сэра Джона Рассела, твоего крестного, или твоего дядюшки Парсона, или кого иного: и всякий раз, когда тебе впадет на ум сотворить недостойное, вспомни, какой позор – сотворить подобную проказу в присутствии сих мужей. Таковое представление напомнит тебе, что удовольствие от проказы скоро минет, а стыд, укор и пятно останутся навсегда (Письмо Томаса Уайетта своему сыну, тогда пятнадцатилетнему, из Испании, 1537).
Но вернемся к графу Сарри. Оправдываясь перед Советом по первому обвинению, он сослался на разрешение священника (хотя и в этом случае не должен был бы употреблять скоромное в публичном месте), что касается второго обвинения, Сарри признал, что совершил преступное дело и готов принять любое наказание, которое суду будет благоугодно назначить.
Но, видимо, после того, как граф был водворен в тюрьму Флит, мысли его пошли по совершенно другому направлению. Первоначальное раскаяние (если таковое было) сменилось приступом неудержимого сатирического вдохновения. Строгая форма (терцины) лишь помогла разбегу красноречия:
Ты, Лондон, в том винишь меня, что я прервал твой сон полночный, Шум непотребный учиня. А коли стало мне невмочно Смотреть на ложь твою и блуд, Град нечестивый и порочный?Мотивом стеклобития оказывается намерение разбудить души горожан, погрязшие в пороках и не слышащие предостерегающего голова пророка: «Не окна я ломал – будил / Тех гордых, что, греша помногу, / Небесных не боятся сил». Поразительно, что эта, казалось бы, игра ума, поэтическая выходка юного аристократа и шалопая, оказывается сущей правдой – и возвышается до пророчества почти библейской мощи:
О величайшая Блудница, Тщеславный, лживый Вавилон! Твои виссон и багряница Не скроют бесов легион, Кишащих в этих тесных стенах; Ты лишь обманчиво силен; Кровь мучеников убиенных Взывает к небу, вопия О вероломствах и изменах. Их вопль услышит Судия И скоро отомстит, нагрянув С чумой и гладом на тебя; И ты падешь, в ничтожность канув Всем прахом башен и колонн, Дворцов и гордых истуканов, чтоб стать навеки средь племен Предупреждением нелишним, Как Град Греха, что сокрушен Благим и праведным Всевышним.V
Таковы были последние «шалости» графа Сарри, но не последние его воинские подвиги. Оставшиеся ему три с половиной года жизни Сарри провел во Франции, где показал себя храбрым солдатом и талантливым полководцем. Он был тяжело ранен при осаде Монтрё, командовал армиями в должности фельдмаршала, отличился при защите Булони и был назначен комендантом этого важного для англичан района. Укрепления Булони в тот момент были полуразрушены, и город казался почти беззащитен перед угрожавшей ему французской армией. Сарри собственноручно составил план восстановления фортификационных укреплений города и защитил его перед королем и Тайным Советом, вопреки мнению большинства, предлагавших просто сдать город. С одобренным планом защиты Булони он вернулся в город и принялся успешно осуществлять его, но одна крупная вылазка (в которой он лично командовал отрядом пехоты) оказалось неудачной. Это, вероятно, и стало формальной причиной его отзыва в Лондон через несколько месяцев.
Придворная фракция герцога Гертфордского уже давно плела интриги против Норфолков, старшего и младшего. В данном случае, военные заслуги Сарри явно перевешивали его последнее поражение, и в ожидании нового назначения он пребывал по-прежнему в чести и фаворе. Но интриги Гертфордов уязвляли графа и он не умел этого скрывать. Он открыто и неосторожно ругал своих врагов – и однажды, по-видимому, выразился в том смысле, что обязательно разделается с ними при новом царствовании. Эти слова донесли больному и подозрительному королю – с соответствующими украшениями. За всем этим стояли Герфорды и Сеймуры, использовавшие Генриха как инструмент в своей последней, отчаянной борьбе за власть. Началось дознание. Опаснейшие показания против Сарри дала его сестра, затаившая мстительные чувства еще с той поры, как брат отверг ее второго жениха (после смерти Ричмонда); в то время как мать Сарри, графиня Норфолкская, свидельствовала против своего мужа, фактически с ней давно расставшегося. В декабре отец и сын Норфолки были арестованы и отправлены в Тауэр.
Обвинение было стандартное – государственная измена, приговор – смерть. Генри Говард, граф Сарри взошел на эшафот 13 января 1547 года. Будь казнь отсрочена хотя бы до конца месяца, он бы спасся, как спасся его хитроумный отец, герцог Норфолкский, – ибо 28 января последовала давно ожидаемая кончина короля. Царствование Генриха VIII и первый этап английского Возрождения закончились практически одновременно.
Последней поэтической работой Сарри стал перевод нескольких псалмов Давидовых. Заметим, что псалмопевец Давид смолоду был воином. И он тоже когда-то баловался пращой.
Генри Говард, граф Сарри (1517?–1547)
Строфы, написанные в Виндзорском замке
Как вышло, что моей тюрьмой ты стал, Виндзорский замок, где в былые годы Я с королевским сыном возрастал Среди утех беспечных и свободы? О, как теперь горчит твоя краса – Зеленые дворы, где мы гуляли, К девичьей башне возводя глаза, Вздыхая томно в сладостной печали; Большие залы, пышный маскарад, Волшебные поэмы, танцы, игры, Признанья, в коих так горой стоят За друга, что смягчились бы и тигры; Мяч, в воздухе мелькавший взад-вперед, Когда, ловя желанный взгляд с балкона Красавицы, нам возвещавшей счет, Бросок мы пропускали ослепленно; Ристалище, где шелковый рукав Прекрасной дамы привязав к шелому, На потных конях мчались мы стремглав В потешный бой – один навстречь другому; Лугов росистых утренний покой, Куда мы шум и буйство приносили, Ведя ватагу под своей рукой И состязаясь в ловкости и силе; Укромные поляны, что не раз Приветствовали эхом благосклонным Обмен сердечных тайн и пылких фраз – Обряд, без коего не жить влюбленным; Дубрава, отряхнувшая с плеча Осенний плащ, где, скакуна пришпоря, Чрез пни и рвы мы гнали рогача, Дав захлебнуться лаем гончей своре; Опочивальни нашей строгий вид, Простые и неубранные стены, Как нам спалось вдали от всех обид И горестей, как были сны блаженны! Как безоглядно доверяли мы, Как в дружбу верили, как ждали славы; Как избывали скучный плен зимы, Придумывая шутки и забавы! Припомню – и отхлынет кровь от щек, От вздохов разорваться грудь готова; И, не умея слез унять поток, Я сетую и вопрошаю снова: “Обитель счастья! Край, что столько мук Принес мне непостижной переменой! Ответствуй: где мой благородный друг, Для всех – любимый, для меня – бесценный?» Лишь эхо, отразясь от гулких плит, Мне откликается печальным шумом; Злосчастный арестант, судьбой забыт, Я чахну в одиночестве угрюмом. И только худшей скорби жгучий след Смягчает боль моих последних бед.Оправдание графа Сарри, написанное в тюрьме Флит
Ты, Лондон, в том винишь меня, Что я прервал твой сон полночный, Шум непотребный учиня. А коли стало мне невмочно Смотреть на ложь твою и блуд, Град нечестивый и порочный? И гнев во мне разжегся лют: Души, я понял, лицемерной Увещеванья не спасут. Иль впрямь свои грехи и скверны Ты втайне думал сохранить? Сии надежды непомерны. Возмездия не отвратить; Непрочен мир творящих злое! Чтоб эту истину внушить, Решился я с моей пращою, Прообразом Господних кар, Лишить бездельников покоя. Как молнии немой удар – Ужасного предвестник грома, Так камешков летящий стук По ставням дремлющего дома (Негромкий и невинный звук) Я мнил, тебе судьбу Содома С Гоморрою напомнят вдруг: Чтобы гордыня усмирилась И, смертный пережив испуг, К возвышенному обратилась; Чтоб Зависть тотчас поняла, Как гнусен червь – и устыдилась; Чтоб Гнев узрел, в чем корень зла, И свой унял жестокий норов; Чтоб Леность сразу за дела Взялась без дальних разговоров; Чтоб жадность раздала свой клад, Познав бессмысленность затворов И страхов ежедневный ад; Чтоб любодеи клятву дали Забыть про похоть и разврат; Чтобы обжоры зарыдали, Очнувшись, о своей вине; Чтоб даже пьяницы в кружале, Забыв о мерзостном вине, Душою потянулись к Богу, – Вот ведь чего хотелось мне, Вот отчего я бил тревогу! Не окна я ломал – будил Тех гордых, что, греша помногу, Небесных не боятся сил, Не внемлют голосу провидца! Но тщетно я потратил пыл. О величайшая Блудница, Тщеславный, лживый Вавилон! Твои виссон и багряница Не скроют бесов легион, Кишащих в этих тесных стенах; Ты лишь обманчиво силен; Кровь мучеников убиенных Взывает к небу, вопия О вероломствах и изменах. Их вопль услышит Судия И скоро отомстит, нагрянув С чумой и гладом на тебя; И ты падешь, в ничтожность канув Всем прахом башен и колонн, Дворцов и гордых истуканов, Чтоб стать навеки средь племен Предупреждением нелишним, Как Град Греха, что сокрушен Благим и праведным Всевышним.На смерть Томаса Уайетта
Здесь упокоен Уайетт, враг покоя, Тот, что дары редчайшие сберег В душе, гонимой злобою мирскою: Так зависть благородным людям впрок. Ум, смолоду не ведавший безделья, Подобный кузнице, где всякий час Выковывались славные изделья Британии в прибыток и в запас, Лик, поражавший добротой суровой И горделивостью без похвальбы, И в бурю, и в грозу всегда готовый Смеяться над капризами судьбы, Рука, водившая пером поэта, Что Чосера, казалось, превзойдет: Недостижимая доныне мета, К которой и приблизиться – почет, Язык, служивший королю немало В чужих краях; чья сдержанная речь Достойные сердца воспламеняла Преумножать добро и честь беречь, Взгляд, мелкими страстями не слепимый, Но затаивший в глубине своей Спокойствия утес неколебимый – Риф для врагов и якорь для друзей, Душа небоязливая, тем паче Когда за правду постоять могла: Не пыжавшая перьев при удаче, В беде не омрачавшая чела, Мужская стать особенного рода, В которой слиты сила с красотой, – Таких людей уж нет! Увы, Природа Разбила форму для отливки той. Но Дух его, покинув прах телесный, Вернулся вновь к Христовым высотам: Живой свидетель истины небесной, Ниспосланный неблагодарным нам. Сколь ни скорби теперь – все будет мало; Земля, какой Алмаз ты потеряла!Джон Харингтон из Степни (1517?–1582)
Занимал должность хранителя королевских зданий при Генрихе VIII. После смерти первой жены служил принцессе Елизавете и сохранил ей преданность в опасные времена королевы Мэри. Харингтон писал изящные стихи всем шести фрейлинам принцессы Елизаветы и в конце концов женился на одной из них, Изабелле Маркем. Елизавета была крестной их первенца Джона, будущего поэта (сэр Джон Харингтон, 1561–1612). Чтобы различить отца и сына, принято к имени старшего прибавлять «из Степни», а к имени младшего его рыцарский титул «сэр».
Дражайшей матушке – о сражении, коего свидетелем я стал
Великий приключился бой – Хотя убитых нет – Меж тем, писать ли мне письмо, Иль отложить ответ. У первой рати во главе Стоял Сыновний Долг, Но сэры Спех и Недосуг Вели враждебный полк. Спех в западню меня загнал И выхода лишил, А Недосуг со всех сторон Войсками обложил. Но капитан Сыновний Долг Подвиг меня писать И бодро воодушевил Слабеющую рать. Бой краток был и не кровав, Хоть в эти полчаса Явили обе стороны Отваги чудеса. Кому ж Фортуна в этот раз Победу отдала? Тому, кто против двух один Держался, как Скала. И победитель мне велел, Едва лишь бой умолк, Стихи вам эти написать, Чтобы явить свой Долг.Анна Эскью (1521–1546)
В 1539 году Генрих VIII ввел смертную казнь за несоблюдение «шести статей», католического вероучения, от которого король не хотел слишком далеко отходить. С этого момента стали казнить как католиков, отрицавших «Акт о супрематии», так и протестантов, несогласных с «шестью статьями». Анна Эскью, молодая леди из Линкольншира, за свои протестантские убеждения была заключена в тюрьму, подвергнута жесточайшим пыткам и сожжена. Есть основания полагать, что в преследовании Эскью были замешаны придворные интриги, так как она пользовалась покровительством последней жены Генриха VIII Екатерины Парр, и что ее пытались заставить дать показания против своих друзей при дворе, но Анна никого не выдала. Предсмертная баллада протестантской мученицы была напечатана вместе с протоколами допросов в Марбурге (Германия) вскоре после ее казни.
Баллада, сочиненная и спетая Анной Эскью в Ньюгейтской тюрьме
Как рыцарь молодой, Спешащий на турнир, Я выхожу на бой, И мой противник – Мир. Он смертью мне грозит, Со всех сторон тесня. Но Дух Святой – мой щит И Ангелы – броня. Христова мощь сильна, Она не даст мне пасть, Пускай хоть сатана Свою разверзнет пасть. Но с верою Отцов И с правдою в ладу На сонмище врагов Без страха я иду. Я веселюсь душой И не боюсь угроз, Я знаю, что со мной В союзе сам Христос. Стучащим отворю, – Так ты сказал, Господь. Пошли же рать свою Злодеев побороть. Несчетно их число, Врагов вокруг – стена; Но не коснется зло Ту, что тебе верна. Что мне их дым и чад? Ведь ты – заступник мой. Не страшен супостат, Пока мой Бог со мной. Есть якорь у меня, Есть праведный штурвал, Есть крепкая ладья, – Пускай же грянет шквал! Неловко я пишу, Мой стих не искушен, И все же расскажу, Какой мне снился сон. Я зрела пышный зал И царский в нем престол, На коем восседал Жестокий Произвол. Бурлящей лжи потоп Невинных поглотил, И сатана взахлеб Кровь мучеников пил. Господь мой Иисус! О, как на них падет Их беззаконий груз, Когда твой Суд грядет. И все же, мой Господь Даруй и этим злым Прощения щепоть, Как я прощаю им.«Нехороший» Тербервиль
Русские темы и образы довольно часто встречаются в английской ренессансной литературе. В ранней шекспировской комедии «Напрасные усилия любви» (1590) есть целая маскарадная сцена с переодеванием в русские костюмы и соответствующей интермедией. И не удивительно. В царствование Елизаветы I Тюдор англо-российские сношения были уже довольно оживленными. Иван Грозный предоставил основанной английскими купцами в 1554 году Московской компании право беспошлинной торговли и ряд других привилегий. Он даже подумывал о сватовстве к английской принцессе.
Среди англичан, писавших о России, особый интерес представляет Джордж Тербервиль, побывавший в Москве в 1568 году с посольством Томаса Рэндольфа, автор любопытных стихотворных посланий из Московии. По свидетельству современника, их было больше, но до нас дошли только три, включенные Ричардом Гаклюйтом в знаменитый сборник документов «Главные плавания, путешествия, странствия и открытия английской нации» (первое издание 1589 г.).
Конечно, Тербервиль – поэт не первого и даже не второго ряда, так что ждать от его стихов особых поэтических красот не приходится. Однако это первый английский поэт, написавший о России как очевидец; тем он нам и интересен. За строками Тербервилевых посланий довольно явственно маячит тень Овидия с его «Скорбными элегиями» и «Письмами с Понта». Это чувствуется в дружеских изъяснениях, в описаниях суровости зим, а особенно – в жалобах на варварство местного населения: Тербервиль полагал между собой и жителем Московии примерно ту же дистанцию, что утонченный римский поэт – между собой и скифом.
Читатель обратит внимание на своеобразный размер – вместо элегичес кого дистиха Овидия Тербервиль использует старинную английскую форму двустишия из 12 и 14 строк, так называемый «колченогий размер». (Иногда его также называют «размер птичницы» (poultry verse), объясняя, что в те времена яйца на базарах продавали дюжинами, а арифметику лондонские торговки знали нетвердо, так что у них выходило по-разному – от 12 до 14 штук. Красочный пример ложной этимологии, основанной на сходстве слов polter, колченогий, и poultry, домашняя птица). К концу XVI века «колченогий размер» вышел из употребления.
Впечатления Тербервиля от России в целом мрачны, тон его желчен. Вряд ли он мог оказаться иным. Посольству Томаса Рэндольфа пришлось испытать настоящие мытарства. Несколько месяцев они добирались из Архангельска до Москвы, преодолевая чинимые русскими властями задержки и препятствия, и потом еще несколько месяцев провели в Москве под суровой, почти тюремной, охраной, не получая у царя желаемой аудиенции. Истинная причина столь строгой изоляции, по предположению русского историка ю. В. Толстого, в том, что Иван Грозный «не хотел, чтобы посол и посольские люди знали, что делается на Москве, где в это время происходили казни, свирепствовали опричники, лишался сана митрополит Филипп». В своих письмах Тербервиль неоднократно намекает, что мог бы поведать нечто и похуже того, о чем он решается рассказать. Понятно, что опасения его были оправданны, письма могли перехватить. И все же Тербервиль не удержался ни от критики деспотии (хотя бы в самой общей форме), ни от осуждения православной религии, которая, с протестантской точки зрения, вероятно, должна была казаться идолопоклонством и пустосвятством.
Фрагмент карты Русского государства, созданный по эскизу царевича Федора Годунова. Нач. XVII в.
Насколько верны его этнографические сведения? В основном верны, поскольку они совпадают с тем, что известно нам из других источников, в частности из книги папского посла в России Сигизмунда Герберштейна «Записки из Московии», на которые и сам поэт ссылается («В том Сигизмундов загляни, там правду ты найдешь»). Для нас послания Тербервиля ценны своим колоритом, подлинностью времени, места и самого рассказчика. Любопытно, как явно предубежденный, «нехороший» Тербервиль, ругая в Московии все и вся, не может удержаться от похвалы, описывая устройство русской избы, например. Забавно, когда заносчивый бритт по степени варварства ставит московитов на один уровень с «ирландскими дикарями». Мне как переводчику древней ирландской поэзии приятно всякое сближение между русской и ирландской культурой, даже такое парадоксальное. За давностью лет обидное превратилось в занимательное, банальное – в редкостное; и только поучитель ное осталось в какой-то степени поучительным до сих пор. В какой степени – судить читателю.
Конный воин-московит. Из книги С. Герберштейна «Записки о Московии», 1556 г.
Джордж Тэрбервиль (1544?–1597?)
Происходил из старинного рода графства Дорсет. Учился в Оксфорде, но не получил степени, затем – в одной из лондонских юридических школ. Переводил Овидия и Горация, подготовил для печати три поэтические книги. В 1568 году в составе английского посольства приехал в Россию и оттуда слал друзьям стихотворные послания, три из которых сохранились. Известна также книга о соколиной охоте Тербервиля, изданная в один год с «Благородным искусством псовой охоты» Гаскойна (1575).
Эпистолы стихотворные из Московии
мистера Джорджа Тербервиля,
секретаря мистера Томаса Рэндольфа,
посла ее Величества к Императору в 1568 году,
с описанием сказанной страны, ее людей и обычаев
I Моему особливому другу мистеру Эдварду Дарли
Мой друг! Едва начну перечислять, скорбя, Далеких лондонских друзей и, прежде всех, тебя, Так станет невтерпеж, так сделается жаль, Что брег я променял на бриг и радость на печаль. Беспечный человек, я бросил край родной, Чтоб землю руссов увидать, узнать народ иной. Народ сей груб весьма, живет как бы впотьмах, Лишь Бахусу привержен он, усерден лишь в грехах. Пиянство тут закон, а кружка – старшина, И самой трезвой голове раз в день она нужна. Когда зовет на пир гостелюбивый русс, Он щедро уставляет стол питьем на всякий вкус, Напитков главных два, один зовется Kvas, Мужик без Кваса не живет, так слышал я не раз. Приятно терпок он, хотя и не хмелен. Второй напиток – сладкий Myod, из меда сотворен. Когда идет сосед соседа навестить, Он на закуску не глядит, лишь было бы что пить. Напившись допьяна, ведет себя, как скот, Забыв, что дома у печи его супруга ждет, Распущенный дикарь, он мерзости творит И тащит отрока в постель, отринув срам и стыд. Жена, чтоб отомстить, зовет к себе дружка, И превращается в содом дом честный мужика. Не диво, что живут в невежестве таком, Божков из древа состругав теслом и топором. На Идолов кадят, а Бог у них забыт, Святой Никола на стене им больше говорит. Считается у них за грех и за порок, Коль нету в доме образов – покрашенных досок. Помимо тех досок, на стогнах тут и там Стоят дощатые кресты, и бьют челом крестам, И крестятся на них, и бьют челом опять: Такого пустосвятства, друг, нигде не отыскать. Тут ездят все верхом – и господин, и раб, И даже, что для нас чудно, немало дев и баб. В одеже яркий цвет предпочитают тут, Кто побогаче – в сапожки на каблуках обут. Все женщины – в серьгах, и в том тщеславье их, Чтобы украса их была украснее других. Осанкою важны, на лицах – строгой чин, Но склонны к плотскому греху, к распутству без причин. Средь них, кажись, никто и не почтет за грех Чужое ложе осквернить для собственных утех. Зато презренный тот невежа и грубьян, Кто денег не дает жене купить себе румян – Румян, белил, помад и дорогих мастей Для щек немытых, для бровей, для губ и всех частей. И честная жена (коль можно честных жен Меж них сыскать) не отстает, хоть людям и смешон Известки на щеках чуть не в два пальца слой: Блудница грязь, не поскупясь, замазала сурьмой. Но те, что половчей, весьма изощрены, Хоть слой белил на коже их не меньшей толщины, Так намалеван он хитро, не напоказ, Что может обмануть легко и самый острый глаз. Дивился я не раз, какая блажь, Бог весть, Их нудит лица залеплять, живьем в духовку лезть, Когда и без того, хоть в будничные дни, Как в Пасху или под венец, разряжены они. Сдается, русский муж имеет свой барыш С их гордости: в таком плену с чужим не пошалишь! Здесь, Даней дорогой, кончаю я писать, Мужчин и женщин сей земли хотел я описать. О прочих же вещах (какие видел сам) Позднее расскажу тебе или другим друзьям, Дам честный я отчет про весь Российский край; Засим расстанемся, мой друг; будь счастлив – и прощай!II Спенсеру
Есть ложные друзья, у них простой закон: Как с глаз долой любезный друг, так и из сердца вон. Но я тебя любил не ложно, всей душой, Досадой горькой было мне прощание с тобой. Не упрекай, мой друг, что я тебя забыл, Письмо докажет лучше слов, что я таков, как был. Я вспоминаю день, когда я уезжал, В последний миг, шагнув ко мне, ты крепко руку сжал И попросил одно: пиши, не забывай, Пришли мне весть, каким нашел ты тот далекий край. Сей край зело велик, лесов дремучих тьма, Но сеять мало годных мест, земля скудна весьма. Все глина да песок да неудобья тут, Хотя и сеют тут зерно, да слишком рано жнут. И сушат хлеб в снопах, спеша, чтобы скорей, До наступленья первых стуж, убрать его с полей. Зимой тут холод лют, морозы таковы, Что всюду лед, и не сыскать в лугах клочка травы. Тогда коров, овец и весь домашний скот Мужик к себе заводит в дом и пуще глаз блюдет, И кормит, и хранит под крышей до весны, Когда ни клеть, ни теплый кров им больше не нужны. Семь месяцев зима, и холод столь велик, Что только в мае на поля идет пахать мужик. Кто умер той порой, богат иль беден он, В гробу из шкур до теплых дней лежит непогребен. Причину же сего нетрудно объяснить: Земля зимою как скала, ее не продолбить. Хотя по всей стране так много леса тут, Что будь ты нищим, а досок на гроб тебе найдут. Быть может, что тебе, дружище, невдомек, Как может тело, не гния, лежать немалый срок. Поверь, что так и есть, разгадка же проста: Тела усопших мертвецов скрепляет мерзлота, И вплоть до вешних дней, закоченев как пни, Без удрученья для живых, покоятся они. Скажу уж заодно о том, каков их скот, С английскою скотиной он в сравненье не идет. Коровы и быки – сплошная мелкота, Вкус у говяды водянист, бифштексу не чета. Овечки так худы, что жалость – видеть их. Зато вокруг обилье птиц, болотных и лесных. Дичь есть, но вот беда, во всей их стороне Не сыщется ни одного, кто знал бы толк в стряпне. О вертеле никто здесь даже не слыхал, Любую дичь суют в горшок – да в печь, и кончен бал. Ни кружек нет у них, ни оловянных блюд. Березовые чашки сплошь, из них едят и пьют. Всегда у мужика на поясе висит Березовая ложка, нож, – и это им не стыд, Ведь даже знатный русс в одежде дорогой, И тот – без ложки и ножа из дома ни ногой. Дома их, доложу, не очень велики, Но для того, что тут зимой сугробы высоки, И от больших снегов кругом белым-бело, Жилища ставят на холмах, чтоб их не занесло. Тут камень не в ходу, взамен его мужик Из бревен складывает дом, скрепляя их впритык. А между бревен он упихивает мох, Чтобы не дуло из щелей, – обычай сей неплох. Вершат досками сруб, а сверх того – корой, Чтоб защититься от дождя и слякоти сырой. На случай сильных стуж в любой светелке печь, Дрова дешевые у них, так можно много жечь. Английского стекла тут не заведено, Но камень есть такой Sluda, чтобы вставлять в окно. Нетрудно получить его тончайший слой, Он расщепляется легко, сшивается иглой И, раму обрядя, дает изрядный свет: Сей камень дешев и хорош, в нем недостатка нет. Главнейший угол тот, где бог у них висит, Хозяин дома никогда в том месте не сидит. Когда же входит гость почетный в этот дом, Он должен кланяться сперва и богу бить челом. Его сажают там и могут на ночлег Под самым богом поместить, коль важный человек. Чтоб спать, медвежий мех ему хозяин даст, А что под голову подкласть, уж кто во что горазд – Хоть сумку, хоть седло. Таков обычай тут, Не стелют руссы простыней, подушек не кладут. Я много размышлял, мой друг, на сей предмет, Ведь в мягком пухе и в пере у них нехватки нет. Настолько, видно, жизнь сурова в их стране, Что опасаются они изнежиться во сне. Вот (часто думал я) тебе б тут побывать, – Когда бы столько ты дерзнул, чтоб на медведе спать, Как спали мы вдвоем со Стаффордом. И все ж Мы выспались (хвала Творцу!), и был ночлег хорош. На этом завершу короткий свой отчет, Что говорить, сей край студен, и дик его народ. О прочем не пишу, остерегусь, увы! – Чтоб ненароком не сломать пера и головы. О том, что умолчал, ты догадайся сам, И так уж много я рискнул доверить сим стихам. Когда б не важность дел, я б размахнул пером И без оглядки написал про все, что зрю кругом. А впрочем, по когтям узнают львиный нрав: Суди же, милый, о большом, о малом прочитав.III Паркеру
Бумага и перо даны нам, милый друг, Чтоб не ленились мы писать, как выпадет досуг. Призыву долга вняв, любовь твою ценя, Пишу тебе письмо, чтоб ты не упрекал меня. И раз уж я судьбой на эту кинут мель И занесен в далекий край, где не бывал досель, То дам тебе отчет в рифмованных речах О местных нравах и других диковинных вещах. Русин сложеньем толст, у большинства живот Подобьем грузного мешка свисает на перед. Лицом они круглы, а цвет лица багров – Должно быть, это от печей и духоты домов. А волосы они иль бреют, иль стригут, Свободных локонов, как мы, никто не носит тут. Лишь если на кого гнев царский навлечен, Тот не стрижет своих волос, покуда не прощен. Косятся на него, и понимает всяк: Нестриженая голова – опалы царской знак, Кто хочет отвратить немилость или казнь, Остережется лохмачу выказывать приязнь. Одежды их мрачны, нехороши на вид, Большая шапка, что торчком на голове стоит, Зовется Колпаком, а брыжей вовсе нет, На знатных только воротник случается надет, Расшитый жемчугом, – Rubaska, говорят. Рубахи русские длинны, едва ли не до пят, Поверх рубах – кафтан, пошит на здешний вкус, Зовется Odnoradka он, а вместо бриджей русс Имеет грубые Portki, замена не красна: Они без гульфика совсем и сделаны из льна. У руссов на ногах напялены чулки, Железом острым на носках подбиты сапоги, А сверху всех одежд есть Shuba для тепла – Она пошита из мехов и очень тяжела. Застежки на груди – из шелковых шнурков Или серебряных крючков (смотря доход каков). А люди победней – те носят вместо Шуб Так называемый Armyak, наряд довольно груб, Длиною до сапог. Вот так русин одет. Богатый ездит тут верхом, слуга бежит вослед. Отличье Казака – шлем войлочный, простой, Не блещет сбруя у коня особой красотой. Поводья без украс, уздечка без удил, Широкое седло – чтобы конь, вспотев, не замочил Коленей ездока; чепрак у них длинней И шире наших, стремена подтянуты сильней. И это для того, что если в поле вдруг Погонится за руссом враг, – он схватится за лук И, вывернувшись вбок, так выстрелит с седла, Что прямо на скаку сразит врага его стрела. Лук русский невелик и тем с турецким схож, Но худо, если на прицел к нему ты попадешь. Из дерева сложен, из жил и из коры, Презлые стрелы мечет он, нещадны и остры. Подковы в сей стране обычно не в ходу, Ну разве что когда придет нужда скакать по льду Через замерзший ток – да, зимний путь непрост. Здесь лошади проходят в день по восемьдесят верст – Без всяких шпор, заметь! А если норовист Иной скакун или ленив, русин подымет хлыст И образумит так, что сразу кончен спор: Вот почему на сапогах они не носят шпор. Тут шахматы в чести, почти любой простак Вам мигом даст и шах и мат – он навострился так. И в кости поиграть русин всегда не прочь, И знатный муж, и нищеброд до них равно охоч. Их кости меньше тех, к которым ты привык, Их не трясут, а мечут так, и сразу слышен крик, И спор, и брань – хотя; по мненью моему, Где нужны сметка и расчет, горячность ни к чему. Русс может проиграть кафтан, седло, коня – Все на кон ставит он легко, именья не ценя. Хотел бы я, мой друг, чтоб ты тут побывал И за игрою скучный день со мною скоротал. Но нет, в отчизне жить, поверь, куда милей, Чем обитать в чужой стране средь грубых дикарей. И сам я не пойму, зачем сменили мы Свой дом на сей Полярный край, обитель льдов и тьмы, Дикарскую страну, где власть Закона спит И только самовластный Царь прощает и казнит По прихоти своей, и часто без вины. А впрочем, мы монарших дел касаться не должны. Домысли сам, мой друг, как жить в таких краях, Где беззаконие – закон и всеми правит страх, Где даже богачи не знают, что их ждет – Казнь или милость – и кому наследство перейдет. Таков обычай тут: именье и земля Идут не старшему в роду, а в руки короля. Не верится тебе? – В сомненье как не впасть! Но это так – исхода нет, на все монаршья власть. Ты помнишь о судьбе Тарквиния-царя, Что правил Римом? Мне о нем подумалось не зря. Страна, где произвол – единственный закон, Обречена большим бедам, и царь в ней обречен. Нелепая земля! Не рассказать, мой друг, Как много странного всего и дикого вокруг. Как холод лют, и груб народ, и государь суров, Какое множество везде монахов и попов! Хитры, как турки, люди тут, обычаи чудны, Распутны жены, а дома молитв осквернены Кумирами в таком числе, что впору вон бежать. Всего, что я перевидал, пером не описать. Я мог бы с руссами сравнить ирландцев-дикарей, Да трудно выбрать, кто из них свирепей и грубей. Коль хочешь выслушать совет, то мой совет таков: Держись подальше, дорогой, от варварских краев, На борт шатучий не ступай, стремясь увидеть свет: Там нет ни света, ни добра, где благодати нет. Не заслужить прощенья им и не уйти от зла, Кто грешничает, не страшась Господнего жезла. Господь наш многотерпелив и добр, но грянет срок И гнев его падет на тех, кто возлюбил порок. Прощай, мой друг! Коль хочешь ты о руссах знать не ложь, В том Сигизмундов загляни, там правду ты найдешь. С посольством Папским он ходил к Московскому царю И честно описал все то, о чем я говорю. Чтоб дольше не томить перо, пошлю тебя к нему И вновь скажу: прощай, мой друг, и в мыслях обниму.Колыбельная Гаскойна
Поэт обретает и творит свою маску в момент разочарования, герой – в разгроме.
(У. Б. Йейтс. «Anima Mundi»)I
Лучшим поэтом начала елизаветинской эпохи, безусловно, был Джордж Гаскойн. Я говорю: «безусловно», хотя у меня на полке стоят антологии английского Возрождения, которые вообще обходятся без этого имени. Гаскойн для многих пока еще terra incognita, по-настоящему его не открыли. А между тем этот автор заслуживает внимания ничуть не меньше, чем Томас Уайет или Уолтер Рэли или, может быть, даже Филип Сидни; но лишь в самое последнее время английская критика начала, кажется, об этом догадываться.
В поэтической манере Гаскойна много напоминающего Уайета: прямая мужественная интонация, опора на разговорную речь, на ходячую поговорку (такие же или сходные качества обнаруживаются позднее и у Уолтера Рэли). Любовные сонеты Гаскойна выламываются из куртуазного канона.
(Благородной леди, упрекнувшей меня, что я опускаю голову и не гляжу на нее, как обычно)
Не удивляйся, что твоим глазам Я отвечаю взглядом исподлобья И снова вниз гляжу, как будто там читаю надпись на своем надгробье. На праздничном пиру, где ты царишь Мне нет утехи; знаешь поговорку, что побывавшая в ловушке мышь Сильнее ценит собственную норку? Порою надо крылышки обжечь, чтобы огня не трогать даже с краю. Клянусь, я сбросил это иго с плеч И больше в эти игры не играю. Упорно, низко опускаю взгляд Пред солнцами, что смерть мою таят.В своих «Заметках и наставлениях, касающихся до сложения виршей, или стихов английских, написанных по просьбе мистера Эдуардо Донати» Гаскойн подчеркивает, что главное в стихах – не эпитеты и не цветистость речи, а качество «изобретения», то есть лирического хода, в котором обязательно должна быть aliquid salis, то есть некая соль, изюминка.
Под этим aliquid salis я разумею какой-нибудь подходящий и изящный ход [some good and fine device], показывающий живость и глубокий ум автора; и когда я говорю подходящий и изящный ход, я разумею, что он должен быть и подходящим, и изящным. Ибо ход может быть сверхизящным, но подходящим лишь с большой натяжкой. И опять-таки он может быть подходящим, но употребленным без должного изящества.
Сформулированный поэтом принцип вполне применим к нему самому. Хотя в Гаскойне, как и в Уайетте, еще чувствуются пережитки средневековой поэтики (например тот же устаревший «колченогий размер», которым он охотно пользуется), но, в целом, Гаскойн – новатор, многое он сделал впервые в родной литературе. В частности, его процитированные выше «Заметки и наставления» – первый английский трактат о стихосложении.
II
В биографии Джорджа Гаскойна много неясного и запутанного. Достаточно упомянуть чехарду с датой его рождения. В старых словарях и антологиях стоял 1525 год (с вопросом). Лет сорок-пятьдесят назад этот год изменился на 1542-й, то есть поэт помолодел сразу на 17 лет! Впрочем, согласно последним веяниям, наиболее вероятен 1534 год (то есть посередке); будем и мы танцевать от этой даты.
Жизнь Гаскойна – сплошная череда неудач. Судите сами: его лишили наследства за мотовство, он поссорился с отцом и матерью, судился с братьями и проиграл, был выбран в Парламент, но исключен из списков, женился на вдове много старше его – и оказался замешанным в дело о двоеженстве, сидел в тюрьме за долги, отправил-
ся на войну и попал в плен к испанцам, освободился, но не избежал подозрения в предательстве, вернулся на родину, где ценой огромных усилий наконец-то (в сорок лет) достиг так долго чаемого – первых литературных успехов, покровительства королевы, – и через год умер. Воистину поэт был прав, заявляя в своем стихотворении «Охота Гаскойна», что всю жизнь стрелял мимо цели, что такова его судьба – давать промашку за промашкой.
Джордж Гаскойн. Автопортрет из книги «Стальное зерцало», 1576 г.
Отец Гаскойна был шерифом и мировым судьей в Бедфордшире, имел титул рыцаря. Джордж учился в Кембридже, но степени не получил и в 1555 году поступил в лондонскую юридическую школу Грейз-Инн. Вскоре, однако, он охладел к юриспруденции; перед ним замаячила другая цель, вожделенная для многих молодых дворян, – приблизиться к средоточью власти, сделать придворную карьеру. Он растратил кучу денег на роскошный костюм (без которого нельзя было рассчитывать на успех), на угощение придворных и вообще на светскую жизнь. Наделал долгов, поссорился с родными, но абсолютно ничего не добился – новые знакомые лишь водили его за нос посулами и обещаниями. Ситуация знакомая, много раз описанная, например, Уайеттом, Донном или тем же Гаскойном: поэт понимает, что его цель – ложная, что двор – место гиблое и бесстыдное, но зуд честолюбия, неуемное желание испить из «государственного бокала» заставляет делать то, что сам же поэт осуждает. Это противоречие (раздвоение личности?) с интересом отмечал в себе и современник Гаскойна, француз Пьер Ронсар:
Но всех бесстыднее наверняка поэт; Нет жалче существа и неотвязней нет; Как мушка к меду льнет, внезапно ставши смелой, И как ей ни грози, и что ты с ней ни делай, Кружит над мискою, пытаясь каждый раз Отведать хоть чуть-чуть, юлит у самых глаз И лезет под руку, жужжа бесцеремонно, Покуда не набьет брюшко свое, сластена, – Так в точности поэт, когда его влечет Такое лакомство, как слава и почет, Упорно, страстно льнет к приманке аппетитной, Присасываясь к ней пиявкой ненасытной. («Речь против Фортуны»)В 1561 году, вероятно, для того чтобы поправить свое финансовое положение, Джордж Гаскойн женится на состоятельной вдове Элизабет Бретон, матери поэта Николаса Бретона (в тот момент шестнадцатилетнего юноши). Но оказалось, что бойкая вдова годом раньше уже заключила брачный контракт с неким Эдвардом Бойзом из Кента. Впрочем, на суде она и ее сыновья утверждали, что это была только «видимость». Дело вылилось в многолетнюю тяжбу, но не только тяжбу. 20 сентября 1562 года лондонский купец Генри Марчин записал в дневнике:
Сего дня на Ред-Кросс-Стрит случилась великая потасовка между двумя джентльменами и их слугами по причине того, что они женились на одной женщине, и несколько человек получили увечья; имя же сих джентльменов мистер Бойс и мистер Гаскин.
Гравюра из книги Дж. Гаскойна «Благородное искусство псовой охоты», 1575 г.
Женитьба не принесла Гаскойну желанных выгод, долги и тяжбы продолжали его мучить. Пытаясь спастись от кредиторов, он ищет парламентской неприкосновенности; в 1572 году его избирают в члены парламента от города Мидхерста; но в Тайный совет поступил анонимный донос от его кредиторов, и имя Гаскойна вычеркнули из парламентских списков. Ему ничего не оставалось, как искать убежища за границей. Он вступает в отряд добровольцев и отправляется воевать на стороне принца Вильгельма Оранского против испанцев. Сведения о его службе в Голландии довольно противоречивы. После ряда приключений, включающих сражения, любовь к загадочной даме из Гааги и испанский плен (многое из этого описано им самим в поэмах: «Плоды войны» и «Путешествие Гаскойна в Голландию»), в 1574 году он возвратился в Англию, не решив ни одной из своих проблем, но лишь нажив новые, – в том числе возникшие подозрения относительно предательской сдачи крепости Фалькенбург и небескорыстной дружбы с испанцами.
III
За время отсутствия Гаскойна вышла книга «Сто разных цветов в одном букетике». Обозначенная в издательском предисловии как сборник произведений, переводных и оригинальных, взятых из разных авторов, книга на самом деле принадлежала целиком и полностью одному Гаскойну. Выступая анонимно, автор однако же делал ставку на успех; но книга принесла лишь новые обвинения в безнравственности и в оскорблении «некоторых достойных лиц». Гаскойн не сдается. Он редактирует свои «Цветы» и снова издает их уже под собственным именем как «Букеты [другое значение слова posies – “девизы”] Джорджа Гаскойна, исправленные, усовершенствованные и дополненные» (1575). В предисловии автор объясняет разделение книги на три раздела: «Цветочки» (Flowers), «Травы» (Herbs) и «Сорняки» (Weeds) – тем, что в «Цветочках» собраны растения, которые следует рассматривать и нюхать, в «Травах» – скорее полезные, чем приятные, а в «Сорняках» – все остальные, хотя и сомнительного свойства, «но ни одного столь вредного или вонючего, чтобы оно не могло принести какой-нибудь пользы при правильном употреблении».
Вот в эти «сорняки» и попал роман о любовных приключениях Фердинандо, опубликованный в издании 1573 года как «Рассказ о том, что приключилось с мистером Ф. Дж.», а теперь объявленный переводом с итальянского и озаглавленный: «Приятная повесть о Фердинандо Джероними и Леоноре де Валаско». Действие из «северных частей нашего королевства» перенесено в окрестности Флоренции, кое-какие английские имена и реалии заменены на итальянские. Кроме того, Гаскойн подрезает торчащие прутики – чересчур откровенные места в любовных эпизодах, которые могли бы вызвать нападки бдительных охранителей английской нравственности.
«Приятная повесть» – по сути, первый в английской литературе любовно-психологический роман. Это история молодого кавалера Фердинандо, влюбившегося в замужнюю даму Леонору (леди Элинор). Кроме главных персонажей, в повести действуют еще благородная Фрэнсис, тоже влюбленная в Фердинандо, муж леди Элинор (ничем, кроме страсти к охоте, себя не проявивший), ее свекор – он же отец леди Фрэнсис, и некий безобразный, но ловкий и удачливый секретарь леди Элинор, главный соперник Фердинандо.
Сюжет повести, по-видимому, допускает аллегорическое (в неоплатоническом духе) истолкование, при котором леди Элинор являет собой Венеру Земную, а леди Фрэнсис – Венеру Небесную.
Предназначенный в женихи леди Фрэнсис, Фердинандо выбирает своей госпожой леди Элинор – и в результате попадает в ад ревности и невыносимых мучений. Но интерес представляет не эта аллегория, а загадка страсти и загадка женского сердца, запечатленная в романе (иные страницы как бы предвосхищают повесть о Манон Леско и кавалере де Грие). Вставные стихи – вехи и психологические узлы повествования, ведущие читателя от первых страхов и надежд влюбленности – через все перипетии страсти и скрываемой тайны – к горечи измены и цинического «опровержения» любви:
что ж! блажью женской я по горло сыт, Пора безумцу протрезветь немножко; Пословица, ты знаешь, говорит: И лучшая из кошек – только кошка.IV
Полностью отдавшись литературным занятиям, Гаскойн снова ищет – и наконец-то находит – возможность поставить свое перо на службу королеве: граф Лейстер заказывает ему стихи и маски для королевских увеселений в своем замке Кеннелворт. В одной из масок Гаскойн предстал перед Елизаветой в роли дикаря, одетого в наряд из листьев, и от усердия сильно перепугал королевскую лошадь, но королева справилась с лошадью и благосклонно кивнула: «Продолжайте, продолжайте». Итак, долго лелеемая мечта осуществилась – луч монаршей милости упал на уже тронутую сединой голову поэта.
Гравюра из книги Дж. Гаскойна «Благородное искусство соколиной охоты», 1575 г.
Гаскойн развивает успех: он составляет для королевы книгу «Благородное искусство псовой охоты» (1575) в стихах и в прозе, по большей части позаимствовав материал из французских источников; возможно, он сам выполнил и рисунки к книге, на одном из которых дворянин свиты (некоторые усматривают портретное сходство с автором) преподносит королеве оленьи «орешки» на блюде из цветов и листьев[11]. В качестве подарка на новый 1586-й год (праздник, отмечавшийся в те времена весной) Гаскойн дарит Елизавете ранее написанную и понравившуюся ей «Повесть о Гемете-отшельнике» в переводе на латинский, итальянский и французский языки, демонстрируя тем самым свои лингвистические способности. На фронтисписе рукописи он изображает себя, коленопреклоненного, с копьем в руке и пером за ухом, преподносящего Елизавете уже не оленье дерьмо, а свою собственную книгу. На заднем плане девиз: Tam Marti, quam Mercurio («Как для Марса, так и для Меркурия»), то есть пригоден как для военной, так и для гражданской службы.
Автор преподносит королеве Елизавете свою книгу. Джордж Гаскойн, 1575 г.
В доказательство своего полного исправления и морального перерождения в том же 1576 году Джордж Гаскойн публикует «Зерцало поведения», «трагическую комедию» о блудном сыне, и большую сатиру «Стальное зерцало» (вступительные стихи к которой подписаны именем совсем еще молодого «Уолтера Рэли из Миддл-Темпла»). На следующий Новый год (1577-й) он дарит королеве еще одну рукопись: сборник элегий «Печаль в радости», соединяющий прославление королевы с морально-философскими размышлениями. Но воспользоваться плодами своих поэтических усилий Гаскойн не успел: его здоровье неожиданно ухудшилось и 7 октября 1577 года он умер.
V
Гаскойн – поэт невезения. Свой дом в вечности он построил из обломков разбитых иллюзий. Его лучшие стихи – воспевание и прославление своих неудач. Лишь на руинах собственной жизни, свалив с плеч ношу, он испытывает блаженную легкость. Бог вдохновения нисходит – и поэт пляшет, опьяненный внезапной свободой. Таковы «Прощание Зеленого Рыцаря с Фантазией» – краткая история жизни автора, всех ее обольщений и разочарований, и «Прошение о разводе», в котором он просит милостивую госпожу Смерть развести его с его любовницей и женой, то есть с Любовью и Жизнью. Такова же «Колыбельная Гаскойна», в которой поэт убаюкивает сам себя – свои мечты, свои ненасытные глаза, свой мужской пыл, свою утраченную молодость:
Как матери своих детей Кладут на мягкую кровать И тихой песенкой своей Им помогают засыпать, Я тоже деток уложу И покачаю, и скажу: Усните, баюшки-баю! – Под колыбельную мою.Я хотел бы провести параллель со стихотворением Уинстена Одена с тем же названием «Колыбельная» (апрель 1972). Стоящее самым последним в его «Собрании стихотворений», оно представляет собой четыре больших строфы, кончающиеся рефреном: Sing, Big Baby, sing lullay. В нем так же, как Гаскойн, Оден на закате дня и жизни убаюкивает себя в сон и в смерть:
Сотри с лица заботу; Закончен круг земной, Вся эта канитель – Оплаченные счета, Отвеченные письма И вынесенный мусор – Окончена. Ты можешь Раздеться и свернуться Как устрица, в постели, Где ждет тебя уют И лучший в мире климат: Спи, старый, баю-баю!Речь может идти даже не об одном, а о двух стихотворениях Гаскойна, стоящих за этим «баю-баю», – не только о «Колыбельной», но и о другом замечательном стихотворении – «Охота Гаскойна», в котором поэт глядит на себя, старого младенца, глазами умирающей лани:
Methinks, it says, Old babe, now learn to suck,то есть: «Она как будто говорит: учись сначала, старый сосунок». «Оld babe» Гаскойна и «Big Babe» Одена – практически одно и то же; по-видимому, Оден сознательно цитирует свои любимые стихи.
Поэты XX века охотно обращались к наследию елизаветинцев, причем каждый выбирал свое. Йейтс стилизовал свои названия под «Сборник Тоттела», Джойса влекло к Томасу Кэмпиону, Бродского – к Донну. Вероятно, существует и связь: Гаскойн – Оден. Не знаю, можно ли говорить о родстве душ, но трудно не заметить сходства их поэтик. Думаю, Оден целиком согласился бы с утверждением Гаскойна, что главное в стихотворении – «изобретение», some good and fine device.
Джордж Гаскойн (1534?–1577)
Колыбельная Гаскойна
Как матери своих детей Кладут на мягкую кровать И тихой песенкой своей Им помогают засыпать, Я тоже деток уложу И покачаю, и скажу: Усните, баюшки-баю! – Под колыбельную мою. Ты первой, молодость моя, Свернись в калачик – и усни, Надежд разбитая ладья Уж догнила в речной тени; Взгляни: сутулый и седой, С растрепанною бородой, Тебе я говорю: прощай, Усни спокойно: баю-бай! Усните, зоркие глаза, Всегда смотревшие вперед, – Чтоб вас не обожгла слеза Мелькнувших в памяти невзгод; Зажмурьтесь крепче – день прошел; И как бы ни был он тяжел, Вас ожидает гавань сна, И темнота, и тишина. Усни и ты, мой дерзкий дух, Не знавший над собой узды; Жар прихотей твоих потух И сумасбродные мечты; Клянусь тебе, за эту прыть Мне дорого пришлось платить; Угомонись на этот раз, Усни спокойно, – в добрый час! Ты тоже усмири свой пыл, Любвеобильный Робин мой, И трепетом бессильных жил Прошу, меня не беспокой; Пусть этим мучится юнец, А ты истратился вконец; Утихомирься, шалопай, Улягся и усни. Бай-бай! Усните же, мои глаза, Мечты и молодость, – пора; Оттягивать уже нельзя: Под одеяла, детвора! Пусть ходит Бука, страшный сон – Укройтесь, и не тронет он; Усните, баюшки-баю! – Под колыбельную мою.Приятная повесть о Фердинандо Джероними и Леоноре де Валаско, выбранная и переведенная из итальянских дорожных сказок Бартелло (Отрывки[12])
В приятной стране Ломбардии неподалеку от города Флоренции жил некогда владетель многих земель и синьорий, именовавшийся по названию одного из своих замков синьором де Валаско; у него был сын и две дочери; сына его и наследника звали молодым Валаско и он был женат на прекрасной и благородной женщине из рода Беллависта по имени Леонора; старшую дочь синьора Валаско звали Франчишина, и это была молодая особа больших талантов, умная и бойкая. Итак, синьор де Валаско, женив своего сына и понемногу старея, возымел сильное желание увидеть своих дочерей замужем прежде своей смерти, в особенности старшую, чья зрелая красота часто напоминала ему о том, что это кусочек его собственной плоти и крови; и потому он нашел способ пригласить в свой дом Фердинандо Джероними, дворянина из Венеции, который, будучи более склонным к охоте, соколиной ловле и тому подобным занятиям, чем к учебе, оставил свой дом в Венеции и приехал в Ломбардию вкусить прелестей деревенской жизни. Зная, что сей молодой человек происходит из весьма почтенной семьи и, следственно, не только богат, но и украшен другими отличными свойствами, он возымел желание (как уже сказано) заполучить его к себе в гости (под предлогом охоты и соколиной ловли) с тем, чтобы познакомить его со своей прекрасной дочерью Франчишиной, которая родовитостью и другими достоинствами, равно как и свежей прелестью, должна была прийтись ему по душе и по разуму. Но вышло совсем наоборот, ибо сей Фердинандо Джероними, узрев леди Леонору, которая воистину отличалась необычайной красотой и учтивыми манерами, влюбился в нее и, забыв все любезности, которые выказал ему сеньор де Валаско, принимая и развлекая его вместе со слугами и лошадьми в течение четырех месяцев (случай в наши дни редкостный, особенно в той стране), стал искать всевозможных путей, как бы сделать наследника Валаско «бекко» [т. е. рогоносцем]. И вот, для того чтобы все узнали, каких плодов можно ждать от таких деревьев и к каким следствиям ведут подобные намерения, я изложу ныне по-английски эту историю так, как Бартелло написал ее по-итальянски. И так как я полагаю, что Леонора есть то же самое имя, что английское Элинор, а Франчишина, в сущности, та же Фрэнсис, я для понятности буду именовать их так, как если бы они были наши соотечественницы.
[Написав первое тайное письмо леди Элинор и услышав от нее недоумения и упреки, Фердинандо вышел в сад и сочинил такие стихи.]
Вирсавия в саду купалась в летний зной, Ее увидел царь Давид и стал он сам не свой. Премудрый Соломон, хоть был искусный маг, И тот защиты не нашел от таковых атак. Оружьем красоты был наповал сражен И мужественный Геркулес, и доблестный Самсон. Затмится мелких звезд докучный хоровод, Когда слепящий метеор на небеса взойдет.Посылка
Довольно этих строк, чтоб угадали Вы, Какими гуморами полн я с ног до головы.
Ф.И.[Фердинандо написал для своей госпожи еще много писем и стихов, среди которых был следующий, весьма искусный сонет.]
Когда тебя узрел я, о Звезда, – Твой блеск и прелесть дивную твою, Признаюсь: я зажмурился тогда, Как трус невольно жмурится в бою. Когда я вновь раскрыть глаза посмел, Они еще спасти меня могли б, Вдаль ускользнув; но я в упор смотрел, Увы! – и засмотрелся – и погиб. Я – словно птичка у сучка в плену, Которую схватил коварный клей: чем судорожней лапку я тяну, Тем делается самому больней. Как видно, нет мне участи другой, чем плен принять и стать твоим слугой.[С этого момента леди Элинор начинает называть Фердинандо не иначе как «слугой» или «добрым слугой», но и сама ненароком попадает в ярмо любовной страсти и в скором времени назначает ему свидание ночью на галерее, прилегающей к ее спальне. Фердинандо приходит туда в ночном платье, спрятав под него обнаженную шпагу, и встречает леди Элинор, также одетую в ночной наряд. Она шутливо упрекает его, что он явился на свидание, как на поединок с врагом, на что Фердинандо отвечает, что принес клинок единственно для ее защиты.]
Леди казалась успокоена таким ответом и, чтобы недавний испуг поскорей развеялся, они стали беседовать и вести себя вольней, жестами и словами стремясь как можно лучше утешить и вознаградить друг друга. Но для чего я трачу столько слов, описывая радости, которые (за недостатком опыта) я не могу передать во всей полноте? Короче говоря, Фердинандо был мужчиной, и не один из нас не остался бы бесчувственным на его месте, так что я оклеветал бы его (жесточе, чем Дидона своим великим поношением роду Энея), если бы допустил, что из жалости или из робости он не посмел прижать ее нежное тело к жесткому полу галереи. И так как она по своей женской любезности согласна была принять грубые доски пола за пуховую перину, циновки за тонкие простыни и ночное платье Фердинандо за покрывало, то они провели ночь без сна, но во взаимном удовольствии до той поры, когда ярчайшая из звезд заторопилась покинуть небосвод и Фердинандо со своей возлюбленной принуждены были прервать восторги и тысячами нежных лобзаний и пылких объятий изобразить «Как жалко расставаться»[13].
[С того дня свидания Фердинандо и леди Элинор сделались регулярными, но благодаря их осторожной предусмотрительности скрытыми ото всех, – за исключением разве леди Фрэнсис, которая обо всем догадывалась, но на предательство была не способна. Фердинанд, упоенный любовью, сочинил для своей госпожи весьма искусные и приятные стансы под названием «Пир в лунном свете», и множество других стихотворений. Даже возвращение мужа леди Элинор не смогло помешать радостям любовников. Муж подружился с Фердинандо и с удовольствием проводил с ним время. Однажды на охоте он потерял свой охотничий рог и попросил таковой у Фердинандо, но не смог выдуть из него ни звука, так как рог оказался слишком тугим. «Дуй сильнее, пока не сломаешь, – усмехнулся в сторону Фердинандо, – я сработал тебе такой рог, который нипочем не сломать во всю твою жизнь»; и по возвращении с охоты сложил следующий сонет, не замедлив преподнести его своей возлюбленной.]
Прослышал я, что есть такие зерна, Из коих (если только должный труд К ним приложить и поливать упорно) Рога в конечном счете прорастут. Искал я долго почвы благодатной, чтоб этот опыт провести, – и вот Нашел: мне стало ясно и понятно: Башка ревнивца очень подойдет. Но где ее сыскать? Не зная правил, Я долго в собственном затылке скреб, Но муж твой благородно предоставил Под семена – свой плодородный лоб. Рог вырос, – я изрядно потрудился, Но мужу этот рог не пригодился.[Вскоре, однако, радости Фердинандо, достигнув, казалось бы, наивысшей полноты, стали быстро клониться к закату, ибо тот невзрачный, но хитрый секретарь леди Элинор, который прежде был ее любовником, вернулся из Флоренции и, едва только Фердинандо его увидел, как впал в сильнейший недуг, наподобие лихорадки, от которого немедленно слег в постель. Все благородные дамы, бывшие в доме, дружным строем пришли навещать и развлекать больного, а леди Элинор, видя своего «слугу» в таком беспомощном состоянии, не могла сдержать слез. Ревность и Раскаяние целый день отчаянно боролись в сердце Фердинандо, и хотя второе почти одолело первую, мучительное Подозрение все-таки оставалось… После ужина, во время очередного визита дам, леди Элинор успела шепнуть Фердинандо, что вернется к нему ночью.]
Около десяти или одиннадцати часов вошла его госпожа в ночном наряде; зная в доме все ходы и выходы, она сумела проскользнуть в комнату Фердинандо незримо и незамечено. Подойдя к его кровати, она встала на колени и положив ладонь ему на грудь, обратилась к Фердинандо со следующими словами: «Мой добрый слуга, если бы только ты знал, какое страдание и какую смуту испытываю я при виде твоего недуга, ты бы исцелился от радости или усугубил свои скорби состраданием ко мне; ибо знаю, что ты любишь меня, и думаю, у тебя есть достаточные доказательства моей непритворной страсти, воспоминания о которой возбуждают во мне разноречивые чувства: во-первых, я вспоминаю наше первое знакомство и все наши счастливые ошибки и радуюсь тому, насколько равны были наши стремления, ибо, мне кажется, не существовало двух влюбленных, соединившихся по более свободному согласию, так что (если эти мои поспешные речи не будут впоследствии повернуты к моему осуждению) я убеждена, что могла бы прервать эту связь, не заслужив ни малейшего твоего упрека. В то же время я не в силах забыть всего, что случилось потом, когда мы стали одним сердцем и одной душой, все наши счастливые свидания и услады. Как не скорбеть по ним, вспоминая нынешнюю мою участь? Первую горечь, которую я ощутила, последнее лекарство, которого я искала, конец наших радостей и начало моих страданий…» При этих словах соленые слезы леди упали и оросили помертвелые губы ее слуги, который (слыша и видя ее скорбь) начал обвинять себя в гнусном предательстве, так что его собственное сердце обратилось в бич совести; и, не выдержав мук, он впал в беспамятство прямо перед ее очами; увидав это, она зарыдала еще неудержимей.
Нелегко поведать, как он был возвращен в чувство, ибо при сем не было никого, кроме того, который (будучи полужив) ничего рассказать не мог, и той, которая (будучи живой) вряд ли согласилась бы открыть столь много, сколь это намерен сделать я. Автору представляется, что в тот миг, когда Фердинандо пришел в себя, он почувствовал, что его добрая госпожа лежит у него на груди, налегая всем весом своего тела и нежно, но требовательно кусая его губы. Видимо, она воздержалась (не то из заботливости к нему, не то из женского страха отбить свои ручки) от хлопанья по щекам – обычного средства оживить умирающего – и прибегла к другому, показавшемуся ей более подходящим для приведения его в чувство. Фердинандо очнулся и по своей привычной галантности потянул свою возлюбленную на постель; она же (зная эту науку лучше, чем воскрешение из мертвых) стала потихоньку освобождаться от платья и, нежно обнимая его, вопрошала: «Увы, мой добрый слуга! что это за недуг, который так тебя терзает?» Джероними отвечал еще плохо слушающимся губами: «Что до моей болезни, то она совершенно исцелена снадобьями твоей доброты. Но должен сознаться, что, выпив из рук твоих сей эликсир, я был погружен в беспамятство мучительным ощущением, что недостоин таких милостей. И все же, милая госпожа, если между нами по-прежнему (как я вижу) существует прежняя искренность, да послужат мои слова залогом доверия, которое должно быть между любящими, ибо в них – мольба о прощении: излей же вновь на меня, своего недостойного слугу, щедрые волны своего милосердия, ибо, должен сознаться, я тебя оскорбил столь глубоко, что, хотя твое великодушие превосходит низость моих помыслов, я повинен (и заслуженно) суровому наказанию; тем самым ты освободишь от греха того, кто уже отрекся сам от себя и не способен ни обвинить тебя, ни извинить себя в своем преступлении». Леди Элинор (которая была столь же рада тому, что ее слуга воспрянул к жизни, сколь озадачена его странными фантазиями и крепко задумавшись о его загадочных словах) сделалась настойчивей, стремясь вызнать истинные мысли Фердинандо. И тот, не владея собой, в конце концов откровенно сознался, как заподозрил ее в измене своим клятвам. И, более того, прямо рассказал, что, как и почему, то есть к кому именно она, по его мнению, испытывала особенные чувства.
И здесь я бы хотел спросить у людей опытных: есть ли бóльшая помеха к достижению желанной цели любви, чем высказанное недоверие? или, скажем прямо, не лучший ли это способ изгнать из памяти всю былую любовь – дать понять душе, знающей за собой вину, что ты ей не доверяешь? Мудрено ли, что леди Элинор впала сперва в раздражение, затем в ярость и в конце концов совершенно отвергла притязания Фердинандо, который, сколько ни пытался смирить ласковыми словами ее гнев и, покорившись, взять верх над своей дамой, никоим образом не мог предотвратить ссоры. Мягкие подушки, присутствовавшие при сей жаркой перепалке, вызывались быть посредниками в заключении перемирия и предлагали, если так уж необходима схватка, завершить дело одним добрым ударом копьеца, чтобы после этого стать друзьями навеки. Но леди наотрез от того отказалась, заявив, что не находит причины проявить такую учтивость к трусу и изменнику, присовокупив еще много иных упреков, приведших Фердинандо в такое негодование, что он в конце концов, забыв всякую учтивость, ринулся на своего непримиримого врага и с такой силой прижал его к изголовью кровати, что прежде, чем она успела изготовиться к защите, он пронзил ее насквозь неотразимым ударом, за которым последовали другие, так что дама, как бы обеспамятев от страха, принуждена была предать свое тело на милость победителю. Когда же она наконец пришла в себя, то внезапно вскочила на ноги и перед тем, как спастись бегством, осыпала Фердинандо многими жестокими словами, поклявшись, что он никогда (никогда впредь) не застанет ее больше врасплох, каковую клятву она сдержала лучше, чем некоторые свои добрые обеты; и вернувшись в свою комнату (ибо рана ее оказались неопасной), легла и, я полагаю, преспокойно уснула до утра. Что до Фердинандо, то он, убедив себя, что при удобном случае окончательно излечит ее от этих блажных фантазий, тоже заснул и спалось ему куда лучше, чем во многие предыдущие ночи.
Пускай же они спят, покуда я обращу свое перо к упомянутому выше секретарю, который, вернувшись (как я уже сказал) из Флоренции, сделал немало попыток возобновить свои привычные консультации; но печаль, которая охватила его госпожу из-за болезни Фердинандо, вместе с ее постоянными визитами к больному, явились препятствиями его попыткам, и долгое время он не мог получить никакой аудиенции. Но события последней ночи столь благоприятно сказались на ходе его дела, что он вскоре был допущен в присутствие ее милости и смог изложить суть своего иска. Впрочем, если бы я стал подробно пересказывать его претензии и хитроумные ответы госпожи, я бы обременил ваши уши лишними неприятными доказательствами женского лукавства. Короче говоря, то враждебное чувство к Фердинандо, которое ныне овладело леди Элинор, вместе с угрызениями совести касательно одиннадцатой статьи ее религиозного кодекса[14], подтолкнули ее более охотно провести консультации со своим секретарем как по поводу причиненных ей обид, так и по вопросу смены вероисповедания. И поистине вышло так, что секретарь, который долго был в отлучке и по такому случаю не иступил своих карандашей и перьев до привычного состояния, так расстарался и так ловко скреб своим перышком, делая заметки для своей госпожи, что ей больше понравилось его длинные тремоло и каденции, чем простоватые куплеты Фердинандо…
[С той поры отношения между леди Элинор и Фердинандо перешли в состояние долгой мучительной агонии. Несмотря на все попытки последнего вернуть любовь госпожи, отчужденность между ними росла. Фердинандо стал думать, что лучше окончательно убедиться в ее неверности, чем пребывать в вечной неопределенности. Однажды он зашел в покои леди Элинор и застал ее лежащей на кровати; камеристка прислуживала ей, а секретарь и еще одна дама развлекали разговором. С печалью в сердце, но с игривостью в жестах и словах и думая, что в его положении лучше быть дерзким, чем робким, он подошел к своей госпоже и, положив руку ей на рукав, стал упрекать ее в праздном времяпрепровождении и невнимании к своим верным слугам. Леди Элинор, казалось, сие было докучно, она посмотрела на секретаря и улыбнулась. Присутствующие в комнате разразились смехом, а Фердинандо вынужден был удалиться и, мучимый ревностью, сочинил такой сонет.]
Пред ней сидел я, за руку держа, «Помилосердствуй!» – умоляя взглядом, И вдруг увидел, как моя душа С соперником моим, стоявшим рядом, Переглянулась; усмехнулся он – Неверная улыбкой отвечала; Она не слышала мой горький стон, Соленых слез моих не замечала. что ж! блажью женской я по горло сыт, Пора безумцу протрезветь немножко; Пословица, ты знаешь, говорит: И лучшая из кошек – только кошка. Все клятвы их, что манят простеца, Не стоят и скорлупки от яйца.[Между тем леди Фрэнсис, видя страдания Фердинандо и желая окончания сего романа, не служащего к чести того, кого она преданно и безответно любила, в прозрачной форме намекнула ему, каким образом он может удостовериться в неверности своей госпожи. И вот однажды перед рассветом Фердинандо встал и, пройдя по галерее к спальне леди Элинор, собственными ушами услышал из-за двери сцену ее нежного расставания с секретарем. Вернувшись в свою комнату, он почувствовал, что не сможет успокоиться, пока не поговорит с леди и, встретившись с ней, прямо обвинил ее в вероломной измене, которую та сперва отрицала, но, припертая к стене неопровержимыми уликами, воскликнула: «А если даже так, что с того?»]
На что Фердинандо ничего не возразил, лишь сказал на прощанье: «Мой урон – только мой, а твой улов тебе не принадлежит; и скорее я возмещу свой урон, чем ты получишь барыш от своего улова». И, найдя одинокое место, он сочинил следующие строки, которыми можно было бы заключить нашу повесть:
«А если даже так, Тебе какой урон? Рыбачить в море может всяк, Ты этим удивлен?» Так госпожа моя Вернула мне упрек. Смущенный, долго думал я И отвечал как мог: «Моряк не виноват, что в простоте своей Мнит: лишь ему принадлежат Все рыбы всех морей. И сам я был таков, За что и посрамлен: Другим достанется улов, А мне – один урон. Судьбы не угадать, Промчится шквал вдали, И тот, кто был с уловом, глядь, Застрянет на мели. Тогда и я смогу, Схватившись за бока, Похохотать на берегу Над счастьем рыбака».Влияние «плеяды»
На первый взгляд, шестнадцатый, «ренессансный» век английской поэзии представляет собой единый период. Если делить его на части, это естественно сделать по царствованиям: период Генриха, период Елизаветы… Но если посмотреть более внимательно, мы увидим, что швы проходят не совсем так, что английский Ренессанс двигался к своим высшим достижениям несколькими последовательными усилиями, и они далеко не всегда совпадают с началом нового царствования. Несомненно, Уайетт и Сарри в 1530–1540-х годах много сделали для обновления поэзии, но после их смерти наступил спад, и даже появление в начале елизаветинского царствования Гаскойна, их достойного приемника, не изменило ощущения паузы, затишья перед вторым актом. Второй и значительно более стремительный период начался с приходом на литературную сцену Сидни и Спенсера в 1580-х годах, а они уже проложили путь Шекспиру и Донну.
Всегда оставалось не совсем ясным, почему держалась пауза, почему (и в какой момент) последовал упомянутый рывок. Английские историки литературы долгое время как бы затушевывали главную причину, каковой являлось огромное вдохновляющее влияние группы замечательных французских поэтов, известных под названием «Плеяды», – в первую очередь, Ронсара и Дю Бюлле. Совершенная ими поэтическая революция во французской поэзии самым непосредственным образом сказалась на их соседях англичанах, установив новые стандарты и изменив привычное ви́дение мира. В частности, разительно обострилась зоркость поэта, его чувство природы, телесности мира: поэзия Уайетта и Гаскойна, при всем их таланте, в какой-то степени основывалась на стереотипах, непосредственное зрение было сужено и затуманено.
Признанным главой «Плеяды» был Пьер Ронсар (1524–1585). Молодой дворянин, не отличавшийся с юности крепким здоровьем, он чуть было не избрал сан священника, что в перспективе давало недурные доходы и обеспеченную жизнь, но увлекся античностью, литературой, стихами и вскоре нашел друзей и единомышленников, стремившихся к той же цели – обновлению и возвеличиванию французской поэзии. Двадцативосьмилетие между изданием «Од» Ронсара (1550) и его последней книги лирики «Сонеты к Елене» (1578) было одним из самых плодотворных периодов в истории французской литературы. Достижения этого периода дали мощный толчок не только французской, но английской литературе. По словам Эмриса Джонса, основная разница между ранней и поздней фазами тюдоровской поэзии состояло в том, что Уайетт и Сарри писали до «Плеяды», а поздние елизаветинцы, включая Шекспира, – после[15].
Жоашен дю Белле (1522?–1560)
Жоашен Дю Белле родился в дворянской семье, рано осиротел, в детстве и юности не получил серьезного образования. Лишь в возрасте 23 лет он поступил в университет Пуатье, где познакомился с идеями и творчеством гуманистов. В 1547 году он встретился и подружился с Пьером Ронсаром; от этой встречи отсчитывают начало французской ренессансной поэзии и творчества поэтического кружка Плеяда. Манифест этого течения «Защита и прославление французского языка», отредактированный Дю Белле, появился в 1549 году. Манифест был полон веры в поэзию и родной язык, который, тем не менее, следовало обогатить и очистить, чтобы французская поэзия могла сравниться с латинской и итальянской. В 1553 году Дю Белле отправился в Рим в качестве секретаря своего родственника кардинала Дю Белле. Там он провел четыре года. По возвращении в Париж он опубликовал цикл сонетов «Римские древности» и большую книгу сонетов «Жалобы» (Regrets), описывающих его тоску по родине и несчастную любовь. В Париже его отношения с покровителями не сложились, приобретенная в молодости глухота осложняла его жизнь, слабое здоровье привело к тому, что он умер в 1560 году в возрасте 38 лет.
Жоашен Дю Белле. Гравюра XVI в.
Сонет
Я больше не кляну тот сумасбродный пыл, Что вынудил меня растратить вхолостую Дни юности моей – ту пору золотую, От коей на земле плодов я не вкусил. Я больше не ропщу, что столько лет и сил В трудах неистовых испепелил впустую, Зато я не дрожал, встречая бурю злую И у судьбы своей подачек не просил. Стихи, что смолоду бывали наважденьем, Мне будут в старости опорой и спасеньем, Так был копьем Телеф повержен и спасен, Так ранит и целит искусство Аполлона, Так, говорят врачи, от яда скорпиона Противоядие – сушеный скорпион.Пьер Ронсар (1524–1585)
Великий французский поэт Возрождения. Родился в дворянской семье, был назначен пажом к наследнику престола, успешно ему служил, путешествовал за границей, но начавшая развиваться болезнь (глухота) заставила его оставить придворную карьеру и постричься в священники. Основатель (вместе с Дю Белле и другими) Плеяды – сообщничества поэтов, поставившего себе целью обновление и возвышение французской поэзии на пути подражания древним. Автор «Од» (первая книга поэта, 1550), «Гимнов», «Поэм» и трех замечательных циклов любовных сонетов, в которых он воспел соответственно Кассандру, Марию и Елену.
Пьер Ронсар. Гравюра XVI в.
Из сонетов Елене
Мадам, вчера в саду меня вы уверяли, Что вас не трогает напыщенный куплет, Что холодны стихи, в которых боли нет, Отчаянной мольбы и горестной печали; Что на досуге вы обычно выбирали Мой самый жалостный, трагический сонет, Поскольку стон любви и страсти жгучий бред Ваш дух возвышенный всегда живей питали. Не речь, а западня! Она меня манит Искать сочувствия, забвения обид, Надежду оплатив ценою непомерной, – Чтоб над моей строкой лукавый глаз пустил Фальшивую слезу. Так плачет крокодил Пред тем, как жизнь отнять у жертвы легковерной.«Быть может, что иной читатель удивится…»
Быть может, что иной читатель удивится Предмету этих строк, подумав свысока, Что воспевать любовь – не дело старика. Увы, и под золой живет огня крупица. Зеленый сук в печи не сразу разгорится, Зато надежен жар сухого чурбака. Луне всегда к лицу седые облака, И юная заря Тифона не стыдится. Пусть к добродетели склоняет нас Платон – Фальшивой мудростью меня не проведете. О нет, я – не Икар, не дерзкий Фаэтон, Я не стремлюсь в зенит, забыв о смертной плоти; Но и снегами лет ничуть не охлажден, Пылаю и тону по собственной охоте.«Комар, свирепый гном, крылатый кровосос…»
Комар, свирепый гном, крылатый кровосос С писклявым голоском и с мордою слоновьей, Прошу, не уязвляй ту, что язвит любовью, – Пусть дремлет Госпожа во власти сладких грез. Но если алчешь ты добычи, словно пес, Стремясь насытиться ее бесценной кровью, Вот кровь моя взамен, кусайся на здоровье, Я эту боль снесу – я горше муки снес. А впрочем, нет, Комар, лети к моей тиранке И каплю мне достань из незаметной ранки – Попробовать на вкус, что у нее в крови. Ах, если бы я мог сам под покровом ночи Влететь к ней комаром и впиться прямо в очи, Чтобы не смела впредь не замечать любви!«Оставь меня, Амур, дай малость передышки…»
Оставь меня, Амур, дай малость передышки; Поверь, желанья нет опять идти в твой класс, Где разум я сгубил и силы порастряс, Где муки адовы узнал не понаслышке Напрасно доверял я лживому мальчишке, Который жизни цвет тайком крадет у нас, То ласкою маня, то нежным блеском глаз, С истерзанной душой играя в кошки-мышки. Его питает кровь горячих юных жил, Безделье пестует и сумасшедший пыл Нескромных снов любви. Все это мне знакомо; Я пленником бывал Кассандры и Мари, Теперь другая страсть мне говорит: «Гори!» И вспыхиваю я, как старая солома.«Ступай, мое письмо, послушливый ходатай…»
Ступай, мое письмо, послушливый ходатай, Толмач моих страстей, гонец моих невзгод; Вложи в слова тоску, что душу мне гнетет, И сургучом любви надежно запечатай. Явись пред госпожой и, зоркий соглядатай, Заметь: небрежно ли прекрасный взор скользнет По горестным строкам – или она вздохнет – Иль жалость выкажет улыбкой виноватой. Исполни долг посла и все поведай ей, Чего я не могу поведать столько дней, Когда, от робости бледнея несуразной, Плутаю в дебрях слов, терзаясь мукой праздной. Все, все ей расскажи! Ты в немоте своей Красноречивее, чем лепет мой бессвязный.«Английский петрарка», или Гнездо Феникса (О Филипе Сидни)
Погиб наш Сципион, наш Ганнибал, Петрарка наших дней и Цицерон, Кому мой стих лишь причинит урон, – Ведь он достоин Ангельских похвал. (Уолтер Рэли, «Эпитафия на достопочтенного сэра Филипа Сидни, коменданта Флашинга»)Период правления Эдуарда VII и Марии Католички, а также первые десять-пятнадцать лет царствования великой Елизаветы, были «тощими годами» для английской литературы, не ознаменовавшимися появлением ярких имен. Недаром автор предисловия к знаменитой антологии лирики 1557 года, так называемому «Сборнику Тоттела», впервые представляя широкой публике стихи Томаса Уайетта и графа Сарри, писал:
Ежели, паче чаяния, не всем придется по нраву утонченный стиль, непривычный для закосневших в дикости ушей, я обращаюсь за поддержкой к людям образованным – да защитят они своих ученых собратьев, авторов сей книги. А невежд я призываю умерить чтением оных стихов свое невежество и смягчить свинскую грубость, понуждающую их недовольно хрюкать от запаха сладкого майорана[16].
Действительно, после смерти графа Сарри настала довольно продолжительная пауза, в течение которой читатели и поэты переваривали преподанные им уроки неведомого доселе ренессансного изящества. Талант Джорджа Гаскойна обозначил канун нового рассвета. Но открыть заключительную, самую блестящую страницу английского Возрождения довелось лишь Филипу Сидни (1554–1586), которого современники справедливо назвали «английским Петраркой».
По своему рождению Сидни принадлежал к высшей знати королевства. Его отец был наместником Ирландии, мать – дочерью герцога Нортумберлендского. Проучившись несколько лет в Оксфордском университете (и покинув его по случаю разразившейся в городе чумы), он получает разрешение отправиться путешествовать на континент «ради получения навыка в иностранных языках». В Париже, живя под опекой английского посольства, он знакомится с высшей французской знатью и покоряет всех своими знаниями и талантами. Карл IX награждает его титулом барона; Генрих Наваррский обходится с ним как с равным. 18 августа 1572 года Сидни присутствует на его свадьбе с Маргаритой («королевой Марго») в соборе Нотр-Дам, а еще через пять дней становится свидетелем жутких событий Варфоломеевской ночи, когда многие его друзья-гугеноты были злодейски умерщвлены, – и воспоминания о этой резне остались с ним на всю жизнь.
Сэр Филип Сидни. Неизвестный художник, 1576 г.
Из Парижа Сидни направился в Германию, где изучал вопросы религии и обсуждал возможность создания Протестантской лиги. Летом 1573 года он посетил двор императора Максимилиана в Вене, где (как он потом вспоминает в трактате «Защита поэзии») совершенствовался в искусстве верховой езды. Это почиталось весьма важным рыцарским качеством и в будущем пригодилось Сидни на рыцарских турнирах в Лондоне, где он считался одним из лучших бойцов. Королева Елизавета очень любила эти турниры, самый главный из которых проводился ежегодно в день ее коронации и обставлялся как роскошный, красочный спектакль.
Затем Сидни побывал в Италии, продолжив там свои занятия наукой и литературой, по несколько месяцев провел в Падуе, Генуе и Венеции, где позировал для Тинторетто и Веронезе. Кроме того, он посетил Польшу, Венгрию и Прагу.
В 1575 году Сидни вернулся на родину и сразу сделался всеобщим любимцем. Наверное, уже тогда начала складываться легенда о Филипе Сидни, завершенная и канонизированная уже после его безвременной гибели.
Политик, рыцарь, воин и мудрец, Надежда и опора государства, Зерцало моды и лекало вкуса, Во всем для всех закон и образец[17] –эти слова, сказанные Офелией о Гамлете, как нельзя более отражают образ того, кого считали лучшим украшением английского двора. Королева отличала Сидни и знала ему цену. Монаршей благосклонности не помешало даже то, что он – единственный среди придворных – открыто выступил против ее помолвки с герцогом Анжуйским, приняв за чистую монету искусно сочиненную и разыгранную Елизаветой политическую комедию. За эту неслыханную дерзость Сидни мог крепко поплатиться (некому Джону Стаббсу, простолюдину, за похожий совет отрубили руку), но был всего лишь временно отставлен от двора и удалился в поместье Уилтон, где в общении со своей любимой сестрой Мэри Сидни задумал и написал пасторально-куртуазный роман в прозе и в стихах «Аркадия».
Главные герои этой галантной сказки Пирокл и Музидор влюблены в дочерей короля Базилия, который, оставив свое королевство временному правителю, удалился в глухой, необитаемый лес. Чтобы приблизиться к принцессам, бдительно оберегаемых от женихов, Пирокл переодевается в амазонку, а Музидор – в пастуха. Сложный сюжет изобилует многими приключениями, вставными новеллами и стихами… Впрочем, дело не в сюжете, а в тоне повествования, сделавшем «Аркадию» настоящим кодексом рыцарского «вежества». Им восхищалось несколько поколений английского дворянства, а Карл I, как говорят, даже взял его с собой на эшафот. Можно добавить, что мотивы и сама атмосфера «Аркадии» отозвались во многих пьесах Шекспира – в частности в «Двух веронцах» и «Как вам это понравится», а также в его более поздних романтических сказках.
Однако главным поэтическим достижением Сидни стала не «Аркадия», а цикл любовных сонетов «Астрофил и Стелла». «Астрофил» по-гречески значит «влюбленный в звезду», «Стелла» по-латыни – «звезда»; этим именем Сидни называет вдохновительницу своих стихов. Вряд ли можно сомневаться, что ее была Пенелопа Деверë, в замужестве леди Рич: в тридцать седьмом сонете, который начинается и кончается словом «rich», Сидни прямо высказывает свои ревнивые чувства, едко обыгрывая имя ее мужа.
Разумеется, перед нами не хроника действительных событий, а лишь отражение владевших поэтом чувств («Сонет есть памятник мгновению», сказал Д. Г. Россетти); но за искусным художеством ощутима подлинная история любви. Эту диалектику точно угадал Томас Нэш в предисловию к первому изданию сонетов:
Tempus adest plausus; aurea pompa venit: здесь кончается Действо для Непосвященных и входит Астрофил во всем своем великолепии. Господа, после тысяч строк всяческих глупостей, выведенных на сцену ex puncto impudentiae, после созерцания двух Гор, породивших одну единственную Мышь, после оглушающего звона бесстыдных Фанфар и невыносимого скрипа тупых Перьев, после зрелища Пана в шалаше, окруженного толпой Мидасов, восхищающихся его жалкой музыкой, да не побрезгуют ваши пресыщенные очи, возвратившись из балагана, обернуться и удостоить взглядом этот восхитительный Театр, ибо здесь вам предстанет бумажная сцена, усыпанная настоящими перлами, перед вашими любопытными глазами воздвигнутся хрустальные стены и при свете звезд будет разыграна трагикомедия любви. Главную роль в ней играет сама Мельпомена, чьи темные одежды, обрызганные чернильными слезами, до сих пор, если приглядеться, роняют влажные капли. Содержание пьесы – жестокая добродетель, ее Пролог – надежда, Эпилог – отчаянье…[18]
В сущности, Нэш говорит то же самое, что Блок в своем «Балаганчике»:
Вдруг паяц перегнулся через рампу И кричит: «Помогите! Истекаю клюквенным соком!..»«Чернильные слезы» сиднивских сонетов, если приглядеться, действительно сочатся настоящей болью:
Теперь утратил я и эту волю, Но, как рожденный в рабстве московит, Тиранство славлю и терпенье холю, Целуя руку, коей был побит; И ей цветы фантазии несу я, Как некий рай, свой ад живописуя. («Астрофил и Стелла», сонет II)Впрочем, настроение сонетов переменчиво. Часто – это действительно лишь «цветы фантазии», мадригальные темы, ритуальная покорность:
Испробуй преданность мою собачью: Вели мне ждать – я в камень обращусь, Перчатку принести – стремглав помчусь И душу принесу в зубах в придачу. («Астрофил и Стелла», сонет LIX)Тем более поражает, когда долго сдерживаемая страсть прорывается в песне пятой яростными обвинениями и оскорблениями. Воспламененный обидой Астрофил называет свою ангельскую Стеллу разбойницей, убийцей, тиранкой, предательницей, ведьмой и, наконец, самим Дьяволом:
Но ведьмам иногда раскаяться дано. Увы, мне худшее поведать суждено: Ты – Дьявол, говорю, в одежде Серафима. Твой лик от Божьих врат отречься мне велит, Отказ ввергает в ад и душу мне палит, Лукавый Дьявол ты, соблазн неодолимый!И хотя в последней строфе этой длинной «песни» Астрофил дезавуирует свои обвинения, уверяя, что (вопреки сказанному!) он все же любит Стеллу и что, если вдуматься, все его хулы «окажутся хвалою», зловещий образ женщины – «исчадья темноты» – уже возник. И не из этого ли образа произошла «темная леди» шекспировских сонетов?
Читателю, может быть, хотелось бы узнать поподробней о реальном прототипе черноглазой Стеллы и о ее дальнейшей судьбе. Пенелопа Деверё была сестрой Роберта, будущего графа Эссекса – последнего фаворита королевы Елизаветы. Впрочем, а в то время, когда Филип и Пенелопа впервые увидели друг друга, королевским фаворитом оставался граф Лейстер, родной дядя Филипа Сидни. Умирая, старый граф Эссекс выразил желание, чтобы его в то время еще 13-летняя дочь вышла замуж за молодого Сидни. Какое-то время Филип, по-видимому, считал Пенелопу своей нареченной, но фортуна непредсказуемым образом расстроила эти планы. В 1578 году
граф Лейстер тайно женился на матери Пенелопы, вдове лорда Эссекса, вследствие чего впал в немилость у королевы, которая вряд ли бы теперь одобрила брак племянника своего провинившегося вельможи на дочери провинившейся дамы. Да и знатные родичи Филипа рассчитывали на более выгодный для него брачный союз; так что все разговоры о женитьбе постепенно заглохли.
Филип Сидни, «Астрофил и Стелла». Первое издание, 1591 г.
В январе 1581 года опекуны привезли восемнадцатилетнюю Пенелопу в стольный град и вскоре подыскали ей мужа – богатого вельможу с подходящей фамилией Рич («богатый»). Филип Сидни не мог не встречаться с ней – при дворе или в доме своей тетки, графини Хантингтонской, покровительствовавшей Пенелопе. Ослепительная красавица, которую он раньше видел только неуклюжим подростком, сразила его наповал. Пылкое увлечение, начавшись в первые месяцы по приезду Пенелопы в Лондон, продолжалось в период сватовства лорда Рича и некоторое время после ее замужества (в ноябре того же года). Затем Сидни простился со двором и уехал в имение отца в Уэльс, где весной и летом 1582 года, по-видимому, закончил свой цикл сонетов об Астрофиле и Стелле. Ему было 28 лет, и впереди оставались еще четыре года жизни – только четыре года.
Между тем его отец сосватал для него выгодную невесту (тщательно, до пенни, оговорив приданое), и в 1583 году Филип женился на дочери сэра Фрэнсиса Уолсингема, государственного секретаря и шефа секретной службы Елизаветы. Брак вышел вполне удачным. Однако жизнь при дворе все-таки казалась Сидни чересчур пресной. В 1585 году, надеясь увидать Новый Свет, он чуть было не уплыл вместе с Дрейком в пиратскую экспедицию. Но вместо этого королева направила его на помощь протестантским союзникам в Нидерланды, где спустя год в схватке с испанцами под Зутфеном Филип Сидни был тяжело ранен и через день умер. Говорят, что за несколько часов до кончины, мучаясь от ран и манипуляций хирургов, он сочинил шуточную песенку о набедренном доспехе, который его подвел, под названием «La cuisse rompue», чтобы немного развлечь горевавших о нем друзей и жену.
По смерти Сидни вся рыцарская Европа погрузилась в траур. Монархи многих стран прислали в Лондон свои письма и соболезнования. Принц Вильгельм Оранский просил у Елизаветы разрешения похоронить Сидни там же, в Голландии. Если бы это осуществилось, лежать бы ему в Дельфтском соборе неподалеку от помпезной гробницы самого Вильгельма. Но Англия, конечно, не отдала прах своего героя. Похороны Филипа Сидни в соборе Святого Павла были грандиозны. Весь церемониал был запечатлен в серии специальных гравюр, выпущенных по следам этого события. Насколько долгой и «всенародной» была память о геройской смерти Филипа Сидни, свидетельствует мемуарист, родившийся через полвека после его смерти:
Пенелопа Девере («Стелла» сонетов Сидни) в возрасте 15 лет. Неизвестный художник, 1578 г.
Мне было девять лет, когда мы с отцом заезжали в дом некоего мистера Синглтона, купца-суконщика и городского олдермена в Глостере. У него в гостиной над камином висело полное описание Похорон Сэра Филипа Сидни, выгравированное и напечатанное на листах бумаги, склеенных вместе в длинную ленту от стены до стены, и он так ловко укрепил их на двух штырях, что, вращая любой из них, можно было заставить изображенные фигуры маршировать друг за другом, как в настоящей похоронной процессии. Это произвело такое сильное впечатление на мою мальчишескую фантазию, что я до сих пор помню все так, как будто это было только вчера (Джон Обри. Краткие жизнеописания).
Сколь силен был взрыв скорбных чувств в момент похорон Сидни, доказывает, например, тот факт, что брат Пенелопы, граф Роберт Эссекс, дал торжественный обет жениться на вдове погибшего друга. Королева долго противилась этому браку, но после того как на турнире 1590 года Эссекс выехал на арену в сопровождении роскошной траурной процессии, напомнив одновременно о смерти своего благородного друга и о собственном отчаянии от невозможности выполнить данную клятву, Елизавета вынуждена была согласиться. Так посмертно, мистически породнились Астрофил и Стелла – брат «Стеллы» женился на вдове «Астрофила».
Брак с Фрэнсис не помешал настойчивому Эссексу со временем сделаться фаворитом королевы, сильнейшим человеком в государстве. Его сестра Леди Рич, очаровательная и прекрасно образованная дама (она, между прочим, владела французским, итальянским и испанским языками), тем временем блистала при дворе. Но когда в 1601 году после неудачного мятежа граф Эссекс был схвачен и обвинен в государственной измене, не кто иной, как Пенелопа, проявив незаурядное мужество, защищала своего брата перед королевой и членами Тайного совета. Тем не менее Эссекс был казнен, а улики против Пенелопы, имеющиеся в показаниях раскаявшегося графа, оставили без последствий. Может быть, это стихи Сидни спасли ее от тюрьмы и приговора? – королева не посмела тронуть воспетую поэтом Стеллу.
Томас Нэш назвал героя сиднивских сонетов Фениксом, воспрянувшим из пепла своей погибшей любви. Отсюда, вероятно, происходит название поэтического сборника «Гнездо Феникса» (1593), изданного в память Филипа Сидни и включающего три элегии на его смерть. Елизаветинская плеяда остро чувствовала свой долг ее признанному законодателю – из «Астрофила и Стеллы», как из гнезда, выпорхнул целый выводок неутомимых сонетистов[19].
По сути же, влияние Сидни на лучших из его современников и последователей было даже глубже, чем может показаться на первый взгляд. Скажем, в сонете «Расставание» («Я понял, хоть не сразу и не вдруг, / Зачем о мертвых говорят: “Ушел”…») уже содержатся основные мотивы валедикций Джона Донна – в том числе его знаменитого «Прощания, запрещающего печаль». Когда Уолтер Рэли, описывая отчаяние любви в поэме «Океан к Цинтии», пишет:
Пастух усердный, распусти овец: Теперь пастись на воле суждено им, Пощипывая клевер и чабрец, – А ты устал, ты награжден покоем.конечно же, он ступает по следу пасторальной традиции Сидни:
Я скорбных дум своих вожу стада По пастбищам своей любви бесплодной, Но тщетно, разбредаясь кто куда, Они унять стремятся пыл голодный. Моих надежд иссякли родники, И скошены желаний сорняки. («Аркадия», Книга II)Надо добавить, что Филип Сидни дарил своей дружбой и покровительством Эдмунда Спенсера, который посвятил Сидни свой «Пастушеский календарь». Вместе со Спенсером, Эдвардом Дайером и Габриелем Гарви он образовал группу «Ареопаг», ставившей своей задачей привить английскому языку благородные греческие размеры – идея утопическая, но стимулировавшая теорию и практику английского стихосложения.
Авторитет Сидни основывался не только на его стихах, но и на его высоком понимании поэзии, ярко выразившемся в трактате «Защита поэзии». Это – искусно построенная, вдохновенная речь, восхваляющая поэта-творца, чьи произведения превосходят саму природу красотой и щедростью фантазии.
Никогда Природа так пышно не украшала землю, как украшают ее поэты; без них не было бы ни столь тихоструйных рек, ни столь пышно увешанных плодами деревьев, ни столь благоуханных цветов – словом, всего этого убранства, которое делает нашу милую землю еще любимей. Природа – бронзовый кумир, лишь поэты покрывают его позолотой.
Сидни доказывает преимущество поэзии перед наукой и философией тем, что последние никак не могут обойтись без первой, не могут проникнуть сквозь врата памяти народной без охранной грамоты поэзии. Даже у тех народов, у которых вовсе нет науки, люди одарены поэтическим чувством. Поэзия неискоренима: самые жестокие завоеватели не могут ее уничтожить. Приводя пример Ирландии, на обитателей которой в ту пору англичане смотрели как на полудикарей, Сидни свидетельствует: «У соседей наших, ирландцев, ученость в отрепьях; поэтов же своих они чтут благоговейно».
Отношение Сидни к поэзии можно ретроспективно назвать «романтическим» – недаром романтик Шелли в своей новой «Защите поэзии», написанной двести пятьдесят лет спустя, точно так же, как Сидни, возносил воображение над рассуждением, поэзию над наукой. «Поэзия есть действительно нечто божественное. Это одновременно центр и вся сфера познания; то, что объемлет все науки, и то, чем всякая наука должна поверяться» (П. Б. Шелли, «Защита поэзии»).
Романтизм востребовал многое в елизаветинской литературе, что целые века находилось в небрежении – в том числе и сонет, огромные возможности которого впервые показал именно Сидни. Чарльз Лэм (1775–1834) в своем эссе «Некоторые сонеты Филипа Сидни», видно, отчаявшись объяснить их прелесть, просто цитирует подряд четырнадцать своих любимых сонетов. Джон Китс, один из лучших поэтов-романтиков, продолжая сонетную традицию, выводит ее не столько от Шекспира, сколько от «Астрофила и Стеллы». Его сонет, начинающийся словами: «How many bards guild the lapses of time» –
Как много славных бардов золотят чертоги времени… –не есть ли реминисценция из трактата Сидни: «Природа – бронзовый кумир, лишь поэты покрывают его позолотой»?
Сэр Филип Сидни (1554–1586)
Не выстрелом коротким наповал (Из книги сонетов «Астрофил и Стелла»)
Не выстрелом коротким наповал Амур победы надо мной добился: Как хитрый враг, под стены он подрылся И тихо город усыпленный взял. Я видел, но еще не понимал, Уже любил, но скрыть любовь стремился, Поддался, но еще не покорился, И, покорившись, все еще роптал. Теперь утратил я и эту волю, Но, как рожденный в рабстве московит, Тиранство славлю и терпенье холю, Целуя руку, коей был побит; И ей цветы фантазии несу я, Как некий рай, свой ад живописуя.Как медленно ты всходишь, месяц томный
Как медленно ты всходишь, Месяц томный, На небосклон, с какой тоской в глазах! Ах, неужель и там, на небесах, Сердца тиранит лучник неуемный? Увы, я сам страдал от вероломной, Я знаю, отчего ты весь исчах, Как в книге, я прочел в твоих чертах Рассказ любви, мучительной и темной. О бледный Месяц, бедный мой собрат! Ответь, ужели верность там считают За блажь – и поклонения хотят, Но поклоняющихся презирают? Ужель красавицы и там, как тут, Неблагодарность гордостью зовут?Ужели для тебя я меньше значу
Ужели для тебя я меньше значу, Чем твой любимый мопсик? Побожусь, Что угождать не хуже я гожусь, – Задай какую хочешь мне задачу. Испробуй преданность мою собачью: Вели мне ждать – я в камень обращусь, Перчатку принести – стремглав помчусь И душу принесу в зубах в придачу. Увы! мне – небреженье, а ему Ты ласки расточаешь умиленно, Целуешь в нос; ты, видно по всему, Лишь к неразумным тварям благосклонна. Что ж – подождем, пока любовь сама Лишит меня последнего ума.Песнь пятая
Когда во мне твой взор надежду заронил, С надеждою – восторг, с восторгом – мыслей пыл, Язык мой и перо тобой одушевились. Я думал: без тебя слова мои пусты, Я думал: всюду тьма, где не сияешь ты, Явившиеся в мир служить тебе явились. Я говорил, что ты прекрасней всех стократ, Что ты для глаз – бальзам, для сердца – сладкий яд, Что пальчики твои – как стрелы Купидона, Что очи яркостью затмили небосвод, Что перси – млечный путь, речь – музыка высот, И что любовь моя, как океан, бездонна. Теперь – надежды нет, восторг тобой убит, Но пыл ещё живёт, хотя, сменив свой вид, Он, в ярость обратясь, душою управляет. От славословий речь к упрёкам перешла, Там ныне брань звучит, где слышалась хвала; Ключ, заперший ларец, его ж и отпирает. Ты, бывшая досель собраньем совершенств, Зерцалом красоты, обителью блаженств И оправданьем всех, без памяти влюблённых, Взгляни: твои крыла волочатся в пыли, Бесславья облака лазурь заволокли Твоих глухих небес, виной отягощённых. О Муза! ты её, лелея на груди, Амврозией своей питала – погляди, На что она твои дары употребила! Презрев меня, она тобой пренебрегла, Не дай смеяться ей! – ведь, оскорбив посла, Тем самым Госпожу обида оскорбила. Ужели стерпишь ты, когда задета честь? Трубите, трубы, сбор! Месть, моя Муза, месть! Рази врага скорей, не отвращай удара! Уже в моей груди клокочет кипяток; О Стелла, получи заслуженный урок: Правдивым – честный мир, коварству – злая кара. Не жди былых речей о белизне снегов, О скромности лилей, оттенках жемчугов, О локонах морей в сиянье лучезарном, – Но о душе твоей, где слово с правдой врозь, Неблагодарностью пропитанной насквозь. Нет в мире хуже зла, чем быть неблагодарным! Нет хуже есть: ты – вор! Поклясться я готов. Вор, Господи прости! И худший из воров! Вор из нужды крадёт, в отчаянье безмерном, А ты имея всё, последнее берёшь, Все радости мои ты у меня крадёшь. Врагам вредить грешно, не то что слугам верным. Но благородный вор не станет убивать И новые сердца для жертвы выбирать. А на твоём челе горит клеймо убийцы. Кровоточат рубцы моих глубоких ран, Их нанесли твои жестокость и обман, – Так ты за преданность решила расплатиться. Да чтó убийцы роль! Есть множество улик Других бесчинных дел (которым счёт велик), Чтоб обвинить тебя в тиранстве окаянном. Я беззаконно был тобой порабощён, Сдан в рабство, без суда на пытки обречён! Царь, истину презрев, становится Тираном. Ах, этим ты горда! Владыкой мнишь себя! Так в полом мятеже я обвиню тебя! Да, в явном мятеже (Природа мне свидетель): Ты в княжестве Любви так нежно расцвела, И что ж? – против Любви восстанье подняла! С пятном предательства что стоит добродетель? Но хоть бунтовщиков и славят иногда, Знай: на тебе навек лежит печать стыда. Амуру изменив и скрывшись от Венеры (Хоть знаки на себе Венерины хранишь), Напрасно ты теперь к Диане прибежишь! – Предавшему хоть раз уже не будет веры. Что, мало этого? Прибавить черноты? Ты – Ведьма, побожусь! Хоть с виду ангел ты; Однако в колдовстве, не в красоте здесь дело. От чар твоих я стал бледнее мертвеца, В ногах – чугунный груз, на сердце – хлад свинца, Рассудок мой и плоть – всё одеревенело. Но ведьмам иногда раскаяться дано. Увы! мне худшее поведать суждено: Ты – дьявол, говорю, в одежде серафима. Твой лик от божьих врат отречься мне велит, Отказ ввергает в ад и душу мне палит, Лукавый Дьявол ты, соблазн необоримый! И ты, разбойница, убийца злая, ты, Тиранка лютая, исчадье темноты, Предательница, бес, – ты всё ж любима мною. Что мне ещё сказать? – когда в словах моих Найдёшь ты, примирясь, так много чувств живых, Что все мои хулы окажутся хвалою.Расставание (Из «Других песен и сонетов»)
Я понял, хоть не сразу и не вдруг, Зачем о мертвых говорят: «Ушел», – Казался слишком вялым этот звук, Чтоб обозначить злейшее из зол; Когда же звезд жестоких произвол Направил в грудь мою разлуки лук, Я понял, смертный испытав испуг, Что означает краткий сей глагол. Еще хожу, произношу слова, И не обрушилась на землю твердь, Но радость, жившая в душе, мертва, Затем, что с милой разлученье – смерть. Нет, хуже! смерть все разом истребит, А эта – счастье губит, муки длит.Из романа «Аркадия»
О милый лес, приют уединения! Как любо мне твое уединение! Где разум от тенёт освобождается И устремляется к добру и истине; Где взорам сонмы предстают небесные, А мыслям образ предстает Создателя, Где Созерцания престол находится, Орлинозоркого, надеждокрылого; Оно летит к звездам, под ним Природа вся. Ты – словно царь в покое не тревожимом, Раздумья мудрые к тебе стекаются, Птиц голоса несут тебе гармонию, Возводят древеса фортификацию; Коль мир внутри, снаружи не подступятся. О милый лес, приют уединения! Как любо мне твое уединение! Тут нет предателя под маской дружества, Ни за спиной шипящего завистника, Ни интригана с лестью ядовитою, Ни наглого шута замысловатого, Ни долговой удавки благодетеля, Ни болтовни – кормилицы невежества, Ни подлипал, чесателей тщеславия; Тут не приманят нас пустые почести, Не ослепят глаза оковы золота; О злобе тут, о клевете не слышали, Коль нет греха в тебе – тут грех не хаживал. Кто станет поверять неправду дереву? О милый лес, приют уединения! Как любо мне твое уединение! Но если бы душа в телесном здании, Прекрасная и нежная, как лилия, Чей голос – канарейкам посрамление, Чья тень – убежище в любой опасности, Чья мудрость в каждом слове тихом слышится, Чья добродетель вместе с простодушием Смущает даже сплетника привычного, Обезоруживает жало зависти, О, если бы такую душу встретить нам, Что тоже возлюбила одиночество, Как радостно ее бы мы приветили. О милый лес! Она бы не разрушила – Украсила твое уединение.Сонетный бум
Эдмунд Спенсер (1552–1599)
Родился в Лондоне, в семье служащего торговой компании. Уже в школе начал писать стихи; его переводы из Дю Белле и Петрарки появились в печати анонимно. Поступил стипендиатом в Кембриджский университет и получил степень магистра в 1576 году. Живя в доме графа Лейстера, познакомился с Филипом Сидни, которому посвятил свою первую поэтическую книгу «Пастушеский календарь». В 1580 году поступил секретарем к графу Уилтону и уехал с ним в Ирландию, где провел большую часть оставшейся жизни. Сэр Уолтер Рэли помог ему подготовить и издать первую часть аллегорической поэмы «Королевы фей» (книги I–III, 1590). Вторая часть (книги IV–VI) была опубликована в 1596 году. А годом раньше вышел сонетный цикл «Аморетти», написанный в честь его второй жены Элизабет Бойл.
Эдмунд Спенсер. Гравюра Джорджа Вертью, 1727 г.
Прекрасны, как заря, ее ланиты
Прекрасны, как заря, ее ланиты, Когда Амура свет на них зажжен; И локон милый, ветерком развитый, Когда, как жизнь моя, трепещет он; И грудь ее – роскошный галеон, Плывущий с грузом мира драгоценным; И взор небесный, – хоть и омрачен Порой бывает облачком надменным. Но чудом назову я несравненным, Когда кораллово-жемчужный грот Вдруг растворится – и ручьем блаженным Ее души премудрость истечет. Там было Естество, дарами щедро; А здесь ее Души явились недра.Самуил Даниэль (1562–1619)
Уроженец графства Сомерсет, Даниэль провел три года в Оксфорде, но в науках не преуспел. Путешествовал по Европе, подружился с графиней Мэри Пембрук, сестрой Филипа Сидни и центром литературного кружка, который он впоследствии назовет «моей лучшей школой». С тех пор он искал и находил себе разных состоятельных покровителей, от которых, будучи профессиональным литератором, был материально зависим. Своим важнейшим сочинением он сам считал «Гражданские войны» – историю Англии в стихах от норманнского завоевания до Эдуарда IV. Но читатели помнят Даниэля не за этот восьмитомный труд, а за «Делию» (1-е изд. 1591, исправленные переиздания вплоть до 1601 г.) – цикл лирических сонетов, некоторые из которых сделались антологическими.
Пускай о рыцарях и паладинах
Пускай о рыцарях и паладинах Другие менестрели нам поют, Описывая в выспренних картинах Туманный, зыбкий мир своих причуд: А я пою тебя, твои ресницы И блеск очей смешливых, – чтоб любой, Кто в будущие времена родится, Увидеть и прельститься мог тобой.Самуил Даниэль. Гравюра Томаса Коксона, 1609 г.
Мои стихи – столпы и укрепленья, Воздвигнутые мною на земле, Чтоб сохранить твой образ от забвенья Наперекор векам и смертной мгле. Пускай свидетельствуют строки эти, Что я любил, что ты жила на свете.Майкл Дрейтон (1563–1631)
Родился в графстве Уорквикшир, окончил обычную грамматическую школу; университетского образования он не имел. В юные годы служил пажом в доме сэра Генри Гудьера, друга Филипа Сидни, где увлекся поэзией и попросил своего наставника «научить его, как стать поэтом». Младшей дочери Гудьеров Анне (в замужестве леди Рейнсворт) ретроспективно посвящен цикл сонетов «Идея» (1593). Это была любовь на всю жизнь; утратив надежды на счастье с Анной, Дрейтон так и не женился. После смерти сэра Генри в 1595 году Дрейтон на какое-то время приобрел покровительство Люси Харингтон, графини Бедфорд, но через несколько лет потерял ее благосклонность и вместе с тем надежды войти в круг придворных поэтов Иакова I, при дворе которого леди Бедфорд была самой блестящей и влиятельной дамой. Как и Даниэль, Дрейтон был профессиональным поэтом. Ему принадлежат многочисленные сочинения в стихах: баллады, оды, поэмы, послания, волшебные сказки.
Майкл Дрейтон. Гравюра Уильяма Хоула, начало XVII в.
Прощание
Итак, прощай; раз нету пути назад, В последний раз обнимемся, дружок. А я – я рад, клянусь, всем сердцем рад, Что так легко освободиться смог. Перечеркнем заветные слова И, коль случайно встретимся с тобой, Не выдадим и словом, что жива Хотя б частица от любви былой. Теперь, когда надежда все слабей И страсть едва ль дотянет до утра И вера на колени перед ней Становится у смертного одра, Лишь пожелай – и ты спасти б могла Больную, – как она ни тяжела.Сэр Эдвард Дайер (Ум. 1607)
Об Эдварде Дайере известно немного. Он был другом Филипа Сидни, который завещал разделить свои книги между Фулком Гревилем и Дайером. Джордж Путенхэм в своем «Искусстве английской поэзии» называет его в числе лучших придворных поэтов царствования Елизаветы I. Он пользовался покровительством графа Лейстера, фаворита королевы, выполнял поручения на континенте и, хотя особенных успехов не достиг, был назначен канцлером Ордена Подвязки в 1596 году. Сохранилось очень немного его стихов. Звездный час Дайера настал в 1943 году, когда Алден Брук предложил его в кандидаты на звание Шекспира на основании одной строки из шекспировского сонета CXI, где есть фраза «the dyer’s hand»: «рука красильщика» или, если угодно, «рука Дайера».
Сонет
Когда принес на землю Прометей Цветок огня, невиданный дотоле, Сатир беспечный в простоте своей Его поцеловал – и взвыл от боли! И поскакал со всех козлиных ног Домой, скуля и жалуясь, – покуда Лесной ручей не остудил ожог Прекрасного, но мстительного чуда. Вот так и я небесную красу Узрел – и, не подумав, что такое, Боль жгучую с тех пор в себе несу, Глупец! и не найду нигде покоя. Сатир давно забыл былое зло, А мне не губы – сердце обожгло.Томас Лодж (1558–1625)
Сын дворянина, в одно время бывшего лорд-мэром Лондона. Получил образование в Колледже Троицы в Оксфорде (степень магистра, 1577 г.). Учился в Линкольнз-Инне. Как и многие другие студенты этой юридической школы, поддался искушениям писательства. Автор ряда романов в изящном, «эвфуистическом» стиле, пересыпанных стихами, и поэмы «Метаморфозы Сциллы» (1589), повлиявшей на «Венеру и Адониса» Шекспира. В промежутке между писанием книг успел послужить солдатом и принять участи в экспедиции в южную Америку. В 1597 году, в возрасте 39 лет, отправился в Авиньон изучать медицину и в дальнейшем занялся врачебной практикой. Издал трактат «Историю чумы» (1603), ряд религиозных сочинений, стихотворные переводы. В нем сочетались типично ренессансный подвижный ум и подлинный поэтический талант.
Сонет, начерченный алмазом на ее зеркале
Предательница! Вздрогни, вспоминая, В какие ты меня втравила муки, Как я вознес тебя, а ты, шальная, Как низко пала – и в какие руки! Пойми, распутница, что страсть и похоть Красы твоей могильщиками станут И что не вечно же вздыхать и охать Влюбленный будет, зная, что обманут. И ты забудешь, от какой причины Безудержно так, дико хохотала, Когда твои бессчетные морщины Отобразит бесстрастное зерцало. Еще ты вспомнишь о благих советах, Оставшись на бобах в преклонных летах.Генри Констебль (1562–1613)
Родился в Уорквикшире, в знатной дворянской семье. После окончания Кембриджского университета перешел в католичество и поселился в Париже. Там он прожил большую часть жизни, хотя временами и наезжал в Англию. В 1592 году на волне «сонетного бума» опубликовал цикл «Диана», который был два года спустя переиздан с добавлением стихов «других благородных и ученых лиц». Восемь сонетов из второго издания принадлежат Филипу Сидни; остальные, по-видимому, написал Констебль.
Не оставляй меня, душа родная
Не оставляй меня, душа родная, Не дай мне одиноко пробудиться На берегу безлюдном и, рыдая Об ускользнувшей тени, убедиться, Что это было только наважденье Из зыбкого сотканное тумана – Твой образ, и слова, и наслажденье. Забрызганный слезами океана, Я плачу, я кричу, реву от муки, Взываю к тучам, птицам, ветру, морю И, как безумный, воздеваю руки, Как нищий, клянчу, требую и спорю: О море, море! Где моя утеха? О горе, горе! – отвечает эхо.Джон Дэвис из Херфорда (1565?–1618)
Тезка и однофамилец сэр Джона Дэвиса. Плодовитый поэт, автор нескольких циклов сонетов, поэм и трактатов в стихах, а также сборника эпиграмм «Бич глупости» (1610), содержащем похвальные отзывы о поэтах-современниках: Шекспире, Донне, Джонсоне и других.
Весы
Тебя (жестокая!) сравню с Весами; Все, как назло, в тебе наоборот: Когда мне тяжко – ты под небесами, Когда легко – тебя тоска гнетет. Измученный, я изощряю мысли, Чтобы понять, о фея! сей каприз: Зачем взлетаешь ты на коромысле, Когда я скорбно опускаюсь вниз? Или таков исконный твой обычай, Что ты должна, возвысив, уронить И сделать Ада жадного добычей Тех, чью (как Парка) обрезаешь нить? О, если бы я взвесить мог заране В какую Чашу упаду терзаний!Притча об олене (судьба Уолтера Рэли)
В нью-йоркском музее Метрополитен, в его богатейших ренессансных залах, среди работ Рембрандта, Эль Греко, Кранаха и других знаменитых живописцев есть сравнительно скромное полотно английского художника Роберта Пика Старшего, изображающее Генри Фридерика, принца Уэльского, и сэра Джона Харрингтона на охоте, на фоне стоящего коня и поверженного оленя (1603). Не раз, гуляя по Метрополитену, останавливался я у этой картины. Парадный портрет мальчиков (одному девять, другому одиннадцать) исполнен мастерски. Только вот в подписи, сочиненной музейным искусствоведом, явная ошибка. Написано: сэр Харрингтон держит оленя за рога, а принц Генри вкладывает в ножны меч. Как бы не так – вкладывает! Он достает меч. На картине изображен апофеоз королевской охоты: принц отрубает голову убитому оленю. Оттого-то Харрингтон и держит оленя за рога: чтобы принцу было удобно рубить, а не потому, что ему захотелось за них подержаться. Охота при Елизавете и Якове была придворным ритуалом, регламентированным до малейшей детали: от момента, когда охотники находили экскременты оленя – и таковые на серебряном подносе, украшенном травой и листьями, подносили королю, чтобы он по их величине и форме (sic!) определил, матерый ли олень и достоин ли его монаршего внимания. И до последнего момента, когда король (или королева) подъезжал к поверженному оленю, спешивался и лично (это была его прерогатива) казнил его отсечением головы, пока слуга держал под уздцы королевского коня. Все это прекрасно изложено в стихах и в прозе у Джорджа Тербервиля в книге «Благородное искусство оленьей охоты» и столь же наглядно изображено на портрете Пика. Смысл картины в том, что Генри, вне зависимости от его юных лет, полноценный принц и наследник трона, готовый достойно справиться со своими мужскими и монаршими функциями истребления королевской дичи и королевских врагов.
Генри, принц Уэльский, и сэр Джон Харрингтон. Роберт Пик Старший, 1603 г.
* * *
Рубить или не рубить – вот в чем вопрос. В 1603-м году, когда Роберт Пик написал эту картину, скончалась королева Елизавета (и вместе с нею – блестящий Елизаветинский период в истории английской литературы). На трон взошел Яков I, шотландский племянник, новая метла, которая, как известно, чисто метет. Одним из первых, кого она замела, был сэр Уолтер Рэли, солдат, мореплаватель, философ, поэт и историк, в восьмидесятых годах – капитан дворцовой гвардии и фаворит королевы. У Рэли нашлось достаточно врагов, в том числе и в Тайном совете, чтобы бросить его в Тауэр, обвинить в государственной измене (а то в чем же) и приговорить к смерти. Под знаком этого приговора, не отмененного, но как бы отложенного на неопределенный срок, он и прожил в Тауэре более десяти лет. Взглянем снова на картину Роберта Пика. Олень – это Уолтер Роли, удерживаемый за рога Тайным советом во главе с его председателем Фрэнсисом Бэконом, принц с поднятым мечом – королевское «правосудие». Каждый день, просыпаясь, Рэли видел над собой обнаженное железо и гадал, будут сегодня рубить или пока вложат меч в ножны. Такая вот двусмысленная картинка.
Всякому посетителю Тауэра первым делом показывают башню Рэли справа от входа в крепость. Здесь он занимался, писал свою фундаментальную «Историю мира», преподавал принцу Генри науки. Да, да – именно этому мальчику с мечом, принцу Уэльскому. Государственному преступнику было доверено учить наследника трона – ситуация пикантная! – но, видимо, не так много было в Англии голов такого класса, как у Рэли. Более того, когда в 1612 году за принцессу Елизавету посватался какой-то не то испанский, не то итальянский принц, именно к Рэли обратился король за советом, выгоден ли Англии этот брак. И тюремный сиделец, десять лет, как говорится, света Божьего не видевший, сочинил для короля Якова целый трактат, в котором исчислял всех родовитых женихов в Европе и все родственные связи между царствующими домами, и после исчерпывающего геополитического анализа приходил к выводу, что брак с этим принцем невыгоден, а лучше всего было бы выдать девушку за немецкого князя Фридриха, пфальцграфа Палатинского. Самое смешное, что арестанта послушались: послали послов, сговорились и выдали принцессу за Фридриха! Свадьбу праздновали пышно, эпиталаму для новобрачных сочинял сам преподобный доктор Джон Донн, поэт и проповедник. Под шумок, видимо, отравили принца Генри – ну с чего бы восемнадцатилетний абсолютно здоровый парень вдруг умер на свадьбе собственной сестры? Вся английская история могла пойти по-другому, если бы умница Генри, ученик Уолтера Рэли, наследовал трон. (Так российская история могла бы пойти по-другому, если бы не убили царя – воспитанника поэта Жуковского.) Но Генри умер, и трон в конце концов занял слабовольный Карл, разваливший королевство и кончивший свои дни на эшафоте.
Принц Генри умер, и за жизнь Уолтера Рэли никто бы теперь не дал ломаного гроша. Он сделал последнее отчаянное усилие вырваться из смертельных пут: соблазнил-таки короля золотом Эльдорадо, добился экспедиции и отплыл в Гвиану добывать для короны сокровища. Но из этого предприятия ничего не вышло, и по возвращении в Англию в 1616 году Рэли отрубили голову: даже и судить не стали, а просто припомнили, что казни, к которой его когда-то приговорили, никто, собственно говоря, не отменял.
Сэр Уолтер Рэли. С картины неизвестного художника, 1602 г.
Итак, сабелька эта, что мы видим на картине, все-таки упала. Провисев, правда, тринадцать лет. И рикошетом зацепив еще одну – коронованную – главу.
Может быть, одной из причин, по которой Яков не взлюбил Рэли, было то, что король был шотландец, то есть заведомый враг лондонских беспутств и вольнодумства. Он явился в Лондон искоренить дух ереси и разврата. Скажем, Яков самолично написал (и издал) книгу против табакокурения, а Уолтер Роли не только был заядлый курильщик, но он, как говорят, и завел эту моду в Англии. Не он ли, кстати, написал и анонимные строфы с дерзко-ироническим названием:
О душеспасительной пользе табачного курения
Сия Индийская Трава Цвела, пока была жива; Вчера ты жил, а завтра сгнил: Кури табак и думай. Взирай на дым, идущий ввысь, И тщетности земной дивись; Мир с красотой – лишь дым пустой: Кури табак и думай. Когда же трубка изнутри Черна содеется, смотри: Так в душах всех копится грех. Кури табак и думай. Когда же злак сгорит дотла, Останется одна зола. Что наша плоть? Золы щепоть. Кури табак и думай.Поведение Рэли на эшафоте поразило своим мужеством даже видавших виды лондонцев. Он вел себя так, как будто это было уже сотое представление. Даже на дурацкое замечание палача, что его голова на плахе обращена «неправильно», Рэли хладнокровно ответил: «Голова – неважно; главное, чтобы душа была правильно обращена».
Из «Книги эмблем» Джорджа Уизера. 1635 г.
Сэр Уолтер Рэли (1554?–1618)
В похвалу «стального зерцала» Джорджа Гаскойна
Нет в мире соуса на всякий вкус, Что мудрым мед, то дураку – отрава; Испорченным желудкам (вот конфуз!) Не по нутру и добрая приправа. Что из того? На всех не угодишь, Дряной язык ничем не усладишь. Высокие умы всегда почтят Достойный труд достойными хвалами; Зато все благородное чернят Завистники с иссохшими мозгами. Попробуй над безумством века встань – Тотчас пожнешь и ненависть, и брань. Итак, хочу сужденье произнесть: Сие Зерцало нелицеприятно, В нем каждый зрит себя, каков он есть – Будь принц иль нищий, низкий или знатный. А что до слога – думаю, что он На сей стезе никем не превзойден.Благословен отрадный блеск Дианы
Благословен отрадный блеск Дианы, Благословенны в сумраке ночей Ее роса, кропящая поляны, Магическая власть ее лучей. Благословенны Нимфы тайных рощ И рыцари, что служат светлой Даме; Да не прейдет божественная мощь, Да вечно движет зыбкими морями! Она – владычица надзвездных сфер, Струящая на мир покой и млечность, Недостижимый чистоты пример; В ее изменчивости скрыта вечность. Она на колеснице горней мчит Над всем, что смертно, дряхло и устало – Сердец влюбленных непорочный щит, Небесной добродетели зерцало. В ней – свет и благо! А незрячий крот Пускай к Цирцее низменной идет.Природа, вымыв руки молоком…
Природа, вымыв руки молоком, Не стала их обсушивать, но сразу Смешала шелк и снег в блестящий ком, Чтоб вылепить Амуру по заказу Красавицу, какую только смел В мечтах своих вообразить пострел. Он попросил, чтобы ее глаза Всегда лучистый день в себе таили, Уста из меда сделать наказал, Плоть нежную – из пуха, роз и лилий; К сим прелестям вдобавок пожелав Лишь резвый ум и шаловливый нрав. И, план Амура в точности храня, Природа расстаралась – но, к несчастью, Вложила в грудь ей сердце из кремня; Так что Амур, воспламененный страстью К холодной красоте, не знал, как быть – Торжествовать ему или грустить. Но время, этот беспощадный Страж, Природе отвечает лязгом стали; Оно сметает Упований блажь И подтверждает правоту Печали. Тяжелый ржавый серп в его руках И шелк, и снег – все обращает в прах. Прекрасной плотью, этой пищей нег, Игривой, нежной и благоуханной, Оно питает Смерть из века в век – И не насытит прорвы окаянной. Да, Время ничего не пощадит – Ни, уст, ни глаз, ни персей, ни ланит. О, Время! Мы тебе сдаем в заклад Все, что для нас любезно и любимо, А получаем скорбь взамен отрад. Ты сводишь нас во прах неумолимо И там, во тьме, в обители червей Захлопываешь повесть наших дней.Сыну
Три вещи есть, что процветают врозь: Блаженно их житье и безмятежно, Пока им встретиться не довелось; Но как сойдутся – горе неизбежно. Та троица – ствол, стебель, сорванец, Стволы идут для виселиц дубовых, Из стеблей вьют веревочный конец Для сорванцов – таких, как ты, бедовых. Пока не пробил час – учти, мой друг, – Дуб зелен, злак цветет, драчун смеется; Но стоит им сойтись, доска качнется, Петля скользнет, и сорванцу каюк. Не попусти Господь такому сбыться, Чтоб в день их встречи нам не распроститься.Наказ душе
Душа, жилица тела, Ступай в недобрый час. Твой долг – исполнить смело Последний мой наказ. Иди – и докажи, Что мир погряз во лжи! Скажи, что блеск придворный – Гнилушки ореол, Что проповедь – притворна, Коль проповедник зол. И пусть вопят ханжи – Сорви личину лжи! Скажи, что триумфатор, В короне воссияв, Всего лишь узурпатор Чужих заслуг и слав. И пусть рычат ханжи – Сорви личину лжи! Скажи вельможам важным, Хозяевам страны, Что титлы их – продажны, Что козни их – гнусны. И пусть грозят ханжи – Сорви личину лжи! Скажи, что знанье – бремя, Что плоть есть токмо прах, Что мир – хаос, а время – Блуждание впотьмах. Земным – не дорожи, Сорви личину лжи! Скажи, что страсть порочна, Что обожанье – лесть, Что красота непрочна И ненадежна честь. Пустым – не дорожи, Сорви личину лжи! Скажи, что остроумье – Щекотка для глупцов, Что заумь и безумье Венчают мудрецов. Так прямо и скажи – Сорви личину лжи! Скажи, что все науки – Предрассуждений хлам, Что школы – храмы скуки, А кафедры – Бедлам. И пусть кричат ханжи – Сорви личину лжи! Скажи, что на Парнасе У всякого свой толк, Что много разногласий, А голос муз умолк. И пусть шумят ханжи – Сорви личину лжи! Скажи, что власть опасна И что судьба слепа, Что дружба – безучастна, Доверчивость глупа. Так прямо и скажи – Сорви личину лжи! Скажи, что суд как дышло И вертят им за мзду. Что совесть всюду вышла, Зато разврат в ходу. Пусть бесятся ханжи – Сорви личину лжи! Когда же всем по чину Воздашь перед толпой, Пускай кинжалом в спину Пырнет тебя любой. Но двум смертям не быть, И душу – не убить!Из поэмы «Океан к Цинтии»
К вам, погребенным радостям моим, Я обращаю этот жалкий ропот, Тоскою и раскаяньем казним, Погибельный в душе итожа опыт. Когда бы я не к мертвым говорил, Когда бы сам я, как жилец могилы, В бесчувствии холодном не застыл – Взывающий к теням призрак унылый, Я бы нашел достойнее слова, Я бы сумел скорбеть высоким слогом; Но ум опустошен, мечта мертва – И в гроб забита в рубище убогом… Там, где еще вчера поток бурлил Во всей своей мятежной, вешней силе, Осталась лишь трясина, вязкий ил: И я тону в болотном этом иле. У нивы сжатой колосков прошу – Я, не считавший встарь снопов тяжелых; В саду увядшем листья ворошу; Цветы ищу на зимних дюнах голых… О светоч мой, звезда минувших дней, Сокровище любви, престол желаний, Награда всех обид и всех скорбей, Бесценный адамант воспоминаний! Стон замирал при взоре этих глаз, В них растворялась горечь океана; Все искупал один счастливый час: Что Рок тому, кому Любовь – охрана? Она светла – и с нею ночь светла, Мрачна – и мрачно дневное светило; Она одна давала и брала, Она одна язвила и целила. Я знать не знал, что делать мне с собой, Как лучше угодить моей богине: Идти в атаку иль трубить отбой, У ног томиться или на чужбине, Неведомые земли открывать, Скитаться ради славы или злата… Но память разворачивала вспять – Грозней, чем буря, – паруса фрегата. Я все бросал, дела, друзей, врагов, Надежды, миражи обогащенья, Чтоб, воротясь на этот властный зов, Терпеть печали и влачить презренье. Согретый льдом, морозом распален, Я жизнь искал в безжизненной стихии: Вот так телок, от матки отлучен, Все теребит ее сосцы сухие… Двенадцать лет я расточал свой пыл, Двенадцать лучших юных лет промчалось. Не возвратить того, что я сгубил: Все минуло, одна печаль осталась… Довольно же униженных похвал, Пиши о том, к чему злосчастье нудит, О том, что разум твой забыть желал, Но сердце никогда не позабудет. Не вспоминай, какой была она, Но опиши, какой теперь предстала: Изменчива любовь и неверна, Развязка в ней не повторит начала. Как тот поток, что на своем пути Задержан чьей-то властною рукою, Стремится прочь преграду отмести, Бурлит, кипит стесненною волною И вдруг находит выход – и в него Врывается, неудержим, как время, Крушащее надежды, – таково Любови женской тягостное бремя, Которого не удержать в руках; Таков конец столь долгих вожделений: Все, что ты создал в каторжных трудах, Становится добычею мгновений. Все, что купил ценою стольких мук, Что некогда возвел с таким размахом, Заколебалось, вырвалось из рук, Обрушилось и обратилось прахом!.. Стенания бессильны пред Судьбой; Не сыщешь солнца ночью в тучах черных. Там, впереди, где в скалы бьет прибой, Где кедры встали на вершинах горных, Не различить желанных маяков, Лишь буйство волн и тьма до горизонта; Лампада Геро скрылась с берегов Враждебного Леандру Геллеспонта. Ты видишь – больше уповать нельзя, Отчаянье тебя толкает в спину. Расслабь же руки и закрой глаза – Глаза, что увлекли тебя в пучину. Твой путеводный свет давно погас, Любви ушедшей жалобы невнятны; Так встреть же смело свой последний час, Ты выбрал путь – и поздно на попятный!.. Пастух усердный, распусти овец: Теперь пастись на воле суждено им, Пощипывая клевер и чабрец; А ты устал, ты награжден покоем. Овчарня сердца сломана стоит, Лишь ветер одичало свищет в уши; Изорван плащ надежды и разбит Символ терпенья – посох твой пастуший. Твоя свирель, что изливала страсть, Былой любви забава дорогая, Готова в прах, ненужная, упасть; Кого ей утешать, хвалы слагая? Пора, пора мне к дому повернуть, Мгла смертная на всем, доступном взору; Как тяжело дается этот путь, Как будто камень вкатываю в гору. Бреду вперед, а сам Назад гляжу И вижу там, куда мне нет возврату, Мою единственную госпожу, Мою любовь и боль, мою утрату. Что ж, каждый дал и каждый взял свое, Наш спор пускай теперь Господь рассудит. А мне воспоминание ее Последним утешением да будет. Проходит все, чем дышит человек, И лишь одна моя печаль – навек.Уолтер Рэли в темнице
Был молодым я тоже, Помню, как пол стыдливый Чуял и сквозь одежу: Это – бычок бодливый. С бешеным кто поспорит? Знали задиры: если Сунешься, враз пропорет – И на рожон не лезли. Марсу – везде дорога, Но и досель тоскую О галеоне, рогом Рвущем плеву морскую. В волнах шатался Жребий, Скорым грозя возмездьем, Мачта бодала в небе Девственные созвездья. Время мой шип сточило, Крысы мой хлеб изгрызли, Но с неуемной силой В голову лезут мысли. В ярости пыхну трубкой И за перо хватаюсь: Этой тростинкой хрупкой С вечностью я бодаюсь.Королева Елизавета I (1533–1603)
Занятия науками и языками было отдушиной для принцессы, объявленной незаконнорожденной своим отцом Генрихом VIII, в годы опал и подозрений. Так она приобрела знание основательное латыни, греческого, французского, итальянского, испанского, немецкого и фламандского языков. Взойдя на трон в возрасте двадцати пяти лет, поддерживала и поощряла стихотворство как часть рыцарского вежества. Воспета многочисленными придворными поэтами как Диана, Венера, Астрея, Королева фей и так далее. Сохранились поэтические переводы, сделанные королевой, а также несколько стихотворений. Одно из них «Мой милый мопс, что приуныл, чудак» обращено, по всей вероятности, к ее фавориту Уолтеру Рэли.
Елизавета I. Камея. Англия, XVI в.
Мой глупый мопс, что приуныл, чудак?
Мой глупый мопс, что приуныл, чудак? – Не хмурься, Уолт, и не пугайся так. Превратно то, что ждет нас впереди; Но от моей души беды не жди. Судьба слепа, твердят наперебой, Так подчинюсь ли ведьме я слепой? Ах, нет, мой мопсик, ей меня не взять, Будь зрячих глаз у ней не два, а пять. Фортуна может одолеть порой Царя, – пред ней склонится и герой. Но никогда она не победит Простую верность, что на страже бдит. О, нет! Я выбрала тебя сама, Взаймы у ней не попросив ума. А если и сержусь порой шутя, Не бойся и не куксись как дитя. Для радостей убит, для горя жив, – Очнись, бедняга, к жизни поспешив! Забудь обиды, не грусти, не трусь – И твердо знай, что я не изменюсь.Мария Стюарт, королева Шотландии (1542–1587)
Королева Шотландии с шестидневного возраста (когда умер ее отец Иаков V), но француженка по матери, Мария Стюарт воспитывалась при французском дворе. Выйдя замуж за принца, она через год сделалась французской королевой. Но Франциск II скоропостижно скончался, и Мария в 18 лет осталась вдовой. Вернувшись в Шотландию, она вышла замуж за графа Дарнли, который был вскоре убит, причем подозрение пало на близких королеве людей. Шотландские бароны взбунтовались, и Марии пришлось бежать в Англию, где из почетного гостя она со временем сделалась пленницей Елизаветы, опасавшейся своей двоюродной сестры как претендентки на английский трон. Мария безуспешно пыталась вырваться на свободу и в конце концов была казнена. Ее стихи написаны, в основном, на французском (ее первый язык), но также на шотландском, английском и даже на итальянском языках.
Мария Стюарт, королева Шотландии. С портрета Франсуа Клуэ, ок. 1559 г.
Сонет
Que suis-je hélas? Et de quoi sert ma vie? Кто я такая и зачем страдаю? Зачем, как призрак, на пороге жду – Вздыхаю и томлюсь, как тень в аду, И не живу, а вживе умираю? О недруги мои, я не питаю Пустых надежд – умерьте же вражду; Свою печаль, болезни и нужду Почти безропотно я принимаю. А вы, друзья моих последних лет, Явившие так много мне участья, Молитесь ныне – коль надежды нет, – Чтоб кончились скорей мои несчастья: Чтоб, этой жизни обрывая нить, Могла я вечной радости вкусить.Чидик Тичборн (1558?–1586)
Происходил из семьи рьяных католиков. Оказался втянутым в т. н. «заговор Бабингтона» – провокацию, задуманную и мастерски проведенную шефом тайной полиции Елизаветы Фрэнсисом Уолсингамом для получения решающих улик против Марии Стюарт. Семнадцать человек, надеявшихся освободить Марию из плена, были приговорены к повешенью и четвертованию. Стихотворение «Моя весна – зима моих забот», как полагают, было написано Тичборном в ночь накануне казни.
Моя весна – зима моих забот Написано в Тауэре перед казнью
Моя весна – зима моих забот; Хмельная чаша – кубок ядовитый; Мой урожай – крапива и осот; Мои надежды – бот, волной разбитый. Сколь горек мне доставшийся удел: Вот – жизнь моя, и вот – ее предел. Мой плод упал, хоть ветка зелена; Рассказ окончен, хоть и нет начала; Нить срезана, хотя не спрядена; Я видел мир, но сам был виден мало. Сколь быстро день без солнца пролетел: Вот – жизнь моя, и вот – ее предел. Я и не знал, что смерть в себе носил, Что под моей стопой – моя гробница; Я изнемог, хоть полон юных сил; Я умираю, не успев родиться. О, мой Господь! Ты этого хотел? – Вот – жизнь моя, и вот – ее предел.Часть II Уильям Шекспир
Охота на охотника «Венера и Адонис» – первенец Шекспира
1. ПОЭМА И МИФ
Впервые опубликованная в 1593 году, поэма Шекспира «Венера и Адонис» сразу полюбилась читателям – образованной публике елизаветинской эпохи. В течение следующих пятидесяти лет (до начала английской буржуазной революции) книга переиздавалась, по крайней мере, шестнадцать раз, из них девять – при жизни автора; но от всех этих изданий сохранилось лишь несколько экземпляров: по словам биографа, книгу буквально «зачитали»[20]. Литературная репутация Шекспира в первое его лондонское десятилетие в значительной степени основывалась на этой поэме. Хотя, вообще-то говоря, нельзя слишком доверять вкусам современников – «Тит Андроник» в те времена собирал больше зрителей, чем «Ромео и Джульетта», – но здесь особый случай. «Венера и Адонис» – действительно замечательное, хотя и раннее, достижение Шекспира; несмотря на свою компактность, поэма предлагает читателю целый пир из нескольких поэтических блюд. Это, во-первых, сцена соблазнения Адониса, чрезвычайно динамичная и забавная. Во-вторых, спор о любви – красноречивая словесная дуэль Венеры и Адониса. В-третьих, яркие зарисовки природы и животных (например жеребца, зайца, улитки). В-четвертых, жуткое и жалостное описание смерти Адониса и его оплакивания.
Уильям Шекспир. Неизвестный художник («Чандосский портрет»). Начало XVII в.
Если вспомнить слова Полония, рекомендовавшего Гамлету заезжую театральную труппу как «лучших актеров в мире – все равно для пьес комедийных, трагических, исторических или пасторальных, а также трагикомических, историко-пасторальных, пасторально-комических, трагикомически-историко-пасторальных и так далее», то «Венеру и Адониса» можно смело определить как трагикомически-пасторальную поэму. Она начинается с любви и кончается смертью. В ней развернута целая гамма чувств – от смешного до печального; в итоге все струны читательской души задеты, все эмоции возбуждены – и, наконец, разрешены в финальном катарсисе. Главная изюминка поэмы, конечно, сцена соблазнения Адониса Венерой. Она основана сразу на нескольких пародоксах, или вывернутых ситуациях.
Прежде всего, перевернуты привычные роли полов. Мотив женской доминации в любви встречается сравнительно редко в античной мифологии. Мы привыкли к любовным эскападам Зевса и других олимпийцев, к бесчисленным историям о похищениях и соблазнениях дев и жен – темам, несомненно, отражающим патриархальное устройство древнегреческого общества. Мотив соблазнения мужчины женщиной старше. Мы встречаем его, например, в аккадском эпосе о Гильгамеше (начало II тыс. до н. э.), в эпизоде о диком охотнике Энкиду и блуднице. Отметим, что блудница, обучившая Энкиду любви, дала ему также хлеб и вино, которых он прежде никогда не пробовал. Сексуальная инициация связывается таким образом с укрощением, цивилизацией дикого героя, охотника и воина. Миф, по-видимому, отражает переход ранних кочевых, охотничьих племен к оседлой жизни и земледелию, причем главная роль в этом переходе принадлежала женщине, ставшей на этом этапе основным проводником культуры и цивилизации. Позднее, с развитием патриархальных тенденций, этот миф (с перестановкой акцентов) перейдет в анекдот и сказку (жена Понтифара, Федра и т. п.).
Корни мифа, вероятно, уходят еще глубже. По мнению А. А. Годи, «миф об Адонисе отражает древние матриархальные и хтонические обряды поклонения женской богине плодородия и ее зависимому мужскому корреляту, сравнительно слабому и даже смертному, подверженному лишь временному воскрешению»[21].
2. ГЕРОИНЯ
Указанная мифологическая парадигма, сколь она не важна сама по себе, лишь необходимый балласт поэмы, сообщающий ей вес и устойчивость, в то время как своей элегантностью и маневренностью поэма обязана искусству рассказчика и убедительности характеров. В центре поэмы – влюбленная Венера, яркий женский образ, достойный встать в один ряд с Катериной, Клеопатрой и другими замечательными героинями шекспировских пьес. Кольридж ошибся, интерпретируя страсть Венеры как грубую похоть:
Шекспир изобразил нам животную страсть в чистом виде и, заведомо исключая всякое сочувствие к ней, растворяет читательское внимание в тысячах внешних деталей, прекрасных и причудливых, составляющих одеяние и фон поэмы, или же то и дело отвлекает наш взгляд от главного сюжета остроумными и глубокими рассуждениями, которые его поэтический ум выводит из рисуемых образов или ассоциирует с ними[22].
По-видимому, Кольридж принял за чистую монету слова Адониса, что Венера якобы «открывает объятья любому встречному» («lends her embracements unto every stranger.») Никаких доказательств этого в поэме нет. Венера у Шекспира не похотлива, а только простодушна. Она и впрямь влюблена. Но бедняжка не знает, как завоевать любовь своего избранника, и вместо искусной осады идет на штурм. Богиня Любви в некотором смысле неопытна: она никогда не встречалась с отказом. Она предлагает себя Адонису в дар просто, как дикарь предложил бы картофелину или початок маиса; если она и чересчур настойчива, то это для его же пользы: так котенка тычут в блюдечко с молоком.
У. Шекспир. Венера и Адонис. Титульный лист. 1593 г.
Венера физически мощнее Адониса, – это естественно, если она богиня; но в том-то и штука, что она рисуется просто женщиной, чья неожиданная сила – лишь концентрированное выражение ее любовной страсти:
И вот – желанье ей придало силы – Рыком с коня предмет свергает милый! (29–30)Венера может положить Адониса на лопатки, но увы! она не знает, как заставить его любить, и в этом она подобна простой смертной: Венера-богиня уж нашла бы выход (скажем, велела бы Купидону пустить стрелу в непокорного). Но Венера или вообще не богиня, или богиня, забывшая свою божественную силу. Она потеряла голову от любви – и потеряла власть над смертными. В этом главный парадокс шекспировской героини. Как девочка с непослушной куклой, она мучается с Адонисом, вздыхает и льет слезы, но не знает, чем помочь этому горю. В своем отчаянье она напоминает Елену из «Сна в летнюю ночь», навязывающую себя Деметрию.
А я зато люблю тебя все больше. Ведь я твоя собачка; бей сильнее – Я буду лишь в ответ вилять хвостом. Ну, поступай со мной, как с собачонкой: Пинай ногою, бей, гони меня; Позволь одно мне только, недостойной – Бежать вслед за тобою…[23]Правда, в другие моменты эта послушная собачка может превратиться в яростного хищника:
Как алчущий орел, крылом тряся И вздрагивая зобом плотоядно, Пока добыча не исчезнет вся, Ее с костями пожирает жадно, Так юношу прекрасного взахлеб Она лобзала – в шею, в щеки, в лоб. (55–60)Но не стоит особенно пугаться – это только эффектная метафора; так в эпиталаме Донна, написанной в те же годы, новобрачный, приближающийся в спальне к своей невинной супруге, уподоблен жрецу, собирающемуся потрошить жертвенную овечку:
Явленья ожидая жениха, Она лежит, покорна и тиха, Не в силах даже вымолвить словечка, Пока он не склонится наконец Над нею – словно жрец, Готовый потрошить свою овечку…[24]Впрочем, читатель не волнуется: он знает, что и овечка Донна не слишком пострадает, и Венера не съест своего Адониса.
Возвращаясь к реверсированности ролей, заметим, что многие героини Шекспира обладают сильным, предприимчивым характером. Стивен Дедалус был уверен, что у них был один главный прототип: Анна Шекспир, урожденная Хаттауэй, которой «достались его первые объятия»; та, что «на смертном одре положила медяки ему на глаза». Будучи восемью лет старше Уильяма, она, возможно, и сыграла роль его Венеры; только ей удалось преуспеть больше – судя по тому, что первый ребенок у Шекспиров родился месяцев через шесть после венчания. Стивен Дедалус считал ее архитипом всех шекспировских женщин.
Он уносил воспоминания в котомке, когда поспешал в град столичный, насвистывая: «Оставил я свою подружку». ‹…› Эти воспоминания, «Венера и Адонис», лежали в будуаре у каждой лондонской прелестницы. ‹…› Признаем: он оставил ее, чтобы покорить мир мужчин. Но его героини, которых играли юноши, это героини юношей. Их жизнь, их мысли, их речи – плоды мужского воображения. Он неудачно выбрал? Мне кажется, это его выбрали. Бывал ваш Вилл и с другими мил, но только Энн взяла его в плен. Божусь, вина на ней. Она опутала его на славу, эта резвушка двадцати шести лет. Сероглазая богиня, склоняющаяся над юношей Адонисом, нисходит, чтобы покорить, словно пролог счастливый к возвышенью, это и есть бесстыжая бабенка из Стратфорда, что валит в пшеницу своего любовника, который моложе ее[25].
Как показали исследователи Джойса, идеи Стивена основаны на целом ряде шекспироведческих работ девятнадцатого века, в особенности, на книгах Георга Брандеса. Биографический подход в данном случае уязвим ввиду скупости имеющихся материалов.
С другой стороны, он может быть сочтен и «неделикатным», то есть в каком-то смысле задевающим честь женщины. И все же стоит прислушаться к интуиции Стивена Дедалуса (и его автора). Разумеется, шекспировская Венера украшена всеми цветами мифологии и поэтической риторики, но вполне возможно, что в основе лежал личный опыт – яркое впечатление юности, отпечатавшееся в памяти автора как архетип любви и архетип женщины.
3. ГЕРОЙ
Энергия и напор Венеры удивительны, но не менее достойна удивления и стойкость Адониса. Чего она только не делает: и ласкает его, и вздыхает, и переплетает пальцы, и обнимает, и валит на землю, впиваясь губами в губы. Бесполезно. Адонис претерпевает все. Несмотря на все усилия обольстительницы, ничто в нем даже не шевельнулось.
Хотя в один момент может показаться, что Венера все-таки одержит победу. Это когда он, «словно пташка у ловца в горсти», «покоряется напору» (от строки 535 и дальше). Но не тут-то было. «Не тискай, ты меня всего измяла!» – восклицает юноша. Вот и все, чего добилась Венера. Да еще, когда она лежала в притворном обмороке, Адонис потрепал ее по щекам и подергал за нос. Немного!
Воистину перед нами сказочный силач, Геркулес целомудрия. Его пассивная доблесть – оборотная сторона сексуальной мощи эпических героев. Тут уместны и библейско-христианские ассоциации: Иосиф Прекрасный, борьба отшельников с бесами, искушение св. Антония и т. д.
Венера и Адонис. Джорджо Гизи, XVI в.
Интересно отметить, что в схватке Адониса и Венеры Земля играет ту же роль, что в борьбе Геркулеса с Атласом. Чтобы выиграть, Венера стремится повалить Адониса на землю, а он, наоборот, старается перенести действие в воздух (сесть на лошадь). Тут видна связь Адониса с верхним миром, с солнцем (лошадь – солярное животное). Сравни с солнечной метафорой в начале:
В тот час, когда в последний раз прощался Рассвет румяный с плачущей землей…Эта картина, традиционно связывающая мужское начало с верхом, а женское с низом, одновременно утверждается и опровергается в «Венере и Адонисе». Здесь, несомненно, сыграла свою роль неоплатоническая концепция любви, в которой роли полов взаимообратимы, даже относительны, как в более поздней (1613 года) эпиталаме Донна:
Как солнце, милостью дарит она, А он сияет, как луна, Иль он дарит, она сияет – В долгу никто остаться не желает…4. ВЕПРЬ
Поразительный пример обратимости роли полов дан в последней части поэмы, где мужское тело становится объектов почти сексульного проникновения:
Да, так и есть! – догадка мне не лжет: Охотником прекрасным атакуем, Зверь восхищенный кинулся вперед Смирить его суровость поцелуем, В колени тычась, ласки он просил – И ненароком клык в него вонзил. (1117–22)Ситуация подчеркивается пылким восклицанием Венеры:
Будь я клыкаста, словно боров дикий, Я бы сама убить его могла Лобзаньем страстным… (1123–5)Это лишь вычурная метафора («кончетти»), но она бросает зловещий отблеск на весь сюжет. Дикий кабан – «влюбленная свинья», как автор называет его в этой строфе (свиньи вообще могу символизировать похоть, как в эпизоде волшебницы Цирцеи у Гомера) – мстит отвергающему любовь юноше. Мстит кабан, а не Венера: мы не можем их отождествить, несмотря на ее «кровожадное» восклицание (см. выше); и все-таки этот кабан – дикая и зверская сторона той же самой природной стихии, чьим прекрасным и обольстительным проявлением является Венера.
Кабан может еще быть эсхатологическим образом, символизируя Рок, – как в стихотворении Йейтса, основанном на кельтском фольклоре:
Пускай Кабан без щетины прийдет скорей И выкорчует Солнце, Луну и звезды с небес, И уляжется спать, ворча, во мгле без теней[26].5. ЗОЛОТОЕ И КРАСНОЕ
Поэма Шекспира движется от любви к смерти с неотвратимой логикой испанского романса или шотландской баллады. Можем ли мы поверить, что Адонису сойдет с рук оскорбление Богини Любви? Едва ли. Калорит поэмы делается постепенно все темнее и мрачнее. Один мой друг-художник сказал, что если бы он взялся иллюстрировать поэму, он бы выполнил рисунки в двух цветах: золотом и красном, начиная с золотого цвета первых страниц и добавляя постепенно кровавых бликов – так, чтобы окончить в чисто красном калорите.
Может быть, самое замечательное в искусстве молодого Шекспира – чувство гармонии, распределение темных и светлых пятен. Сюжет развертывается не по прямой, а плавными и сильными извивами, как река, текущая среди холмов. Искусство драматического развития, техника замедления и оттяжки в любовной дуэли Венеры и Адониса (первые две трети поэмы) заслуживают восхищения. Не менее впечатляют они и во второй части, расказывающей, как Венера, оставленная Адонисом, предается скорби и поет заунывно-длинную песню; затем, при первом свете зари, слышит охотничий рог и лай гончих псов, бежит в их сторону, по доносящимся звукам «прочитывая» ход охоты; догадывается, что собаки загнали какого-то опасного зверя; видит в чаще бегущего вепря с окровавленными клыками, а дальше собак – напуганных, зализывающих раны; в отчаянье бранит и проклинает Смерть, проливая струи слез, – но в это время снова слышит вдалеке охотничий клич; воспрянув духом, суеверно спешит взять назад свои обвинения Смерти, мчится вперед, как сокол на добычу… и вдруг видит распростертого на траве убитого Адониса.
Автор не только искусно дозирует и отмеряет повествование, но и рассчетливо «выравнивает тональности», в первой части разбавляя комический эротизм венериных атак всевозможными поэтическими отступлениями, речами и картинами, а во второй смягчая скорбь развязки любопытными и причудливыми образами, вроде знаменитого сравнения глаз Венеры, пораженных ужасом при виде тела Адониса, с улиткой:
Как робкая пугается улитка, Едва ее случайно кто толкнет, И рожки в норку втягивает прытко, И глубже прячется в свой круглый грот; Сему подобно взор ее затмился И вглубь орбит в испуге обратился. (1059–44)Нужна была особая поэтическая интуиция, чтобы употребить такой неожиданный, «легковесный» образ в самом трагическом месте поэмы. Но с другой стороны, некоторая отстраненность, «отчуждение авторских чувств от тех, чьим живописцем и одновременно исследователем он является» (Кольридж), – являлось, по-видимому, необходимым требованием выбранного Шекспиром жанра.
6. ГРАФ САУТГЕМПТОН И ДРУГИЕ
Шекспиру было двадцать восемь лет, когда он написал «Венеру и Адониса»; в посвящении графу Саутгемптону он называет поэму «первенцем моей фантазии», хотя к тому времени он уже был автором нескольких успешных пьес (а также трех детей, оставленных с Анной в Стратфорде). Но серьезных оснований относить эту поэму к более ранним годам нет: Шекспир, по всей вероятности, имел в виду свой дебют как автора книги, не беря в расчет эфемерных театральных зрелищ. Женатый человек не назовет бастарда наследником; сходным образом писатель не назовет так произведение, которое не обеспечивает ему памяти в потомстве. Во времена Шекспира пьеса была бабочкой-однодневкой (порой она и жила лишь один день, одно представление); менее десяти процентов елизаветинских пьес сохранилось.
Генри Ризли, граф Саутгемптон. С картины Дэниэла Митенса, ок. 1618 г.
Но кто такой – этот «достопочтенный Генри Райзли, граф Сатгемптон», которому Шекспир посвятил «Венеру и Адониса»? Это был юный аристократ, не достигший еще тогда двадцати лет, весьма привлекательный, умный и честолюбивый. Оставшись сиротой после ранней смерти отца, он получил хорошее образование заботами своего опекуна, первого министра королевы лорда Берли, и был благосклонно принят при дворе. Его дружба с графом Эссексом, фаворитом Елизаветы, его красота, восхищавшая и женщин, и мужчин, и его роль покровителя поэтов сделали юного графа одним из самых блестящих вельмож своего времени. юноша был с характером: когда в 1590-м году лорд Берли задумал женить его на своей внучке – почетный и выгодный союз, – он уклонился от этой чести, вопреки настойчивым уговорам матери и родных (история тянулась до 1594-го года). Вместо того, в 1598-м году он тайно женился на одной из фрейлин королевы, Елизавете Вернон, не имевшей вообще никакого приданого, и угодил за это в Тауэр – как ранее Уолтер Рэли за такое же «преступление». Позднее он присоединился к злополучному мятежу Эссекса – старой дружбы ради – и лишь чудом избежал эшафота.
Но это случилось позже. В то время, о котором мы ведем рассказ, Саутгемптон находился под сильным давлением лорда Берли и своей собственной матери, уговаривающих его жениться. В 1591-м году секретарь лорда Берли Джон Клапем написал латинскую поэму «Нарцисс», укорявшую Саутгемптона в недостатке мужественности. Кажется правдоподобным, что кто-то из окружения графа (возможно, его мать) поручил Шекспиру написать несколько сонетов, чтобы склонить юного лорда к женитьбе да заодно дезавуировать вредное впечатление от поэмы Клапема. Так возник знаменитый «пропагационный цикл» (первые шестнадцать номеров) шекспировских сонетов.
Поэма «Венера и Адонис», как можно предположить, была собственной инициативой Шекспира: он решился развить ту же тему в нейтральной форме мифологической поэмы, чтобы публично соединить своей имя с Саутгемптоном и, в случае успеха, упрочить свою репутацию как в литературных кругах, так и в глазах своего покровителя. Замысел этот увенчался полным успехом.
Были и другие литераторы помимо Шекспира, искавшие благосклонности молодого графа. Мы знаем (из тех же самых «Сонетов») о некоем поэте-сопернике. В поисках реального прототипа стоит вчитаться в строки 86 сонета:
Was it his spirit, by spirit taught to write, Above a mortal pitch, that struck me dead? ………………. He nor that affable familiar ghost Which nightly gulls him with intelligence…[Его ли дух, наученный неким духом писать, как не дано смертным, так смертельно меня поразил?..
Нет, не он сам и не его любезный знакомец – призрак, дурачащий его по ночам своими умствованиями…]
Портрет «знакомца-призрака», духа, научившего своего протеже тому, что не дано смертным, приводит на ум историю Мефистофеля и Фауста. Если так, то «поэтом-соперником» мог быть Кристофер Марло, автор трагедии «Доктор Фаустус» и единственный подлинный соперник Шекспира в драме в начале 1590-х годов. Его поэма «Геро и Леандр» изображала красоту своего героя в тех же красках, как Шекспир изображал Адониса или юного красавца своих «Сонетов»:
Казался девой он мужам иным: В нем было все, что страсть внушает им, – Ланит румянец, красноречье взгляда, Густых бровей победная аркада. И тот, кто знал, что был мужчиной он, Твердил: «Леандр, ты для любви рожден. что ж не полюбишь ты, любимый всеми? Нельзя же лишь себе служить все время»[27].Сравните это описание Леандра, например, с шекспировским двадцатым сонетом: «Женственное лицо, нарисованное рукой самой Природы…» Марло был также заинтересован в покровительстве Саутгемптона, и кто знает – если бы у него была возможность завершить «Геро и Леандра», возможно, он бы тоже посвятил ее юному графу. Но Марло был убит в 1593-м году, и поэму закончил за него Джордж Чапмен. «Геро и Леандра» часто сравнивают с «Венерой и Адонисом», подчеркивая, что эти две поэмы по своим поэтическим достоинствам на целую голову выше всех прочих, писавшихся в то же время. Заметим, что шекспировская работа была завершена и напечатана ранее, чем Марло дошел до середины своей поэмы. Можно даже предположить своего рода творческое соревнование двух поэтов. Обе поэмы начинаются с отсылки к поэту-сопернику: рукава Геро вышиты рисунком, изображающим Венеру и Адониса в роще:
А вышивка зеленых рукавов Глазам являла лес, где меж дубов Прельстить Венера силится напрасно Адониса, уснувшего бесстрастно[28].Более того, самый день, когда Леандр влюбился в Геро, являлся годовщиной любви Венеры к Адонису:
Весною у сестийцев праздник был В честь дня, когда в Венере страстный пыл Адонис пробудил розовощекий[29].С другой стороны, эпиграф «Венеры и Адониса»: «Низким пусть восхищается чернь: мне же славный Аполлон /Чашу чистой влаги кастальской подносит» –
Vilia miretur vulgus: mihi flavus Apollo Pocula Castalia plena ministret aqua –может быть поэтическим «салютом» Кристоферу Марло, который недавно перевел «Amores» Овидия, включая вышеприведенные строки[30]. Одновременно это может быть выпадом против других соперников вроде Томаса Нэша, посвятившего Саутгемптону свою плутовскую повесть «Злополучный путешественник» (1594) и непристойную поэму «Выбор ухажера» (1595). В таком случае, эпиграф звучал несколько двусмысленно: ведь, с точки зрения строгой морали, «Венеру и Адониса» тоже нельзя назвать вполне целомудренным произведением.
И все же в ней есть какое-то обаяние цельности и душевной простоты. По сравнению с ней, «Осквернение Лукреции» кажется грубей, «заземленней», и не потому, что плотское соединение, к которому безуспешно стремилась Венера, здесь успешно (но не для Лукреции) совершается, а потому, что происходит смесь любви и политики. Читатель остается в недоумении: не задумал ли Тарквиний, как камикадзе, свой план нарочно для того, чтобы уничтожить тиранию в Риме, или Лукреция поддалась ему с целью дискредитировать деспотический метод правления и тем самым способствовать победе республиканцев?
Пушкин в своей заметке о «Графе Нулине» (своего роде автокомментарии к поэме) пишет:
В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить, Лукреция не зарезалась бы, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история были бы не те.
Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде.
Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог противиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть[31].
Поругание Лукреции. Гравюра Г. Корта с картины Тициана, 1571
«Граф Нулин» переносит сюжет Лукреции в дом русского помещика. Замечание Пушкина о «довольно слабой поэме» можно было бы отнести к тому, что Пушкин читал ее во французском прозаическом переводе; но ведь то же самое верно в отношении других произведений Шекспира, которого он обожал и звал «отцом» («отец наш Шекспир»!). Очевидно, Пушкин чувствовал «что-то не то» даже сквозь призму перевода. У поэтов есть интуиция. Питер Леви (в своей отличной книге о Шеспире) после многих попыток похвалить «Лукрецию» и после утверждения, что «по элегантности фразировки она превосходит даже “Венеру и Адониса”», не может удержаться от заключительного приговора: «поэма пахнет потом» («the poem smells of the lamp»).
Примечательно, что пушкинская «Лукреция» (Наталья Павловна), дающая пощечину «Тарквинию» (графу Нулину), становится ближе к таким истинно шекспировским женщинам, как строптивая Катерина, гордая Клеопатра – и влюбленная Венера. Кстати, именно пощечиной старается Адонис привести в чувство упавшую в притворный обморок богиню.
7. «ВЕНЕРА КРАСОТОЙ, ДЕЯНЬЯМИ ДИАНА»
И все же совсем избежать политических тем, говоря о «Венере и Адонисе», мы не можем. Любая поэма о любви, протагонистом которой была богиня или принцесса, неизбежно приобретала политический аспект в елизаветинскую эпоху. Куртуазная и придворная поэзия (poetry of courting и court poetry) были в те времена неразличимы. Не только в Англии, но и везде в Европе один и тот же глагол означал «жить при дворе» и «ухаживать». Тем более, при дворе английской королевы Елизаветы. «Речи и предложения, адресованные королеве, должны были быть сформулированы на языке галантной любви; политика осуществлялась в форме ритуальных актов соблазнения», – пишет современный ученый[32].
Не только политика была эротизирована, но и любовная поэзия была в значительной степени политизирована: тревоги и печали любви часто выражались в терминах придворной службы. Идеализированная королева была центром этой поэтической вселенной. Ее чистота (т. е. незамужнее положение) и власть давали основание для ее отождествления с Дианой или Цинтией. Воображение поэтов вращалось вокруг этой идеи. Эдмунд Спенсер в своей огромной аллегорической поэме «Королева Фей» восхвалял королеву сразу под тремя именами: Глорианы, королевы фей, охотницы Бельфебы и воительницы Бритомарт.
У Спенсера мы находим важные параллели к «Венере и Адонису». Бритомарт в третьей книге поэмы встречается с самовлюбленным рыцарем Миринелем, которому было предсказано, что его погубит «неведомая и могучая Дева». Чтобы избежать опасности, он старается вообще сторониться женщин. Но предсказание, конечно, все равно сбывается. Бритомарт вызывает его на бой и сражает. Так горделивое целомудрие мужчины приводит к его гибели, а мстительная жертвенность торжествует.
История Тимиаса и Бельфебы в той же третьей книге «Королевы фей» предлагает еще один вариант мифа об Адонисе. Тимиас преследует похотливого лесника, охотника на вепрей, посягавшего на честь леди Флоримель. Лесник с двумя своими братьями подстерегают Тимиаса у брода и ранят его в бедро. Бельфеба находит Тимиаса и пытается врачевать его своими целебными снадобьями. Следует трагикомическая сцена, основанная на буквальном и метафорическом смысле ран Тимиаса. Врачуя его, Бельфеба «исцеляет одни раны, а другие открывает». Страдания Тимиаса не уменьшаются. Он упрекает сам себя за свое любовное влечение к Бельфебе в пространном и жалостном монологе:
Так вот какою платишь ты ценой За милости, злодей неблагодарный? Она тебя спасла своей рукой, А ты замыслил, негодяй коварный, На светоч покуситься лучезарный И честь ее бесчестно запятнать? Умри, умри, злодей неблагодарный, Но не посмей, как вероломный тать, Унизить красоту и чистоту предать![33]Вновь следует неоплатоническое соперничество в целомудрии, и вновь (как в «Венере и Адонисе») победителем выходит мужчина, хотя борется он не с женщиной, а со своей собственной страстью. И все погружено в атмосферу охоты, которая является здесь символом любви. В любой момент преследующий (охотник) может обернуться преследуемым, т. е. дичью.
В поэме Томаса Лоджа «Метаморфозы Сциллы» (1589) переворачивание любовных ролей исследовано на основе еще одного сюжета из Овидия. Морская нимфа Сцилла отвергает любовь морского же божества Главка. Но Купидон, подстрекаемый Фетидой, поражает Главка стрелой, исцеляющей от любви, а Сциллу – стрелой, причиняющей любовь. Теперь она расточает ему авансы, а он с презрением ее отвергает.
О как она к нему, лаская, жмется, Как ищет отблеска в его очах, Как в преданной своей любви клянется! – А он от скуки, кажется, зачах. Поверьте, даже нимфы, видя это, Рыдали над любовью без ответа[34].«Сцилла» Лоджа написана тою же строфой, что «Венера и Адонис» и, по-видимому, послужила для Шекспира непосредственным образцом.[35] Но у него (и в этом важное отличие от поэмы Лоджа) мужское оскорбительное равнодушие не остается неотомщенным. Перевернутость любовных ролей отражается в ситуации охоты: вепрь атакует охотника и убивает (дефлорирует) его. Как пишет Лорен Сильберман,
Охота на вепря, зверя, который, будучи настигнут, способен развернуться и атаковать охотника, являет наглядный пример любовной ситуации, когда охотник становится дичью. Метафорическая опасность «смертоносного» женского взгляда превращается во вполне реальную угрозу кабаньего клыка, вонзающегося в пах[36].
Венера в «Метаморфозах» Овидия тоже участвует в охоте. Чтобы не расставаться с любимым, oна следует за Адонисом по горам и лесам, и по заросшим скалам –
С голым коленом, подол подпоясав по чину Дианы…[37]Венера в поэме Шекспира тоже искусна в физических упражнениях: она ловко управляется с конем, искусно борется, бегает «как Диана»; это, с одной стороны, согласуется с Овидием, а с другой стороны, с придворным культом Елизаветы. «Венера красотой, деяньями Диана», – писал современник о королеве[38].
Охота была любимым развлечением Елизаветы Английской. Джордж Тербервиль в «Книге королевской охоты» (The Book of Venery) дает подробное описание всего охотничьего ритуала, довольно сложного и непременно кончающегося торжественным отсекновением оленьей головы лично королем (или, в данном случае, королевой). Следует иметь в виду и очевидный каламбур со словом venery, означающим одновременно и охоту с борзыми, и венерины забавы.
Елизавете в 1593 году исполнилось шестьдесят лет. Но она по-прежнему была ревнива. Наказанием за измену могла быть смерть, как в случае с Эссексом, или же тюрьма, как в случае с другим королевским фаворитом, сэром Уолтером Рэли, который тайно женился на фрейлине королевы Елизавете Торнтон и был за это брошен в Тауэр. Его поэма «Океан к Цинтии» – вопль о милосердии и, в то же время, замечательные стихи, в которых взрыв женской агрессивности в любви изображается в образе бунтующей реки, которая сокрушает и уничтожает все на своем пути, подобно загнанному вепрю:
Как тот поток, что на своем пути Задержан чьей-то властною рукою, Стремится прочь преграду отмести, Бурлит, кипит стесненною волною И вдруг находит выход – и в него Врывается, неудержим, как время, Крушащее надежды, – таково Любови женской тягостное бремя…[39]В одной из элегий Джона Донна мы находим сходное описание своенравной, неистовой женщины, подобной бурливой реке, которая начинает –
бурлить и волноваться, От брега к брегу яростно кидаться, Вздуваясь, от гордыни, если вдруг Над ней склонится некий толстый Сук, – чтоб, и сама себя вконец измуча И шаткую береговую кручу Язвящими лобзаньями размыв, Неудержимо кинуться в прорыв С бесстыжим ревом, с пылом сумасбродным, Оставив Русло прежнее безводным…[40]Этот образ особенно замечателен своей пространственной инверсией: пассивный мужчина становится каналом (руслом) для неистового движения активной женственности (реки).
8. ВЕПРЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СНАРКА
Венера в овидиевых «Метаморфозах» предостерегает Адониса, что опасно охотиться на таких зверей, которые могут обратить забаву против охотника и превратить его самого в дичь, что следует избегать животных,
Не обращающих тыл, но грудь выставляющих в битве…[41]
Это хороший совет, приводящий на ум инструкцию, которую давал Булочнику его дядя в «Охоте на Снарка»:
Но, дружок, берегись, если вдруг набредешь Вместо Снарка на Буджума, ибо Ты без слуху и духу тогда пропадешь, Не успев даже крикнуть: «спасибо»[42].Впрочем, кто знает, начиная гон, какая метаморфоза произойдет с твоей дичью и не окажется ли догоняющий догоняемым (как предупреждал Дядюшка)? На практике чаще всего так и выходит.
В структуре кэрролловской поэмы много общего с «Венерой и Адонисом» Шекспира. Долгие сборы-разговоры вначале – и внезапный роковой финал. Охотничий клик и звонкий рожок, заставляющий Венеру, ищущую Адониса, вздрогнуть от радости, находит параллель в последней главке (Вопле) «Охоты на Снарка»:
Тише! Кто-то кричит! – закричал Балабон. – Кто-то машет нам шляпой своей. Это – Как Его Бишь, я клянусь, это он, Он до Снарка добрался, ей-ей![43]Всего лишь через несколько секунд незадачливый охотник исчезнет в пропасти с последним ужасающим воплем: «Это – Бууу!..» Всего лишь через несколько минут отчаянного бега Венера увидит своего любимого на земле, растерзанного вепрем.
Конечно, аллегорию Кэрролла можно без особого риска применить практически к любому сюжету. Но в этом случае вспомнить пародийную поэму-«агонию» кажется особенно уместным. В «Венере и Адонисе» юмор сплавлен с печалью, а печаль с юмором. В ретроспективе комедия любви оказывается увиденной сквозь призму смерти и скорби, а трагедия смерти – сквозь причуды и капризы любви. Это и делает поэму Шекспира столь завершенной – «закругленной» (circular), если употребить любое выражение Джорджа Чапмена.
Уильям Шекспир (1564–1616)
Биография Шекспира изучена со всей дотошностью, возможной при скудости сохранившихся документов. Сын уважаемого горожанина Стратфорда-на-Эйвоне, Шекспир рано женился на девушке, бывшей существенно его старше, несколько лет спустя оставил родной город, пережил неизвестные нам приключения и в начале 1590-х годов очутился в Лондоне в качестве актера и начинающего драматурга. Опубликовал две поэмы, посвященные графу Саутгемптону, «Венера и Адонис» (1593) и «Обесчещенная Лукреция» (1594). Со временем стал совладельцем театра и приобрел кое-какую недвижимость в Лондоне и в Стратфорде. Труппа, для которой он писал, пользовалась успехом при дворе, в особенности, после воцарения короля Иакова. В 1611 году, возможно, в связи с ухудшением здоровья вернулся в Стратфорд, где и умер, завещав золотые памятные кольца трем своим друзьям-актерам. Именно они собрали и издали в 1623 году собрание шекспировских пьес, легшее в основу его славы. Существует много теорий, доказывающих, что эти пьесы написаны не Шекспиром, а кем-то другим, но теории эти шатки, противоречат друг другу и сами себе [cм., например, статью «Шекспир без покрывала или Шахматы, плавно переходящие в шашки» в кн.: Г. Кружков, «Ностальгия обелисков», 2001].
Венера и Адонис (Отрывки)
(1)
В тот час, когда в последний раз прощался Рассвет печальный с плачущей землей, Младой Адонис на охоту мчался: Любовь презрел охотник удалой. Но путь ему Венера преграждает И таковою речью убеждает: «О трижды милый для моих очей, Прекраснейший из всех цветов долины, Ты, что атласной розы розовей, Белей и мягче шейки голубиной! Создав тебя, природа превзошла Все, что доселе сотворить могла. Сойди с коня, охотник горделивый, Доверься мне! – и тысячи услад, Какие могут лишь в мечте счастливой Пригрезиться, тебя вознаградят. Сойди, присядь на мураву густую: Тебя я заласкаю, зацелую. Знай, пресыщенье не грозит устам От преизбытка поцелуев жгучих, Я им разнообразье преподам Лобзаний – кратких, беглых и тягучих. Пусть летний день, сияющий для нас, В забавах этих пролетит, как час! Сказав, за влажную ладонь хватает Адониса – и юношеский пот, Дрожа от страсти, с жадностью вдыхает И сладостной амброзией зовет. И вдруг – желанье ей придало силы – Рывком с коня предмет свергает милый! Одной рукой – поводья скакуна, Другой держа строптивца молодого, Как уголь, жаром отдает она; А он глядит брезгливо и сурово, К ее посулам холоднее льда, Весь тоже красный – только от стыда. На сук она проворно намотала Уздечку – такова любови прыть! Привязан конь: недурно для начала, Наездника осталось укротить. Верх в этот раз ее; в короткой схватке Она его бросает на лопатки. И быстро опустившись рядом с ним, Ласкает, млея, волосы и щеки; Он злится, но лобзанием своим Она внезапно гасит все упреки И шепчет, прилепясь к его устам, «Ну нет, браниться я тебе не дам!» Он пышет гневом, а она слезами Пожары тушит вспыльчивых ланит И сушит их своими волосами, И ветер вздохов на него струит… Он ищет отрезвляющее слово – Но поцелуй все заглушает снова! Как алчущий орел, крылом тряся И вздрагивая зобом плотоядно, Пока добыча не исчезнет вся, Ее с костями пожирает жадно, Так юношу прекрасного взахлеб Она лобзала – в шею, в щеки, в лоб.(2)
Меж тем Венеру прошибает пот: Исчезла тень, и воздух раскалился, Титана взор с пылающих высот На прелести богини обратился; Он бы прилег охотно рядом с ней, Адонису отдав своих коней. А что же наш охотник? Туча тучей, Он темную насупливает бровь И, рот кривя усмешкою колючей, С цедит досадой: «Хватит про любовь! Пусти, – мне зноем обжигает щеки; Невмоготу лежать на солнцепеке». «О горе мне! Так юн и так жесток! Меня покинуть ищешь ты предлога. Я вздохами навею ветерок На этот лоб – о не гляди так строго! – И осеню шатром своих волос, И окроплю прохладой свежих слез. Я тенью собственной тебя укрою, Преградой стану между двух огней; Не так небесный луч томит жарою, Как близкий жар твоих земных очей. Меня б спалил, будь я простою смертной, Двух этих солнц огонь немилосердный! Зачем ты неподатлив, как металл, Как мрамор, горд бездушной белизною? Ужель ты мук любви не испытал? Да женщиной ли ты рожден земною? Когда бы так она была тверда, Ты вовсе б не родился никогда. Молю, не дли невыносимых пыток, Одно лобзанье, милый, мне даруй. Какой от губ моих – твоим убыток? Ответь мне – или сразу поцелуй: С лихвой я возвращу тебе подарок, И каждый поцелуй мой будет жарок! Не хочешь? Ах ты, каменный болван! Безжизненная, хладная статуя! Раскрашенный, но мертвый истукан! Ты не мужчина, раз от поцелуя Бежишь, – в тебе мужского только вид: Мужчина от объятий не бежит!» Излила гнев – и будто онемела, Грудь стеснена, окостенел язык; Она других любовь судить умела, Но в тяжбе собственной зашла в тупик: И плачет от бессилия, и стонет, И речь невнятная в рыданьях тонет. То льнет к нему умильно, как дитя, То сердится, то за руку хватает, И, пальцы с пальцами переплетя, Удерживает и не отпускает; То взор отводит, то глядит в глаза – И шепчет, обвивая как лоза: «Любимый мой! в урочище весеннем, За крепкою оградой этих рук Броди где хочешь, будь моим оленем, Я буду лесом, шепчущим вокруг; Питайся губ моих прохладной мятой, Пресытишься – есть ниже край богатый: Там родинки на всхолмиях крутых И влажные ложбины между всхолмий, Там ты в чащобах темных и глухих Укроешься от всех штормов и молний; Нигде не встретишь хищного следа, Пусть лают псы – им входа нет сюда!»(3)
Но что это? Испанская кобылка Из ближней рощи, празднуя весну, С призывным ржаньем, всхрапывая пылко, К Адонисову мчится скакуну; И конь могучий, зову не противясь, Спешит навстречу, обрывая привязь. Плечами он поводит, властно ржет – И прочь летят пеньковые подпруги, Копытом острым Землю бьет в живот, Рождая гулкий гром по всей округе; Зубами удила сминает он, Смиряя то, чем сам бывал смирен. Над чуткой холкой дыбом встала грива, Раздуты ноздри, пар из них валит, И уши прядают нетерпеливо, А взгляд, что кровью яростной налит И жарок, словно угль, огнем палимый, О страсти говорит неодолимой. То плавной он рысцой пройдется вдруг Пред незнакомкой, изгибая шею, А то взбрыкнет, запрыгает вокруг: Вот, дескать, погляди, как я умею! Как я силен! Как на дыбы встаю, Чтоб только ласку заслужить твою! И что ему хозяин разозленный! Что хлыст его и крики: «Эй! Постой!» Теперь его ни бархатной попоной Не залучить, ни сбруей золотой! За милою следит он жадным взглядом, К наезднику поворотившись задом. Когда у живописца верный глаз, То может он своим изображеньем Саму Природу превзойти подчас: Так этот конь и мастью, и сложеньем, И силою, и резвостью своей Превосходил обычных лошадей. Копыта круглые, густые щетки, Нога прямая с выпуклым плечом, Крутая холка, шаг широкий, четкий, И рост, и пышный хвост, – все было в нем, Что доброму коню иметь пристало; Вот только всадника недоставало! Хозяйской больше не страшась руки, То вдруг затеет танец он игривый, То мчится с ветром наперегонки, Волнистою размахивая гривой, В которой струи воздуха свистят; И кажется, что этот конь крылат. Он зрит свою любовь и к ней стремится, Призывным ржаньем оглашая дол; Она же пылких ласк его дичится, Лукавая, как весь прекрасный пол, Отбрыкиваясь от его объятий: Ей, дескать, эти нежности некстати! Тогда, уныньем тягостным объят, Повеся хвост, что, возвышаясь гордо, Обвеивал его горячий зад, Он бьет копытом и мотает мордой… Тут, бедного страдальца пожалев, Она на милость свой меняет гнев. Меж тем хозяин в злости и в обиде Уже спешит коню наперерез. Не тут-то было! Ловчего завидя, Кобылка прянула и мчится в лес; За нею жеребец летит в запале. Вороны вслед метнулись – но отстали.(4)
Что делать! На траву охотник сел, Браня своей коняги подлый норов. Благоприятный случай подоспел Венере для дальнейших уговоров. Несчастной, как терпеть ей немоту? Тем, кто влюблен, молчать невмоготу. Огонь сильней, когда закрыта дверца, Запруженная яростней река; Когда безмолвствует ходатай сердца, Клиент его погиб наверняка. Невыносима боль печалей скрытых, Лишь излиянье умиротворит их. Он надвигает на глаза берет, Почувствовав богини приближенье, И, новою досадой подогрет, Насилу сдерживает раздраженье И равнодушный напускает вид; Но сам за нею искоса следит. О, сколь она прелестна в ту минуту, Тревогой нежною поглощена! Ланиты отражают мыслей смуту, В них алой розы с белою война: То бледностью они покрыты снежной, То вспыхивают молнией мятежной. Какая у нее в глазах мольба! Встав на колени, с нежностью какою Она, его берет подняв со лба, Любимых щек касается рукою: Подобно снегу свежему – мягка, Прохладна и нежна его щека. Глаза глядят в глаза, зрачки сверкают На поединке взоров роковых: Те жалуются, эти отвергают, В одних любовь, презрение в других. И слез бегущих ток неудержимый – Как хор над этой древней пантомимой. Его рука уже у ней в плену – Лилейный узник в мраморной темнице; Она слоновой кости белизну В оправу серебра замкнуть стремится; Так голубица белая тайком Милуется с упрямым голубком. И снова, сладостной томясь кручиной, Она взывает: «О, звезда моя! Когда бы я была, как ты, мужчиной, А ты был в сердце ранен так, как я, Я жизни бы своей не пощадила, Чтоб исцелить тебя, мучитель милый!» «Отдай мне руку!» – негодует он. «Нет, сердце мне мое отдай сначала, Чтоб, взято сердцем каменным в полон, Оно таким же каменным не стало, Бесчувственным и черствым, как ты сам, Глухим к любовным стонам и слезам!» «Уймись, – вскричал Адонис, – как не стыдно! Из-за тебя я упустил коня; Потерян день нелепо и обидно. Прошу тебя, уйди, оставь меня! В душе одна забота – как бы снова Мне заарканить жеребца шального». В ответ Венера: «Прав твой пылкий конь, Он оказался у любви во власти; Порою должно остужать огонь, Чтоб не спалил нам сердца уголь страсти. Желание – горючий матерьял; Так мудрено ли, что скакун удрал? Привязанный к стволу уздой твоею, Стоял он, как наказанный холоп, Но, увидав подругу, выгнул шею, Махнул хвостом и бросился в галоп, Ременный повод обрывая с ходу, Почуя вожделенную свободу. Кто, милую узрев перед собой На посрамленной белизне постели, Не возжелает, взор насытя свой, Насытить и уста? О, неужели Столь робок он, что и в холодный год Замерзнет, но к огню не подойдет? Так не вини же скакуна напрасно, Строптивый мальчик, но усвой урок, Как пользоваться юностью прекрасной; Его пример тебе да будет впрок. Учись любви! Познать ее несложно; Познав же, разучиться невозможно. «Не ведаю и ведать не хочу! – Он отвечал. – Куда милей охота На кабана; мне это по плечу. Любовь же – непомерная забота, Смерть заживо, как люди говорят, Восторг и горе, небеса и ад. Кто ходит в неотделанном кафтане? Срывает впопыхах зеленый плод? Когда растенье теребить заране, Оно увянет, а не расцветет. Коль жеребенка оседлать до срока, Не выйдет из коня большого прока. Ты штурмом не добьешься ничего; Не надо жать ладонь – что за нелепость! Сними осаду с сердца моего. Для страсти неприступна эта крепость. Слабо твое искусство в этот раз – Подкопы лести и бомбарды глаз».(5)
Волк скалится пред тем, как зарычать, Стихает ветер перед ливнем ярым; Еще он речи не успел начать, Но как внезапной молнии ударом Или как пулей гибельной, она Предчувствием дурным поражена И, слабо вскрикнув, навзничь упадает!.. Такую силу взгляд в себе несет: Он и казнит любовь, и воскрешает, И богатеет заново банкрот. Как быть юнцу? Он с видом ошалелым Захлопотал над неподвижным телом. Забыта вмиг суровая хула, Что с уст его чуть было не слетела. Любовь беднягу славно провела, Уловку тонкую пустивши в дело; Не дрогнут веки, не встрепещет грудь – Лишь он сумеет жизнь в нее вдохнуть! То по щекам ее немилосердно Он шлепает, то зажимает нос, То пульса ищет, пробуя усердно Поправить вред, что сам же и нанес; К устам недвижным льнут его лобзанья – О, век бы ей не приходить в сознанье! Но вот, как день идет на смену мгле, Ее очей лазурные оконца Раскрылись; как на сумрачной земле Жизнь воскресает с появленьем солнца, Так осветился лик ее тотчас Живительным сияньем этих глаз. Обласкан их рассветными лучами, Он мог удвоить сей чудесный свет, Но злая хмурь над юными очами Нависла, как предвестник новых бед. Ее же взор, слезами преломленный, Блестел, как пруд, луною озаренный. Она вздохнула: «Где я? Что со мной? Тону ли в бездне иль в огне сгораю? Что ныне – полдень или мрак ночной? Живу ли я еще иль умираю? Коль это жизнь – за что такая боль? Коль смерть – зачем она отрадна столь? О, воскресив, меня ты губишь снова! Твой взгляд надменный в грудь мою проник По наущенью сердца ледяного – И насмерть поразил в тот самый миг, Как взор мой, поводырь души незрячей, К твоим устам припал с мольбой горячей. О дивные, целебные уста, Вы милосердней глаз! Да не увянет Сей дружной пары пыл и красота В сближеньях сладостных! Когда ж нагрянет Чума, что звездочеты нам сулят, – Ваш аромат развеет смертный яд. Чистейшие уста! Свой оттиск милый Оставьте на устах моих опять. О, я любую сделку бы скрепила Такой печатью! Всю себя продать Тебе готова; дело лишь за малым: Поставь клеймо на этом воске алом! За тысячу лобзаний хоть сейчас Отдам я душу – что мне дорожиться? Скупец! Каких-то десять сотен раз К моим устам всего и приложиться! И двадцать сотен – невеликий труд! Плати, пока недорого берут!» «Царица! Коль тебе считать охота, Мои лета незрелые сочти. Детеныша, попавшего в тенета, Пускают прочь: ступай, мол, подрасти! Коль вправду любишь, будь же терпелива: Поспев, сама спадает с ветки слива. Взгляни: светильник мира скрылся прочь, Покоем и прохладой веет воздух, Сова из чащи возвещает ночь, Стада уже в загонах, птицы в гнездах. Густые тени тянутся к теням… Пора проститься и расстаться нам. Скажи: спокойной ночи! – и за это Я поцелуй тебе прощальный дам». «Спокойной ночи, милый!» – и, ответа Не дожидаясь, к сладостным устам Она, как бешеная, приникает И юношу в объятья замыкает! Он – словно пташка у ловца в горсти; Насилу, оторвавшись, удается Ему дыхание перевести; Она как будто пьет и не напьется… И оба валятся, не устояв, На ложе из цветов и пышных трав. Тут жертва покоряется напору, Тут губы алчные творят разбой, А губы-пленники без уговору Уже готовы выкуп дать любой – Единственно в надежде на пощаду; Но нет с воительницей страстной сладу! Войдя во вкус лихого грабежа, Она добычи требует свирепо – И льнет к нему, пылая и дрожа, Желанью сердце предавая слепо. Вся кровь ее бунтует и кипит: Рассудок оттеснен и стыд забыт. Разгоряченный от ее усилий, Вконец измаянный упорством их, Как загнанная лань в чащобе – или Малец, что накричался и утих, Смирясь, он покорился ей устало. Но ах! Ей этого покорства мало. Как воску не растаять над огнем, Будь поначалу он упорней стали? Любовь и предприимчивость вдвоем Каких препятствий не превозмогали? И неудача страсти не страшна: Чем ей трудней, тем горячей она. Любовь не испугать суровым взором; Кто отступает слишком рано – глуп. Смирись она тогда с его отпором, Не пить бы ей нектара с этих губ. Но кто дерзает, тот срывает розы И не боится получить занозы. И в сотый раз взмолился дурачок И просит позволенья удалиться; Удерживать насильно – что за прок? Она принуждена с ним согласиться: «Прощай! прощай! и помни, милый мой, Что жизнь мою уносишь ты с собой! Прекрасный мальчик! Ты в своей гордыне Ужель совсем бесчувствен и незряч? О, кинь соломинку моей кручине Назавтра мне свидание назначь!» – Нет, завтра он не может дать свиданья: Охота предстоит ему кабанья.Две песенки шута (из «Двенадцатой ночи»)
I
Друг мой милый, где ты бродишь, Отчего к нам не заходишь? Без тебя – тоска и мрак. Прекрати свои блужданья, Все пути ведут к свиданью, Это знает и дурак. Ты прекрасна и желанна, Но судьба непостоянна, Остывает сердца жар. Нет резона в проволочке: Коротки в июне ночки, юность – ветреный товар.II
Когда я был совсем еще мал, Дуй, ветер, дождь, поливай! – Я много дров уже наломал, И где уж грешному в рай! Когда я взрослых годов достиг, Дуй, ветер, дождь, поливай! – Я другом стал воров и плутыг, И где уж грешному в рай! Когда жениться я пожелал, Дуй, ветер, дождь, поливай! – Сказали мне: убирайся, нахал, И где уж грешному в рай! Когда я вновь завалился спать, Дуй, ветер, дождь, поливай! – Башкою спьяну сломал я кровать, И где уж грешному в рай! Актеры устали, кончать пора, Дуй, ветер, дождь, поливай! – А завтра будет другая игра, И где уж грешному в рай!Кристофер Марло (1564–1593)
Родился в Кантенбери в семье башмачника. Благодаря стипендии, учрежденной архиепископом Паркером, сумел закончить Кембриджский университет. По-видимому, уже в студенческие годы исполнял какие-то поручения секретной службы королевы. В дальнейшем переехал в Лондон, сочинял пьесы для театров, перевел «Любовные элегии» Овидия, написал незаконченную поэту «Геро и Леандр». В 1593 году был вызван в Звездную палату по обвинению в дерзком и кощунственном атеизме. Убит при загадочных обстоятельствах в лондонской таверне. Марло считают безвременно погибшим гением, предтечей Шекспира, его лучшая трагедия «Доктор Фаустус» (1592) ставится и в наше время.
Кристофер Марло. Неизвестный художник.
Влюбленный пастух – своей нимфе
Пойдем со мной и заживем, Любясь, как голубь с голубком, Среди лугов, среди дубрав, Среди цветов и горных трав. Там, под скалой, любовь мою Из родника я напою, Где по камням звенят ручьи И распевают соловьи. Захочешь ты, чтоб я принес Тебе охапку свежих роз Или тюльпанов? – повели: Добуду, как из-под земли. Я плащ любимой поднесу С опушкой меховой внизу И башмачки – кругом атлас, Что тешут ножку, как и глаз. Из мирта я сплету венок, Коралл, янтарь сложу у ног; Согласна ль ты в раю таком Жить, словно голубь с голубком? В обед мы будем каждый день На мраморный садиться пень И пить нектар, как боги пьют, И есть из золоченных блюд. И будут пастушки для нас Петь и плясать во всякий час; Чтоб нам с тобой в раю таком Жить, словно голубь с голубком.Сэр Уолтер Рэли (1552–1618)
Родом из Девоншира. Учился в Оксфорде и в лондонской юридической школе Мидл-Темпл. Воевал во Франции и в Ирландии. По возвращению в Англию в 1582 году быстро сделал придворную карьеру, став фаворитом Елизаветы и капитаном дворцовой гвардии. Прославился участием в разгроме Непобедимой Армады, а также плаванием в Гвиану («Открытие Гвианы», 1597). После смерти королевы был арестован и приговорен к смерти за государственную измену. Заключенный в Тауэр, писал фундаментальную «Историю мира» (I том издан в 1613 г.), занимался научными экспериментами. Провел в тюрьме 13 лет, предпринял второе плавание в Гвиану – и после возвращения был казнен по требованию испанцев, у которых он пытался отвоевать важные опорные пункты в южной Америке.
Сэр Уолтер Рэли. Неизвестный художник, 1602.
Ответ нимфы влюбленному пастуху –
Будь вечны радости весны, Будь клятвы пастухов прочны, Я б зажила с тобой вдвоем, Любясь, как голубь с голубком. Но время гонит птиц в отлет, Река взбурлившая ревет, Смолкает Филомелы глас, И холод обступает нас. Там, где пестрел цветами луг, Все пусто, все мертво вокруг. Коль мед в речах, а в сердце яд, Рай скоро обратится в ад. Рассыплются твои венки, И поясок, и башмачки, Истлеет нить, увянет цвет – В них только блажь, а правды нет. Так не сули подарков зря – Ни роз, ни бус, ни янтаря, И песен вкрадчивых не пой, Нет, не пойду я жить с тобой.Потревоженный прах, или рассуждение о сонетах Шекспира
Воистину несчастен тот день и час, когда человек связывается с проблемой упорядочивания шекспировских сонетов. Счастье навек отлетает от него; его ум больше ему не принадлежит. Он оказывается в положении тех одержимых, которые изобретают систему игры в рулетку, чтобы сорвать банк в Монте-Карло.
Хайдер Роллинс[44]Загадки, загадки, загадки…
Сонеты Шекспира – одно из самых таинственных произведений мировой литературы. Конечно, оно не было бы таким таинственным, когда бы это был не Шекспир. Но люди ребячливы: «царя горы» обязательно хочется если не свергнуть с пьедестала, так хотя бы подпихнуть. Игрушку нужно разломать, чтобы посмотреть, что у нее внутри. Чудеса приятны, но желательно, чтобы с «полным разоблачением оных». Отсюда повышенное, я бы сказал, болезненное любопытство к обстоятельствам жизни Шекспира, тем более, что личных его бумаг не сохранилось и простор для фантазии широкий. Отсюда же – особый интерес к его сонетам, подогреваемый еще и тем, что в них можно усмотреть некие гомоэротические (скандальные!) мотивы.
Так что загадок и догадок вокруг этой книги хоть отбавляй. За четыреста лет, прошедших с первой публикации «Сонетов» Шекспира (1609), они испытали на себе все превратности судьбы: их забывали, ими пренебрегали, их переделывали и перекраивали, ими возмущались и восхищались, их расшифровывали и истолковывали и, наконец, их переводили на другие языки. У нас в России внимание к сонетам в последние десятилетия зашкаливает, чуть ли не каждый год появляется новый полный перевод всех 154 сонетов.
Первый вопрос, который возникает в связи с этими текстами, это вопрос атрибуции: действительно ли автор «сонетов Шекспира» – Шекспир?
У. Шекспир. Сонеты. Титульный лист. 1609 г.
А если так, то с его ли ведома и согласия было предпринято издание 1609 года? Сам ли он предоставил рукопись издателю? Участвовал ли в процессе печатания?
И еще один вопрос, непосредственно связанный с предыдущим: верен ли порядок, в котором расположены сонеты, принадлежит ли он автору или другому лицу, например издателю?
Вопрос о порядке важен потому, что от этого зависит фабула, которую воображает себе читатель, та реальная love story, которую он старается угадать за пунктиром лирических признаний. Традиционно ситуация описывается так: в «Сонетах» три дейст вующих лица: Автор (лирический герой), его юный Друг и некая Женщина (Смуглая леди), возлюбленная Автора, которая изменяет ему с Другом. Большая часть сонетов посвящена Другу и тому возвышенному чувству любви-дружбы, которое испытывает к нему Автор. Он обещает прославить и обессмертить его своими стихами. Остальные сонеты рассказывают о противоречивой любви-страсти к Смуглой леди; в них, наоборот, подчеркивается низменный, плотский аспект этого чувства.
Таков, повторим, обычный расклад сонетов, из которого обычно исходят критики, исследующие различные аспекты «Сонетов». Впрочем, есть и другие точки зрения. Неко торые шекспироведы сомневаются в том, что все сонеты первой части обращены к Другу, а также в том, что все 154 сонета представляют один (авторский) цикл и расположены в правильном (авторском) порядке.
Но прежде чем перейти к вопросу о порядке сонетов, попытаемся ответить на пер вые два вопроса. Точно ли автор опубликованных в 1609 году сонетов Уильям Шекспир? Вопрос не праздный и не надуманный. Дело в том, что к авторскому праву во времена Шекспира относились не так трепетно, как в наши дни, и ситуация, когда издатель прибегал к известному имени, чтобы под его флагом легче продать книгу, была нередкой. Так, в 1599 году издатель Уильям Джаггард выпустил книгу под названием «Влюбленный пилигрим», приписав ее Уильяму Шекспиру, хотя в действительности Шекспиру в ней принадлежало лишь пять стихотворений: два сонета (которые войдут в сборник 1609 под номерами 138 и 144) и три отрывка из пьесы «Бесплодные усилия любви»; остальное представляло собой сборную солянку разных поэтов (Т. Хейвуда, Р. Барнфилда и других), нахватанную из разных книг и рукописей. Так, может быть, и «Сонеты» 1609 года – такое же «пиратское издание», в котором Шекспиру принадлежит лишь малая доля?
К счастью, эти сомнения можно с полным основанием отмести. Во-первых, ни один из обсуждаемых сонетов не засветился ни в книгах, ни в рукописях как произведение другого автора. Во-вторых, издатель Томас Торп, хотя и не всегда безупречный в вопросах авторского права, был все-таки более разборчивым дельцом, чем Джаггард; он работал с лучшими авторами своего времени, такими как Бен Джонсон и Джон Марстон, и не стал бы портить репутацию столь явным подлогом. В-третьих, многие из этих сонетов настолько явственно несут на себе печать шекспировского гения, что невозможно представить их автором никого иного из его поэтов-современников.
«Единственный зачинатель»
Покончив с первым вопросом, перейдем ко второму: участвовал ли Шекспир в осуществленном Торпом издании «Сонетов»? Большинство шекспироведов склоняются к отрицательному ответу. И на это у них имеются веские основания.
Во-первых, в конце мая 1609 года, когда сборник готовился к печати, Шекспира почти наверняка не было в Лондоне. Известно, что в мае шекспировская труппа «Слуги короля», сбежав от новой вспышки чумы в Лондоне, давала спектакли в Ипсвиче и других провинциальных городах. Известно также, что 7 июня Шекспир участвовал в судебном заседании в родном Стратфорде. Во-вторых, ошибок и опечаток в «Сонетах» так много, что ясно: автор не приглядывал за их изданием. Более того, сама рукопись была получена издателем не от Шекспира, а от третьего лица, о чем свидетельствует загадочное посвящение к книге, напечатанное в столбик примерно таким образом (в переводе на русский):
ЕДИНСТВЕННОМУ ЗАЧИНАТЕЛЮ
НИЖЕПРИВЕДЕННЫХ СОНЕТОВ
МИСТЕРУ W. H.
ВСЯЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ
И ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
ОБЕЩАННОЙ
ЕМУ
НАШИМ БЕССМЕРТНЫМ ПОЭТОМ
ЖЕЛАЕТ
БЛАГОНАМЕРЕННЫЙ
ДЕРЗАТЕЛЬ
ВЫПУСТИВШИЙ ИХ
В СВЕТ
Т. Т.Что означает это выражение «единственный зачинатель» (the only begetter)? Рас сматривались три версии. Это или (1) прототип прекрасного Друга, который вдохновил Шекспира на сочинение сонетов, как склонны думать большинство шекспироведов, или (2) тот, кто доставил издателю рукопись (такое значение тоже есть у слова «begetter»). И третья гипотеза (3): этот таинственный «зачинатель» – сам автор, то есть Шекспир[45]. Кто же в этом случае «наш бессмертный поэт»? Кто мог обещать Шекспиру вечную жизнь? Вергилий? Гораций? Или сам Господь Бог («наш поэт» в том смысле, что он всех нас со творил)? Предположим, что издатель посвятил книгу ее автору. Допустим – хотя это очень странно. Но можно ли допустить, что наборщик вместо правильных инициалов Шекспира «W. S.» поставил «W. H.» – и этого никто не заметил? Вот в это поверить уже совсем трудно; легче исключить столь смелую гипотезу.
Второй вариант толкования, если вдуматься, тоже неприемлем. Предположим, «be getter» означает «доставивший рукопись», но разве Шекспир обещал бессмертие тому, кто доставит его рукопись мистеру Торпу? Опять получается неувязка. Поневоле мы возвращаемся к первой версии: издатель посвятил издаваемую книгу главному ее герою – тайному Другу, вдохновившему автора публикуемых сонетов. Доставить же их издателю мог не только он сам, но и кто-то из общих друзей Автора и Друга, которому они позволили сделать список сонетов или кому Автор доверил на сохранение свои рукописи, уезжая из Лондона.
3. Непреодолимое обстоятельство
Предисловие к книге, конечно, должен был написать ее автор, – если только он знал о готовящемся издании и если не существовало к тому каких-либо непреодолимых препятствий. Таким препятствием могла быть, например, смерть сочинителя. В этом случае становится понятным и чужое предисловие, и эпитет «бессмертный» в при менении к автору. Может быть, распространился слух о смерти Шекспира? Если учесть, что в то время его не было в Лондоне и чума свирепст вовала как в столице, так и в провинции, Томас Торп вполне мог поверить в этот слух. То гда, между прочим, становится понятным и необычный титул книги «Шекспировы со неты»:
SHAKE-SPEARES
SONNETS
Так, с притяжательным окончанием было принято именовать лишь неживых клас сиков, например HOMERS ODISSEY, а здравствующего автора на титуле книги писали после названия, например: «Сонеты Уильяма Шекспира»:
SONNETS
BY WILLIAM SHAKESPEARE
Когда чума приходила в Лондон, «существованья шаткость» ощущалась особенно остро; смерть ходила рядом с каждым. И поэты заботились о сохранении своих творений не меньше, чем о судьбе бренного тела. Эту тему любил обыгрывать юный Джон Донн в своих стихотворных посланиях друзьям:
Доказано, что ад есть разлученье С друзьями – и безвестности мученье – Здесь, где зараза входит в каждый дом И поджидает за любым углом. С тобой моя любовь: иди, не мешкай, Моей ты будешь проходною пешкой, Коль избегу ужасного конца; А нет – так завещаньем мертвеца[46]. «Ступай, мой стих хромой…»«Моей ты будешь проходною пешкой» подразумевает превращение пешки, гибнущей на последней горизонтали, в ферзя – эквивалентное алхимическому превращению простого металла в золото, а также бренной жизни поэта – в бессмертное искусство. Ср. у Пастернака:
И какую-то черную доведь И – с тоскою какою-то бешеной – К преставлению света готовит, Конноборцем над пешками пешими[47].Итак, если в Лондоне поверили в смерть Шекспира, тогда становится понятным и оформление титула, и издательское предисловие. А также то, что один из друзей решил без промедления опубликовать хранящийся у него экземпляр сонетов (оригинал или список) – к вящей славе своего друга и во избежание того, чтобы какая-то роковая неожидан ность (чума или пожар) не уничтожила драгоценной рукописи.
Тут можно вспомнить, что писал в 1598 году прекрасно осведомленный Фрэнсис Мирес в книге «Palladis Tamia, или Сокровищница ума», перечисляя достижения совре менной ему английской литературы:
«Подобно тому, как полагали, что душа Эвфорба жила в Пифагоре, так остроумный и изящный дух Овидия живет в сладкозвучном и медоточивом Шекспире, о чем свиде тельствуют его “Венера и Адонис”, его “Лукреция”, его сладостные сонеты, известные близким друзьям». Не будем обольщаться эпитетами: у Миреса все авторы, даже третьестепенные, «медоточивые». Вылущим из этого плода крас норечия объективное зерно: уже в 1598 году о сонетах Шекспира было известно, они ходили в кругу его близких друзей!
Представляется вероятным, что «единственным зачинателем» (или «вдохновителем»), о котором пишет Торп, был кто-то из этих друзей Шекспира. Вполне возможно, что автор связал их обещанием не распространять дальше доверенные им стихи – тогда понятно, почему прижизненных списков сонетов практически не сохранилось.
Итак, подведем предварительный итог. Наиболее естественным объяснением странностей торповского издания 1609 года представляется распространившийся слух о смерти Шекспира от чумы. В него поверили тем более легко, что шекспировской труппы в то время в городе не было, чумная зараза по-прежнему носилась в воздухе и скорбные вести о друзьях и знакомых приходили каждый день.
Если мы принимаем эту версию, она объяснит почти все упомянутые выше стран ности: и титул книги «Шекспировы сонеты», и странный эпитет в посвящении «наш бес смертный поэт» (о живущих так не говорят), да и сам факт того, что посвящение сочинено не автором, а издателем.
Эта версия объясняет также и то, почему рукопись издателю кто-то из друзей поэта отдал именно теперь, в 1609 году, а не раньше (например в 1598-м, 1599-м или 1605-м). Раньше это было бы нарушением авторских прав и «пиратством», а после смерти Шек спира – благородной заботой о сохранении творческого наследия друга во имя его славы и на благо английской литературы.
«Тонкая структура» сонетов
Сонетный жанр ведет свою историю, по крайней мере, с начала XIII века. Самые ранние из дошедших до нас сонетов были написаны в Сицилии при дворе императора Фридриха II. Оттуда они перекочевали в материковую Италию и усиленно культивировались поэтами «нового сладостного стиля». Данте Алигьери сложил из сонетов со своими комментариями-связками книгу «Новая жизнь» (1292). Спустя полвека Петрарка (1304–1374) прославил этот жанр своей знаменитой «Книгой песен», состоявшей из двух больших циклов сонетов: «На жизнь мадонны Лауры» и «На смерть мадонны Лауры». В дальнейшем сонет разошелся по всей Европе, проник в Испанию, во Францию и дальше на север и восток, дошел до Чехии и Польши и остановился где-то на пороге Московской Руси.
Что касается Англии, то первым привил сонет к дубу родной поэзии сэр Томас Уайет (1503–1542), эстафету приняли его младший современник граф Сарри (1517–1547), уп ростивший форму сонета (именно этой, английской, формой воспользовался Шекспир), и другие придворные стихотворцы Генриха VIII. Из поэтов середины XVI века отметим Джорджа Гаскойна (1534?–1577), автора нескольких превосходных сонетов, в том числе вставленных в его любовный роман о Фердинанде Джеронини и Ле оноре де Валаско. Но настоящий расцвет жанра начинается с Филипа Сидни (1554–1586), с его знаменитой книги «Астрофил и Стелла», опубликованной посмертно в 1591 году. С этой даты отсчитывается повальная мода на сонетные циклы, так называемый «сонетный бум» 1590-х годов: «Диана» Г. Констебля, «Делия» С. Даниэля, «Amoretti» Э. Спенсера, «Филида» Т. Лоджа и так далее.
Шекспир был увлечен той же поэтической волной. По некоторым предположе ниям, он начал сочинять сонеты не позже 1592 года. Скорее всего, это его увлечение за кончилось до начала нового века, ведь в 1600-х годах «сонетная лихорадка», в основном, прошла. Хотя нельзя утверждать, что эта форма совсем вышла из употребления; упомянем хотя бы «Благочестивые сонеты» Джона Донна.
Для пристрастного критика шекспировских «Сонетов» всегда существует опас ность оторвать их от той литературной почвы, на которой они произросли. Без этой почвы стихи как бы повисают в воздухе, ведь особенности любой вещи познаются в сравнении. Впрочем, на первых порах – для того чтобы сделать начальные шаги к пониманию «Сонетов», их тематики и общей структуры, – можно отключить «масштабную сетку», сузить перспективу и прибегнуть к тому, что литературоведы называют «имманентным анализом»[48], то есть анализу без учета интертекстуальности. Этим мы сейчас и займемся.
Со времен одного из первых шекспироведов, занимавшихся этой проблемой, Эдмунда Мэлоуна (1741–1812) «Сонеты» принято делить на две неравные части: первые 126 сонетов, посвященные Другу, и оставшиеся 28, посвященные Смуглой (или Темной) леди – The Dark Lady.
Такова общая структура шекспировских сонетов. Но подобно тому, как основные энергетические уровни атома расщепляются на несколько подуровней, называемых «тонкой структурой» спектра, так внутри обеих частей сонетного цикла Шекспира можно обнаружить более подробную внутреннюю структуру, отдельные группы из двух, трех и более сонетов.
Очевидный пример – первые семнадцать сонетов, варьирующие на все лады одну тему: в них автор уговари вает прекрасного юношу вступить в брак, чтобы его красота не погибла, но возродилась в по томстве. Предполагается, что эти увещевания были написаны по заказу родственников некоего знатного юноши, сопротивлявшегося попыткам его женить. Таким юношей мог быть, например, Генри Ризли, граф Саутгемптон; напомним, что ему посвящены две поэмы Шекспира: «Венера и Адонис» и «Обесчещенная Лукреция». «Пропагационный цикл» (от слова propagation, продолжение рода) – не единственная группа сонетов, которую можно выделить в книге, но, безусловно, самая длинная. Может сложиться мнение (я помню свои впечатления школьника при первом знакомстве с «Сонетами»!), что такое введение чересчур длинно и композиционно не оправданно, – а значит, состав 1609 года мог быть не авторским.
При внимательном чтении остальных 109 сонетов первой части, посвященной Другу, обнаруживается, что большая их часть группируется в короткие серии, написанные на одну тему.
Уже первые два сонета, следующие после пропагационного цикла: 18 («Сравню ли с летним днем твои черты?») и 19 («Ты притупи, о время, когти льва…») – образуют дуплет на тему: стихи навсегда сохранят красоту Друга. Ключевые строки:
(18) Ты будешь вечно жить в строках поэта… (19) Мой стих его прекрасным сохранит!Сонеты 27 («Трудами изнурен, хочу уснуть») и 28 («Как я могу усталость превозмочь») объединены темой бессонницы. Заключительные четверостишия говорят о том, что и ночь не дает отдыха любовной заботе:
(27) Мне от любви покоя не найти. И днем и ночью – я всегда в пути. (28) Но все трудней мой следующий день, И все темней грядущей ночи тень.Вслед за этим дублетом без перерыва следует триада сонетов 29, 30 и 31, тема которых может быть сформулирована так: память напоминает об утратах, но любовь возмещает все печали и потери[49]. Единство этой триады становится очевидным, если выписать первые катрены и заключительные двустишья («замки») сонетов.
(29) Когда в раздоре с миром и судьбой, Припомнив годы, полные невзгод, Тревожу я бесплодною мольбой Глухой и равнодушный небосвод ‹…› С твоей любовью, с памятью о ней Всех королей на свете я сильней. (30) Когда на суд безмолвных, тайных дум Я вызываю голоса былого, – Утраты все приходят мне на ум, И старой болью я болею снова ‹…› Но прошлое я нахожу в тебе И все готов простить своей судьбе. (31) В твоей груди я слышу все сердца, Что я считал сокрытыми в могилах. В чертах прекрасных твоего лица Есть отблеск лиц, когда-то сердцу милых ‹…› Всех дорогих в тебе я нахожу И весь тебе – им всем – принадлежу.Некоторые тематические пары идут не подряд, но разделены другими сонетами. Таковы сонеты 23 и 26, объединенные темой письма – посланника или ходатая от автора к предмету его любви. Приводим эти два сонета целиком:
(23) Как тот актер, который, оробев, Теряет нить давно знакомой роли, Как тот безумец, что, впадая в гнев, В избытке сил теряет силу воли, – Так я молчу, не зная, что сказать, Не оттого, что сердце охладело. Нет, на мои уста кладет печать Моя любовь, которой нет предела. Так пусть же книга говорит с тобой. Пускай она, безмолвный мой ходатай, Идет к тебе с признаньем и мольбой И справедливой требует расплаты. Прочтешь ли ты слова любви немой? Услышишь ли глазами голос мой? (26) Покорный данник, верный королю, Я, движимый почтительной любовью, К тебе посольство письменное шлю, Лишенное красот и острословья. Я не нашел тебя достойных слов. Но если чувства верные оценишь, Ты этих бедных и нагих послов Своим воображением оденешь. А может быть, созвездья, что ведут Меня вперед неведомой дорогой, Нежданный блеск и славу придадут Моей судьбе, безвестной и убогой. Тогда любовь я покажу свою, А до поры во тьме ее таю.Сонеты 33 и 34 рассказывают о ссоре между двоими, которая прошла, как туча или очистительный дождь, смывающий все обиды. Приводим сонеты полностью:
(33) Я наблюдал, как солнечный восход Ласкает горы взором благосклонным, Потом улыбку шлет лугам зеленым И золотит поверхность бледных вод. Но часто позволяет небосвод Слоняться тучам перед светлым троном. Они ползут над миром омраченным, Лишая землю царственных щедрот. Так солнышко мое взошло на час, Меня дарами щедро осыпая. Подкралась туча хмурая, слепая, И нежный свет любви моей угас. Но не ропщу я на печальный жребий, – Бывают тучи на земле, как в небе. (34) Блистательный мне был обещан день, И без плаща я свой покинул дом. Но облаков меня догнала тень, Настигла буря с градом и дождем. Пускай потом, пробившись из-за туч, Коснулся нежно моего чела, Избитого дождем, твой кроткий луч, – Ты исцелить мне раны не могла. Меня не радует твоя печаль, Раскаянье твое не веселит. Сочувствие обидчика едва ль Залечит язвы жгучие обид. Но слез твоих, жемчужных слез ручьи, Как ливень, смыли все грехи твои!К этим двум примыкает и следующий за ними сонет о любовной ссоре, обиде и раскаянии, так что тут можно говорить не о дублете, а о триаде:
(35) Ты не грусти, сознав свою вину. Нет розы без шипов; чистейший ключ Мутят песчинки; солнце и луну Скрывает тень затменья или туч. Мы все грешны, и я не меньше всех Грешу в любой из этих горьких строк, Сравненьями оправдывая грех, Прощая беззаконно твой порок. Защитником я прихожу на суд, чтобы служить враждебной стороне. Моя любовь и ненависть ведут Войну междоусобную во мне. Хоть ты меня ограбил, милый вор, Но я делю твой грех и приговор.Триада сонетов 40 («Все страсти, все любви мои возьми»), 41 («Беспечные обиды юных лет») и 42 («Полгоря в том, что ты владеешь ею») вводит тему «любовного треугольника».
(40) Тебе, мой друг, не ставлю я в вину, что ты владеешь тем, чем я владею. Нет, я в одном тебя лишь упрекну, что пренебрег любовью ты моею. (41) Но жалко, что в избытке юных сил Меня не обошел ты стороной И тех сердечных уз не пощадил, Где должен был нарушить долг двойной. (42) И если мне терять необходимо, – Свои потери вам я отдаю: Ее любовь нашел мой друг любимый, Любимая нашла любовь твою.За этой триадой следует сонет 43 («Смежая веки, вижу я острей»), который продолжает тему бессонницы и, таким образом, превращает дуплет (27, 28) в триаду, хотя и разорванную. Отчего происходят подобные разрывы? Можно сделать два предположения. Первое: эти разрывы – намеренные: по замыслу автора в цикле должны быть сквозные мотивы, которые могут переплетаться и подхватываться.
Второе предположение: сонеты перемешаны, и такие разрывы серий свидетельствуют о нарушенном порядке.
Пары параллельные и пары последовательные
Впрочем, перемешаны сонеты не сильно, раз большинство серий сохранилось. Эту ситуацию можно сравнить с подготовкой колоды перед новой игрой: если игрок перетасовывал карты недолго и небрежно, то большинство выигрышных раскладов (хотя и не все!) останутся ненарушенными.
Среди пар цикла есть и такие, которые не просто варьируют одну тему (как бы двигаясь параллельными курсами), но соединены последовательно, так что второй сонет является продолжением первого. Таковы сонеты 41 и 42 о желании перенестись туда, где находится предмет мыслей и томлений автора. В заключение 41-го сонета он жалуется, что созданный из двух косных элементов, земли и воды, не может летать:
(41) Земля, – к земле навеки я прирос, Вода, – я лью потоки горьких слез.Следующий сонет подхватывает мысль:
(42) Другие две основы мирозданья – Огонь и воздух – более легки…И значит, что у влюбленного есть, кого послать в полет: «дыханье мысли и огонь желанья», как верные гонцы, смогут достичь цели и вернуться назад с желаемой вестью – «что друг здоров и помнит обо мне».
Еще один пример последовательной пары – сонеты 50 и 51 – о коне, который не торопится вперед, словно зная, что каждый его шаг уносит хозяина все дальше от предмета его любви:
(50) Усталый конь, забыв былую прыть, Едва трусит лениво подо мной, – Как будто знает: незачем спешить Тому, кто разлучен с душой родной.Второй сонет естественно продолжает рассказ:
(51) Так я оправдывал несносный нрав Упрямого, ленивого коня, Который был в своем упрямстве прав, Когда в изгнанье шагом вез меня.Когда читаешь «Сонеты» медленно и подряд, поневоле проникаешься впечатлением, что они и писались сериями: автор брал какую-то тему или концепт и разрабатывал (расписывал) ее в двух, трех или более сонетах.
Так, например, разговор с конем является традиционным поэтическим приемом, восходящим к народной поэзии, он встречается в касыдах бедуинов, в русских былинах и так далее. Не пренебрегали им, как мы видим, и поэты Возрождения. Концепт сей благополучно дожил до XX века. У Фроста в знаменитом стихотворении «Остановившись в лесу в снежных сумерках» (“Stopping by woods…”) встречаем такого же строптивого коня, только не замедляющего шаг, а, наоборот, торопящего своего хозяина:
Мой конь, заминкой удивлен, Как будто стряхивая сон, Глядит: ни дома, ни огня, Снег и метель со всех сторон. В дорогу он зовет меня, Торопит, бубенцом звеня. В ответ лишь ветра шепоток Да мягких хлопьев толкотня…[50]В рассмотренных выше сонетах 25 и 26 мотив письма-гонца или ходатая – тоже, конечно, не собственное изобретение автора, а традиционный, идущий с античных времен, концепт поэзии. С него начинает Овидий свои «Скорбные элегии»:
Так, без хозяина в путь отправляешься, малый мой свиток…У поэтов Возрождения он встречается постоянно: и до Шекспира, и после. Например у Пьера Ронсара в сонете «Ступай, мое письмо, послушливый ходатай…» из «Сонетов к Елене» с эффектной концовкой:
Исполни долг посла и все поведай ей, чего я не могу поведать столько дней, Когда, от робости бледнея несуразной, Плутаю в дебрях слов, терзаясь мукой праздной. Все, все ей расскажи! Ты в немоте своей Красноречивее, чем лепет мой бессвязный[51].Сравните у Шекспира:
Так пусть же книга говорит с тобой. Пускай она, безмолвный мой ходатай, Идет к тебе с признаньем и мольбой И справедливой требует расплаты.У Джона Донна мотив усложняется, отношения автора с письмом приобретают новую метафизическую глубину; но канва образа та же самая:
Куда, письмо безумное? постой! Ступай в огонь, удела нет иного Для жалких чад моих, – иль на покой: Из ветоши восстав, истлеешь снова…[52]Подарки и отдарки
Английский литературовед Морин Годмен сделал интересное наблюдение[53]. В знаменитом сонете 73:
То время года видишь ты во мне, Когда один-другой багряный лист От холода трепещет в вышине – На хорах, где умолк веселый свист, –английское слово quires в четвертой строке можно понимать не двояко, а трояко. За значением «хоры» (современное написание: quoirs), которое можно понимать как 1) «группа певцов» и как 2) «балконы в церкви, где помещаются певчие», просматривается еще одно значение: 3) quire – не сброшюрованная тетрадь из нескольких (обычно из четырех) согнутых пополам листов.
То есть птичье пение могло умолкнуть не только на хорах разрушенных церквей, но и в тетради поэта, которая отныне лежит брошенная, в запустении:
Bare ruin'd quiers, where late the sweat birds sang.Годмен предположил, что Шекспир имел обыкновение записывать сонеты в таких тетрадях и посылать их своему другу порциями по несколько штук, до шести или восьми за один раз. Такой порцией он считает, например, сонеты от 73 до 77-го. Критик обращает особое внимание на сонет 77. Комментаторы со времен Э. Мэлоуна объясняют, что в этом сонете речь идет о подаренной книге для записей, причем подарок сопровождался этими стихами. Посмотрим на последние шесть строк этого сонета. В данном случае перевод Маршака не годится, нужно обратиться к английскому оригиналу:
Look what thy memory cannot contain, Commit to these waste blanks, and thou shalt find Those children nursed, delivered from thy brain, To take a new acquaintance of thy mind. These offices, so oft as thou wilt look, Shall profit thee and much enrich thy book.Подстрочник:
То, что твоя память не сможет удержать, Доверь этим пустым страницам, и ты увидишь, Как эти дети, зачатые и взлелеянные в твоем мозгу, Словно бы заново познакомятся с тобой. Такие занятия, коли ты будешь в них упражняться, Принесут тебе пользу и обогатят эту книгу.Вполне естественным представляется мысль, что Шекспир не прилагал посвящение к подарку, а вписал в подарок свой сонет, приглашая друга продолжить подаренную ему книгу (или, допустим, тетрадь). Такого рода подарки и обмены были обычны в XVI веке. Иногда поэты сочиняли стихи коллективно, один – первую строфу, другой вторую, и так далее. Таково, например, послание к двум неизвестным дамам, написанное Джоном Донном со своим другом Генри Гудьером alternis vicibus[54]. Эта забава родилась еще в античные времена, как показывает следующее стихотворение Катулла:
Друг Лициний! Вчера, в часы досуга, Мы табличками долго забавлялись. Превосходно и весело играли. Мы писали стихи поочередно. Подбирали размеры и меняли. Пили, шуткой на шутку отвечали. И ушел я, твоим, Лициний, блеском И твоим остроумием зажженный. И еда не могла меня утешить, Глаз бессонных в дремоте не смыкал я, Словно пьяный, ворочался в постели, Поджидая желанного рассвета…[55]Эти строки Катулла примечательны как пример поэзии дружества, которая по интенсивности чувства не уступает поэзией любовной; по крайней мере, восторги, угрозы и проклятия и Лесбии, равно как и своим друзьям Лицинию, Фурию и Аврелию, поэт расточает с одинаковым пылом. Эта античная традиция ощущается в сонетах Шекспира.
Ex ungue leonem pingere[56]
Догадка Годмена, что Шекспир посылал свои стихи другу порциями, в самодельных тетрадках, хорошо объясняет и высокую сохранность порядка сонетов в сериях, или группах сонетов, и сомнительный в некоторых случаях взаимный порядок серий. Возьмем один пример, на который указал У. Х. Оден:
«Но самое серьезное возражение на порядок сонетов 1–126, как они даны в “кварто” 1609 года, психологическое. Сонеты, выражающие чувства беспримесного счастья и любви, перемешаны с другими, выражающими печаль и отчуждение. Некоторые говорят об обидах, причиненных Шекспиру другом, другие – о каком-то позорном событии, в которое был замешан друг, третьи снова о неверности самого Шекспира – в последовательности, лишенной какой-либо психологической убедительности»[57].
Любые страстные отношения могут пройти сквозь период болезненного кризиса и, выстояв, стать еще сильнее. Как пишет Шекспир в сонете 119:
О благодетельная сила зла! Все лучшее от горя хорошеет, И та любовь, что сожжена дотла, Еще пышней цветет и зеленеет.Но прощение и примирение не стирают из памяти то, что однажды было. Невозможно опять вернуться к ясному, безоблачному счастью, которое сияло в начале. Трудно поверить, что, пройдя через весь горький опыт, описанный в сонетах 40–42, Шекспир напишет свой сонет 53:
In all external grace you have some part, But you like none, none you, for constant heart.То есть, если дословно:
В любой внешней красоте есть часть тебя, Но ничто не сравнится с верностью твоего сердца.Подобные неувязки заставляют усомниться в том, что порядок сонетов соответствует их хронологии. Если автограф сонетов представлял собой совокупность тетрадок, то легко представить, что порядок тетрадок мог перепутаться за годы перечитывания и копирования, – если только тетрадки не были переплетены заботливым хозяином. Но в любом случае порядок следования сонетов в каждой малой тетрадке не пострадал, что мы видим в примерах, разобранных выше, в том числе в сонетах 40–42 (первой серии, трактующей тему «любовного треугольника»).
В связи с традицией поэтического альбома заново встает проблема авторства. Мы помним, что в сонете 77 Шекспир призывает своего тайного друга[58] продолжить игру и запечатлеть на страницах тетради свои собственные мысли, «обогатив» тем самым рукопись стихов. В принципе, его друг мог последовать этому совету, и тогда в сонеты Шекспира могли затесаться сонеты «не-Шекспира». Если рукопись передал издателю сам адресат сонетов («тайный друг»), то он бы отметил или удалил свои сонеты; но если передатчик – человек, скопировавший рукопись у друга, он мог и не разобраться в авторстве каждого сонета, отдать Торпу все скопом, и тогда в «Сонетах» есть чужая примесь. Правда, явных следов такой примеси мы, кажется, не наблюдаем; почти всюду слышен один голос, видна одна рука, но я не уверен, что так можно сказать обо всех без исключения сонетах. Все-таки сто пятьдесят четыре сонета не могут быть написаны на одном уровне, есть и такие, которые можно назвать проходными, – сонеты, написанные умелой, но прохладной рукой. Среди этих проходных (прохладных) нет ли примешавшихся – не шекспировских? Не исключено. Хотя думаю, что такие случаи единичны[59].
Еще об авторском голосе в сонетах.
Оден пишет: «В отношении стиля, бросаются в глаза две характеристики сонетов. Во-первых, их замечательная певучесть. Тот, кто сочинил их, обладал непогрешимым слухом. В белом стихе своих последних пьес Шекспир стал мастером весьма сложных звуковых и смысловых эффектов, но в сонетах он стремится сделать свой стих как можно более музыкальным, в простейшем и очевидном значении этого слова. Едва ли найдется строка, даже в самых скучных из них, которая бы звучала шероховато или неуклюже»[60].
Критикам, обвиняющим переводы Маршака в излишней гладкости, было бы неплохо учесть это авторитетное мнение.
Добавим сюда фразу, которую любил повторять Дега: «Гладко, как хорошая живопись». Приводя ее в своих «Записных книжках» (Cahiers), Поль Валери добавляет:
Выражение, которое трудно комментировать. Отлично его понимаешь, стоя перед одним из прекрасных рафаэлевских портретов. Божественная гладкость: никакого иллюзионизма; ни жирности, ни густоты, ни застывших бликов; никаких напряженных контрастов. Я говорю себе, что совершенства достигает лишь тот, кто отказывается от всяческих средств, ведущих к сознательной утрировке[61].
Перепутанные тетрадки
Итак, мы будем исходить из предположения, что рукопись, послужившая оригиналом наборщикам «Сонетов», была сложена из отдельных тетрадок[62]. Только эта теория удовлетворительно объясняет то сочетание порядка с беспорядком, которое мы наблюдаем в книге: сохранность большинства мини-циклов – и явные нестыковки в их последовательности. Скажем, стихи об измене и «любовном треугольнике» появляются слишком рано (40–42), прежде сонетов, выражающих безграничное доверие к Другу, убежденность в его верности и честности:
Язычником меня ты не зови, Не называй кумиром божество. Пою я гимны, полные любви, Ему, о нем и только для него. (105)Тетрадки с сонетами (прошитые нитками на сгибе или не прошитые), по-видимому, бережно хранились адресатом. Маловероятно, что они были переплетены в один том; никто не знал, последняя ли это порция или Шекспир напишет еще. Много раз перечитывая сонеты наедине или в дружеской компании, владелец рукописи не мог не перепутать их порядка: тетрадок было, по-видимому, не меньше двадцати. Когда возникла нужда правильно их аранжировать для печатного издания – что за чем идет, – друг сделал это отчасти по памяти, отчасти по наитию. Интуиция подсказала ему, что сонеты, которые ближе к петраркистскому канону небесной любви, должны идти в начале, а антипетраркистские, говорящие о любви земной и грубой (среди них оказались и сонеты Смуглой леди) – ближе к концу.
Наряду с вопросом композиции цикла перед нами встает, как сейчас говорят, гендерный вопрос. Переводчикам «Сонетов» на русский язык он создает массу сложностей. Как писать: его или ее, забыл или забыла, виновен или виновна? Прямолинейно мыслящие переводчики, полностью доверяющие теории о двух частях цикла, посвященных соответственно Другу и Смуглой леди, решают дело просто, используя мужской род глаголов, прилагательных и местоимений во всех 126 сонетах первой части.
Но насколько основателен такой метод? Среди сонетов с 18-го по 126-й не так уж много имеющих грамматический «мужеский признак» в виде местоимений he или his. Остальные считаются обращенными к мужчине скорее по инерции. Точнее, тут действует прием монтажа, вполне аналогичный тому, что играет такую огромную роль в кино. Если мы видим искаженное лицо героя за рулем, а в следующем кадре – падающий в пропасть автомобиль, мы не сомневаемся, что герой погиб. Хотя «на самом деле» он мог ехать на сто метров позади автомобиля, попавшего в аварию, и только изумиться ужасной сцене.
Нечто аналогичное происходит у Шекспира в первой части «Сонетов». Если один сонет с очевидностью обращен к юноше (мужское местоимение присутствует), то следующий по порядку сонет мы автоматически считаем написанным от мужского лица. Хотя в действительности он может быть из другой тетрадки и относиться не к мужчине, а к женщине – хотя бы той же Смуглой леди (или какой-нибудь другой). Поэт ведь никому не обязывался всю жизнь воспевать одну даму. Ронсар пел Кассандру, потом Марию, потом Елену – и никто ему на то не пенял.
Афродита небесная и афродита пошлая
Хотя иные из сонетов первой части вполне могли иметь адресатом женщину, многие другие, несомненно, обращены к мужчине. Но и в них Шекспир говорит о своей любви к Другу с такой нежностью и пылом, который заставляет читателей и критиков насторожиться.
При этом большая часть шекспировских сонетов, если судить беспристрастно, являет собой то, что на современном жаргоне называется unisex. Примет пола в них нет. А если одна такая примета один-единственный раз грубо выпирает в сонете 20, – то лишь затем, чтобы сразу же быть вынесенной за скобки.
В отношениях Автора и его Друга, как они описаны с 18 по 127 сонет, кажется, нет ничего чувственного. И в то же время это не просто дружба и не пресловутый «примат дружбы над любовью» в ренессансную эпоху, который любят упоминать критики. Здесь именно любовь, но такого типа, которую современному читателю нелегко себе представить. Это любовь мужчины к юноше, которая у неоплатонических мыслителей Возрождения почиталась выше любви к женщине. Так утверждал, например, знаменитый философ-гуманист Марсилио Фичино (1433–1499), который повлиял на поэзию Эдмунда Спенсера и, как считают некоторые исследователи, и на самого Шекспира. В своем «Комментарии к „Пиру“ Платона» Фичино писал, что любовь по сути своей горько-сладостна: она горька потому, что любящий умирает для себя, чтобы жить в другом и для другого. «Всякий раз, когда два человека охвачены взаимной любовью, они живут один в другом. Эти люди поочередно превращаются один в другого, и каждый отдает себя другому, получая его взамен»[63]. Этот поэтико-философский концепт лежит в основе целого ряда сонетов Шекспира, например:
(36) Признаюсь я, что двое мы с тобой, Хотя в любви мы существо одно. Я не хочу, чтоб мой порок любой На честь твою ложился, как пятно… (39) О, как тебе хвалу я воспою, Когда с тобой одно мы существо? Нельзя же славить красоту свою, Нельзя хвалить себя же самого…Второе свойство любви, о котором говорит Фичино, это стремление к красоте. Любовь, в сущности, и есть желание наслаждаться красотой. Красота тела, равно как и души, постигается зрением, а также слухом и умом; осязанием красота не постигается, потому-то истинно любящему не следует касаться предмета своей любви.
Кстати, знаменитая эпиграмма, приписываемая Платону и обращенная к юноше, сосредоточена на одном лишь любовании, на драматическом пересечении линий зрения:
В небо, на звезды глядишь ты, звезда моя. Стать бы мне небом, Чтоб мириадами глаз мог я смотреть на тебя.[64]«Желание осязать не является ни частью любви, ни чувством любящего, но есть лишь вид необузданности и смятение рабской души. Кроме того, свет и красоту души мы воспринимаем только умом. А потому тот, кто постигает красоту души, довольствуется только умозрением»[65]. Вся первая часть «Сонетов», посвященных Другу, кажется утверждением и развитием этой мысли. Из пяти человеческих чувств (five senses) здесь всецело доминирует зрение.
Отметим, что во второй части, посвященной Смуглой леди, важную роль играет музыка; в этом есть символический смысл: музыкальные инструменты на картинах позднего Возрождения часто являются атрибутом чувственности и соблазна.
Но продолжим цитату из Фичино: «Наконец, между любящими происходит обмен красотой. Муж наслаждается лицезрением красоты своего любовника. Юноша умом постигает красоту зрелого мужа»[66].
Сонеты 22 и 37 буквально иллюстрируют этот обмен:
(22) Лгут зеркала, – какой же я старик! Я молодость твою делю с тобою. Но если дни избороздят твой лик, Я буду знать, что побежден судьбою. Как в зеркало, глядясь в твои черты, Я самому себе кажусь моложе. Мне молодое сердце даришь ты, И я тебе свое вручаю тоже. Как радует отца на склоне дней Наследников отвага молодая, Так правдою и славою твоей Любуюсь я, бесславно увядая. (37) Великодушье, знатность, красота, И острый ум, и сила, и здоровье – Едва ль не каждая твоя черта Передается мне с твоей любовью.Таким образом, если посмотреть на «Сонеты» сквозь призму трактата Фичино, то книга Шекспира окажется как бы комментарием к его «Комментарию». Одновременно иллюстрацией и доказательством тезисов Фичино, причем в первой части – прямым доказательством, а во второй части – доказательством от противного.
Античные авторитеты итальянских гуманистов Сократ и Платон говорили еще определенней о разнице между любовью к мужчине и женщине. В платоновском «Пире» Павсаний напоминает слушателям, что существует не одна Афродита, а две – Афродита Урания и Афродита Пандемос, то есть Афродита Небесная и Афродита Пошлая (общедоступная). Поклонения философов достойна лишь одна из них, и одна ведет к познанию высшей Красоты. Заурядные люди способны любить лишь пошлой и низменной любовью, причем женщин они любят не меньше, чем юношей. «Эрот же Афродиты небесной восходит к богине, которая, во-первых, причастна только к мужскому началу, но никак не к женскому, – недаром это любовь к юношам, – а, во-вторых, старше и чужда преступной дерзости»[67].
Обратите внимание на последние слова, характеризующие платоническую любовь у Фичино: «чужда преступной дерзости». Не знаю, как это по-гречески, но по смыслу это именно то чувство, которое питает Автор к своему юному Другу.
Сонеты Шекспира, датируемые шекспироведами примерно 1592–1595 годами (хотя некоторые из них могли появиться позже) писались, как мы видим, под явным влиянием философии неоплатонизма. Известно, что «Комментарий к “Пиру” Платона» был первой книгой Марсилио Фичино, переведенной на английский язык. Сами диалоги Платона, переведенные Фичино на латынь, были к тому времени давно доступны образованным англичанам. При этом необязательно, что Шекспир сам усердно изучал Платона и трактаты итальянских гуманистов; он мог получить их идеи из вторых рук – для гения этого достаточно[68].
Итак, не житейская история о том, как друг отбил невесту у поэта, и не лирический дневник, в который автор заносит свои дневные впечатления и раздумья, а аллегорический рассказ об Афродите небесной и Афродите пошлой – вот основа и план задуманного Шекспиром сюжетного цикла.
Точно так же, как «Королева фей» – не приключенческий роман, а грандиозная аллегория, прославляющая королеву во всех ее ипостасях – целомудренной красоты, девы-воительницы, средоточия мудрости и т. д.
Так же, как «Астрофил и Стелла» Филипа Сидни – отнюдь не дневник влюбленного (каким он представляется неискушенному читателю), а аллегорическое повествование о восхождении любящего по ступеням любви, надежды и страдания к духовному совершенству, к высшей Истине и Красоте. Сам Сидни подчеркивал, что реальность – лишь предлог для поэзии, что «искусство мастера заключено в Идее – прообразе его труда». Он подчеркивает, что поэтом движет именно Идея, и от воображения зависит совершенство творимого им[69].
Перипетии сюжета, угадываемые в «Сонетах» Шекспира, лишь канва для аллегории, чей смысл утаен от взглядов обыкновенного читателя, но открыт взору избранных философов и истинных влюбленных.
СОСНА И ПАЛЬМА
Роберт Фрост сказал однажды, что поэзия начинается с удовольствия, а кончается мудростью.
Ту же формулу можно применить к любви, о которой рассказывают нам «Сонеты» Шекспира. Она начинается с восхищения красотой, проходит всё, что суждено пройти любви: сомнения, размолвки, разлуки, обиды, печали, примирения – и заканчивается обретением – если не мудрости, то более глубокого постижения себя и мира.
Мы не знаем, какое отношение имеют сонеты к биографическим обстоятельствам Шекспира. А если бы и «знали», то лишь попали бы в капкан к этому знанию. Потому что связь между творчеством и стихами в тысячу раз сложнее, чем мы предполагаем. Эта связь непроницаема для постороннего взгляда, она не до конца понятна даже самому автору: любое стихотворение содержит в себе опыт всей жизни поэта.
Интонация шекспировских сонетов столь доверительна, тон так верно взят, что кажется, поэт исповедуется перед нами в самом своем заветном, сокровенном. Однако встречаются и такие сонеты, автор которых как будто решает какую-то риторическую или метафорическую задачу и его главная цель – свести концы с концами. Тут неустранимое противоречие; и недаром Уильям Вордсворт пишет, что в сонетах Шекспир «открыл нам свое сердце», но в другом месте тот же Вордсворт отзывался о них иначе:
«Их главные недостатки – однообразие, скучность, вычурность и нарочитая темнота».
Вордсворту вторит один из влиятельнейших критиков той эпохи, Уильям Хэзлит:
«Если бы Шекспир не написал бы ничего, кроме сонетов ‹…›, он был бы помещен в разряд холодных, искусственных писателей, не обладающих ни настоящим чувством природы, ни подлинной страстью».
В чем же тут дело? Думаю, точнее всех сказал двадцатидвухлетний Джон Китс в письме другу:
«Одна из трех книг, которые сейчас со мной, – стихотворения Шекспира: никогда раньше я не находил столько красоты в его сонетах – они полны прекрасного, сказанного как бы нечаянно – по ходу вымучивания очередного концепта[70] (Китс – Рейнольдсу, 22 ноября 1817 г.».
Китс (во многом ученик Шекспира, но зрячий и проницательный) схватывает суть дела. Искусство писать сонеты в XVI веке сводилось к искусству придумывать сложные поэтические ходы или метафоры (концепты; по-итальянски: кончетти). Даже не придумывать, поскольку к тому времени всё уже было придумано, – а выбрать из общего «депо метафор» ту, что подходит к случаю, и обработать ее под себя. Это отчасти похоже на древнерусскую традицию иконописи: за границы канона не выйдешь, зато можно проявить свою индивидуальность на уровне исполнения. Романтики (Вордсворт, Хэзлит и другие), которые выступали против всех литературных канонов и условностей, конечно, отвергали искусственность традиционного сонета, все эти приемы, которые казались им (и действительно были) ходульными и безнадежно заезженными. Но в том-то и дело, что гениальный художник, работая внутри канона, непреднамеренно – «нечаянно», как говорит Китс, – творит прекрасное и очень личное: то, что отличает работу Шекспира (или, скажем, Андрея Рублева) от их современников.
Как мы уже отмечали, гендерный вопрос для «Сонетов» второстепенный. Задача Шекспира – описать трудный путь истинной любви-восхождения и противопоставить ее вульгарной и общедоступной плотской любви. Поскольку идея такого противопоставления восходит к Платону, то Шекспир представил ее в классическом платоновском виде – как любовь зрелого мужа (vir) к прекрасному юноше (adulesens или ephebus). Известно, что однополая любовь такого типа была институционализирована в некоторых древнегреческих обществах, в частности в Спарте и Фивах. Целью этого установления было, по-видимому, свести до минимума количество внебрачных детей и внебрачных связей женщин.
Эта прагматическая цель, однако, не имела прямого отношения к концепции возвышенной любви, развиваемой Сократом и другими философами его круга. Но интересно, что если мы посмотрим с этой точки зрения на композицию шекспировского цикла, то мнение о чрезмерной длине вступительной серии сонетов, ее несоразмерности и неуместности приходится пересмотреть. Эти семнадцать сонетов оказываются достаточно веским тезисом, помещенным в начале, который в дальнейшем должен быть уравновешен и пересилен не менее веским антитезисом.
Вступительные сонеты увещевают: вступи в брак и оставь потомство, чтобы твоя красота не погибла, но возродилась в твоем сыне. Однако, согласно Платону и Фичино, сей способ продолжиться во времени общедоступен, а значит, низок и вульгарен. Он доступен и рабу, и плебею. Для избранных существует другой путь – восхождение к идеалу небесной любви (в этом и состоит антитезис). В прекрасных стихах влюбленного поэта юность и красота обретают бессмертие.
А раз так, по-новому освещается и странное выражение из Предисловия издателя – the only begetter. Загадка разрешается неожиданно просто. Становится ясным, что оно не случайно и никак не может быть заменено синонимами типа «вдохновитель» (inspirer) или «добытчик» (provider). Смысл этого выражения таков: чтобы сохранить для вечности красоту, нужно зачать отпрыска (beget an offspring), но тут есть два пути: можно зачать его в лоне женщины, а можно – в мозгу поэта. В первом случае это будет бренное дитя, сын или дочь, во втором – бессмертные стихи. Второй путь, несомненно, благородней и возвышенней, но он доступен немногим.
Гендерные обстоятельства в «Сонетах» Шекспира малосущественны. В платонической любви общаются души, а не тела. Правда, Джон Донн полагал, что одно другому не помеха:
Внимая монологу двух, И вы влюбленные, поймете, Как мало предается дух, Когда мы предаемся плоти[71].Такая была у Донна планида – сомневаться и вышучивать любую философию[72], а также, если попадется под руку, и священную историю. Но я бы сейчас хотел, оставаясь на той самой неоплатонической точке, привести один пример из русской литературы.
В 1841 году М.ю. Лермонтов перевел стихотворение Генриха Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam» из сборника «Книга песен» (1827).
На Севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна, И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она. И снится ей всё, что в пустыне далекой, В том крае, где солнца восход, Одна и грустна на утесе горючем Прекрасная пальма растет.Тут есть лингвистическая проблема. Ein Fichtenbaum (сосна) в немецком языке мужского рода, а у переводчика «сосна» – женского. Не случайно вскоре появились другие переводы. Тютчев заменил сосну на кедр («На севере мрачном, на дикой скале / Кедр одинокий под снегом белеет…»), Фет – на дуб («На севере дуб одинокий / Стоит на пригорке крутом…»). И в том, и в другом случае восстанавливая правильную гендерную ситуацию[73].
Еще радикальней поступил И. Суриков, заменив не только сосну на дуб, но пальму – на рябину, и увеличив число куплетов с двух до пяти:
– что шумишь, качаясь, Тонкая рябина, Низко наклоняясь Головою к тыну? …… – Как бы я желала К дубу перебраться; Я б тогда не стала Гнуться да качаться. (1864)Написанное под знаком Музы Пандемос, окончательно русифицированное, стихотворение Сурикова сразу стало народной песней. Потеряв при этом нечто важное, что присутствовало у Гейне и что в переводе Лермонтова только подчеркивалось «гендерным сдвигом».
Важно не то, что «кедр» по-немецки мужского рода, а «пальма» женского. «Душа» – хоть по-русски, хоть по-немецки – женщина. Психея, Душенька. Anima, animula.
В том-то и штука, что у Гейне (и у Лермонтова) не парень с девкой разлучены – душа томится по родной душе.
«И снится ей всё, что в пустыне далекой…».
Лермонтов лишь навел на резкость стихотворение Гейне.
Odi et amo
«И ненавижу ее и люблю». Эти слова Катулла можно было бы поставить эпиграфом к стихам о Смуглой леди. Считается, что если любовь к Другу – благородная и возвышенная, то любовь Автора к этой самой Леди – чувственная и грешная.
Впрочем, у Шекспира это не так однозначно. Образ Смуглой леди, как он предстает перед нами в сонете 127 (о глазах Дамы):
«Но так идет им черная фата, / Что красотою стала чернота», – или в сонете 128 (об игре дамы на лютне): «Но если счастье выпало струне, Отдай ты руки ей, а губы – мне!» – или в сонете 132 (опять, как в 127-м, о глазах Дамы): «Люблю твои глаза. Они меня, / Забытого, жалеют непритворно», – представляется в тонах скорее мягкости и сострадания, чем жестокости.
С другой стороны, намного больше таких сонетов, в которых Смуглая леди изображается как вместилище всех пороков. Надменности (131), измены и предательства (133), корысти и властолюбия (134), распутства и похоти (135, 137), лживости и коварства (138, 140), гневливости и двоедушия (142). Особняком стоит популярный сонет 130 («Ее глаза на звезды не похожи…»), который приводят как пример отхода от традиции Петрарки и расхожих приемов сонетописания. В данном случае, положим, что так. Но еще больше в шекспировском цикле примеров следования традиции и заимствования многократно использованных идей.
Скажем, два сонета о черных глазах (127 и 132), которые выражают траур по несчастным дурнушкам или отвергнутым влюбленным, представляют собой варианты уже избитой темы; сравните, например, с сонетом Филипа Сидни о черных глазах Стеллы:
И чудо совершила красота, И Красота отвергла суесловье, И засияла звездно чернота, Рожденная Искусством и Любовью, Прикрыв от света траурной фатой Всех тех, кто отдал кровь Любви святой[74].Сонет 133, начинающийся словами:
Будь проклята душа, что истерзала Меня и друга прихотью измен, –вновь играет с метафорой обмена сердец между влюбленными, образами любовной темницы, стража и залога.
Даже сами проклятия и обличения во всевозможных черных пороках не является чем-то новым. Они присутствуют уже у Катулла, который чередует счастливые мечты о взаимной любви:
Будем, Лесбия жить, любя друга. Пусть ворчат старики, что нам их ропот?[75] –с безудержными проклятиями неверной возлюбленной:
Со своими пусть кобелями дружит, По три сотни их обнимает сразу, Никого душой не любя, но печень Каждому руша![76]Впрочем, не надо ходить за примерами столь далеко. Тот же Филип Сидни, которого называли «английским Петраркой», этот преданно влюбленный в Стеллу «пилигрим любви», посередине утонченных сонетов вдруг разражается Песнью пятой, в которой обрушивает на Стеллу лавину от строфы к строфе все более тяжких обвинений: воровка, убийца, тиранка, бунтовщица, предательница, ведьма и даже более того:
Но ведьмам иногда раскаяться дано. Увы! мне худшее поведать суждено: Ты – дьявол, говорю, в одежде серафима. Твой лик от божьих врат отречься мне велит, Отказ ввергает в ад и душу мне палит, Лукавый дьявол ты, соблазн необоримый!Конечно, Сидни нагромождает эти потоки обвинений, чтобы под конец вывернуться: дескать, это я от избытка чувств, и все мои хулы – на самом деле, хвалы. Но слово не воробей; разбойница, убийца, тиранка лютая, исчадье темноты, предательница, бес – всё это уже произнесено вслух, вылетело из измученной груди влюбленного.
Не то ли самое происходит у Шекспира? – он ведь тоже сначала обвиняет, а потом оправдывается и объясняет:
Всё, что вражду питало бы в другом, Питает нежность у меня в груди. Люблю я то, что все клянут кругом, Но ты меня со всеми не суди. (150)В общем, то же самое: все мои обвинения – от избытка любви!
Так что не стоит рисовать образ Смуглой леди одними черными красками; это поистине катулловское «odi et amo» – или, может быть, новейшая придворная галантность в духе Катулла и сэра Филипа Сидни.
Много было сказано об антипетраркизме шекспировских сонетов. Мол, Шекспир – это позднее Возрождение, когда истое поклонение Прекрасной Даме вышло из употребления и на смену ему пришла мода передразнивания и выворачивания наизнанку высокого стиля. Как будто направления в искусстве следуют друг за другом степенно, как верблюды в караване. На самом деле, антипетраркистская манера, с нарочитым резким снижением стиля не моложе, а старше петраркизма. Она связана со средневековой карнавальной культурой, традиции которой никогда не прерывались. Как вы думаете: когда написан сонет вот с таким заключительным секстетом? –
Меня женили. Стало мне привычно Внимать супруги богоданной вой; До Неба звезд восходит голос зычно. Как тысяча громов, он надо мной Рокочет. Тот, кто женится вторично, – Простак, глупее каши полбяной[77].Это сонет Чекко Анджольери, Италия, XIII век. Антипетраркизм за сто лет до Петрарки.
Бегом за курицей
Пора подвести итог нашим заметкам и рассуждениям. Гипотеза о том, что сонеты писались Шекспиром как лирический дневник – от случая к случаю, без всякого дальнего умысла, представляется мне маловероятной. Сам сонет – настолько умышленная форма, требующая от каждой строки подчинения генеральному чертежу, что представить писание большой группы сонетов без обдуманной цели почти невозможно. Тут внутренняя структура диктует внешнюю; кристалличность на микроуровне определяет кристаллическую форму целого. Это первое.
Несомненно, что внешнюю форму, в которую оформился замысел Шекспира, можно описать как любовно-психологический роман. Фабула его («любовный треугольник») прослеживается пунктирно и, возможно, читалась бы яснее, не будь некоторые части целого (предполагаемые «тетрадки») частично перепутаны.
Первый английский любовно-психологический роман в прозе сочинил Джордж Гаскойн, которого мы уже упоминали. Его роман, замаскированный под перевод с итальянского и названный «Приятная повесть о Фердинандо Джероними и Леоноре де Валаско» (1575), повествует о юном кавалере, влюбившемся в замужнюю даму Леонору. Кроме главных персонажей в повести действуют еще благородная Фрэнсис, влюбленная в Фердинандо, а также муж Леоноры (ничем, кроме страсти к охоте, себя не проявивший) и безобразный, но ловкий и удачливый секретарь Леоноры, главный соперник Фердинандо. Вставные стихи (по большей части, сонеты) – психологические узлы повествования, ведущие читателя от первых страхов и надежд влюбленности – через все перипетии страсти – к горечи измены и цинического «опровержения» любви:
Что ж! блажью женской я по горло сыт, Пора безумцу протрезветь немножко; Пословица, ты знаешь, говорит: И лучшая из кошек – только кошка.Сюжет «Повести», по-видимому, допускал аллегорическое (в неоплатоническом духе) истолкование, в котором Леонора являет собой Венеру Земную, а леди Фрэнсис – Венеру Небесную. Предназначенный в женихи леди Фрэнсис, Фердинандо выбирает своей госпожой леди Леонору и в результате попадает в ад ревности и невыносимых мучений.
Если число сонетов, включенных автором в повествование, увеличить на порядок, а прозаические места сократить до коротких связок, жанр романа Гаскойна приблизится к «Сонетам» Шекспира. Здесь тоже есть любовный треугольник и тоже просматривается неоплатонический план, но герои Шекспира остаются инкогнито. Их принято именовать Автор, Друг и Смуглая (или Темная) леди. Бинарные связи (стороны треугольника) между этими героями таковы:
А ↔ Др = возвышенная любовь и усмиренная ревность;
А ↔ СЛ = соблазн, измена и раскаяние;
Д ↔ СЛ = искушение и тайная связь.
В сонетах первой части отражены отношения между Автором и Другом, соответствующие платоническому идеалу, как он прочерчен в «Пире» Платона и в «Комментарии к “Пиру”» Марсилио Фичино. Совпадения текста сонетов с «Комментарием» порой почти буквальные. Во второй части «Сонетов» изображены противоречивые отношения между Автором и Смуглой леди. Характерно, что если в первой части шекспировского цикла, во всех его ста с лишним сонетах, из чувств восприятия почти безраздельно господствует зрение, то едва на сцене появляется Смуглая леди, возникают прикосновения (категорически запрещенные Фичино): «ласки нежных рук» и прочее, возникают сладкая речь и музыка, а также запахи («тело пахнет так, как пахнет тело»!), в общем – настоящий «праздник слуха, зренья, осязанья» (141).
Страсть, которая связывает Автора со Смуглой леди, – та самая чувственная, плотская любовь, которую, увы, Леди дарит не только Автору, – недаром он сравнивает ее с проезжим двором или с бухтой, где бросают якорь многие корабли (137).
Отметим, что если в первой части «Сонетов» чувствуется влияние Марсилио Фичино, то во второй части вполне возможно влияние другого великого итальянского гуманиста, поклонника Фичино и пропагандиста идей Коперника и Галилея – Джордано Бруно (1548–1600). В годы своих вынужденных скитаний Бруно провел около трех лет в Англии, где подружился с Филипом Сидни и посвятил ему несколько своих сочинений, в том числе книгу «О героическом энтузиазме», изданную в Лондоне в 1585 году. Шекспир вполне мог ее читать: во-первых, человеку, знающему латынь, научиться читать по-итальянски совсем легко[78], а во-вторых, книга состояла из сонетов с комментариями (наподобие дантовой «Vita nuova») и уже этим одним могла привлечь внимание Шекспира[79].
Джордано Бруно. Гравюра неизвестного художника.
«О героическом энтузиазме» – поэтический трактат о смысле человеческой жизни, который для благородных душ заключается в стремлении к возвышенной любви, в поиске и отстаивании истины. В пространном введении, обращенном к «превосходному и просвещенному кавалеру, синьору Филиппо Сиднео» Бруно со всем пылом отдается яростному отрицанию расхожего любовного жанра и вообще погони за женскими милостями и плотскими удовольствиями.
Он пишет: «Поистине только низкий, грубый и грязный ум может устремляться в своем зудящем любопытстве и непрестанно виться мыслями вокруг да около красоты женского тела. Боже милостивый! Для чистого сердца и неразвращенных глаз есть ли зрелище более презренное и недостойное, чем человек, погруженный в меланхолию и угрюмство, страдания и муки, тоску и печаль, готовый попеременно бледнеть, краснеть, холодеть, пылать, трястись от лихорадки, смущаться и робеть, наглеть и бесноваться, – короче говоря, истощать все соки своего мозга, тратить самые зрелые свои годы и лучшие силы лишь на то, чтобы обдумывать, описывать и запечатлевать на белых листах те беспрерывные муки, те тяжкие страдания, те неотступные думы, те томительные мысли и горчайшие усилия, которые отдаются в тиранию недостойному, глупому, безумному и гадкому свинству?»
Сравните:
(129) Издержки духа и стыда растрата Вот сладострастье в действии. Оно Безжалостно, коварно, бесновато, Жестоко, грубо, ярости полно.Нет, истинная любовь не творит себе идолов, говорит Джордано Бруно; предмет нашего восхищения – лишь повод, лишь коррелят того высокого чувства, о котором «нет нужды говорить с теми, кто его изведал, и бесполезно объяснять всем прочим»[80].
Джордано Бруно, конечно, мистик, одержимый одной трансцендентальной страстью к Идеалу. Кстати, традиционное название его книги «О героическом энтузиазме» неточно, а после всех советских аллюзий, прилепившихся к этому слову («Марш энтузиастов» и прочее), тем более неверно. Furore по-итальянски «ярость», «одержимость», так что название De gl’heroici furori лучше перевести «О героизме одержимых» или «О героической одержимости».
Бруно – однодум, не знающий никаких компромиссов. «Всякая любовь, – заявляет он, – если она героическая, а не чисто животная, именуемая плотской и подчиненная полу как орудию природы, стремится к божественной красоте, которая прежде всего проникает в души и в них расцветает, а от них переходит или, лучше сказать, сообщается телам; потому-то благородная любовь ценит телесную красоту лишь как проявление красоты духа».
Все сонеты Джордано Бруно посвящены этой высокой Любви – и собственному упорству в служении этой Любви, непреклонности в тех «мучениях без перемен», в том непрестанном пламени, который его сжигал (так что костер он себе напророчил не раз и не два, а много раз в своей прозе и стихах). Несмотря на разнообразие мифологических и прочих образов, которыми насыщены его сонеты, они все-таки однообразны, ибо представляют в разных нарядах одну и ту же мысль. Автор и сам это понимал. Перечтем, например, сонет 38:
Есть время сеять, время – собирать; Ломать – и строить; плакать и смеяться; Трудиться – и безделью предаваться; Держать – и двигать; бегать – и лежать; Есть время класть – и время поднимать; Целить – и ранить; ждать и устремляться; Меня ж за мигом миг, за годом год Любовь пытает, дыбит, ранит, жжет. Она, ярясь, мне сокрушает члены, Она меня ввергает, как палач, Из стонов в стоны и из плача в плач; И нет моим мученьям перемены, И их однообразный ход Ни роздыха, ни смерти не дает[81].В сравнении с сонетами Джордано Бруно достоинства шекспировских «Сонетов» выступают рельефней. Они и впрямь похожи на «рассыпанную повесть» (по слову Маршака), а еще больше – на пьесу, что неудивительно. Драматург сказывается и в выборе главных героев, и в психологических нюансах, и в политическом фоне, и в подборе второстепенных персонажей (поэты-соперники), и в умелой оттяжке кульминации, говоря по-сегодняшнему, в «саспенсе».
Но самое главное – Шекспир гибок и неоднозначен. Нельзя сказать, что в выборе между высокой платонической любовью и плотской страстью он четко взял сторону платонической любви и заклеймил все чувственные увлечения (как это сделал Джордано Бруно – см. выше). Нет, он умудряется, как боги у Гомера, сражаться за тех и за других одновременно[82].
Он полон снисхождения и благоволения к своим героям (Автор – тоже один из них). Он вновь и вновь клеймит ложь и обман, но тут же готов признать, что «перед лаской искушенных жен / Сын женщины едва ли устоит» (41). Он «подозревает» своего Друга не в эгоизме, а в чрезмерном великодушии («А он из бесконечной доброты / Готов остаться у тебя в закладе», 134). Он готов допустить, что его коварная Леди больше уже не смотрит на него лишь из милосердия, зная разящую силу своих взглядов (139). Он готов терпеть ее жестокое ярмо как справедливое наказанья за свои грехи (141, 142). Он рад этому наказанию («В своем несчастье одному я рад, Что ты мой грех и ты – мой вечный ад»). Он просит у нее жалости – зная, что не допросится.
И вдруг, в самом драматическом месте, после многих горьких слов и признаний – он вдруг смешит нас, рисуя сценку, где и он сам, и его любимая предстают в комическом, пародийном виде. Она – в виде хозяйки, погнавшейся за курицей, он – в виде зареванного малыша, оставшегося у крыльца. И развеселив читателя появлением этой суетливой хозяйки и ее пернатой любимицы (her feather’d creature), заканчивает неожиданной и трогательной просьбой: «Когда поймаешь, кого тебе нужно, вернись ко мне, утешь меня как мать, поцелуй…»
But if thou catch thy hope, turn back to me, And play the mother’s part, kiss me, be kind. (143, 11–12)«Нередко для того, чтобы поймать…»
Нередко для того, чтобы поймать Шальную курицу иль петуха, Ребенка наземь опускает мать, К его мольбам и жалобам глуха, И тщетно гонится за беглецом, Который, шею вытянув вперед И трепеща перед ее лицом, Передохнуть хозяйке не дает. Так ты меня оставила, мой друг, Гонясь за тем, что убегает прочь. Я, как дитя, ищу тебя вокруг, Зову тебя, терзаясь день и ночь. Скорей мечту крылатую лови И возвратись к покинутой любви.Талант драматурга не дремлет, он знает, как юмор может подчеркнуть патетику и трагедию. Его художественный инстинкт подсказывает, что наличие в картине простодушной твари Божьей – собаки, кошки, лошади – может заземлить патетику – и одновременно придать ей еще один выспренний импульс. Коротко говоря, он в совершенстве владеет искусством контраста. Кто бы сомневался!
И здесь еще раз хочется задать вопрос, насколько автобиографичны «Сонеты». Привязать их крепко-накрепко к жизни Шекспира, найти прототипов его героев – вокруг этого хлопотали целые сонмы угадчиков и фантазеров. На роль Смуглой леди предлагались, например, Мэри Фиттон и Эмилия Ланьер. По какой причине? Главным образом по той, что о них мы кое-что знаем. Не об их знакомстве с Шекспиром, а вообще. Это очень напоминает логику полицейского, который, расследуя квартирную кражу, арестовывает двух первых попавшихся женщин. Проверяет их документы и говорит:
– Вот видите, они живут в этом районе. Это подозрительно.
– А какие улики? Почему не кто-либо другой?
– Да ведь других у нас нет. А эти вот попались, голубушки!
Разумеется, в сонетах Шекспира много личного чувства, глубоко пережитого опыта. Но как этот опыт претворяется в художественных произведениях, вопрос другой. Разве нет глубоко личного, искреннего чувства в монологах Гамлета? Или Отелло? Или Лира? Да кого угодно из его персонажей, не исключая женщин. Помните, что отвечал Флобер на вопрос о прототипе мадам Бовари: «Мадам Бовари – это я». Так и Шекспир живет – сам! – в Катарине, в Корделии, в Клеопатре, в Джульетте. Да что там – даже в Кормилице Джульетты.
Так что же – Шекспир все придумал? Ну, вот опять Вы, читатель, бросаетесь в другую крайность. Истина, по-видимому, лежит посередине.
«Сонеты Шекспира, – писал А. А. Аникст, – следует рассматривать, прежде всего, как произведения поэзии. В какой мере в них отразились личные переживания Шекспира, судить трудно. Есть сонеты, в которых ощущаются непосредственные чувства автора. Но Шекспир – гениальный поэт, и мы можем обмануться, считая, что он исповедуется перед нами, когда на самом деле он выражает не столько свои, сколько общечеловеческие чувства»[83].
Была ли у Шекспира «история с треугольником» такого накала, какой запечатлен в его сонетах, мы не знаем. Но известно, что в 1596 году он потерял своего единственного сына – одиннадцатилетнего Гамнета, на которого он возлагал большие надежды. И ни одного слова в стихах – ни сонета, ни элегии.
Бен Джон в аналогичном горе написал известные стихи: «Прощай, сынок! Немилосердный рок / Мне словно руку правую отсек…».
А Шекспир – ничего. Тишина.
Такой характер говорит о боязни публичности, о целомудренной скрытности харак тера – может быть, застенчивости. Говорить напрямую устами своих персонажей – другое дело. Быть собою, одев чужую маску, – пожа луйста.
Заключение
Никакое рассуждение о сонетах не может претендовать на статус окончательной истины. Всякое литературоведческое исследование – лишь попытка реконструкции, не более. От нее требуется только одно: быть качественней, чем ее конкуренты. Количественно эта качественность проявляется в том, что она дает ответы на большее число вопросов. Истолкований может быть сколько угодно, но это не значит, что все они равно ценны. Демократии здесь не место. Задача критика в том, чтобы выстроить теории в иерархическом порядке по степени их убедительности.
Не отрицая глубокой лиричности шекспировских сонетов (по крайней мере, многих из них), мы все же полагаем, что, взятые как целое, они – скорее результат обдуманного замысла, чем вольный поэтический дневник. Что не исключает, конечно, множества конкретных импульсов, из которых рождались те или другие сонеты.
Сравнение с «Повестью» Гаскойна дает нам некий фон и литературную перспективу. Исследователи не сомневаются, что толчком и материалом для гаскойновского сюжета мог послужить реальный опыт, но о прямой биографичности в данном случае речи нет. Безусловно, главную скрипку в «Повести» играет воображение, преобразовавшее личный опыт в факт литературы. Вполне вероятно, что Гаскойну случалось ухаживать за замужней женщиной и даже наставлять рога ее супругу. Так же несомненно, что Шекспиру доводилось (и не раз) искренне восхищаться красотой и блеском юного аристократа, образованного и просвещенного. Но больше этого о биографичности как «Повести» Гаскойна, так и шекспировских «Сонетов» мы ничего не знаем и знать не можем.
Современная критика, пишет Элен Вендлер, слишком часто подходит к «Сонетам» с точки зрения социологии, психоанализа и так далее. «Она склонна прочитывать их как некие биографические признания, психологический роман или драму, упуская из виду, что стихи – это прежде всего слова и что в лирической поэзии именно слова – главные актеры и действующие лица»[84]. Вполне соглашаясь с мнением авторитетного критика, мы только хотим добавить, что книга сонетов – нечто большее, чем отдельный сонет, и у великого поэта она не может быть случайной суммой лирических импульсов.
И в «Повести» Гаскойна, и в «Сонетах» Шекспира есть важный аллегорический и символический аспект. Аллегоричность – это та именно черта культуры Возрождения, которая унаследована ею от средневековой эпохи, и зачастую новые, гуманистические идеи облекаются в эти привычные формы. Что же касается психологических аспектов, то мы нередко забываем, что психологизм – порождение XIX века, чуждое ренессансной культуре.
Автор в присутствии Любви небесной и Любви земной – вот, на наш взгляд, общий замысел и содержание «Сонетов» Шекспира. Такой взгляд несколько удаляет их от сегодняшнего читателя, зато приближает к его современникам, например к Джону Донну, автору «Песен и сонетов». Не только читателей, но и литературоведов удивляла странная чересполосица стихотворений Донна: высокие платонические гимны любви перемежаются у него с грубыми и даже издевательскими стихами. Английский литературовед Элен Гарднер в свое время выдвинула гипотезу, что эти грубые и пародийные стихи Донн писал в молодости, а как женился и остепенился, стал писать стихи высокоморальные, без насмешек и скабрезностей. Так она выстроила знаменитое оксфордское издание песен и сонетов, разделив их, по своему разумению, на два раздела[85]. Подобный взгляд логичен, но не учитывает существенной амбивалентности сознания автора елизаветинской эпохи. В том-то и дело, что стихи pro и contra могли писаться Донном практически одновременно, «прение» Венеры небесной и Венеры земной происходило в сознании поэта непрерывно, оно-то и придавало особую метафизическую остроту хвалам и хулам поэта.
Такое же «приятное разнообразие» или «пестрота» (poikilia) обнаруживается и в «маленькой книжечке» Катулла, – что, как указывает М. Л. Гаспаров[86], в те времена было обычной литературной модой. Эта «пестрота», безусловно, соответствует внутренней драматичности, амбивалентности поэзии Катулла. То же самое можно сказать и о Джоне Донне. В сонетах Шекспира мы прикасаемся к самому нерву той сложной, противоречивой эпохи.
Шекспир – современник Донна, и не случайно многие составители помещают его стихи в антологии метафизической поэзии. Шекспировские драмы для народного театра могли развлекать и ужасать, давать зрителю полезные уроки. Но «Сонеты» с самого начала были обращены к более узкому и взыскательному кругу читателей. Если они претендовали на нечто большее, чем быть изящными безделушками, то должны были заключать в себе матрицы высших аллегорических и символических смыслов.
Это, как нам кажется, снимает вопрос о биографичности сонетов Шекспира или, по крайней мере, переводит его в план приятных мечтаний, для которых нет никакой положительной основы. Смиримся же и оставим праздные догадки.
Надгробный памятник Шекспиру. Церковь Св. Троицы, Стратфорд-на-Эвоне. До 1623 г.
Тем более, что сам автор не рекомендовал нам этим заниматься. На каменной плите в стратфордской церкви вырезаны слова:
Добрый друг, ради Иисуса Не вздумай выкапывать погребенные здесь кости. Благословен тот, кто пощадит эти камни, И будь проклят тот, кто потревожит мой прах.По-английски так:
Good friend, for Jesus’ sake forbear To dig the dust enclosed here. Blest be the man who spares these stones, And cursed be he that moves my bones.Уильям шекСпир (1564–1616)
Два сонета о поэте-сопернике
(83) Не надобно прикрас для красоты – Румян и пудры всякой лести вздорной; В сравненьи с тем, чего достоит ты, Ничтожна лепта славы стихотворной. Я и во сне тягаться не мечтал С певцами – мастерами лицемерья: Воистину высок предмет похвал И слишком куцы нынешние перья. Ты счел мое молчание виной? – О нет, в заслугу мне должно вмениться, Что я замкнул уста, – пока иной Сулит бессмертье, а творит гробницу. Один твой взгляд живее, милый друг, Всех наших поэтических потуг! (86) Его ль стихов раздутых паруса Меня великолепием сразили, Дум смелых заглушили голоса И в гроб их колыбель преобразили? Его ли духу, что с духами привык Общаться, к вечной приобщаясь Музе, Сковал проклятьем бедный мой язык? Увы – ни он, ни те, что с ним в союзе. Пока его дурачит гость ночной Любезною и вкрадчивой беседой, Я нем не от восторга, – надо мной Они не могут хвастаться победой. Пока тебя он славит, я молчу: Петь хором не могу и не хочу.Сэр Джон Дэвис (1569–1626)
Получил образование в Оксфорде, занимался юридической практикой в Лондоне. Занимал должность Верховного прокурора Ирландии (1606–1619). Его «Гимны Астрее» (1599) воспевают королеву Елизавету (Астрею) в двадцати шести изысканных акростихах. Ученая поэзия сэра Джона Дэвиса выделяется на фоне бесчисленных сонетистов 1590-х годов, которых он пародировал в своих «дурацких сонетах» (‘gulling sonnets’). Наибольший интерес в наследии Дэвиса представляют философские поэмы: «Орхестра» (1596), описывающая мир как танец, и «Nosce Teipsum» (1599) – поэтический диспут о бессмертии души (название переводится как «Познай самого себя», латинский вариант греческого изречения).
Тщетность познания. Иллюстрация к стихам сэра Джона Дэвиса. Джон Даусон Уотсон, 1862 г.
Спор о бессмертии (Из поэмы «Nosce Teipsum»)
Хоть разум наш строптив – и до сих пор Спор о бессмертье средь людей не стих, Сам этот о вещах бессмертных спор Бессмертие доказывает их. Способность рассуждать о нем – залог Того, что мы бессмертье обретем: Будь смертен человек, он бы не смог Бессмертное постичь своим умом. Ведь мысли человека – зеркала; Как те, что в комнатах у нас висят, Творенья матерьяльного стекла Нематерьяльных форм не отразят, – Так, если в наших мыслях отражен Бог истинный и сонм небесных сил, Бессмертен Разум наш – иначе б он Бессмертных образов не отразил. Когда бы, например, постигнул скот, Что значит разум, он и сам бы стал Разумным, – ибо только тот поймет Полет, кто сам когда-нибудь летал. Когда Душа, в сомненьях трепеща, Взмывает на крылах своих в зенит, Она сама – бессмертия праща, Пусть доказать совсем иное мнит. Одна лишь мысль о вечном – в тот же миг Способна унести в такую высь, Куда телесный, бренный наш двойник Не смеет и в мечтаньях унестись.По ту сторону чуда, Или мятежный 66-й
Пастернак перевел всего три сонета Шекспира, два из них – до войны, в 1938 году. Непосредственным поводом для перевода была «Антология английской поэзии», которую составлял С. Маршак. Составление затягивалось, а после заключения пакта Молотова – Риббентропа, когда Германия сделалась другом СССР, а Англия – врагом, издание такой антологии стало невозможным[87]. Впрочем, 73-й сонет был опубликован в том же 1938 году в журнале «Новый Мир», № 8 (вместе с двумя песенками из шекспировских пьес), сонет 66 – двумя годами позже в журнале «Молодая гвардия», № 5–6 (1940).
У 74-го сонета другая история. Он был выполнен в 1953 году по просьбе Григория Козинцева для театральной постановки «Гамлета» и напечатан посмертно в 1975 году. Существенно то, что 66 и 73 сонеты переводились до появления сонетов Шекспира в переводе Маршака, а сонет 74 – после, и хотя, как пишет Пастернак Козинцеву, «без мысли о соперничестве», но определенно с мыслью сделать точнее, ближе к оригиналу, особенно в начале и в концовке. Цитирую из того же письма: «Глыбы камня, могильного креста и двух последних строчек С. Я.: черепков разбитого ковша и вина души в подлиннике нет и в помине».
Этими сведениями об истории переводов Пастернака я ограничусь и обращусь к текстам. Начну с шестьдесят шестого сонета. На тот момент (1938 год) существовало несколько дореволюционных переводов, среди которых можно отметить, пожалуй, лишь перевод Владимира Бенедиктова, в котором местами узнается пафос переводчика «Пира победителей» Барбье.
Я жизнью утомлен, и смерть – моя мечта. что вижу я кругом? Насмешками покрыта, Проголодалась честь, в изгнанье правота, Корысть – прославлена, неправда – знаменита. Где добродетели святая красота? Пошла в распутный дом: ей нет иного сбыта!.. А сила где была последняя – и та Среди слепой грозы параличом разбита. Искусство сметено со сцены помелом: Безумье кафедрой владеет. Праздник адский! Добро ограблено разбойническим злом; На истину давно надет колпак дурацкий. Хотел бы умереть; но друга моего Мне в этом мире жаль оставить одного.Кроме того, имелся новый перевод Осипа Румера:
Я смерть зову, глядеть не в силах боле, Как гибнет в нищете достойный муж, А негодяй живет в красе и холе; Как топчется доверье чистых душ, Как целомудрию грозят позором, Как почести мерзавцам воздают, Как сила никнет перед наглым взором, Как всюду в жизни торжествует плут, Как над искусством произвол глумится, Как правит недомыслие умом, Как в лапах Зла мучительно томится Все то, что называем мы Добром. Когда б не ты, любовь моя, давно бы Искал я отдыха под сенью гроба.В целом, это вполне достойный перевод. Сомнение вызывают лишь строки 11–12: «лапы Зла» какие-то мелодраматические, «мучительно томится» – масло масленое, и какой резон, кроме накрутки лишних слогов, в этой словесной параболе: «Всё то, что называем мы Добром» (вместо просто «добра»)? Да и последние две строки слабоваты: в оригинале сонет кончается угрозой разлуки: „Save that, to die, I leave my love alone“, а у Румера – «отдыхом под сенью гроба».
Перевод С. Маршака был сделан значительно позже, в 1947 году. Увы, в нем не задалось буквально всё – от первой строки «Я смерть зову. Мне видеть невтерпеж…» – до последней: «Но как тебя оставить, милый друг?». И «невтерпеж», и «мерзостно», и «милый друг» – речения, которых именно в этом контексте лучше было избежать, и уж совсем какофонией звучит сочетание их в одном сонете.
Здесь я хочу решительно отстраниться от критиков, свирепо нападающих на Маршака, отвергающих его Шекспира вообще. Среди них не только переводчики, одарившие мир собственными вариантами сонетов и, естественно, заинтересованные в посрамлении знаменитого конкурента. Есть и другие – в том числе, например, юрий Карабчиевский, – честные и тонкие, говорящие массу верных вещей, но склонные при этом к слишком резким обобщениям[88].
Приведу, однако, отзыв одного из лучших критиков русского зарубежья, строгого и беспристрастного Владимира Вейдле, который в 1960 году в Париже писал о сонетах Шекспира в переводе Маршака: «Все они переведены прекрасно, и совершенно однородным образом. Поэтику Шекспира переводчик упростил, но никакого насилия над ней не произвел; сохранил главное, пожертвовал сравнительно второстепенным. Русский же его поэтический язык, необыкновенно гибкий, остается всегда естественным и проявляет певучую плавность, которую никак не смешаешь с безличной гладкостью. Переведен им Шекспир, хоть и менее счастливо, чем им же переведенный Бёрнс, но позволительно все-таки сказать – как нельзя лучше. Большего требовать – по сю сторону чуда – нельзя»[89].
В целом, я согласен с этой оценкой. Однако в большой работе абсолютной ровности достигнуть невозможно, неизбежно что-то выйдет лучше, что-то хуже, – это закон. И приходится только сожалеть, что в замечательной работе Маршака таким неудачным местом (по сути, провалом) стал 66-й сонет – знаменитый Шестьдесят Шестой.
В эпоху сталинской деспотии это стихотворение звучало, по меньшей мере, вызывающе[90]. Вообразим себе: на дворе тот самый 1938 год. Трудно представить себе лучшую акустику для этих четырнадцати шекспировских строк. И Пастернак не упустил случая высказаться в полный голос против окружающей его «злобы дня»:
Измучась всем, я умереть хочу. Тоска смотреть, как мается бедняк, И как шутя живется богачу, И доверять, и попадать впросак, И наблюдать, как наглость лезет в свет, И честь девичья катится ко дну, И знать, что ходу совершенствам нет, И видеть мощь у немощи в плену, И вспоминать, что мысли заткнут рот, И разум сносит глупости хулу, И прямодушье простотой слывет, И доброта прислуживает злу. Измучась всем, не стал бы жить и дня, Да другу трудно будет без меня.Первое, на что обращаешь внимание, – динамизм, мощный накат строк. Ни в оригинале, ни в одном из других переводов нет такого количества глаголов, как у Пастернака; целых 19 на 14 строк (не считая деепричастий и причастий)!
Во-вторых, важно, что, в отличие от перевода Осипа Румера, также построенного на глаголах, здесь анафорой, то есть повторяющимся союзом, сшивающей строки сонета в единое целое, служит не громоздкое «как», а более легкое и динамичное «и», придающее тексту оттенок библейской пророческой риторики.
В-третьих, сравнивая перевод с оригиналом, легко заметить, что одно английское слово to behold («видеть») расщепляется в переводе на пять. Если прочесть русский сонет по инфинитивам, образующим его грамматический каркас, получится: «Тоска смотреть… и наблюдать… и знать… и видеть… и вспоминать…». Этот выверенный ряд глаголов, относящихся к наречию «тоска», раз за разом обновляет свежесть восприятия, варьируя его психологический оттенок.
Но самой оригинальной чертой, отличающей перевод Пастернака от других переводов того же сонета, является необычная густота просторечных оборотов и идиом. «Тоска смотреть», «мается», «попадать впросак», «лезет в свет», «катится ко дну», «ходу нет», «заткнуть рот», «слывет» и так далее. Здесь уже, как у Крылова, стирается грань между использованием народного речения и созданием нового. Я имею в виду, например, такие отчеканенные формулы, просящиеся в словарь поговорок, как «прямодушье простотой слывет», «доброта прислуживает злу».
Этим густым поговорочно-просторечным языком достигается удивительный эффект. Приговор времени выносится не от лица поэта как одной выделенной индивидуальности, но словно от имени самого народа, носителя языка, от имени выразившихся в языке народного опыта, народного нравственного инстинкта. Это, конечно, «толстовское» в Пастернаке, это главная триада его зрелого творчества: язык – народ – совесть.
Неповторимый стиль Пастернака, узнаваемость его переводов – то, что часто ставят ему в вину. «По когтям узнают льва». Эти «когти» Пастернака – сила и органичность его переводных стихов, их полнозвучие и укорененность – не в литературном, очищенном, а в великорусском, «далевском» языке.
Прочтем пастернаковский перевод 73-го сонета.
То время года видишь ты во мне, Когда из листьев редко где какой, Дрожа, желтеет в веток голизне, А птичий свист везде сменил покой. Во мне ты видишь бледный край небес, Где от заката памятка одна, И, постепенно взявши перевес, Их опечатывает темнота. Во мне ты видишь то сгоранье пня, Когда зола, что пламенем была, Становится могилою огня, А то, что грело, изошло дотла. И, это видя, помни: нет цены Свиданьям, дни которых сочтены.По-английски начало звучит так:
That time of year in me thou mayst behold, When yellow leaves, or none, or few, do hang…Тут у Шекспира как бы раздумье вслух: «Когда желтые листья – если они там есть – или остатки листьев…» – сквозь условность сонетного жанра прорывается живая интонация, косноязычное, мучительное рождение фразы. Кто, кроме Пастернака, мог это так перевести? «Когда из листьев редко где какой…» При всей элементарности и естественности этого выражения – «редко где какой» – оно ведь впервые вовлечено в стихи! Во всей русской поэзии его не сыщешь. И как точно это соответствует стиху Шекспира: «When yellow leaves, or none, or few…»
Или вот эти строки: «Во мне ты видишь бледный край небес, / Где от заката памятка одна…» След заката – след ожога – назван интимным, «женским» словом: «памятка», и эта, как сказали бы англичане, understatement (недомолвка), делает свое дело: укол оказывается сильнее удара копьем.
Невозможно объяснить, что совершает Пастернак в своих переводах, но его работы пробивают сердечную корку читателя до самых артезианских глубин. Происходит то, чего, по выражению Вейдле, нельзя требовать «по сю сторону чуда». Потому что это уже по ту сторону чуда.
В заключение хочу высказаться по поводу одной теоретической ошибки, которая снова и снова повторяется в критике переводов. Замечательный переводчик В. Левик, разбирая переводы шекспировских пьес, приходит к выводу, что Пастернак «изменил стиль Шекспира». Интересно, что к Маршаку – антиподу Пастернака в переводе – предъявляется в точности такое же обвинение: «Сонеты Шекспира в переводах Маршака – это перевод не только с языка на язык, но и со стиля на стиль» (М. Л. Гаспаров). В обоих случаях подразумевается, что стиль оригинального автора – это такая вещь, которую можно автоматически перенести с английского на русский. На самом деле, это не так. Поэтический стиль оригинального автора тесно связан с его материнским, родным языком – краткостью или долготой слов, флективностью или аналитичностью грамматического строя, наличием тех или иных лексических пластов и другими факторами. Воспроизвести его в другом языке невозможно. Можно лишь уловить главные инварианты стиля автора и постараться их сохранить в переводе. Но стиль как таковой каждый раз нужно заново создавать в родном языке. Так что перевод всегда есть «перевод со стиля на стиль». Здесь не вина переводчика, а осознанная необходимость.
Приведем пример. Концовка сонета 73 по-английски: «This thou perceivest, which makes thy love more strong, / To love that well which thou must leave ere long». Буквально: «Ты видишь это, и это делает твою любовь сильней, дабы любить то, что ты должен (должна) вскоре покинуть». Этот сухой, «логический» синтаксис естественен для английского языка, но не для русского. Переводчик обосновано «изменяет стиль», находя его русский эквивалент, способный выразить то же движение души: «И, это видя, помни: нет цены / Свиданьям, дни которых сочтены». Мудрость Пастернака-переводчика в том, что, даже меняя слова и синтаксис, он сохраняет грустную логику-арифметику оригинала, вводя в текст бухгалтерские мотивы «цены» и «счета». Стиль изменен, но поэтическая суть осталась той же.
Аналогичный пример – концовка следующего сонета 74: «The worth of that is that which it contains, And that is this, and this with thee remains». В буквальном переводе: «Ценность этого в том, что оно содержит, а оно есть вот это самое, и это остается с тобой». Опять та же игра в схоластику. Стиль, воспроизвести который по-русски нельзя, он чужд строю русского поэтического языка. Пастернак и здесь ближе всех к духу и стилю оригинала: «А ценно было только то одно, / Что и теперь тебе посвящено». Даже шекспировское перетаптывание на одних и тех же словах (that повторяется три раза в двух строках, this – два раза) не пропало, но отразилось в звукосмысловых повторах перевода: «только то одно», «что и теперь тебе посвящено».
Пушкин писал, что следить за мыслью гения – есть уже высокое наслаждение. Читать гениального писателя в переводе другого писателя того же масштаба значит следовать за двойной нитью мысли – автора и переводчика – нитью, переплетенной, перевитой, как хромосома.
Переведенное стихотворение есть дитя, у него двойная наследственность. Как это происходит? Переводчик смотрит на красоту оригинала, влюбляется в него – и по закону страсти, по закону неизбежного Эроса, стремится им овладеть. Рождается стихотворение, в котором мы с умилением узнаем черты обоих родителей. Иногда говорят: переводчика не должно быть видно, он должен стать прозрачным стеклом. Но дети не рождаются от прозрачных родителей; чтобы зачать ребенка, нужны создания из плоти и крови.
Приложение
Sonnet 66
Tired with all these, for restful death I cry: As to behold desert a beggar born, And needy nothing trimmed in jollity, And purest faith unhappily forsworn, And gilded honour shamefully misplaced, And maiden virtue rudely strumpeted, And right perfection wrongfully disgraced, And strength by limping sway disabled, And art made tongue-tied by authority, And folly (doctor-like) controlling skill, And simple truth miscalled simplicity, And captive good attending captain ill: Tired with all these, from these would I be gone, Save that, to die, I leave my love alone.Sonnet 73
That time of year thou mayst in me behold When yellow leaves, or none, or few, do hang Upon those boughs which shake against the cold, Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang. In me thou seest the twilight of such day As after sunset fadeth in the west, Which by and by black night doth take away, Death’s second self, that seals up all in rest. In me thou seest the glowing of such fire That on the ashes of his youth doth lie, As the death-bed whereon it must expire, Consumed with that which it was nourished by. This thou perceiv’st, which makes thy love more strong, To love that well which thou must leave ere long.Томас Бастард (1566–1618)
Томас Бастард закончил Оксфордский университет, где принял сан священника, был талантливым проповедником и одно время капелланом графа Саффолкского. Первая его публикация – стихотворение в сборнике элегий на смерть Филипа Сидни. Свою единственную книгу эпиграмм «Chrestoleros», остроумных и меланхолических, Бастард опубликовал в 1598 году. Говорят, что под конец жизни он сошел с ума и окончил свою жизнь в долговой тюрьме в Дорчестере.
Лепечущий малыш
Смешно и мило слушать, как дитя Над первым слогом трудится кряхтя. Старается неловкая ракетка Отбросить звук – но слабо и не метко. Там язычок, толкаясь в нежный свод, Никак опоры должной не найдет. Курок дает осечку за осечкой; И наконец – срывается словечко, Смешно оскальзываясь на ходу, – Как будто человек идет по льду.Песочные часы
Песочные часы привел я в ход, Чтоб знать, как время за трудом течет. Мне размышлялось туго, еле-еле… Не то чтоб мысли все оцепенели, Но как улитки медленно ползли, Не в силах оторваться от земли. Лишь время даром время не теряло: Я глянул – часа будто не бывало. Поток песчинок за стеклом бежал И в каждый миг меня опережал. Стой, время, переменимся ролями: Ты школяром побудь, а я часами. Погнись, пока я буду праздно жить И временем крупитчатым сорить. Беги, беги, песок неугомонный! Что мне часы! ведь я батрак поденный.О предмете моих стихов
Мир малый, избранный моею Музой, Необозримей девственных чащоб: Тот, кто связался с этакой обузой, Заблудится средь лабиринта троп. Как зыбки эти сумерки! Как странны Сплетения извилистых путей! Какие смутные мрачат туманы Дерзнувшего изображать людей! Легко писать земли портрет парадный Или рисовать июльский небосклон, Чей лик, то дымно тусклый, то отрадный, И в смене чувств порядку подчинен; Но как явить мне облик человечий В смешенье дум, в игре противоречий?О веке нынешнем
Князей, господ кругом – как никогда, А рыцарства не сыщешь и следа. Как никогда кругом домов богатых, Но корки не дождешься в тех палатах. Как никогда друзьями полон свет.О наследии отцовском
Рачительность отцов нам сберегла Мир в целости, за малым лишь изъятьем. Увы, мы промотали все дотла; Чем нас помянут сыновья? – Проклятьем. Мы истощили сок земли живой, Засеяли бесплодьем наши нивы; Леса и рощи, пышные листвой, Теперь сквозят, клочкасты и плешивы. Мы памятники прошлого смели, Разграбили сокровищницы храмов; И честь и слава – брошены в пыли. Что скажут сыновья, на это глянув? Мир обречен. Коль Бог не поспешит, Сама же тварь творенье сокрушит.Том из бедлама, перпендикулярный дурак[91]
Баллада, «выпавшая» из пьесы
Tom o’Bedlam, Том из Бедлама – персонаж, известный публике по трагедии Шекспира «Король Лир». Помните? Эдгар, сын графа Глостера, оклеветанный коварным братом Эдмундом, бежит из отцовского замка и, чтобы спастись от погони, решает прикинуться сумасшедшим бродягой Томом (в каковом образе и остается целых два акта). Кроме того, в антологиях английской поэзии часто публикуется анонимное стихотворение «Песня Тома из Бедлама», замечательный образец английской ренессансной баллады[92]. Есть ли какая-нибудь более тесная связь между стихотворением и трагедией? Роберт Грейвз еще в 1927 году высказал предположение, что связь прямая, то есть что баллада входила в пьесу и написана самим Шекспиром. При этом он считал, что место песни Тома сразу после монолога Эдгара в лесу (акт II, сцена 3). Питер Леви, современный английский поэт и критик, поддерживая, в целом, эту гипотезу (и даже помещая песню Тома в приложении к своей биографии Шекспира), высказывает мысль, что она могла исполняться в конце пьесы, как песня шута в комедии «Двенадцатая ночь»[93]. Дело вкуса, но я склоняюсь к варианту Роберта Грейвза. Сцена третья из второго акта – самая куцая во всей трагедии, она состоит из одного монолога. Объявляя о своем намерении перевоплотиться в Тома из Бедлама, Эдгар набрасывает в нескольких строках его внешний портрет; но публике этого может быть мало. Было бы вполне естественно, если после заключительных слов: «Edgar I nothing am» («Я больше не Эдгар!») Эдгар, перевоплотившись в беднягу Тома, спел бы его песню с эффектным, «жалостным» припевом. Напомним читателю монолог Эдгара и покажем, как он монтируется с анонимным стихотворением.
Итак, акт II, сцена 3.
Декорация – лес.
Входит Эдгар.
Эдгар. Я слышал приговор себе заочный И скрылся от погони здесь в дупле. Все гавани закрыты. Нет местечка, Где не расставлено мне западни. Я буду прятаться, пока удастся. Приму нарочно самый жалкий вид Из всех, к каким людей приводит бедность, Почти что превращая их в зверей. Лицо измажу грязью, обмотаюсь Куском холста, взъерошу волоса И полуголым выйду в непогоду Навстречу вихрю. Я возьму пример С бродяг и полоумных из Бедлама. Они блуждают с воплями кругом, Себе втыкая в руки иглы, гвозди, Колючки розмарина и шипы, И, наводя своим обличьем ужас, Сбирают подаянья в деревнях, На мельницах, в усадьбах и овчарнях, Где плача, где грозясь. Какой-нибудь «Несчастный Том» еще ведь значит что-то, А я, Эдгар, не значу ничего[94].(Уходит.)
Здесь и могла исполняться «Песня Тома из Бедлама»:
От безумных буйных бесов, И от сглазу, и от порчи, От лесных страшил, от совиных крыл, От трясучки и от корчи – Сохрани вас ангел звездный, Надзиратель грозный неба, чтобы вы потом не брели, как Том, По дорогам, клянча хлеба. Так подайте хоть мне сухой ломоть, Хоть какой-нибудь одежки! Подойди, сестра, погляди – с утра Бедный Том не ел ни крошки.И так далее. По жанру это городская, комическая баллада (или песня). Замечателен в ней контраст тяжелого «систематического бреда» куплетов и трогательного, «давящего на жалость» припева: Том просит еды и одежки, он озяб и голоден. Отметим также смешение пародийной учености с простонародным языком и духом: скажем, Звезда Любви (Венера), наставляющая рожки Кузнецу (Гефесту), рядом со шлюхами и «хуторским дуболомом». На таких же контрастах построена и роль Тома из Бедлама в «Короле Лире»: бредовые обрывки учености вперемешку со строчками популярных песен, и, как рефрен, жалостные причитания-повторы: «По терновнику ветер холодный летит!» (III, 4, строки 45–45, 99–100), «Тому холодно», «Бедному Тому холодно» (III, 4, строки 58, 84, 150).
В целом, «Песня Тома из Бедлама», монолог сумасшедшего бродяги (или образованного человека, разыгрывающего роль сумасшедшего), прекрасно ложится в третью сцену второго акта и вообще в стиль и сюжет «Короля Лира». Могут возразить: пьеса и так чересчур длинна, а столь длинные номера неоправданно замедляют действие. Но это с нашей, сегодняшней точки зрения. Во времена же Шекспира публика, как правило, никуда не спешила, спектакли шли долго и еще раздувались всевозможными вставными номерами – придворными церемониями, комическими фарсами, фехтованием, потасовками, танцами и пением. К тому же, если пьеса готовилась к показу при дворе (о чем речь дальше), то, учитывая традицию придворных спектаклей-масок, основанных на музыке и живописных костюмах, такая вставка мне представляется вполне уместной. Но, прежде чем развивать эту тему, следует немного коснуться истории шекспировской трагедии.
Перелицовка с новым подкладом
Как известно, до шекспировского «Короля Лира» существовала другая пьеса на ту же тему, игравшаяся в Лондоне еще в начале 1590-х годов и вновь попавшая на сцену и напечатанная в 1605 году под названием «Правдивая повесть о короле Лире и его трех дочерях» (The True Chronicle of King Leir and his three daughters). Сюжет ее проще и прямолинейнее, чем у Шекспира, добрая дочь короля зовется Корделлой, а не Корделией, а о поэтическом стиле пьесы некоторое представление может дать нижеследующий отрывок.
Сцена XXIV. Лир, сопровождаемый верным Периллом, должен сейчас встретить Корделлу, переодетую крестьянкой. Он входит, еле волоча ноги и жалуясь, что «без подкрепленья» сейчас упадет.
Перилл Ах, господин, как я скорблю душой, Зря вас в таком несчастье и в нужде! О, коли впрямь вы любите меня Или достойным можете считать,[Он заворачивает свой рукав]
Вот плоть моя, в чьих жилах есть еще И кровь и доблесть, чтоб насытить вас. Поешьте, чтобы голод утолить, Смеясь от счастья, стану я смотреть, Как будете вы кровь мою хлебать. Лир Нет, я не каннибал, чтоб ярым ртом Вгрызаться жадно в человечью плоть. Не Сатана, иль хуже Сатаны, чтобы такого друга кровь хлебать. ‹…› Корделла что слышу я? Сей жалостливый глас Я, мнится мне, слыхала много раз. Лир Ах, Гонорилья, получив полцарства, Зачем ты хочешь жизнь мою отнять? Жестокая Регана, разве мало Тебе я дал, что крови алчешь ты? Ах, бедная Корделла, неужели Я обделил тебя уже навек? Предупреждаю всех – и стар и млад: Не доверяйте лести никогда. Девчонки злые, я прощаю вас, Хотя навряд ли небо вас простит. Но пред концом прощенья жажду я Моей Корделлы милой получить. И Бога, чье величье оскорбил Я преступленьями тысячекрат, И девочки моей, что я прогнал Вон от себя, когда льстецам внимал. И друга доброго, кого завел Я поневоле в сей злосчастный дол.Шекспир, по-видимому, отталкивался от этой старой пьесы (основанной, в свою очередь, на «Хрониках Холиншеда»), сочиняя своего «Короля Лира». Он значительно усложнил сюжет, введя в него параллельную линию Глостера и двух его сыновей. Он снял счастливую развязку, превратив мелодраматическую повесть в трагедию. Он ввел замечательную роль Шута. Мотив сумасшествия Лира – также полностью его изобретение. Наконец, он ввел роль «профессионального сумасшедшего» – Тома из Бедлама, которого играет оклеветанный и преследуемый законом Эдгар. Нас сейчас особенно интересуют три последних нововведения, в результате которых в пьесе появились Шут, Лир-сумасшедший и Том-сумасшедший. Три героя, объединенные тем, что у каждого из них, в определенном смысле, «не все дома».
Разумеется, это три дурака разного качества. Шут – дурак себе на уме. Он блажит нарочно, как ему положено по штату. Ни в зале, ни на сцене его ни на минуту не принимают за настоящего безумца.
Эдгар, наоборот, старательно симулирует безумие, убедительно «выгрывается» в образ бедного Тома. На сцене верят, что он сумасшедший, хотя в зале, конечно, нет.
Наконец, Лир сходит с ума взаправду, на наших глазах (по крайней мере, так принято думать). Его считают безумным и на сцене, и в зале.
Заметим, что это трио безумцев сходятся вместе во время бури (буря, кстати, тоже своего рода истерика природы) – в самом апогее трагедии.
Зачем Шекспиру в такой момент так много дураков – трое на одного нормального (Кента). Не перебор ли? Тут многое зависит от театральной моды и вкусов публики. Безумие, по самой своей природе, феномен двойного действия – одновременно жалостный и смешной, смешной и страшный. Чрезвычайно эффектный на сцене (если только общественная мораль не возбраняет смех над убогими). В эпоху Шекспира драматурги постоянно обращались к этому мотиву. Интерес к сумасшедшим использовали даже надзиратели соответствующих приютов, допуская «экскурсии» любопытной публики из богатых (оставлявших, по-видимому, какие-то деньги в пользу больных). Использовали его и сами больные, которых часто отпускали из приюта промыслить себе что-нибудь на пропитание, а также попрошайки-симулянты, умело разыгрывавшие сумасшествие ради милостыни.
Итак, при перелицовке старой пьесы Шекспир не только полностью изменил ее покрой, но и дал новую подкладку в пестрых шутовских цветах. Безусловно, он шел навстречу публике, вводя в свою пьесу безумцев и фарс (не говоря уже о том, что в составе шекспировской труппы были блестящие актеры-комики, которым, конечно, требовались выигрышные роли). Это отразилось и в титуле пьесы, опубликованной в ноябре 1607 года:
М. Уильям Шек-спир: /ЕГО /Правдивая Историческая Повесть о жизни и смерти Короля Лира и его трех /Дочерей. /С присовокуплением злополучной судьбы Эдгара, сына /и наследника Графа Глостера, и его /мрачных и притворных дурачеств под видом /Тома из Бедлама:/ Как она была играна перед Королевскими Величествами в Уайтхолле в канун дня /Св. Стефана на праздник Рождества. /Слугами его Величества, играющими обычно в Глобусе /на Бенксайде.
Что мы можем извлечь из этого названия? Во-первых, прямую отсылку к анонимной пьесе, опубликованной двумя годами раньше: здесь тоже «Правдивая историческая повесть» о том же самом короле Лире. Во-вторых, подчеркивается, что автор – Шекспир и это «ЕГО» сочинение. В-третьих, сообщается, как о новости, что Король Лир в финале погибает и рассказ пойдет о его «жизни и смерти» (в старой пьесе король оставался жив). Далее говорится, что сюжет расширен: присовокуплена история «Эдгара, сына и наследника графа Глостера». И, наконец, (что особенно интересно) уже в титуле пьесы рекламируются дурачества Тома из Бедлама. Можно заключить, что роль Тома из Бедлама была, по-видимому, одной из главных приманок пьесы. Весьма вероятно, что к тому времени уже существовала песня попрошайки Тома в своей первоначальной, народной версии, которую Шекспир – или другой поэт того времени – профессионально обработал.
Во всяком случае, в самом тексте трагедии есть прямое доказательство того, что Том из Бедлама был знаменит среди лондонской публики еще до шекспировской пьесы. Я имею в виду эпизод,
в котором впервые упоминается его имя. Это происходит во второй сцене первого акта.
Эдмунд. […] Вот идет Эдгар. Он является как нельзя более вовремя, подобно развязке в старинной комедии. Напущу на себя вздохи и меланхолию[95] вроде полоумного Тома из Бедлама.
Входит Эдгар.
Эдгар. Ну как, брат Эдмунд? Ты занят серьезными размышлениями?
Эдмунд. Я задумался, брат, над событиями, которые, как я читал, должны произойти вслед за недавними затмениями.
Эдгар. Вот ты чем занимаешься.
Эдмунд. Уверяю тебя, предсказания, о которых я прочел, к несчастью, сбываются. Извращаются отношения между детьми и родителями, наступает мор, дороговизна, всеобщая вражда. Государство раздирают междоусобицы, народ угрожает королю и знати, возникает подозрительность, друзья отправляются в изгнание, армия разваливается, супруги изменяют друг другу и прочая и прочая.
Эдгар. С каких пор ты записался в астрономы?
(I, 2, 146–163)
Упоминание «вздохов и меланхолии», которые напускает на себя Эдмунд, подразумевает логическую связь между многознанием и безумием: чрезмерные раздумья – меланхолия – безумие. Обратим внимание и на реплику Эдгара: «С каких пор ты записался в астрономы?» – астрономия занимает видное место в балладе о Томе-сумасшедшем.
Таким образом, задолго до того, как произойдет превращение Эдгара в Тома, образ сумасшедшего уже мелькнул на сцене. Причем, в ореоле, так сказать, «горя от ума»! Злодей прикидывается обличителем пороков – значит, с его точки зрения, меланхоликом и безумцем, вроде Тома из Бедлама. Это – важный штрих, обычно пропускаемый критиками «Короля Лира». Никто почему-то не обращает внимания, что роль Тома-сумасшедшего первым играет в «Короле Лире» не Эдгар, а его коварный брат Эдмунд!
Трагедия, игранная на святки
Взглянем снова на титульный лист: он сообщает, при каких обстоятельствах пьеса игралась при дворе. Спектакль давался на святки, точнее, в один из первых дней святок (день Святого Стефана – 26 декабря)[96]. Спектакли и маскарады устраивались ежедневно в течение двух праздничных недель между Рождеством и Крещением; точнее говоря, двенадцати дней: сравните с названием другой шекспировской пьесы, «Двенадцатая ночь, или Как вам угодно». Может быть, и «Король Лир» был написан специально для святок? Комментаторы пишут, что не опробованную пьесу вряд ли допустили бы пред светлые королевские очи. Но, с другой стороны, шекспировская труппа уже заработала себе прочную репутацию у короля: согласно подсчетам историков, при Елизавете спектакли этой труппы ставились при дворе в среднем четыре раза в год, а при Якове – четырнадцать раз в год. То есть при дворе знали, что «актеры короля» (таково было их официальное название) не подведут. Между прочим, увидеть нечто еще никем не виданное не менее лестно, чем уже расхваленный в городе спектакль.
Истинная история жизни и смерти короля Лира. Кварто 2008 г. Титульный лист
Было ли святочное представление премьерой пьесы или нет, мне кажется, что предновогодняя дата на ее титульном листе не случайна. В самом сюжете «Короля Лира» – в мотиве отречения короля и разделения его царства – можно увидеть древнейший обряд, связанный с празднованием Нового Года, – развенчание и похороны Старого Года.
Странность и резкость начала «Короля Лира» вызывали много недоумений. Почему король поступает так неразумно, поспешно, так опрометчиво? Но если учесть, что пьеса игралась в карнавальную ночь, ничего удивительного нет. Таков святочный обряд, таковы условия этого действа. В то же время король хочет сохранить за собой власть и после раздела царства – несбыточная, тщетная попытка Старого Года задержаться в новом. Не оттого ли так противоречива фигура короля Лира – ведь и сам карнавал по сути двусмыслен, противоречив. Поражение старика – зрелище и грустное, и смешное; с какой стороны посмотреть.
Мир трагедии и мир гротеска (как не раз уже было замечено) обладают сходной структурой. Они реагируют на одни и те же глубинные вопросы бытия, хотя дают по-видимости разные ответы. Существует огромная традиция дурацкой, вывороченной мудрости, от кинизма до русских юродивых; есть представление о священном безумии, переходящем в пророчество; но наряду с этим бытует и карнавальная традиция осмеяния ума, делающая грамотея и философа непременным персонажем кукольного театра, комедии дель арте, фаблио, и так далее. Все эти линии переплетены в дураках-философах Шекспира.
Двести лет критики спорят, с какого момента начинается безумие Лира и в чем именно оно состоит. Многие были убеждены, что Лир безумен с самого начала пьесы, что доказывается буквально всеми его поступками. Лев Толстой возмущался нелепостью первой сцены, когда король попадается на крючок лести, очевидной даже ребенку. Но еще Кольридж справедливо заметил, что сколь ни абсурдно решение Лира о разделе царства, оно уже существовало в народной легенде и тем самым принималось зрителями без доказательств; так что вопрос правдоподобия здесь неуместен[97]. Что касается дальнейших поступков короля, то они представляются вполне адекватными в данных обстоятельствах: как и говорить с бурей, если не стараться ее перекричать? Часто высказываемые Лиром опасения за свой рассудок: «Мне кажется, я сейчас свихнусь» (II, 2, 67), «О шут, я сойду с ума!» (II, 4, 228), и так далее – свидетельствуют скорей о самоконтроле, чем о шаткости сознания[98].
Более того, даже когда, по мнению большинства критиков, Лир уже действительно свихнулся, то есть начиная со сцены суда над табуретками (III, 6), – и тут никакого помрачения ума нет: король просто устал говорить с этим безумным миром на здравом языке. Он изгоняет разум как предателя и возводит в рыцарский сан дурачество. Недаром сумасшедшего Тома из Бедлама почтил он именем философа и избрал своим поводырем и собеседником: «О благородный философ!», «Я останусь со своим благородным философом!» (II, 4, 176, 180).
Если король Лир безумен, то лишь в одном – он бунтует против Естественного Порядка Вещей, монарха еще более могущественного, чем он сам, в свите которого – Старость, Телесный Ущерб, Уход Близких (не забудем о смерти королевы!), Страдание, Несправедливость и другие страшные великаны. Лир бунтует, хотя мог бы смириться и мирно плыть по течению – к чему его и склонял мудрый Шут.
Два горизонтальных дурака и один перпендикулярный
«Что благородней сердцем, – спрашивал Гамлет, – покоряться / Пращам и стрелам яростной судьбы / Иль, ополчась на море смут, сразить их / Противоборством?»
По Гамлету получается так: быть или не быть, или – или. Покориться или противоборствовать. На современном языке – конформизм или бунт. Одно из двух.
Но шутовское трио в «Короле Лире» воплощает не два, а три разных отношения к миру, три пафоса. Король безумен, потому что он восстает против непреложных законов природы: смерти Старого Года, неблагодарности детей и так далее: это благородный, трагический пафос.
Пафос Шута, наоборот, в трезвом видении жизни. Его шутки злы (потому что жизнь зла), а советы бесполезны: идеалисты вроде Лира и Кента им все равно не последуют, а циники (люди с нюхом) и так знают, в какую сторону ветер дует.
«Отходи в сторону, когда с горы катится большое колесо, чтобы оно не сломало тебе шею, но хватайся за него, когда оно поднимается в гору. Если мудрец даст тебе лучший совет, верни мне его обратно. Только мерзавцы следуют ему, раз дурак дает его», – говорит он Кенту (II, 4).
В четвертом акте, когда Шут исчезает со сцены, Лир на удивление перенимает его тон и стиль, даже советы начинает раздавать в том же духе:
Купи себе стеклянные глаза И делай вид, как негодяй политик, что видишь то, чего не видишь ты.Он становится так же безжалостен, как Шут, дразня Глостера, которого только что ослепили: «Твои глаза мне памятны. Что косишься на меня? Стреляй, Купидон с завязанными глазами! ‹…› Ого, вот оно что! Ни глаз во лбу, ни денег в кармане? В таком случае глаза у тебя в тяжелом положении, а карманы – в легком».
Английское слово mad имеет целый спектр значений – от «буйный, неистовый» до «слабоумный». Король Лир, когда он спорит с небом и судьбой, буен и неистов. В четвертом акте он уже не таков: его как бы развернуло бурей третьего акта, теперь и он стал подсвистывать жизни, как раньше его шут.
В любом случае, это лишь альтернатива: быть заодно с ходом вещей и миропорядком или восстать, плыть по течению или против. Неужели и впрямь – третьего не дано?
Есть такая головоломка: дано шесть спичек, надо построить из них четыре равносторонних треугольника со стороной, равной длине спички. Два первых треугольника строится быстро, на первый уходит три спички, на второй, смежный к нему, еще две; и вот остается последняя спичка – и приладить ее так, чтобы образовать еще два треугольника, нет никакой возможности. Кажется, что задачка не решаема, не так ли? Но решение существует, простое и неожиданное. Треугольная пирамида и есть искомая фигура с шестью ребрами и четырьмя треугольными гранями. Чтобы найти решение, надо мысленно освободиться от гипноза плоскости, «отвязаться» от нее.
Том из Бедлама – не с жизнью и не против жизни, он выходит в совершенно другое измерение. Он отвязался от плоскости, ушел от нее по перпендикуляру вверх. Это путь безумия – и поэзии.
Мадлен земная и мадлен небесная
В плоскости жизни ориентироваться легче. Человек кожей чует дующий ветер. И может выбирать, как к нему повернуться – грудью или спиной. С вертикалью труднее. Чтоб не заблудиться в третьем измерении, надо выбрать зримый ориентир. С незапамятных времен таким ориентиром для безумцев и для поэтов была Луна.
Роберт Грейвз в своей знаменитой книге «Белая богиня» (1948) утверждает, что Луна – единственная тема всех настоящих стихов.
Поэт – этот Тот, Кто Служит Луне. «Песню Тома из Бедлама» Грейвз отмечает, как одну из лучших баллад английского Возрождения, истинно «лунную» вещь.
Том, каким он предстает в балладе, и впрямь не просто безумец, но и поэт. Начать с того, что и помешался он от любви. В оригинале стихотворения называется имя: Мадлен (Магдалина). Впрочем, она была лишь толчком, отправившим его в странствие. Теперь у него совсем другая возлюбленная: «У меня Луна в подружках, обнимаюсь только с нею», – говорит Том.
Тут есть интересный нюанс. В эпоху Елизаветы поэты чрезвычайно много писали о ночном светиле. Под именем Дианы, богини Луны, они воспевали «королеву-девственницу». Эта было общим местом елизаветинской поэзии. Например:
Благословен отрадный блеск Дианы, Благословенны в сумраке ночей Ее роса, кропящая поляны, Магическая власть ее лучей. (Уолтер Рэли)«Песня Тома из Бедлама» – уже другая эпоха, якобианская. Классическая тема передразнивается, травестируется: «У меня Луна в подружках».
Роберт Грейвз в статье «Влюбленный Том-дурачок» делает попытку восстановить ту первоначальную (необработанную) песню нищих, что легла в основу «Тома из Бедлама». Ядром этой песни он считает образ свихнувшего от любви Тома, ищущего свою возлюбленную Мадлен – тема, вполне подходящая для смягчения сердец слушателей и раскрытия их кошельков. В качестве подтверждения Грейвз приводит «песню-ответ» безумной Мадлен из сборника XVII века Wit and Mirth (1699). Имя Мадлен, вероятно, намек на лондонский Приют Св. Магдалины, который был такого же рода заведением, как Бедлам, только для женщин.
Песня безумной Мадлен
Зовусь я дурочкой Мадлен, все подают мне корки; Хожу босой, чтобы росой не замочить опорки. Том от меня был без ума, а я была упряма; Зачем тебя отвергла я, мой Томми из Бедлама? С тех пор сама свихнулась я, нет повести нелепей; И плеткой стали бить меня, и заковали в цепи. Том от меня был без ума, а я была упряма; Зачем тебя отвергла я, мой Томми из Бедлама? Я этой палкой бью волков, когда гуляю лесом, Баловников сую в мешок и продаю их бесам. Том от меня был без ума, а я была упряма; Зачем тебя отвергла я, мой Томми из Бедлама? В рожке моем таится гром, великая в нем сила, А юбку я на небесах из радуги скроила. Том от меня был без ума, а я была упряма; Зачем тебя отвергла я, мой Томми из Бедлама?Итак, причина в женщине – Том обезумел от любви. Так же, как Антонио в пьесе Т. Мидлтона «Оборотень», который под видом слабоумного проникает в сумашедший дом, чтобы строить куры докторской жене. Он тоже, как дурачок Том, несет бред, украшенный цветами книжной учености. Наконец, в «Оборотне» есть сцена, когда жена доктора, Изабелла, сама наряжается сумасшедшей и возвращает ему любовные авансы – наподобие Безумной Мадлен. Казалась бы, пьеса Мидлтона – еще один возможный контекст для песни о «Бедном Томе»: здесь тоже образованный дворянин (Антонио) добровольно играет роль сумасшедшего – как Эдгар у Шекспира.
Но испанский колорит «Оборотня», кажется, меньше гармонирует с чисто английским колоритом баллады. Дурачка в пьесе зовут Тони, а не Том. К тому же, «Оборотень» написан в 1622 году, а баллада зафиксирована в рукописи около 1615-го. Так что Грейвз (хотя он, по-видимому, и упускает из виду «Оборотня») все-таки прав, подчеркивая, что вряд ли во всей английской ренессансной драме существует лучший контекст для песни Бедного Тома, чем «Король Лир». А то, что она не сохранилась в дошедшем до нас печатном тексте трагедии, может быть легко объяснимо – вставные номера не всегда попадали в театральные списки и в первую очередь выкидывались при редактуре. Выпал же из сводного издания 1623 года (шекспировского «фолио») «суд над табуретками» – самая поразительная трагикомическая сцена «Короля Лира»!
Впрочем, независимо от авторства, связь анонимной «Песни Тома из Бедлама» с трагедией Шекспира – прямая, и она придает интригующую подкладку (если только можно говорить о подкладке в применении к этому полуголому босяку) роли сумасшедшего Тома, сыгранной Эдгаром.
Третья дорога
Путь Тома-лунатика – улет из мира реальности. Любовь, безумие – лишь отделяющиеся части той многоступенчатой ракеты, с помощью которой он обрывает узы земного тяготения, отрывается от несчастий и забот.
Том в балладе – предводитель войска буйных фантазий. Он рыцарь с копьем наперевес, воюющий против призраков, его заветная мечта – принять участие в рыцарском турнире. Похоже на «Дон Кихота», не правда ли? Книга Сервантеса – тоже ведь карнавал, похороны Старого Года. Бедламский попрошайка – во многом сродни рыцарю из Ламанчи. В его песне драматизирована двойная жизнь воображения – ее вечная устремленность в зенит, ее низвержения в грубость и жестокость дольнего мира. «Я мудрее Аполлона», – гордо восклицает Том; и тут же вспоминает цепи и плетку, которой потчуют в сумасшедшем доме.
Оппозиция свободы и плена сопровождает оппозицию здравого смысла и безумия и в балладе и в «Короле Лире». В душераздирающей речи Лира, рисующей их взаимное с Корделией счастье в тюрьме, безумие уже неотличимо от мудрости:
…Нет, нет! Пускай нас отведут скорей в темницу. Там мы, как птицы в клетке, будем петь. Ты станешь под мое благословенье, Я на колени стану пред тобой, Моля прощенья. Так вдвоем и будем Жить, радоваться, песни распевать И сказки сказывать, и любоваться Порханьем пестрокрылых мотыльков. (V, 3)Занятия, вполне соответствующие слабоумному Тому из Бедлама – особенно в части распевания песен и любования мотыльками. Характерны они и для многих поэтов – иммигрантов в себя, на чью долю выпал железный век и какая-нибудь очередная тирания. Все равно – подлости или мелочности.
Родословная Тома из Бедлама – длинная и благородная линия поэтов и безумцев. От Дон Кихота, роман о котором Сервантес начал в тюрьме, а опубликовал (первую часть) в 1605-м – вероятно, в том же году, когда Шекспир писал «Короля Лира»[99]. Вплоть до русских поэтов-шутов, погибших в тюрьме: влюбчивого Олейникова, меланхолического Хармса, одержимого бесами Введенского.
Том-сумасшедший (Tom the Lunatic) в паре с Безумной Джейн появляются и у Йейтса – в позднем его цикле «как бы песен», названных соответствующе: «Слова, может быть, для музыки». У йейтсовского Тома ум за разум зашел по-своему, по особому. Если прислушаться к его бормотанью, выходит, что и молодость ушла, и старые друзья погибли лишь потому, что он не уследил, проморгал – и время передернуло карты. Лишь Божьи глаза никогда не сморгнут – значит, в Боге все сохранится. Аргументация, вполне подходящая для Великого Симпозиума в Степи, устроенного тремя шекспировскими дураками.
Том-сумасшедший
Вот что сказал мне Том-сумасшедший, В роще под елкой дом свой нашедший: «что меня с толку-разуму сбило? что замутило острый мой взгляд? что неизменный свет превратило Ясного неба – в копоть и чад? Хаддон и Даддон и Дэниэл О’Лири Бродят по миру, встречных мороча, Все бы им клянчить, пьянствовать или Стих покаянный всласть распевать. Эх, не сморгнули б старые очи – Век бы мне в саване их не видать! Все, что встает из соли и пыли: Зверь, человек ли, рыба иль птица, Конь и кобыла, волк и волчица – Взору всевидящему предстает В гордом своем полнокровье и силе: Верю, что Божий зрачок не сморгнет.Король Лир безумствовал против течения жизни. Шут блажил, чтобы развернуть его по течению. Безумие дурачка Тома перпендикулярно этому миру. Не зря оно так страшно и соблазнительно. Страшно для Лира, восклицающего: «Не дайте мне сойти с ума, о боги! / Пошлите сил, чтоб не сойти с ума!» (I, 5,) – но и соблазнительно, как в вышеприведенном монологе Лира, когда земная борьба кажется ему проигранной.
Страшно и соблазнительно оно и для Пушкина, чей сумасшедший в явном родстве с «Королем Лиром», а значит, и с Томом из Бедлама:
Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума; Нет, легче труд и глад. Не то, чтоб разумом моим Я дорожил; не то, чтоб с ним Расстаться был не рад: Когда б оставили меня На воле, как бы резво я Пустился в темный лес! Я пел бы в пламенном бреду, Я забывался бы в чаду Нестройных, чудных грез. …………. Да вот беда: сойди с ума, И страшен будешь как чума, Как раз тебя запрут, Посадят на цепь дурака И сквозь решетку как зверька Дразнить тебя придут.Тут все – и цепь, и чума, и «не дай мне Бог сойти с ума» – отзывается Шекспиром, ренессансной Англией. В момент кризиса, в момент усталости человек оказывается на перепутье трех дорог, и первая из них – покориться пращам и стрелам, вторая – оказать сопротивление.
Но есть и третья дорога – уводящая из плоскости жизненной борьбы. Туда, где можно облиться слезами над чистым вымыслом. Или, как у Шекспира, «и сказки сказывать, и любоваться порханьем пестрокрылых мотыльков». Обитель дальняя. Остров, где уединяется Просперо с Мирандой. Темница, где король Лир мечтает жить с Корделией…
Путь, освещенный Луной.
Соблазны воображения.
Соблазны Бедлама.
Анонимный автор
Песня Тома из Бедлама
От безумных буйных бесов, И от сглазу и от порчи, От лесных страшил, от совиных крыл, От трясучки и от корчи – Сохрани вас ангел звёздный, Надзиратель грозный неба, Чтобы вы потом не брели, как Том, По дорогам, клянча хлеба. Так подайте хоть мне сухой ломоть, Хоть какой-нибудь одежки! Подойди, сестра, погляди – с утра Бедный Том не ел ни крошки. Из двух дюжин лет я прожил Трижды десять в помраченье, А из тридцати сорок лет почти Пребывал я в заточенье – В том Бедламе окаянном За железною решеткой, Где несчастный люд без пощады бьют И от дури лечат плеткой. Так подайте хоть мне сухой ломоть, Хоть какой-нибудь одежки! Подойди, сестра, погляди – с утра Бедный Том не ел ни крошки. С той поры я стал бродягой – Нету повести плачевней, Мне дремучий бор – постоялый двор, Придорожный куст – харчевня. У меня Луна в подружках, Обнимаюсь только с нею; Кличет сыч в лесах, а не небесах Реют огненные Змеи. Так подайте хоть мне сухой ломоть, Хоть какой-нибудь одежки! Подойди, сестра, погляди – с утра Бедный Том не ел ни крошки. Я ночую на кладбище, Не боюсь я злого духа. Мне страшней стократ, коли невпопад Зарычит пустое брюхо. Девы нежные, не бойтесь Приласкать беднягу Тома – Он куда смирней и притом скромней Хуторского дуболома. Так подайте хоть мне сухой ломоть, Хоть какой-нибудь одежки! Подойди, сестра, погляди – с утра Бедный Том не ел ни крошки. Я веду фантазий войско Воевать моря и земли, На шальном коне я скачу во сне, Меч пылающий подъемля. Приглашение к турниру Мне прислала королева: До нее езды – три косых версты, За Луной свернуть налево. Так подайте хоть мне сухой ломоть, Хоть какой-нибудь одежки! Подойди, сестра, погляди – с утра Бедный Том не ел ни крошки.О «Короле Лире» Заметки переводчика
I
Существует мнение, которое часто выдается за аксиому, что переводы устаревают и каждые 50–70 лет должны заменяться на новые. Такое мнение кажется мне несправедливым. Плохие переводы действительно устаревают, причем не через пятьдесят лет, а уже на следующее утро. Но талантливые переводы не стареют, – наоборот, они покрываются благородной патиной времени. Если русские переводы Шекспира второй половины XIX века обветшали, то не из-за их «старины», но скорее потому, что время, когда они сделаны, было временем упадка поэтической культуры, передышки перед новым взлетом Серебряного века.
Король Лир. Иллюстрация Джона Гилберта, XIX в.
Лучшим переводом «Короля Лира» в XX веке был и остается пастернаковский. Он ярко окрашен личностью автора, но все истинные переводы таковы: не вложив своего, нельзя дать новую жизнь чужому. Шекспир был спутником Пастернака с молодости – не абстрактным «памятником литературы», а близким и своим, – тем, что можно твердить на ходу и применять к собственной жизни:
В тот день всю тебя, от гребенок до ног, Как трагик в провинции драму Шекспирову, Носил я с собою и знал назубок, Шатался по городу и репетировал.Уже в таких ранних стихотворениях Пастернака, как «Шекспир» и «Уроки английского», обнаруживается то самое интимное родство с темой, которое в дальнейшем так полно выразилось в его переводах.
II
Так вышло, что читать Шекспира меня научил не Пастернак и даже не Пушкин, а Джон Китс; в молодости я перевел его сонет «Садясь заново перечитывать “Короля Лира”». В нем поэт прощается с кумиром своей юности – сладкозвучным Спенсером, автором рыцарской поэмы «Королева фей», и обращается к открывшейся для него глубине и величию Шекспира:
О Лютня, что покой на сердце льет, Умолкни, скройся, дивная Сирена! Холодный ветер вырвался из плена, Рванул листы, захлопнул переплет. Теперь – прощай! Опять меня зовет Боренье Рока с Перстью вдохновенной; Дай мне сгореть, дай мне вкусить смиренно Сей горько-сладостный Шекспиров плод. О Вождь поэтов! И гонцы небес, Вы, облака над вещим Альбионом! Когда пройду я этот грозный лес, Не дайте мне блуждать в мечтанье сонном; Пускай, когда душа моя сгорит, Воспряну Фениксом и улечу в зенит![100]Постепенно – и не по чьему-то внушению, а по внутреннему предрасположению Шекспир сделался основанием и мерилом всех моих представлений об искусстве. Только у него «убийственный вздор» жизни и высокая поэзия соединились так таинственно и неразрывно. Перевести «Короля Лира» было моей давней, хотя и загнанной глубоко внутрь мечтой. Дело не только в том, что это означало бы так или иначе соперничать с Борисом Пастернаком (что для меня немыслимо), но и в самой пьесе, которую я всегда считал самой великой у Шекспира. Это порождало чувство дистанции, неодолимый переводческий барьер.
Перевод «Бури» еще больше придвинул меня к «Королю Лиру». Две эти вещи казались мне связанными, как части одного замысла. Центральный эпизод «Лира» – старый король в степи, при вспышках молний и раскатах грома заклинающий бурю уничтожить этот проклятый мир с рассеянными в нем семенами зла; но его призывы остаются воплями бессилья. В центре «Бури» тоже величавый старик, жертва коварства, но здесь – как будто сбылись желания Лира! – в руках Просперо жезл всевластья. Посланная волшебником буря топит корабль, на котором плывут его враги, и отдает их ему во власть. Но он не мстит – наоборот, всех прощает и, выбросив в море жезл и магические книги, возвращается в Милан, чтобы принять свою человеческую участь смертного. Я вновь ощутил импульс перевести «Короля Лира» и, может быть, напечатать две пьесы вместе как своего рода диптих, но и этот импульс угас без воплощения.
Дальше в дело вмешался случай. В одном детском издательстве возникла мысль сделать сокращенного Шекспира для младших школьников, в котором отрывки из пьес соединялись бы между собой прозаическим пересказом. Я согласился попробовать и довольно скоро изготовил такую «лоскутную» версию «Короля Лира». Изготовил, прочитал и убедился, что она никуда не годится. И тогда с той отчетливостью, которая дается только опытом собственной ошибки, я понял одну очевидную вещь: пьеса Шекспира есть драматическое произведение и в пересказе теряет то же, что теряют прекрасные стихи, – то есть почти всё. Сила ее не в том, что злые дочери обидели отца, а в том, что в «Короле Лире» сталкиваются два несовместимых мира, и это нельзя передать никак иначе, кроме как через диалог. Диалог, который то и дело оборачивается абсурдом. На сцене раз за разом происходит срыв коммуникации. Логические резоны дочерей не укладывается в голове Лира, а дочерям невдомек, как утративший власть отец может еще на что-то претендовать. На этом коммуникативном диссонансе построена вся трагедия.
Но, как это часто бывает, неуспех пересказа обернулся неожиданным следствием: я утратил страх перед пьесой. Наоборот, она сама стала затягивать меня. К счастью, у меня плохая память и, несколько раз перечитав пьесу по-английски, я уже ни строчки не помнил из ее русского текста. В общем, я решил поддаться порыву и довести свой перевод до конца, а уж потом сравнить его с пастернаковским. Я был готов к тому, что сравнение заставит меня забраковать свою работу и расписаться в неудаче. Но вышло иначе; перевод был закончен, но сбрасывать свое детище с Тарпейской скалы мне расхотелось. К тому времени я сумел уговорить себя, что каждое поколение имеет право заново перечитать классика и новые переводы – как новые платья: чем их больше в гардеробе королевы, тем лучше.
III
Тут уместно вспомнить, в каких жестких условиях создавался перевод Пастернака. Во-первых, плотность работы. За одно лето он планировал перевести чуть ли не целую книгу Шандора Петефи, «Короля Лира» и в придачу первую часть «Фауста», чтобы заработать денег и высвободить время для писания романа. Далее, его переводы Шекспира нещадно редактировались, ему приходилось подлаживаться по вкус меняющихся редакторов, кроить и перекраивать текст по их пожеланиям.
Сквозь условную старину шекспировской драмы явно просвечивает другое время, на что Пастернак более чем прозрачно намекает в своих не опубликованных при жизни комментариях: «В “Короле Лире” понятиями долга и чести притворно орудуют только уголовные преступники… Все порядочное в “Лире” до неразличимости молчаливо или выражает себя противоречивой невнятицей, ведущей к недоразумениям»[101]. Представим себе: на дворе 1947 год. Ахматова предана анафеме и отлучена от литературы. Новые работы Пастернака рассматриваются под лупой; обвинения в идейной чуждости и космополитизме всегда наготове. Чтобы защититься, он вынужден прикрываться то невнятными объяснениями, то ссылками на Толстого и реализм: это было правдой и в то же время – прививкой от той «болезни», из-за которой внезапно исчезали многие его современники. Пастернак занимал как бы «полупозицию» по отношению к официозу; он объяснял, что трактует Шекспира реалистически, снимая вычуры и натяжки его стиля, что он переводит «для времени и страны, только вчера покинутых гением Толстого».
Разумеется, Пастернак понимал те самые «беззаконья стиля» Шекспира, которые раздражали Толстого, и был бесконечно далек от критических преувеличений последнего. И все же есть основания думать, что «Король Лир» не был любимой пьесой Пастернака: слишком сказочно, слишком патетично и вместе с тем сентиментально. Кроме того, «зараженному вечным детством» поэту вряд ли нравилось играть раздраженного и обиженного старика. Видимо, не случайна фраза из его письма А. И. Цветаевой: «Перевел также Лира, но это вздор по сравнению с хроникой»[102]. Свой перевод «Генриха IV» он ценил намного выше.
В целом, я следовал тем же принципам перевода драмы, что Пастернак: полностью разделял его стремление перейти «от перевода слов и метафор» – «к переводу мыслей и сцен»[103]. Я обретал опору в его блестящих формулировках: о «той намеренной свободе, без которой не бывает приближения к большим вещам»[104], о том, что «настоящий перевод должен стоять твердо на своих собственных ногах, не сваливая своих слабостей на мнимую хромоту подлинника»[105]. К сожалению, сам Пастернак не имел возможности до конца проводить в жизнь эти принципы: редакторы и обстоятельства висели на нем тяжкой обузой. Учтем, кстати, что заказ на «Короля Лира» он получил от «Детгиза», издание предназначалось для школьных библиотек; следовательно, неудобные для детского чтения места он должен был микшировать.
Современным переводчикам, конечно, легче. Сегодняшние нравы, далекие от пуританских норм послевоенных лет, приблизились к нравам шекспировской эпохи – и даже перещеголяли их; так что мне не нужно было смягчать слишком вольных острот (впрочем, я старался не переперчить). Иногда такие моменты оказывались важны для более точной обрисовки персонажей. К примеру, злодей Эдмунд, смеясь над верой в гороскопы, говорит у Пастернака: «Я был бы тем, кто я есть, если бы даже самая целомудренная звезда мерцала над моей колыбелью». Я перевел ближе к подлиннику: «…если бы самая стыдливая звездочка светила над поляной, где мой отец брюхатил мою мать». За этим «брюхатил» (bastardized) уже проступает затаенная ненависть бастарда, который не может простить отцу незаконность своего рождения, – и это объясняет многое в его дальнейших поступках.
Пресловутая эквилинеарность не была для меня императивом. На сцене не считают строк. Монолог заканчивается тогда, когда иссякает заложенная в него энергия – не раньше и не позже. В драме важно не физическое, а «бергсоновское» время – субъективное, динамическое и изменчивое. Не это ли имел в виду Кольридж, заметивший однажды: «Читая Драйдена, Поупа и других классицистов, всё сводишь к подсчёту слогов и стоп, в то время как читая Донна, измеряешь не количество слогов, но время». Меня не смущало, если иные монологи выходили у меня длиннее на строку или на две, чем у Шекспира, а другие короче.
IV
В наше время «Гамлета» ставят намного чаще, чем «Короля Лира». Не потому ли, что он понятней молодым? Что его легче «осовременить», выведя на сцену автоматчиков или марсиан? С «Лиром» так не порезвишься. В нем даже нет love story. Вместо романтического героя – вспыльчивый старик «в тонком шлеме седых волос».
Но именно это и влекло меня к пьесе. При всей грандиозности проблематики «Короля Лира» («Книга Иова», Софокл и так далее), мне была дорога возможность взглянуть на пьесу не «по-орлиному зорко», а просто и по-житейски, с высоты воробьиного полета. Внезапный гнев короля в первом акте, вызывавший недоумение критиков, не казался мне ни странным, ни непонятным. Я видел, как ведут себя старые люди на юбилеях, как они радуются тостам в свою честь: чем пышнее, тем лучше. И как обидно, когда кто-то из детей бестактно ломает течение ритуального действа. Дети, может быть, и умнее отцов. Но «обида старости» горше и дольше.
Сам собой приходит на ум сюжет: Лир и Толстой. За три года до своего ухода Лев Толстой посвятил большую статью развенчанию Шекспира. В качестве примера он взял трагедию «Король Лир», детально, по сценам разобрал ее – и не оставил камня на камне. По мнению Толстого, «Шекспир не может быть признаваем не только великим, гениальным, но даже самым посредственным сочинителем». Всеобщее преклонение перед Шекспиром он считает эпидемией и коллективным гипнозом, а мировоззрение Шекспира – глубоко безнравственным и развращающим.
С тех пор критики не раз пытались дать объяснение этой статье. Указы валось, в частности, на эстетические взгляды Толстого, более близкие к классицизму XVIII века, чем к полнокровной избыточности елизаветинской драмы. Конечно, следует учесть и литературные установки толстовской эпохи, эпохи победившего реализма: «Острый сюжет, необычайные происшествия и поступки противопоказаны художнику как проявление дешевого вкуса и пристрастия к романтически-неправдопо добным эффектам. Изобретательная фабула, удивительные события безвозмездно отданы мастерам занимательного чтива, детективным, приключенческим и фантастическим романам, выведенным за пределы высоких жанров поэзии, – или хроникерам вечерних газет»[106].
Но подобные доводы не объясняют сугубо личного пафоса, которым пронизана статья Толстого, того «неотразимого отвращения», которое внушала ему трагедия Шекспира. Это тем более непонятно, что мы безотчетно представляем короля Лира – в его величии и негодовании – похожим на Льва Толстого в старости. Так пишет Джордж Оруэлл в своей известной статье «Лир, Толстой и Шут». Но Оруэлл был не первым, кто отметил это сходство. Уже Блок в своей статье «О драме» рисует образ Льва Толстого похожим на короля Лира в бурю[107]. Заметим, что статья Блока написана в 1907 году. Ретроспективно это выглядит еще отчетливей. Уход и смерть Толстого – прямой римейк «Короля Лира», вплоть до деталей (например младшая дочь, которая одна из всего семейства сохранила преданность отцу). Толстой так же, как Лир, отрекся от всего, чем владел: состояния, титулов, авторских прав на свои книги. И так же, как Лир, доходил до края безумия из-за поведения близких, мучивших его именно за этот акт отречения.
Король Лир и Шут в бурю. Иллюстрация Джона Гилберта, XIX в.
Не в том ли разгадка? Толстой глядел в трагедию, как в зеркало, и это зеркало его дико раздражало. Сюжет «Короля Лира» и, прежде всего, сам факт отречения короля, представлялся Толстому неправдоподобным, гнев короля – глупым и неестественным. Как это в «Песне о вещем Олеге»? «Кудесник, ты глупый, безумный старик! Презреть бы твое предсказанье!»
Я ли безумен, спрашивал себя Толстой, или безумно то значение, которое придается всем образованным миром Шекспиру? И приходил к выводу, что он в своем уме, а мир безумен.
Между прочим, тема «обижания стариков» была особенно близка Толстому-моралисту, недаром он написал притчу про старого деда, который разбил чашку за столом, после чего сын с невесткой перестали сажать его к столу, а давали есть за печку в деревянной лоханке. И вот: «Сидят раз муж с женой дома и смотрят – сынишка их на полу дощечками играет – что-то слаживает. Отец и спросил: “Что ты это делаешь, Миша?” А Миша и говорит: “Это я, батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить”. Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так обижали старика; и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним».
Добро должно торжествовать. Оттого-то старый, существовавший до Шекспира, вариант пьесы нравится Толстому гораздо больше шекспировского: «Старая драма кончается также более натурально и более соответственно нравственному требованию зрителя, чем у Шекспира, а именно тем, что король французский побеждает мужей старших сестер, и Корделия не погибает, а возвращает Лира в его прежнее состояние»[108].
Хэппи-энд имелся и в переделке шекспировской пьесы, предпринятой Наумом Тейтом (1681), на протяжении ста пятидесяти лет шедшая на английской сцене под именем «Короля Лира». Подлинный текст Шекспира был возвращен зрителям лишь в эпоху романтизма. Вот что писал по этому поводу знаменитый лондонский эссеист и критик Чарльз Лэм:
«Тейт продел кольцо в ноздри этого Левиафана, чтобы Гарику и его приятелям-актерам легче было управляться с исполинским зверем. Счастливый конец!.. Словно переживаемое Лиром мученичество, страдания души, раздираемой заживо, не делают честный уход с жизненной сцены единственным достойным его итогом… Неужто детское удовольствие вновь завладеть скипетром и раззолоченной мантией могло прельстить Лира, – как будто возраст и горький опыт оставляли ему какой-нибудь иной выбор, кроме смерти?»[109]
V
Вообще говоря, существует несколько объяснений событий, происходящих в первом действии трагедии: дележа королевства, состязания в дочерней любви и опалы младшей дочери. Назовем четыре варианта, которые можно назвать соответственно: 1) фольклорным, 2) театрально-символическим, 3) политическим и 4) философским.
Фольклорное объяснение очевидно. Мотив раздела царства – обычный сюжет сказки, так же как и мотивы последующего словесного состязания и несправедливой обиды младшего сына или дочери. В нашем случае сюжет восходит к древнему преданию о короле Лире. Вопрос о правдоподобии не возникал у первых зрителей пьесы; как пишет Кольридж, «он просто принимался за данность… служа канвой для изображения характеров и страстей, событий и чувств»[110]. В то же время «сказочная символика» начала пьесы настраивала зрителя, подсказывая ему, что история, которую ему предстоит увидеть, имеет нравственный и аллегорический характер: сказка ложь, да в ней намек.
Театрально-символистское объяснение исходит из природы театрального искусства, которое дал Ф. Ницше в известной работе о происхождении трагедии и развил М. Волошин в своей статье «Театр и сновидение». Согласно этому взгляду, трагедия представляет из себя некий аполлонический покров, наброшенный на мир дионисийского безумия. Отсюда следует, что сценическое действие развивается по особой логике – логике сна, не совпадающей с логикой реальности. «Обычный реальный предмет, перенесенный на сцену, перестает быть правдоподобным и убедительным: между тем, как театральные знаки, совершенно условные и примитивные, становятся сквозь призму театра и убедительными и правдоподобными», – отмечает Волошин[111]. Зритель, пришедший в театр, включается в своего рода игру с условными правилами и предпосылками: «Он спит с открытыми глазами»[112].
Политическое объяснение, наоборот, имеет логический и конкретно-исторический характер. Первоначальный план Лира интерпретируется таким образом: Лир, разделяя королевство, не отказывался от титула короля и сохранял контроль над королевством, находясь при дворе любимой дочери и ее предполагаемого мужа герцога Бургундского в центральной и самой богатой части страны („more opulent than your sisters“), он также сохраняет за собой право назначать наследника короны. Такое разделение гарантировало более прочное равновесие и мир в Британии, чем то неустойчивое положение, чреватое раздором („that future strife“), что могло возникнуть после его смерти в стране с мощными феодальными центрами на севере (герцог Олбанский) и на юго-западе (герцог Корнуэльский). Таким образом, замысел Лира был не произвольным и опрометчивым, а глубоко продуманным и взвешенным государственным решением[113].
Философское объяснение исходит из размышлений Паскаля о величии человека. Человек – всего лишь слабая тростинка, но эта тростинка мыслящая. Пусть вся Вселенная ополчится против человека, он и тогда будет выше того, что его побеждает, ибо сознает, что гибнет, а Вселенная безмозгла. «Сами несчастья человека доказывают его величие. Это несчастья властителя, а не нищего. Несчастья свергнутого короля» (398)[114]. И еще: «У нас такое высокое понятие о душе человеческой, что мы не можем снести насмешки над собой и неуважение к душе. Все блаженство человеческое состоит в уважении к ней» (402)[115]. Согласуя Монтеня с неизбежным в его дни классовым подходом Аникст пишет: «Лир отказывается от короны потому, что захотел стать просто человеком… Идея, что можно быть человеком вне прежнего сословного общества, – вот что осенило Лира»[116]. По мнению Аникста, философской подоплекой трагедии является испытание королем своего подлинного человеческого достоинства. Марксизм в данном случае не противоречит стоической и экзистенциальной интерпретации трагедии Лира. Уильям Йейтс в позднем стихотворении «Клочок лужайки»[117] приводит Лира как пример героической старости, ищущей новой, глубокой правды:
Так дайте же пересоздать Себя на старости лет, чтоб я, как Тимон и Лир, Сквозь бешенство и сквозь бред, Как Блейк, сквозь обвалы строк – Пробиться к истине мог!VI
Шекспироведы пришли к выводу, что «Король Лир» был написан примерно в конце 1605 – начале 1606 года. Первая часть «Дон Кихота» Сервантеса была опубликована в 1605 году. Удивительный пример двух гениев, мыслящих независимо, но параллельно. Безумный Лир со своим Шутом и Дон Кихот с Санчо Пансой – две пары, естественно проецирующихся друг на друга. И король Лир, и бедный идальго требуют справедливости и благородства у этого трижды проклятого мира; Шут и Санчо учат их уму-разуму.
Известен не только год, но и день, который с известной долей вероятности можно считать датой премьеры пьесы. На титуле первого издания обозначено, что пьеса «была играна перед Королевскими Величествами в Уайтхолле в канун дня Св. Стефана на праздник Рождества» – иначе говоря, в первый день Святок, 25 декабря 1606 года. Можно предположить, что дата не случайна. В сюжете «Короля Лира» – мотиве отречения короля и раздела его царства – нетрудно увидеть древнейший обряд, связанный с новогодним празднованием, развенчание и похороны Старого Года. Остатки его сохранились в Европе до наших дней – например, в играх ирландских рождественских скоморохов, в святочных обычаях русских ряженых. Перейдя в разряд детской сказки, умирающий Старый Год со временем превратился в доброго Рождественского Деда (Деда Мороза). В английской поэзии тема «смерти Старого Года» оставалась актуальной вплоть до XX века – например в стихах П. Б. Шелли, А. Теннисона и Т. Гарди[118].
Средневековое карнавальное начало (король развенчан и осмеян) сплавлено у Шекспира с новым, гуманистическим содержанием. Старый Год обречен на смерть; но он бунтует и сама гибель его патетична. Злые дети видят только комическую сторону, Корделия ее не замечает. Шут, хотя и смеется над королем, но любит его и жалеет. Корделия и Шут – самые близкие Лиру персонажи, и недаром возникло предположение, что в шекспировском театре Шута и Корделию мог играть один и тот же актер (юноша). Насколько нам известно, в XIX веке в Англии, наоборот, роль Шута нередко исполняла женщина. Комизм в «Короле Лире» не ослаблен, а переосмыслен и трансформирован в новом контексте.
Вот что пишет У. Хэзлитт о роли шутовства в «Короле Лире»:
«Средоточие разбираемой нами трагедии – окаменевшее бездушие, холодный, расчетливый, закоснелый эгоизм дочерей Лира, эгоизм, который непомерной мукой раздирает воспаленное сердце короля… Этот контраст был бы слишком тягостен, слишком непомерен для зрителя, если бы не вмешательство Шута: его приходящееся весьма кстати балагурство прерывает пытку, когда та становится невыносимой, и вновь оживляет струны души, костенеющей от чрезмерного перенапряжения. Фантазия охотно обретает отраду в полукомических, полусерьезных репликах Шута: точно так же изнемогающий от боли под ножом хирурга пациент ищет облегчения в остротах…
В третьем акте Шут исчезает, уступая место Эдгару в обличье Безумного Тома, что хорошо согласуется с нарастающим неистовством событий. Трудно представить себе что-либо более совершенное, чем параллель, проведенная между подлинным безумием Лира и притворным сумасшествием Эдгара, сходная причина у обоих – разрыв теснейших родственных уз – придает этим персонажам нечто общее»[119].
VII
Существует старинная баллада «Том из Бедлама», весьма примечательная. Кто ее автор? Выдвигалась гипотеза (Роберт Грейвз, Питер Леви), что написал балладу Шекспир и она входила в трагедию как вставной номер. Самым подходящим местом для нее считается сцена из второго акта, в которой беглец Эдгар сообщает о своем желании переодеться в лохмотья и принять образ безумного Тома. В конце монолога он мог бы исполнить эту балладу.
Песня Тома-сумасшедшего
От безумных буйных бесов, И от сглазу и от порчи, От лесных страшил, от совиных крыл, От трясучки и от корчи – Сохрани вас ангел звёздный, Надзиратель грозный неба, чтобы вы потом не брели, как Том, По дорогам, клянча хлеба. Так подайте хоть мне сухой ломоть, Хоть какой-нибудь одежки! Подойди, сестра, погляди – с утра Бедный Том не ел ни крошки.Перед нами – городская, комическая баллада из тех, что распространялись в летучих листках за несколько пенни. Замечателен в ней контраст тяжелого «систематического бреда» куплетов и трогательного, «давящего на жалость» припева: Том просит еды и одежки, он озяб и голоден. Отметим также смешение пародийной учености с простонародным языком и духом: скажем, Звезда Любви (Венера), наставляющая рожки Кузнецу (Гефесту), рядом со шлюхами и «хуторским дуболомом». На таких же контрастах построена и роль Тома из Бедлама в «Короле Лире»: бредовые обрывки учености вперемешку со строчками популярных песен, и, как рефрен, жалостные причитания-повторы: «Ветер холодный в терновнике свищет…», «Бедный Том озяб!».
В целом, «Песня Тома из Бедлама», монолог сумасшедшего бродяги (или образованного человека, разыгрывающего роль сумасшедшего), прекрасно ложится в третью сцену второго акта и вообще в стиль и сюжет «Короля Лира». Могут возразить: пьеса и так чересчур длинна, а столь длинные номера неоправданно замедляют действие. Но это с нашей, сегодняшней точки зрения. Во времена же Шекспира публика, как правило, никуда не спешила, спектакли шли долго и еще раздувались всевозможными вставными номерами – придворными церемониями, комическими фарсами, фехтованием, потасовками, танцами и пением. К тому же, если пьеса готовилась к показу при дворе (о чем речь дальше), то, учитывая традицию придворных спектаклей-масок, основанных на музыке и живописных костюмах, такая вставка представляется вполне уместной.
VIII
Интересно сравнить «Короля Лира» со средневековой ирландской повестью о безумном короле Суибне, написанной смесью стихов и прозы. Связь сюжета шекспировской трагедии с кельтскими преданиями тем более вероятна, что само имя Лир – кельтского происхождения: это имя бога моря (Лер, Леир, валлийский вариант: Лир), а также имя короля из ирландской сказки о короле Лире и его трех дочерях. Впрочем, кроме созвучного названия, ничего общего между этой сказкой и шекспировской пьесой нет.
Повесть «Безумие Суибне» (датируется не позже чем XII веком) переведена на русский язык и подробно прокомментирована Т. А. Михайловой. В общей атмосфере рассказа о Суибне, в ряде эпизодов и вставных стихов мы находим много знакомых по «Королю Лиру» мотивов.
Дело не только в том, что Суибне и Лир – изгнанные короли и оба «безумцы», но еще и в том мучительном холоде, ветре и сырости, на которые беспрестанно жалуется скиталец Суибне, в том, что оба короля на собственном опыте узнают, что чувствуют «несчастные нагие горемыки», бездомные и обездоленные.
Я плачу, кричу, как птица,
Мне страшно, мне холодно, Боже, ведь нет у меня ни гнезда, Ни норы, как у рыжей лисицы. ‹…› Прежде был я королем И держал богатый двор. Мудрым был я, добрым был, щедрым был я королем. О, Владыка в небесах, Я тебя благодарю. Принимаю страх и холод, Искупаю здесь свой грех. Вечный холод гонит прочь. Ночь настанет – где ночлег? Дождь и снег – укрытья нет, Только тернии в ветвях[120].Какой же грех искупает Суибне? Автор повести повторяет и подчеркивает: гнев и злобу.
Полный гнева и полный злобы, Этот муж, утратив рассудок… ………………….. Полный гнева и полный злобы, Устремился он к полю битвы…[121]За те же грехи наказан и Лир: он разгневался на дочь, изгнал из сердца любовь и поселил на ее место ненависть.
Интересно, что Суибне, как Лир, встречает в своем странствии другого безумца, которому так же плохо.
Кто-то, подобный ему, стонал, сидя на дереве, и громко жаловался, и сетовал на выпавший ему удел. Это был другой безумец, что жил в том же краю. Суибне тотчас поспешил к нему.
– Кто ты, человек? – спросил он.
– Я безумец, – ответил тот.
– А раз ты безумец, – сказал ему Суибне, – тогда спустись ко мне поближе, ибо никто не сможет в этом мире понять тебя так, как я, потому что я тоже безумец[122].
Разве это не напоминает встречу в степи короля Лира и Эдгара, переодетого Томом-сумасшедшим, и демонстративное желание Лира беседовать именно с ним, а не с Глостером и Кентом?
Я бы хотел сперва потолковать С философом. (Эдгару) что есть причина грома? ………………………. Еще два слова с этим мудрым греком. Каков сейчас предмет занятий ваших?В третьем акте «Короля Лира» в голой степи под дождем и бурей встречаются, по сути, три разных типа безумца: пошатнувшийся в уме от своих несчастий король, Шут, профессионально валяющий дурака, и притворно сумасшедший Том из Бедлама (переодетый Эдгар). Они как будто прямо перешли в пьесу Шекспира из афоризма Паскаля: «Все люди неизбежно безумны, так что не быть безумцем означает только страдать другим видом безумия» (414)[123].
IX
Трагедию «Король Лир» многие называют величайшим из всех творений Шекспира. Хэзлитт восклицал: «О, если бы можно было перескочить через эту пьесу и ничего о ней не писать! Любые слова ее умаляют». Блок утверждал: «Трагедии Ромео, Отелло, даже Макбета и Гамлета могут показаться детскими рядом с этой. Здесь простейшим и всем понятным языком говорится о самом тайном, о чем и говорить страшно…».
Л. Пинский в своей книге о Шекспире, вослед Блоку и другим романтикам, пишет о том, что несказуемо, о тайне «Лира» – тем более глубокой, что «все образы действующих лиц, в том числе героя, отмечены предельной простотой характеристики, в частности, моральной, – даже в гораздо большей мере, чем в других трагедиях…»[124] Он подчеркивает, что эта тайна не связана ни с какой-то иррациональностью души героя, ни с пресловутыми «волнами подсознательного».
В чем же это особое значение «Короля Лира», что отличает его от других великих трагедий Шекспира? Притом что «Лир» наравне с ними полностью укладывается в «магистральный сюжет» Л. Пинского: конфликт с зараженным неправдой миром, трагическая ошибка и искупление в финале. Но характер этого конфликта в «Лире» более универсален, чем в какой-либо иной из его пьес, приложим к любому человеку.
Театр – игра; но как бы мы вместе с актерами ни выгрались в происходящее на сцене, простой вопрос: «Чтó мне Гекуба?» – не изглажен полностью из нашего сознания. Мы сочувствуем всем протагонистам Шекспира, но не с каждым можем до конца отождествиться. Не всякому из нас приходилось, как Гамлету, вынашивать месть за убитого отца – или, как Антонию, оставлять Рим и власть ради любви – или, как Макбету, из честолюбия идти на цареубийство – или ревновать так мучительно, как Отелло.
Но каждому из нас когда-то придется услышать: мене, текел, упарсин – исчислено, взвешено и разделено твое царство.
«Каждый из нас рождается королем, и большинство, подобно королям, умирают в изгнании» (О. Уайльд[125]). И это действительно так. Богат ты или беден – вещь относительная: нет такого богатства, которого было бы достаточно богачу, и нет столь малого достояния, которым бы не дорожил бедняк, боясь его потерять. Каждый – король, и он правит в пределах, отведенных ему судьбой. Но наступает час, когда он должен отдать все, что ему принадлежит, и ступить на тропу изгнания.
Критики удивлялись, какими бездушными, без единой искорки милосердия вышли у Шекспира характеры злых дочерей. Но ведь они – лишь олицетворения бездушного мирового закона. Не Гонерилья и не Регана намерены лишить Лира сначала пятидесяти рыцарей свиты, потом еще двадцати пяти и так далее, до последнего. Это сама природа вещей, rerum natura, отнимает у короля всех его рыцарей, – пока он не останется один на один с ночью, бурей и безумием.
Пьеса начинается с того, что король Лир вступает на эту свою последнюю дорогу: отныне, объявляет он, цель моя – сложить ярмо власти и «налегке доковылять до гроба». Ему кажется, что разделить королевство – самая последняя и самая важная его забота. Он не знает и не понимает, что его последняя забота – обрести ту последнюю нежность, без которой схождение во мрак непосильно для человеческого разума. Он не знает этого, но знает его сердце. Сошлемся на стихи другого поэта, писавшего через двести пятьдесят лет после Шекспира и как бы на другом конце света, – Эмили Дикинсон[126]. У нее есть стихотворение, начинающееся строкой: The Dying need but little, Dear:
Что нам потребно в смертный час? Для губ – воды глоток, Для жалости и красоты – На тумбочке цветок, Прощальный взгляд – негромкий вздох – И – чтоб для чьих-то глаз – Отныне цвет небес поблек И свет зари погас.Этот сентиментальный императив – чтобы для кого-то погасли все цвета в радуге (так в оригинале) – по-видимому, объясняет ту доверчивость, с которой Лир выслушивает лицемерные клятвы Гонерильи и Реганы.
Неподдельную любовь и утешение Лир находит в самом конце пьесы. Виктор Гюго писал: «Лир – лишь повод для создания Корделии. Материнская любовь дочери к отцу есть самое благородное в мире чувство, столь чудесно переданное в легенде о римлянке, кормившей грудью своего отца в темнице»[127]. Заметим, это лишь человеческое чувство. Нежность самки к своему избраннику или к своему детенышу свойственна и животному – это то общее, что объединяет человека с природой. В ее естественном царстве забота ортохронна, однонаправлена: вперед, в растущее, в будущее. История, культ предков, почитание старости, пятая заповедь – приметы уже развившегося человеческого общества.
Лир и Корделия в темнице. Уильям Блейк, ок. 1779 г.
Человеческий уйденыш (старик), как и детеныш, нуждается в жалости и милости. Христианство идет навстречу этой нужде, предлагая ему молитву и обряд, веру и упование. Языческое сердце Лира нуждается в ином – в утолении тоски, которое может дать только другое, родное сердце. И он получает просимое утоление: в этом, а не просто в стойкости перед лицом беды – последний триумф Лира.
Уильям Шекспир Король Лир. Сцены из трагедии
Акт I. Картина 1
Лир
Тем временем мы вам хотим открыть Другой наш замысел. – Подайте карту. – Мы разделили наше королевство На три удела и решили твердо Стряхнуть с усталых плеч обузу власти И возложить на молодых и сильных Груз государственный, – чтоб налегке Доковылять до гроба. Этот день Мы выбрали, любезные зятья, Чтобы заране выделить вам долю Наследства нашего, предотвратив Грядущий спор. Два славных жениха, Король французский и бургундский герцог, Соперники за руку нашей младшей, Сегодня также ждут от нас решенья. Но прежде, чем сложить монарший жезл, Хотел бы я от дочерей услышать, Кто больше любит нас, чтобы щедрей Ту наградить из них, в ком громче голос Природных чувств. Пусть первой говорит, Как старшая рожденьем, Гонерилья.Гонерилья
О государь! Не передать словами Моей любви; вы мне дороже жизни, Здоровья, красоты, богатства, чести, Свободы, радости, земли и неба. Я вас люблю, как мать – свое дитя И как дитя – кормилицу родную. Нет мочи продолжать, язык немеет И грудь спирает от такой любви.Корделия
А что сказать Корделии? Молчи. Люби без слов.Лир (показывает на карте)
Весь этот край обширный С прохладой рек и пестротой лугов, С полями и тенистыми лесами – От сих границ до сих – передаю Тебе с супругом и потомкам вашим В владенье вечное. – А что нам скажет Дочь средняя, разумница Регана?Регана
Мой государь, я из того же теста И чувствую все то же, что сестра, Хотя могла бы кое-что прибавить. Я вас люблю так, что любая мысль О радости иной мне ненавистна, Как недостойная моей души, Что нет мне счастья большего, чем вечно Любить вас одного!Корделия
Что мне сказать? Кто любит сердцем, а не языком, Тот чувствами богаче, чем словами.Лир (показывает на карте)
Тебе с твоим потомством отдаю Треть королевства вплоть до сей границы, Обширностью и красотой не хуже, Чем доля Гонерильи. – А теперь Что скажет младшая из дочерей, За чью любовь французская лоза Соперничает с молоком бургундским? Что скажешь ты, чтоб за собой оставить Край более обширный и богатый, Чем сестрин?Корделия
Ничего, мой государь.Лир
Как – ничего? Подумай хорошенько. Из ничего не выйдет ничего. Скажи ясней.Корделия (в сторону)
Как приневолить сердце Жить напоказ? (громко) Мой добрый государь, Я вас люблю, как долг велит дочерний, Не больше и не меньше.Лир
Это – всё? Корделия, поправься поскорей, Пока еще не поздно.Корделия
Государь, Меня вы породили, воспитали, Любили и лелеяли. В ответ Я вас люблю и чту, как подобает Послушной дочери. Но не скажу, Как сестры, что я больше никого Не полюблю. Когда я выйду замуж, Часть моей нежности, любви, заботы Достанется супругу. Я не стану Любить и в женах одного отца.Лир
Так говоришь от сердца?Корделия
Да, милорд.Лир
Так молода и так черства душой?Корделия
Так молода, отец, и так правдива.Акт III. Сцена II
Голое место среди степи. Буря не стихает.
Входит Лир и Шут.
Лир
Дуй, дуй, ветрище, лопни от натуги! Хлещи наотмашь, ливень! Затопи Коньки домов и шпили колоколен! Вы, мстительные вспышки грозовые, Предвестники громовых мощных стрел, Валящих наземь сосны, опалите Седую голову мою! Ты, гром, Расплющи чрево круглое земли, Испепели зародыши Природы И размечи по ветру семена Людей неблагодарных!Шут
И то, дядюшка! Сладкая водичка при дворе небось лучше, чем ливень в поле. Воротись-ка назад, поклонись дочкам. Эта ночь не щадит не дурака, ни умного.Лир
Греми, гроза! Плюй ветром и дождем! В неблагодарности не упрекну Вас, гром и ливень, молния и буря; Ведь я не отдавал вам королевства, Не называл вас дочками родными. С чего бы стал я ждать от вас добра? Вершите вашу волю. Вот я здесь Пред вами – слабый, жалкий и несчастный Больной старик. О буйные стихии! Не стыдно ль вам – со злыми дочерьми Против отца седого ополчиться Всей вашей силой грозной? О-хо-хо!Шут (поет)
В такую пору мы с дружком За двери ни ногой; Укрылся в домике один, И в гульфике – другой. Бродяга нынче, как султан, Ночует в шалаше, И с ним в обнимку – весь отряд Его любимых вшей. И только умник под дождем Блуждает без дорог; Он пятку до небес вознес, А сердцем пренебрег.Лир
Молчи, старик, будь образцом терпенья.О «Буре» Шекспира
Я люблю старые песни, особенно если веселую поют печально, а печальную – весело.
Шекспир, «Зимняя сказка»I
«Буря» – последняя пьеса Шекспира, по крайней мере, последняя, написанная им целиком, без соавторов. Не только последняя по порядку; ее не без основания считают прощальной пьесой Шекспира, его театральным завещанием.
Но прощальная не обязательно значит печальная; европейская культура со времен античности знает жанр веселых похорон, шутовских завещаний (вспомним Вийона) и так далее. Шекспир решил сделать свою последнюю пьесу, прежде всего, подарком зрителю; так и вышло. Это веселая пьеса – три клоуна, двое пьяниц и один дурень, оживляют ее регулярным появлением на сцене. Это живописная и романтическая пьеса – действие происходит на таинственном южном острове, где живут маг Просперо, его прекрасная дочь Миранда, прислуживающие ему духи, меняющие обличья, и уродливый дикарь Калибан. Это музыкальная пьеса – музыка навевает чары и развеивает их, усыпляет и будит, пугает и нежит; весь остров, как волшебная шкатулка, наполнен ее мелодичным гулом. Это одна из самых успешных пьес Шекспира, – несмотря на то, что в ней почти нет драматического конфликта. Но достаточно и любопытства, достаточно того, как поддерживается атмосфера необычного, странного и трогательного, печально-веселого и нестрашно-страшного.
Калибан, Миранда и Просперо. Гравюра К. У. Шарпа, XIX в.
Начинается пьеса с места в карьер – с впечатляющей картины паники на борту корабля, застигнутого бурей. Поэт Уильям Давенант – тот самый, который через двадцать лет станет намекать собутыльникам, что он, дескать, незаконный сын Шекспира и оксфордской трактирщицы, – тот, что вместе с Джоном Драйденом переделал в 1667 году «Бурю» в пьесу «Волшебный остров», шедшую с успехом на английской сцене в эпоху Реставрации, – так вот, этот самый Давенант явно не без влияния Шекспира изобразит сходную картину в своем стихотворении «Зимний шторм»:
Зимний шторм
Проклятье! Охрипшие ветры во мгле сатанеют! Мы слепнем от снега, плевки на ветру леденеют! А волны вспухают на страх новичкам: Все выше, все круче Взлетают за тучи И солнце хотят отхлестать по щекам! Эй, лево руля! Ну и град! Упаси наши души – Все золото мира не стоит и краешка суши! Эй, круче под ветер – три тыщи чертей! Кругом громыхает, Вверху полыхает, И тлеют от молний обрывки снастей! Держитесь, держитесь! Смотрите, как те галеоны Столкнул, повалил, разметал океан разозленный! Наш боцман, бедняга, простуду схватил И стонет на юте, Закрывшись в каюте, – Должно быть, со страху свисток проглотил![128]II
Впрочем, вся эта «Буря» – в стакане воды. Со второй сцены, с речи Просперо нам делается ясно, что неожиданностей не будет. В этом принципиальное отличие этой пьесы не только от трагедий Шекспира, но и от большинства его комедий. Никакая злая воля, никакая пагубная страсть или блажь не могут ничего изменить в ходе действия. Все персонажи – не более чем фигурки на шахматной доске, которыми движет опытный игрок. В чем же тогда зрительский интерес, если нет интриги? Ну, бродят потерпевшие кораблекрушение по острову, постепенно приближаясь к жилищу волшебника, который должен определить их дальнейшую судьбу. Зрителю не о чем беспокоиться; все нити – в руках Просперо, он дергает их, а марионетки пляшут. Где тут «боренье Рока с Перстью вдохновенной», о которой писал Китс? Как бы и не пьеса совсем, а придворная маска – представление с музыкальными дивертисментами и шутовскими интерлюдиями.
Если и было в этой пьесе действие с перипетиями, оно было раньше – мы присутствуем при развязке. Только если соединить эту развязку с предысторией, получится полноценный сюжет. Одни критики подчеркивают, что это один из немногих оригинальных сюжетов у Шекспира, другие находят какие-то источники – например в испанском рассказе 1609 года, который кто-то мог перевести Шекспиру, или в немецкой пьесе, которую мог пересказать ему бывший там на гастролях актер, или сценариях итальянских пьес comedia dell’arte неопределенной датировки. Конечно, кто упорно ищет, всегда что-то найдет: книг в Европе выпускалось много, а сюжетных мотивов в романтических историях весьма ограниченное количество. Однако вместо того, чтобы разыскивать экзотические источники на языках, недоступных Шекспиру, проще и логичней обратить внимание на то, что было у него под рукой и на слуху.
Двадцать с лишним лет театральной деятельности Шекспира – вот его «платоновская академия», его университет и библиотека. Для жадного ума и впитывающей, как губка, памяти большего не требуется. Здесь мне вновь хочется напомнить, как по-разному работает ум у разных людей. У некоторых, сколько ни учись, все знания проваливаются в какой-то беспорядочный мешок; а у других каждая единица информации не просто запоминается, а как бы ложится в свое точное место, и сумма знаний растет не просто в объеме, а в стройной системе, как кристалл в растворе.
По самым скромным подсчетам, Шекспир за свою карьеру должен был пересмотреть несколько сотен пьес (никак не менее пятисот) – огромный, практически неисчерпаемый банк характеров, сюжетных мотивов, речей, диалогов и мизансцен, из которых он мог выбирать и составлять любые комбинации.
Чтобы найти источники сюжета «Бури», не надо далеко ходить. Предыдущей пьесой Шекспира была «Зимняя сказка». Обе пьесы словно шиты по одной выкройке. Сравните сами.
Пагубные страсти – Ревность и Властолюбие – восстанавливают брата на брата, друга на друга. Леонт и Антонио не только умышляют на жизнь друга или брата, но и обрекают на гибель невинных детей – Утрату, дочь Леонта, и Миранду, дочь Просперо. Провидение их чудесно спасает. Утрата и Миранда вырастают за морем в чужой стране и через годы, сочетавшись любовью с сыном врага (принцем Флоризелем и принцем Фердинандом), восстанавливают тем самым порванные узы дружбы и братства.
Мы видим, что произошла как бы перелицовка собственного сюжета Шекспира.
Разумеется, кое-что добавлено. Место действия – остров, на котором правит волшебник; это обычный сказочный мотив, подобный есть у Гомера (остров волшебницы Цирцеи), в ирландских сагах, в рыцарских романах. Вместо острова может быть лес; первый вариант является, так сказать, усиленным вариантом второго. Вступившие на этот остров (попавшие в этот лес) попадают под чары волшебника и становятся марионетками в его руках.
Такой сюжет имеется и у Шекспира. Это комедия «Сон в летнюю ночь». Ее героям, попавшим в зачарованный Афинский лес, только кажется, что они действуют по собственной воле, на самом деле ими манипулирует хозяин леса – король эльфов Оберон. Общая сновидческая атмосфера пьесы очень напоминает «Бурю». Оберон с помощью своего слуги, проказливого духа Пака, так же сводит Дмитрия и Гермию, как Просперо с помощью Ариэля – Фердинанда и Миранду.
Оберон
А мой другой приказ? Ты юноше глаза обрызгал соком?Пак
Обрызгал. Он лежал во сне глубоком, С ним рядом я афинянку застиг: Открыв глаза, ее увидит вмиг![129]Сравните:
Просперо
Так ли ты устроил Крушение, как я тебе велел?Ариэль
Да, в точности! Я отыскал средь моря Корабль, на котором плыл король, И задал представленье[130].Мы видим, что король эльфов Оберон и его слуга Пак образуют такую же пару персонажей, как волшебник Просперо и Ариэль. Их могла бы исполнять одна и та же сыгранная пара актеров шекспировской труппы.
Таким образом, важнейшими источниками «Бури» являются, прежде всего, собственные пьесы Шекспира: «Зимняя сказка» и «Сон в летнюю ночь»: первая ответственна за романтическую предысторию Просперо и Миранды, вторая – за чудесную развязку.
III
И все же Ариэль заметно скучнее Пака. Он только и мечтает, как сбежать из-под команды Просперо и предаться вольному и бесцельному парению в своей «родной стихии». В противоположность ему, Пак (он же Робин Весельчак) отнюдь не собирается дезертировать со службы. Ему по нраву служить королю Оберону, участвовать во всяких интригах и проделках эльфов. Он обожает шалить, сбивать с пути прохожих, щипать девок, красть пироги с праздничного стола и младенцев из люльки – и так далее, как о том поется в старинной балладе, сочиненной, вполне вероятно, по следам шекспировской пьесы:
С тех пор, как Мерлин-чародей На свет был ведьмою рожден, Известен я среди людей, Как весельчак и ветрогон!Иное дело Ариэль. Он шутит только по указанию хозяина – от сих до сих. Его представление о счастье выражено в знаменитой песенке Ариэля, умилявшей многие поколения английских детей и их нянюшек:
На травинке я качаюсь, Вместе с пчелкой угощаюсь, На спине летучей мыши Под луною я катаюсь Над деревьями и выше.И особенно это:
Сладко, ах, сладко в полуденный зной Спать мне под сенью фиалки лесной[131].IV
Калибан выглядит как антитезис Ариэлю: насколько тот воздушен, невинен, музыкален, настолько Калибан уродлив, порочен, груб. Это как бы оппозиция «дух и тело», доведенная до гротеска.
Старая манихейская ересь, гласящая, что душа от Бога, а плоть от дьявола, воплощена в этих образах.
Разумеется, в эпоху великих географических открытий сама цепочка этих обстоятельств: «корабль – крушение – остров – дикарь» неминуемо вела к отождествлению Калибана (чье имя есть простая анаграмма от «каннибал») с туземцами Америки и другими обитателями новооткрытых земель. В XVI веке фигура туземца, островитянина, африканца и т. д. вызывала у англичан острый интерес. Ряженые дикари были излюбленными персонажами придворных масок и представлений. Поэт Джордж Гаскойн, по заказу графа Лейстера приветствовавший стихами приезд Елизаветы в замок Кеннелворт в 1574 году, предстал перед королевой в роли дикаря, одетого в наряд из листьев, и от избытка усердия перепугал королевскую лошадь.
Гротескное и отталкивающее изображение островитянина в «Буре», его эксплуатация европейским колонизатором Просперо и презрительное третирование Мирандой привели в XX веке к возникновению в шекспироведении сильного течения, которое можно было бы назвать «Клубом защитников угнетенных народов от певца колониализма Шекспира».
Возможно, образ Калибана был сознательно заострен против уже тогда возникшей в Европе идеализации первобытных народов, что ярко проявилось у Монтеня в знаменитой главе «О каннибалах». Но еще до появления «Опытов» Пьер Ронсар в своей поэме «Речь против Фортуны» (не позже 1570 года) писал, обращаясь к адмиралу Вилеганьону, попытавшемуся основать в Бразилии гугенотскую колонию:
Ты заблуждаешься, Вилеганьон ученый, Мечтая изменить и сделать просвещенной Жизнь простодушную бразильских дикарей, что бродят по лесам Америки своей Нагие, дикие, не зная, есть на свете ль Подобные слова: «порок и добродетель, Сенат и государь, налоги и закон», Лишь воле собственной покорны испокон, Лишь гласу естества послушные душою; Не отягченные ни страхом, ни виною, Как мы, живущие под гнетом чуждых воль; Там каждый сам себе – сенатор и король. Они из-за земли не ссорятся друг с другом, Не докучают ей остролемешным плугом, Мир на «мое – твое» не делят никогда, Все общее у них, как воздух и вода. Так предоставь же их той первобытной жизни, Которую они ведут в своей отчизне; Молю, не искушай счастливых простаков, Не нарушай покой их мирных берегов. чему научишь ты, каких подаришь истин? Дикарь усвоит счет – и станет он корыстен, Обучится письму – и станет он хитер; Начнутся тяжбы, ложь, недружество, раздор, И войн безумие, и власти притязанья – Все беды, что идут от преизбытка знанья. Оставь же их, прошу, в их веке золотом…В отличие от Пьера Ронсара, Шекспир сомневается, что жизнь нагих и диких людей, послушных лишь «гласу естества», и есть «золотой век». При желании в образе Калибана можно увидеть не только жителя заморских земель, но и образ презираемых англичанами «недоразвитых» народов Европы, например, ирландцев или даже русских. Напомним, что писал Джордж Тербервиль в своем «Послании из Московии»: «Я мог бы с руссами сравнить ирландцев-дикарей, / Да трудно выбрать, кто из них свирепей и грубей».
Да и своих соотечественников-крестьян – плебеев, чернь, «сельских муравьев» (Дж. Донн) – английская корона и знать третировала, презирала и боялась почти так же. Крестьянские возмущения – например восстание 1607 года в Мидланде, в непосредственной близости от Стратфорда, – подавлялись с изуверской жестокостью. Основной приметой черни было «ковыряние в земле». Обратим внимание, как настойчиво Калибан соединяется у Шекспира со стихией черной земли: он ползает по ней, распластывается, прячась (авось не заметят), он бредет по колено в грязи и т. д.
При этом Шекспир смотрит на своего дикаря объективно и отнюдь не рисует его одной краской; он показывает, что у Калибана есть своя правда: он был хозяином острова, сам себе королем, а сделался рабом Просперо. В отличие от Ронсара и Монтеня, Шекспир не считает, что все беды – «от преизбытка знанья», наоборот невежество представляется ему корнем людского зла. Уродливость Калибана в эстетической системе Ренессанса – лишь внешнее выражение внутренней искаженности, которая, в свою очередь, следствие дурного воспитания или его отсутствия.
V
Величавый маг, покорные ему духи, дикое и потешное чудище, чарующая музыка и сценические трюки – все соединено в «Буре» ради создания эффектного зрелища в роде популярных при короле Иакове придворных масок. Но у маски всегда есть главная идея. Скажем, триумф Любви или Добродетели. А здесь – какая во всем генеральная мысль, какая философия? Если это аллегория, то чего? Попробуйте угадать.
Быть может, главной целью драматурга было пробудить сострадание всех ко всем, призвать к милосердию и прощению? Этим заключаются многие пьесы Шекспира. Или вот еще. Всемогущество, которое сбрасывает с себя плащ всемогущества, – уж не заключена ли здесь идея, что Бог, сотворивший мир, больше не управляет миром? Без учителя, без поводыря остаются и Миранда – светлое чудо, и темный раб Калибан. Что мы знаем о религиозной философии Шекспира? О его взглядах на происхождение зла и границы человеческой свободы?
Несомненно, что главная загадка пьесы заключена в Просперо. Я уже говорил о связи «Бури» с «Королем Лиром». И там, и здесь в центре пьесы – величавый старец, подошедший к определенному рубежу. Король Лир решает сложить с плеч обузу власти, – «чтобы налегке доковылять до гроба». Изгнанник Просперо тоже замышляет свой план: восстановить справедливость, выдать замуж дочь Миранду, вернуться домой в Милан и там – «предаться размышлениям о смерти».
Здесь несомненная параллель. Лир отказывается от королевской власти в самом начале действия, Просперо – от власти мага и волшебника – в конце, но это различие мнимое: всё было определено заранее. Акт отречения Просперо от своей волшебной власти производит такое же сильное впечатление, как акт отречения Лира от своих королевских прерогатив:
Отныне я От этой грубой власти отрекаюсь. Теперь (последний подвиг колдовства!) Пускай прольется музыка с небес, чтоб воодушевить мою решимость, – И я сломаю свой волшебный жезл, Навек зарыв его обломки в землю, И в бездне вод морских – так глубоко, что не достанет лот, – похороню Магическую книгу.Заметим, что другой маг и волшебник, повелевавший духами, доктор Фауст в пьесе Кристофера Марло, тоже восклицает в финале пьесе: «Я книги все сожгу!» – но когда? В последнюю минуту, когда черти уже волокут его в ад. А Просперо отрекается от своего могущества сам, добровольно. Вот загадка, которую нелегко объяснить на рациональном уровне. Лишь сравнение с поступком короля Лира способно пролить сюда некоторый свет.
И вот что мне вспомнилось. В молодости, когда я жил в общежитии аспирантов-физиков в одном подмосковном городке, моим соседом был Иван, выдумщик и оригинал, увлекавшийся фантастикой и сам пытавшийся сочинять в таком духе. Мне запомнился его сюжет об инопланетянине, существе высшего интеллекта, две тыщи лет назад попавшем на землю. Перед тем как общаться с людьми, он делал такой странный жест: касался пальцами лба, живота, правого плеча и левого. «Понимаешь, в чем смысл? – объяснял Иван. – Он отключал тумблеры защиты на своем теле, они были запрограммированы на такую последовательность: голова, туловище, плечи».
VI
В эпоху романтизма Ариэль сделался символом самого утонченного и возвышенного романтизма в духе Перси Биши Шелли. В свой последний итальянский год поэт не на шутку увлекся женой близкого друга, капитана Эдварда Уильямса, – восхитительной Джейн, прекрасной певицей и музыкантшей. Они виделись практически ежедневно. Шелли опоэтизировал эти отношения в своих стихах, называя Джейн и ее мужа Мирандой и Фердинандом, а себя Ариэлем. Бесплотность шекспировского персонажа должна была подчеркнуть платонизм их отношений. (Не забудем, что у Шелли была и его собственная жена Мэри Шелли, присутствующая тут же) Одно из его последних стихотворений, посвященных Джейн, начиналось так:
Перси Биши Шелли. Амелия Куран, 1819 г.
К одной леди, с подношением гитары[132]
К Миранде Ариэль с мольбой: Твой верный раб перед тобой; Взгляни: он в дар тебе принес Рабыню музыки и грез, – чтоб под твоей рукой она, Таинственно оживлена, В дрожанье струн дарила нам Блаженство с болью пополам. С согласья принца твоего И по велению его Шлет Ариэль немой залог Того, что выразить не мог Словами. Всюду за тобой, Как преданный хранитель твой, Из жизни в жизнь, из плена в плен, Твоим лишь счастием блажен, Перелетает он, живя Не для себя – лишь для тебя…И так дальше. Обратите внимание на принца (Фердинанда), с чьего согласия преподносится гитара. А также на то, что Миранду автор трактует в духе метемпсихоза как красоту, вновь и вновь рождающуюся на свет, а Ариэля – как бессмертного духа, следующего за нею «из жизни в жизнь», оберегающего ее, подобно ангелу-хранителю.
Остается добавить, что через несколько недель после сочинения этого стихотворения Перси Биши Шелли и Эдвард Уильямс с юнгой-подростком поплывут на новой шхуне Шелли, названной им «Ариэль», из Ливорно на виллу Маньи.
Неожиданно разразится буря. Настоящая, а не театральная. Через несколько дней тела всех трех утонувших найдут выброшенными на берег и сожгут в присутствии Байрона и капитана Трелони.
Так закончилась эта пьеса – гибелью и Ариэля, и Фердинанда.
Джейн Уильямс. Джордж Клинт, ок. 1830 г.
VII
Наследником романтиков и, должно быть, главным «шекспиристом» среди английских поэтов XIX века был Роберт Браунинг. В его сборник «Dramatis Personae» (1864) входит стихотворение «Калибан о Сетебосе, или Натурфилософия островитянина» – типичный «драматический монолог», пример разработанного Браунингом жанра, совмещающего поэзию и драму. Героем такого монолога мог быть реальный или вымышленный персонаж, действующий в обстоятельствах своей страны и эпохи и отражающий интересующую поэта проблему. В данном случае – проблему Бога и сотворения мира, сделавшуюся особенно актуальной после публикации в 1859 году знаменитой книги Дарвина.
Калибан, улучив час полуденного зноя, когда Просперо и Миранда уснули, отлынивает от возложенной на него работы; вместо этого, улегшись в прохладную лужу на отмели, он смотрит в море и размышляет о могуществе бога Сетебоса, которому поклонялась его матушка колдунья Сикоракса. Он жаждет понять, как был создан видимый мир, но в то же время побаивается дерзости своих вопросов, на всякий случай называя себя в третьем лице «он».
По мнению Калибана, Сетебос, пребывающий на Луне, сотворил этот мир, потому что ему стало «как-то холодно и не по себе». Он сам воображает себя творцом, создателем перепелок, рыб и всех прочих тварей, а потом задумывается: не является ли беспокойство, заставляющее творить, признаком несовершенства?
Зачем тому, кто так силен и груб, И зябко, и порой не по себе? Вот в чем вопрос! Попробуй отгадай – Кто знает… Может, есть над Сетебосом Тот, кто его создал – иль повстречал, Сразился, одолел и прочь отбросил. Быть может, там, куда нам не взлететь, Над Ним есть кто-то высший и спокойный, Не знающий ни радости, ни грусти, Которые от слабости…Таким путем Калибан приходит к мысли, что главный бог – Покой, который и создал этот мир, а Сетебос его только «растревожил» (vexed). Но зачем этот Другой сделал мир таким слабым, что его можно растревожить? Почему Он не сделал все вещи неуязвимыми и недвижными? Тут Калибан запутывается и возвращается к восхищению и страху перед всемогущим Сетебосом; участь земных тварей – жить в страхе перед Ним и не мечтать ни о каком лучшем мире, пока Он каким-то неведомым образом не растревожит сам великий Покой – или не превратится в него, «как личинки превращаются в бабочек»; а до той поры – есть мы, и есть Он, этого не изменишь. Вот как Калибан рассуждает о бессмертии (первое «он» относится к Калибану, говорящему о себе в третьем лице):
Он верит: с жизнью кончится и мука. Мамаша думала, что после смерти Удастся ей и докучать врагам, И угощать друзей. чушь! Есть лишь этот Мир, где Он мучит нас, – давая роздых Лишь для того, чтоб не замучить сразу, Приберегая худшее к концу. Потом – нет ничего! А в этом мире, чтоб не гневить Его, всего вернее – Прикидываться жалким и несчастным. Так безопаснее. чуть Он заметит Двух мотыльков, что нежатся на травке, – Прихлопнет сразу. Или двух жучков, Катящих шарик неприметной тропкой, – Тотчас же веткой их с пути собьет.Калибан ненавидит и боится Сетебоса и потому при свете солнца только скулит, стонет и ругается, а ночью, когда никто не может его видеть, танцует в темноте и смеется, забравшись в какую-нибудь тайную щель. Он очень боится, что Сетебос может услышать его вольные речи. Авось, надеется он, как-нибудь обойдется, ведь даже волдыри проходят и болячки тоже, если их помазать грязью, авось либо Покой доберется до Сетебоса и окончательно с ним покончит, либо Он сам одряхлеет и впадет в беспробудную спячку.
Взлетевшая неподалеку ворона ввергает Калибана в панику. Она подслушивала! Она все донесет Сетебосу! Распростершись ничком, он клянется в любви своему богу, скалится, растягивая верхнюю губу в умильной улыбке, и клянется постом и покаянием искупить свою вину.
VIII
Примечательно стихотворение Райнера Мария Рильке «Ариэль»[133], написанное в 1912 году. Годом ранее в Испании он читал эту пьесу вслух с Катариной Киппенберг, и она его сильно задела (хоть в целом к Шекспиру он был почти равнодушен). Акт отречения Просперо от магии Рильке воспринимает однозначно как отречение от искусства, и это болезненно возвращает его к раздумьям, преследовавшим его несколько предыдущих лет. Не отказаться ли совсем от поэзии, раз она бессильна изменить мир? Не честнее ли заняться какой-нибудь полезной профессией, например, сделаться сельским врачом? В конце концов он пришел к выводу, что его долг оставаться верным своему призванию – поэзии, которая хотя и не может «врачевать раны», но таинственно служит какой-то высшей космической цели[134].
В «Ариэле» мы слышим внутренний монолог Просперо, искушаемого соблазном навсегда, безвозвратно проститься с магией – и воображающего свою старческую тоску, когда еще можно ощутить витающий рядом аромат волшебства, но уже нет сил призвать его ослабевшими губами. Всего интереснее концовка стихотворения, заключенная в скобки – неожиданное aparte Ариэля, из которого следует, что не он был слугой волшебника, а наоборот – Просперо был марионеткой в руках высшего начала, которое олицетворяет Дух музыки.
Ужели он теперь свободен? Право, Меня смущает этот «снова герцог». Как он болтает в воздухе ногами, Подвешенный на нитке за корону Средь прочих кукол… Он устал играть!.. Какой финал могущества! Отрекшись, Остаться со своею голой жизнью, С одною силой собственной, «ничтожной»[135]…IX
Поэма У. Х. Одена «Море и Зеркало» (1944) с подзаголовком «Комментарий к шекспировской “Буре”», возможно, самая замечательная поэтическая дань, отданная Шекспиру английским поэтом XX века. Это не просто комментарий к пьесе, а как бы эпилог: действие закончилось, но всем главным и даже второстепенным персонажам еще раз дается право голоса.
«Зеркало» в заголовке – это, конечно, зеркало искусства. Поэма Одена – сложнейшая система зеркал, достойная самого изощренного физика-экспериментатора. Это не только по-разному повернутые зеркала Миранды, Фердинанда и других персонажей, в которых отражается содержание и проблематика пьесы; это, прежде всего, сам Шекспир, таинственно отраженный в своем Просперо, который, в свою очередь, отражается в зеркале оденовского Просперо, смешиваясь с отражением самого Одена, его личности и времени.
В первом приближении Просперо и Ариэль символизировали для Одена противоположные начала Разума и Чувства, Мудрости и Музыки. Оден считал, что у хорошего поэта они находятся в некотором динамическом равновесии (впервые он развернул эту теорию в статье о Роберте Фросте). Но сюда примешивается и личный мотив: его любовь к юному и ветреному Честеру Кальману, с которым он познакомился в Нью-Йорке. Их отношения быстро прошли все фазы, включая ревность, разрывы, примирения и расставание навсегда (потом выяснится, что не навсегда).
«Море и Зеркало» писалось в годы разлуки, и это сделало его первый монолог «Просперо – Ариэлю» еще более многослойным. Здесь не только маг Просперо прощается со своим волшебным жезлом и магическими книгами, не только Шекспир символически прощается с театром и с тем послушливым духом Воображения, который служил ему двадцать лет; здесь и сам Оден в минуту уныния прощается с Поэзией, и вдобавок ко всему: здесь он вновь переживает расставание с Кальманом, – который, как Ариэль у Шекспира, с самого начала рвался на волю:
Побудь напоследок со мной, Ариэль, помоги скоротать Час расставанья, внимая моим сокрушенным речам, Как прежде – блажным приказаньям; а дальше, мой храбрый летун, Тебе – песня да вольная воля, а мне – Сперва Милан, а потом – гроб и земля.Здесь Оден вторит Шекспиру: «And then retire me to my Milan, where / Every third thought shall be my grave». То есть: «И возвращусь в родной Милан, где каждой моей третьей мыслью будет мысль о гробе».
Любовь, поэзия и смерть ходят рядом; но присутствие первых двух отвлекает от третьей. «С тобой, – говорит Оден Ариэлю, – оживлялось одиночество, забывалась печаль».
Эти толстые книги теперь не нужны мне: ведь там, Куда я направляюсь, слова теряют свой вес; Оно и к лучшему. Я меняю их велеречивый совет На всепоглощающее молчанье морей. Море ничем не жертвует, ибо ничем не дорожит, А человек дорожит слишком многим, и когда узнает, что за всё хорошее нужно платить, Стонет и жалуется, что погиб, и он, точно, погиб.X
«Буря» в поэтической трактовке Одена, прежде всего, ars moriendi – наука умирания, наука расставания. Джон Фуллер замечает, что последовательность действий Просперо, которую мы наблюдаем в пьесе, естественно укладывается в основные категории Кьеркегора: его волшебная феерия – эстетическая фаза, прощение виноватых – этическая, отречение от магической силы – религиозная[136]. Важнейшая в «Буре» идея жизни как сна претерпевает у Одена внутреннюю трансформацию: сон-театр превращается здесь в сон-путешествие.
Итак, мы расходимся навсегда – какое странное чувство, Как будто всю жизнь я был пьян и только сейчас Впервые очнулся и окончательно протрезвел – Среди этой груды грязных нагромоздившихся дней И несбывшихся упований; словно мне снился сон О каком-то грандиозном путешествии, где я по пути Зарисовывал пригрезившиеся мне пейзажи, людей, города, Башни, ущелья, базары, орущие рты, Записывал в дневник обрывки нелепиц и новостей, Подслушанных в театрах, трактирах, сортирах и поездах, И вот, состарившись, проснулся и наконец осознал, Что это действительно путешествие, которое я должен пройти – В одиночку, пешком, шаг за шагом, без гроша за душой – Через эту ширь времени, через весь этот мир; И ни сказочный волк, ни орел мне уже не помогут.Последняя строка неожиданно соединяет старость с миром детства, мимоходом касаясь еще одной грани той же мифологемы сна – на этот раз сна как сказки (ср. у Мандельштама: «В кустах игрушечные волки / Глазами страшными глядят»).
В этой последней части монолога Просперо отплытие в Милан смыкается с метафорой смерти как последнего плавания.
Когда я доплыву, когда я вернусь обратно в Милан И пойму, что нам больше не свидеться никогда, Может быть, это будет не так уже страшно И не так уже важно; и впрямь, что такое старик? Глаза, вечно слезящиеся на ветру, голова, Дрожащая, как одуванчик, даже в теплых лучах Полудня; рассеянный, неуклюжий ворчун – И так далее. Когда слуги устроят меня В кресле в каком-нибудь тихом месте в саду И укутают пледом колени, смогу ли я удержаться И не рассказать им, что я уплываю один В океан, через тысячи волн, через тысячи миль?.. Но заговорить – это значит снова хлебнуть Соленой воды. Научусь ли когда-нибудь я Страданию без иронии и без шутовства?Здесь образы Одена выходят за границы собственно «Бури». Старик со слезящимися глазами и головой, дрожащей в теплых лучах солнца, вызывает в памяти слова Корделии: «Как можно жалости не испытать / При виде этих белых длинных прядей?»[137]. Мысль о «страдании без иронии и шутовства» – это опять скорее о короле Лире, чем о Просперо. Две пьесы как будто смешиваются в сознании Одена. И финал его монолога – «Последнюю песню пропой, Ариэль, мне» – та самая мольба о последнем утешении, о которой мы говорили в связи с «Королем Лиром».
Пропой мне негромко О нежной разлуке, О жизни и смерти, Утешно и тихо Пропой человеку, Который навечно, что б это ни значило, С грустью и болью, что значит – любовью, Вступает, дрожа, На дорогу смиренья.XI
Много говорилось о протеистическом характере Шекспира, его способности никак не проявлять себя в своих персонажах, быть каждым и никем. Это верно в отношении «Гамлета» и «Отелло», «Макбета» и «юлия Цезаря». Но «Буря» – совсем другое дело. Здесь Просперо выступает не только как главный герой, но как автор и режиссер своего заключительного представления. То есть он сам становится Шекспиром. И не скрывает этого тождества. В эпилоге пьесы, уже на половину сняв маску, он просит публику аплодировать, чтобы развеять чары колдовства, приковавшие его к волшебному острову сцены. Его последняя фраза, обращенная к публике: «Let your indulgence set me free». То есть: освободите меня, отпустите на волю.
Но при всей важности темы Просперо, действие не сосредоточено всецело на нем. Уход волшебника печален, но на каком светлом, чарующем фоне он происходит! Как прекрасна эта молодая чета, задумчиво играющая в шахматы, этот отпущенный на свободу летун Ариэль, эти счастливые матросы с ошалевшим от радости боцманом, готовые снова выйти в море, – даже этот явно поумневший Калибан.
Шекспир показывает нам двуплановость мира, которую так хорошо понял Оден в «Musée de Beaux Arts»: главный герой может погибнуть, но «корабль, с которого не могли / Не видеть, как мальчик падает с небосклона, / Был занят плаваньем, все дальше уплывал от земли».
Мир, что ни день, обновляется, и в рассветном свете он так же юн, как и прежде. Потому-то не вечерняя мудрость Просперо:
Мы созданы из той же самой ткани, Что сны, и наша маленькая жизнь Объята океаном сновидений, –а утреннее, наивное восклицание Миранды: «What brave new world!» (О дивный новый мир!) – определяет тональность финала «Бури».
Точнее, Шекспир достигает здесь такого сочетания контрастных мотивов, которые, «как дождь и солнце», усиливают действие друг друга и разрешаются в гармоническом единстве, казалось бы, доступном одной только музыке.
Заключение
«Король Лир» и «Буря» принадлежат позднему периоду творчества Шекспира; «Лир» написан в 1606 году, «Буря» – в 1611-м. В обеих пьесах главный герой – стареющий властитель, а тема – расставание с властью: короля в первом случае, могущественного мага – во втором. В эти поздние годы Шекспир уже не пишет комедий, хотя комических сцен в его пьесах по-прежнему предостаточно; но центр внимания переносится с любви и порывов молодости на семейные отношения и проблемы возраста. Хотя Шекспир, по нашим сегодняшним понятиям, еще не стар, но уже наступило последнее десятилетие его жизни, и, как писал А. Блок в своей статье о «Короле Лире»: «Дерево безошибочно знает о приближении осени…»
Возраст и есть то первое, простое обстоятельство, которое определяет особенный, глубинный лиризм этих произведений и поясняет нам слова Уильяма Хэзлитта о «Короле Лире»: «Это лучшая из пьес Шекспира, ибо в ней он более всего раскрыл свою душу».
Обратим внимание на центральную роль бури в обеих этих пьесах. Джордж Оруэлл в статье «Лир, Толстой и Шут» писал, что сильнейшее воздействие трагедии связано не только с силой поэтического слова; ее можно представить и в кукольном театре, и в пантомиме, и в серии иллюстраций. «Закройте глаза и вообразите себе “Короля Лира”, по возможности не вспоминая диалогов. Что вы видите? Вот что вижу я: величественный старик в длинной черной мантии с ниспадающими седыми волосами и бородой, сотрясаемый ударами бури, бредет, кляня и обвиняя небеса, в сопровождении шута и сумасшедшего».
Если таким же образом, закрыв глаза, представить себе шекспировскую «Бурю», получится на удивление похожий образ. Перед нами снова – величественный старец; только его воздетые к небесам руки не проклинают, но властно заклинают бурю исполнить его волю; а радом с ним мы видим не шута и сумасшедшего, а духа воздуха Ариэля и исчадье земли Калибана.
Проклятья короля Лира бессильны, они лишь сотрясают воздух:
Дуй, дуй, ветрище, лопни от натуги! Хлещи наотмашь, ливень! Затопи Коньки домов и шпили колоколен! Вы, мстительные вспышки грозовые, Предвестники громовых мощных стрел, Валящих наземь сосны, опалите Седую голову мою! Ты, гром, Расплющи чрево круглое земли, Испепели зародыши Природы И размечи по ветру семена Людей неблагодарных!Заклинания Просперо, наоборот, обладают действенной силой – духи воды и воздуха покорствуют ему. Буря, устроенная волшебником, топит корабль, на котором плывут его враги (топит, как потом выяснится, не всерьез), и отдает их в полное его распоряжение. Но оказывается, не отмщения ищет Просперо, не гибели злодеев, но примирения с ними. Его даже не слишком заботит, насколько искренне их раскаяние; он прощает всех.
Просперо так же добровольно отрекается от своей магии, от власти над миром духов, как Лир – от короны; но если король приводит логические объяснения этому жесту – старость, тяжелое бремя власти, то Просперо таких объяснений не дает. Как сказал другой поэт: «Тут прошелся загадки таинственный ноготь…» Объяснений может быть сколько угодно – аллегорических, символических, философских.
Ясно лишь одно: по-другому окончиться пьеса не могла, иначе это была бы уже не «Буря», а (допустим) «Волшебная флейта», и это был бы не Шекспир, а оперный либреттист с радостным финалом: «Мрак рассеивается, восходит солнце. Жрецы славят разум, доброту и справедливость великого Зарастро».
«Буря» кончается совсем не так. Отказавшийся от своего могущества Просперо предстает перед нами в растерянности и отчаянии. Он молит милости у Неба и одновременно – снисхождения у публики. Он просит освободить его, отпустить с волшебного острова сцены в мир людей, хотя и знает, что там ему предстоит одна последняя задача: приготовиться к смерти.
Джон Донн, обладавший глубоким драматическим инстинктом, не зря культивировал жанр стихов на прощание – «валедикций». Сказанное в момент разлуки вырастает в своем значении. Эта щемящая нота прощания пронизывает и финал «Бури».
Так всегда у Шекспира. Разгул темных стихий неизбежно разрешается гармоническим примирением и утешением.
В четвертом акте «Короля Лира» королевский врач лечит безумного государя музыкой. «Играйте громче, – велит он музыкантам. – Пусть король проснется». Лир пробуждается и видит Корделию, которую сначала принимает за ангела. Ему кажется, что он в раю. Наконец он узнает свою дочь, и по лицу короля, еще недавно пытавшегося перекричать гром и бурю в степи, текут слезы вины и тихой радости…
Первая сцена «Бури» – корабль в море, застигнутый штормом. Свист ветра, удары волн, крики и ругань матросов. Смятение усиливается. Трещат и рушатся мачты, разносятся громкие вопли отчаяния: «Мы погибли! Тонем!»
И вдруг – тишина. (Вы бы не услышали этой тишины без предшествующего ему адского грохота.) Действие переносится на волшебный остров. Еле слышная музыка: она то приближается, то отдаляется и пропадает. Миранда внимает рассказу отца и плачет, сострадая его минувшим бедам…
Шекспировский мир построен на контрасте. На одном полюсе – хаос страстей: буря, удары грома, лязг оружия, отчаянье и ярость, на другом – музыка, красота и слезы умиления, эта роса небес, сошедшая на землю.
* * *
Две поздние пьесы Шекспира – два шага его мысли, две ступени нашего понимания. В «Короле Лире» преобладает «шум и ярость» от столкновения несовместимых начал доброты и злобы; страшная буря в третьей части является наивысшей точкой, fortissimo этого яростного столкновения.
В «Буре» уже не люди, как бы они ни были порочны, главные противники человека, а время и судьба. Стихия музыки, которая в «Лире» помогала исцелить безумного короля, здесь заполняет все пространство зачарованного острова. Счастливые Миранда и Фердинанд уплывают в манящий их «новый, прекрасный мир»; старый волшебник, сломав свой магический жезл, плывет навстречу собственной смерти. Но музыка примиряет всех. Как сказал Оден в своих шекспировских лекциях (если только за ним правильно записали), «последнее прибежище человека – музыка».
Это очень шекспировская мысль.
Уильям Шекспир Буря. Сцены из пьесы
Сцена II
Остров. Перед кельей Просперо.
Входят Просперо и Миранда.
Миранда
Отец любимый, если это вы Своим искусством взбунтовали волны, Смирите их! За валом грозный вал Штурмует небо, а оттуда льется Кипящий черный вар. Вдали, у мыса, Я видела, прекрасный галеон (Он, верно, благородных вез синьоров) Разбило в щепки. О, как сердце сжалось, Когда сквозь грохот волн ко мне донесся Вопль гибнущих! Будь я всесильным богом, Я бы всосала море в глубь земли, Не дав ему жестоко поглотить Корабль с живыми душами.Просперо
Ну, полно! Не надрывай напрасно грудь слезами – Ведь никакого зла не совершилось.Миранда
Ужасный, жуткий день!Просперо
Поверь, Миранда, Все делается к твоему же благу. О дочь моя, ты многого не знаешь – Ни кто такие мы, ни почему Живем здесь. Для тебя я лишь Просперо, Сердечно любящий тебя родитель И обитатель этой бедной кельи.Миранда
К чему мне больше знать?Просперо
Пришла пора Узнать побольше. Помоги мне снять Мой плащ волшебника.Миранда помогает ему снять плащ.
Присядем рядом. Утешься, милая, утри глаза! Поверь мне, сцена кораблекрушенья, Которой ты потрясена до слез, Задумана и сыграна так ловко, Что ни одна душа на корабле, С которого неслись мольбы и крики, Не пострадала. Можешь мне поверить: Никто не потерял ни волоска. Но слушай дальше.Миранда
Вы не раз, отец, Желали мне сказать о чем-то важном, Но каждый раз себя перебивали Словами: «Подождем. Еще не время!»Просперо
Настало время. Но сперва ответь мне: Ты помнишь что-нибудь из той поры, Когда мы жили далеко отсюда? Хотя навряд ли! Ты была младенцем Трех лет всего.Миранда
Мне кажется, я помню.Просперо
Не может быть! Что именно? Свой дом Иль чье-нибудь лицо? Что удержалось В ребячьей памяти?Миранда
Я вижу все Как будто сквозь туман – не понимая, Где явь, где сон. При мне как будто были Три или пять прислужниц?Просперо
Даже больше. Ужели это столько лет живет В твоей головке? Что еще? Поройся В глубокой бездне времени; скажи: Как мы сюда попали?Миранда
Нет, не знаю…Просперо
Так знай: двенадцать лет тому назад Родитель твой был герцогом Милана – Могущественным князем.Миранда
Вы и впрямь – Отец мой?Просперо
Да, дружок. По крайней мере, Так слышал я от матери твоей – Чья добродетель выше всех сомнений. Отсюда следует, что ты мне дочь, Наследница и, как никак, принцесса Миланская.Миранда
Но что же приключилось? Какие злые козни или случай Нас привели сюда?Просперо
То и другое. Сперва, Миранда, были злые козни, Потом – счастливый случай.Миранда
Ах, отец! Мне совестно, что я своим вопросом Разбередила вашу боль. И все же – Я знать хочу.Просперо
Единственный мой брат, По имени Антонио, твой дядя, Которого любил я, как себя, – Возможно ли, чтобы любимый брат Таил в себе такое вероломство! – Моим доверьем облеченный, правил Делами герцогства. Все шло прекрасно; Я оставался властным государем, Но, увлеченный свыше всякой меры Ученьем книжным, всей душой стремясь Постигнуть тайное, – от дел правленья Все больше отходил; а между тем Коварный брат, твой дядя, – ты следишь За тем, что говорю?Миранда
Со всем вниманьем.Просперо
Он, изучив придворные пружины, Искусство поощрять и отвергать, Одним дать ход, других же, слишком рьяных, Попридержать, – сумел переманить К себе всю знать; или, сказать иначе, Держа в руке ключи от должностей, А, значит, и сердец моих придворных, Он их настроил на свой лад. Как плющ, Обвился он вкруг моего престола И заглушил все ветки. Ты следишь?Миранда
Да, батюшка.Просперо
Смотри, что было дальше. Я, отстранившись от земных забот, Весь погруженный в поиск совершенства И знаний, ценностью превосходящих Все в мире, – пробудил в неверном брате Гадюку-зависть, и мое доверье Зачало с ней ужасного ублюдка – Злой умысел, столь подлый, сколь безмерно Мое доверье было. Наделенный Моими полномочьями, присвоив Не только прибыль нашу, но и славу, С правленьем слитую, он возомнил – Как тот, кто, часто повторяя ложь, Насилует податливую память, – Что он и есть единственный властитель, И честолюбие его толкнуло – Да полно, слушаешь ли ты меня?Миранда
Такой рассказ бы исцелил глухого.Просперо
Толкнуло уничтожить все преграды Между актером и желанной ролью – Иначе говоря, он вздумал сам Стать герцогом Миланским. Мол, Просперо Сам схоронил себя навеки в книгах. Сочтя меня к правленью непригодным, Он снесся, как изменник, с королем Неаполя, пообещав ему Склонить Милан, до той поры свободный, Под власть короны неаполитанской И ежегодно дань платить.Миранда
О Боже!Просперо
Не правда ли – поверить невозможно? И это – собственный мой брат родной!Миранда
На бабушку мою не брошу тени; Родятся и от семени благого Гнилые отпрыски.Просперо
Внимай же дальше. Король Неаполя, мой давний враг, Выслушивает предложенье брата, А именно – за денежную дань И прочие вассальные условья Изгнать меня с семейством из Милана, А герцогские почести и титул Отдать Антонио. Король с войсками Подходит ночью к городу – ворота Уже предательски открыты братом – И тут же, под покровом темноты, Врываются, хватают и увозят Меня и громко плачущую крошку, То есть тебя.Миранда
О горестная сцена! Не помню, плакала ли я тогда, Но слушая сегодня, плачу снова.Просперо
Осталось досказать совсем немного, А там от бедствий прошлого вернемся К событьям нынешним. В них оправданье Рассказа моего.Миранда
Но почему Они нас сразу же не умертвили?Просперо
Естественный вопрос. Отвечу так: Они на это не могли решиться – Народ меня любил; к тому ж, боялись Таким деяньем сразу запятнать Свое правленье; план их был хитрее. Короче говоря, нас погрузили На судно, отвезли подальше в море, А там уж в приготовленную шлюпку Спустили – ветхую лохань без весел, Без паруса и мачты. Даже крысы С нее сбежали. Что мне оставалось? Стенать, роптать и жаловаться ветру, Который крики заглушал, стеная От жалости.Миранда
Какой же я обузой Была вам, батюшка!Просперо
Нет, не обузой – Но ангелом-хранителем. В то время, Пока слезами волны я солил, Ты улыбалась мне светло и кротко, Вселяя в сердце волю и решимость Все претерпеть.Миранда
Но как же мы спаслись?Просперо
По воле Провидения. Гонзало, Тот благородный неаполитанец, Кто получил приказ покончить с нами, Из сострадания снабдил нас пищей, Водой, одеждой и другим припасом, Что позже оказался очень кстати Для наших нужд. По доброте своей Он мне позволил захватить в дорогу Те книги из моей библиотеки, Что я ценил дороже королевств.Миранда
Увидеть бы мне этого вельможу!Просперо
Еще немного посиди; дослушай. Нас выбросило на безлюдный остров; И здесь я стал наставником твоим, Принесшим, я надеюсь, больше пользы, Тебе, Миранда, чем ее приносят Иным принцессам – тьмы учителей.Миранда
Вознаградят вас небеса за это! Но объясните мне, отец, зачем Вы эту бурю вызвали?Просперо
Отвечу. Случилось так, что щедрая Фортуна (Отныне благосклонная ко мне) Сегодня в эти воды привела Моих врагов; и было мне знаменье, Что если упущу я этот случай, То не знавать удачи мне вовек… На том прервемся. Подремли немного. Смежи ресницы. Не противься сну.Миранда засыпает.
(2)
АКТ 4 СЦЕНА 1
Перед кельей Просперо
Входят Просперо, Фердинанд и Миранда.
Просперо
Я обошелся с вами слишком строго, Зато воздам с лихвой. Треть своей жизни Отныне в руки вам передаю. Мои придирки к вам и притесненья Лишь были испытанием любви – Вы с честью выдержали испытанье. Здесь, перед небом, подтверждаю снова Свой щедрый дар. Перехвалить невесту Я не боюсь. Вы сами, Фердинанд, Увидите, что никакой хвале За нею не угнаться.Фердинанд
Знаю это Без всякого оракула.Просперо
Итак, Примите дочь мою; вы заслужили Награду эту. Но остерегитесь Нарушить целомудренные узы До совершенья всех святых обрядов И брачных церемоний; в наказанье Не благодатная роса небес, Животворя, на ваш союз прольется, Но тернии презренья и обиды Осыплют вашу брачную постель И вы возненавидите друг друга, Как два врага. Дождитесь же Гимена И светочей его.Фердинанд
Клянусь надеждой На мир и лад в дому, детей прекрасных И долголетье, что ни случай-сводник, Ни мрак поблажливый, ни подстреканья Природных низших сил не запятнают Честь – похотью, заране обокрав Тот день торжественный, когда я буду Бранить за медленность упряжку Феба, Гадая, кто же Ночь пленил в пути.Просперо
Отлично сказано. Усядьтесь рядом. – Ну, Ариэль! Явись, мой дух любезный!Входит Ариэль.
Ариэль
Я здесь. Чего желает мой хозяин?Просперо
В последний раз ты со своей ватагой Достойно выполнил мое заданье. Даю тебе другое. Собери Тех духов, что я дал тебе в подмогу, – Да побыстрей. Я обещал сейчас Дать этой юной паре подтвержденье Искусства моего. Труд не велик, Но слово надо выполнять.Ариэль
Сейчас?Просперо
Я же сказал – сейчас, в мгновенье ока!Ариэль
Не успеешь ты мигнуть Или пальцем шевельнуть, Как уже мы мчимся в путь – Всей толпою, как один, Наперегонки летим! Ты доволен, господин?Просперо
Вполне, мой милый Ариэль. Но спрячьтесь, Пока не позову.Ариэль
Уже, хозяин!Ариэль уходит.
Просперо
Но не давайте слишком много воли Проказам юным. Кровь – такое пламя, В котором плавятся любые клятвы. Поосторожней с ней.Фердинанд
Не беспокойтесь. Холодный, чистый и безгрешный снег Лежит на сердце у меня, смиряя Горячку крови.Часть III Джон Донн
Житие преподобного доктора Донна, настоятеля собора св. Павла
Влондонском соборе Св. Павла есть статуя Джона Дон на. Он стоит на пьедестале, за кутанный в саван, спеленатый его беломраморными складка ми, – безжизненная куколка, из которой выпорхнула и отлетела душа поэта – последняя метафора короля метафор, «монарха всемирной монархии Ума», как называли его современники.
Пожар 1666 года уничтожил старое здание собора со всем, что в нем было, но провидение сохранило памятник Донну: так же, как сохранило его и в 1940 году, когда храм Св. Павла – великолепное барочное сооружение Кристофера Рена – сильно пострадал во время жестоких многонедельных бомбардировок Лондона. Лишь какая-то бурая подпалина осталась на постаменте – то ли след «Великого лондонского пожара», то ли знак внутреннего огня, сжигавшего пленный дух того, кто в течение десяти последних лет был настоятелем со бора, – преподобного доктора Донна.
Джон Донн. Пьер Ломбар, 1633 г.
Судьба его если не для жития, то уж для нравоучительного романа про раскаявшегося грешника подходит идеально. Сперва мы видим молодого повесу, искателя любви и приключений; легкомысленного поэта, что ради красного словца не пожалеет, как говорится, ни мать, ни отца. Затем – улыбка фортуны, начало многообещающей государственной службы; и вдруг – резкий поворот: роковая страсть к племяннице своего патрона и тайный брак, ломающий так удачно начатую карьеру (1601). Долгие годы, проведенные в унизительной бедности, невзгоды, заботы, смерть детей (Мэри и Фрэнсис – 1614) и, наконец, решение принять духовный сан (1615). Сожаление о написанных в молодости стихах и полное их осуждение. Слава блестящего, красноречивейшего проповедника, все более ревностное, страстное служение Всевышнему, благочестивые раздумья о смерти. Смиренная кончина – венец и апофеоз христианина (1631). О такой ли судьбе и о такой ли кончине он писал в молодости, обращаясь к своей возлюбленной:
Без страха мы погибнем за любовь; И если нашу повесть не сочтут Достойной жития, – найдем приют В сонетах, стансах – и воскреснем вновь. Любимая, мы будем жить всегда, Истлеют мощи, пролетят года – Ты новых менестрелей вдохнови! И нас канонизируют тогда За преданность Любви. («Канонизация»)В наследии Донна проповеди и богословские труды занимают куда больше места, чем стихи. И все же славен он «в подлунном мире» именно стихами. Впрочем, канонизация Джона Донна как великого поэта была и долгой, и очень не простой. В середине XVII века его посмертная слава достигла пика. Целая плеяда поэтов (получившая впоследствии название «метафизической школы») почитала его своим учителем. Но сменился век, и сменились вкусы. Стиль Донна, с точки зрения классицизма, был слишком сложным и вычурным. Уже Драйден пишет (в 1692 году): «Он пускает в ход метафизику не только в своих сатирах, но и в любовных стихах, где должно править одной Природе, засоряя го ловки милых дам сложными философическими умозрениями, когда ему следовало бы обратиться к их сердцам, дабы увлечь их нежностями Любви».
А Сэмюэл Джонсон в 1781 году выносит окончательный вердикт: «Эти примеры (из стихов Донна) доказывают, что все нелепое и порочное – следствие добровольного отклонения от природы в погоне за новизной и странностью и что, желая по разить, писатель оказывается неспособным восхитить».
Таким образом Джон Донн оказался надолго вытесненным из популярных антологий – всех этих «Золотых кладовых» и «Жемчужин английской поэзии». Понадобился весь девятнадцатый век, да еще с придачей, чтобы в этом «странном» авторе распознать одного из вели чайших поэтов английского языка. Поворотной тут была статья Элиста 1921 года. После этого слава Донна идет crescendo. Он оказался удиви тельно созвучен XX веку и немало повлиял на ряд крупных поэтов – от того же Т. С. Элиота до нашего Иосифа Бродского.
Видимо, та «существованья шаткость», о которой писал Донн, оказалась сродни нашему сегодняшнему мироощущению. Ведь он жил в такое время, когда жизнь человека его класса слишком часто зависела от прихоти фортуны. Это была эпоха, когда состояния наживались так же быстро, как терялись, и за головокружительным возвышением могла последовать внезапная и решительная опала. Это был век острейших религиозных распрей и споров, век постоянных войн и внешних угроз стране и монархии, век шпионов и доносчиков, интриганов, искателей карьеры, всевозможных «флибустье ров и авантюристов».
И в то же время это был век бурного развития искусств. Донн родился в 1572 году. Когда, получив первоначальное образование в Оксфорде и Кембридже, он приехал в Лондон, Шекспир заканчивал третью часть «Генриха VI». За не сколько ближайших лет он напишет еще «Укрощение строптивой» (1593), «Два веронца» (1594), «Ромео и Джульетту» (1595), «Сон в летнюю ночь» (1595). В эти годы молодой Джон Донн – студент правоведения в лондонской юридической школе Линкольнз-Инн. По воспоминаниям современника, это был «блестящий молодой кавалер, жадный до развлечений, но не беспутных, а вполне благопристойных, большой поклонник дам (“а great visiter of ladies”), заядлый театрал и сочинитель весьма изощренных стихов».
Бен Джонсон считал, что все лучшее было написано Донном к двадцати пяти годам, следовательно, до 1597 года. Это едва ли верно, тем не менее, многие из его сатир и элегий, вероятно, уже ходили в рукописях, и он успел стяжать себе репутацию блестящего и циничного остроумца, а также лирика с особой реалистической жилкой, идущей вразрез с модной в то время любовной поэзией.
Вспомним опять «Ромео и Джульетту». Не смотря на весь ее итальянский антураж, это пьеса о современном Шекспиру Лондоне, где распря между знатными домами вполне могла вылиться в уличную потасовку вроде той, с ко торой начинается трагедия. В группе молодых людей из враждующих семейств Монтекки и Капулетти легко узнать портреты типичных лондонских кавалеров. Донн вполне мог бы водить дружбу с Ромео и Бенволио, Меркуцио и Тибальтом. Как остряк, он бы заткнул за пояс Меркуцио; как ухажер, перещеголял бы Ромео; как забияка, должно быть, не уступил бы Тибальту. И при случае вполне мог бы закатить истерику со слезами, как Ромео в келье брата Лоренцо.
«Обилие слез в поэзии Донна и в пьесах елизаветинцев, – писал один из современных критиков, Джеймс Ривз, – указывает на поразительную разницу темпераментов между тем веком и нынешним. В наше время британская традиция предписывает мужчине стоическое поведение, исключающее слезливость. Владение своими чувствами и подавление эмоций считается нормой. С этой точки зрения, многое в стихах Донна и драмах Шекспира покажется просто непонятным. Правда, и персонаж Шекспира, потрясенный утратой жены, ребенка или друга, просит прощенья за свои «немужественные капли» ('unmanly drops'), но сама частота упоминания этих «капель» свидетельствует о такой привычке поведения, когда эмоции располагаются очень близко к поверхности и в любой момент могут найти выход в жестокости, истерике или поэзии».
И лишь в одном отношении Донн стоял не измеримо выше, чем золотая веронская молодежь. Он был не только пылок и необуздан, но – интеллектуален. Причем в лучших его стихах ум и чувство едины, между ними нет то го конфликта, который ощутим, например, у поэтов-романтиков. Донн никогда не смог бы воскликнуть, как Китс: «О, если бы жить не мыслями, а ощущениями!» («О for a life of sensations, rather than of thoughts!») В наше время чисто эмоциональная лирика, пользующаяся заклинаниями типа: «Любовь моя – роза красная», уже не может полностью удовлетворить взрослого читателя: слишком многое ему надо забыть, чтобы перенестись в этот наивный Эдем чувства. Но чтобы читать и ценить Дон на, совсем не требуется «отключить мозги» и вернуться к младенческой невинности, когда «любовь питалась молоком грудным».
Но в зрелых летах ей уже некстати Питаться тем, что годно для дитяти. («Портрет»)Джон Донн смело пошел наперекор поэтической моде. Канон, утвержденный петраркистами, требовал, чтобы предмет любви (дама) был вознесен на пьедестал недостижимого совершенства, у подножья которого влюбленный (поэт) вздыхал, изнывал, а в особо торжественных случаях умирал от любви. Донн не только понял, что любовь совсем не такова, у него хватило самобытности начать писать совершенно по-другому.
Вертикаль отношений он заменил на гори зонталь – и отменил вассальную зависимость в любви. Разговор пошел на равных; а если по рой и сверху вниз, то это иногда – бунтарский перехлест, юношеская поза, но чаще – трезвый взгляд на природу женщин (и мужчин), порождающий грусть, насмешку и горечь.
Я дважды дурнем был: Когда влюбился и когда скулил В стихах о страсти этой… («Тройной дурак»)Но рядом со скептическими и насмешливыми строфами – стихи, поражающие цельностью и высотой чувств. В них возвеличивается не Дама, а сама Любовь, абсолютное слияние и единство любящих душ. Философская подоплека этих стихов – итальянский неоплатонизм, но под пером Донна абстрактные идеи выливаются в живые и страстные гимны. Таковы «Доброе утро», «К восходящему солнцу», «Канонизация», «Годовщина» и другие стихотворения.
Интересно, что (в отличие от обычной мадригальной поэзии) тут нет никаких похвал красоте возлюбленной, эстетический момент полностью вытеснен этическим. Разговор, повторяю, идет на равных. Поэт требует от своей избранницы понимания, верности, умения хранить тайну, терпения и мужества. (Согласимся, что это мало похоже на список традиционных женских добродетелей.) Сам нетривиальный способ рассуждений, подразумевающий в собеседнице незаурядный уровень интеллекта, выказывает такое уважение к ней, которое никогда не совмещается с расхожими любезностями и обрядовой лестью.
Все это было настоящим прорывом в лирике. И новый тип героини, и новый способ утвердить – вопреки естественному скепсису, поверх пестрого сора житейских обстоятельств и поэтических условностей – сокровенную, сакральную сущность Любви. Даже запрет рыданий в час разлуки он связывает с обязанностью хранить тайну:
Кощунством было б напоказ Святыню выставлять профанам. («Прощание, запрещающее печаль»)Но как же все-таки совмещается несовмести мое? Жрец высокой любви и легкомысленный отрицатель, циник, способный закончить сти хотворение таким афоризмом:
Нет, знавший женщин скажет без раздумий: И лучшие из них мертвее мумий. («Алхимия любви»)Неправда ли, трудно представить, что такие разные стихи написаны одним человеком? А почему, собственно, трудно? Разве не один ав тор почти одновременно сочинял и нежный монолог Джульетты, и скабрезные шутки кормилицы? Но то, скажут, – пьеса, драматургия, а это – лирика. Да, но лирика, вскормленная драматургией, насквозь пронизанная драматическим действием. Что касается элегий, это просто бросается в глаза: они построены, как монологи в пьесе, только сценических ремарок не хватает. Но возьмите и «песни с сонетами». Например «Призрак»:
Когда убьешь меня своим презреньем, Спеша с другим предаться наслажденьям, О мнимая весталка, – трепещи! («Призрак»)Ей-богу, Донн запугивает здесь свою слушательницу точь-в-точь, как озорник, рассказывающий в темной спальне историю про синюю руку! Просто слышно, каким зловещим, завывающим голосом произносятся эти «трепе щи!» – «и задрожишь ты…» – «и призрак над тобой / Произнесет…». Но в этот самый патетический момент, когда уже готовы прозвучать слова призрака, следует чисто театральная пауза, нагнетающая ужас до предела… и неожиданное продолжение:
Но нет, еще не время! –мастерский удар, оставляющий жертву в «под вешенном», неопределенном состоянии (шахматист бы сказал: «Угроза сильнее выполнения»).
Нам сейчас даже трудно представить, на сколько театрализована была жизнь в ту эпоху, насколько естественно воспринималась знаме нитая (еще античная) сентенция: «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». Но без этого мы не поймем самой сути великих людей Воз рождения, этого «племени гигантов», по выражению Кольриджа, – их противоречивости, многогранности, универсальности. Один чело век мог быть и дипломатом, и воином, и мореплавателем, и ученым, и поэтом. Ведь это требовало не только энергии и ума, но и при вычки к перевоплощению.
Таким артистизмом в высшей степени обла дал Донн. Не случайно, что, оставив поэзию, он сделался знаменитым на всю Англию проповедником. И проповеди его были не менее блестящи, чем стихи. Воистину – природа артиста боится пустоты!
Но и в самой религиозности Донна заключается, по-видимому, глубокий конфликт или, вернее, целый клубок конфликтов. Мы многого не поймем в его темпераменте и в его поэзии, если не учтем среды, из которой вышел Донн. Он родился и был воспитан в чисто католической семье; одним из его предков был знаменитый Томас Мор, казненный Генрихом VIII за отказ признать англиканство. В восьмидесятые годы погиб на эшафоте его дядя по матери, Джаспер Хейвуд. Католицизм в те времена жестоко преследовался в Англии, фактически на ходился вне закона. В 1593 году был арестован (за укрывательство католического священника) и умер в тюрьме младший брат Джона Донна, Генри. То есть Донн происходил из среды гонимых, «граждански неполноценных» людей. И хотя впоследствии (вероятно, около 1596 года) он перешел в англиканство – без этого его не взяли бы на государственную службу, – «маргинальность» происхождения, компромисс, на который ему пришлось пойти, не мог не оста вить глубокого следа в душе поэта. Сан англиканского священника, который он после долгих колебаний принял (по настоянию короля Якова), можно рассматривать, как продолжение этого компромисса. Конфликт между внутрен ней свободой человека и оказываемым на нее извне давлением прочитывается, например, в третьей сатире Донна.
Власть как река. Блаженны те растенья, что мирно прозябают близ теченья. Но, если, оторвавшись от корней, Они дерзнут помчаться вместе с ней, Погибнут в бурных волнах, в грязной тине И канут, наконец, в морской пучине. Так суждено в геенну душам пасть, что выше Бога чтят земную власть.В биографии Джона Донна есть довольно загадочный эпизод, связанный с его путешест вием в молодости за границей. Что такое путешествие состоялось и что он провел значительное время в Италии и в Испании, несомненно. Но когда это было, точно неизвестно; биографы склонны считать, что в 1589–1591 годах, после Кембриджа, но до поступления в лондонскую юридическую школу. Туман неизвестности, которым покрыта эта часть жизни Донна, дает основание предположить, что речь могла идти о получении католического образования. В ту пору много английских юношей-католиков по кидало родину из религиозных соображений. На волосок от эмигрантской судьбы был и Донн, но что-то ему, по-видимому, не понравилось в открывшейся перспективе, карьера миссионера и мученика не прельстила его. Во вся ком случае, месяцы, проведенные на континенте, дали ему возможность усовершенствоваться в языках итальянском и испанском; в его сатирах и элегиях приметно влияние не только древнеримского, но и итальянского ренессансного острословия – в особенности, глумливой и пародийной поэзии Франческо Берни.
Этот средиземноморский перец недурно приправляет суровую метафизику его мысли. Глобальный, космический охват явлений, жгу чий интерес к «последним вопросам» бытия пульсирует уже в ранней лирике Донна. Что та кое его послания, его знаменитые валедикции (прощания), как не попытки преодоления времени и пространства? Разлука влюбленных для него – всегда метафора смерти.
Но наш не вечен дом, И кто сие постиг, Тот загодя привык Быть легким на подъем. («Песенка»)Так говорит поэт, оправдывая перед люби мой свой отъезд. Такой нешуточной интонации не было еще в мировой поэзии. Донн – одна из высочайших вершин европейского Возрождения именно потому, что в нем с предельной силой выражено индивидуальное, отделенное от коллективного бытия, сознание и бытие человека. И это нисколько не противоречит тому, в чем ярко проявилась и тяга к единению – единению с любимой, с людьми и с Богом. Ибо только часть, отъединенная от целого, может так страстно стремиться к воссоединению.
«Кто не склонит слуха своего, заслыша скорбные звуки колокола? Кто не ощутит, что этот звон уносит из мира часть его собственного бытия? Ни один человек не есть остров, но каждый – часть материка, часть целого; если в море смоет даже один комок земли, Европа станет меньше, как если бы это был мыс, или поместье вашего друга или ваше собственное. Смерть каждого человека умаляет меня, ибо я един с человечеством. Итак, ни когда не посылай узнать, по ком звонит коло кол: он звонит по тебе».
Неудивительно, что мы встречаем интонации любовной лирики Донна у индивидуалистов нового времени. Например, у Байрона в прощальных «Стансах к Августе» («Когда время мое миновало…»):
Ты из смертных, и ты не лукава, Ты из женщин, но им не чета, Ты любви не считаешь забавой, И тебя не страшит клевета… (Перевод Б. Пастернака)Речь идет об опоре на беззаветно верное женское сердце, когда уходят из-под ног все другие опоры – мотив гамлетовский – и донновский. (Такая идейная связь тем более интересна, что прямое влияние Донна на Байрона маловероятно.)
Поэзия нашего века, претендующая на «вывихнутость сустава», как на некую аристокра тическую родовую примету, многим обязана Донну напрямую. Знаменитая, «рекордная» метафора из «Прощания, возбраняющего печаль» – сравнение влюбленных с ножками цир куля, перекрытая уже Марвеллом (середина XVII века) в его геометрическо-астрономическом «Определении любви», многократно превзойдена по изощренности и проработке деталей в стихотворении Бродского «Пенье без музыки» (1970), которое без чертежа, пожалуй, и не разберешь.
Вообще, наука – астрономия, химия, физиология и так далее – занимает в образной системе Донна примерно то же место, что в «обычной» ренессансной поэзии занимала мифология. И пусть конкретные факты и представления, на которые он ссылается, – атрибуты еще, по существу, средневекового знания, здесь важна сама тенденция.
Донн почти не упоминает античных божеств (Аполлона, Венеры и прочих). Внешняя, пластическая гармония не обольщает его, ведь об лик – лишь оболочка, скрывающая суть, а он, прежде всего, – поэт духа. Даже его эротические стихи, при всей их вольности, скорее спи ритуальны, чем чувственны:
Явись же в наготе моим очам: Как душам – бремя тел, так и телам Необходимо сбросить груз одежды, Дабы вкусить блаженство. Лишь невежды Клюют на шелк, на брошь, на бахрому – Язычники по духу своему! («На раздевание возлюбленной»)Невежда, профан – вот истинный антагонист Донна. Он олицетворяет новую подвижность ума, по сравнению с которым старое мышление архаично, как рыцарский поединок с длинным прямолинейным разгоном и оглуши тельным железным грохотом сшибки.
Его оружие – не копье, а шпага. Его аре на – не дикое ущелье и не конное ристалище, а площадь, парк или таверна. Грубой силе – страсти, естества, предрассудка – он противопоставляет гибкость прекрасно отточенных аргументов. Даже ритм его стихов – нервный, неровный, как неровен рисунок боя у хорошего фехтовальщика. Порою он ввязывается в бестолковую схватку от избытка задора и вообще слишком легко поддается настроению, но во всех его словах и поступках – какое-то особое «д'артаньянское» обаяние, смесь пылкости и рассудительности, упрямства и великодушия.
Джон Донн. Мартин Дрошаут, 1633 г.
Поэт сам пишет роман о себе своими стихами. Понятно, что двадцать лет спустя – и, тем более, еще десять лет спустя – он уже будет не тот, что в молодости. Большая часть стихотворений, собранных в этой книге, написана до 1601 года. В 1621 году Джон Донн получает от короля должность на стоятеля собора Св. Павла, а в 1631 году умирает.
Джон Донн (1572–1631)
Блоха
Взгляни и рассуди: вот блошка; Куснула, крови выпила немножко, Сперва – моей, потом – твоей; И наша кровь перемешалась в ней. Какое в этом прегрешенье? Где тут бесчестье и кровосмешенье? Пусть блошке гибель суждена – Ей можно позавидовать: она Успела радости вкусить сполна! О погоди, в пылу жестоком Не погуби три жизни ненароком: Здесь, в блошке – я и ты сейчас, В ней храм и ложе брачное для нас; Наперекор всему на свете Укрылись мы в живые стены эти. Ты смертью ей грозишь? Постой! Убив блоху, убьешь и нас с тобой: Ты не замолишь этот грех тройной. Упрямица! Из прекословья Взяла и ноготь обагрила кровью. И чем была грешна блоха – Тем, что в ней капля твоего греха? Казнила – и глядишь победно: Кровопусканье, говоришь, не вредно. А коли так, что за беда? – Прильни ко мне без страха и стыда: В любви моей тем паче нет вреда.Песенка
Трудно звездочку поймать, Если скатится за гору; Трудно черта подковать, Обрюхатить мандрагору, Научить медузу петь, Залучить русалку в сеть, И, старея, Все труднее О прошедшем не жалеть. Если ты, мой друг, рожден Чудесами обольщаться, Можешь десять тысяч дён Плыть, скакать, пешком скитаться; Одряхлеешь, станешь сед И поймешь, объездив свет: Много разных Дев прекрасных, Только верных в мире нет. Если встретишь, напиши – Тотчас я пущусь по следу! Или, впрочем, не спеши: Никуда я не поеду. Кто мне клятвой подтвердит, Что, пока письмо летит Да покуда Я прибуду, Это чудо – устоит?Песня
Мой друг, я расстаюсь с тобой Не ради перемен, Не для того, чтобы другой Любви предаться в плен. Но наш не вечен дом, И кто сие постиг, Тот загодя привык Быть легким на подъем. Уйдет во тьму светило дня – И вновь из тьмы взойдет: Хоть так светло, как ты меня, Никто его не ждет. А я на голос твой Примчусь еще скорей, Пришпоренный своей Любовью и тоской. Продлить удачу хоть на час Никто еще не смог; Счастливые часы для нас – Меж пальцами песок. А всякую печаль Лелеем и растим, Как будто нам самим Расстаться с нею жаль. Твой каждый вздох и каждый стон – Мне в сердце острый нож; Душа из тела рвется вон, Когда ты слезы льешь. О, сжалься надо мной! Ведь ты, себя казня, Терзаешь и меня: Я жив одной тобой. Мне вещим сердцем не сули Несчастий никаких: Судьба, подслушав их вдали, Вдруг да исполнит их? Вообрази: мы спим, Разлука – сон и блажь; Такой союз, как наш, Вовек неразделим.Пища Амура
Амур мой погрузнел, отъел бока, Стал неуклюж, неповоротлив он; И я, приметив то, решил слегка Ему урезать рацион, Кормить его умеренностью впредь – Неслыханная для Амура снедь! По вздоху в день – вот вся его еда, И то: глотай скорей и не блажи! А если похищал он иногда Случайный вздох у госпожи, Я прочь вышвыривал дрянной кусок: Он черств и станет горла поперек. Порой из глаз моих он вымогал Слезу, – и солона была слеза; Но пуще я его остерегал От лживых женских слез: глаза, Привыкшие блуждать, а не смотреть, Не могут плакать, разве что потеть. Я письма с ним марал в единый дух, А после – жег! Когда ж ее письму Он радовался, пыжась как индюк, – Что пользы, я твердил ему, За титулом, еще невесть каким, Стоять наследником сороковым? Когда же эту выучку прошел И для потехи ловчей он созрел, Как сокол, стал он голоден и зол: С перчатки пущен, быстр и смел, Взлетает, мчит и с лету жертву бьет! А мне теперь – ни горя, ни забот.Сделка с Амуром
Что ты за бес, Амур! Любой другой За душу дал бы, хоть недорогой, Но выкуп; скажем, при дворе Дают хоть роль дурацкую в игре За душу, отданную в плен; Лишь я, отдавши все, взамен Имею шиш (как скромный джентльмен). Я не прошу себе каких-то льгот, Особенных условий и щедрот; Не клянчу, говоря всерьез, Патента на чеканку лживых слез; И радостей, каких невесть, Не жду – на то другие есть, В любимчики Любви к чему мне лезть! Дай мне, Амур, свою лишь слепоту, Чтобы, когда смотреть невмоготу, Я мог забыть, как холодна Любовь, как детски взбалмошна она, И чтобы раз и навсегда Спастись от злейшего стыда: Знать, что она все знает – и горда. А коль не дашь мне ничего, – резон И в этом есть. Упрямый гарнизон, Что вынудил врага стрелять, Кондиции не вправе выставлять. Строптивец заслужил твой гнев: Я ждал, ворота заперев, – И сдался, только лик любви узрев. Сей лик, что может тигра укротить, В прах идолы язычников разбить, Лик, что исторгнет чернеца Из кельи, а из гроба – мертвеца, Двух полюсов растопит лед, В пустынях грады возведет – И в недрах гор алмазный створ пробьет! Ты прав, Амур! Коль должен быть мятеж Наказан, то казни меня, разрежь – И тем пример наглядный дай Грядущим бунтарям; но не пытай Заране, коли бережешь Для опыта, и не корежь: Науке труп истерзанный не гож.Ворожба над портретом
Что вижу я! В твоих глазах Мой лик, объятый пламенем, сгорает; А ниже, на щеке, в твоих слезах Другой мой образ утопает. Ужель, замысля вред, Ты хочешь погубить портрет, Дабы и я погиб за ним вослед?! Дай выпью влагу этих слез, Чтоб страх зловещий душу не тревожил. Вот так! – я горечь их с собой унес И все портреты уничтожил. Все, кроме одного: Ты в сердце сберегла его, Но это – чудо, а не колдовство.Последний вздох
Прерви сей горький поцелуй, прерви, Пока душа из уст не излетела! Простимся: без разлуки нет любви, Дня светлого – без черного предела. Не бойся сделать шаг, ступив на край; Нет смерти проще, чем сказать «прощай!». «Прощай» шепчу – и медлю, как убийца; Но если все в душе твоей мертво, Пусть слово гибельное возвратится И умертвит злодея твоего. Ответь же мне: «Прощай!» Твоим ответом Убит я дважды – в лоб и рикошетом.Призрак
Когда убьешь меня своим презреньем, Спеша с другим предаться наслажденьям, О мнимая весталка! – трепещи: Я к ложу твоему явлюсь в ночи Ужасным гробовым виденьем, И вспыхнет, замигав, огонь свечи. Напрасно станешь тормошить в испуге Любовника; он, игрищами сыт, От резвой отодвинется подруги И громко захрапит; И задрожишь ты, брошенная всеми, Испариной покрывшись ледяной, И призрак над тобой Произнесет… Но нет, еще не время! Не воскресить отвергнутую страсть, – Так лучше мщением упиться всласть, Чем, устрашив, от зла тебя заклясть.Прощание, запрещающее печаль
Как шепчет праведник «пора» Своей душе, прощаясь тихо, Пока царит вокруг одра Печальная неразбериха, Вот так, без ропота, сейчас Простимся в тишине – пора нам; Кощунством было б напоказ Святыню выставлять профанам. Страшат толпу толчки земли, О них толкуют суеверы; Но скрыто от людей вдали Дрожание небесной сферы. Любовь подлунную томит Разлука бременем несносным: Ведь суть влеченья состоит В том, что потребно чувствам косным. А нашу страсть влеченьем звать Нельзя, ведь чувства слишком грубы; Нерасторжимость сознавать – Вот цель, а не глаза и губы. Страсть наших душ над бездной той, Что разлучить любимых тщится, Подобно нити золотой, Не рвется, сколь не истончится. Как ножки циркуля, двойне Мы нераздельны и едины: Где б ни скитался я, ко мне Ты тянешься из середины. Кружась с моим круженьем в лад, Склоняешься, как бы внимая, Пока не повернет назад К твоей прямой моя кривая. Куда стезю не повернуть, Лишь ты – надежная опора Тому, кто замыкая путь, К истоку возвратится снова.К восходящему солнцу
Ты нам велишь вставать? С какой же стати? Ужель влюбленным Жить по твоим резонам и законам? Прочь, наглый дурень, от моей кровати! Ступай, детишкам проповедуй в школе, Усаживай портного за работу, Селян сутулых торопи на поле, Напоминай придворным про охоту; А у любви нет ни часов, ни дней – И нет нужды размениваться ей! Напрасно блеском хвалишься, светило! Сомкнув ресницы, Я бы тебя заставил вмиг затмиться, – Когда бы это милой не затмило. Зачем чудес искать тебе далёко, Как нищему, бродяжить по вселенной? Все пряности и жемчуга Востока – Там или здесь? – ответь мне откровенно. Где все цари, все короли земли? В постели здесь – цари и короли! Я ей – монарх, она мне – государство, Нет ничего другого; В сравненье с этим власть – пустое слово, Богатство – прах, и почести – фиглярство. Ты, Солнце, в долгих странствиях устало: Так радуйся, что зришь на этом ложе Весь мир – тебе заботы меньше стало, Согреешь нас – и мир согреешь тоже; Забудь иные сферы и пути, Для нас одних вращайся и свети!Алхимия любви
Кто глубже мог, чем я, любовь копнуть, Пусть в ней пытает сокровенну суть; А я не докопался До жилы этой, как не углублялся В рудник Любви, – там клада нет отнюдь. Сие – одно мошенство; Как химик ищет в тигле Совершенство, Но счастлив, невзначай сыскав Какой-нибудь слабительный состав, Так все мечтают вечное блаженство Обресть в любви; но вместо пышных грез Находят счастья – с воробьиный нос. Ужели впрямь платить необходимо Всей жизнию своей – за тень от дыма? За то, чем каждый шут Сумеет насладиться в пять минут Вслед за нехитрой брачной пантомимой? Влюбленный кавалер, Что славит (ангелов беря в пример) Сиянье духа, а не плоти, Должно быть, слышит, по своей охоте, И в дудках свадебных – музыку сфер. Нет, знавший женщин скажет без раздумий: И лучшие из них – мертвее мумий.Прощание с любовью
Любви еще не зная, Я в ней искал неведомого рая, Я так стремился к ней, Как в смертный час безбожник окаянный Стремится к благодати безымянной Из бездны темноты своей: Незнанье Лишь пуще разжигает в нас желанье, Мы вожделеем – и растет предмет, Мы остываем – сводится на нет. Так жаждущий гостинца Ребенок, видя пряничного принца, Готов его украсть; Но через день желание забыто, И не внушает больше аппетита Обгрызенная эта сласть; Влюбленный, Еще недавно пылко исступленный, Добившись цели, скучен и не рад, Какой-то меланхолией объят. Зачем, как Лев и Львица, Не можем мы играючи любиться? Печаль для нас – намек, Чтоб не был человек к утехам жаден, Ведь каждая нам сокращает на день Отмеренный судьбою срок; А краткость Блаженства и существованья шаткость Опять в нас подстрекают эту прыть – Стремление в потомстве жизнь продлить. О чем он умоляет, Смешной чудак? О том, что умаляет Его же самого, – Как свечку, жжет, как воск на солнце, плавит, Пока он обольщается и славит Сомнительное божество. Подальше От сих соблазнов, их вреда и фальши! – Но Змея грешного (так он силен) Цитварным семенем не выгнать вон.Расставание
Since I die daily, daily mourn. John Donne «Приди, Мадонна, озари мой мрак!» – Влюбленных красноречье беспощадно. Она, как лист, дрожит в его руках, Как губка, клятвы впитывает жадно. А Донну дорог лишь разлуки миг – Тот миг, что рассекает мир подобно Ланцету: он любимый видит лик Сквозь линзу слез – так близко и подробно. Он разжимает, как Лаокоон, Тиски любви, узлы тоски сплетенной: И сыплются в расщелину времен Гробы и троны, арки и колонны. И целый миг, угрюмо отстранен, Перед находом риторского ража Он, как сомнамбула иль астроном, Не может оторваться от пейзажа Планеты бледной. Он в уме чертит План проповеди. «О, молчи, ни вздоха; Не плачь – не смей!» Увы, он не щадит В ней слабости… А между тем дуреха Глядит, глядит, не понимая слов – Туманнейшей из всех туманных фикций, – И растворяется, как бред веков, В струях его печальных валедикций…«Аромат» Джона Донна и нюх Лорда Берли
Гильгамеш возглашает: «Я словам твоим внемлю.
Если, Знающий землю,
В преисподнюю снидешь и потерю увидишь, –
Вот мое наставленье:
Свой наряд прочный, чистый, надевать не стремись ты:
Порешат: «чужестранец!»
Ты елеем не вздумай, о мой брат, умащаться:
Все на запах примчатся!
Поэма о Гильгамеше[138]– Fee! Fie! Foo! Fum! I smell the blood of the Englishman.
Из английской сказкиЧетвертая элегия Джона Донна «Аромат» (в некоторых списках озаглавленная «Унюханный» – «Discovered by Perfume») может смутить нынешнего читателя своим открытым цинизмом, яростной враждой лирического героя к семейству его возлюбленной, особенно к ее отцу и матери. Проникнув в их дом, молодой человек оказывается опутан шпионской сетью. Со всех сторон его окружают враги, доносчики и соглядатаи. Это могло бы показаться авторской причудой или странной игрой воображения, – если не учитывать биографии Донна и той реальной охоты на людей, которая была характерной чертой английской жизни в эпоху королевы Елизаветы.
Джон Донн в возрасте 18 лет. Гравюра неизвестного художника, 1591 г.
Дичью в этой охоте были католики. Они оказались на положении отверженных в собственной стране, практически были объявлены вне закона. Непосещение службы в англиканской церкви наказывалось неподъемным штрафом, а отправление католической мессы, сверх того, могло трактоваться как укрывательство католического пастора, что уже являлось уголовным преступлением. Дома католиков обыскивали, стены простукивали – искали убежища священников. Повсюду рыскали доносчики-ищейки, выявляя дома, где проводили мессы. Среди перепуганных людей распространялись слухи, что готовится английский вариант Варфоломеевской ночи.
Семья Джона Донна оказалась втянута в эпицентр этих событий, и ему поневоле пришлось пристально следить за развитием кровавой драмы. Мать Джона Донна (кстати сказать, внучка знаменитого Томаса Мора) была истовой католичкой, и учителя, которых она нанимала для своего сына, все без исключения были католиками. Ее брат Джаспер Мор, священник-иезуит, был схвачен и казнен в 1584 году. Двенадцатилетний Джон Донн вместе с матерью ездил навещать своего дядю в Тауэр. А в 1593 году, когда Джон и его брат Генри были студентами в юридической школе (Линкольнз-Инне), в комнате Генри арестовали молодого человека, обвиненного в том, что он являлся католическим священником. Генри под страхом пытки выдал его, и священника казнили со всей присущей тем временам свирепостью. Но и сам Генри не пережил его: умер от чумы в Ньюгейтской тюрьме. Подобная участь вполне могла ожидать и Джона. И хотя позже (примерно в 1597 году) Донн все-таки перешел в протестантизм, он так и не смог до конца избавиться от чувства «гражданской неполноценности», впитанного с малолетства, почувствовать себя в полной безопасности.
Помня об этом, взглянем на элегию Донна под новым углом зрения. Действительно ли перед нами любовная элегия? Если это и так, то любовная история, рассказанная в ней, весьма странная. Начинается она с допроса:
Единожды застали нас вдвоем, А уж угроз и крику – на весь дом! Как первому попавшемуся вору Вменяют все разбои – без разбору, – Так твой папаша мне чинит допрос: Пристал пиявкой старый виносос!После приятного знакомства с отцом-пьяницей, который чинит допрос, мы видим больную мать, которая, как поясняет рассказчик, –
На ладан дышит, не встает с одра, А в гроб, однако, все никак не ляжет…Некоторая черствость по отношению к несчастной страдалице должна бы нас покоробить, – если бы сразу не выяснилось, что перед нами самый настоящий провокатор: она не только шпионит за дочерью по ночам, но и пытается всеми хитростями выведать, не беременна ли дочка, украдкой щупает ей живот и как бы ненароком
Заводит разговор о пряной пище, чтоб вызвать бледность или тошноту – Улику женщин, иль начистоту Толкует о грехах и шашнях юных, чтоб подыграть тебе на этих струнах И как бы невзначай в капкан поймать.На тюремном языке, это называется «расколоть». Агенты-провокаторы, как известно, играли важную роль в деятельности елизаветинской тайной полиции (например в «заговоре Бабингтона», приведшем на эшафот Марию Стюарт). «Подсадных уток» помещали в одну камеру с заключенными, которых не удавалось сломить пытками, чтобы выведать нужные сведения. Но в данном случае этот метод не сработал.
Далее на сцене появляется еще одно действующее лицо: малолетний братишка девушки, которого отец пытается подкупить – но безуспешно. Затем упоминается привратник, «подобие родосского колосса, болван под восемь футов вышиной,» – но и этому стражу не удается заметить ничего крамольного.
Лишь аромат собственных духов выдает любовника, тайком прокравшегося во вражеский стан. Бдительный отец в конце концов обнаруживает его присутствие в доме. Описывая момент разоблачения, поэт использует примечательный образ:
Бедняга задрожал, как деспот дряхлый, Почуявший, что порохом запахло.В этих строках словно предсказывается знаменитый «Пороховой заговор» 1605 года! Далее, рассказчик благодарит свои одежды за то, что не выдали его шуршанием, и особенно хвалит каблуки, которые и под давлением не скрипнули («каблук был нем по моему приказу»). Комментаторы отмечают, что пытка раздавливанием, peine forte et dure, была одной из самых варварских и страшных. Так
была умерщвлена, например, Маргарита Глитероу, католическая мученица.
И, наконец, Донн обращается к собственным своим духам-притираниям, осыпая их градом ученейшей брани. Но и за искусными каламбурами чувствуется опыт человека, хорошо знающего цену измене и предательству:
Лишь вы, духи, предатели мои, Кого я так приблизил из любви, Вы, притворившись верными вначале, С доносом на меня во тьму помчали.Конец стихотворения опять грубо циничен:
Все эти мази я отдам без блажи, чтоб тестя умастить в гробу… Когда же?Но, как и в случае с больной матерью, за этими словами обнаруживается не просто бесчувственный цинизм. «Когда же? Когда, наконец, уляжется в гроб это тиранство?» – таким вопросом задавались многие англичане в последнее десятилетие правления Елизаветы.
Уильям Сесил, барон Берли. Неизвестный художник, 1560-е гг.
Подробности накапливаются, и «шпионский» фон стихов в конце концов выдвигается вперед как основное их содержание. Читая, например, о духах: «Недаром во дворце вам честь такая, / Где правят ложь и суета мирская…», – мы понимаем, что выпад направлен не столько против модных при дворе духов, сколько против самих придворных-двурушников. В сатире «О суете придворной» (IV) Донн вновь обратится к этой теме и подробно распишет все тайные ловушки Виндзорского замка, где сам воздух пропитан миазмами подозрительности и сыска. Поэт, втянутый в опасный разговор придворным сплетником-провокатором, спрашивает себя, как же это так:
Один другому передал заразу – И вылечился? Вывернулся он – А я виновен? что за скверный сон!Так что шпионская тема возникает у Донна далеко не случайна. Стоит приглядеться, и его так называемая «любовная элегия» оборачивается чуть ли не исчерпывающим перечнем полицейских приемов. В ней, применительно к герою, прямо или косвенно, последовательно упоминаются:
– допрос с пристрастием,
– надзор,
– обыск,
– подкуп,
– подсадная утка,
– заточение,
– тайная слежка,
– пытки,
– предательство,
– донос.
Причем главная роль в разоблачении заговора отводится нюху. Приятное благоухание, необычное для затхлой атмосферы дома, неминуемо должно было привлечь внимание грозного папаши.
Будь гнусен запах, он бы думать мог, что то – родная вонь зубов иль ног; Как мы, привыкши к свиньям и баранам, Единорога почитаем странным, – Так, благовонным духом поражен, Тотчас чужого заподозрил он!Сильный парадокс: приятный аромат вызывает переполох в царстве зловония! Так сказочный людоед или ведьма, прежде чем обнаружить спрятавшегося человека, принюхивается и произносит что-нибудь вроде: «Чую, человечьим духом запахло…». Ученые-фольклористы убедительно объясняют зеркальную логику сказки: как запах тлена омерзителен для живых, так и запах жизни мерзок для чудищ, принадлежащих к царству мертвых.
Само собой напрашивается сравнение: любовники в элегии Донна, как братец с сестрицей из старой сказки, попали в царство мертвых; они единственные живые души среди враждебной нежити! Затхлый воздух в доме возлюбленной – метафора лондонской атмосферы того времени, насыщенной миазмами вражды и преследования, крови и тлена.
Обратим внимание: в вышеприведенных стихах влюбленный уподобляется единорогу. Единорог, как мы знаем, – символ влюбленного, а также символ Христа. В средние века на гобеленах любили изображать сюжет: единорог кладет голову на колени прекрасной даме, не замечая уже готовых наброситься на него охотников со сворой гончих псов. Эти псы возвращают нас к предыдущим строкам[139]:
But as we in our isle imprisoned, Where cattle only, and diverse dogs are bred… (ll. 45–50) [Как мы заточены на своем острове, Где водится только скот, и разные породы псов…]«Остров» – Англия, она же тюрьма. «Скот», по-видимому, пасомое людское стадо (англичане), а псы разных пород могут быть овчарками (shepherd dogs), гончими (bloodhounds), или ищейками. Здесь, по-нашему предположению, есть намек на пьесу Бена Джонсона «Собачий остров» – и на опасный сюжет, последовавший за ее постановкой.
Сэр Фрэнсис Уолсингам. Джон де Критс, ок. 1585 г.
Пьеса была запрещена, текст утрачен, и мы можем только догадываться о ее содержании. Известно, что она была написана Беном Джонсоном в соавторстве с Томасом Нэшем и поставлена в июле 1597 года труппой театра Пенброука. Название пьесы, по-видимому, восходит к полуострову на Темзе, против Гринвича, – болотистому и мрачному месту, называвшемуся Собачьим островом. Впрочем, есть основания предположить, что «Собачий остров» мог восприниматься как сатира на Англию в целом. В таком случае, это действительно была «бунтарская и клеветническая пьеса», сугубо оскорбительная для государства и его верных ищеек – агентов всесильного лорда Берли[140]. Понятно, что реакция была резкая: судьба пьесы решалась на Тайном Совете, собравшемся в полном составе, и сама королева разразилась речью, полной негодования. Авторов гнусной пьесы, а также ведущих актеров, решено было взять под стражу, а специальному наряду сыщиков велено было найти и уничтожить все черновики и списки «непристойной пьесы», в чем они вполне преуспели.
Освободили Бена Джонсона и его товарищей лишь 3 октября 1597 года (могло кончиться и намного хуже). По чистой случайности именно летом и осенью 1597 года, когда разворачивались все эти события, Джона Донна не было в Лондоне: с июля по октябрь он участвовал в качестве джентльмена-волонтера в плавании к Азорским островам – неудачной военно-морской экспедиции графа Эссекса. И Донн, и Джонсон вернулись в Лондон в октябре. По-видимому, они встретились. Во всяком случае, спустя много лет Бен Джонсон упомянул, что свои лучшие стихи Джон Донн написал, когда ему не было еще двадцати пяти лет, а это означает одно – что Джонсон в 1597 году уже знал стихи Донна (если бы он прочел их после, как бы он догадался, какие стихи написаны Донном до его двадцатипятилетия, а какие после?). Много лет спустя Джонсон приводил как пример поэтического мастерства две строки из «Штиля» – стихотворения Донна, написанного во время морской экспедиции 1597 года, – строки про «сегодня и вчера», валяющиеся в одной куче с перьями и пылью:
No use of lanterns; and in one place lay Feathers and dust, today and yesterday.Почему ему запомнились именно эти строки, а не какие-нибудь другие, более яркие и парадоксальные? На этот простой, казалось бы, вопрос трудно ответить более или менее убедительно. Но если предположить, что Джонсон впервые услышал эти стихи осенью 1597 года, только-только вдохнув воздуха свободы, то понятно, что он мог особенно остро среагировать на образ, напомнивший ему о тюремных днях, неотличимых один от другого, сваленных в кучу, как труха и перья. Его могло поразить, насколько его собственные тюремные ощущения совпадают с чувством, испытанным Джоном Донном на борту заштиленного корабля[141].
В то время когда Донн вернулся в Лондон, история с «Собачьим островом» была еще свежей новостью, и ему наверняка захотелось подробнее разузнать о пьесе и о последствиях. Притом у него появилась прекрасная возможность услышать все из первых, то есть Беновых, уст. Возможно, тогда они и познакомились. Джонсона должно было заинтересовать хронологическое совпадение новых стихов Донна: в послании «Шторм», полном тюремно-виселичных аллюзий, описывается реальный шторм, который пережил Донн в июле 1597 года (как раз когда Джонсона арестовали), а послание «Штиль» относится к сентябрьским дням плавания Донна (когда Джонсона отправили «на отсидку» в тюрьму Маршалси).
Зная историю Джонсона и обращаясь к нему в числе прочих своих читателей, Донн, естественно, мог вставить в элегию эту фразу об Англии, как об острове-тюрьме, «где водятся только скоты и разные собаки». Это дает основания предполагать, что элегия «Аромат» была написана не раньше чем в ноябре 1597 года, и, вероятно, не намного позже этой даты. Мы можем указать на еще один немаловажный эпизод, который связывает стихотворения Донна с событиями жизни Джонсона. И связующий элемент снова – тюрьма.
Второй раз Бена Джонсона арестовали в сентябре 1598 года за убийство на дуэли. Его приговорили к смертной казни, но чудом ему удалось избежать петли, испросив «привилегии духовенства» (benefit of clergy). В те времена преступник при определенных обстоятельствах мог спасти себе жизнь, доказав свою грамотность. Ему давали прочесть по-латыни так называемый «виселичный псалом» – обычно это было начало 51-го псалма, мольба к Господу о прощении. Так комментаторы объясняют строки 11–16 (в переводе 13–18) второй сатиры Донна, где дан портрет некоего поэта:
Один (как вор за миг до приговора Спасает от петли соседа-вора Подсказкой «виселичного псалма») Актеров кормит крохами ума, Сам издыхая с голоду, – так дышит Органчик дряхлый с куклами на крыше.Конечно, Донн вполне мог воспользоваться и общеизвестными фактами, не имея в виду никого конкретно, но если поэт пишет для узкого круга (как было с Донном), психологический закон велит там, где возможно, делать намеки на друзей и знакомых. Бен Джонсон, во первых, спас себе жизнь чтением; во-вторых, он писал пьесы, кормя актеров крохами своего ума. Следовательно, вышеприведенный пассаж содержит двойной намек на Бена. Можно представить, как он хохотал, слушая про «органчик дряхлый с куклами на крыше». Чтение могло происходить в какой-нибудь таверне – например в «Русалке», где Джонсон любил встречаться с друзьями.
Литературоведы обычно подчеркивают, что Донн не желал публиковать свои стихи; но суть в том, что он вряд ли мог это сделать, если бы даже захотел: на рубеже столетий церковная цензура год от года становилась все более жесткой. В 1599 Архиепископ Кентерберийский и Епископ Лондонский выработали закон, запрещавший издание сатирических стихов вообще, с приложением списка книг, предназначенных к сожжению. В это же время они постановили, чтобы «впредь ни сатир, ни эпиграмм не печатать». Слишком вольные стихи Донна никак не могли бы проскочить цензурный барьер. Даже в посмертное издание стихотворений Донна 1633 года некоторые элегии не вошли – их не разрешили печатать.
В то время кабаки и таверны Лондона кишели доносчиками. Не случайно в «Приглашении к обеду» Джонсон обещает отдых от шпионов в качестве особого угощения для друзей:
No shall our cups make any guilty men; But, at our parting, we well be, as when We innocently met. No simple word That shall be utter’d at our mirthful board, Shall make us sad next morning: or affright The liberty, that we’ll enjoy tonight.[Наши чаши никого из нас не сделают преступником, и мы разойдемся так же невинно, как собрались. Никакое простодушное слово, вырвавшееся за веселым столом, не заставит нас раскаиваться поутру и не спугнет непринужденности нашей сегодняшней беседы.]
В этом стихотворении Джонсона шпионы носят имена Поли и Спаррот (Попугай). В первом из них угадывается известный правительственный агент Роберт Поли, присутствовавший при загадочном убийстве Кристофера Марло в 1595 году. Томас Кид, автор «Испанской трагедии», обвиненный в безбожии, а также в клевете на правительство, и физически сломленный в тюрьме, – еще одна жертва тайной полиции из шекспировской плеяды драматургов. Сам Бен Джонсон три раза был на волосок от гибели – в третий раз в дни «Порохового заговора», он ведь являлся новообращенным католиком и не скрывал дружбы с «папистами» и «заговорщиками».
Елизаветинские времена можно назвать золотым веком шпиономании. «Охота на шпионов в государственном масштабе и охота на животных для развлечения были излюбленными занятиями времен королевы Елизаветы и короля Якова, – пишет историк Алан Хейнс. – Загнанную лань закалывали и обезглавливали, и такая же в точности экзекуция ожидала выловленного предателя, останки которого после казни выставлялись на площадях Лондона – кровавый спектакль, неизменно впечатлявший публику, несмотря на частые повторения. В тяжелой атмосфере всеобщей подозрительности само обвинение в предательстве стало таким же ритуальным действом, как охота, необходимым элементом рассчитанной политики шпиономании».
Мы знаем, что Донн ходил на публичные казни, и в его «Элегиях» отразились мрачные картины, запечатлевшиеся в его памяти. В двадцатой элегии он называет корабли «повозками обреченных», в двенадцатой – говорит о любви, которая «колесует», а в восьмой вспоминает «обрубки тел над городской заставой». Так, в общих чертах, обрисован полный цикл наказания: «повозка» – подготовка, «колесо» – сама казнь, «обрубки тел» – следствие. Только любовь способна устранить эту мрачную перспективу. Она бросает вызов уничтожению человека человеком, у нее иная цель: «Там убивают смертных – здесь плодят» (Элегия XX). Это – вызов, почти заговор.
Донновские любовники – заговорщики, конспираторы. Не только в элегии «Аромат», но и в других, например, в элегии «На желание возлюбленной сопровождать его, переодевшись пажом» (XVI), в «Любовной науке» (VII). В элегии «Ревность» (I) герой предлагает возлюбленной больше не рисковать, изменяя мужу в его собственном доме, и предлагает приискать другое место, где бы их любви ничто не угрожало.
Но если мы (как те враги короны, что уезжают в земли отдаленны Глумиться издали над королем) Для наших ласк другой приищем дом, – Там будем мы любить, помех не зная, Ревнивцев и шпионов презирая, Как лондонцы, что за Мостом живут, Лорд-мэра или немцы – римский суд.Чистая ли метафора это или проговорка, отражающая реальное стремление поэта бежать из Англии с ее бдительным Тайным Советом, с «глупыми заговорами и продажными шпионами»? Донновские строки нуждаются в акустике своего века для настоящего резонанса. Только вдохнув полную грудь того, давно сгоревшего воздуха, мы сможем постичь подлинный смысл его элегий. И тогда мы по-новому представим себе эту пару смельчаков, Его и Ее, юных заговорщиков Любви, окруженных толпой доносчиков и шпионов, – и почувствуем их вызов бедламу и чуме того жестокого мира, в котором им выпало жить.
Джон Донн
Аромат
Единожды застали нас вдвоем, А уж угроз и крику – на весь дом! Как первому попавшемуся вору Вменяют все разбои – без разбору, Так твой папаша мне чинит допрос: Пристал пиявкой старый виносос! Уж как, бывало, он глазами рыскал – Как будто мнил прикончить василиска; Уж как грозился он, бродя окрест, Лишить тебя изюминки невест И топлива любви – то бишь наследства; Но мы скрываться находили средства. Кажись, на что уж мать твоя хитра, – На ладан дышит, не встает с одра, А в гроб, однако, все никак не ляжет: Днем спит она, а по ночам на страже, Следит твой каждый выход и приход; Украдкой щупает тебе живот И, за руку беря, колечко ищет; Заводит разговор о пряной пище, Чтоб вызвать бледность или тошноту – Улику женщин, иль начистоту Толкует о грехах и шашнях юных, Чтоб подыграть тебе на этих струнах И как бы невзначай в капкан поймать; Но ты сумела одурачить мать. Твои братишки, дерзкие проныры, Сующие носы в любые дыры, Ни разу на коленях у отца Не выдали нас ради леденца. Привратник ваш, крикун медноголосый, Подобие Родосского Колосса, Всегда безбожной одержим божбой, Болван под восемь футов вышиной, Который ужаснет и ад кромешный (Куда он скоро попадет, конечно) – И этот лютый Цербер наших встреч Не мог ни отвратить, ни подстеречь. Увы, на свете уж давно привычно, Что злейший враг нам – друг наш закадычный. Тот аромат, что я с собой принес, С порога возопил папаше в нос. Бедняга задрожал, как деспот дряхлый, Почуявший, что порохом запахло. Будь запах гнусен, он бы думать мог, Что то – родная вонь зубов иль ног; Как мы, привыкши к свиньям и баранам, Единорога почитаем странным, – Так, благовонным духом поражен, Тотчас чужого заподозрил он! Мой славный плащ не прошумел ни разу, Каблук был нем по моему приказу; Лишь вы, духи, предатели мои, Кого я так приблизил из любви, Вы, притворившись верными вначале, С доносом на меня во тьму помчали. О выброски презренные земли, Порока покровители, врали! Не вы ли, сводни, маните влюбленных В объятья потаскушек зараженных? Не из-за вас ли прилипает к нам – Мужчинам – бабьего жеманства срам? Недаром во дворцах вам честь такая, Где правят ложь и суета мирская. Недаром встарь, безбожникам на страх, Подобья ваши жгли на алтарях. Коль врозь воняют составные части, То благо ли в сей благовонной масти? Не благо, ибо тает аромат, А истинному благу чужд распад. Все эти мази я отдам без блажи, Чтоб тестя умастить в гробу… Когда же?! ЛюБОВНАЯ НАУКА Дуреха! сколько я убил трудов, Пока не научил, в конце концов, Тебя премудростям любви. Сначала Ты ровно ничего не понимала В таинственных намеках глаз и рук; И не могла определить на звук, Где дутый вздох, а где недуг серьезный; Или узнать по виду влаги слезной, Озноб иль жар поклонника томит; И ты цветов не знала алфавит, Который, душу изъясняя немо, Способен стать любовною поэмой! Как ты боялась очутиться вдруг Наедине с мужчиной, без подруг, Как робко ты загадывала мужа! Припомни, как была ты неуклюжа, Как то молчала целый час подряд, То отвечала вовсе невпопад, Дрожа и запинаясь то и дело. Клянусь душой, ты создана всецело Не им (он лишь участок захватил И крепкою стеной огородил), А мной, кто, почву нежную взрыхляя, На пустоши возделал рощи рая. Твой вкус, твой блеск – во всем мои труды; Кому же, как не мне, вкусить плоды? Ужель я создал кубок драгоценный, Чтоб из баклаги пить обыкновенной? Так долго воск трудился размягчать, Чтобы чужая втиснулась печать? Объездил жеребенка – для того ли, Чтобы другой скакал на нем по воле?На раздевание возлюбленной
Скорей, сударыня! я весь дрожу, Как роженица, в муках я лежу; Нет хуже испытанья для солдата – Стоять без боя против супостата. Прочь – поясок! небесный обруч он, В который мир прекрасный заключен. Сними нагрудник, звездами расшитый, Что был от наглых глаз тебе защитой; Шнуровку распусти! уже для нас Куранты пробили заветный час. Долой корсет! он – как ревнивец старый, Бессонно бдящий за влюбленной парой. Твои одежды, обнажая стан, Скользят, как тени с утренних полян. Сними с чела сей венчик золоченый – Украсься золотых волос короной, Скинь башмачки – и босиком ступай В святилище любви – альковный рай! В таком сиянье млечном серафимы На землю сходят, праведникам зримы; Хотя и духи адские порой Облечься могут лживой белизной, – Но верная примета не обманет: От тех – власы, от этих плоть восстанет. Моим рукам-скитальцам дай патент Обследовать весь этот континент; Тебя я, как Америку, открою, Смирю – и заселю одним собою. О мой трофей, награда из наград, Империя моя, бесценный клад! Я волен лишь в плену твоих объятий. И ты подвластна лишь моей печати. Явись же в наготе моим очам: Как душам – бремя тел, так и телам Необходимо сбросить груз одежды, Дабы вкусить блаженство. Лишь невежды Клюют на шелк, на брошь, на бахрому – Язычники по духу своему! Пусть молятся они на переплеты, Не видящие дальше позолоты Профаны! Только избранный проник В суть женщин, этих сокровенных книг, Ему доступна тайна. Не смущайся, – Как повитухе, мне теперь предайся. Прочь это девственное полотно! – Ни к месту, ни ко времени оно. Продрогнуть опасаешься? Пустое! Не нужно покрывал: укройся мною.Изменчивость
Пусть накрепко перстами и устами Союз любви скрепила ты меж нами И, пав, тем паче в любящих глазах Возвысилась, – но не развеян страх! Ведь женщины, как музы, благосклонны Ко всем, кто смеет презирать препоны. Мой чиж из клетки может улететь, Чтоб завтра угодить в другую сеть, К ловцу другому; уж таков обычай, Чтоб были женщины мужской добычей. Природа постоянства не блюдет, Все изменяют: зверь лесной и скот. Так по какой неведомой причине Должна быть женщина верна мужчине? Вольна галера, хоть прикован раб: Пускай гребет, покуда не ослаб! Пусть сеет пахарь семя животворно! – Но пашня примет и другие зерна. Впадает в море не один Дунай, Но Эльба, Рейн и Волга – так и знай. Ты любишь; но спроси свою природу, Кого сильней – меня или свободу? За сходство любят; значит, я, чтоб стать Тебе любезным, должен изменять Тебе с любой? О нет, я протестую! Я не могу, прости, любить любую. С тобою я тягаться не рискну, Хоть мой девиз: «не всех, но не одну». Кто не видал чужих краев – бедняга, Но жалок и отчаянный бродяга. Смердящий запах у стоячих вод, Но и в морях порой вода гниет. Не лучше ли, когда кочуют струи От брега к брегу, ласки им даруя? Изменчивость – источник всех отрад, Суть музыки и вечности уклад.Портрет
Возьми на память мой портрет; а твой – В груди, как сердце, навсегда со мной. Дарю лишь тень, но снизойди к даренью: Ведь я умру – и тень сольется с тенью. …Когда вернусь, от солнца черным став И веслами ладони ободрав, Заволосатев грудью и щеками, Обветренный, обвеянный штормами, Мешок костей, – скуластый и худой, Весь в пятнах копоти пороховой, И упрекнут тебя, что ты любила Бродягу грубого (ведь это было!) – Мой прежний облик воскресит портрет, И ты поймешь: сравненье не во вред Тому, кто сердцем не переменился И обожать тебя не разучился. Пока он был за красоту любим, Любовь питалась молоком грудным; Но в зрелых летах ей уже некстати Питаться тем, что годно для дитяти.На желание возлюбленной сопровождать его, переодевшись пажом
Свиданьем нашим – первым, роковым – И нежной смутой, порожденной им, И голодом надежд, и состраданьем, В тебе зачатым жарким излияньем Моей тоски – и тысячами ков, Грозивших нам всечасно от врагов Завистливых – и ненавистью ярой Твоей родни – и разлученья карой – Молю и заклинаю: отрекись От слов заветных, коими клялись В любви нерасторжимой; друг прекрасный, О, не ступай на этот путь опасный! Остынь, смирись мятежною душой, Будь, как была, моею госпожой, А не слугой поддельным; издалече Питай мой дух надеждой скорой встречи. А если прежде ты покинешь свет, Мой дух умчится за твоим вослед, Где б ни скитался я, без промедленья! Твоя краса не укротит волненья Морей или Борея дикий пыл; Припомни, как жестоко погубил Он Орифею, состраданью чуждый. Безумье – искушать судьбу без нужды. Утешься обольщением благим, Что любящих союз неразделим. Не представляйся мальчиком; не надо Менять ни тела, ни души уклада. Как ни рядись юнцом, не скроешь ты Стыдливой краски женской красоты. Шут и в атласе шут, луна луною Пребудет и за дымной пеленою. Учти, французы – этот хитрый сброд, Разносчики хвороб дурных и мод, Коварнейшие в мире селадоны, Комедианты и хамелеоны – Тебя узнают и познают вмиг. В Италии какой-нибудь блудник, Не углядев подвоха в юном паже, Подступится к тебе в бесстыжем раже, Как содомиты к Лотовым гостям, Иль пьяный немец, краснорожий хам, Прицепится… Не клянчь судьбы бездомной! Лишь Англия – достойный зал приемный, Где верным душам подобает ждать, Когда Монарх изволит их призвать. Останься здесь! И не тумань обидой Воспоминанье – и любви не выдай Ни вздохом, ни хулой, ни похвалой Уехавшему. Горе в сердце скрой. Не напугай спросонья няню криком: «О, няня! мне приснилось: бледен ликом, Лежал он в поле, ранами покрыт, В крови, в пыли! Ах, милый мой убит!» Верь, я вернусь, – коль Рок меня не сыщет И за любовь твою сполна не взыщет.Строки, написанные в Вашингтоне
Литиции Йендл,
хранительнице рукописей
Фолджеровской библиотеки
Зима. Что делать нам зимою в Вашингтоне? Спросонья не поняв, чей голос в телефоне, Бубню: что нового? Как там оно вообще? Тепло ль? И можно ли в гарольдовом плаще Гулять по улицам – иль, напрягая веки, Опять у Фолджера сидеть в библиотеке… Врубившись наконец, клянусь, что очень рад, Что «я смотрю вперед услышать ваш доклад», Роняю телефон – и, от одра воспрянув, Бреду решать вопрос: какой из трех стаканов Почище – и, сочку холодного хлебнув, Вдыхаю глубоко и выдыхаю: Уфф! Гляжуся в зеркало. Ну что – сойдет, пожалуй. Фрукт ничего себе, хотя и залежалый. Немного бледноват, но бледность не порок (А лишь порока знак). Ступаю за порог. Феноменально – снег! Ого, а это что там, Не баба ль белая видна за поворотом? Хоть слеплена она неопытной рукой И нету русской в ней округлости такой, Что хочется погла… замнем на полуслове, Тут феминистки злы и вечно жаждут крови! А все же – зимний путь, и шанс, и день-шутник… Сгинь, бес. Толкаю дверь, и вот я в царстве книг. Перелагатель слов, сиречь душеприказчик Поэтов бешеных, давно сыгравших в ящик, Держу в руке письмо, где мой любимый Джон – Уже в узилище, еще молодожен – У тестя милости взыскует… А не надо Крутить любовь тайком, жениться без доклада! Кто десять лет назад, резвясь, писал в конце Элегии «Духи» о бдительном отце: «В гробу его видал»? Не плюй, дружок, в колодец, Влюбленный человек – почти канатоходец, Пока его несет во власти лунных чар, Он в безопасности; очнуться – вот кошмар. Хранительница тайн косится умиленно На то, как я гляжу на подпись Джона Донна, Смиренно в уголок задвинутую: – Вот! Постой теперь в углу! – Но страх меня берет, Когда я на просвет след водяного знака Ищу, как врач кисту, и чую, как из мрака Скелет, или верней, тот прах, что в день суда Вновь слепится в скелет, сейчас ко мне сюда Зловеще тянется, чтоб вора-святотатца До смерти напугать – и всласть расхохотаться! Скорей в читальный зал. Едва ль «монарх ума» Прилюдно станет мстить. Ученые тома Берут меня в полон и с важностью друг другу, Как чашу на пиру, передают по кругу. Я выпит наконец. Пора пустой объем Заполнить сызнова веселия вином! Не зван ли я к Илье? Вахтера убаюкав Заученным «бай-бай» и письмецо от Бруков Из дырки выудив, ступаю на крыльцо. Пыль снежная летит, и ветер мне в лицо, Но бури Севера не страшны русской Деве. Особенно когда она живет в Женеве.«Сэр, в письмах душ слияние тесней…» Стихотворные послания Джона Донна
Когда нынешний читатель воображает себе шекспировскую Англию (а Донн был современником Шекспира), ему представляются круглые деревянные короба театров, нарядные парусники и лодки на Темзе, сумрачный Тауэр и застроенный домами купцов Лондонский мост, шум и пестрота рынков. Намного реже вспоминает он, что казни происходили в Лондоне так же часто, как театральные спектакли, и публики они собирали не меньше; что отрубленные головы и руки постоянно висели над городскими воротами и на Лондонском мосту; что «черная смерть» (чума) приходила в город, когда ей вздумается, и тогда люди толпами бежали из Лондона, а по опустевшим улицам возили телеги с трупами; что престарелую королеву Елизавету усиленно пугали угрозой заговоров, и попасть в тюрьму по доносу соседа было проще пареной репы.
Джон Донн в образе меланхолического влюбленного. Неизвестный художник, ок. 1595 г.
Представьте себе молодого человека – худого, губастого, стремительного, за которым следует слуга, – он только что получил небольшое наследство и чтобы верней с ним покончить, снял изрядную комнату в Темпле и нанял слугу-француза – итак, представьте себе этого молодого человека, спешащего в театр на представление, например, «Двух веронцев». Сей юноша учился в Оксфорде и закончил курс, но в тот самый момент, когда нужно было получить степень магистра, переехал в Кембридж, где повторил тот же трюк – увильнул от получения степени; а дело было в том, что при получении ученой степени следовало произнести особую присягу, отрекаясь от «римской веры», а юноша был из католической семьи – знаменитый Томас Мор, казненный за веру Генрихом VIII, приходился ему прадедушкой. Этот юноша и есть Джон Донн в 1593 году. Таким мы видим его на портрете, принадлежащем маркизу Лотиану, – в широкой черной шляпе, в костюме с тончайшим кружевным воротником. Итак, он приехал в Лондон и поступил в юридическую школу Линкольз-Инн, где вскоре сделался Маэстро Карнавала (Master of Revels), то есть формальным студенческим лидером, организатором рождественских представлений, всевозможных шутовских процессий, розыгрышей и шуток. Он учил право, увлекался театром, был галантным кавалером, остроумцем и поэтом. Стихи писали и большинство из его друзей, вот откуда взялись эти стихотворные послания, которые составляют весомую часть его поэтического наследства. Доказано, что эти стихи – не условный жанр, а реальные письма, которыми друзья обменивались в разлуке: например, уезжая из зачумленного Лондона, отправляясь на войну или в дипломатическую поездку на материк.
Когда же тайный и необдуманный брак сломал удачно начавшуюся карьеру Джона Донна, и после ряда опальных лет, проведенных вдали от Лондона, он переродился сперва в философа, а потом в проповедника, – перед тем как окончательно бросить стихи и принять священнический сан, он еще не раз брался за перо, чтобы в изящных и увлекательных стихах принести дань своим новым покровительницам при дворе. В молодости он болтал в рифму с друзьями, теперь же его, женатого и серьезного человека, больше вдохновляли просвещенные светские дамы – такие, как Магдалина Герберт, воспитавшая двух сыновей-поэтов, или украшение двора короля Якова блестящая Люси Харрингтон, графиня Бедфорд.
Чума в Лондоне. Гравюра начала XVII в.
Из публикуемых ниже посланий первые три (Т. Вудворду и Э. Гилпину), очевидно, написаны во время эпидемии чумы в Лондоне. Следующие два письма, Р. Вудворду и Г. Уоттону, относятся к 1597–1599 годам, когда все трое друзей были увлечены благоприятно развивавшейся придворной карьерой, – оттого-то в этих стихах так много выпадов против Двора и похвал Уединению. Письмо Генри Уоттону «in Hiber. Belligeranti» («сражающемуся в Ибернии») написано в апреле – сентябре 1599 года, когда Уоттон вместе с графом Эссексом участвовал в злосчастной военной кампании в Ирландии (имевшей столь роковые последствия для Эссекса – см. далее предисловие к поэме Донна «Странствия души»).
Ко времени опалы и вынужденной жизни вдали от Лондона относится письмо близкому другу Донна Генри Гудьеру, побуждающее его оставить Англию и отправиться в путешествие на континент. Интересно, как Донн мотивирует этот совет: «В чужих краях / Не больше толка, но хоть меньше срама». И далее:
Чужбина тем, быть может, хороша, Что вчуже ты глядишь на мир растленный. Езжай. Куда? – не все ль равно. Душа Пресытится любою переменой.В более поздних письмах все чаще звучат мотивы самоусовершенствования и христианского покаяния. Скажем, не вошедшее в эту подборку письмо «Эдварду Герберту в Жульер» начинается словами, в которых уже слышен будущий проповедник, преподобный доктор Донн:
Клубку зверей подобен человек; Мудрец, смиряя, вводит их в Ковчег. Глупец же, в коем эти твари в сваре, – Арена иль чудовищный виварий: Те звери, что, ярясь, грызутся тут Все человеческое в нем пожрут – И, друг на друга налезая скотно, чудовищ новых наплодят бессчетно. Блажен, кто укрощает сих зверей И расчищает лес души своей!Люси Харингтон, графиня Бедфорд. Уильям Ларкин, 1615 г.
Наконец, последнее из посланий – письмо первой красавице английского двора Люси Харингтон, графине Бедфорд, (одно из восьми сохранившихся) – блестящий образец изящного и ученого мадригала. Заметим, что леди Бедфорд умела не только танцевать на придворных карнавалах, но и отвечать недурными стихами на такие послания.
Джон Донн (1572–1631)
Стихотворные послания Томасу Вудворду
Тревожась, будто баба на сносях, Надежду я носил в себе и страх: Когда ж ты мне напишешь, вертопрах? Я вести о тебе у всех подряд Выклянчивал, любой подачке рад, Гадая по глазам, кто чем богат. Но вот письмо пришло, и я воскрес, Голь перекатная, я ныне Крез, Голодный, я обрел деликатес. Душа моя, поднявшись от стола, Поет: хозяйской милости хвала! Все, что твоя любовь моей дала, Обжорствуя, я смел в один присест; Кого кто любит, тот того и ест. <1592>Ему же
Ступай, мой стих хромой, к кому – сам знаешь; В дороге, верно, ты не заплутаешь. Я дал тебе, мой верный вестовщик, Подобье стоп, и разум, и язык. Будь за меня предстатель и молитель, Я твой один Творец, ты мой Спаситель. Скажи ему, что долгий, мудрый спор, В чем ад и где, окончен с этих пор; Доказано, что ад есть разлученье С друзьями – и безвестности мученье – Здесь, где зараза входит в каждый дом И поджидает за любым углом. С тобой моя любовь: иди, не мешкай, Моей ты будешь проходною пешкой, Коль избегу ужасного конца; А нет – так завещаньем мертвеца. <1592>Эдварду Гилпину
Как все кривое жаждет распрямиться, Так стих мой, копошась в грязи, стремится Из низменности нашей скорбной ввысь На гордый твой Парнас перенестись.<?> Оттуда ты весь Лондон зришь, как птица; Я принужден внизу, как червь, ютиться. В столице нынче развлечений ноль, В театрах – запустение и голь. Таверны, рынки будто опростались, Как женщины, – и плоскими остались. Насытить нечем мне глаза свои: Все казни да медвежии бои.<?>** Пора бежать в деревню, право слово, Чтоб там беглянку-радость встретить снова. Держись и ты укромного угла; Но не жирей, как жадная пчела, А как купец, торгующий с Москвою, Что летом возит грузы, а зимою Их продает, – преобрази свой Сад В полезный Улей и словесный Склад. <Лето 1593>Роланду Вудворду
Как женщина, что, трижды овдовев, Себе вменяет целомудрье Дев, Так я, к стихописанью охладев, Теперь монашествую; много сил На сорняки сонетов я сгубил, В репьи сатир немало пыла вбил. Хоть из Искусств благих я не с одним Не обручен – и, значит, не грешим Мы с Музою, когда вдвоем шалим, Но голос Бога строг, и в глубине Души я знаю о своей вине: Есть упущенья грех, и он на мне. Тщеславие с пороком заодно: То грязь и то; но можно смыть пятно; На это нам раскаянье дано. Вся добродетель в Вере, только лишь В ней – мудрость и отвага; но барыш Она не даст, и с ней не поюлишь. Ищи себя в себе; чтоб солнце жгло Сильней, берут особое стекло, Дабы собрать лучи оно могло: Так собери свой дух в пучок, сиречь В одно желанье, жаркое, как печь, Дабы солому совести поджечь. Алхимики, когда хотят в состав Ввести простой металл, то, их смешав И прокалив, вдвигают в теплый шкаф – Таков для нас уединенья труд; А те, что вечно бродят там и тут, В свободе лишь изгнанье обретут. Нам жизнь дана в аренду. Кто из нас Хранит и умножает свой запас, Расплатится сполна в урочный час. Так удобряй и ободряй себя, О призраках удачи не скорбя, – Но вспоминай о любящих тебя. <1597>Генри Уоттону
Сэр, в письмах душ слияние тесней, Чем в поцелуях; разговор друзей В разлуке – вот что красит прозябанье, Когда и скорби нет – лишь упованье На то, что день последний недалек И, Пук травы, я лягу в общий Стог. Жизнь – плаванье; Деревня, Двор и Город Суть Рифы и Реморы. Борт распорот Иль Прилипала к днищу приросла – Так или этак не избегнуть зла. В печи экватора горишь иль стынешь Близ ледовитых полюсов – не минешь Беды: держись умеренных широт; Двор чересчур бока тебе печет Или Деревня студит – все едино; Не Град ли золотая середина? Увы, Тарантул, Скорпион иль Скат – Нещедрый выбор; точно так и Град. Из трех что назову я худшей скверной? Все худшие: ответ простой, но верный. Кто в Городе живет, тот глух и слеп, Как труп ходячий: Город – это склеп. Двор – балаган, где короли и плуты Одной, как пузыри, тщетой надуты. Деревня – дебрь затерянная; тут Плодов ума не ценят и не чтут. Дебрь эта порождает в людях скотство, Двор – лизоблюдство, Город – идиотство. Как элементы все, один в другом, Сливались в Хаосе довременном, Так Похоть, Спесь и Алчность, что присущи Сиим местам, одна в другой живущи, Кровосмесительствуют и плодят Измену, Ложь и прочих гнусных чад. Кто так от них стеною обнесется, Что скажет: грех меня, мол, не коснется? Ведь люди – губки; странствуя среди Проныр, сам станешь им того гляди. Рассудок в твари обернулся вредом: Пал первым ангел, черт и люди – следом. Лишь скот не знает зла; а мы – скоты Во всем, за исключеньем простоты. Когда б мы сами на себя воззрились Сторонним оком, – мы бы удивились, Как быстро утопический балбес В болото плутней и беспутства влез. Живи в себе: вот истина простая; Гости везде, нигде не прирастая. Улитка всюду дома, ибо дом Несет на собственном горбу своем. Бери с нее пример не торопиться; Будь сам своим Дворцом, раз мир – Темница. Не спи, ложась безвольно на волну Как поплавок, – и не стремись ко дну, Как с лески оборвавшейся грузило: Будь рыбкой хитрою, что проскользила – И не слыхать ее – простыл и след; Пусть спорят: дышат рыбы или нет. Не доверяй Галеновой науке В одном: отваром деревенской скуки Придворную горячку не унять: Придется весь желудок прочищать. А впрочем, мне ли раздавать советы? Сэр, я лишь Ваши повторил заветы – Того, что, дальний совершив вояж, Германцев ересь и французов блажь Узнал – с безбожием латинским вкупе – И, как Анатом, покопавшись в трупе, Извлек урок для всех времен и стран. Он впитан мной – и не напрасно ДАНН[142]<1597>Другу, In hibernia belligeranti
Так рвешься в бой? Так честолюбье греет, Что дружба побоку – пускай хиреет? Нет, я не столь к воинственным трудам Ревнив: твою любовь я не отдам За всю Ирландию; скорей прощу я Смерть, что летит на пир, войну почуя, Чем летаргию памяти твоей. Пусть хлябь и топь и копья дикарей Расправятся с телами невозбранно – Тот старость обманул, кто умер рано, Он вовремя отдал, что брал взаймы И избежал ареста и тюрьмы. Да не поддастся дух твой (утонченный, Как эликсир, блужданьем в перегонной Извилистости школ, столиц, дворов) Ирландской лени. Не прошу даров Усердья, ни опасных излияний, Что могут опасаться ловких дланей И глаз, глядящих под печать письма; От сердца напиши – не от ума.Генри Гудьеру, побуждая его отправиться путешествовать за границу
Кто новый год кроит на старый лад, Тот сокращает сам свой век короткий: Мусолит он в который раз подряд Все те же замусоленные четки. Дворец, когда он зодчим завершен, Стоит, не возносясь мечтой о небе; Но не таков его хозяин: он Упорно жаждет свой возвысить жребий. У тела есть свой полдень и зенит, За ними следом – тьма; но Гостья тела, Она же солнце и луну затмит, Не признает подобного предела. Душа, труждаясь в теле с юных лет, Все больше алчет от работы тяжкой; Ни голодом ее морить не след, Ни молочком грудным кормить, ни кашкой. Добудь ей взрослой пищи. Испытав Роль школяра, придворного, солдата, Подумай: не довольно ли забав, В страду грешна пустая сил растрата. Ты устыдился? Отряси же прах Отчизны; пусть тебя другая драма На время развлечет. В чужих краях Не больше толка, но хоть меньше срама. Чужбина тем, быть может, хороша, Что вчуже ты глядишь на мир растленный. Езжай. Куда? – не все ль равно. Душа Пресытится любою переменой. На небесах ее родимый дом, А тут – изгнанье; так угодно Богу, Чтоб, умудрившись в странствии своем, Она вернулась к ветхому порогу. Все, что дано, дано нам неспроста, Так дорожи им, без надежд на случай, И знай: нас уменьшает высота, Как ястреба, взлетевшего за тучи. Вкус истины познать и возлюбить – Прекрасно, но и страх потребен Божий, Ведь, помолившись, к вечеру забыть Обещанное поутру – негоже. Лишь на себя гневись и не смотри На грешных. Но к чему я повторяю То, что твердят любые буквари, И что на мисках пишется по краю? К тому, чтобы ты побыл у меня; Я лишь затем и прибегаю к притчам, Чтоб без возка, без сбруи и коня Тебя, хоть в мыслях, привезти к нам в Митчем.Графине Бедфорд
Рассудок – левая рука души, А вера – правая. Кто зрит Вас рядом, Тот разумеет, как Вы хороши, Я ж верую, не досягая взглядом. Неладно человеку быть левшой, А одноруким вовсе непригоже; И вот, во что я верю всей душой, Теперь обнять умом хочу я тоже. Зане тот ближе к Богу, кто постиг Деяния святых, – я изучаю Круг Ваших избранных друзей и книг И мудрость Ваших дел постигнуть чаю. Вотще! громада свойств грозит уму И пониманья превосходит меру, Отбрасывая душу вспять – к тому, Что в ней питает внутреннюю веру. Я верю: Вы добры. Еретики Пускай сие опровергают рьяно: Не сокрушат наскоки и плевки Шипящих волн скалу у океана. Во всяком теле некий есть бальзам, Целящий и дающий силы внове При их ущербе; их досталось Вам Два: красота и благородство крови. Вдобавок, млеко чистоты смешав С плодами знаний, Вы нашли особый, Почище Митридатова, состав, Неуязвимый никакою злобой. Он Ваш насущный хлеб. Ограждены От зла в своей сияющей стихии, Вы добрый ангел в образе жены, Нам явленный с начала дней впервые. Свершите ж мытарство любви святой И дань сердец снесите Господину; Отдайте эту жизнь в придачу к той Иль слейте обе вместе, во едину. Но видит Бог: я нашей встречи там За все добро вселенной не отдам.Посвящается вечности («Странствие души» Донна)
Джон Донн. С миниатюры Исаака Оливера, 1616 г.
Поэма «Метемпсихоз, или Странствия души», может быть, самое загадочное произведение Джона Донна. С нее начинается первое посмертное издание 1633 года – Poems by J.D. Пятнадцатью годами раньше Бен Джонсон в разговоре с Драммондом так отзывался об этой тогда еще неопубликованной вещи: «Замысел донновского Метемпсихоза в том, что он проследил странствия души того яблока, что сорвала Ева, – переселив ее сперва в суку, потом в волчицу, а потом в женщину; его целью было провести сию душу через тела всех еретиков, начиная с Каина, и в конце концов оставить ее в теле Кальвина. Впрочем, дальше первой страницы он не пошел, да и то, сделавшись доктором богословия, ныне в том раскаивается и желает уничтожить все свои стихи». Из этого описания явствует, что Джонсон что-то запамятовал или перепутал – может быть, он и знал поэму лишь понаслышке или по малому отрывку. У самого Донна метаморфозы Души таковы:
I) яблоко Евы, 2) мандрагора, 3) воробей, 4) рыба, 5) другая рыба, 6) кит, 7) мышь, 8) волк, 9) помесь волка и собаки, 10) обезьяна и
II) дочь Адама Фемех. Неточно и замечание Джонсона насчет того, что автор не пошел дальше первой страницы. Но главная неточность Бена Джонсона – в определении предполагаемой цели странствий: у Донна это явно не Кальвин. В строфе VII автор так описывает это последнее (на тот момент) местопребывание Души:
Узнайте же: великая Душа, что ныне, нашим воздухом дыша, Живет – и движет дланью и устами, Что движут всеми нами, как Луна – Волной, – та, что в иные времена Играла царствами и племенами, Для коей Магомет и Лютер сами Являлись плоти временной тюрьмой, – Земную форму обрела впервой В Раю, и был смирен ее приют земной.Длань и уста, движущие Донном и его читателями, «как Луна – волной», не могут принадлежат не кому иному, как английской королеве Елизавете – Диане, Цинтии, непорочной Луне – повелительнице морских приливов: все эти определения были общими местами культа Елизаветы, без конца повторяемыми в речах и мадригалах. Приведем хотя бы пару строк из стихотворения Уолтера Рэли:
Благословенны нимфы светлых рощ И рыцари, что служат светлой Даме: Да не прейдет божественная мощь, Да вечно движет зыбкими морями! –или его же поэму «Океан к Цинтии», в которой Цинтия (Луна) означает Елизавету, движущую Океаном, т. е. самим Рэли. Так что никакого сомнения, странствия чьей души описываются в поэме, быть не может. Крупнейшие авторитеты донноведения – Грирсон, Гарднер, Госс – с этим согласны; Милгейт возражает, но многого ли стоят его возражения, если он не может выдвинуть никакой другой гипотезы? Но возникают другие вопросы: почему Донн выбрал такой сюжет и такой предмет – и, главное, как он осмелился? То есть выбрать королеву Елизавету для аллегорической поэмы было как раз естественно – напомним хотя бы грандиозную «Королеву фей» Спенсера, – но не для такой же глумливой цели! На титульном листе поэмы стоит несомненно восходящий к авторской копии подзаголовок Poêma Satyricon, а ведь сатирическая поэзия была вообще запрещена как жанр в 1599 году, причем те сатиры, что находились в продаже, подверглись изъятию и сожжению во дворе лондонского епископа. Тайная полиция и Звездная Палата свирепствовали, за злободневный политический намек в комедии легко можно было загреметь в тюрьму, за оскорбление королевского величества полагалось отсечение носа и ушей (такой участи чуть не подверглись Джонсон, Марстон и Деккер в 1605 году); а тут – не просто сатирическая, а прямо богохульная поэма, передразнивающая события священной истории, поддерживающая пифагорейскую ересь о скитаниях души и – самое ужасное! – прямо намекающая на то, что это душа царствующей монархини!
И посмотрите, в каких тонах описываются приключения этой Души, какого она набралась опыта на своем пути. Это, во первых, опыт распутства, четко прослеживаемый в пунктирной линии: воробей – волк – обезьяна. Перед нами почти краткий компендиум распутства: воробей – легкомысленное беспутство и инцест, волк – коварное и кровожадное прелюбодейство, обезьяна – смешная и безобразная похоть. Если вспомнить, что Елизавете, которую фавориты и льстецы славили как Венеру, было тогда уже далеко за шестьдесят, обезьяна покажется не случайным персонажем; если притом учесть, что для нее, как и для ее батюшки Генриха VIII, не было проблемой отправить своего фаворита в Тауэр или на казнь, то и образ волка окажется уместным. Отметим, что по сюжету поэмы Душа от волка прямиком переходит к его отродью – сыну волка и собаки; не намек ли это на то, что в Елизавету перешла душа ее родителя?
Вторая линия, которая прослеживается в странствиях Души, это опыт интриг и коварства: кит – мышь. Причем огромный и сильный кит становится жертвой неожиданного кровавого заговора со стороны рыбы-молота и меч-рыбы, а ничтожная мышь уничтожает мощного слона, проникнув, как лазутчик, в его мозг и направив удар в самое уязвимое место. Таким образом Душа набирается опыта интриг как бы с двух сторон (разведки и контрразведки) – та самая душа, которая ныне, как утверждает Донн, правит английским королевством. Откуда такая дерзость и, главное, что могло ее спровоцировать?
Мы знаем, что Джон Донн происходил из католической семьи, а Елизавета беспощадно преследовала католиков; в частности, во время учебы Донна в Линкольнз-Инн был арестован и вскоре умер в тюрьме его родной брат Генри. Но Джон Донн и в молодости не был борцом за веру, а уж к 1601 году, в свои двадцать восемь лет, приняв протестантство и твердо став на путь придворной, государственной карьеры, он бы не решился на рискованную атаку верховной власти без конкретного и крупного повода. В чем же дело? Мне кажется, ответ лежит на поверхности. На титульном листе поэмы, несомненно восходящей к авторскому списку, стоит дата окончания поэмы: 16 августа 1601 г. Двадцать пятого февраля того же года Лондон потрясла казнь Эссекса, фаворита Елизаветы и первого вельможи в Англии. Между этими событиями – пять месяцев. Именно в это время Донн сочинил пятьсот строк своей замысловатой сатиры. Есть ли основания предполагать, что эти события связаны, что Донн был потрясен гибелью Эссекса и резко ухудшил свое мнение о королеве?
Такие основания есть. Во-первых, с Эссексом был дружен Томас Эджертон, Лорд Хранитель Королевской Печати, в доме которого жил Донн в качестве личного секретаря и почти члена семьи. Собственно говоря, Донн и попал к Эджертону через службу у Эссекса. Под его началом в качестве джентльмена-добровольца Донн плавал к Кадису в 1596 году (славная победа над испанцами, стяжавшая славу Эссексу!) и в 1597 году к Азорским островам, причем в последнем случае непосредственно «состоял при его светлости». В этом плавании он подружился с сыном и пасынком Эджертона, Томасом и Фрэнсисом, тоже горячими приверженцами Эссекса. Благодаря им и состоялось знакомство Донна с его будущим патроном. С первого октября 1599-го по пятое июля 1600 года опальный Эссекс находился под домашним арестом в доме своего друга лорда Эджертона, следовательно, ежедневно общался с Донном, сидел с ним за одним столом, обменивался шутками и любезностями. В феврале 1601 года, когда до королевы дошли сведения, что Эссекс задумал мятеж, именно Лорда Хранителя Королевской Печати она отправила во главе делегации в дом графа. Но королевских посланцев встретили враждебно, их свиту, в том числе Джона Донна, оставили за воротами. Лорду Эджертону не удалось пробудить благоразумие в Эссексе, и роковое выступление, окончившееся ужасным и позорным фиаско, состоялось. Лондонцы не поддержали мятежа, Эссекс был арестован и приговорен к смерти. О последних днях перед его казнью ходят легенды. Говорят, что Елизавета сначала подписала приказ, а потом уничтожила его. Что она ждала от Эссекса просьбы о помиловании, присылки им кокого-то заветного кольца. В час казни осужденный вел себя стоически, предсмертную речь на эшафоте произнес такую, что, говорят, даже его заклятый враг Уолтер Рэли плакал (в следующее царствование он и сам блеснет речью на эшафоте).
Нельзя не согласиться с Госсом, что все эти события, в которых Донн принимал непосредственное участие – мятеж, арест и казнь блестящего Эссекса, под началом которого он служил в двух морских экспедициях и с которым девять месяцев прожил под общей крышей, – должны были составить целую эпоху в жизни Донна. Эмоции выплеснулись у него, как всегда, в форме интеллектуального бунта. Он начинает сатирическую поэму, начиненную бесконечной чередой возвышений и крахов земных тварей; сквозь это все проходит Душа, которая отнюдь не очищается и не умудряется в страданиях, а лишь накапливает, говоря по-современному, негативный опыт (блуди и поедай другого!); путь этой Души ведет, как внятно обозначено уже в первых строфах, от яблока Евы к «длани и устам», правящим Английским королевством. В ту эпоху, когда на книгах непременно помещали велеречивое посвящение какому-нибудь принцу или вельможе, Донн на заглавном листе поэмы ставит неслыханной дерзости слова: «INFINITATI SACRUM» – «ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЕЧНОСТИ»!
Предположение, что «Метемпсихоз» Донна психологически связан к гибелью Эссекса, оказывается в ряду других гипотез, находящих следы этого трагического события в литературе елизаветинской эпохи. В мизантропических обертонах поэмы, в ее мрачной веселости можно найти перекличку с монологами Гамлета. Кстати, некоторые ученые считают, что «Гамлет» написан в том же 1601 году (в нем есть очевидные намеки на происходившую весной 1601 года «войну театров») и что в образе Гамлета отразился Эссекс, а в образе распутной королевы Гертруды – Елизавета. Существует предположение, что и обычно приписываемое Шекспиру стихотворение «Феникс и Голубь» из «Честерского сборника» (1601) элегически трактует трагический финал истории королевы и бедного графа Эссекса. «Феникс» было одним из обычных аллегорических именований Елизаветы; по сюжету стихотворения Феникс и Голубь сгорают в пламени, из которого возрождается новый Феникс. В отношении к королевским особам гибель и возрождение Феникса означали смену монархов: «Король умер, да здравствует король!» Елизавета фактически была еще жива, но это была уже тень великой Елизаветы: последние два года жизни после казни своего Голубя королева провела в тоске и унынии.
Задумывал ли Донн свою поэму как фрагмент или же как полнометражную эпопею? Скорее всего, первое. При таком темпе, в каком начинается поэма (на время от вкушения райского яблока до дочери Адама уходят полтысячи стихов) понадобились бы, наверное, десятки, если не сотни тысяч строк, чтобы довести историю Души до современности. Обещания Донна создать «Книгу книг», стоящую лишь ступенькой пониже Библии, носят явно иронический характер, как и многое другое в авторском предисловии, например, аттестация своего собственного ума как «простого, незамысловатого и бесхитростного». Скорее всего, в цель Донна входило пародийное изображение, так сказать, «Великого Замаха»; притом он отлично знал, что прозрачный намек действует лучше разжевывания, угроза сильнее выполнения (см. концовку стихотворения «Призрак»). Да и не было у Донна времени на эпопеи: его жизнь резко повернулась в 1601 году. В начале декабря он тайно женился на племяннице своего патрона, Анне Мор (вся осень, вероятно, ушла не треволнения и устройство этого тайного бракосочетания). По ходатайству разгневанного отца Донн был уволен со службы, заключен в тюрьму и хотя он вскоре вышел на свободу и даже примирился с тестем, но все-таки остался у разбитого корыта: заново начать светскую карьеру ему уже не удалось. Донн посерьезнел, приобрел склонность к меланхолии. «Метемпсихоз» оказался последним всплеском его необузданной и безоглядной молодости.
Джон Донн (1572–1631)
МЕТЕМПСИХОЗ, ИЛИ СТРАНСТВИЕ ДУШИ
POEMA SATYRICON
INFINITATI SACRUM
16 AUGUSTI 1601
ПРЕДИСЛОВИЕ
Иные над порталами и дверями своих домов помещают гербы, я же свой портрет, ежели только краски могут передать ум столь простой, незамысловатый и бесхитростный, каков есть мой. Обычно перед новым автором я прихожу в сомнение, медлю и не умею тотчас сказать, хорош ли он. Я строго сужу и многое осуждаю; таковой обычай обходится мне дорого в том, что мои собственные писания еще хуже чужих. Не могу, однако, ни столь противуречить своей натуре, чтобы вовсе не делать того, что мне нравится, ни быть столь несправедливым к другим, чтобы делать это sine talione. Пока я даю им случай отплатить мне тем же, они, верно, простят мне мои укусы. Никому не возбраняю порицать меня, исключая лишь тех, что, как Трентский собор, осуждают не книги, а авторов, предавая проклятию все, что такой-то написал или напишет. Никто не пишет столь плохо, чтобы однажды не сочинить нечто образцовое – для подражания или избежания. Приступая к сей книге, не собираюсь ни к кому входить в долг; не знаю, сохраню ли сам свое достояние; может быть, растрачу, а может быть, и преумножу в обороте, ибо, если я одолживаю у древности, кроме того, что я намерен уплатить потомству тем же добром и тою же мерой, притом же, как вы увидите, не премину упомянуть и поблагодарить не токмо того, кто выкопал для меня сокровище, но и того, кто осветил мне к нему дорогу. Прошу вас лишь припомнить (ибо я не желал бы иметь читателей, которых я могу поучать), что, согласно Пифагорову учению, душа может переходить не только от человека к человеку или же скоту, но равномерно и к растениям; ради того не удивляйтесь, находя одну душу в императоре, в почтовой лошади и в бесчувственном грибе, так как не ущерб душевный, а одно только нерасположение органов творит сие. И хотя Душа, обретаясь в дыне, не может ходить, зато может помнить, а запомнив, поведать мне, за каким роскошным столом ее подавали. А обретаясь в пауке, не может говорить, но, запомнив, может мне поведать, кто употребил ее паучий яд ради сана своего или чина. Как бы ни мешала телесность другим ее способностям, памяти она не препятствует; потому я и могу ныне, с ее слов, доподлинно поведать вам о всех ее странствиях – от самого дня сотворения, когда она была яблоком, прельстившим прародительницу нашу Еву, до нынешних времен, когда она стала той, чью жизнь вы найдете в конце сей книги.
I
Пою Души бессмертной путь земной В обличьях многих, данных ей судьбой, – От райского плода до человека. Пою миров младенческий рассвет, И зрелый день, и вечер дряхлых лет – С того халдеев золотого века, Что персов серебром и медью грека Сменился, и железом римских пик. Мой труд, как столп, воздвигнется велик, Да перевесит он все, кроме Книги книг.II
Не возгордись могуществом своим Пред нею, о небесный Пилигрим, Зрачок небес, блуждающий над миром; Ты утром пьешь Востока аромат, Обедаешь средь облачных прохлад Над Сеной, Темзой иль Гвадалквивиром И в Эльдорадо день кончаешь пиром: Не больше стран ты видел с выcоты, Чем та, что до тебя пришла из темноты За день – и будет жить, когда погаснешь ты.III
Скажи, священный Янус, что собрал На корабле своем (он был не мал) Всех птиц, зверей и ползающих тварей, Вмещал ли твой странноприимный бот, В котором спасся человечий род, Садок вождей, вельмож и государей, Плавучий храм твой, хлев, колледж, виварий – Так много тел, шумящих вразнобой, Как эта искра горняя собой Живила – и вела дорогою земной?IV
Судьба, наместник Божий на земле, Никто не видел на твоем челе Морщин улыбки праздной или гнева; Зане ты знаешь сроки и пути – Молю, открой страницу и прочти, Какой мне плод сулит познанья Древо, Чтоб, не сбиваясь вправо или влево, Я шел по миру, зная наперед, Куда меня рука небес ведет И что меня в конце паломничества ждет.V
Шесть пятилетий жизни промотав, Я обещаю свой сменить устав, И если будет Книга благосклонна И мне удастся избежать сетей Плотских и государственных страстей, Цепей недуга и когтей закона, Ума растраты и души урона Не допущу; чтобы, когда впотьмах Могила примет свой законный прах, Достался ей в мужья муж, а не вертопрах.VI
Но если дни мои судьба продлит, Пусть океан бушует и бурлит, Пусть бездна неизвестностью чревата – Один, среди безмерности морей, Я проплыву с поэмою моей Весь круг земной, с востока до заката, И якорь, поднятый в струях Евфрата, Я брошу в Темзы хладную волну И паруса усталые сверну, Когда из райских стран до дома дотяну.VII
Узнайте же: великая Душа, Что ныне, нашим воздухом дыша, Живет – и движет дланью и устами, Что движут всеми нами, как Луна – Волной, – та, что в иные времена Играла царствами и племенами, Для коей Магомет и Лютер сами Являлись плоти временной тюрьмой, – Земную форму обрела впервой В Раю, и был смирен ее приют земной.VIII
Смирен? Нет, славен был, в конце концов, Когда верна догадка мудрецов, Что Крест, кручина наша и отрада, На коем был пленен Владыка Сил, Что, сам безгрешный, все грехи вместил, Бессмертный, смерть испил, как чашу яда, Стоял на том заветном месте Сада, Где волею священной был взращен Плод – и от алчных взоров защищен, В котором та Душа вкушала первый сон.IX
Cей плод висел, сверкая, на суку, Рожденный сразу зрелым и в соку, Ни птицею, ни зверем не початый; Но змей, который лазил в старину, А ныне должен за свою вину На брюхе ползать, соблазнил, проклятый (За что мы ныне платим страшной платой) Жену, родив, сгубившую свой род, И муж за ней вкусил коварный плод: Возмездье было в нем – хлад, смерть и горький пот.X
Так женщина сгубила всех мужчин – И губит вновь, от сходственных причин, Хотя по одному. Мать отравила Исток, а дочки портят ручейки И, возмутив, заводят в тупики. Утратив путь, мы вопием уныло: О судьи, как же так? она грешила – А нас казнят? Но хуже казней всех Знать это – и опять влюбляться в тех, Что нас влекут в ярмо, ввергают в скорбь и грех.XI
Отрава проникает в нас всерьез, И уж дерзаем мы задать вопрос (Кощунственный): как это Бог поставил Такой закон, что Божья тварь его Могла переступить? И отчего Невинных он от мести не избавил? Ни Ева же, ни змей не знали правил, И нет того в Писанье, что Адам Рвал яблоко иль знал, откуда там Оно взялось. Но казнь – ему, и ей, и нам.XII
А впрочем, сохрани, небесный Дух, От суетного повторенья вслух Дум суемудрых – пусть они уймутся; Как шалуны, что тешатся порой Летучих мыльных шариков игрой, Их вытянув тростинкою из блюдца, Они всенепременно обольются. А спорить попусту с еретиком – Как ветер к мельнице носить мешком: Покончить дланью с ним верней, чем языком.XIII
Итак, в сей миг, когда коварный змей, В тот плод вцепившись лапою своей, Порвал сосуды нежные и трубки, Его питавшие, и тем лишил Ребенка сока материнских жил, – Душа умчалась прочь, быстрей голубки Иль молнии (тут все сравненья хрупки), И в темный, влажный улетев овраг, Сквозь трещины земные, как сквозняк, Проникла вглубь – и там вселилась в некий Злак.XIV
И он, еще не Злак, а Корешок, Очнувшись, вырос сразу на вершок И дальше стал пихаться и стремиться; Как воздух вытесняется всегда Водой, так твердым веществом вода, И уступила рыхлая темница. Так у дворца порой народ стеснится: Монархиню узреть – завидна честь, В толпе и горностаю не пролезть; Но крикнут: «Расступись!» – и вот уж место есть.XV
Он выпростал наружу две руки – И расщепились руки-корешки На пальцы – крохотней, чем у дитяти; Пошевелил затекшею ногой Чуть-чуть – сперва одной, потом другой, Как лежебока на своей кровати. Он с первых дней был волосат – и кстати: Зане ему дана двойная власть В делах любви (и благо и напасть) – Плодами разжигать, гасить листами страсть.XVI
Немой, он обладал подобьем рта, Подобьем глаз, ушей и живота, И новых стран владетель и воитель, Стоял, увенчан лиственным венком С плодами ярко-красными на нем, Как стоя погребенный победитель В могиле. Такова была обитель Души, что ныне обреталась тут – В сем корне мандрагоровом приют Найдя; не зря его, как панацею, чтут.XVII
Но не любви теперь он жертвой стал: Младенец Евин по ночам не спал, Не просыхал от слез ни на минутку; И Ева, зная свойства многих трав, Решила, мандрагору отыскав, Отваром корня исцелить малютку. Такую с нами Рок играет шутку: Кто благ, тот умирает в цвете лет, Сорняк же, от которого лишь вред, Переживает всех – ему и горя нет.XVIII
Итак Душа, пробыв три дня подряд В подземной тьме, где звезды не горят, Летит на волю, жмурясь с непривычки; Но провиденья жесткая рука Вновь: цап! – ее хватает за бока И заключает в беленьком яичке, Доверив хлопотливой маме-птичке Сидеть над гнездышком, пока отец Приносит мух, и ждать, когда птенец Проклюнет скорлупу и выйдет наконец.XIX
И вот на свет явился Воробей; На нем еще, как зубки у детей, Мучительно прорезывались перья; В пушку каком-то, хлипок, некрасив, Голодный клюв свой жалобно раскрыв И черным глазом, полным недоверья, Косясь вокруг, он пискнул: мол, теперь я Хочу поесть! Отец взмахнул крылом И кинулся сквозь ветки напролом Скорей жучков ловить, носить добычу в дом.XX
Мир молод был; все в нем входило в сок И созревало в небывалый срок; И вот уже наш прыткий Воробьенок В лесу и в поле, где ни встретит их, Без счета треплет глупых воробьих, Не различая теток и сестренок; И брошенные не пищат вдогонок, Пусть даже он изменит без стыда На их глазах – и это не беда: Уж я себе, дружок, дружка найду всегда.XXI
В те дни не ограничивал закон Свободу в выборе мужей и жен; Душа, в своей гостинице летучей, И тело, радуясь избытку сил, Резвятся, расточая юный пыл И за вихор хватая всякий случай; Но день пришел расплаты неминучей: И впрямь: тот живота не сбережет, Кто на подружек тратит кровь и пот, – Три года не прошло, как он уже банкрот.XXII
А мог бы жить да жить! В те времена Еще не знали, как на горсть пшена Словить коварно мелкого жуира; Еще не выдумали ни силков, Ни сеток, ни предательских манков, Что губят вольных жителей эфира. Но предпочел он с жизненного пира Уйти до срока, промотав, как клад, Три года, чем пятнадцать лет подряд Жить, заповеди чтя, плодя послушных чад.XXIII
Итак, едва наш резвый Воробей Отпрыгался, Душа, еще резвей, Умчалась к ближней речке неглубокой, Где на песчаной отмели, у дна, Икринка женская оживлена Была мужской кочующей молокой; И вот, былою утомясь морокой, Душа вселилась в кроткого малька, Расправила два гибких плавничка И погребла вперед – как лодочка, легка.XXIV
Но тут, как бриг на полных парусах, Свой образ в отраженных небесах Следя – и шею гордо выгибая, Прекрасный Лебедь мимо проплывал, Он, мнилось, все земное презирал, Белейшей в мире белизной блистая: И что ему рыбешек низких стая? И вдруг – малек наш даже не успел Моргнуть, как в клюв прожорливый влетел: Бедняга, он погиб – хотя остался цел.XXV
Тюрьма Души теперь сама в тюрьме, Она должна в двойной томиться тьме На положении вульгарной пищи; Пока лебяжьего желудка пыл Ограды внутренней не растопил: Тогда, лишившись своего жилища, Она летит как пар – и снова ищет Пристанища, но выбор небогат; Что рыбья жизнь? Гнетущ ее уклад: За то, что ты молчишь, тебя же и едят.XXVI
И вот рыбешка-крошка – новый дом Души – вильнула маленьким хвостом И поплыла, без видимых усилий, Вниз по дорожке гладкой водяной – Да прямо в сеть! – по счастью, с ячеей Широкой, ибо в те поры ловили Лишь крупных рыб, а мелюзгу щадили; И видит: щука, разевая пасть, Грозит и хочет на нее напасть (Сама в плену), но злых не учит и напасть.XXVII
Но вовремя пустившись наутек (Наказан в кои веки был порок!), Двойного лиха рыбка избежала, Едва дыша; а чем дыша – как знать? Выпрыгивала ль воздуха набрать Иль разряженною водой дышала От внутреннего жара-поддувала – Не знаю и сказать вам не рискну… Но приплыла она на глубину, Где встретил пресный ток соленую волну.XXVIII
Вода не скрыть способна что-нибудь, А лишь преувеличить и раздуть; Пока рыбешка наша в рассужденье, Куда ей плыть, застыла меж зыбей, – Морская Чайка, углядев трофей, Решила прекратить ее сомненья И, выхватив из плавного теченья, Ввысь унесла: так низкий вознесен Бывает милостью больших персон – Когда персоны зрят в том пользу и резон.XXIX
Дивлюсь, за что так ополчился свет На рыб? Кому от них малейший вред? На рыбаков они не нападают, Не нарушают шумом их покой; С утра в лесу туманном над рекой Зверей в засаде не подстерегают, И птенчиков из гнезд не похищают: Зачем же все стремятся их известь И поедом едят – и даже есть Закон, что в Пост должны мы только рыбу есть?XXX
Вдруг сильный ветер с берега подул, Он в спину нашу Чайку подтолкнул И в бездну бурную повлек… Обжоре Все нипочем, пока хорош улов, – Но слишком далеко от берегов Ее снесло: одна в бескрайнем море, Она в холодном сгинула просторе. Двум душам тут расстаться довелось – Ловца и жертвы – и умчаться врозь; Последуем за той, с кого все началось.XXXI
Вселившись снова в рыбий эмбрион, Душа росла, росла… раз в миллион Усерднее, чем прежде, и скорее – И сделалась громадою такой, Как будто великанскою рукой От Греции отторжена Морея Иль ураган, над Африкою рея, Надежный Мыс отбил одним толчком; Корабль, перевернувшийся вверх дном, В сравненье с тем Китом казался бы щенком.XXXII
Он бьет хвостом, и океан сильней Трепещет, чем от залпа батарей, От каждого чудовищного взмаха; Колонны ребер, туши круглый свод Ни сталь, ни гром небесный не пробьет; Дельфины в пасть ему плывут без страха, Не зря препон; из водяного праха Творит его кипучая ноздря Фонтан, которому благодаря, С надмирной хлябью вод связует он моря.XXXIII
Он рыб не ловит – где там! Но как князь, Который, на престоле развалясь, Ждет подданных к себе на суд короткий, Качается на волнах без забот И все, что только мимо проплывет, В жерло громадной всасывает глотки, Не разбирая (голод хуже тетки), Кто прав, кто виноват: им равный суд. Не это ль равноправием зовут? – Пусть гибнет мелюзга, чтоб рос Тысячепуд!XXXIV
Он пьет как прорва, жрет как великан, Как лужу, баламутит океан, Душе его теперь простору много: Ее указы мчат во все концы, Как в дальние провинции гонцы. Уж Солнце двадцать раз своей дорогой И Рака обошло, и Козерога; Гигант уже предельного достиг Величия; увы! кто так велик, Тот гибель отвратить не может ни на миг.XXXV
Две рыбы – не из мести, ибо Кит Им не чинил ущерба и обид, – Не из корысти, ибо жир китовый Их не прельщал, а просто, может быть, Со зла – задумали его сгубить И поклялись, что не сболтнут ни слова, Пока не будет к делу все готово – Да рыбе проболтаться мудрено! – Тиран же, как ни бережется, но Ков злоумышленных не минет все равно.XXXVI
Меч-рыба с Молот-рыбою вдвоем Свершили то, что ждали все кругом; Сначала Молот-рыба наскочила И ну его гвоздить что было сил Своим хвостом; Кит было отступил Под яростной атакой молотила; Но тут Меч-рыба, налетев, вонзила Ему свой рог отточенный в живот; И окровавилась пучина вод, И пожиравший тварь сам твари в корм идет.XXXVII
Кто за него отмстит? Кто призовет К ответу заговорщиков комплот? Наследники? Но эти зачастую Так видом трона заворожены, Что месть и скорбь забыты, не нужны. А подданные? Что рыдать впустую, Коль некому казать печаль такую? Да не был бы царь новый оскорблен Любовью к мертвому! – в ней может он Узреть любви к себе, живущему, урон.XXXVIII
Душа, насилу вновь освободясь Из плотских уз и все еще дивясь, Сколь малые орудия способны Разбить твердыню, – свой очередной Приют находит в Мыши полевой, Голодной и отчаянной. Подобно Как нищий люд пылает мыслью злобной Против господ, чья жизнь услад полна, Так эта Мышь была обозлена На всех; и дерзкий план задумала она.XXXIX
Шедевр и баловень Природы, Слон, Который столь же мощным сотворен, Сколь благородным, не пред кем колена Не преклонял (поскольку не имел Колен, как и врагов), зато умел Спать стоя. Так он спал обыкновенно, Свой хобот, словно гибкое полено, Качая, – в час, когда ночное зло, Проклятое освоив ремесло, Сквозь щёлку узкую в нутро к нему вползло.XL
Мышь прошмыгнула в хобот – и кругом Весь обежав многопалатный дом, Проникла в мозг, рассудка зал коронный, И перегрызла внутреннюю нить, Без коей зверю невозможно жить; Как мощный град от мины, подведенной Под стену, рухнул Слон ошеломленный, Врага в кургане плоти погребя: Кто умыслы плетет, других губя, Запутавшись в сетях, погубит сам себя.XLI
И вот Душа, утратив с Мышью связь, Вошла в Волчонка. Он, едва родясь, Уж резать был готов ягнят и маток. Безгрешный Авель, от кого пошло Всех пастырей на свете ремесло, В пасомых замечая недостаток И чувствуя, что враг довольно хваток, Завел овчарку по ночам стеречь. Тогда, чтоб избежать опасных встреч, Задумал хитрый Волк, как в грех ее вовлечь.XLII
Он к делу приступил исподтишка, Как заговорщик, чтоб наверняка Свой план исполнить, как велит наука: Ползком, в кромешной тьме прокрался он Туда, где, сторожа хозяйский сон, Спит у палатки бдительная сука, И так внезапно, что она ни звука Прогавкать не успела – вот нахал! – Ее облапил и к шерсти прижал: От жарких ласк таких растает и металл.XLIII
С тех пор меж ними тайный уговор; Когда он к стаду, кровожадный вор, Средь бела дня крадется тихомолком, Она нарочно подымает лай: Мол, Авель наш не дремлет, так и знай; Меж тем пастух, все рассудивши толком, Сам вырыл западню – и с алчным Волком Покончил навсегда. Пришлось Душе, Погрязшей в похоти и в грабеже, Вселиться в тот приплод, что в суке зрел уже.XLIV
Примеры есть зачатья жен, сестер; Но даже цезарей развратный двор Кажись, не слышал о таком разврате: Сей Волк зачал себя же, свой конец В начало обратив: сам свой отец И сам свой сын. Греха замысловатей Не выдумать; спроси ученых братий – Таких и слов-то нет. Меж тем щенок В палатке Авеля играл у ног Его сестры Моав – и подрастал, как мог.XLV
Со временем шалун стал грубоват И был приставлен для охраны стад (На место сдохшей суки). Бывши помесь Овчарки с волком, он, как мать, гонял Волков и, как отец, баранов крал; Пять лет он так морочил всех на совесть, Пока в нем не открыли правду, то есть Псы – волка, волки – пса; и сразу став Для всех врагом, ни к стае не пристав, Ни к своре, он погиб – ни волк, ни волкодав.XLVI
Но им, погибшим, оживлен теперь Забавный Бабуин, лохматый зверь, Бродящий от шатра к шатру, – потеха Детей и жен. Он с виду так похож На человека, что не враз поймешь, Зачем ни речи не дано, ни смеха Красавцу. Впрочем, это не помеха Тем, кто влюблен. Адама дочь, Зифат, Его пленила; для нее он рад Скакать, цветы ломать и выть ни в склад ни в лад.XLVII
Он первым был, кто предпочесть посмел Одну – другой, кто мыкал и немел, Стараясь чувство выразил впервые; Кто, чтоб своей любимой угодить, Мог кувыркаться, на руках ходить, И мины корчить самые смешные, И маяться, узрев, что не нужны ей Его старанья. Грех и суета – Когда нас внешним дразнит красота, Поддавшись ей, легко спуститься до скота.XLVIII
В любви мы слишком многого хотим Иль слишком малого: то серафим, То бык нас манит: а виной – мы сами; Тщеславный Бабуин был трижды прав, Возвышенную цель себе избрав; Но не достигнув цели чудесами, Чудит иначе: слезными глазами Уставясь ей в глаза: мол, пожалей! – Он лапой желто-бурою своей (Сильна Природа-мать!) под юбку лезет к ней.XLIX
Сперва ей невдомек: на что ему Сие? И непонятно: почему Ей стало вдруг так жарко и щекотно? Не поощряя – но и не грозя, Отчасти тая – но еще не вся, Она, наполовину неохотно, Уже почти к нему прильнула плотно… Но входит брат внезапно, Тефелит; Гром, стук! Булыжник в воздухе летит. Несчастный Бабуин! Он изгнан – и убит.L
Из хижины разбитой поспеша, Нашла ли новый уголок Душа? Вполне; ей даже повезло похлеще: Адам и Ева, легши вместе, кровь Смешали, и утроба Евы вновь, Как смесь алхимика, нагрелась в пещи, – Из коей выпеклись такие вещи: Ком печени – исток витальных сил, Дающих влагу виадукам жил, И сердце – ярый мех, вздувающий наш пыл.LI
И, наконец, вместилище ума – В надежной башне наверху холма Мозг утонченный, средоточье нитей, Крепящих всех частей телесных связь; Душа, за эти нити ухватясь, Воссела там. Из бывших с ней событий Усвоив опыт лжи, измен, соитий, Она уже вполне годилась в строй Жен праведных. Фетх было имя той, Что стала Каину супругой и сестрой.LII
Кто б ни был ты, читающий сей труд Не льстивый (ибо льстивые все врут): Скажи, не странно ли, что брат проклятый Все изобрел – соху, ярмо, топор, – Потребное нам в жизни до сих пор, Что Каин – первый на земле оратай, А Сет – лишь звезд унылый соглядатай, При том, что праведник? Хоть благо чтут, Но благо, как и зло, не абсолют: Сравненье – наш закон, а предрассудок – суд…Томас Нэш (1567–1601)
Сын провинциального пастора, Нэш был принят на стипендию, как «бедный студент», в Кембриджский университет. С 1588 года живет в Лондоне, где раскрылся его блестящий талант прозаика, сатирика и полемиста. Нэшу принадлежит первый английский плутовской роман, «Злосчастный путешественник, или жизнь Джека Уилтона» (1594), являющийся, в то же время, образцом тотальной литературной пародии. В 1597 году за пьесу «Собачий остров» (не сохранилась) был арестован вместе со своим соавтором Беном Джонсоном. В поэзию вошел практически одним своим знаменитым стихотворением – «Литанией во время чумы». Это песня из пьесы Нэша «Завещание Саммерса», где ее исполняет Уилл Саммерс, придворный шут Генриха VIII.
Литания во время чумы
Прощай, о мир прекрасный! Пусты твои соблазны, Безумны увлеченья, От смерти нет спасенья. Не сплю, томлюсь на ложе. Чума во мне, о Боже! Господь, помилуй нас. Живущие богато, Вам не поможет злато; Всех лекарей припарки Бессильней ножниц Парки; Мороз от них по коже. Чума во мне, о Боже! Господь, помилуй нас. Увянут розы мая, Померкнет воздух рая, Прах скроет лик Елены: Все люди в мире бренны, И королевы – тоже. Чума во мне, о Боже! Господь, помилуй нас. Узнай же, Гектор смелый, Как люты смерти стрелы, Бежать их бесполезно; Земля врата разверзла. Всех жадный червь изгложет. Чума во мне, о Боже! Господь, помилуй нас. Шут, мастер скоморошин, Взгляни: вот гость непрошен, Се – истребитель мира, В руке его – секира. Что – проняло до дрожи? Чума во мне, о Боже! Господь, помилуй нас. Так здравствуй, злая гибель, Ты нам даруешь прибыль. Земные погорельцы, Мы все – небес владельцы. Прочь – смертные одежи! Чума во мне, о Боже! Господь, помилуй нас.Часть IV Бен Джонсон и другие
Законодатель (о Бене Джонсоне)
1
О жизни Бена Джонсона по-русски лучше всех рассказал замечательный переводчик и историк литературы И. А. Аксенов в своей книге «Елизаветинцы» (1938). По его мнению, личность Джонсона, даже на фоне той эпохи, столь богатой яркими персонажами, выделяется как «исключительно своеобразная». Характер и творчество поэта будто сотканы из парадоксов. Честно сказать, я и сам как читатель и как переводчик нередко испытывал противоречивые чувства, думая о Джонсоне, и мне никогда не удавалось вполне примирить их, свести к общему знаменателю.
Бен Джонсон. Гравюра с портрета Абрахама фон Бленберха, ок. 1617 г.
К вершинам литературного признания Джонсон, как и его современник и приятель Шекспир, поднялся исключительно благодаря собственным способностям и упорству. Его отчим был членом лондонской гильдии каменщиков и туда же смолоду определил своего пасынка. И все-таки Бенджамену повезло: он учился в Вестминстерской школе под руководством замечательного знатока античности Кэмдена и был в числе двух лучших учеников, освобождавшихся по уставу школы от платы за обучение. Однако отчим, едва дождавшись окончания курса, отправил Бена работать «по специальности». Некоторое время Джонсон, засунув поглубже в карман томик латинских стихов, укладывал кирпичи, но вскоре это ему прискучило, и он отправился на войну в Голландию, где до него уже воевали (если говорить только о поэтах) граф Сарри, Джордж Гаскойн и Филип Сидни. Рубакой Бен Джонсон оказался изрядным, даже чересчур: в перерыве между боями вызвал на поединок какого-то испанского офицера, сразил его на виду у обеих армий и снял с убитого вооружение и доспехи, подражая героям «Илиады». Таким же отчаянным он останется и в будущем: вспомним эпизод, когда за убийство на дуэли приятеля-актера он лишь чудом избежал виселицы.
Вернувшись в Англию, Джонсон попадает в труппу бродячих комедиантов; голос у него был громкий, темперамента хватало, а в искусстве декламировать стихи у него не было соперников. Так начался его роман с театром; покочевав с товарищами по стране, он вскоре вступил в лондонскую труппу «слуг Лорда-адмирала» и, как и Шекспир в соперничающей труппе «слуг Лорда-камергера», сделался актером-драматургом, – все более уходя от первой части этого сложного слова и сродняясь со второй. Его темперамент сказался и здесь: достаточно назвать знаменитую «войну театров» (или «война пьес») 1600–1601 годов, в которой Джонсон был главным действующим лицом. Эта скандальная война, которая велась в основном на подмостках «детских театров», упомянута в «Гамлете» как причина, заставившая пуститься в странствие не выдержавших конкуренции взрослых актеров. По-видимому, какое-то участие в этой затяжной войне принимал и Шекспир. В безымянном памфлете того времени «Возвращение с Парнаса» клоун труппы Лорда-камергера Уильям Кемп восклицает: «О, этот Бен Джонсон – зловредный парень! Он вывел на сцене, как Гораций заставляет поэтов глотать рвотное, но наш товарищ Шекспир прописал ему такое слабительное, что он потерял всякое доверие»[143].
В таверне. Гравюра начала XVII в.
Историки литературы спорят, что это было за слабительное, безуспешно ища его в опубликованных пьесах Шекспира. Я бы предположил, что речь могла идти о какой-нибудь шутке в «Гамлете», – произнесенной со сцены, но не вошедшей в суфлерский текст пьесы: не обязательно даже шутке самого Шекспира, это могла быть импровизация актера – или пантомима – скажем, после обмена репликами между Гамлетом и Розенкранцем: «И мальчишки одолевают? – Вот именно, мой принц. Даже Геркулеса с его ношей» («Гамлет», II, 2).
Здесь можно себе представить мимическую карикатуру на Джонсона, к тому времени уже, мягко говоря, утратившего свою юношескую стройность (Геркулес – Джонсон, ноша – живот).
2
Стихотворение Бена Джонсона «Мартышка на Парнасе» («On Poet-Ape») бичует поэта-воришку, тянущего в свои пьесы все, что плохо лежит. Кто был объектом этой сатиры? Эдвард Люси-Смит в своем комментарии пишет: «Старые издатели предполагали, что Шекспир, но это маловероятно, учитывая их отношения с Джонсоном»[144].Мысль все-таки очень наивная. Общеизвестно, что взаимоотношения великих художников редко бывают безоблачными и элемент соперничества, даже ревности, в них неизбежен. Стихи Джонсона «Памяти моего любимейшего автора, мистера Вильяма Шекспира и о том, что он нам оставил» отражают лишь одну сторону медали. Они рисуют нам идеальный образ поэта, изобилуя такими выражениями, как «нежный лебедь Эйвона», «звезда поэтов» и так далее, но некоторые из похвал Джонсона явно не вяжутся с тем, что он сам писал при иных обстоятельствах. Скажем, в стихах мы читаем:
Кто стих живой создать желает, тот Пусть не жалея, проливает пот (Как ты), вздувая в горне жар огня, По наковальне муз вовсю гремя… (Пер. В. Рогова)А в заметках, сделанных вне такого торжественного повода, никаким «пролитым потом» уже не пахнет, напротив:
Я вспоминаю, что актеры часто говорили, якобы к чести Шекспира, что, сочиняя, он никогда не вычеркивал ни строки из уже написанного. На что я отвечал: «Лучше бы он вычеркнул тысячу…»
(«Explorata, или Открытия», опубл. в 1640 г.)Это не значит, конечно, что Джонсон плохо относился к Шекспиру; просто нельзя автоматически распространять его поздние оценки на живые (и наверняка не гладкие) отношения их молодости. Да и кто такой был Шекспир в 1590-х годах? Выскочка, который ни где не учился и, по словам самого Джонсона, «плохо знал латынь, и еще хуже – греческий». В то время как Джонсон тяжелым трудом и вот именно что по́том приобрел свои исключительные знания в классической литературе. И потому мог ли он, хотя бы отчасти, не сочувствовать пасквильным строкам несчастного Роберта Грина о Шекспире, обращенным к его ученым коллегам драматургам[145]:
Есть среди них выскочка – ворона, нарядившаяся в наши перья, та самая – с тигриным сердцем в шкуре актера, которая думает, что может греметь белым стихом не хуже, чем лучшие из вас, и будучи «малым на все руки», мнит, что он – единственный потрясатель сцены (Shake-scene) в этой стране. О, если бы я мог убедить вас занять ваши изысканные умы чем-нибудь более прибыльным, оставив этим мартышкам подражать вашему прошлому совершенству и впредь не одаривая их вашими восхитительными выдумками.
Джонсоновская эпиграмма «On Poet-Ape» кажется прямым откликом на этот отчаянный crie de coeur Грина, направленный против «этих мартышек» (those Apes), «выскочек», «ворон», «марионеток, говорящих нашими словами, скоморохов, наряженных в наши цвета». Как бы потом не изменилось отношение Джонсона к Шекспиру, с кем он должен был солидаризироваться в 1592 году: с «университетскими умами», такими как Грин, Пил, Марло и Нэш – или с невежественным провинциалом с большими претензиями? Ответ напрашивается сам собой.
Надо учесть еще и нрав Джонсона, его привычку рубить с плеча, азартно обличая чужие ошибки и высмеивая своих соперников. Скажем, весьма ценимого им Джона Донна он предлагал «повесить за нарушения стихотворного размера». Джонсон сам признавался, что готов «скорее потерять друга, чем возможность сострить на его счет».
3
Завсегдатай лондонских трактиров, любитель шумных споров и поэтических возлияний, когда он успевал работать? Когда успел столько написать, приобрести свою исключительную ученость? Скажем, публикуя трагедию «Падение Сеяна» (1603), Джонсон снабдил ее комментариями, по объему сравнимыми с докторской диссертацией; все реплики персонажей в ней строились на подлинных цитатах из древних авторов. Таким путем автор хотел отгородиться от подозрений в злободневных намеках: речь в трагедии шла о стареющем деспоте и его безнравственных фаворитах. «Сеян» продемонстрировал свету колоссальные познания Джонсона в римской литературе, но не защитил его от обвинения в государственной измене, поданной лордом Нортгемптоном в Тайную палату. На этот раз обошлось, как обошлось и два года спустя, когда за комедию «Эй, к востоку!» Джонсон попал в тюрьму вместе со своими соавторами Чапменом и Марстоном. В какой-то момент Джонсон подумывал о том, чтобы вовсе бросить «сцену-потаскуху»; это настроение отразилось, например, в его «Оде самому себе». Он почитал себя отнюдь не драмоделом, а Поэтом, и первым из английских драматургов издал собственное Собрание сочинений (Works, 1616), куда включил и пьесы, и стихи – оды, элегии и эпиграммы. Со временем его отношения с королевским двором наладились. Джонсона ценили как признанного авторитета в античной словесности и как автора превосходных «масок», которые так обожали король и королева. Иаков I сделал Джонсона поэтом-лауреатом и выплачивал ему ежегодную пенсию, Оксфордский университет присудил звание почетного доктора.
Дуэль. Гравюра XVI в.
Джонсон был неоклассиком. Это значит, что идеал поэзии он находил в прошлом. Его кумиром был Гораций. Он не считал зазорным подражать римлянам и грекам. Ведь и лучшие писатели древности – от Архилоха до Вергилия – подражали Гомеру и отнюдь этого не стыдились. Необходимо лишь, говорил Джонсон, «выбрать лучшего поэта и упорно следовать за ним до тех пор, пока копия не станет в один ряд с оригиналом». Впрочем, общение с тенями мертвых не мешало его природной общительности: стоя навытяжку перед древними, Джонсон сам требовал соответствующей субординации у молодежи: и действительно, в поздние годы вокруг него образовался кружок молодых поэтов, называвших себя «племенем Бена», среди которых самым талантливым был Роберт Геррик, автор знаменитой в истории английской поэзии книги стихов «Геспериды».
4
В Бене Джонсоне привлекает воля и трудолюбие, самозабвенная преданность литературе – ничем другим в жизни он не интересовался. Но его собственные сочинения у истинного любителя поэзии могут вызвать скорей разочарование, нежели восхищение. «Грубым педантом» назвал его Бернард Шоу и, увы, не без причины. Особенно проигрывает Джонсон в сравнении с Шекспиром. В нем нет ни шекспировской одухотворенности, ни сложности и глубины мотивировок, ни разнообразия характеров, – нет, главное, шекспировского великодушия в понимании других людей и их страстей. Мотивировки джонсоновских характеров и их поступков сводятся к элементарным страстям – жадности, ревности, мстительности. Как пишет американский критик Эдмунд Уилсон, «Джонсон просто расщепляет себя на части, а затем – и в этом он драматург – сталкивает их между собой. Но стоит нам сложить эти части вместе, и мы вновь получим автора, практически без остатка»[146]. Говоря о сюжетах Джонсона, критик отмечает их неуклюжесть и хаотичность: элементы фабулы смешаны механически, между ними не происходит никаких химических реакций. Пьесам Джонсона не хватает динамики и чувства пропорции: действие в них развертывается слишком медленно и при этом вхолостую: мы не видим на сцене развития характеров.
Но нигде так не проявляется удручающая джонсоновская тяжеловесность, «плоскостопие» стиля (пишет Уилсон), как в его стихах. Несмотря на декларируемое автором преклонение перед образцами античности, в его собственных строках нет ни элегантности Горация, ни изящной меланхолии Овидия. Разве что римские сатирики, Марциал и ювенал, могли бы в какой-то степени признать его своим учеником. Каламбуры Джонсона (здесь мы вынуждены согласиться с Драйденом) иногда ошеломляюще глупы. Его непристойности, в отличие от таковых у Шекспира, не дают психологической разрядки, но лишь оставляют ощущение чего-то грязного и липкого.
Анализируя личность Джонсона, как она вырисовывается из мемуаров и его собственных произведений, Эдмунд Уилсон приходит к заключению, что писатель принадлежал к тому психологическому типу, который описан Фрейдом и классифицирован им как «анально-эротический тип» – название, которое может сбить с толку непосвященного, но все основные признаки которого идеально совпадают с характером Джонсона. К числу их относятся: страсть к порядку, доходящая до педантизма; бережливость, нередко превращающаяся в скупость; высокомерие и агрессивность; упрямство; нетерпимость к чужим успехам. Уилсон оговаривается, что он не специалист в психоанализе, что он может даже сомневаться в постулируемой Фрейдом связи между работой пищеварительного тракта и свойствами личности, но в данном случае Фрейд явно подметил комплекс человеческих свойств, тесно связанных между собой и образующих весьма узнаваемый тип, к которому, несомненно, принадлежал и Бен Джонсон.
Мнение Уилсона, при всей парадоксальности, не назовешь беспочвенным. Трудно не заметить, что страсть к накопительству, характерная для описанного им типа личности, проявляется и в стихах Джонсона, которые берут не лирическим прорывом, а накоплением фактов и деталей. Что лучшее, может быть, стихотворение Джонсона – памяти умершего сына – связано с утратой. Что тема любви, предполагающая сердечную щедрость и самоотдачу, совершенно не дается Джонсону: максимум, на что он здесь способен, это восхищаться внешними атрибутами красоты – блеском очей, «лилеями» и «лебяжьим пухом» женской плоти:
Ты лилею видал на лугу, что сорвать не успели? Ты видал ли равнину в снегу Сразу после метели? Ты вкушал ли нектарный настой Из ячейки пчелиной? Трогал соболя мех дорогой Или пух лебединый? Это все воплотила она – Так бела и мягка, так сладка и нежна. (Песня из комедии «Черт в дураках»)В своих стихах Джонсон демонстрирует абсолютную невоспламеняемость сердца – при повышенной возбудимости печенки и селезенки (или что там отвечает за гнев, ревность и прочие не любовные страсти?). Так что, когда в своем «Проклятии Вулкану» – отклике на пожар, уничтоживший всю его библиотеку и рукописи (опять стихи об утрате!) Джонсон пишет: мол, за что ты ополчился на меня, бог Огня, ведь я ничем не заслужил твоего гнева: не умышлял на твою жизнь, не написал ни строчки твоей распутной бабе, – то он, в сущности, прав: Венера для него оставалась прежде всего «распутной бабой» и, по большому счету, для богини любви он не написал ни одной настоящей строчки.
5
Каждый человек в конце концов достигает того, чего хочет. Джонсон стремился быть законодателем литературных вкусов, и он им стал. Другое дело, что его суд бывал произволен и деспотичен, – когда он, например, с презрением отзывался о Монтене или уличал Шекспира в «нелепых промахах», а в доказательство приводил то место в его трагедии, где Цезарь в ответ на обвинение в несправедливости отвечает: «Цезарь никогда не бывает несправедлив без справедливого на то основания». Эту реплику Джонсон называет «смехотворной»; но смехотворна здесь скорее глухота Джонсона, а реплика Цезаря уместна и психологически убедительна.
Бен Джонсон верил в логику и усидчивость. Свои стихи он обычно набрасывал в прозе, а потом «переводил на рифмы» – метод, которым впоследствии не брезговал и Пушкин. Беда лишь в том, что многие его стихи явственно «пахнут лампой» (Джонсон просиживал ночи за столом, и недаром противники выводили его на сцене под именем Лампато), что крепких, афористических строк у него рассыпано множество, но трудно сыскать хотя бы одно стихотворение, которое можно было бы признать шедевром. Не считать же таковыми его повторяемые во всех антологиях гладкие и пустые мадригалы вроде: “O pledge me only with your eyes…” («О, кинь мне свой приветный взор…») или сатиры против распутства и обжорства в латинском переперченном стиле.
Среди немногих исключений – стихи Джонсона на смерть его сына Бенджамена, умершего в 1603 году во время вспышки чумы, скосившей около 30 тысяч лондонцев. В переводе с древнееврейского Вениамин (Бенджамен) означает «сын правой руки». Так, по Библии, Иаков переименовал своего младшего сына, которого Рахиль первоначально нарекла Бенони – «сыном печали». В стихах Джонсона нет ни надрыва, ни аффектации – только глубокая скорбь, горстка скупо и точно отобранных слов:
Прощай, сынок! немилосердный Рок Мне будто руку правую отсёк. Тебя мне Бог лишь нá семь лет ссудил; Я должен был платить – и заплатил.* * *
По-видимому, Уилсон прав, говоря о том, что Джонсон разделил себя на части в своих персонажах. Драма его жизни значительней любой из его пьес – именно потому, что главный характер в ней «нерасщепленный» – и взывает к более высокому таланту, чем тот, что был отпущен Большому Бену. «Упорным, напряженным постоянством» добившийся, наконец, признания, всю жизнь ревниво следивший за успехами своих соперников в искусстве, Джонсон заставляет вспомнить о пушкинском Сальери. Мрачным упрямством и пафосом собирания он напоминает Барона в «Скупом рыцаре». Среди самых известных стихотворений Джонсона то, в котором он вдруг видит себя со стороны – седого, с «гороподобным животом», неспособного более ни понравиться себе самому, ни увлечь воображение женщины. И это неожиданно впечатляет. При столкновении скупца и его утраты неизменно высекается искра поэзии.
Бен Джонсон (1572–1637)
Песочные часы
Взгляни на этот тонкий прах, Струящийся в часах Стеклянных; Поверишь ли, что это был Тот, кто любил Свет глаз желанных? Он в них сгорел, как мотылек, И прахом в эту колбу лег, Испепеленный; Но обрести покой не смог И самый прах влюбленный.Первенцу моему, Бенджамену
Прощай, сынок! немилосердный Рок Мне будто руку правую отсёк. Тебя мне Бог лишь нá семь лет ссудил; Я должен был платить – и заплатил. Душа моя болит. О, почему Болит, а не завидует тому, Кто избежал земной судьбы отцов – Зла, скорби, старости, в конце концов? Спи, кровь моя, до Божьих петухов; Ты лучшим был из всех моих стихов. Я сам свои надежды погубил: Грех так любить, как я тебя любил.Пузан
Отменный у Пузана аппетит: Весь день он ест, всю ночь потом блудит. Так, в буйстве непрестанном чревных соков, Он сделался притоном всех пороков. Грехи стоят в нем на очереди: Обжорство вышло, Похоть – заходи!Мартышка на парнасе
Мартышка, что залезла на Парнас, Мужлан, что возомнил себя Орфеем, – Так ловко он обкрадывает нас, Что мы его же, наглеца, жалеем. Сперва он пьесы старые латал, Старался, чтобы было шито-крыто; Но, подкопив на сцене капитал, Чужим умом живет уже открыто. А где улики? Никаких улик; Все вместе перемешено, как в каше. Да он и сам забудет через миг, Что стибрил. Было ваше – стало наше. Глупец! как будто бы нужны очки Увидеть, где – руно, а где – клочки.Ода к самому себе
Безделью потакая, Лежишь ты день-деньской И празднуешь лентяя; Поверь, что жизнь такая С безвольем и тоской, Как ржавчина, пожрут талант и разум твой. Иль вправду Иппокрены Источник иссушен? И звонкие Камены Затихли, удрученны, Узрев, что Геликон Отрядами сорок болтливых осквернен? Проснись, развей досаду, Подумай о другом, – Что с бранью нету сладу, А честный муж награду Найдет в себе самом, Не надобен ему рукоплесканий гром. Пусть мелкота речная На всякий вздор клюет, Стихов не понимая; Им, простакам, любая Наживка подойдет. Бедняги! их кумир – дешевый виршеплет. Возьми же в руки лиру И по струнам ударь, Взлети к небес эфиру И новый пламень миру, Как сын Яфета встарь, Добудь, своей судьбы и славы государь! И если к правде глухи В наш подлый век, забудь О сцене-потаскухе – И пой в свободном духе, Свободный выбрав путь, – Чтоб никакой осел не мог тебя лягнуть.Джордж Чапмен (1559?–1634)
О первых тридцати трех годах жизни Чапмена известно не больше, чем о «темных годах» Шекспира. Неизвестно, учился ли он в университете: скорее всего, нет; но при том в знании античности соперничать с ним мог только Джонсон. Начиная с 1594 года Чапмен публикует ряд стихотворных книг: «Тень ночи», «Овидианский пир чувств», цикл сонетов «Венок мой моей возлюбленной Философии», «Геро и Леандр» (завершение поэмы, первые две песни которой написал Кристофер Марло), перевод первых семи книг «Илиады». Его рифмованная версия Гомера, исполненная истинно ренессансного духа, через двести лет вдохновила восторженный сонет Китса, а Кольридж назвал ее поэмой столь же оригинальной, как «Королева фей» Спенсера. В последующие годы Чапмен перевел всего Гомера, включая «Одиссею» и гимны. Как драматург, он начал в 1595 году с комедии, которую хвалили Джонсон и Шекспир, вместе с Джонсоном и Марстоном подвергся тюрьме за злободневные намеки на шотландцев в пьесе «Эй, к востоку!»; но для своих трагедий, изображающих подлые придворные нравы, благоразумно избрал недавние события при французском дворе. «Бюсси д’Амбуа» и «Месть за Бюсси д’Амбуа» впервые вводят в литературу героя, известного современному читателю по романам Дюма-отца. Как переводчик Гомера Чапмен пользовался покровительством принца Генри, а потом графа Сомерсета, но под конец жизни запутался в долгах и умер, измученный нуждой и кредиторами.
Джордж Чапмен. Гравюра Уильяма Хоула, 1616 г.
Из пьесы «Бюсси Д’Амбуа»
Жизнь человека – факел на ветру.
АКТ I
СЦЕНА 1
Бюсси Д’амбуа
Вселенной правит Случай, а не Разум, Все здесь навыворот – успех и честь: Богатство безобразит: лишь нужда Творит и лепит образ человека. Вельможи высятся, подобно кедрам, Подвержены свирепству вечных бурь, Как неискусный скульптор, взгромоздив Колосса страшного с разверстой пастью, С огромными руками и ногами, Гордится этим – так волдырь сановный, Раздутый спесью, властью и богатством, Своей брезгливой миной, важной позой И грубым тоном тщится показать, Что в нем одном – вся слава королевства; Когда на самом деле он подобен Кумиру, состоящему всецело Из извести, щебенки и свинца. Жизнь человека – факел на ветру, Непрочный сон и призрачное благо. Как мореходы, доблестно пройдя На крепких кораблях, обитых медью, Средь бездн морских дорогами Нептуна И опоясав целый шар земной, По возвращеньи к берегам родным Дают сигнальный выстрел, призывая На помощь лоцмана, чтоб ввел их в гавань, – Хоть это только бедный рыболов Прибрежных вод, – так мы, избороздив Моря Фортуны и стремясь домой Под флагами удачи на раздутых Кичливых парусах богатств и славы, Должны на помощь Добродетель звать, Чтоб, не разбившись, к берегу пристать.(Ложится)
Входит М е с ь е с двумя пажами.
Месье
У государства множество нулей, И лишь один монарх – та единица, Что придает им цену. Взгляд его юпитеровой молнии подобен А голос грому. Он – как океан, Непостижимый в глубине своей, Неисследимый для умов и взоров. От трона я теперь на волосок; И если этот волос оборвется Нечаянно, мне должно про запас Иметь людей, решительных и верных. Вот уголок зеленый, где найду Я Д’Амбуа: он рыцарь и храбрец, Но мир не оценил его достоинств; За это он возненавидел свет И скрылся в тень. Однако же он молод, Честолюбив и многого достигнет, Коль щедростью стремленья в нем разжечь. Сейчас он мир бранит и в грош не ценит, Но деньги и успех его изменят.(Приближается к Д’Амбуа)
Месье
Да это Д’Амбуа!Бюсси Д’амбуа
Он самый, сэр.Месье
Уткнулся в землю, как мертвец? Воспрянь И к солнцу обратись!Бюсси Д’амбуа
Я не пылинка, Чтобы резвиться в солнечных лучах, Как делают вельможи.Месье
Вздор! Вельможи Распространяют сами эти толки О солнце и пылинках, чтобы прочих Заставить вечно прозябать в тени. Так, говорят, обжора сицилийский Нос облегчал в изысканное блюдо, Чтоб съесть все самому. Взгляни при свете На пир, тебе предложенный Фортуной – И мрак возненавидишь хуже смерти. Не верю, что клинок твой согласится Ржаветь в покое. Если б Фемистокл Так схоронился в тень, его Афины И сам он – были бы добычей персов. Когда бы в Риме доблестный Камилл Чуть что, в кусты бросался отсидеться, Он не стяжал бы четырех триумфов. И если бы Эпаминонд Фиванский, В безвестности растратив сорок лет, Так жил и дальше, – он бы не избавил Свою страну и самого себя От гибели; но он собрался с духом, Свершил все, что обязан был свершить, И славой возблистал, как блещет сталь От долгой, верной службы. Как огонь Не только кажет нам себя, но светит, Так наши подвиги не только славу Приносят нам самим, но подвигают Других на благородные деянья И мужества пример нам подают.Бюсси Д’амбуа
Каков же будет ваш совет?Месье
Оставить Бурливые ручьи и процветать Вблизи истока.Бюсси Д’амбуа
Как! Над бочажком, Где черти водятся? И что там делать? У потаскух учиться строить глазки? Хвастливым видом трусость прикрывать? Быть верным на словах, а между тем Соображать, куда переметнуться? Привычной лестью щекотать вельмож И ублажать высокородных дам Пустою болтовней, что облегчает Пищеваренье? Жизнь свою растратить На сплетни и интриги, от которых Глаза пустеют, как сердца у шлюх? Не сотворить на медный грошик блага Без задней мысли? Рваться вверх, плюя На заповеди? Возглашать устами: «Я верую», а в сердце извращать Любую веру? Проповеди слушать, Дабы из описания пороков Набраться опыта? – Таков уклад Придворной жизни. Этому учиться?Томас Мидлтон (1580–1627)
Сын преуспевающего лондонского каменщика (почти как Джонсон), Мидлтон получил образование в Оксфорде и с 1602 года начал работать как драматург для труппы Хенслоу. Его комедии «Безумный мир, господа!», «Игра в шахматы», «Чистая дева Чипсайда» и другие, изображающие «безумную» лондонскую жизнь, прекрасно написаны и пользовались большим успехом. Из трагедий наиболее известна пьеса «Оборотень», которую убедительно хвалил Т. С. Элиот в одной из статей 1920-х годов. С тех пор ее ставили несколько раз в Англии и в Америке.
Томас Мидлтон. Гравюра неизвестного художника, 1657 г.
Из пьесы «Оборотень»
Акт 3
Сцена 4
Входит Де Флорес.
Де Флорес (в сторону)
Душа пирует. То, что я свершил, Не тяготит, но кажется дешевой Ценой при мысли о вознагражденье.Беатриса
Де Флорес!Де Флорес
Госпожа?Беатриса
Ваш вид вселяет Надежду.Де Флорес
Все совпало: время, случай, Желанье ваше и моя услуга.Беатриса
Так, значит…Де Флорес
Пиракуо не существует больше.Беатриса
Мне радостью глаза заволокло. Рождаясь, счастье плачет, как ребенок.Де Флорес
На память есть подарок вам.Беатриса
Подарок?Де Флорес
Хотя нельзя сказать, что добровольный. Пришлось колечко вместе с пальцем снять.(Показывает ей палец Алонсо.)
Беатриса
Спаси нас небо! Что вы натворили?Де Флорес
Убить, по-вашему, не так ужасно? Я струны сердца перерезал в нем. Руке голодного, залезшей в блюдо, Досталось, что досталось.Беатриса
Этот дар Отец меня послать ему заставил.Де Флорес
А я заставил отослать обратно. Ведь мертвым безделушки ни к чему. Он так с ним неохотно расставался, Как будто с плотью золото срослось.Беатриса
Как с мертвого оленя – леснику,
Так, сударь, вам – пожива с мертвечины.
Прошу, скорей заройте этот палец.
А камень… камень пригодится вам,
Он стоит около трехсот дукатов.
Де Флорес
Хотя на них нельзя купить ларца, Чтоб спрятать совесть от червей грызущих, Возьму. Ведь ныне и большие люди Дарами не гнушаются, – чего же Стесняться мне?Беатриса
О том и речи нет! Но вы ошиблись: это вам дано Не как вознагражденье.Де Флорес
Я надеюсь. А то с презреньем бы отверг подачку.Беатриса
Вы чем-то, кажется, оскорблены?Де Флорес
Возможно ли, что преданность моя Терпела бы от вас еще обиду? Я оскорблен? То было б чересчур Для сослужившего вам эту службу И не успевшего еще остыть.Беатриса
Мне горько, если я дала вам повод.Де Флорес
Вот именно, что дали. Горько, да. Мне тоже горько.Беатриса
Это поправимо. Вот здесь три тыщи золотых дукатов. Заслуги вашей я не принижаю.Де Флорес
Что – деньги? Вы смеетесь надо мной!Беатриса
Но, сударь…Де Флорес
Или я из тех подонков, Что режут ради денег? Выкупать Кровь – золотом? За то, что сделал я, Нет слишком дорогого воздаянья.Беатриса
Не понимаю вас. Де Флорес За эту цену Я нанял бы отпетого убийцу И сладил дело, не марая рук И совести своей не беспокоя.Беатриса (в сторону)
Я – в лабиринте. Чем его насытить?(Де Флоресу)
Я вдвое заплачу.Де Флорес
Таким путем Вы лишь удвоите мои терзанья.Беатриса (в сторону)
Бессмыслица какая! Где же выход? Чего он хочет?(Де Флоресу)
Умоляю, сударь! Вам нужно скрыться – чем быстрей, тем лучше. Быть может, вы стесняетесь назвать Мне сумму, – так бумага не краснеет. Лишь напишите – я отправлю вслед. Бегите же.Де Флорес
Тогда и вы – со мною.Беатриса
Я?Де Флорес
А иначе я не тронусь с места.Беатриса
Что это значит?Де Флорес
Разве вы не так же Замешаны? Теперь мы заодно. Поймите же! Побег мой неизбежно Под подозрение поставит вас. И тут не отвертеться.Беатриса (в сторону)
Это верно.Де Флорес
Отныне мы так связаны судьбой, Что врозь не быть нам!(Пытается ее поцеловать.)
Беатриса
Как вы смели, сударь?Де Флорес
Зачем меня дичатся эти губы? Не так – совсем не так!Беатриса (в сторону)
Он обезумел.Де Флорес
Целуй смелее!Беатриса (в сторону)
Я боюсь его!Де Флорес
Так долго мне упрашивать невмочь.Беатриса
Де Флорес, берегитесь! Вы забылись. Нас выдаст это.Де Флорес
Нет, скорее вас – Вас упрекнуть в забывчивости можно.Беатриса (в сторону)
Он дерзок, и виновна в этом я.Де Флорес
Припомните, я вам помог в беде. А ныне сам я – в горе. Справедливость И состраданье требуют, чтоб вы Мне помогли, поймите!Беатриса
Не решаюсь!Де Флорес
Решитесь!Беатриса
Нет! Прошу вас – говорите! Сотрите новыми словами след От прежних слов – чтоб звука не осталось! О! В следующий раз я не позволю Так оскорблять себя.Де Флорес
О, нет, мадам, За прошлый раз еще не рассчитались. Недаром я так жаждал порученья, Как влаги – пересохшая земля. Я на коленях вымолил его, И что ж – напрасно? Золото отверг я Не потому, что мне оно не нужно, – Еще как нужно! Но всему свой срок. Я ставлю наслажденье выше денег. И если б я заране не решил, Что ваша девственность – вне подозрений, Я б деньги взял, хотя и с неохотой, Как тот, что большей платы ожидал.Беатриса
Возможно ли, чтоб ты был так жесток, Таил в себе столь гнусное коварство? Там жизнь отнять, а тут – похитить честь? Какая низость!Де Флорес
Бросьте! Вы забылись! В крови по локоть – говорить о чести?Беатриса
Вот пасть греха! Уж лучше б я себя Пожизненною мукою связала С Пиракуо, чем это услыхать! Припомните, какое расстоянье Меж мной и вами – и держитесь в рамках!Де Флорес
Вглядитесь в книгу совести своей. Она не лжива, и она вам скажет, Что мы равны. Не надо родословной! Происхожденье не разделит нас, Мы происходим от своих поступков. И, значит, преимущество свое Вы потеряли вместе с чистотою. Поймите же, мадам, что вы теперь – Одно со мной.Беатриса
С тобою, негодяй?Де Флорес
О да, моя прекрасная убийца! Сказать еще? Ты, девственная телом, В душе распутница. Пришел второй – Твой Альсемеро, и любовь былая Забыта невзначай блудливым сердцем. Но я клянусь – всей глубиною ада! – Что если я не наслажусь тобой, Он никогда тобой не насладится. Мне нечего терять – я жизнь свою Не ставлю в грош.Беатриса
Сеньор!..Де Флорес
Я должен ныне Покончить с этою чумой любовной. Я истомлен. Огонь ее очей, Как уголь, жжет!Беатриса
О, выслушайте, сударь!Де Флорес
Пускай с любовью жизнь мне возвратит, А нет – со мной разделит смерть и стыд!Беатриса
Послушайте меня… (Становится на колени.) Я вам отдам И драгоценности свои, и деньги – Все, чем владею. Лишь позвольте мне Неопозоренной взойти на ложе, И я – богачка.Де Флорес
Замолчи и знай: Не выкупить сокровищами Индий Мою добычу. Если ты способна Слезами отвернуть судьбу от цели Назначенной, тогда поплачь.Беатриса
Вот – мщенье. Так преступленье тянет преступленье. Что это за проклятье надо мной? – Вёдь я же не покрыта чешуей!Де Флорес
Свой стыд ты спрячешь на моей груди.(Поднимает ее.)
Молчанье – вот условие блаженства. И только лишь в покорности – покой. Что, голубок, трепещешь и томишься? Еще полюбишь то, чего боишься.Уходит.
Лев и единорог: Первый Стюарт на английском троне
Иаков I (до своего коронования в Лондоне Иаков VI Шотландский) был первым королем Великобритании, то есть всего британского острова, включая Шотландию; на это указывают и его геральдические звери: на гербе Елизаветы Тюдор щит поддерживали лев и дракон, символизирующие Англию и Уэльс, а на гербе Иакова Стюарта – английский лев и шотландский единорог.
Иаков был сыном королевы Марии Шотландской и Генри Стюарта, лорда Дарнли, убитого, когда их сыну был только год. Последствием было отречение и бегство Марии из Шотландии в Англию. Годовалого Иакова короновали – и долгие время перевозили из замка в замок, опасаясь новых заговоров и покушений. Он провел не слишком счастливое, сиротское детство; но при этом получил великолепное образование под руководством выдающегося шотландского гуманиста Джорджа Буханана, свободно знал греческий, латынь, французский. После казни Марии Стюарт в 1587 году Иаков сделался первым претендентом на трон бездетной Елизаветы, каковой и занял в 1603 году, положив начало новой английской династии Стюартов.
История и романтическая традиция (со времен Вальтера Скотта) критически оценивают этого монарха; считается, что его ссоры с парламентом проторили дорогу английской революции. Несомненно, он не обладал харизмой Елизаветы или даже грубой внушительностью Генриха VIII, во внешности его было мало королевского. В невыгодном для Иакова «мнении народном», несомненно, есть и доля ксенофобии: его правление связывали с заси-льем шотландцев у трона. Однако я бы отметил другое. Во-первых, последовательно миролюбивую внешнюю политику первого Стюарта, его отказ от войн и силового решения политических проблем. Во-вторых, уважение к наукам и искусствам. Иаков покровительствовал Шекспиру, Бену Джонсону, Джону Донну и другим поэтам. Именно при нем шекспировская труппа удостоилась звания и положения «королевской труппы» (the King’s Men); великие трагедии Шекспира, такие как «Отелло» и «Король Лир», впервые были сыграны в присутствии короля. Театрализованные представления (маски), музыка, танцы, искусство декорации (достаточно вспомнить имя Иниго Джонса) процветали при его дворе. Наконец, не забудем самый замечательный вклад Иакова в английскую культуру – осуществленный по его замыслу и под его патронажем перевод Библии; «Версия Короля Джеймса» (King James Version, 1611) доныне остается самой популярной книгой в истории английского книгопечатания.
Из всех английских монархов Иаков, по-видимому, обладал наибольшими литературными наклонностями: первый его анонимный сборник стихов «Опыты подмастерья в искусстве поэзии» вышел, когда королю было 16 лет. И хотя поэтической искры в его опытах не обнаруживается (увы!), но слагал стихи он легко и по всем правилам. Иаков – автор и ряда прозаических сочинений, в том числе и весьма любопытного «Опровержения Табака» (1604), вышедшего в разгар азартной полемики между сторонниками и противниками широко распространившейся в Англии моды на курение. Его интеллектуальное любопытство проявилась, в частности, в отношении к великому датскому астроному Тихо Браге. В октябре 1589 года юный Иаков отправился в Данию с целью женитьбы на принцессе Анне Датской. Во время пребывания в этой стране 20 марта 1890 года Иаков посетил астронома Тихо Браге на маленьком островке между Данией и Швецией, где Браге построил свою лабораторию под названием Ураниборг. Работа Тихо Браге, проходившая во времена до изобретения телескопа, оказала большое влияние на развитие астрономии в эпоху Возрождения. Иаков посвятил датскому астроному три восторженных сонета.
Публикуемая здесь «Энигма» (то есть загадка) написана, вероятно, в середине 1590-х годов. Обратите внимание, что из трех известных в ту пору форм сонета – итальянской, английской и спенсерианской – Иаков избрал наименее употребительную, спенсерианскую, со схемой рифмовки: abab-bcbc-cddc-ee, и выдержал ее абсолютно точно.
Король Иаков I (1566–1625)
Джеймс (Иаков) Стюарт, сын шотландской королевы Марии Стюарт и Генри Стюарта, лорда Дарнли, родился в Эдинбурге. После убийства своего отца и вынужденного отречения своей матери стал в возрасте 13 месяцев новым королем Шотландии, Иаковом VI. Получил домашнее образование под руководством видного шотландского ученого и поэта Джорджа Буханана. Проявлял большой интерес к литературе, богословию, естественным наукам. В 1587 году женился на Анне, принцессе Датской. Особого участия в судьбе своей матери (виновной в гибели его отца) не проявлял. В возрасте 37 лет после смерти Елизаветы, как ближайший по крови родственник, получил английскую корону. Автор двух сборников стихов (1584, 1591) и ряда других сочинений, среди которых наставление сыну «Basilikon Doron» (1599) и «Развенчание табака» (1604).
Король Иаков I. Джон де Критс, 1610 г.
Энигма о сне
Я во дворец, в лачугу и в тюрьму Вхожу – и всем дарую жизнь и силы; Я – царь: покорны зову моему Львы и слоны, киты и крокодилы; Я воскрешаю мертвых из могилы, Я вытрезвляю тех, кто во хмелю; Скупцу не так его червонцы милы, Как я, венец и скипетр – королю; Я кроток, но приказов не терплю, Могуч, но появляюсь втихомолку: И занавеской не пошевелю – Часов песочных тише, мягче шелку. Я друг и враг, я врач и сам недуг; Кто я? Проснись и догадайся вдруг.Ариэль, Или дух музыки
Казалось бы, после виртуозных элегий Донна и отточенных сонетов Шекспира чем могут поразить воображение незамысловатые песенки Томаса Кэмпиона? Среди поэтов-современников он выделялся тем, что не только сам писал музыку для своих стихов, но и слыл авторитетом в вопросах композиции и контрапункта, а среди замечательных музыкантов того времени (Берда, Морли, Доуленда) – тем, что был поэтом. Но можно ли ожидать шедевров от стихотворца, которому необходимы подпорки мелодии и аккомпанемента для своих стихов? Лютневые напевы елизаветинских времен очаровательны, но что будет, если мы отделим стихи от музыки и рассмотрим их отдельно?
Как правило, песенные тексты не выдерживают такого испытания. Даже лучшие из современных бардов бледнеют, являясь перед нами на бумаге. Музыка оказывается неотъемлемой частью цельного впечатления. Томас Кэмпион – исключение. Его стихотворения читаются, более того – они входят в золотой запас английского языка.
Фрагмент из музыкального сборника Томаса Кэмпиона. Конец XVI в.
Почему это так? Во-первых, они совершенны по звуку, по отделке каждой строки. Недаром Кэмпион сравнивал песню с эпиграммой, высшее достоинство которой – краткость и отточенность. По-английски тот жанр «песенки», в котором работал Кэмпион, называется «air», что буквально означает «воздух». Эти «арии» воздушны, они лишены избыточных метафор и кончетти – отяжеляющих украс, которые бы помешали им свободно парить в воздухе. Зато они идеально выстроены по композиции: повторы смысла, обогащенные в каждом новом куплете, соответствуют повторам мелодии. «Мир покоится на Симметрии и Пропорции, – писал Кэпион, – в этом отношении поэзия подобна музыке, а музыка – поэзии».
Кэмпиона называли «прохладным платоником». Но песня, если она основана на здоровой народной традиции, и не может быть не прохладна, ибо ее тема – трагикомедия любви; в этом ее полная, «синтетическая» правда, распадающаяся на полуправды в произведениях трагического и комедийного жанра. Любовь не может существовать без банальности: самые мудрые и самые глупые в ритуале ухаживания повторяют одни и те же слова. В любви, как и в музыке, важна не новизна элементов, а красота их сочетания:
Взять музыку: едва прелестной песней Мы насладимся, как еще прелестней Другой певец нам песню пропоет, А сложена она из тех же нот. (Джон Донн)В определенном смысле, песни Кэмпиона, скользящие по уже заигранным нотам образов, представляют собой пародию на всю современную ему поэзию, но не сатирическую, а ритуальную пародию. Так шут в трагедии Шекспира берет в руки лютню, делает жалостное лицо, как будто у него болит живот, и начинает сладко, тягуче скулить. И это трогает – то есть задевает какие-то вечные струны, устроенные у нас внутри.
Музыкант с лютней. Гравюра XVI в.
Томас Кэмпион родился в 1567 году, «между Шекспиром и Донном». Он рано потерял родителей, учился в Кембридже в колледже с очень строгим распорядком дня, даже на каникулы он не мог уехать домой – потому что у него не было дома. Не получив степени (возможно, из-за своего католичества), в 1586 году он поступает в лондонскую юридическую школу Грейз-Инн, но – опять-таки, как Джон Донн, – увлекается не столько юриспруденцией, сколько участием во всевозможных представлениях и масках, а также писанием стихов. Неизвестно, когда он овладел лютней и почувствовал страсть к сочинению музыки, но первая «Книга песен», в которой ему принадлежат все стихи и половина мелодий (другая написана его другом Филипом Россетером), появилась в 1601 году.
Около того же времени скромное наследство, оставленное ему матерью, окончательно растаяло, и Кэмпион, уже тридцатипятилетний, встал перед проблемой, как он будет дальше зарабатывать себе на жизнь. Возможностей для дженльмена без состояний было не так уж много. Ни к адвокатской, ни к богословской стезе душа его, как видно, не лежала. Он уехал в Бургундию, в популярную среди английских студентов медицинскую школу в Канне и, проучившись три года, получил диплом врача. Так музыкант и поэт сделался еще и лекарем; и стоит отметить, что в авторитетном «Английском библиографическом словаре» лекарь («physician») стоит на первом месте.
Сочетание поэта и медика может показаться не совсем обыкновенным (прозаик и медик – другое дело, тут у нас перед глазами примеры Чехова и Булгакова). Кажется, что искусство врачевания может пригодиться поэту лишь метафорически: «Болящий дух врачует песнопенье…», «Природа-врач, пусти мне кровь души…» Но ведь и возвышенный романтик Джон Китс (из которого взята последняя цитата) имел диплом хирурга, и – пример поближе – наш Аркадий Штейнберг, переводчик «Потерянного рая».
Медицинская практика не обогатила Кэмпиона, но дала ему средства к существованию. Существовал же он ради музыки и поэзии. Он опубликовал еще два больших сборника песен, теоретическое эссе о музыке, несколько театральных масок, сборник траурных песен на безвременную смерть принца Генри в 1612 году и том латинских эпиграмм, вышедший за год до его смерти в 1620 году.
Томас Кэмпион. Заметки об искусстве английской поэзии. Первая страница. 1602 г.
Особо упомянем о трактате «Заметки об искусстве английской поэзии» (1602), в которой Кэмпион (вослед Филипу Сидни и его друзьям по «Ареопагу») восстает против силлабо-тонического стихосложения и предлагает вернуться к благородным размерам античной поэзии. Привычку рифмовать он называет «средневековым варварством» и пытается пристыдить тех читателей, которые не могут обойтись без «детской щекотки рифм». Самуил Даниэль немедленно ответил трактатом «В защиту рифмы» (1603), снискавшем широкое одобрение; а Бен Джонсон, если верить его собственным словам, написал книгу «и против Кэмпиона, и против Даниэля», – неопубликованную и, по-видимому, погибшую при пожаре его библиотеки.
Кэмпион был практически забыт вплоть до конца XIX века, когда елизаветинская лира вошла в моду и прелесть его «полусерьезных песенок» была оценена наиболее тонко чувствующими поэтами и критиками. Скажем, влияние Кэмпиона легко заметить в лирике раннего Джойса (сборник «Камерная музыка», 1907). Сочинитель изящных «арий» («airs»), Кэмпион воистину может быть назван воздушным духом, Ариэлем английской поэзии. Вспомним, кстати, предысторию шекспировского Ариэля. Колдунья Сокоракса за непокорство зажала его в расщелине скалы, где он мучился двенадцать лет, испуская стоны «так непрерывно, как шлепает по воде мельничное колесо» («as fast as mill-wheels strike»).
Не является ли здесь дух воздуха, зажатый в деревяшке и непрерывно стонущий, метафорой музыкального инструмента? Или – расширительно – поэта? Тогда воистину великодушно Просперо отпускает его на свободу в финале «Бури»:
…then to the elements Be free, and fare thee well! –То есть: «возвращайся к стихиям, будь свободен – и прощай!»
Томас Кэмпион (1567–1620)
Кэмпион сочетал в себе талант поэта и музыканта. Он рано осиротел. Учился в Кембридже и юридической школе Грейз-Инн. Не чувствуя призвания к адвокатскому ремеслу, почти уже в тридцатилетнем возрасте уехал во Францию учиться медицине, и эта профессия в последующие годы стала для него основным средством к существованию. Первая «Книга песен» Кэмпиона вышла в соавторстве с композитором Филипом Россетером (1601), дальнейшие его «Две книги песен» (1613) и «Третья и четвертая книги песен» (1617) принадлежат ему уже целиком. Кэмпион сочинил также несколько придворных масок и любопытный трактат «Заметки об искусстве английской поэзии» (1602), в котором он высказывается против рифмы и силлабо-тонического стихосложения.
Нежная ликом Лаура
Нежная ликом Лаура, Услади нас немым напевом Красоты твоей – бессловесной Музыки дивной! Ласковых этих линий Так волшебно льются созвучья; Если небо – музыка, с неба Облик твой светлый! Грубые наши напевы Благодати ищут напрасно, Лишь твоя красота не знает Фальши разлада. Чистая в ней отрада, Как в ручьях прозрачно текущих Вечно свежая, вечно благодатная влага.Взгляни, как верен я, и оцени
Взгляни, как верен я, и оцени; Что выстрадал, в заслугу мне вмени. Надежда, окрыленная тобой, Летит домой, спешит на голос твой. Великой я награды запросил; Но много сердца отдана и сил. Иные из былых моих друзей Достигли и богатств, и должностей; Из жалости, в насмешку иль в упрек Они твердят, что так и я бы мог. О дорогая, полюби меня – И стихнет эта злая болтовня.Ты не прекрасна, хоть лицом бела
Ты не прекрасна, хоть лицом бела, И не мила, хоть свеж румянец твой; Не будешь ни прекрасна, ни мила, Пока не смилуешься надо мной. С холодным сердцем в сети не лови: Нет красоты, покуда нет любви. Не думай, чтобы я томиться стал По прелестям твоим, не зная их; Я вкуса губ твоих не испытал, Не побывал в объятиях твоих. Будь щедрой и сама любовь яви, Коль хочешь поклоненья и любви.Как тень за солнцем
Как тень за солнцем, за прекрасной следуй; Пускай ты тьмой одет, Она же – чистый свет, Как тень за солнцем, за прекрасной следуй! Следуй за той, что в скорбь тебя ввергает; Отбрасывая в прах, Сияет в небесах – И целый мир собою оживляет. Следуй за той, чья красота сурова; Она тебя сожгла До черноты, дотла, – Но в добрый час твой мрак рассеет снова. Следуй за ней, покуда полдень длится; Ведь, что там ни пророчь, Настанет скоро ночь, В которой свет ее лучей затмится. Следуй за ней, не мысля об измене; Так, видно, суждено Померкнуть заодно И солнцу яркому, и жалкой тени.Спи безмятежно, мой прекрасный враг
Спи безмятежно, мой прекрасный враг, Не потревожу дремлющего льва; С меня довольно видеть просто так Уста, с которых гневные слова Срывались столько раз, любви в упрек; Их вид во сне нисколько не жесток. Покойно ли тебе, моя гроза? В какую грезу ты погружена?.. Глянь! выкатилась из-под век слеза: Порой сильнее яви – чары сна. О добрый Сон! Скорее пробуди Любовь и жалость у нее в груди!Ждет музыки мой изнуренный дух
Ждет музыки мой изнуренный дух – Но не мелодий на веселый лад: Они сейчас не усладят мой слух, Души тоскующей не утолят. Лишь ты, о Боже милосердный мой, Отрадою наполнишь звук любой. Блеск и красу земную воспевать – Что на волнах писать, ваять из льда. Лишь в Боге истинная благодать, Свет, что у нас в сердцах разлит всегда: Лучи, которые от звезд зажглись, Жар, возносящий над землею ввысь.Роберт Геррик (1591–1674)
Родился в Лондоне, в 16 лет приставлен подмастерьем к дяде-ювелиру. Шесть лет спустя бросил это ремесло, поступил в Кембриджский университет и в 1620 году получил степень магистра. Последующие десять лет провел главным образом в Лондоне, где вращался в литературных кругах, близких к Бену Джонсону. В 1630 году получил приорство в Девоншире, которое у него отняли в годы Гражданской войны, но был вновь восстановлен в церковной должности после Реставрации. Единственная книга – «Геспериды» (1648), включающая в себя стихи как светского, так и духовного содержания. Поэзия Геррика разнообразна по жанрам, она отличается изяществом, эпиграмматической сжатостью и дерзкой неожиданностью эпитетов и сравнений.
Роберт Геррик. С гравюры неизвестного художника, 1648 г.
Пленительность беспорядка
Небрежность легкая убора Обворожительна для взора: Батиста кружевные складки В прелестно-зыбком беспорядке, Шнуровка на корсаже алом, Затянутая как попало, Бант, набок сбившийся игриво, И лент капризные извивы, И юбка, взвихренная бурей В своем волнующем сумбуре, И позабытая застежка Ботинка – милая оплошка! – Приятней для ума и чувства, Чем скучной точности искусство.Джон Саклинг (1609–1642)
Из знатной норфолкской семьи. Учился в Кембридже и в юридической школе Грейз-Инн в Лондоне, путешествовал за границей. По возвращению в Англию жил рассеянной жизнью придворного повесы. При начале Гражданской войны привел королю сто полностью вооруженных и экипированных солдат. В 1641 году участвовал в антипарламентском заговоре в Лондоне, после раскрытия которого вынужден был бежать во Францию, где и умер в следующем году (по сообщению Обри, отравился). Сэра Джона Саклинга (вместе с Лавлейсом, Давенантом и рядом других) относят к т. н. «поэтам-кавалерам» эпохи Карла I; в ту эпоху, когда в английском обществе побеждают пуританские мораль и нравы, в их творчестве еще догорают последние искры ренессансного пламени.
Сэр Джон Саклинг. Гравюра с картины Ван Дейка, 1630-е гг.
Что бледнеешь и вздыхаешь?..
Что бледнеешь и вздыхаешь, Бедный дуралей? Или вздохами мечтаешь Тронуть сердце ей? Бедный дуралей! Что молчишь и смотришь кротко, Онемел, простак? Или думаешь, красотка Все поймет и так? Вот какой простак! Не добьешься ничего ты, Брось, не будь упрям! Если нет у ней охоты, Не поладить вам. Ну ее к чертям!Верный влюбленный
Черт возьми! Три дня подряд Я – в любовной роли! Если дождик не пойдет, Пролюблю и боле. Феб, ты обошел весь свет, Отвечай толково: Где ты видел дурака Верного такого?Песня за два пенса Английские баллады-листовки шекспировской эпохи
Sing a song of twopence, A bagful of rye; Four and twenty blackbirds, Baked in a pie. (Anon., XVI с.)[147]Одной из выразительных примет шекспировской Англии, ее общественной и литературной жизни, были так называемые «баллады-листовки», живо откликавшиеся на злободневные события того времени. Broadside ballads, или просто broadsides, печатались обычно на одной стороне большого листа старинным готическим шрифтом (black-letter) и украшались какой-нибудь грубо вырезанной на дереве гравюрой, рассчитанной на то, чтобы привлечь взгляд невзыскательного покупателя. Продавцы баллад распевали свой товар прямо на улицах и ярмарках на какую-нибудь известную мелодию, указанную обычно в подзаголовке баллады.
Волынщик. Английская народная гравюра, XVI в.
Иногда говорят, что баллады были своеобразной газетой того времени; думаю, что ежедневной газетой все-таки были слухи, а баллады исполняли роль как бы воскресного приложения к слухам с акцентом на наиболее живописных, эффектных событиях и с доброй прибавкой разных фантазий, сплетен, моральных наставлений, любовных и сатирических песенок. Кроме того, листовки с балладами служили и украшению быта: их охотно вешали на стенах трактиров или небогатых городских домов.
«Печатные песенки» проникали и в сельскую глубинку: коробейники разносили их наряду с таким ходовым товаром, как банты, ленты, заколки и гребешки. Серьезные авторы, конечно, издевались над «низким жанром». Жуликоватый бродяга Автолик в «Зимней сказке» Шекспира продает простодушным поселянам всякий несусветный вздор – баллады о жене ростовщика, родившей двадцать мешков золота, о чудесной говорящей рыбе, выскочившей из воды «в среду, восьмидесятого апреля», и так далее. Да еще и нахваливает свой товар.
Автолик Вот потешная песня, и притом отличная. Мопса Купи потешную. Автолик Потешнее не бывает, и поется она на голос: «Две влюбились в одного». Во всей округе нет такой девицы, чтобы ее не распевала. Нарасхват берут, честное слово! («Зимняя сказка», IV, 3)Попадали на балладные листы и популярные стихи настоящих поэтов, в том числе Гаскойна, Марло, Кэмпиона, и средневековые народные баллады (например о Робин Гуде), но наибольший интерес для историка представляют те баллады, которые отражают реальную жизнь англичан XVI–XVII веков в самых разнообразных ее проявлениях.
Дадим краткие комментарии к следующей ниже подборке баллад эпохи Елизаветы и короля Иакова.
«Дорога в Вальсингам» («Скажи мне, честный пилигрим…») – судя по всему, старинная баллада, обновленная в конце XVI века. Автором нового текста часто называют Уолтера Рэли, ибо один из рукописных списков, хранящихся в Бодлианской библиотеке в Оксфорде, подписан (другой рукой и другими чернилами): Sr. W. R., иных свидетельств авторства Рэли не существует; более вероятно, что песню сочинил плодовитый «балладник» из Нориджа Томас Делоней.
«Гринсливс, или Зеленые Рукава» – одна из самых популярных мелодий шекспировских времен; впрочем, известна она была (с другим вариантом текста) еще в царствование Генриха VIII. Ее первая строфа встречается в стихах, записанных несчастным сэром Томасом Говардом в Тауэре в 1536 году[148].
«Песня нищих» (другое название – «Всенощная панихида») говорит о явлении, чрезвычайно важном и болезненном для Англии XVI века. Страна буквально кишела нищими и бродягами. Кого только среди них не было – обнищавшие или обезземелевшие крестьяне, бывшие монахи, солдаты без службы, воры, коробейники, фокусники, предсказатели, продавцы баллад, скоморохи, цыгане («лунный народ»[149]), объявившиеся в Англии как раз в царствование Генриха VIII, разбойники, воры, пьяницы, калеки, сумасшедшие и просто закоренелые бездельники. Даже Елизавета, много путешествовавшая по своему королевству (знаменитые летние «процессии» королевы), говорят, однажды воскликнула: «Pauper ubique jacet» – «Повсюду валяются нищие!»
Средневековое отношение к бедности было простым и ясным. Для бедняков нищета – испытание, для богачей – повод явить свое христианское сострадание и облегчить учить тех, кто в нужде. Иными словами, решением проблемы считалось частное милосердие и благотворительность. В тюдоровскую эпоху эта простая концепция пошатнулась. С одной стороны, появились драконовские законы против бродяг (в 1537–1540 годах бродяг клеймили и продавали в рабство), а с другой стороны – попытки разобраться в причинах бедности и предложить общественные методы борьбы с этим недугом общества.
Одной из таких попыток было учреждение первого исправительного (работного) дома в Лондоне. Автором идеи был лондонский епископ Николас Ридли. В своем письме сэру Уильяму Сесилу он не только изложил свой проект, но и указал на возможное помещение для него:
Любезный господин Сесил! Вынужден обратиться к Вам по делу моего любезного господина Христа; умоляю Вас проявить к нему любезность. Дело в том, Сэр, что ему пришлось слишком долго, не имея крыши (как Вы знаете) ночевать на улицах Лондона – нагому, голодному и холодному. Ныне, благодаря Всемогущему Господу, горожане желают помочь ему едой и питьем, одеждой и дровами, но увы! у них нет для него подходящего помещения. Ибо в некоторых местах (осмелюсь сказать) бывает, что и три семьи ютятся под одной крышей. Сэр, существует огромный, пустой дворец Его Величества Короля, называемый Брайдуэлл, который великолепно послужит для того, чтобы приютить в нем Христа, если только он найдет добрых друзей при дворе – ходатаев за его дело[150].
Ходатаи нашлись, и в 1553 году, за две недели до смерти, король Эдвард VI (юный, но уже неизлечимо больной) отдал свой дворец Брайдуэлл на христолюбивое дело, и так был основан знаменитый работный и исправительный дом, куда, после соответствующего наказания – плетьми или колодками – отправляли преступников, бродяг, проституток и бездельников. Находили их во время рейдов по злачным местам – таким, как кабаки, игральные притоны, места петушиных боев и публичные дома, и свозили в Брайдуэлл, где «исправляли» работой: женщин, например, усаживали чесать шерсть, плести шелк, прясть, а нерадивых шлюх отправляли трепать пеньку тяжелыми деревянными колотушками.
Позорный столб. Английская народная гравюра, XVI в.
Так что «Песня из-под плетки или Прежалостная баллада трех злосчастных сестриц, попавших в Брайдуэлл» довольно точно рисует нам будни этого полезного заведения. Даже куплет с призывом к ухажерам:
Эй вы, задиры-хвастуны, Бойцы трактирных кружек! Нас обижают – где же вы? – Вступитесь за подружек, –соответствует известным фактам. Брайдуэлл действительно пользовался антипатией в определенных кругах разгульной молодежи, движимой сочувствием к своим веселым подружкам-куртизанкам. Тот же самый Генри Мачин, купец и летописец лондонской жизни, которого мы уже упоминали, записал в свой дневник, что в первый год правления Елизаветы «компания дворян со слугами и всякими смутьянами штурмовали Брайдуэлл с целью освободить каких-то женщин, и констеблям пришлось немало потрудиться, чтобы водворить спокойствие, ибо нападавшие обнажили шпаги и началась серьезная заварушка»[151].
Другим примечательным заведением Лондона был приют для душевнобольных – Госпиталь Святой Марии Вифлеемской, более известный как Бедлам (от Bethlehem). Это было едва ли не первое в Европе (за исключением еще одного в Испании) заведение такого рода, существовавшее уже в XIV веке. В правление Елизаветы в нем содержалось несколько десятков человек, половина на казенном коште, половина на содержании родственников, вносивших еженедельную сумму на пропитание, заботу и лечение. Лечение было, понятно, самое варварское – цепи и битье. Больные делились на два сорта – дураки и сумасшедшие, то есть безвредные, и докучные, потенциально опасные. Первым предоставлялась относительная свобода внутри Бедлама, вторых запирали и приковывали. В Бедламе процветали всевозможные злоупотребления, наихудшим из которых было принудительное заключение людей с целью получить контроль над их имуществом. Самым поразительным было то, что посещение Бедлама считалось развлечением, как медвежьи бои или театр – и публика охотно шла (платя при этом за вход), чтобы посмеяться над неожиданными выходками «лунатиков», поглазеть на «лечебную» порку, подразнить прикованных к стене «буйных».
Были и бродячие «лунатики». Они скитались по дорогам, вызывая сочувствие и трепет своим диким видом и непонятными речами – и таким образом добывая себе пропитание. При этом они показывали какие-то знаки на теле или бляхи на шее как доказательства своей принадлежности к Бедламу. Современные историки говорят, что бляхи и знаки были поддельными и никаких лицензий на «постбедламское» нищенство не существовало. Но фигура слабоумного побирушки, «бедного Тома из Бедлама» десятилетиями маячила на английских дорогах; она запечатлелась в старинных пьесах и в балладах, в том числе в «Короле Лире» Шекспира (подробнее о этом – в статье «Том из Бедлама, перпендикулярный дурак»).
Наряду с театрами нищеты и безумия, весьма популярным у лондонцев зрелищем являлись и публичные казни. Они также содержали в себе «литературную часть»: если это был не какой-нибудь заурядный воришка, вздернутый в Тайберне[152], а джентльмен или лорд, которому выпало сложить голову во дворе Тауэра или на площади возле Уайтхолла, можно было не сомневаться, что его речь на эшафоте будет сложена по всем законам риторики и произнесена по всем правилам актерского ремесла, – осрамиться перед избалованной лондонской публикой он не мог. И если осужденный хоть сколько-нибудь умел рифмовать, то, как правило, в ночь перед казнью он складывал предсмертные стихи; если же не умел, тоже не беда – кто-либо другой сочинял рифмованный отчет о его преступлении и наказании, который через несколько дней уже продавался в виде свежеотпечатанной баллады на лондонских рынках.
Ну, и конечно, сам театр, театральные образы и сюжеты, вдохновляли сочинителей баллад. Тут связь была взаимной: популярные герои истории и фольклора, воспетые в ярмарочных балладах, перекочевывали на сцену, и театральные персонажи, поразившие народное воображение, становились героями баллад. К такому случаю относится и баллада о Робине-весельчаке, известном также под именем Пака, – проказливом духе английского фольклора.
Я связываю эту балладу с шекспировской комедией «Сон в летнюю ночь» (около 1596 г., первое издание – 1600 г.), в которой Пак играет важную роль. Конечно, песенку о Паке могли сочинить и помимо пьесы, но тут торчит важный хвостик – Оберон, король эльфов, который есть у Шекспира, но отсутствует в народной, то есть крестьянской традиции.
Князь Оберон – хозяин мой, Страны чудес верховный маг. Лететь во мрак, в дозор ночной Я послан, Робин-весельчак.Впервые король Оберон появляется во французской рыцарской повести «Гюон из Бордо» (XII в.), откуда проникает в другие средневековые тексты. Значит, одно из двух: или баллада про Робина-весельчака откровенно сочинена по следам «Сна в летнюю ночь», или начитанный автор взял его из того же источника, что и Шекспир.
Закругляя тему театра, мы даем «Песенку о прискорбном пожаре, приключившемся в театре “Глобус” в Лондоне». Биографы Шекспира предполагают, что гибель своего театра была причиной, ускорившей окончательное возвращение драматурга в Стратфорд. Интересно сравнить поэтическую версию этого грустного происшествия с прозаической – с письмом сэра Генри Уоттона своему племяннику[153]:
А теперь пусть государственные дела отдохнут; я хочу развлечь тебя происшествием, случившимся на этой неделе в Бэнксайде. Труппа Короля играла новую пьесу под названием «Воистину правда», представляющую некоторые важные сцены из правления Генриха VIII, причем обставленные с необычайной пышностью и великолепием, так что даже сцена была убрана коврами; там были рыцари Подвязки со всеми своими Георгиями и лентами, гвардейцы в расшитых костюмах, и прочее – воистину все было сделано, чтобы не только представить королевское величие, но почти спародировать его. И вот, когда король Генри прибыл смотреть маску в доме кардинала Вулси и при его появлении несколько пушек на сцене оглушительно выпалили, какой-то обрывок пыжа или бумаги, которой затыкали пороховой заряд, залетел на соломенную крышу. Никто сперва не обратил внимания на дымок, тем более, что взоры всех были прикованы к действию, огонь же разгорелся и ринулся вниз неудержимо, поглотив за какой-то час все здание до самого основания. Таков был роковой для этого благородного заведения день, хотя, к счастью, никто при этом не погиб, за исключением бревен, соломы и нескольких брошенных тряпок; лишь одному зрителю подпалило штаны, отчего кое-что у него могло бы свариться вкрутую, если бы некий предусмотрительный джентльмен не погасил пламя бутылкой пива.
(Письмо от 1 июля 1613)Через год «Глобус» восстановили – по словам современника, «намного краше, чем было»; именно второй «Глобус» (благодаря сохранившимся изображениям на старинных картах) и стал рассматриваться историками как образцовое театральное здание шекспировской эпохи.
Интересно, что в балладе о пожаре упоминаются три актера: Бербедж, Хеминг и Конделл (правда, Бербедж при переводе «потерялся») – друзья Шекспира, которым он, умирая, завещал по 26 шиллингов 8 пенсов на покупку золотых памятных колец: именно Джон Хеминг и Генри Конделл полностью исполнили свой долг перед другом, издав в 1623 году собрание пьес Шекспира (т. н. «Первое Фолио»), на котором основывается его посмертная слава.
Песни и баллады шекспировской эпохи: дорога в Вальсингам
Скажи мне, честный пилигрим, Что был в святом краю: Ты не встречал ли на пути Любимую мою? Как знать, быть может, и встречал, Немало дев и дам Я видел на пути своем В преславный Вальсингам. Нет, пилигрим, другой такой На свете не найти, Она легка, она светла, Как ангел во плоти. Да, сэр, такую я встречал, Воистину она Походкой нимфа, а лицом, Как серафим, светла. Она покинула меня Обетам вопреки, Та, что клялась любить меня До гробовой доски. Но отчего она ушла (Поведай не таясь), Та, что любила горячо И в верности клялась? Увы, тогда я молод был, Теперь наоборот, Любви не мил опавший сад, Постыл увядший плод. Любовь – капризное дитя, Уж так устроен свет, Желанье для нее закон, Других законов нет. Она – как мимолетный сон, Колеблемый тростник: Ты за нее всю жизнь отдашь, А потеряешь вмиг. Да, такова любовь порой, Для женщин это щит, Которым всяческая блажь Прикрыться норовит. Но настоящая любовь – Неугасимый свет, Сильнее смерти и судьбы, Сильней всесильных лет.Гринсливс («Зеленые Рукава»)
Увы, любовь моя, увы, За что меня терзаешь ты? Моей смиреннейшей любви, Увы, не понимаешь ты. Гринсливс, дружочек мой, Гринсливс, лужочек мой! Надежды зеленый цвет – Но мне надежды уж нет! Я угождать тебе спешил, Чтоб доказать любовь свою, Ни денег не жалел, ни сил, Чтоб заслужить любовь твою. Я кошелек свой порастряс, В расходы многие вошел, Платил исправно, не скупясь, И за квартиру, и за стол. Купил тебе я башмачки И плащ на беличьем меху, И шелку алого чулки С кружавчиками наверху. Испанский веер дорогой И брошь богатую на грудь, И чепчик с бантиком – такой, Что любо-дорого взглянуть. Тебе я ларчик преподнес Работы тонкой и резной И позолоченный поднос – Не постоял я за казной! Пылинки я с тебя сдувал, О нежных чувствах говорил, Как баронессу наряжал: Так чем же я тебе не мил? Зеленый бархатный дублет Я в честь твою везде носил – Ведь ты любила этот цвет: Так чем же я тебе не мил? Я нанял самых лучших слуг, Они старались что есть сил, Чтоб угодить тебе, мой друг: Так чем же я тебе не мил? Увы, я Богу помолюсь, Чтоб он глаза тебе открыл, А не поможет – утоплюсь, Раз милой больше я не мил. Прощай любовь моя, прощай, Будь беспечальна и свежа, Моя прекрасная, как май, В зеленом платье госпожа! Гринсливс, дружочек мой, Гринсливс, лужочек мой! Надежды зеленый цвет – Но мне надежды уж нет!Песня нищих
Тьма в ночи, тьма в ночи, Стужа и мороз, Пламя, снег и огонь свечи, Спаси тебя Христос. Когда отсюда ты пойдешь В стужу и в мороз, На Поле Терний попадешь, Спаси тебя Христос. И ежели ты обувал босых В стужу и в мороз, Сядь и надень обувку их, Спаси тебя Христос. Но ежели гнал тех, кто разут, В стужу и в мороз, Шипы тебе пяты проткнут, Спаси тебя Христос. От Поля Терний ты пойдешь В стужу и в мороз, И к Страшному Мосту придешь, Спаси тебя Христос. Когда тот Страшный Мост пройдешь В стужу и в мороз, К Стене Огня ты подойдешь, Спаси тебя Христос. И ежели грел ты нищий люд В стужу и в мороз, Огонь к тебе не будет лют, Спаси тебя Христос. Но если гнал голодных вон В стужу и в мороз, Геенной будешь поглощен, Спаси тебя Христос. Тьма в ночи, тьма в ночи, Стужа и мороз, Пламя, снег и огонь свечи, Спаси тебя Христос.Песня из-под плетки, или Прежалостная баллада трех злосчастных сестриц, попавших в исправительный дом Брайдуэлл
Три Пряхи, помогите нам, Небесные сестрички! Тянуть-сучить злодейку-нить Натужно с непривычки. Куделька, лен и конопля, Тура-ляля, тарара, Куделька, лен и конопля – Тройная наша кара. Над нами кнутобой слепой Кричит: Живей давай-ка! А чуть замрет веретено, Поднимет лай хозяйка. Куделька, лен и конопля, Тура-ляля, тарара, Куделька, лен и конопля – Тройная наша кара. Не спросит нас веселый гость: Цукатов не хотите ль? И кружечку не поднесет Приятный посетитель. Куделька, лен и конопля, Тура-ляля, тарара, Куделька, лен и конопля – Тройная наша кара. Взгляните: наша крошка Бесс Умаялась, бедняжка; Нет, никогда за все года Ей не было так тяжко. Куделька, лен и конопля, Тура-ляля, тарара, Куделька, лен и конопля – Тройная наша кара. Всех наших чисто замели, Накрыли всю слободку. Теперь – ни трубочку разжечь, Ни поплясать в охотку. Куделька, лен и конопля, Тура-ляля, тарара, Куделька, лен и конопля – Тройная наша кара. Нет ни купца с тугой мошной, Ни друга-шалопая: По нашим беленьким плечам Гуляет плетка злая. Куделька, лен и конопля, Тура-ляля, тарара, Куделька, лен и конопля – Тройная наша кара. Эй вы, задиры-хвастуны, Бойцы трактирных кружек! Нас обижают – где же вы? – Вступитесь за подружек. Куделька, лен и конопля, Тура-ляля, тарара, Куделька, лен и конопля – Тройная наша кара. Мы крутим это колесо, Как белки, поневоле, В глазах у нас мелькает все, На пальчиках – мозоли. Куделька, лен и конопля, Тура-ляля, тарара, Куделька, лен и конопля – Тройная наша кара. А если не желаешь прясть, То разговор короткий: Иди опять пеньку трепать, Чтоб не отведать плетки. Куделька, лен и конопля, Тура-ляля, тарара, Куделька, лен и конопля – Тройная наша кара.Робин-весельчак
Князь Оберон – хозяин мой, Страны чудес верховный маг. Лететь во мрак, в дозор ночной Я послан, Робин-весельчак. Ну, кутерьму Я подыму! Потеха выйдет неплоха! Куда хочу, Туда лечу, И хохочу я: – Ха, ха, ха! Промчусь я, молнии быстрей, Под этой ветреной луной, И все проделки ведьм и фей, Как на ладони, предо мной. Но я главней И ведьм, и фей, Мне их приструнить – чепуха! Всю суетню Я разгоню Одним внезапным: – Ха, ха, ха! Люблю я в поле набрести На припозднившихся гуляк, Морочить их, сбивать с пути И огоньком манить в овраг. – Ау, ау! – Я их зову… Клянусь, проделка неплоха! Бедняги – в грязь, А я, смеясь, Взвился и скрылся: – Ха, ха, ха! Могу я подшутить и так: Предстану в образе коня, И пусть какой-нибудь простак Вскочить захочет на меня – Отпрыгну вмиг, Он наземь – брык! – Забава эта неплоха! И прочь скачу, Куда хочу, И хохочу я: – Ха, ха, ха! Люблю я, невидимкой став, На погулянки прилететь И со стола пирог украв, Нарочно фыркать и пыхтеть. Кого хочу, Пощекочу – Подпрыгнет девка, как блоха! – Ой, кто меня? – А я, темня, Кричу: – Кум лысый! Ха, ха, ха! Мы ночью водим хоровод И веселимся, как хотим; Но жаворонок запоет – И врассыпную мы летим. Такая сласть – Младенца скрасть Иль подменить исподтиха! Мать подойдет, А там – урод Смеется в люльке: – Ха, ха, ха! С тех пор, как Мерлин-чародей На свет был ведьмою рожден, Известен я среди людей Как весельчак и ветрогон. Но – вышел час Моих проказ, И с третьим криком петуха – Меня уж нет, Простыл и след. До новой встречи: – Ха, ха, ха!Песенка о прискорбном пожаре, приключившемся в театре «Глобус» в Лондоне
Облекшись в траурный покров, Поведай, Мельпомена, Какая вышла в день Петров Трагическая сцена. Такого страха, господа, Не видел «Глобус» никогда: Вот горе, так уж горе! – воистину беда. О муза скорбная, пропой Про этот день ужасный, Как Смерть металась над толпой, Вздымая факел красный, – Вельмож испуганных презрев И Генриха Восьмого гнев: Вот горе, так уж горе! – воистину беда. Пожар тот начался вверху, Таясь, как в норке мышь, Должно быть, пламя на стреху Занес горящий пыж – И вспыхнул театральный дом, Флаг, башня – все пошло огнем, Вот горе, так уж горе! – воистину беда. Тут бабы начали визжать, И начался бедлам: Купцы и шлюхи, рвань и знать – Все бросились к дверям. Ну, подпалило там штанов, И париков, и галунов! Вот горе, так уж горе! – воистину беда. Джон Хеминг[154], в страхе трепеща, Рыдал, как будто сбрендил, И, лоб прикрыв полой плаща, Молился Генри Кэндилл[155]. Сгорело все – корона, трон, И барабан, и балахон: Вот горе, так уж горе! – воистину беда. Стоял, к несчастью, летний зной, Повяли все цветочки, И даже не было пивной, Чтоб жар залить из бочки. Начнись пожар тот от земли, Поссать[156] бы на него могли: Вот горе, так уж горе! – воистину беда. Вот, лицедеи, вам урок, Чтоб жить чуть-чуть потише, В народе не плодить порок, Не крыть соломой крыши. А лучше, чем блудить и пить, На черепицу подкопить: Вот горе, так уж горе! – воистину беда. Лихая, знать, пришла пора: Теперь вам нужно, братцы, Как погорельцам, со двора В дорогу собираться – И представлять из разных драм, Бродя с сумой по деревням: Вот горе, так уж горе! – воистину беда.«Девятидневное чудо», или Перепляс из Лондона в Норидж
Нет, наверное, в Англии такой деревушки, которая не гордилась бы родством или свойством с каким-нибудь известным писателем. А каждый большой город имеет целый список литературных достопримечательностей. Древний Норидж[157], столица Норфолка, с его великолепным собором, основанным при Вильгельме Завоевателе, конечно, не исключение. Я бывал в Норидже трижды, даже, лучше сказать, не бывал, а жил понемногу (благодаря гостеприимству Университета Восточной Англии), так что успел проникнуться своего рода местным патриотизмом. Для меня было важно, например, что Джон Скельтон, первый поэт английского Возрождения, священник по чину и скоморох по призванию, имел приход рядом, в городке Диссе. Сядь на поезд и через пятнадцать минут убедишься, что «дух места» (spiritus loci) реально существует.
С именем Джона Скельтона связано много анекдотов. Говорят, что в нарушение обета безбрачия он завел себе жену, а когда епископ Нориджский велел выгнать ее за дверь, Скельтон выгнал ее и тут же втащил обратно в дом через окно. Больше того, он привел ее в церковь и представил своим прихожанам, заглушив возникший было ропот словами: «Взгляните на эту добрую женщину. Если бы не она, многим из вас пришлось бы ходить с рогами». Неподалеку от Нориджа расположен и монастырь Кэроу, где обитал ручной воробышек Филип – тот самый, чью добродетельную жизнь и злосчастную гибель Скельтон обессмертил в своей поэме Philip the Sparrow.
Сам Норидж тоже удостоился скорбной элегии поэта. В 1507 году, когда город был почти полностью уничтожен пожаром, Скельтон посвятил этому ужасному событию стихи (Lament for the City of Norwich):
Непрочен человек и мал перед судьбой. Прощай, злосчастный град: я плачу над тобой.Город Норидж гордится именами двух выдающихся женщин-мистиков средневековья. Это, во-первых, Святая юлиана Нориджская, автор «Откровений божественной любви», жившая в XIV веке. Во-вторых, ее младшая современница Марджери Кемп, знаменитая паломница, описавшая свои многие «хожения» по Англии, а также в Рим и в Святую Землю в своей надиктованной в старости «Книге Марджери Кемп» – самой первой travel book, сочиненной англичанкой.
Девятидневное чудо Кемпа. Титульный лист. 1600 г.
Знаменитый комик елизаветинской сцены Вилли Кемп, тоже родившийся в Норидже, по-видимому, был родичем Марджери Кемп – неугомонность путешественницы сказалась в неутомимом правнуке-актере. Он играл в ранних пьесах Шекспира, включая «Ромео и Джульетту» и «Много шуму из ничего», – считается, что роли шутов в них были написаны специально для Кемпа. Он был шутом площадного, балаганного типа и особенно славился как танцор, исполнитель джиги и морриса (буквально: «мавританского танца»).
Шекспироведы отмечают, что примерно после 1600 года роль дурака в шекспировских пьесах резко меняется, делается более сложной и философской. Именно в это время (зимой 1600–1601 года) Кемп ушел из труппы Лорда-адмирала и отколол такую штуку: побился об заклад, что протанцует всю дорогу от Лондона до Нориджа (сто миль без малого). И протанцевал – всего за девять дней, не считая остановок и задержек! Причем в самое неподходящее время: зимой, в холод и в распутицу.
Гипотеза о размолвке Кемпа с Шекспиром – чисто умозрительная, никаких определенных сведений о ней нет. Но в книжке, которую сам Кемп написал по живым следам событий и которая являет собой подробный отчет о его подвиге, «Девятидневное чудо Кемпа, или Перепляс из Лондона в Норидж», я наткнулся на одну фразу, точнее, на одно словцо, которое может быть истолковано как подтверждение этой гипотезы. В предисловии и в послесловии к своей книге Кемп яростно ополчается на неких куплетистов, которые якобы опорочили его доблестное предприятие своими клеветническими нападками. Вот заголовок и начало послесловия:
Кемпова смиренная просьба к нахальному отродью балладников и их приспешников: не будет ли угодно их негодяйствам снизойти к трудам и тяготам, понесенным им в его великом путешествии и не наполнять страну клеветой о поступках, которых он никогда не совершал, как они это сделали в недавней песне «моррис до нориджа»
Достославные мои Оборванцы [My notable Shakerags], цель моего обращения к вам явствует из заголовка сей петиции. Но дабы вам было ясней: ибо знаю, что вы, безмозглые тупицы, понимаете лишь то, что вам втемяшат в головы, и т. д.
Shakerags – «оборванцы», буквально: «потрясатели лохмотьев» – довольно близко подходит к имени Shakespeare («потрясатель копья»). Особенно если учесть известную выходку Роберта Грина против Шекспира, основанную на таком же каламбуре с фамилией (Shake-scene, «потрясатель сцены»). Поэтому Shakerags может быть свидетельством – хотя и неявным, приглушенным – Кемпова раздражения против Шекспира. Формально он атакует совсем других, в частности поэта Томаса Делонея. Точно неизвестно, была ли у того песня под названием «Эпитафия», скорее всего, это сатирическая стрела Кемпа в адрес главного нориджского балладника. Она бросается в глаза первой: «На мотив Эпитафии Томаса Делонея». Однако обобщенное имя «потрясателей лохмотьев», Shakerags, которым Кемп наградил всех своих врагов в тот момент, когда он был вынужден расстаться с театром Шекспира и пытался поддержать свою славу другими путями, вряд ли случайно.
Сен-Джайльские ворота в Норидже. Гравюра из собрания Нориджской библиотеки
* * *
Если верить Кемпу, его перепляс из Лондона в Норидж окончился триумфом: его встречали толпы, его одаривали деньгами, в его честь сочиняли стихи. Как свидетельствует анонимный памфлет «Возвращение с Парнаса», слава Кемпа в 1602 году была в зените: не было такой деревенской девушки, плясуньи и насмешницы, которая не слышала бы о Вилли Кемпе и о его планах протанцевать джигу через всю Европу к турецкому султану. Никто не знает точно, когда Кемп окончил свой танец на земле, но известна стихотворная эпитафия Ричарда Брэйтуэйта (Braithwayte), опубликованная в 1618 году; она кончается так:
Плясун, стяжал ты Вечности награду: До головокруженья, до упаду Дотанцевался, выбился из сил – И даму Смерть на танец пригласил.Говорят также, что ботинки Вилли Кемпа прибили к стене в главном зале нориджского Гильдхолла, – где они, наверное, красовались бы и теперь, если бы куда-то не запропастились.
Баллада о том, как синьор Кабальеро Вилли Кемп, доктор шарлатанских наук, продавец придури и слуга его милости самого себя, протанцевал за девять дней ОТ Лондона до Нориджа
И вскричал Вилли Кемп: «До скончания дней Чтобы эля не пить мне, не видеть друзей, Чтобы есть мне один только порридж, Если я напоследок, такой дуралей, Ради чести английской и славы своей Не станцую из Лондона в Норидж, – Ради чести английской и славы своей И еще – для потехи любимых друзей – Не станцую из Лондона в Норидж!» Госпоже моей Анне – ее Пилигрим: «Драгоценная леди, мы с другом моим Барабанщиком Томасом Слаем Из гостиницы милфордской «Пир моряка», Где нас волей Судьбы задержало слегка, Вам сердечный привет посылаем. Происшествие вышло такое у нас: Вилли вывихнул ногу, не только что в пляс – И пешком мы идти не дерзаем». Лекаря, осмотрев от макушки до пят Кабальеро Кемпино, ему говорят: «Восемь лет посещали мы колледж, Восемьсот проводили больных на тот свет, Так послушайте искренний вам наш совет: Не танцуйте из Лондона в Норидж. Обязательно вы повредите сустав Или с берега в пруд упадете, устав, – Лучше кушайте дома свой порридж!» Но вскричал Вилли Кемп: «Что мне вывих ноги, Если мне еще в детстве свихнули мозги, – Ничего, не тоскуем, не плачем! Так ударь в тамбурино, любезный мой Слай, Пусть поднимут собаки окрестные лай С удивительным рвеньем собачьим!» – И похлопал себя по штанам: всё ли тут? И девчонке хмельной подмигнул, баламут: Доберемся, допляшем, доскачем! Между Бери и Нориджем путь нехорош, В снег и слякоть зимою его не пройдешь, Не видать на пути богомольцев. Но смотрите: кто там по дороге бредет, Не бредет, а танцует – вперед и вперед – Под веселый трезвон колокольцев? По канавам и ямам, колдобам и рвам Он танцует, как Робин с его Мариам, Окруженный толпой добровольцев! И настал достопамятный в Норидже день, Мужики из далеких пришли деревень Посмотреть, что за мученик хренов, И, танцуя, танцуя, наш Вилли прошел От Сент-Джайльских ворот до ступеней в Гильдхолл, Где был встречен толпой джентльменов, И его принимала норфолкская знать, И сам нориджский мэр подарил ему пять Самых лучших своих соверенов! …Я добрался до Нориджа за два часа, Трижды мраком окутывало небеса, Трижды радуга в небе вставала; Только вышел на площадь – посыпался град, Три последних такси отвалило подряд Предо мной с остановки вокзала; Оглянулся – ни друга в пространстве пустом: Лишь одна, притворившись увядшим листом, На ступенях душа танцевала.Джордж Герберт (1593–1633)
Сын леди Магдален Герберт, покровительницы Джона Донна. Как и его старший брат Эдуард Герберт (лорд Герберт из Чербери), дружил с Донном и испытал его влияние как поэт. Учился в Кембридже и сделал отличную академическую карьеру. Его латинские стихи на смерть матери были опубликованы в 1627 году вместе с погребальной проповедью Донна. Вскоре после этого принял священнический чин и был назначен настоятелем церкви в Бемертоне, вблизи Солсбери, где снискал общее уважение прихожан. Умер от чахотки в 1633 году, послав перед смертью другу свои религиозные стихи с просьбой напечатать их, «если они могут принести пользу хоть одной христианской душе» или, в противном случае, сжечь. Так появилась одна из самых знаменитых книг в английской поэзии – «Храм» Джорджа Герберта.
Джордж Герберт. Гравюра Роберта Уайта, 1674 г.
Молитва
Молитва – Божий дух, живящий плоть, Веселье церкви, праведников пир, В земной опаре – истины щепоть, Паломничество сердца в горний мир; Ларь жизни, опрокинутый вверх дном, Пересоздавшие себя уста, Баллиста грешных, обращенный гром, Таран, стучащий в райские врата; Покой и нежность, радость и любовь, В пустыне – манна, после стуж – апрель, Наряд невесты, выбеленный вновь, И Млечный Путь, и жаворонка трель; Благоуханье, благовест со звезд; Души, еще кровоточащей, рост.Любовь
Меня звала Любовь; но я не шел, Жгли душу грех и стыд. Тогда Амур, поняв, как был тяжел Мне первый мой визит, Приблизился и ласково спросил, О чем я загрустил. «Я недостоин!» Но Амур в ответ: «Входи и гостем будь». – «Я? Злой, неблагодарный? Духу нет В глаза твои взглянуть!» Амур с улыбкой отвечал: «Мой взор Ты помнишь до сих пор». «Но мною суть его извращена; Вели мне прочь идти». В ответ Амур: «Так знаешь, чья вина?» «Я отслужу, прости!» «Сядь, – он сказал, – вкуси от яств моих!» Я сел, и я вкусих.Уильям картрайт (1611–1643)
Закончил Вестминстерскую школу в Лондоне и Оксфордский университет, с которым связана вся дальнейшая жизнь Картрайта. В 1636 году его пьеса была сыграна перед королем и королевой в Оксфорде. В 1638 году он принял священный чин и сделался известным проповедником. В начале гражданской войны претерпел тюремное заключение за лояльность королю. Собрание сочинений Картрайта издано посмертно в 1651 году. В стихах он подражает Джонсону и частично Донну. Пьесы Картрайта переиздавались и включались в сборники избранных старинных пьес еще в начале XIX века. Любопытно, что одного из главных героев его комедии «Таверна» зовут «Сэр Томас Выкуси, скупой рыцарь (the covetous Knight)», – вспомним загадочную ссылку Пушкина на английскую «трагикомедию» c таким названием.
Уильям Картрайт. Гравюра Пьера Ломбара, середина XVII в.
На обрезание господне
Богородица Нежней, отец святой, нежней, Не повреди лозы моей! Св. Иосиф Все ветви целы сохрани. Вот улыбнулся он, взгляни! Богородица Сей крови молодой родник Из млека матери возник. 1 левит Лозу обрезать суждено, Чтоб претворилась кровь в вино. 2 левит Из млека кровь сотворена, Весь мир теперь спасет она. Хор Свершилось! Раны приняла Ветвь, чья целительна смола. 1 левит Прелюдии священный звук, Сей плач – предвестник Крестных мук. Богородица Ужель свершится произвол? – Он так прекрасен, мир так зол! 2 левит Кровь, что безгрешна и чиста, Не понапрасну пролита. Хор Затем он и рожден на свет: Мир – опухоль, а он – ланцет. 1 левит В пустыне гладом истомлен, Был Манной человек спасен. Каких же ожидать чудес От новой милости небес? 2 левит Из Розы кровь истечь должна, В крови той – Церкви семена. Хор Из Розы кровь истечь должна, В крови той – Церкви семена.Истинная жизнь Эндрю Марвелла
– Прошу вас, постарайтесь хоть что-нибудь вспомнить, – упрямо настаивал я.
– Да говорю же я вам, что ничего не помню, странный вы человек…
В. НабоковВ набоковских комментариях к «Евгению Онегину» можно прочесть: «Пушкин никогда не знал и, возможно, даже ничего не слышал об Эндрю Марвелле (1621–1678), который во многом ему сродни». Чем Марвелл сродни Пушкину, догадаться трудно, – помимо того, что оба они были первоклассными поэтами; может быть, именно это Набоков и имел в виду? Чем Марвелл симпатичен Набокову, мне кажется, я понимаю: независимостью и оригинальностью, расхождением с расхожим представлением о поэте, контрастом между яркостью стихов и тем сумраком, который окутывает истинную жизнь и судьбу этого человека.
Великие поэты Возрождения предстают нам, как правило, людьми красочными и цельными. Стихи Томаса Уайетта, Филипа Сидни, Уолтера Рэли – как бы продолжение их других блестящих достоинств; этих людей сопровождали легенды, их осеняла еще прижизненная слава. Марвелл являет собой писателя нового типа – партикулярного человека, отнюдь не героического – тихого, даже осторожного по своему складу, человека не внешнего огня, а, так сказать, «внутреннего сгорания».
Марвелл жил в бурную эпоху революции и гражданских смут, когда вся страна разделилась на два лагеря и многих его современников (в том числе поэтов) ожидала трагическая судьба – тюрьма, изгнание, смерть на поле боя. Но ему везло: он занимал то умеренно роялистскую позицию, то сдержанно республиканскую, после казни короля несколько лет жил в провинции, уча языкам дочь ушедшего в отставку кромвелевского генерала; потом вернулся в Лондон, был принят (по рекомендации Мильтона) на должность секретаря по иностранным делам; после реставрации, как член парламента от своего родного города Гулля и автор злободневных памфлетов, находился в оппозиции к правительству Карла II, который, тем не менее, сохранял к нему расположение.
Стихи Марвелла, кроме нескольких, написанных на случай (например предисловия ко второму изданию «Потерянного рая» Мильтона), при жизни почти не публиковались. Причудливое стечение обстоятельств способствовало сохранению их для потомства. Марвелл умер, не оставив завещания. После его смерти нашлись двое друзей, которые, чтобы получить назад свои деньги, положенные в банк на имя Марвелла, вошли в сговор с его домоправительницей Мэри Палмер и показали на суде, что она была тайной женой Марвелла. Для укрепления своих позиций эта последняя собрала стихи, найденные в бумагах покойного, и опубликовала их под названием «Разные стихи» со своим предисловием, подписанным «Мэри Марвелл». Именно в этом издании и были впервые напечатаны «Глаза и слезы», «Определение любви», «К стыдливой возлюбленной» и другие шедевры Марвелла.
В принципе, неизвестные стихотворения Марвелла могут найтись даже в России. Дело в том, что в 1663–1664 годах Эндрю Марвелл состоял секретарем при посольстве графа Карлайла в Москве и целый год прожил на Английском подворье в Зарядье. В английских архивах никаких материалов, относящихся непосредственно к этому периоду жизни Марвелла, кажется, не сохранилось. Вот если бы нашлись в Москве какие-нибудь перехваченные письма или украденные бумаги со стихами мистера Марвелла на русскую тему! Поискать бы тщательнее в архиве Посольского приказа…
Поэзия Марвелла долго хранилась в запасниках английской литературы. При жизни он был более известен как автор политических и морально-религиозных эссе, нежели как стихотворец. Двести пятьдесят лет он занимал скромное место в ряду второстепенных поэтов, пока в начале XX века не был переоткрыт Гербертом Грирсоном, издавшим комментированное издание Марвелла почти одновременно с подготовленным им же фундаментальным двухтомником Донна. Эстафету ученого приняла критика. Т. С. Элиот пишет статью «Эндрю Марвелл» (1921), и начинается новая эпоха в восприятии поэта. Справедливость, так сказать, восторжествовала.
С легкой руки Элиота Марвелл был записан в ряд «метафизических поэтов», последователей Джона Донна. Это верно лишь отчасти. Стиль Марвелла очень трудно пришпилить булавкой к одному какому-то направлению, будь то пасторальная поэзия или метафизическая, религиозная или куртуазная. Он свободно берет отовсюду. Скажем, в «Жалобе нимфы на смерть ее олененка» находим реминисценции из Скелтона (поэма на смерть воробышка Фила), в «Галерее» – отзвуки Сидни (Песня пятая «Астрофела и Стеллы»), в «Определении любви» – мотивы валедикций Донна. Но не остроумие и не парадоксальные образы – самое характерное в поэзии Марвелла, он зачастую вовсе обходится без них, – а какая-то новая этика, основанная на свободном равновесии «закона» и «благодати», чувствительного сердца и пылкого, рискованного воображения. В «Несчастном влюбленном» он рисует тип влюбленного, «запрограммированного» на несчастье, обреченного на тоску и сиротство с рождения. Перед читателем возникает грандиозная картина бури, кораблекрушения, и на этом фоне – злосчастной матери, дающей жизнь своему ребенку в самый миг своей гибели. Волны продолжают бушевать и молнии вспыхивать, навеки впечатываясь в память новорожденного, брошенного на пустынном берегу. Далее – еще чудней, еще фантастичней – огромные морские птицы бакланы подбирают младенца, «худого, бледного птенца», – «Чтоб в черном теле, как баклана, / Взрастить исчадье урагана».
Его кормили пищей грез, И чахнул он скорей, чем рос; Пока одни его питали, Другие грудь его терзали Свирепым клювом. Истомлен, Он жил, не зная, жив ли он, Переходя тысячекратно От жизни к смерти и обратно.Вот так был взращен и воспитан этот юный «гладиатор любви», навеки обреченный сражаться с беспощадной Фортуной, безропотно и отважно снося все удары. Ибо он воюет и «мужествует» не для себя, а для будущих поколений, которым он должен оставить – как символ доблести и верности – свою легенду, свой герб, изображающий алого рыцаря на черном поле. Алый рыцарь – это, конечно, cor ardens (пылающее сердце), черное поле – обступившие его злые силы судьбы…
Читатель обратит внимание на яркую визуальность этих и многих других стихов Марвелла: они словно взяты из аллегорических сборников «эмблем», весьма популярных в XVII веке во всей Европе. Оттуда, безусловно, происходят и черные бакланы, и утес, в который вцепляется израненный воин, и носящийся по бурному морю челн, и прочий символический реквизит стихотворения. Но все сплавлено в одну новую, незабываемую картину.
«Несчастный влюбленный» Марвелла – «исчадье урагана», воспитанный в черном теле подкидыш, – изначально лишен детства. От этого он ожесточен, но от этого он еще сильнее стремится к неведомому для него раю любви. Тема детства как утраченного рая (манифестируемая также как тема сада) – еще одна черта родства между Набоковым и Марвеллом.
Мэри Фэрфакс, герцогиня Букингемская. Миниатюра Самуила Купера, ок. 1657 г.
В 1650 году Марвелл поступил на службу к лорду Фэрфаксу в качестве учителя его дочери Мэри и провел два года в великолепном имении лорда в Йоркшире. Там были созданы самые счастливые его стихи, в том числе философско-описательная поэма «Апплтон-Хаус» – классическое произведение «садового» жанра. В эти же годы, по-видимому, написаны стихотворения «юная любовь» и «Портрет малютки Т. С. на фоне цветов». В первом из них любование девочкой в возрасте набоковской «нимфетки» удерживается автором в легких, подвижных рамках игры и шутки: «Без оглядки мы шалим, / Словно нянька и дитя». Однако мотив memento mori присутствует здесь точно так же, как и во «взрослом» стихотворении Марвелла «К стыдливой возлюбленной», – и так же воодушевляет поэта на переход к лирической патетике. Марвелл отделяет любовь души от любви тела, отождествляя эту последнюю с грехом («Для греха ты зелена, / Но созрела для любви»); но нешуточный пафос страсти осеняет и это заведомо целомудренное стихотворение:
Дабы избежать вреда От интриг и мятежей, В колыбели иногда Коронуют королей. Так, друг друга увенчав, Будем царствовать вдвоем, А ревнующих держав Притязанья отметем!В «Портрете малютки Т. К. на фоне цветов» – фактически та же тема «младенческой женственности» (и та же фигура с косой на заднем плане), но температура стиха еще больше повышается; здесь уже нет попытки свести все на шутку, наоборот, в прелестном ребенке поэт со страхом и трепетом провидит будущую царицу любви, – но не кроткую Венеру, влекомую упряжкой голубков, а грозную завоевательницу, чьи прекрасные глаза прокатятся неумолимой колесницей по сердцам покоренных ею рабов.
Позволь мне сразу покориться Твоим пленительным очам, Пока сверкающие спицы Сих триумфальных колесниц, Давя склоняющихся ниц, Не прокатились по сердцам Рабов казнимых… Как я боюсь лучей неотразимых!Этот грандиозный образ напоминает не только о рельефах и фресках фараонов, но и об индийских празднествах в честь богини Кали, когда сотни фанатиков ложатся под колеса торжествующей богини. Ужас и восторг, умиротворение и затаенная тревога – застывают в зыбком равновесии стихотворения.
Оливер Кромвель. Миниатюра Самуила Купера, 1656 г.
Амбивалентные чувства восхищения и ужаса вызывают и фигуры главных протагонистов «Горацианской оды на возвращение Кромвеля из Ирландии»: генерала Кромвеля, подобного пылающему «трезубцу молнии», обрушивающей дворцы и храмы (сравните с образом Петра в «Полтаве»: «Он весь как Божия гроза!»), – и короля Карла I, «венценосного актера», «украсившего» собой трагический эшафот. Марвелл, как и Пушкин, никому не дает окончательной моральной оценки, но сочувствует и победителю, и побежденному. Он смотрит на историю как на некоторый грандиозный свиток, разворачивающийся перед глазами смертного, нечто изначально заряженное величием, как Природа или Космос. Кромвель, главнокомандующий республиканской (революционной) армией, изображается как охотничий сокол Парламента, который, убив назначенную дичь, садится на ветку и ждет следующего приказа сокольника. Отсюда, может быть, происходят строки Йейтса, изображающие смуту его времени:
Все шире – круг за кругом – ходит сокол, Не слыша, как его сокольник кличет. (У. Б. Йейтс, «Второе пришествие»)Марвелл, безусловно, один из драгоценнейших поэтов английского языка. Порою он действительно напоминает Пушкина – классической «постановкой» своих поэтических сцен, смелой точностью эпитетов, чеканностью формулировок. Любовь, которая «у Невозможности на ложе Отчаяньем порождена», или «плачущие глаза и зрячие слезы», или строки про воображение поэта, которое создает и уничтожает миры, обращая их в «зеленую мысль в зеленой тени» (стихотворение «Сад»), – эти и другие открытия Марвелла незабываемы.
Известный мемуарист XVII века Джон Обри в своих «Кратких жизнеописаниях» пишет о Марвелле:
Он был среднего роста, довольно плотного телосложения, имел пунцовые щеки, карие глаза, темно-каштановые волосы. В разговоре обычно бывал сдержан и немногословен и, хотя любил вино, но на людях не позволял себе выпить лишнего; говорил, что никогда бы не стал разыгрывать весельчака в компании людей, которым он не мог бы смело доверить свою жизнь. Друзей у него было немного. ‹…›
Он держал у себя дома изрядный запас вина и часто пил в одиночку, чтобы возбудить воображение и воодушевить свою музу…
Впрочем, надо учесть, что книга Обри в значительной части представляет собой сборник расхожих анекдотов и случайных сплетен. Происхождение их во все времена примерно одно и то же. Например: люди видят подозрительно краснощекого человека, который в обществе воздерживается от вина. Вывод: значит, хлещет дома, в одиночку. Как в анекдотах о Пушкине: сядет за стол, велит подать красного вина, выпьет два стакана – и пошел стишки строчить.
Эндрю Марвелл (1621–1678)
Сын священника, Марвелл родился в городе Гулле, получил степень магистра в Кембридже. В годы Гражданской войны занимал гибкую позицию, несколько лет служил секретарем по иностранным делам в правительстве Кромвеля (куда был принят по рекомендации Джона Мильтона). Провел год в России в составе английского посольства (1663–1664). Был избран в Парламент – пост, который он сохранил и после Реформации; писал политические памфлеты и сатиры. Основной корпус его стихов издан посмертно; в нем Марвелл предстает сильным и оригинальным поэтом, стоящим на перекрестке традиций и школ – пасторальной традиции, идущей от Сидни, метафизической поэтики Донна и классицизма.
Эндрю Марвелл. Неизвестный художник, ок. 1655–1660 гг.
К стыдливой возлюбленной
Сударыня, будь вечны наши жизни, Кто бы стыдливость предал укоризне? Не торопясь, вперед на много лет Продумали бы мы любви сюжет. Вы б жили где-нибудь в долине Ганга Со свитой подобающего ранга, А я бы в бесконечном далеке Мечтал о вас на Хамберском песке, Начав задолго до Потопа вздохи. И вы могли бы целые эпохи То поощрять, то отвергать меня – Как вам угодно будет – вплоть до дня Всеобщего крещенья иудеев! Любовь свою, как семечко, посеяв, Я терпеливо был бы ждать готов Ростка, ствола, цветенья и плодов. Столетие ушло б на воспеванье Очей; еще одно – на созерцанье Чела; сто лет – на общий силуэт; На груди – каждую! – по двести лет; И вечность, коль простите святотатца, Чтобы душою вашей любоваться. Сударыня, вот краткий пересказ Любви, достойной и меня и вас. Но за моей спиной, я слышу, мчится Крылатая мгновений колесница; А перед нами – мрак небытия, Пустынные, печальные края. Поверьте, красота не возродится, И стих мой стихнет в каменной гробнице; И девственность, столь дорогая вам, Достанется бесчувственным червям. Там сделается ваша плоть землею, Как и желанье, что владеет мною. В могиле не опасен суд молвы, Но там не обнимаются, увы! Поэтому, пока на коже нежной Горит румянец юности мятежной И жажда счастья, тлея, как пожар, Из пор сочится, как горячий пар, Да насладимся радостями всеми: Как хищники, проглотим наше время Одним куском! уж лучше так, чем ждать, Как будет гнить оно и протухать. Всю силу, юность, пыл неудержимый Сплетем в один клубок нерасторжимый И продеремся, в ярости борьбы, Через железные врата судьбы. И пусть мы солнце в небе не стреножим – Зато пустить его галопом сможем!Несчастный влюбленный
Счастливцы – те, кому Эрот Беспечное блаженство шлет, Они для встреч своих укромных Приюта ищут в рощах темных. Но их восторги – краткий след Скользнувших по небу комет Иль мимолетная зарница, Что в высях не запечатлится. А мой герой – средь бурных волн, Бросающих по морю челн, Еще не живши – до рожденья – Впервые потерпел крушенье. Его родительницу вал Швырнул о гребень острых скал: Как Цезарь, он осиротился В тот миг, когда на свет явился. Тогда, внимая гулу гроз, От моря взял он горечь слез, От ветра – воздыханья шумны, Порывы дики и безумны; Так сызмальства привык он зреть Над головою молний плеть И слушать гром, с высот гремящий, Вселенской гибелью грозящий. Еще над морем бушевал Стихий зловещий карнавал, Когда бакланов черных стая, Над гиблым местом пролетая, Призрела жалкого мальца – Худого бледного птенца, Чтоб в черном теле, как баклана, Взрастить исчадье урагана. Его кормили пищей грез, И чахнул он скорей, чем рос; Пока одни его питали, Другие грудь его терзали Свирепым клювом. Истомлен, Он жил, не зная, жив ли он, Переходя тысячекратно От жизни к смерти и обратно. И ныне волею небес, Охочих до кровавых пьес, Он призван, гладиатор юный, На беспощадный бой с Фортуной. Пусть сыплет стрелами Эрот И прыщут молнии с высот – Один, средь сонма злобных фурий, Он, как Аякс, враждует с бурей. Взгляните! яростен и наг, Как он сражается, смельчак! Одной рукою отбиваясь, Другою – яростно вцепляясь В утес, как мужествует он! В крови, изранен, опален… Такое блюдо всем по нраву – Ведь ценят красную приправу. Вот – герб любви; им отличен Лишь тот, кто свыше обречен Под злыми звездами родиться, С судьбой враждебной насмерть биться И, уходя, оставить нам, Как музыку и фимиам, Свой стяг, в сраженьях обветшалый: На черном поле рыцарь алый.Определение любви
Моя любовь ни с чем не схожа, Так странно в мир пришла она, – У Невозможности на ложе Отчаяньем порождена! Да, лишь Отчаянье открыло Мне эту даль и эту высь, Куда Надежде жидкокрылой И в дерзких снах не занестись. И я бы пролетел над бездной И досягнуть бы цели мог, Когда б не вбил свой клин железный Меж нами самовластный Рок. За любящими с подозреньем Ревнивый взор его следит: Зане тиранству посрамленьем Их единение грозит. И вот он нас томит в разлуке, Как полюса, разводит врозь; Пусть целый мир любви и муки Пронизывает наша ось, – Нам не сойтись, пока стихии Твердь наземь не обрушат вдруг И полусферы мировые Не сплющатся в единый круг. Ясны наклонных линий цели, Им каждый угол – место встреч, Но истинные параллели На перекресток не завлечь. Любовь, что нас и в разлученье Назло фортуне единит, – Души с душою совпаденье И расхождение планид.Галерея
Мне в душу, Хлоя, загляни, Ее убранство оцени; Ты убедишься: ряд за рядом По залам всем и анфиладам Висят шпалеры и холсты – Десятки лиц, и в каждом ты! Вот все, что я в душе лелею; Всмотрись же в эту галерею. Здесь на картине предо мной Ты в образе тиранки злой, Изобретающей мученья Для смертных – ради развлеченья. О, дрожь берет при виде их – Орудий пыточных твоих, Среди которых всех жесточе Уста румяны, темны очи. А слева, на другой стене, Ты видишься Авророй мне – Прелестной, полуобнаженной, С улыбкой розовой и сонной. Купаются в росе цветы, Несется щебет с высоты, И голуби в рассветной лени Воркуют у твоих коленей. А там ты ведьмой над огнем В вертепе мрачном и глухом Возлюбленного труп терзаешь И по кишкам его гадаешь: Доколе красоте твоей Морочить и казнить людей? И сведав то (помыслить страшно!), Бросаешь воронью их брашно. А здесь, на этой стороне, Ты в перламутровом челне Венерою пенорожденной Плывешь по зыби полуденной; И Альционы над водой Взлетают мирною чредой; Чуть веет ветерок, лаская, И амброй дышит даль морская. И тысячи других картин, Которых зритель – я один, Мучительнейших и блаженных, Вокруг меня висят на стенах; Тобою в окруженье взят, Я стал как многолюдный град; И в королевской галерее Собранья не найти полнее. Но среди всех картин одну Я отличить не премину – Такой я зрел тебя впервые: Цветы насыпав полевые В подол, пастушкой у реки Сидишь и вьешь себе венки С невинной нежностью во взорах, Фиалок разбирая ворох.Моему благородному другу мистеру Ричарду Лавлейсу на книгу его стихов
С тех давних пор, как с музой вы сдружились, Век выродился, нравы изменились. На каждом – духа общего печать: Заразы времени не избежать! Когда-то не было пути иного К признанию, чем искреннее слово. Был тот хвалим, кто не жалел похвал, Кто не венчался лавром, а венчал. Честь оказать считалось делом чести. Но простодушье кануло без вести. Увы, теперь другие времена, В умах кипит гражданская война, Признанье, славу добывают с бою, Возвышен тот, кто всех сравнял с землею, И каждый свежий цвет, и каждый плод Завистливая гусеница жрет. Я вижу этой саранчи скопленье, Идущей на поэта в наступленье, – Пиявок, слухоловок и слепней, Бумажных крыс, ночных нетопырей, Злых цензоров, впивающихся в книгу, Как бы ища преступную интригу В любой строке, – язвительных судей, Что всякой консистории лютей. Всю желчь свою и злобу языкасту Они обрушат на твою «Лукасту». Забьет тревогу бдительный зоил: Мол, ты свободу слова извратил. Другой, глядишь, потребует ареста Для книги, а певца – вернуть на место, Зане со шпагой пел он красоту И подписал петицию не ту. Но лишь прекрасный пол о том узнает, Что Лавлейсу опасность угрожает – Их Лавлейсу, кумиру и певцу, Таланту лучшему и храбрецу, Сжимавшему так яро меч железный, Так нежно – ручку женщины прелестной, – Они в атаку бросятся без лат И своего поэта защитят. А самая прекрасная меж ними, Решив, что сам я – заодно с другими, В меня вонзила взгляд острей клинка (Ей ведомо, как эта боль сладка!). «Нет! – я вскричал, – напрасно не казни ты: Я насмерть встану для его защиты!» Но тот, кто взыскан славою, стоит Превыше всех обид и всех защит. Ему – мужей достойных одобренье И милых нимф любовь и поклоненье.Глаза и слезы
Сколь мудро это устроенье, Что для рыданья и для зренья Одной и той же парой глаз Природа наградила нас. Кумирам ложным взоры верят; Лишь слезы, падая, измерят, Как по отвесу и шнуру, Превознесенное в миру. Две капли, что печаль сначала На зыбких чашах глаз качала, Дабы отвесить их сполна, – Вот радостей моих цена. Весь мир, вся жизнь с ее красами – Все растворяется слезами; И плавится любой алмаз В горячем тигле наших глаз. Блуждая взорами по саду, Везде ища себе усладу, Из всех цветов, из всех красот Что извлеку? – лишь слезный мед! Так солнце мир огнем сжигает, На элементы разлагает, Чтоб, квинтэссенцию найдя, Излить ее – струей дождя. Блажен рыдающий в печали, Ему видны другие дали; Росою скорбный взор омыв, Да станет мудр и прозорлив. Не так ли древле Магдалина Спасителя и господина Пленила влажной цепью сей Своих пролившихся очей? Прекрасней парусов раздутых, Когда домой ветра влекут их, И персей дев, и пышных роз – Глаза, набухшие от слез. Желаний жар и пламя блуда – Все побеждает их остуда; И даже громовержца гнев В сих волнах гаснет, зашипев. И ладан, чтимый небесами, Припомни! – сотворен слезами. В ночи на звезды оглянись: Горит заплаканная высь! Одни людские очи годны Для требы этой благородной: Способна всяка тварь взирать, Но только человек – рыдать. Прихлынь же вновь, потоп могучий, Пролейтесь, ливневые тучи, Преобразите сушь в моря, Двойные шлюзы отворя! В бурлящем омуте глубоком Смешайтесь вновь, поток с истоком, Чтоб все слилось в один хаос Глаз плачущих и зрячих слез!Юная любовь
Ангел мой, иди сюда, Дай тебя поцеловать: В наши разные года Нас не станут ревновать. Хорошо к летам твоим Старость пристегнуть шутя; Без оглядки мы шалим, Словно нянька и дитя. Так резва и так юна, Радость у тебя в крови; Для греха ты зелена, Но созрела для любви. Разве только лишь быка Просит в жертву Купидон? С радостью наверняка И ягненка примет он. Ты увянешь, может быть, Не отпраздновав расцвет; Но умеющим любить Не страшны угрозы лет. Чем бы ни дразнило нас Время – добрым или злым, Предвосхитим добрый час Или злой – опередим. Дабы избежать вреда От интриг и мятежей, В колыбели иногда Коронуют королей. Так, друг друга увенчав, Будем царствовать вдвоем, А ревнующих держав Притязанья отметем!Сад
Как людям суемудрым любо Венками лавра, пальмы, дуба, Гордясь, венчать себе главу, На эту скудную листву, На эти жалкие тенёты Сменяв тенистые щедроты Всех рощ и всех земных садов – В гирляндах листьев и плодов! Здесь я обрел покой желанный, С любезной простотой слиянный; Увы! Я их найти не мог На поприще земных тревог. Мир человеческий – пустыня, Лишь здесь и жизнь и благостыня, Где над безлюдьем ты царишь, Священнодейственная тишь! Ни белизна, ни багряница С зеленым цветом не сравнится. Влюбленные кору дерев Терзают именами дев. Глупцы! Пред этой красотою Возможно ль обольщаться тою? Или под сенью этих крон Древесных не твердить имен? Здесь нам спасенье от напасти, Прибежище от лютой страсти; Под шелест этих опахал Пыл и в бессмертных утихал: Так Дафна перед Аполлоном Взметнулась деревцем зеленым, И Пана остудил тростник, Едва Сирингу он настиг. В каких купаюсь я соблазнах! В глазах рябит от яблок красных, И виноград сладчайший сам Льнет гроздами к моим устам, Лимоны, груши с веток рвутся И сами в руки отдаются; Брожу среди чудес и – ах! – Валюсь, запутавшись в цветах. А между тем воображенье Мне шлет иное наслажденье: Воображенье – океан, Где каждой вещи образ дан; Оно творит в своей стихии Пространства и моря другие; Но радость пятится назад К зеленым снам в зеленый сад. Здесь, возле струй, в тени журчащих, Под сенью крон плодоносящих, Душа, отринув плен земной, Взмывает птахою лесной: На ветку сев, щебечет нежно, Иль чистит перышки прилежно, Или, готовая в отлет, Крылами радужными бьет. Вот так когда-то в кущах рая, Удела лучшего не чая, Бродил по травам и цветам Счастливый человек Адам. Но одному вкушать блаженство – Чрезмерно это совершенство, Нет, не для смертных рай двойной – Рай совокупно с тишиной. Чьим промыслом от злака к злаку Скользят лучи по Зодиаку Цветов? Кто этот садовод, Часам душистым давший ход? Какое время уловили Шмели на циферблате лилий? Цветами только измерять Таких мгновений благодать!Разговор между душой и телом
Душа: О, кто бы мне помог освободиться Из этой душной, сумрачной Темницы? Мучительны, железно-тяжелы Костей наручники и кандалы. Здесь, плотских Глаз томима слепотою, Ушей грохочущею глухотою, Душа, повешенная на цепях Артерий, Вен и Жил, живет впотьмах, – Пытаема в застенке этом жутком Коварным Сердцем, немощным Рассудком. Тело: О, кто бы подсобил мне сбросить гнет Души-Тиранки, что во мне живет? В рост устремясь, она меня пронзает, Как будто на кол заживо сажает, – Так что мне Высь немалых стоит мук; Ее огонь сжигает, как недуг. Она ко мне как будто злобу копит: Вдохнула жизнь – и смерть скорей торопит. Недостижим ни отдых, ни покой Для Тела, одержимого Душой. Душа: Каким меня Заклятьем приковали Терпеть чужие Беды и Печали? Бесплотную, боль плоти ощущать, Все жалобы телесные вмещать? Зачем мне участь суждена такая: Страдать, Тюремщика оберегая? Сносить не только хворь, и бред, и жар, Но исцеленье – это ль не кошмар? Почти до Порта самого добраться – И на мели Здоровья оказаться! Тело: Зато страшнее хворости любой Болезни, порожденные Тобой; Меня то Спазм Надежды раздирает, То Лихорадка Страха сотрясает; Чума Любви мне внутренности жжет, И Язва скрытой Ненависти жрет; Пьянит Безумье Радости вначале, А через час – Безумие Печали; Познанье Скорби пролагает путь, И Память не дает мне отдохнуть. Не ты ль, Душа, так обтесала Тело, Чтобы оно для всех Грехов созрело? Так Зодчий поступает со стволом, Который Древом был в Лесу Густом.Маргарита Кэвендиш, Герцогиня Ньюкасльская (1623–1674)
Дочь сэра Томаса Лукаса. Отец и трое ее братьев погибли, сражаясь на стороне короля. Маргарита была назначена фрейлиной королевы Генриетты-Марии, с которой последовала в изгнание в Париж. Там она вышла замуж за Уильяма Кэвендиша, герцога Нью-Касльского. Начала публиковать стихи и прозу в середине 1650-х годов – сперва в Париже, а после Реставрации – в Лондоне. Стяжала славу чрезвычайно эксцентричной дамы. Среди ее многочисленных работ: «Заметки по экспериментальной философии» (то есть по физике), множество пьес и трогательное жизнеописание покойного мужа.
Маргарита Кэвендиш, герцогиня Ньюкасльская. Миниатюрный портрет XVII в.
Эпитафия любовной теме
Любовь, как ты замучена стихами! Была ты садом с райскими плодами. Но с той поры так много рифмачей Снимало урожай с твоих ветвей, Что здесь и сливу не найти простую… Все, все вокруг обобрано вчистую!Александр Поп (1688–1744)
Сын лондонского купца, Поп получил, в основном, домашнее образование. Ни преследовавшие его с детства недуги, ни сомнительное для тех времен католическое вероисповедание не помешали Попу сделаться профессиональным литератором, самым авторитетным поэтом
своей эпохи. Его «Опыт о критике» (1711) – манифест английского классицизма. Шедевром ироикомического жанра является поэма «Похищение локона» (1712, 1714), соединившая галантный стиль рококо с сатирой и тонким психологизмом. Попа называли Горацием своего времени. Центральное его произведение – «Опыт о человеке» (1733–1734), в котором человек изображается как соединение противоположных начал, «перешеек» между двумя мирами. По мнению автора, ему не остается ничего лучшего, чем следовать правилу «золотой середины».
Александр Поп. Гравюра Джорджа Вертью, ок. 1715 г.
Познай себя (Из поэмы «Опыт о человеке»)
Познай себя, Бог чересчур далек; Ты сам есть заданный тебе урок. Ты – перешеек, а не материк: Отчасти мудр, сравнительно велик. Противоречья вечного пример, Для скептика ты – слишком маловер, Для стоика – хребтом и волей слаб; И сам не знаешь, царь ты или раб. Что в тебе выше, дух иль плоть, скажи, Живой для смерти, мыслящий для лжи? Чем больше напрягаешь разум ты, Тем дальше от заветной правоты. О путающий сердце с головой, Вредитель вечный – и спаситель свой; Клубок страстей, игралище сует; Владыка мира, жертва мелких бед; Творения ошибка и судья – Венец, каприз и тайна бытия!
Ричард Джейго (1715–1781)
Родился в семье священника и всю жизнь, за исключением лет учения, прожил в своем родном графстве Уорвикшир. Будучи студентом в Оксфордском университете, подружился с Уильямом Шенстоуном, повлиявшим на него не только как поэт, но и как энтузиаст ландшафтного художества. С 1754 года Джейго исправлял должность викария в Сниттерфильде, возделывая и украшая свой сад и территорию церкви. Главное его поэтическое произведение – поэма в четырех книга о битве при Эдж-Хилле (в южной части Уорвикшира) во время гражданской войны 1642 года.
Ричард Джейго. Миниатюрный портрет XVIII в.
Подражание монологу Гамлета
Печатать или нет – вот в чем вопрос; Что благородней – запереть в сундук Ростки и россыпи своих фантазий Иль, набело листки переписав, Отдать печатнику? Издать, издаться – И знать, что этим обрываешь цепь Бессонниц, колебаний и терзаний Честолюбивых… Как такой развязки Не жаждать? Напечатать – и стоять, Сверкая корешком, бок о бок с Пóпом! Иль, может, покрываться паутиной Средь стихоплетов нудных? – Вот в чем трудность! Какой судьбе ты будешь обречен, Когда в безгласный томик обратишься? Вот в чем загвоздка. Вот что заставляет Поэта колебаться столько лет. Иначе кто бы вынес прозябанье В глухой безвестности, мечты о славе, Зуд авторства – и, более всего, Друзей своих обидные успехи, Когда так просто сводит все концы Станок печатный? Кто бы плелся с ношей, Под бременем ума изнемогая, Когда б не страх пред высотой Парнасской – Страной, откуда мало кто вернулся С венком лавровым, – воли не смущал, Внушая нам, что лучше жить безвестно, Чем сделаться посмешищем для всех. Так критики нас обращают в трусов, И так румянец свеженьких поэм Хиреет в груде ветхих манускриптов, И стихотворцы, полные огня, Высоких замыслов и вдохновенья, Робея пред издательским порогом, Теряют имя авторов…Алфавит творения Кристофера Смарта
История посмертной славы Кристофера Смарта – типичная притча о поэте. Когда в 1771 году поэт умер, память об эксцентричном маленьком человечке еще сохранялась какое-то время в лондонской литературной среде, к которой он принадлежал, но вскоре, вместе с его произведениями, канула в забвение. Хотя Вордсворт и Саути знали его имя и даже цитировали порой его строки, по-настоящему открыл Смарта только Роберт Браунинг. Через сто лет после смерти поэта он случайно прочел «Песнь к Давиду» – и был ошеломлен ее красотой и мощью. Зная, что поэма писалась в период пребывания Смарта в сумасшедшем доме, Браунинг заключил, что гениальность поэмы есть чудо, сотворенное безумием.
Уильям Вордсворт. Рис. Генри Эдриджа, 1805–1806 г.
Эту романтическую теорию Браунинг развил в своем драматическом монологе «Кристофер Смарт», включенном в книгу «Разговоры с разными известными в свое время людьми». Посредственный поэт, сочинитель километров скучных стихов, внезапно теряет рассудок и в припадке безумия, лишенный тюремными смотрителями пера и бумаги, ключом на стене чертит гениальную поэму, достойную стоять рядом с творениями Мильтона и Китса. Затем рассудок к нему возвращается, но возвращается и посредственность: из гения он снова становится стихоплетом. Таков сюжет, рассказанный Браунингом. Как бы то ни было, впечатление он произвел: на небосводе поэзии неожиданно зажглась новая звезда. Появилось много новых изданий «Песни к Давиду». Данте Габриэль Россетти называл ее лучшей поэмой восемнадцатого века. Вместе с тем никто не потрудился серьезно изучить жизнь и творчество Кристофера Смарта и тем самым проверить созданную о поэте легенду. Это было сделано почти сто лет спустя. Только в 1939 году под названием «Радуйтесь во Агнце. Песни из Бедлама» были опубликованы рукописи самого оригинального и таинственного произведения Смарта «Jubilate Agno», написанного, как и «Песнь к Давиду», в сумасшедшем доме. Еще через пятнадцать лет был найден ключ к правильной их реконструкции. Однако вернемся к началу, то есть к жизни поэта.
Смарт родился недоношенным и в детстве был хил. Болезненному ребенку для поправки давали понемногу вино, и к этому некоторые биографы возводят развившуюся впоследствии склонность, которую современник деликатно назвал «некоторыми отклонениями от правил трезвости». Детство, проведенное в деревне, укрепило здоровье Кристофера и научило его видеть и понимать природу. Стихи он стал писать чуть не с трех лет, окруженный сестрами и сочувствующими женщинами; влюблялся в девочек старше себя, а в тринадцать лет едва не сбежал с дочерью местного лорда, намереваясь тайно с ней обвенчаться; но беглецов вовремя задержали. Свою юношескую любовь он не забыл и много лет спустя трогательно поминал в стихах леди Анну (Анну Хоуп, по мужу). Смарт учился в Кембриджском университете, где стяжал многие отличия как отличный студент и первый поэт Кембриджа. В течение ряда лет, уже живя в Лондоне, он участвовал в поэтическом конкурсе на тему об атрибутах Всевышнего и ежегодно получал по тридцать фунтов стерлингов в качестве приза: в первый раз за стихи о Вечности Верховного Существа, в другой – о его Огромности, в третий – о его Могуществе, и так далее.
До двадцати лет Кристофер не знал особых финансовых забот, поддерживаемый родными и лордом Вейном; но по небрежности он быстро растранжирил свой небольшой капитал и был принужден отправиться в Лондон зарабатывать на жизнь собственным пером. С этого времени начинаются годы тяжелой литературной поденщины. Он пишет стихи, поэмы, статьи и рассказы для журналов, детские книги, тексты для песен и ораторий, переводит Овидия, Псалмы Давида. К тридцати пяти годам на него все чаще находят болезни, периоды бессилья и нездоровья. В конце 1758 года он попадает в частную лечебницу для душевнобольных. Жена бросает его, забрав двух дочерей, которых она, ревностная католичка, вскоре посылает учиться в монастырскую школу во Францию. Ему еще суждено будет выйти (через три года) из лечебницы, писать и бороться с нуждой, издать свою «Песнь к Давиду» и, все глубже погружаясь в пучину неплатежеспособности, кончить свои дни в долговой тюрьме. Грустная, хотя совсем не исключительная история поэта.
Но за что же Смарта посадили в сумасшедший дом? Насколько мы знаем, только за то, что он молился Богу. Причем в любых, самых неподходящих местах – например, на улице, внезапно опустившись на колени. Или мог зайти к друзьям и поднять их с постели, из-за стола, оторвать от дел, чтобы призвать помолиться вместе, чистосердечно и радостно восславить Творца. Как писал его современник доктор Сэмюэль Джонсон: «Хотя, логически рассуждая, совсем не молиться – еще большее безумие, боюсь, немолящихся развелось столько, что их здравый ум уже никто не ставит под сомнение».
Итак, безумие Смарта, кажется, состояло лишь в том, что он принимал au pied de la lettre (т. е. буквально) слова Спасителя, что молиться надо непрестанно. И за это угодил в сумасшедший дом. Методы, которыми «лечили» в таких заведениях, бывали довольно варварскими, особенно на первых порах, когда требовалось сломать «упрямство» больного. Нельзя без содрогания читать такие, например, записи в смартовских «Ликованиях»:
Да возрадуется Петр с Рыбой-луной, являющейся по ночам в глубине водной.
Ибо я молю Господа Иисуса, исцелившего бесноватого, смилостивиться над братьями моими и сестрами в этих домах скорби.
Да возрадуется Андрей с Китом, в одеяниях синего цвета, который есть сочетание неповоротливости и проворства.
Ибо они обращают против меня свое железо гарпунное, потому что я беззащитнее прочих.
«Ликования» Кристофера Смарта – своего рода дневник его более чем трехлетнего пребывания в лечебнице. Он заносил тезис («Да возрадуется…») и объяснение («Ибо…») на разные листы, создавая подобие двухголосия, антифонного церковного пения. Изготовлены «Ликования» по следующему методу. Смарт брал какое-нибудь имя из Библии или апокрифов, например, Иаков; добавлял к нему какое-нибудь божье творение – птицу, рыбу или растение, взятое из Плиния или другой ученой книги, – например, Каракатицу; и затем приводил некое свойство этого творения. Получалось то, что его комментаторы называют «да-стихом»: «Да возрадуется Иаков с каракатицей-Рыбой, обманывающей врага изверженьем чернильным». Далее он делал применение к себе – «ибо-стих», ассоциативно связанный с «да-стихом»:
«Ибо благословение божие на моих посланиях, которые я написал на пользу ближнему». (Не все листы сохранились: поэтому в одних случаях мы имеем списки только «да-стихов» или только «ибо-стихов», полных же «да-и-ибо-стихов» в рукописи – меньшая часть.)
«Ликования» – это своего рода модернизм восемнадцатого века. С одной стороны, Смарт безусловно принадлежит к ряду религиозных писателей, «играющих в Господе», сочетающих благочестие с юродством, эксцентрикой (Франциск Ассизский – очевидный пример). Добавьте к этому его оригинальный космизм, его адамизм – называние вещей, а также эвфонизм – наслаждение самим звуком имен. «За блаженное, бессмысленное слово я в ночи советской помолюсь», – писал Мандельштам. Именно этим словом упивается Кристофер Смарт. Откуда он его берет? Отовсюду – из Плиния, из апокрифов, из бестиариев и описателей растений и драгоценных камней, из списка подписчиков на собственные произведения (магия фамилий!) «Да возрадуется Шелумиил с Олором, коего облик умиротворяет, а вкус ублажает». Между прочим, Олор означает на латыни «лебедь». – «Ибо житие мое добродетельно между клевещущими», – заключает Смарт – и мы видим сияющий облик Олора-лебедя, слышим зубовный скрежет этих безымянных «клевещущих». Они не понимают чрезмерной радости этого безумца. Между тем радость Смарта избыточна, потому что она – от избытка:
Да возрадуется Симон с Кильками, чистыми и бесчисленными, Ибо я благословляю Господа своего Иисуса в его бесчисленных твореньях.Существуют многочисленные и красноречивые параллели между «Ликованиями» Смарта и английской поэзией нонсенса. Тот же Олор, радующийся (вместе с Шелумиилом) тому, что «его вкус ублажает», – не родня ли он кэрролловской черепахе, восхвалявшей черепаховый суп?
Сравните бестиарии, авиарии и гербарии Лира с таковыми же Смарта, и мы увидим много общего. Кажется, что оба поэта радуются просто тому, что все это есть, что это все можно вызвать к бытию словесным заклинанием, что всего этого так много и что радость эта похожа на радость и хаос творения. Вспомним «бессмысленные» названия мест в лимериках («Жил-был старичок из Гонконга, танцевавший под музыку гонга…», «Жил мальчик вблизи Фермопил, который так громко вопил…»), необходимые лишь для рифмы. Смарт идет дальше: ему не нужно даже предлога, чтобы засыпать нас грудами невероятных, диковинных слов и имен!
Напомним, что «Ликования» Смарта появились на сто лет раньше лировских «Книг нонсенса» с их зоологическими алфавитами и «дурацкой ботаникой», на сто пятьдесят раньше «Книги зверей для несносных детей» Хилэра Беллока.
К сожалению, не сохранилось портретов кота Джеффри, верного товарища Смарта по заключению, но можно радоваться, что он вошел в избранное общество самых знаменитых котов английской литературы. Вот как описывает его Смарт в сплошных «ибо-стихах»:
Ибо рассмотрим кота моего Джеффри.
Ибо он слуга Бога живого, служащий ему верно и неустанно.
Ибо при первом проблеске Божьих лучей на востоке он творит поклонение.
Ибо он творит это, семь раз выгибая свою спину превосходно и ловко.
Ибо он подпрыгивает, чтобы уловить мускус, благословенье Божие молящемуся.
Ибо он свертывается в клубок, чтобы этот мускус впитался.
Ибо по свершении долга и принятии благословения приходит время заняться собой.
Ибо он совершает это в десять приемов.
Ибо, во-первых, он рассматривает передние лапки, проверяя, чисты ли они.
Ибо, во-вторых, он выгибает свое заднее и отряхивается.
Ибо, в-третьих, он мощно и всласть потягивается.
Ибо, в-четвертых, он точит когти о дерево.
Ибо, в-пятых, он умывается.
Ибо, в-шестых, он свертывается, помывшись.
Ибо, в-седьмых, он ловит блох, чтобы они ему не докучали во время охоты.
Ибо, в-восьмых, он трется спиной о дверной косяк.
Ибо, в-девятых, он смотрит вверх, ожидая подсказки.
Ибо, в-десятых, он отправляется что-нибудь промыслить.
Ибо, отдав должное Богу и своим нуждам, он отдает должное и ближнему.
Ибо, встретив другую кошку, он ее нежно целует.
Ибо, поймав свою жертву, он играет с ней, чтобы дать ей шанс убежать.
Ибо одна мышка из семи ускользает его попущением.
Ибо, когда дневные труды завершаются, начинается его настоящее дело.
Ибо он несет дозор Божий против супостата.
Ибо он противостоит силам тьмы своей электрической шкуркой и сверкающими глазами.
Ибо он противостоит Дьяволу, сиречь смерти, своей живостью и проворством.
Ибо в своем утреннем сердце он любит солнце и оно его любит.
Ибо он из племени Тигра.
Ибо Кот Херувимский есть прозвание Тигра Ангельского.
Ибо в нем есть хитрость и шипенье змеиное, которые он, в своей доброте, подавляет.
Ибо он не сотворит дела лихого, пока сыт, и без причины злобно не фыркнет.
Ибо он благодарно мурлычет, когда Бог ему говорит, что он хороший котик.
Ибо он пример для малышей, на котором они учатся великодушию.
Ибо всякий дом без него пуст и благословение в духе не полно.
Ибо Господь наказал Моисею о кошках при исходе Сыновей Израилевых из Египта.
Ибо английские коты – самые лучшие во всей Европе.
Ибо он твердо стоит на своем.
Ибо он помесь важности с дуракавалянием.
Ибо он знает что Бог – его Спаситель.
Уистен Оден включил ликования о коте Джеффри в свою антологию английской поэзии, и надо думать, что Джеффри вкушает свой заслуженный покой в компании с Пангуром, воспетым средневековым ирландским монахом, и толстым Фоссом, отрадой и спутником последних лет Эдварда Лира (портрет этого кота был недавно помещен на британской марке – рядом с профилем королевы).
Параллелей между Смартом и Эдвардом Лиром набирается и больше. Скажем, если Смарт громогласно молится прямо на улице, восклицая непонятные слова, то разве он не похож на того старичка в Девоншире, что распахивал окна пошире и кричал: «Господа! Трумбаду-трумбада!» – ободряя народ в Девоншире?
Мне показалось уместным отметить эти черты сходства, важные для генеалогии английской поэзии нонсенса. Никогда не будет лишним подчеркнуть, что нонсенс – не маргинал в литературе, а из хорошего роду и кровно связан с поэзией священной и романтической. Алфавит творения Смарта, его «Ликования», стоят посередине между библейской традицией именования и средневековыми бестиариями, с одной стороны, и веселыми азбуками Эдварда Лира и его последователей, с другой, – обозначая важную точку скрещения жанров и традиций.
Кристофер Смарт принадлежит к тем людям, родившимся как бы не вовремя, без которых история литературы была бы пресным расписанием литературных стилей. Тот же Сэмюэль Джонсон, когда его спросили, кто крупней как поэт, Деррик или Смарт, ответил: «Трудно выбирать между вошью и блохой». Зато девятнадцатый век заново открыл «Песнь к Давиду» Смарта, жемчужину высокого романтического вдохновения. А двадцатый век расшифровал и опубликовал его «Ликования», написанные в скорбном доме, – призывы ко всему роду человеческому возрадоваться со всяким Божьим творением. Не тем же ли самым закончил Оден свою знаменитую элегию на смерть Йейтса? –
In the prison of his days Teach the free man how to praise. В заточненье наших дней Научи хвале людей.Кристофер Смарт (1722–1771)
Jubilate agno: песни из Бедлама
I
[ИЗ ФРАГМЕНТА В]
Да возрадуется Елицур с Куропаткой, в узах обретающейся, сторожей восхваляющей.
Ибо я не безначален в своей печали, но повинуюсь ради славы имени Божьего.
Да возрадуется Шедеур с Саламандрой, живущей в огне, как Господь ей назначил.
Ибо благословен Бог, коего имя Ревнующий – он ревнует об избавлении нас от пламени вечного.
Да возрадуется Шелумиил с Олором, коего облик умиротворяет, а вкус ублажает.
Ибо бытие мое добродетельно между клевещущими и память обо мне взойдет благоуханием к Господу.
Да возрадуется Иаиэль с Ржанкой, что свищет во спасение свое и одурачивает охотников с ружьями,
Ибо благословен Князь Мира и да будут все ружья пригвождены высоко на стене, кроме тех, что служат ликованию праздничному.
Да возрадуется Рагуил с Петухом Португальским. Пошли, Боже, благих ангелов союзникам Англии.
Ибо я воздерживаюсь от крови лозы виноградной, даже за столом Господним.
Да возрадуется Агарь с Гнесионом, который есть истинный вид орла, ибо он гнездится всех выше.
Ибо благословен Господь в грядущих поколениях, которые будут на моей стороне.
Да возрадуется Ливний с Коростелем, который не перелетает, но переводится ангелом в области райские.
Ибо я переводил по любви и ради умноженья блага, и сам буду в конце концов переведен.
* * *
Да возрадуется Петр с Рыбой-Луной, являющейся по ночам в глубине водной.
Ибо я молю Господа Иисуса, исцелившего бесноватого, смилостивиться над братьями моими и сестрами в этих домах скорби.
Да возрадуется Андрей с Китом, в одеяниях синего цвета, который есть сочетание неповоротливости и проворства.
Ибо они обращают против меня свое железо гарпунное, потому что я беззащитнее прочих.
Да возрадуется Иаков с Каракатицей-Рыбой, обманывающей врага изверженьем чернильным.
Ибо благословение Божие на моих посланиях, которые я написал на пользу ближнему.
Да возрадуется Иоанн с Наутилусом, который распускает парус и ударяет веслом, и Господь его лоцман,
Ибо Я благодарю Бога за то, что ЦЕРКОВЬ АНГЛИЙСКАЯ одна из СЕМИ в подсвечнике Божьем.
Да возрадуется Филипп с Рыбой Бокой, умеющей говорить.
Ибо АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК станет языком ЗАПАДА.
Да возрадуется Матфей с Пучеглазиком, чьи очи повернуты к Господу.
Ибо я любопытен в Боге и защищаю мудрость Писания против праздных выдумок.
Да возрадуется Иаков младший с Трескою, принесшей денежку Иисусу и Петру.
Ибо из глаз Божьих падают сети, уловляющие людей к их спасению.
Да возрадуется Иуда с Лещом, рыбой меланхолической, живущей в глубине незамутненной.
Ибо я вмещаю больше веселия и печали, чем другие.
Да возрадуется Симон с Кильками, чистыми и бесчисленными.
Ибо я благословляю Господа своего Иисуса в его бесчисленных твореньях.
Да возрадуется Матафий с Летучими Рыбами, что в родстве с птицами небесными, потому что они – выдумка ума возвышенного.
Ибо я огражден и вооружен Господом, как Томас Беккет, отец мой.
* * *
Ибо дьявол имеет больше власти зимой, потому что тьма преобладает.
Ибо Солнце есть разум и ангел в образе человеческом.
Ибо Луна есть разум и ангел в образе женском.
Ибо каждую ночь они вместе духом, как муж и жена.
Ибо Справедливость бесконечно ниже Милосердия по природе и действию.
Ибо даже Дьявол может быть справедлив в обвинении и наказании.
Ибо моя жена – ЩЕДРОСТЬ ангельская, приведи, Господи, ее ко мне или меня к ней.
Ибо я газетчик у Господа, евангельский писарь. Благослови, Боже, вдову Митчелл, Гана и Гранджа.
Ибо полное брюхо не поет, но растянутые кишки производят приятные звуки.
Ибо душа разделима и порция духа может быть отрезана от одного и приставлена к другому.
Ибо мой талант – в придавании словам нужной формы посредством хорошего тумака, чтобы читатель вынул образ готовый из формы, в которую он мною отлит.
Радость (из «Гимнов, написанных на забаву детворе»)
Дитя, скорей с постели встань, И башмачки надень: Еще кругом – такая рань, Но всюду свет, куда ни глянь, И всюду Божий День. Довольно, ждать невмоготу! Помчимся со всех ног Смотреть на Божью красоту – Там, где терновник весь в цвету Белеет вдоль дорог. Луг в первоцветах золотых, И козлик у моста, И зяблик в зеленях густых – Все славят Ангелов Святых И Господа Христа. Броди, гуляй меж трав и стад И птахам подпевай; Глазей на новеньких ягнят, Но бойся буйных жеребят – Лягнутся невзначай. Дрожит на щеках солнца нить, Смеются облака; Творца Вселенной восхвалить И бесов мрачных посрамить – Вот радость велика!Уильям Купер (1731–1800)
Купер получил юридическое образование в Лондоне и имел возможность сделать хорошую карьеру. Однако душевная болезнь, связанная, как говорят, с несчастной любовью, расстроили эти планы. Год, проведенный в лечебнице в Сент-Олбансе, принес облегчение, но маниакальные периоды еще несколько раз повторялись, омрачив всю дальнейшую жизнь поэта. Главным произведением Купера считается его лирико-созерцательная поэма «Задача» (1785), но он также хорош в комическом жанре (например, знаменитая баллада «Скачка Джон Гилпина») и в трагическом («Смытый за борт»).
Уильям Купер. С картины Томаса Филипса, 1807 г.
Смытый за борт
Вал атлантический бурлил, Клубилось небо тьмой, Когда, изгой судьбы, я был Смыт с палубы волной, – Друзей и прошлого лишен, Ревущей бездной оглушен. О, никогда до этих пор Английская земля Не провожала на простор Отважней корабля. Он был скитальцу словно дом… О лютый холод за бортом! Не струсил опытный пловец, Но бурен был поток, Он бился с ним – и наконец В боренье изнемог. Катящийся навстречу вал Его все чаще накрывал. Он крикнул; но, летя вперед, Тисками ветра сжат, Корабль не мог сдержать свой ход, Ни повернуть назад. Друзья слыхали жалкий крик: Но риск был чересчур велик. Они еще могли успеть Товарищу швырнуть Бочонок, сломанную клеть, Канат какой-нибудь, – Хоть знали: в этот страшный час Его бы и Нептун не спас. Жестоко? Но валы неслись, Подобные горам; Он знал: друзья могли спастись, Лишь покорясь ветрам. Но горько, горько все равно – Вблизи своих – идти на дно. И целый час, совсем один, В бессмысленной борьбе Он средь бушующих пучин Противился судьбе; Потом: «Прощайте!» – прокричал – И понял все, и замолчал. И больше шквал не доносил К оставшимся в живых Тот голос, из последних сил На помощь звавший их: Моряк напился допьяна – И одолела глубина. Увы! никто не зарыдал, Погибшему вослед, Лишь имя занесли в журнал И сколько было лет: Лишь пара этих скромных строк – Его бессмертия залог. А впрочем, я не для того Поведал свой рассказ, Чтоб выжать с помощью его Слезу из ваших глаз: Но есть отрада на краю – В чужой беде узреть свою. Ни голос, что смирил бы шквал, Ни путеводный свет – Никто пути не указал Из моря наших бед: Поодиночке гибнем мы В клубящихся пучинах тьмы.Сноски
1
Cf. Skelton: The Critical Heritage. P. 100.
(обратно)2
Ibid. P. 99.
(обратно)3
Увы, увы мне! (лат.)
(обратно)4
К господу возвал я в скорби своей (лат.) Пс. 119/120.
(обратно)5
Возвожу очи мои к горам (лат.) Пс. 120/121.
(обратно)6
H.A. Mason. Sir Thomas Wyatt. A Literary Portrait. 1986. Pp. 12–3.
(обратно)7
Считается, что гравированное изображение Уайетта на книге Джона Лиленда «Neniae in Mortins Thomae Viati» восходит к второму, недошедшему до нас гольбейновскому портрету. На этой же гравюре основан портрет Уайетта в Национальной портретной галерее в Лондоне. См. В. А. Пахомова, цит. соч., 221.
(обратно)8
A.K. Foxwell. A Study of Sir Thomas Wyatt’s Poems. 1911.
(обратно)9
Raymond Southall. The Courtly Maker. Oxford, 1964. Pp. 175–6.
(обратно)10
Honi soi qui mal y pence (иск. фран.) – «Стыдно тому, кто плохо об этом подумает», девиз Ордена Подвязки, вошедший в английский королевский герб.
(обратно)11
Комментарий к этой картинке см. дальше в статье «Притча об олене».
(обратно)12
В некоторых из приведенных отрывков мы восстановили места, выкинутые Гаскойном в процессе самоцензуры, использовав более ранний вариант повести «Рассказ о том, что приключилось с мистером Ф. Дж.» (1573).
(обратно)13
В оригинале “Loath to depart” – популярная баллада о расставании друзей.
(обратно)14
Имеется в виду одиннадцатая статья кодекса любви Андреаса Капеллануса.
(обратно)15
Jones, Emrys, ed. The New Oxford Book Sixteenth Century Verse. 1991. P. xxxiii.
(обратно)16
Grimald Nicolas, «The Printer to the Reader». Цит. по кн.: An Anthology of Elizabethan Dedications and Prefaces. Ed. Clara Gebert. N. Y., 1906. P. 29.
(обратно)17
The courtier's, soldier's, scholar's, eye, tongue, sword, / The expectancy and use of the fair state, / The glass of fashion and the mold of form, / The observed of all observers (Hamlet, III, 1).
(обратно)18
An Anthology of Elizabethan Dedications and Prefaces. P. 71.
(обратно)19
«Сонетная лихорадка» начала 1590-х годов вошла в историю английской поэзии. За несколько лет были созданы сонетные циклы «Делия» Даниэля, «Диана» Генри Констэбля, «Идея» Дрейтона, «Фелида» Лоджа, «Аморетти» Спенсера, «Личия» Джайлза Флетчера, «Кэлия» Уильяма Перси, «Партенофил и Партенофа» Барнаби Барнса, «Фидесса» Гриффина, «Лаура» Роберта Тофта, анонимная «Зефирия» и т. д.
(обратно)20
S. Schoenbaum. William Shakespeare: A Compact Documentary Life. Oxford, 1987. P. 176.
(обратно)21
Мифы народов мира. М., 1991. Т. 1. С. 48.
(обратно)22
Coleridge S.T. Biographia Literaria. Ed. George Watson. 1971. P. 177.
(обратно)23
В. Шекспир. Сон в летнюю ночь, II, 1. Пер. О. щепкиной-Куперник.
(обратно)24
Дж. Донн. Эпиталама, сочиненная в Линкольнз-Инне. Пер. Г. Кружкова.
(обратно)25
Дж. Джойс. Улисс Пер. В. Хинкиса и С. Хорунжего. М., 1993. С. 147. Здесь и далее возможны поправки к переводу, которые специально не оговариваются.
(обратно)26
Йейтс У.Б. «Он скорбит о перемене, произошедшей с ним и его любимой и жаждет конца света». Пер. Г. Кружкова.
(обратно)27
Марло К. Сочинения. Пер. ю. Корнеева М., 1961. С. 591.
(обратно)28
Там же. С. 589.
(обратно)29
Там же. С. 591.
(обратно)30
«Низким пусть восхищается чернь: мне же славный Аполлон / чашу чистой влаги кастальской подносит» (лат.). В переводе К. Марло на английский: «Let baseconceived wits admire vile things, / Fair Phoebus lead me to the Muse’s springs» (Ovid, Amores, I, 15.35–36).
(обратно)31
Заметка о «Графе Нулине», 1830. ПСС, VII, c. 156.
(обратно)32
Dennis Kay. William Shakespeare: His Life and Times. N.Y., 1995. P. 116.
(обратно)33
Э. Спенсер. Королева фей. Кн. III, 5, 45. Пер. Г. Кружкова.
(обратно)34
Пер. Г. Кружкова.
(обратно)35
«Ни один из предшественников величайшего из наших поэтов не оказал на его ранний стиль такого влияния, как Лодж», – утверждает Э. У. Госс в своей статье о Томасе Лодже (E.W. Gosse. Memoir of Thomas Lodge // Thomas Lodge, The Complete Works. N.Y., 1963. Vol. I, p. 46). Идея волшебной перемены ролей в любовном поединке была впоследствии реализована Шекспиром в комедии «Сон в летнюю ночь».
(обратно)36
Lauren Silberman. Thrasforming Desire: Erotic Knowledge in Books III and VI of The Fairy Queen. University of California Press, 1995. P. 35.
(обратно)37
Овидий. Метаморфозы, X, 536 / Пер. С. Шервинского.
(обратно)38
George Puttenham. The Arte of English Poesie. L., 1589. P. 4–5.
(обратно)39
У. Рэли. Океан к Цинтии. Пер. Г. Кружкова.
(обратно)40
Дж. Донн. Отречение. Пер. Г. Кружкова.
(обратно)41
Овидий. Метаморфозы, X, 706.
(обратно)42
Л. Кэрролл. Охота на Снарка. Вопль 3. Пер. Г. Кружкова.
(обратно)43
Там же. Вопль 8.
(обратно)44
Rollins, Hyder. The Variorum Shakespeare: The Sonnets, vol. 2 (Philadelephia: Lippincott, 1944). P. 112
(обратно)45
Такого мнения придерживается Сергей Радлов. См. Уильям Шекспир. Сонеты. СПб, Изд-во Ивана Лимбаха, 2008. С. 46–48.
(обратно)46
Джон Донн. Мистеру Т. В. («Ступай, мой стих хромой…»). Перевод Г. К.
(обратно)47
Пастернак Б. Определение творчества.
(обратно)48
Термин К. Ф. Тарановского и М. Л. Гаспарова.
(обратно)49
Здесь и далее курсив используется автором статьи для выделения.
(обратно)50
Фрост, Роберт. Остановившись в лесу в снежных сумерках. Перевод Г. К.
(обратно)51
Перевод Г. К.
(обратно)52
Миссис М<аргарите> Г<ерберт>. Перевод М. Бородицкой.
(обратно)53
Godman, Maureen. Sonnet’s 77’s «waste blanks» and the structure of the Sonnet Sequence // RuBriCa (The Russian and British Cathedra): An International Journal for British Studies. Moscow; Kaluga, 2008. P. 73–81.
(обратно)54
Попеременно (лат.). См. Донн, Джон. Стихотворения. М.: Наука, 2009 (Литературные памятники). С. 162.
(обратно)55
Перевод А. Пиотровского.
(обратно)56
По когтям узнают льва (лат.).
(обратно)57
Оден У. Х. Сонеты Шекспира. Иностранная литература, № 7 (2011). С. 172. Перевод мой (Г. К.)
(обратно)58
Здесь я пишу с маленькой буквы «друга», потому что существование одного единственного адресата сонетов 1–126 для меня лишь гипотеза (Г. К.)
(обратно)59
Последние два сонета – о факеле Эрота – недурные претенденты на эту роль.
(обратно)60
Оден У. Х. Указ. Соч. С. 176–177.
(обратно)61
Валери Поль. Об искусстве. М.: Искусство, 1993. С. 104.
(обратно)62
Это не исключает того, что некоторые сонеты могли быть на отдельных листках.
(обратно)63
Фичино М. Комментарий на «Пир» Платона. О любви // Эстетика Ренессанса. Москва: Искусство, 1981, Том I. С. 159. Перевод А. Горфункеля, В. Мажуги, И. черняка.
(обратно)64
Перевод Г. К.
(обратно)65
Фичино М. Указ. соч. С. 160–161.
(обратно)66
Там же.
(обратно)67
Платон. Диалоги. Книга первая. М.: Эксмо, 2007. С. 727 / Перевод С. К. Апта.
(обратно)68
Здесь мы касаемся темы, бывшей объектом оживленной дискуссии. Анализируя ранние гимны Эдмунда Спенсера «Любовь», «Красота», критики показали, что они близко следуют «Пиру «Платона» и еще ближе «Комментарию» Фичино (Ducke, Joseph. Spenser and Ficino // The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes. Vol. III). С Шекспиром дело обстоит немного сложнее. Тем не менее, обобщая написанное на эту тему, Джозеф Дак заключает: «Если даже мы не можем утверждать наверняка, что Шекспир был непосредственно знаком с работой Фичино, еще менее вероятно, что он не мог познакомиться с идеями этого философа по какому-то другому источнику» (Ducke, Joseph. Shakespeare’s Macbeth and the Fable of Ovid treting of Narcissus by Thomas Hackett // Ibid).
(обратно)69
Сидни Филип. Астрофил и Стелла. Защита поэзии. М.: Наука, 1982 (Литературные памятники). С. 154 / Перевод Л. Володарской.
(обратно)70
Буквально: «…in the intensity of making out conceits.»
(обратно)71
Джон Донн. Восторг (Ecstasy) / Перевод А. Сергеева.
(обратно)72
Все в новой философии – сомненье», – строка из поэмы Джона Донна «Анатомия мира».
(обратно)73
Добавим для полноты картины, что стихотворение переводили и другие поэты XIX века. Михаил Михайлов заменил сосну на ель: «На северном голом утёсе / Стоит одинокая ель…», Аполлон Майков – опять-таки на кедр (но сохранив лермонтовскую «ризу»): «Инеем снежным, как ризой, покрыт, / Кедр одинокий в пустыне стоит…». К варианту с кедром присоединились также Петр Вейнберг и Василий Гиппиус.
(обратно)74
Филип Сидни, «Астрофил и Стелла», 7.
(обратно)75
Перевод С. Шервинского.
(обратно)76
Перевод А. Пиотровского.
(обратно)77
Перевод А. Парина.
(обратно)78
Другое мнение см. в статье: Елиферова М. Какими языками владел Шекспир? // Шекспировские чтения, 2010. Москва, 2010. С. 86–107.
(обратно)79
Фрэнсис Йейтс, которая усердно занималась ренессансной герметической традицией, уверена, что Шекспир был знаком с книгами Бруно, изданными в Англии. Cf. Yates, Frances. A Study of Love’s Labours Lost. London, Routledge, 1973. А также: Йейтс Фрэнсис. Джордано Бруно и герметическая традиция. Москва // Новое литературное обозрение, 2000.
(обратно)80
Там же. С. 53.
(обратно)81
Бруно использует особую форму сонета с тройной рифмой в начале и рифмованными двустишьями в середине сонета и в конце: abababcc dedeff.
(обратно)82
Ср. у Роберта Фроста: “Which makes the war god seem no special dunce / For always fighting on both sides at once” (from “Lesson For Today”).
(обратно)83
Аникст А. А. Шекспир. М.: Молодая гвардия, 1964 (Жизнь замечательных людей) С. 100.
(обратно)84
Vendler, Helen. The Art of Shakespeare’s Sonnets. Cambridge, Massachusetts; London: Harvard University Press, 1997. P. 1–3.
(обратно)85
Donne, John. The Elegies and the Songs and Sonnets. Ed. Helen Gardner. Oxford: Clarendon Press, 1965.
(обратно)86
Гаспаров М. Л. Избранные труды в 4 тт. Том 1. О поэтах. М., Языки современной культуры, 1997. С. ххх
(обратно)87
Сообщение Е. В. Пастернак за совместном заседании Шекспировской и Пастернаковской комиссии 20 апреля 2009 г. Не опубликовано. Интересно, что «в то же время Пастернаку удалось издать драму Клейста «Принц Фридрих Гомбургский», которая в 1930-е годы считалась апофеозом прусской военщины» (из того же сообщения).
(обратно)88
<О.С. Маршаке> // Карабчиевский Юрий. Воскресение Маяковского. Эссе. М., 2000. С. 243–250.
(обратно)89
Вейдле Владимир. О поэтах и поэзии. Париж, 1973. С. 156.
(обратно)90
Борис Хазанов вспоминает, как он был арестован в 1939 году и приговорен к 8 годам тюрьмы. На следствии среди других улик был и чрезвычайно крамольный 66-й сонет, который следователь счел его собственным произведением (Октябрь, № 10, 1999).
(обратно)91
Эта статья написана на десять лет раньше, чем я перевел «Короля Лира» и написал свои переводческие заметки (см. дальше в этой книге), в которые я инкорпорировал часть материала, вошедшего в статью о Томе из Бедлама. Попытки избежать это дублирование неминуемо повредили бы композиции или той, или этой статьи. Поэтому, перепечатывая старую статью, как она есть, прошу прощения у читателя за эти повторения.
(обратно)92
Самый ранний источник текста «Песни Тома из Бедлама» – рукописная «Книга Джайлса Эрла», датируемая 1615 годом. Баллада была перепечатана (с незначительными вариантами) в сборниках: Wit and Drollery (1656), Le Prince d'Amour (1660), Westminster Drollery (1672). Данные взяты из статьи: «Loving Mad Tom» /Graves, Robert. The Crowning Privilege. N. Y., 1956.
(обратно)93
Levi, Peter. The Life and Times of William Shakespeare. L., 1988.
(обратно)94
Здесь и далее отрывки из «Короля Лира» даются в переводе Б. Пастернака.
(обратно)95
В переводе Пастернака сказано: «напущу на себя грусть». Мы позволили себе изменить «грусть» на «вздохи и меланхолию», как в оригинале.
(обратно)96
Одна из загадок биографии Шекспира: в те же дни умер брат Вильяма Шекспира, Эдмунд (!), тоже актер (похоронен 31 декабря 1607); о нем нам почти ничего не известно.
(обратно)97
Цит. по кн.: Shakespeare: King Lear. A Casebook. Ed. by F. Kermode. L., 1970. Pp. 37–38.
(обратно)98
Среди великих артистов, исполнявших роль короля Лира, кажется, только Томаззо Сальвини никогда не играл безумие.
(обратно)99
Английский перевод издан в 1612 году.
(обратно)100
John Keats, «On Sitting Down To Read King Lear Once Again».
(обратно)101
Зарубежная поэзия в переводах Б. Л. Пастернака. М., 1990. С. 566.
(обратно)102
Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений. Т. 9. С. 588.
(обратно)103
Зарубежная поэзия в переводах Б. Л. Пастернака. С. 573.
(обратно)104
Там же. С. 573.
(обратно)105
Там же. С. 572.
(обратно)106
Пинский Л. Шекспир: Основные начала драматургии. М., 1971. С. 277.
(обратно)107
См.: Prikhodko, Irina. Lear, Tolstoy, Orwell and Blok / Shakespeare Studies. RuBriCa: An International Journal for British Studies. Moscow; Kaluga, 2008. P. 104–105.
(обратно)108
Толстой Л. Н. что такое искусство? М., 1985. С. 310.
(обратно)109
Lamb C. The Complete Works in Prose and Verse of Charles Lamb. L., 1875. P. 262.
(обратно)110
Coleridge S.T. Lectures and Notes on Shakespeare. L., 1890. P. 330.
(обратно)111
Волошин М. Лики Творчества. Л., 1989. С. 352.
(обратно)112
Там же. 355.
(обратно)113
Jaffa, Harry V. The Limits of Politics: An Interpretation of King Lear, Act I, Scene I. American Political Science Review, LI (1957). 405–427.
(обратно)114
Паскаль Б. Мысли. Афоризмы. М., 2011. Перевод ю. Гинзбург. Здесь и далее в скобках дается номер по изданию Брунсвика. С. 84.
(обратно)115
Там же. С. 169.
(обратно)116
Аникст А. Шекспир. Ремесло драматурга. М., 1970. С. 522–523.
(обратно)117
«An Acre of Grass» (1936).
(обратно)118
P.B. Shelley, «Dirge for the Year»; A. Tennyson, «The Death of the New Year»; T. Hardy, «The Darkling Thrush».
(обратно)119
Хэзлитт У. Застольные беседы. М., 2010. С. 392. Перевод С. Сухарева. С. 376–377.
(обратно)120
Михайлова Т.А. Суибне – гельт, зверь или демон, безумец или изгой. М., 2001. С. 368, 373.
(обратно)121
Там же. С. 354, 355.
(обратно)122
Там же. С. 407.
(обратно)123
Паскаль Б. Цит. соч. С. 169.
(обратно)124
Пинский Л. Цит. соч. С. 274.
(обратно)125
Woman of No Importance, Act III.
(обратно)126
Из письма Э. Дикинсон другу: «Какие еще нужны книги, если есть Шекспир?»
(обратно)127
Цит.: Толстой Л. Н. что такое искусство? С. 288.
(обратно)128
Перевод М. Бородицкой.
(обратно)129
«Сон в летнюю ночь». Акт III, сцена 2. Перевод Т. щепкиной-Куперник.
(обратно)130
«Буря». Акт I, сцена 2.
(обратно)131
«Буря». Акт V, сцена 1.
(обратно)132
«To a Lady, with a Guitar».
(обратно)133
Der Geist Ariel”.
(обратно)134
Mason E. C. Rilke, Europe, and the English-Speaking World. Cambridge, 2011. P. 99–100.
(обратно)135
Соответствует фразе из эпилога «Бури»: «which is most faint».
(обратно)136
Fuller John. A Reader’s Guide to W.H. Auden. L., 1970. P. 157–158.
(обратно)137
«Король Лир», акт III, сцена 7.
(обратно)138
Гильгамеш. В стихотворном переложении Семена Липкина. Песнь XII. Энкиду в преисподней. СПб., 2001. С. 90.
(обратно)139
Здесь для нас важно каждое слово, поэтому даем не поэтический перевод, а подстрочник.
(обратно)140
Лорд Берли (1520–1598) – первый министр Елизаветы и глава английской тайной службы.
(обратно)141
Чувство, наверное, слишком характерное. А. Введенский писал о своем тюремном ощущении времени: «Становится непонятным, что значит раньше и позже, становится непонятным все» (Полн. собр. соч. в двух тт., II, 83).
(обратно)142
«Донн» – таково традиционное русское произношение. Правильней – «Данн», что может означать по-английски «закончил» или даже «погиб». Отсюда неизбежный калабур, от которого никто не мог удержаться (в том числе и сам Донн).
(обратно)143
Цит. по статье «Бен Джонсон. Жизнь и творчество» / И. А. Аксенов. Елизаветинцы. Статьи и переводы. М., «Художественная литература», 1938. С. 36.
(обратно)144
The Penguin Book of Elizabethan Verse. Ed. by Edward Lucie-Smith. Penguin Books, 1965. P. 280.
(обратно)145
Из предсмертной книги Р. Грина «На грош ума, купленного за миллион раскаяний», 1592.
(обратно)146
Edmund Wilson, «Morose Ben Jonson» (1938). Цит. по Ben Jonson. A Collection of Critical Essays. Englewood Cliffs, N. J, 1963. P. 62.
(обратно)147
Примерный перевод:
Вот песня за два пенса Я спеть ее готов: Запек в пирог пирожник Две дюжины дроздов. (обратно)148
См. статью «Сокол по кличке Удача».
(обратно)149
Это название, вероятно, происходит от известного сонника того времени, т. н. «Книги Луны».
(обратно)150
Цит. по книге Salgado G. The Elizabethan Underworld. 1992. P. 189
(обратно)151
Там же. P. 193.
(обратно)152
Тайберн в течение 600 лет служил местом для публичных казней; «Tybern tree» (виселица) такая же идиома в английском, как «Christmas tree» (елка).
(обратно)153
Сэр Генри Уоттон был другом Джона Донна. См. стихотворное послание Джона Донна «Сэр, в письмах душ слияние тесней…» в этом издании.
(обратно)154
Джон Хеминг (ум. 1630) – актер, соредактор (с Г. Конделлом) первого Собрания сочинений Шекспира.
(обратно)155
Генри Конделл (ум. 1627) – актер, друг Шекспира.
(обратно)156
В английском рукописном оригинале на месте этого слова стоит пропуск.
(обратно)157
В привычной русской транскрипции Норич, но я предпочитаю писать Норидж, так правильнее по-английски и рифмуется с порридж (овсяной кашей).
(обратно)
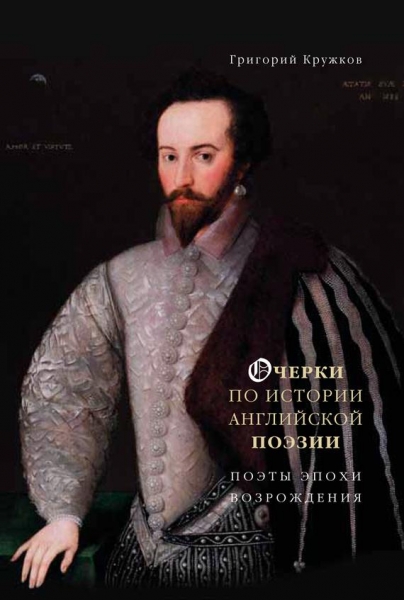
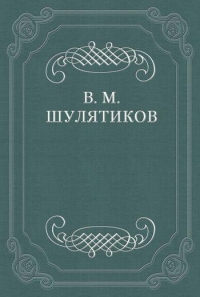

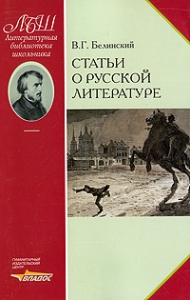

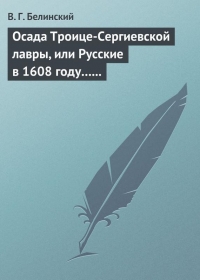
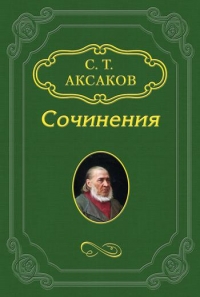
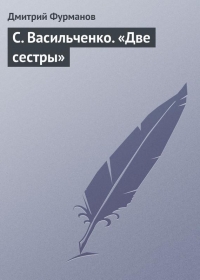


Комментарии к книге «Очерки по истории английской поэзии. Поэты эпохи Возрождения.», Григорий Михайлович Кружков
Всего 0 комментариев