А. И. Богдановичъ «Мужики» г. Чехова. – «Въ голодный годъ Вл. Короленко»
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Много воды протекло съ того времени, какъ надъ «Антономъ Горемыкой» г-на Григоровича проливались потоки слезъ, и много эта вода унесла съ собой и еще больше всякихъ наносовъ оставила послѣ себя. Одного только она не могла унести и разрушить – интереса къ деревнѣ. Теперь, какъ и прежде, всякое живое изображеніе деревни и ея быта вызываетъ глубокое вниманіе, является центромъ, вокругъ котораго закипаютъ словесные и журнальные споры. Это доказали еще разъ «Мужики» г. Чехова.
За послѣднее время мы не помнимъ, чтобы какое-либо другое произведеніе вызвало такой общій интересъ, какъ это. Успѣхъ его отчасти напоминаетъ вниманіе, съ какимъ былъ встрѣченъ послѣдній разсказъ Л. Н. Толстого «Хозяинъ и работникъ», хотя сущность этого вниманія глубоко различна. Широкая и безотрадная картина деревенской жизни, нарисованная г. Чеховымъ, далека отъ всѣхъ вопросовъ личной морали. Художникъ какъ бы говоритъ намъ этой картиной, что пока мы занимаемся ими, углубляясь въ дебри личнаго самоусовершенствованія, мистики и т. п. милліоны людей бредутъ въ безпросвѣтной ночи, живутъ безъ утѣшенія въ настоящемъ, не имѣя никакихъ надеждъ на лучшее будущее. Въ этомъ и заключается огромное общественное значеніе чеховскаго разсказа. Онъ снова и снова напоминаетъ читателю незабвенные слова Щедрина о «бѣдной пошехонской сторонѣ», которую «надо любить»…
Сущность разсказа чрезвычайно проста, до примитивности, какъ и жизнь, которую изображаетъ авторъ. Больной лакей изъ московскаго трактира «Славянскій Базаръ», Николай Чикильдѣевъ возвращается на родину, къ себѣ въ деревню, вмѣстѣ съ женой и маленькой дочкой. Всю жизнь онъ прожилъ въ половыхъ, еще мальчикомъ будучи посланъ въ Москву, «добывать» хлѣбъ. Ихъ вся деревня занимается этимъ промысломъ, съ легкой руки ихъ однодеревенца Лонгина Иваныча, ставшаго легендарнымъ, который первый вышелъ на эту дорогу и, ставъ буфетчикомъ, началъ выписывать своихъ земляковъ. Не сладка была эта жизнь, давшая въ концѣ разбитыя ноги и неизлѣчимую болѣзнь. Но то, что на первыхъ же порахъ встрѣчаетъ бывшій лакей у себя дома, еще хуже. «Въ воспоминаніяхъ дѣтства родное гнѣздо представлялось ему свѣтлымъ, уютнымъ, удобнымъ, теперь же, войдя въ избу, онъ даже испугался: такъ было темно, тѣсно и нечисто… Печь покосилась, бревна въ стѣнахъ лежали криво, и казалось, что изба сію минуту развалится. Въ переднемъ углу возлѣ иконъ были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги – это вмѣсто картинъ. Бѣдность, бѣдность»!
И чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе удручающее впечатлѣніе производитъ эта бѣдность и ея неизмѣнные спутники – невѣжество, дикіе семейные нравы, взаимное самопоѣданіе, попреки, брань, ссоры. Въ первый же день московскіе гости посвящаются въ суть этой жизни. «По случаю гостей поставили самоваръ. Отъ чая пахло рыбой, сахаръ былъ огрызанный и сѣрый, по хлѣбу и посудѣ сновали тараканы; было противно пить, и разговоръ былъ противный – все о нуждѣ да о болѣзняхъ». Возвращается братъ лакея, Кирьякъ, пьяный, и слѣдуетъ семейная сцена, написанная, какъ и весь разсказъ, просто, безъ желанія что-либо прикрасить, съ тою особенною тонкою наблюдательностью, которая отличаетъ вообще манеру г. Чехова. Приводить ее мы не станемъ, отчасти за недостаткомъ мѣста, а главнымъ образомъ потому, что слишкомъ она обычна для деревенской семейной жизни, для «народнаго уклада». Пьяный мужъ бьетъ зря жену, при общемъ молчаніи присутствующихъ, и никто не только не считаетъ себя въ правѣ вступиться и унять буяна, но, вѣроятно, очень удивился бы, если бы ему со стороны сказали, что это его обязанность. «Народный укладъ» еще не дошелъ до понятія о необходимости вступаться за женъ, которыхъ колотятъ мужья.
Противъ г. Чехова раздаются голоса, что онъ утрируетъ мракъ деревни, что его сцены намѣренно подобраны такъ, чтобы сгустить краски. Можетъ быть, но намъ вспоминается книга бывшаго мирового судьи г. Вудмера «Бабьи стоны», въ которой авторъ, подводя итоги своей судейской дѣятельности, приводитъ своеобразную статистику «бабьего боя», – и мы не помнимъ, чтобы его книгу находили «утрированной». А безчисленныя сообщенія провинціальныхъ газетъ, повѣствующихъ о томъ же, судебные отчеты, раскрывающіе такія семейные картинки «народнаго уклада», что при чтеніи ихъ волосы на головѣ шевелятся отъ страха!
Братъ Кирьякъ и Марья – одна семья; Ѳекла – жена другого брата, отслуживающаго повинность въ солдатахъ, – дополняетъ картину ихъ семейной жизни: Марья – баба забитая, слезливая, Ѳекла – бойкая, «гульливая, озорная», красивая и смѣлая, она ищетъ удовольствія на сторонѣ, погуливая съ прикащиками. И опять приходится отмѣтить, что художникъ ничего не прибавляетъ отъ себя. Явленіе хорошо знакомое, давно изслѣдованное, отмѣненное, занесенное въ медицинскіе отчеты о санитарномъ состояніи деревни…
Могутъ замѣтить, что эти двѣ семьи – продуктъ новѣйшаго времени, а старый укладъ давалъ и лучшіе семейные устои. Авторъ приводитъ и представителей старой семьи – отца и мать этихъ новыхъ семей. «Старуха, которую и мужъ, и невѣстки, и дѣти, и внуки, всѣ одинаково звали бабкой, старалась все дѣлать сама, сама топила печь и ставила самоваръ, сама даже ходила наполдень и потомъ роптала, что ее измучили работой. И все она безпокоилась, какъ бы кто не съѣлъ лишняго куска, какъ бы старикъ и невѣстки не сидѣли безъ работы… Сердилась и ворчала она съ утра до ночи и часто поднимала такой крикъ, что на улицѣ останавливались прохожіе. Съ своимъ старикомъ она обращалась неласково, обзывала его то лежебокомъ, то холерой. Это былъ неосновательный, ненадежный мужикъ и, быть можетъ, если бы она не понукала его постоянно, то онъ не работалъ бы вовсе, а только сидѣлъ на печи да разговаривалъ». Старики ни въ чемъ не уступали молодымъ, ни въ чемъ не могли служить для нихъ примѣромъ. Тоже пьянство, ругань, отупѣлое, животное отношеніе другъ къ другу, къ дѣтямъ, къ жизни. Ольгу, жену больного Николая, «удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и дольше всѣхъ бранились старики, которымъ пора уже умирать. А дѣти и дѣвушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли къ ней съ колыбели».
Неудивительно, если, сравнивая безсознательно эту жизнь съ прежней, московскій лакей мечтаетъ о своемъ старомъ трактирѣ, какъ о раѣ. Въ разсказѣ есть одна удивительно тонкая психологическая черта, когда въ безсонную ночь, послѣ разговоровъ о бѣдности и нуждѣ, да о старыхъ временахъ, отъ которыхъ остались въ воспоминаніи одни ужасающіе разсказы о крѣпостной жизни, больной Николай слѣзаетъ съ печи и надѣваетъ свой старый, захваченный имъ изъ города фракъ, – остатокъ былой жизни. «Онъ досталъ изъ зеленаго сундучка свой фракъ, надѣлъ его и, подойдя къ окну, погладилъ рукавъ, подержался за фалдочки и улыбнулся. Потомъ осторожно снялъ фракъ, спряталъ въ сундукъ и опять легъ». Для него этотъ смѣшной съ нашей точки зрѣнія костюмъ былъ символомъ всего хорошаго, что вставало въ его памяти при видѣ окружающей бѣдности и дикости. Онъ говорилъ ему, что есть и иная жизнь, гдѣ не только съ утра брань, попреки, ссоры, подсчеты кусковъ, пьянство, недоимки. Пусть и въ той, иной жизни онъ занималъ самое маленькое, послѣднее мѣсто, – онъ видѣлъ, зналъ, что есть она, эта иная жизнь, и это одно уже служило ему утѣшеніемъ.
А его родные, всѣ жители Халуевки, всѣ, которые не отсылались въ Москву «добывать», даже въ уѣздный городъ не знали дороги, не бывали тамъ, не видѣли ничего, кромѣ своей деревни. «Марья считала себя несчастной и говорила, что ей очень хочется умереть; Ѳеклѣ же, наоборотъ, была по вкусу вся эта жизнь: и бѣдность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ѣла, что давали, не разбирая; спала, гдѣ и на чемъ придется; помои выливала у самаго крыльца: выплеснетъ съ порога, да еще пройдется босыми ногами по лужѣ. И она съ перваго же дня бранила Ольгу и Николая именно за то, что имъ не нравилась эта жизнь.
– Погляжу, что вы тутъ будете ѣсть, дворяне московскіе! – говорила она съ злорадствомъ. – Погляжу-у?
«Однажды утромъ, – это было уже въ началѣ сентября, – Ѳекла принесла снизу два ведра воды, розовая отъ холода, здоровая, красивая; въ это время Марья и Ольга сидѣли за столомъ и пили чай.
– Чай да сахаръ! – проговорила Фекла насмѣшливо. – Барыни какія, – добавила она, ставя ведра, – моду себѣ взяли каждый день чай пить. Глядико-сь, не раздуло бы васъ съ чаю-то! – продолжала она, съ ненавистью глядя на Ольгу, – Нагуляла въ Москвѣ пухлую морду, толстомясая!
Она замахнулась коромысломъ и ударила Ольгу по плечу, такъ что обѣ невѣстки только всплеснули руками и проговорили: «Ахъ, батюшки!»
Потомъ Ѳекла пошла на рѣку мыть бѣлье и всю дорогу бранилась такъ громко, что было слышно въ избѣ».
Весь ужасъ картины деревенской жизни въ томъ и заключается, что не видно выхода, нѣтъ надежды на то, что это должно измѣниться.
Вы не видите силы, указывая на которую могли бы сказать: здѣсь спасеніе! Общинные порядки, пресловутый міръ? Представителемъ его является староста Антонъ Сидельниковъ. «Не смотря на молодость, – ему было только 30 лѣтъ съ небольшимъ, – онъ былъ строгъ и всегда держалъ сторону начальства, хотя самъ былъ бѣденъ и платилъ подати неисправно. Видимо, его забавляло, что онъ староста, и нравилось сознаніе власти, которую онъ иначе не умѣлъ проявлять, какъ строгостью», – онъ глупъ, невѣжественъ, смѣшонъ и такъ же жалокъ, какъ его избиратели. Внѣшнее начальство представляетъ становой, пріѣзжающій для сбора недоимки. За недоимки у семьи Чикильдѣевыхъ староста уноситъ самоваръ. «Безъ самовара въ избѣ Чикильдѣевыхъ стало совсѣмъ скучно. Было что-то унизительное въ этомъ лишеніи, оскорбительное, точно у избы вдругъ отняли ея честь». Это, вѣдь, была единственная связь съ чѣмъ-то не отъ «міра», говорившая о какой-то иной невѣдомой обстановкѣ, – и она описывается, какъ вещь, не представляющая предмета «первой необходимости въ хозяйствѣ». Власть оберегаетъ лишь то, что непосредственно необходимо для выполненія обязанностей хозяйства предъ нею… Далѣе, идетъ земство, о которомъ мужики знаютъ одно, что во всемъ виновато оно.
Можетъ быть, есть высшіе запросы, смутно назрѣвающіе въ душѣ, запросы, на которые такъ или иначе деревня ищетъ отвѣта? Прежде всего, конечно, религіозное чувство, которое не можетъ оставаться безъ удовлетворенія, обязательно должно искать его. И оно есть, и вотъ какъ описываетъ его художникъ.
«Старикъ не вѣрилъ въ Бога, потому что почти никогда не думалъ о Богѣ: онъ признавалъ сверхъестественное, но думалъ, что это можетъ касаться однѣхъ лишь бабъ, и когда говорили при немъ о религіи или о чудесномъ и задавали ему какой-нибудь вопросъ, то онъ говорилъ нехотя, почесываясь:
– А кто-жъ его знаетъ!
Бабка вѣрила, но какъ-то тускло; все перемѣшалось въ ея памяти, и едва она начинала думать о грѣхахъ, о смерти, о спасеніи души, какъ нужда и заботы перехватывали ея мысли, и она тотчасъ же забывала, о чемъ думала. Молитвъ она не помнила и обыкновенно по вечерамъ, когда ложилась спать, становилась передъ образами и шептала:
– Казанской Божьей Матери, Смаленской Божьей Матери, Троеручицы Божьей Матери…
Марья и Фекла крестились, говѣли каждый годъ, но ничего не понимали. Дѣтей не учили молиться, ничего не говорили о Богѣ, не внушали никакихъ правилъ и только запрещали въ постъ ѣсть скоромное. Въ прочихъ семьяхъ было почти тоже. Мало кто вѣрилъ, мало кто понималъ; въ тоже время всѣ любили священное писаніе, любили нѣжно, благоговѣйно, но не было книгъ, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангеліе, ее уважали, и всѣ говорили ей и Сашѣ «вы»…
Какъ видимъ, запросы на нѣчто, хотя и смутное и крайне неопредѣленное, есть въ душѣ деревни, но, ничего не видя, не зная, не имѣя даже возможности знать, деревня не ищетъ отвѣта. Ей надо принести его извнѣ, такъ какъ сама она не заключаетъ въ себѣ силы, которая распахнула бы двери въ міръ, – не деревенскій, а настоящій, божій, свѣтлый и широкій.
Въ концѣ концовъ, Николай умираетъ, залѣченный по-деревенски, а его жена и дочь возвращаются въ городъ.
«Въ полдень Ольга и Саша пришли въ большое село… Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новѣе, передъ открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонкимъ пѣвучимъ голосомъ:
– Православные христіане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителямъ вашимъ царство небесное, вѣчный покой.
– Православные христіане, – запѣла Саша, – подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное»…
Этотъ конецъ подчеркиваетъ своимъ припѣвомъ еще одну особенность деревни, которая за тысячи лѣтъ существованія не додумалась до формъ общественной помощи. «Хожденіе въ кусочки» – единственное, что знаетъ деревня, какъ помощь своему брату. Общинный бытъ съ круговой порукой, и не могъ додуматься до иной формы, такъ какъ примитивность ея ему вполнѣ по плечу.
Итакъ, деревня не приняла «московскихъ гостей», думавшихъ найти здѣсь отдыхъ и покой. Художникъ какъ будто желаетъ дать отвѣтъ на прежніе призывы въ деревню, въ которой одной спасеніе отъ золъ современнаго «капиталистическаго строя», развращающаго нравственно, губящаго физически народную массу. Правду жизни можно найти только въ деревнѣ; добрые нравы – только въ деревнѣ, сколько разъ мы это слышали, сколько бумаги истрачено на краснорѣчивыя доказательства деревенскаго превосходства предъ городской распущенностью, нищетой и всяческой скверной!
«Бѣдная это страна, ее надо любить». Но любить не значитъ – закрывать глаза на всѣ недостатки и видѣть достоинства тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ. Картину г. Чехова мы ни въ чемъ не находимъ утрированной, такъ какъ все, что онъ собралъ въ небольшомъ разсказѣ, можетъ быть подтверждено самыми точными изслѣдованіями и наблюденіями. Правда, онъ слишкомъ все сконцентрировалъ, вслѣдствіе чего получился букетъ необычайной яркости и крѣпости, но въ этомъ мы видимъ достоинство, а не недостатокъ. Онъ облегчаетъ этимъ выводы, заставляетъ даже невнимательнаго и непривыкшаго самостоятельно думать читателя – понять простую, но глубокую истину, до сихъ поръ признаваемую за ересь въ русской литературѣ, – что городская жизнь, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, все-таки культурнѣе, выше, человѣчнѣе, чѣмъ деревенскій пресловутый «укладъ».
Пожившій въ городѣ мужикъ, обжившійся и свыкшійся съ условіями работы и городской обстановки, уже рѣдко мирится съ деревенской жизнью. Она поражаетъ его на каждомъ шагу и во всемъ – въ семейныхъ отношеніяхъ, личныхъ и общественныхъ. Онъ не находитъ въ деревнѣ, того разнообразія жизни, которое давало бы ему возможность сравненія, служило бы ему объектомъ для работы мысли, будило бы послѣднюю, толкало впередъ. Деревня не развиваетъ своихъ дѣтей, она притупляетъ ихъ своимъ однообразіемъ. Фабричный, мастеровой, дворникъ, кухарка, лакей и прочій рабочій людъ города живетъ куда не сладко, но онъ видитъ кругомъ себя иную жизнь, онъ въ одинъ часъ, проведенный внѣ круга своихъ обычныхъ занятій, увидитъ и узнаетъ больше, чѣмъ мужикъ въ деревнѣ за день. Сталкиваясь въ городѣ съ массой новыхъ людей, онъ невольно воспринимаетъ что-нибудь, чего въ немъ не было ранѣе и что уже составляетъ нѣкоторый плюсъ. Онъ начинаетъ замѣчать такія вещи, которыхъ раньше не видѣлъ даже, до того онѣ казались ему естественны. Такъ, Николая и его семью поражаетъ нечистоплотность, грязь, которую остальные члены семьи не замѣчаютъ, а Ѳеклѣ, никогда не выходившей за предѣлы деревни, эта грязь даже нравится, какъ нѣчто свое, родное. Жену Николая удивляетъ неугомонная безстыдная брань, которая никого – ни дѣтей, ни дѣвушекъ не смущаетъ. Николай заступается за свою дѣвочку, когда бабка бьетъ ее, его это возмущаетъ, когда чужой, хотя бы и бабка, бьетъ его дочь, и т. д.
На это развивающее, культурное вліяніе города наша литература не обращала до сихъ поръ вниманія, съ избыткомъ рисуя дурныя стороны городской жизни. Изслѣдователи и беллетристы какъ-то стороной проходили городъ, видя только его зады, и, возмущенные ихъ неприглядностью, съ отрадой и упованіемъ устремляли взоры въ деревню, гдѣ съ ними происходило обратное: они видѣли все хорошее деревни и сквозь розовые очки смотрѣли на дурное. Будучи слишкомъ правдивы, чтобы умолчать о послѣднемъ, они сейчасъ же находили или подыскивали «смягчающія вину обстоятельства», и въ результатѣ сложилось ходячее мнѣніе, что городъ губитъ, деревня – спасаетъ. О «трактирной цивилизаціи» написаны цѣлые трактаты, и въ публицистической, и въ беллетристической формѣ, но изнанка деревенской жизни если и фигурировала въ народнической литературѣ, то лишь какъ нѣчто наносное, временно привитое деревнѣ, которая сама по себѣ чиста и прекрасна. А между тѣмъ, деревня въ ея современномъ видѣ обладаетъ всѣми недостатками трактирной цивилизаціи, ея грязью, невѣжествомъ, развратомъ, и ни однимъ изъ ея достоинствъ. Да, достоинствъ, такъ какъ деревенская дичь и некультурность въ сравненіи даже съ трактирной цивилизаціей – поразительны. Главное, въ деревенской жизни не видно никакихъ культурныхъ зачатковъ. Здѣсь – одна борьба за существованіе, поставленная въ примитивные условія, мало чѣмъ отличающіяся отъ условій животной жизни.
Нѣтъ, къ сожалѣнію, ничего не преувеличилъ г. Чеховъ. Онъ только какъ художникъ собралъ отдѣльныя, разсѣянныя черты, изобразивъ ихъ въ видѣ общей картины житья-бытья Халуевки. Такой конкретной Халуевки, можетъ быть, вы и не найдете. Но въ десяткахъ тысячъ «Халуевокъ», разсѣянныхъ по обширному лицу «пошехонской стороны», вы встрѣтите все то, что имъ описано, а во многихъ – многое и похуже…
* * *
Мало книгъ можно указать настолько поучительныхъ, какъ «Въ голодный годъ» В. Г. Короленко, вышедшая недавно третьимъ изданіемъ. Изъ всей литературы голоднаго года уцѣлѣла только она одна, но и ея довольно, чтобы составить себѣ ясное представленіе какъ о самомъ голодномъ родѣ, такъ и о томъ, какое огромное значеніе долженъ былъ онъ получить въ развитіи общественнаго самосознанія. Въ исторіи народнаго хозяйства онъ послужилъ гранью, годомъ перелома, когда давно назрѣвавшія внутри деревни явленія «разлада» и «антагонизма» прорвались и выступили наружу. Одновременно съ этимъ въ сознаніи общества тоже насталъ переломъ, обнаружившійся рѣзко и громко въ литературѣ. Разочарованіе въ народнической доктринѣ, недовѣріе къ упованіямъ, возлагавшимся на общину, и все болѣе и болѣе выяснившаяся иллюзорность ея, получила въ этотъ годъ полное подтвержденіе.
Что же обнаружилъ голодный годъ?
На этотъ вопросъ пусть отвѣчаетъ талантливый лѣтописецъ, вдумчивый наблюдатель и несравненный художникъ по образной передачѣ своихъ наблюденій.
Онъ обнаружилъ «опасность», говоритъ онъ на стр. 218–219.
«Опасность, во-первыхъ, въ народномъ невѣжествѣ, которое по объему равно народному долготерпѣнію. Опасность, во-вторыхъ, въ огромной бреши, которую послѣдніе годы сдѣлали въ народномъ хозяйствѣ. «Крестьянство рушится», – эта фраза слышится теперь слишкомъ часто… Рушится крестьянство, какъ рушится дорога, подтопленная снизу весенней ростепелью. Опасность въ этихъ четвертяхъ мельницъ, въ этихъ тысячахъ мельничныхъ крыльевъ, быстро переходящихъ въ кулацкія руки изъ-за нѣсколькихъ мѣръ хлѣба, не выданнаго своевременно; въ этихъ тысячахъ головъ скота, безсильно падающихъ отъ безкормицы или тоже переходящихъ къ кулакамъ за безцѣнокъ… Годъ за годомъ оставлялъ свою рытвину, точно слѣдъ рѣки на отлогомъ берегу. Два послѣдніе года произвели уже настоящій обрывъ, точно послѣ наводненія. Рѣка народной жизни опять войдетъ въ русло, но теченіе уже будетъ не то».
И далѣе авторъ рисуетъ цѣлую деревню, все населеніе которой такъ аттестуетъ себя:
– Нѣшто мы жители, поглядите на насъ.
– Какіе мы жители, что ужъ…
«Житель – это крестьянинъ, хозяинъ, человѣкъ самостоятельный, въ противоположность бездомному, безхозяйному, нищему. Трудно себѣ представить впечатлѣніе этихъ словъ «какіе мы жители», когда цѣлая деревня говоритъ это о себѣ. Уничиженіи, уныніе, потупленные глаза, стыдъ собственнаго существованія… И невольно, какъ посмотришь, соглашаешься съ ними: какіе ужъ это жители!» (стр. 231).
И такими «жителями» оказался населеннымъ цѣлый уголъ уѣзда, который авторъ окрестилъ именемъ «Камчатки». Читателю, которому стали извѣстны, одновременно съ сообщеніями г. Короленко, десятки другихъ такихъ же Камчатокъ, становилось жутко, и невольно напрашивались недобрыя мысли объ «укладѣ», при которомъ живутъ эти «жители». А наблюдатели, одинъ за другимъ, торопились докладывать, что «антагонизмъ» интересовъ въ «Камчаткахъ» ничѣмъ не уступаетъ такому же антагонизму въ городѣ. «Въ томъ и дѣло, – говоритъ г. Короленко, – что «мужика», единаго и нераздѣльнаго, просто мужика – совсѣмъ нѣтъ; есть Ѳедоты, Иваны, бѣдняки, богачи, нищіе и кулаки, добродѣтельные и порочные, заботливые и пьяницы, живущіе на полномъ надѣлѣ и дарственники, съ надѣлами въ одинъ лапоть, хозяева и работники» (стр. 106–107)… Словомъ, въ общинѣ все обстоитъ совершенно такъ, какъ у насъ.
Причемъ же, спрашивается, община, на которую намъ указывали, какъ на базисъ «благополучія», какъ на спасительницу, ограждающую насъ отъ всѣхъ золъ?
«Міръ въ цѣломъ, со своимъ «равненіемъ по душамъ», становится между голытьбой и помощью. Первую партію муки, присланной въ началѣ осени въ деревню, крестьяне тотчасъ же раздробили на микроскопическія доли. Досталось каждому по 5 фунтовъ! «Пошло на распылъ», – острили по этому поводу. Въ одномъ уѣздѣ исправникъ, получивъ 100 р. отъ благотворительнаго комитета, сдалъ ихъ на руки властямъ большого села для помощи наиболѣе нуждающимся. «Міръ» съ быстротою паровой машины раздѣлилъ деньги опять «по душамъ»: пришлось на душу по 7 к.» И авторъ, а вмѣстѣ съ нимъ и читатели, находятъ такое отношеніе вполнѣ правильнымъ: стоитъ только отдѣлаться отъ навязаннаго, фиктивнаго «міра» и взглянуть на дѣло просто, какъ оно есть. «Представьте только, что въ городѣ, гдѣ вы живете, ввели бы принудительные и притомъ довольно крупныя пожертвованія, и скажите, какъ бы вы отнеслись къ этому. Деревня жертвуетъ не мало, по своему и добровольно: посмотрите на эти массы нищихъ, у каждаго окна получающихъ кусокъ дорогого хлѣба… Но принудительнаго пожертвованія, хотя бы и въ пользу своихъ односельцевъ, она избѣгаетъ тѣми средствами, какія у нея подъ руками. Въэтомъ отношеніи средній деревенскій мужикъ похожъ на средняго горожанина: онъ хочетъ платить только за себя. А такъ какъ ссуду потребуютъ со всего міра, т.-е. съ плательщика, то и взять ее считаетъ себя въ правѣ плательщикъ».
Такимъ образомъ, «гармонія интересовъ въ средѣ крестьянскаго міра оказывается фикціей», по выраженію автора.
Потерявъ вѣру въ общину, убѣдившись наглядно въ голодный годъ въ фикціи особеннаго русскаго народнаго уклада, общественная мысль не могла успокоиться, не искать выхода изъ современнаго положенія. Прежде всего она отказалась отъ иллюзіи относительно общины, и это былъ огромный шагъ впередъ, за которымъ не замедлилъ второй. Понятія «капитализмъ», «капиталистический строй хозяйства» перестали быть пугаломъ, отъ котораго всякій правовѣрный интеллигентъ долженъ былъ открещиваться, какъ отъ сатаны и дѣлъ его.
Выяснились всѣ темныя стороны общиннаго быта. Мы увидѣли «сельскій пролетаріатъ», въ сравненіи съ которымъ городской, лучше сказать, фабричный пролетаріатъ можетъ считаться обезпеченнымъ. Увидѣли невѣжество, болѣзни, пьянство и нищенство, процвѣтающія у насъ въ деревнѣ подъ покровомъ общины. Конечно, не одна она ихъ создала, но она ничего не выдвинула для борьбы съ ними, ни одного учрежденія, которое выросло бы въ ея нѣдрахъ и, глядя на которое, можно было бы сказать, что община обладаетъ внутренней созидательной силой. Что невѣжество, пьянство, болѣзни, нищенство являются непосредственнымъ отраженіемъ экономическаго строя, съ этимъ едва ли кто станетъ спорить теперь. Но если такъ, то стоитъ ли такъ усиленно цѣпляться за хозяйственный строй, создавшій перечисленные прелести?
Іюнь 1897 г.Годы перелома (1895–1906). Сборникъ критическихъ статей.Книгоиздательство «Міръ Божій», Спб., 1908 Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


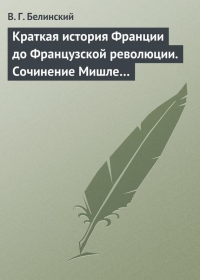

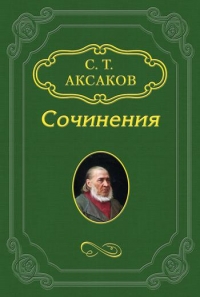


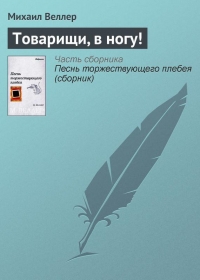
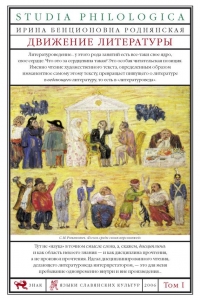
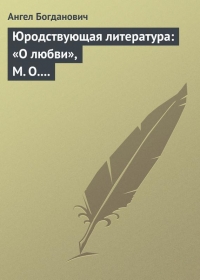
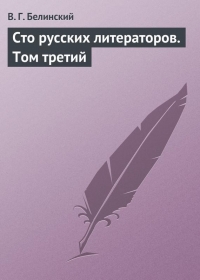
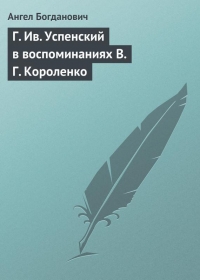
Комментарии к книге ««Мужики» г. Чехова. – «В голодный год Вл. Короленко»», Ангел Иванович Богданович
Всего 0 комментариев