Николай Михайлович Карамзин «Кадм и Гармония, древнее повествование, в двух частях»
Москва, в Университетской типографии, 1789
Сие творение должно по справедливости возбудить внимание всех, любящих российскую литературу.
Кому не известна басня Кадма и Гармонии или Гермионы, которую рассказывает Овидий?[1] Но из сей басни автор наш взял, так сказать, только одну одежду для своего творения.
Философ не-поэт пишет моральные диссертации, иногда весьма сухие, поэт сопровождает мораль свою пленительными образами, живит ее в лицах, и производит более действия. Таким образом сочинитель Кадма хотел в привлекательной мифологической одежде сообщить свои нравоучения, политические наставления и понятия о разных вещах, важных для человечества; учить нас, так сказать, неприметно, питая наше любопытство приятным повествованием вещей чудесных – одним словом, он хотел написать нам второго Телемака.
Почтенный автор в предисловии своем говорит, что Кадм его есть не поэма, а простая повесть; но когда повесть есть не история, а вымысел, то она, кажется, есть поэма – эпическая или нет, но все поэма – стихами или прозою писанная, но все поэма, которая по общепринятому понятию на других языках означает всякое творение вообразительной силы. Таким образом комедия, роман есть поэма.
Теперь предложим кратко содержание.
Кадм, сын царя Агенора Финикийского, ищет сестры своей Европы, похищенной Юпитером; находит в Критском лабиринте Гармонию, дочь Марса и Венеры; женится на ней, по велению оракула заводит новое царство в Беотии, сперва царствует со славою, но потом развращается, изгоняется подданными, странствует в бедности с добродетельной своей супругой Гармонией, отвергает новую корону, потом снова оскорбляет богов, разлучается с Гармонией, вдается в сладострастие, исправляется, находит Гармонию и Европу, но не сестру свою, а землю сего имени, и, следуя воле богов, остается там навсегда жить в мире среди славянского народа, отправя царствовать в Беотию сына своего. – Автор начинает свое творение описанием благополучного Кадмова царствования; предшедшие случаи его жизни рассказываются им самим, то есть Кадмом.
В сем сочинении найдет читатель, кроме рассуждений, прекрасные поэтические описания, любопытные завязки, интересные положения, чувства возвышенные и трогательные, обороты свободные и натуральные; слог же всегда приятен и возвышен без надутости. В доказательство сказанного нами, раскроем Кадма, и выпишем из него те места, которые нам в глаза попадутся.
Открылась вторая книга. Кадм становится недостоин царствовать, и боги посылают Фивам другого царя. Вот описание сего посланного:
«Кадм зрит некоего мужа, с лирой в руках грядущего, священные песни воспевающего, и великим числом народа сопровождаемого. Чело его лавровым венцом было увязенно, багряница рамена его покрывала; был он вида красивого и величавого, при каждом перстов его прикосновении ко златострунной лире древеса и камни казались одушевленными и с мест своих тронуться хотящими; птицы, тихим парением над ним извиваясь, крылами своими его главу приосеняли; дикие звери, смягчив свою свирепость, притекали лобызать ноги песнопевца; окруженный младыми нимфами, несущими в руках жезлы, обвитые цветами, и главы гроздьями покровенны имеющими, шествовал он прямо ко граду; врата пред ним отверзлись, и фивяне свои колена пред ним преклонили. Казалось, некий бог вступил в Беотийскую столицу; но то не бог был…» – Прекрасная картина! истинная поэзия! Здесь читатель жаждет узнать сего богоподобного мужа.
Перевернем еще несколько листов, и послушаем рассуждение о разных образах правления. Кадм говорит в собрании фессалийского народа, обращаясь к вельможам, хотящим установить аристократическое правление.
«Мужи знаменитее, отцы и защитники фессалийского народа! я ни мало не сомневаюсь, чтобы не истинная к вашему отечеству любовь побуждала вас поработить царство ваше собственному вашему чиноначальству. Вы находите образ такого правительства для вас конечно удобнейшим и народу полезнейшим; но помыслите, о богобоязненные старцы и юноши! коль дивный истукан на фессалийском престоле соорудить вы дерзаете! Вы предприемлете составить единый лик царя из разных членов вашего общества; уничтожая царя, царскую силу и мощь из раздробленных частиц слепить вы покушаетесь: трудное и едва ли возможное предприятие! Слияние разных веществ в единую груду редко твердым и прочным телом бывает. Но ежели вы уповаете обрести между вами некое число ни в чем не разнящихся вельможей в их умоключениях, образы мыслей никогда друг другу не противоречащих, чувств, воли и желаний к единой цели завсегда стремящихся; ежели вы сии божественные качества в себе ощущаете, устройте правление чиноначальственное! В противном случае вы многих мучителей, а не единодушных отцов и защитников народных устроите.
При сих словах вельможи потупили очи свои, а народ возопил: Не хотим, не хотим чиноначальствеиного вельможей правления! Да будет оно общенародное! – Кадм, укротив восклицания народные, речь свою простер тако: Ежели немногое число избранных вельможей ваших, о фессалийцы! отечеству вредно: то каким злощастием угрожается ваше царство, всем народом управляемое? Вы заключаете в самом корне вашего намерения великое зло, день от дня возрастать могущее, и всю Фессалию в бездну погибели низвергнуть долженствующее. Кто ваше благоденствие устроивать будет? Вы сами! – Какому суду поработиться чаете? Собственному своему! – Кто вами будет начальствовать, и кто начальникам вашим покоряться? Вы сами и начальниками и повинующимися быть долженствуете! – Странный образ правительства! Но я изъясню мои мысли простыми ради вас изречениями. Вообразите, ежели бы земля наша, отвергнув солнечное сияние, сама себя освещать восхотела: в какой бы мрак она погрузилась? Ежели бы члены наши, отрекшись от назначенного природою им долга, все купно господствовать восхотели: долго ли бы тело наше в целости пребывать могло? Скоро бы оно разрушилось, а с ним и члены его купно бы погибли. Каждое царство есть целое тело, главу для управления и прочие члены для служения иметь долженствующее.
Выслушав речь сию, народ возопиял: Законы, законы да управляют нами! Тогда Кадм вещал: Законы сами собой управлять и действовать не могут: мусикийские орудия, сколь ни были бы совершенно устроены, не в руках каждого человека, но в руках искусного игрателя приятные издают гласы. Законам потребна деятельность; деятельность относится к судам и народным попечителям; попечителям и судьям нужна глава выше законов поставляемая, могущая охранять святость законов, наблюдать целомудрие судей, общее благосостояние, ненарушимость и единообразие судопроизводства, а паче всего добро от зла, истину от коварства, тщательность от лености отличать могущая, и наконец верность и заслуги в отечестве награждать, а нерадивость пробуждать долженствующая. Сия-то глава есть царь самодержавствующий подданными. О фессалийцы! почто не избираете царя самодержавного; царя, который бы имея в своих руках вожди правления, управлял народом по законам, из самого естества и ваших склонностей предками вашими почерпнутым, или для вашего общего блага вновь установленным? Устрояя ваше благо, мудрый царь собственное сооружает благо; разрушая общее, собственной гибели поспешествует. Мы имеем во всей вселенной некий напечатленный знак единоначальства. Проникните вашими мыслями во всю громаду сего мира: не един ли Зевс небом, землей и всеми подчиненными ему божествами верховно управляет? Не единое ли солнце обращает круг небесный с его прочими светилами? Не едину ли главу мы имеем, члены наши в стройном порядке содержащую? – Вельможи и граждане! ежели боги ваши моим вещают гласом, то советую вам, отвергнув все роды других правлений, избрать царя, и вы паки благоденствовать будете». – Кто не почувствует убедительности сих рассуждений?
Песнопевец, убеленный временем, говорит вельможам фессалийским, подозревающим, что он через союз родства с царем хочет присвоить себе верховную власть.
«Юность мою проводил я в учении; зрелые мои лета и старость мою посвятил я песнословию и славе богов моих, богов и знаменитых героев. Привык я к сему небесам любезному упражнению; и променяю ли ныне сии увеселяющие мои чувства восторги, сие безмятежное, но благочестивое провождение дней моих – променяю ли на саны и преимущества вельможеские, с толикими беспокойствами и суетностями сопряженные, коих и тени едины в страх и сомнительство ввергают? О, нет, фессалийские вельможи! не опасайтесь, дабы от природы сотворенный песнопевец, славитель богов и героев, возгнушался влиянными ему дарованиями, и взалкал жаждою сиять паче на степенях верховного сана, нежели сиять чрез многие веки носящеюся о нем славою! Такой песнопевец не был бы другом своих богов, или был бы он дерзким похитителем сих священных дарований. Вам сладостны преимущества сана вашего, а мне сладостна моя лира. Может быть неважно для вас, о вельможи! мое песнопение; может быть и дарования мои в моем только понятии некоторую цену составляют: но для меня они важны и неоцененны, ибо они блаженство моей жизни соделывают. Оставьте мне мое малое жилище и убогие мои вертограды, трудами моими приобретенные; оставьте, и не опасайтесь ни моего песнословия, ни алчности моей достигнуть высоких почестей в фессалийском царстве». – Вот язык поэта, чувствующего свою цену!
Заглянем во вторую часть. Самгес, законный египетский царь, приближается с Кадмом к своему воинству, вдоль берегов Меридова озера устроенному. Уже зримы им яко густой лес копья ополченных ратников; колеблющиеся знамена видны, дивного Сфинкса изображающие, и дыханием ветров развеваемые; ржание и топот коней далеко слышится… Краткое, но сильное описание – мастерская картина в первых чертах! – Там следует подробнейшее описание воинства бунтовщиков.
«В третий вечер шествия их Кадм и воинство египетское узрело Амазисово ополчение, в Гегеенской долине расположенное. Густые пары, из блатной земли тамо исходящие, яко облако стан его покрывали. Воинство его развратные мятежники египетские и наемники, составляли. Тамо видимы были мадиамляне, жизнь свою при стадах провождающие. Непривычные ко сражениям, были они и в ратоборстве неискусны, но дерзновенны и неустрашимы; рамена их покрыты овчею кудрявою шерстию; бритые главы их, опаленные дубины, на их раменах лежащие, и короткие копия, кои в хищных зверей с ловкостью они метали, придавали угрюмым видам их некий ужас и отвратительную суровость. Не ненавистью движимы, но паче страшась нападения на их пажити от Амазиса, с его общниками против Египта они вооружились, и со множеством верблюдов притекли под их знамена. Средину ополчения мятежнического составляли мамелюки, народ дикий и кровожаждущий, одними грабежами и разбойничеством на распутиях питающийся. Сии, железной броней покровенны, имели длинные бердыши, острые сабли и щиты крепкие, кои на хребтах у них висели. Кони их борзы и к оборотам приучены. Ими. начальствовал Фрамор, князь порождения Великанов, рыцарь неустрашимый и жестокий. Он превышал своей главой всех его воинов; грабеж и кровопролитие составляли его утешение, а наглое убийство первое правило. Он совокупил свои разбойничьи полчища со Амазисом, алкая токмо египетских корыстей и сражений. Левое крыло воинства состояло из амонитов, моавлян, ливийцов и других народов, из их жилищ иудеями изжененных и прибежища в бедственном их странствовании всюду ищущих. Лишенны отечества, с отчаянной лютостью на брань они дерзали…» – Какие энергические черты! Я вижу перед собой угрюмых мадиамлян и диких, свирепых мамелюков – вижу, зажимаю глаза и хвалю описателя.
Диафан, главный Египетский жрец, показав Кадму место погребения добрых царей, ведет его на другую сторону Меридова озера.
«Уклонясь в лево, грядут они между колючими тернами, и приближаются к пещере мрачной и каменистой. Там заключены были в гробницах, седым мхом порощенных, прахи царей злочестивых и священного погребения всем Египтом отчужденных. Никто не смел приближаться к сему ужасному кладбищу; никто не дерзал приносить молений о душах сих мучителей, и никто не хотел о заслуженном ими осуждении сетовать. Там ехидны вкруг заржавленных сосудов извивались, и ядовитые скоршга пресмыкались по оным. – Диафан, остановись при входе в пещеру, рек Кадму: Обрати очи твои ко десной стране, и тамо узришь погребательный сосуд, хранящий в себе прах злочестивого Тифона, лютого убийцы божественного Озирида; но священная Изйса, мстя смерть Озиридову, огнем истребила Тифона, сего врага богов и человеков, и память его предана вечному проклятию. Зри, коль страшные змии железный сосуд сей облегают! Они, мнится, изрыгают яд и пламень, да не отважится никто приступить к сему гнусному праху, коим они питаются». – Удалимся и мы с читателем от сего ужасного места, и поищем чего-нибудь нежнейшего.
Кадм с Гармонией видят своего сына, не зная того. «Едва прешли они едино поприще, густыми тенями ветвистых древес осеняемы, увидели внедалеке от себя красного отрока, тонкие сети на уловление птиц расставляющего; белые власы его яко чистая волна по раменам простирались; ланиты распускающимся розам подобны зрелися; за плечами висел у него тул со стрелами, и малый лук по бедру двигался. Кадм и Гармония чаяли зрети Эрота, Афродитина сына. Взор их пленяется красотой отрока сего; сердца их трепещут. Они приближаются к нему; вопрошают его: кто он есть? сын ли небес, или сын человеческий? – Отрок взирает на них внимательно, не страшится их и не удаляется. Он с приятной усмешкой отвечает им: Не есмь сын небес, но сын человеческий; четыре лета в сей дубраве с моим отцом обитаю; редко странников мы видим; я провожу мое время в ловле птиц и в стрелянии малых зверей, вредных нашему вертограду, – Но какая страна сия? вопросил Кадм отрока, коего сердце его уже возлюбило. Гармония, не отъемля очей от него, вопрошает о его имени, и лицезрением его утешается». – Прекрасно описание отрока; прекрасно описание темных чувств родительской любви. Им еще не известно, что он их сын, но они уже любят его. Не знаю, кто здесь не тронется, – кто не почувствует красоты сего места; во знаю, что тот не имеет чувства ни к красотам натуры, ни к красотам поэзии.
«Славный в целом мире прорицатель, славный Тирезияс, два века человеческие уже преживый, шествовал их верхней Азии в Колхиду, и посетив гостеприимных славян, возвестил им между многими частными прорицаниями о их потомстве, что они в грядущие времена на севере усилятся, приобретут громкую в мире славу, прострут свои победы от моря полунощного до вод полуденных, и нарекутся, под державой мудрого, кроткого и человеколюбивого правления, народом счастливым, сильным и просвещенным». – Кто из россиян будет читать сие без удовольствия?
Довольно. Из сих приведенных мест можно видеть, что Кадм есть творение, достойное всего внимания читателей.
Но говорят, что нет сочинения во всем совершенного. Если так, то и в Кадме должны быть несовершенства, или ошибки, или неисправности. Рецензент, читая Кадма, при многих местах думал: Это слишком отзывается новизной; это противно духу тех времен, из которых взята басня. Однако ж, вообразя себе всю трудность писать ныне так, как писывали древние, столь отдаленные от нас по образу жизни, по образу мыслей и чувствований, согласился он сам с собою не почитать сих знаков новизны за несовершенство сочинения, имеющего цель моральную. Кто не знает Телемака Гомерова и Телемака Фенелонова? Кто не чувствует великой разности между ими? Возьми какого-нибудь пастуха – швейцарского или русского, все одно – одень его в греческое платье, и назови его сыном царя Итакского: он будет ближе к Гомерову Телемаку, нежели чадо Фенелонова воображения, которое есть ничто иное, как идеальный образ царевича французского, ведомого не греческой Минервою, а французскою философией. – Попадаются в Кадме мысли и выражения, которые кажутся не совсем справедливыми. Так, наприм<ер> говорит автор: «Таковые помышления яко мрачное облако составлялись в Кадмовом воображении, и зарождая в нем семена самолюбия, источник гордости на сердце его начертавали». Но не поздно ли уже зарождаться в человеке семенам самолюбия, когда он родится с оным? Говоря фигурнее, можно сказать, что он родится с семенами оного. – Выражение, начертывать источник, останавливает читателя. – Найдешь еще несколько слов, к которым наше ухо не привыкло; на прим<ер> умоключения вместо мыслей и рассуждений, понурность вместо ската или свеса, и некоторые слова во множественном, которые мы обыкновенно употребляем только в единственном, как-то: поведения, роскоши, – и проч. Но не будем искать бездельных ошибок – если это и подлинно ошибки – в таком сочинении, которое наполнено красотами разного рода. Один английский поэт сказал, что погрешности в сочинении подобны соломе, плавающей по верху воды, а красоты перлам, лежащим на дне. И так мало чести приобретет себе тот, кто будет всегда собирать первые. Кадм будет жить с Россиядою и Владимиром.[2]
Примечания
1
Басня Кадма и Гармонии или Гермионы, которую рассказывает. Овидий — в книге. IV «Метаморфоз» Овидия.
(обратно)2
Кадм будет жить с Россиядою и Владимиром — речь идет о поэмах Хераскова «Россиада» (1779) и «Владимир Возрожденный» (1785).
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
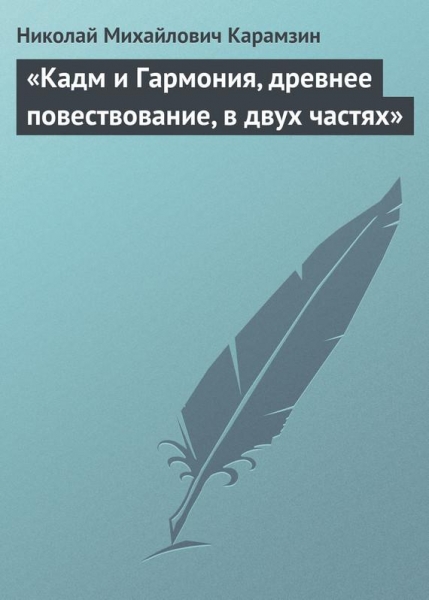






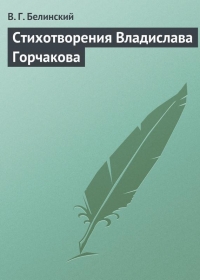

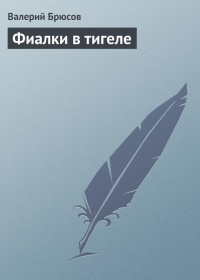
Комментарии к книге ««Кадм и Гармония, древнее повествование, в двух частях»», Николай Михайлович Карамзин
Всего 0 комментариев