Николай Александрович Добролюбов Предубеждение, или Не место красит человека, человек – место
Комедия в двух картинах, соч. Н. Львова. СПб., 1858
Господин Львов, «свет Николай Михайлович», как его остроумно охарактеризовало ловкое объявление «Весельчака», поступившего ныне под редакцию этого самого света, – г. Львов есть автор комедии «Свет не без добрых людей», имевшей такой блистательный успех на сцене Александрийского театра[1]. Этой рекомендации уже вполне достаточно для того, чтобы и вторая комедия «света Николая Михайловича» имела столь же блистательный успех на сцене Александрийского театра. Она и действительно имела этот успех; сему не отважутся противоречить самые заклятые враги комедий г. Львова. Но, к сожалению, есть критики, которые мало увлекаются «сценическими эффектами» (как они выражаются) и доискиваются в произведении – жизни, идеи, характеров, даже смысла!! Последнее требование совершенно уже излишне от комедии: комедия не только может, а даже некоторым образом должна представлять бессмыслицу. Этого никак не хотят понять наши критики, и оттого комедия «света Николая Михайловича» им не нравится. Они непременно хотят, чтобы она похожа была на трагедию; да помилуйте – она тогда ровно ни на что не была бы похожа!!
Мы берем на себя смелость защитить «света Николая Михайловича» от тех грозных обвинений, которые со всех сторон сыплются на него и которые мы, со всею откровенностью, свойственною нам, смеем назвать голословными, или, иначе, – бездоказательными. Для полного успеха нашей защиты просим у читателей позволения рассказать содержание комедии «Предубеждение, или Не место красит человека, человек – место». Оно было рассказано в прошедшей книжке «Современника»;[2] но это ничего: там оно было рассказано подробно, а мы расскажем вкратце.
Дочь генерала Славомирского Наденька влюблена в станового пристава Андрея Николаевича Фролова, служащего приставом по собственной охоте. Отец имеет предубеждение против должности станового и не хочет выдавать за Фролова дочь свою. Но оказывается, что Фролов отдал долг за какую-то старуху, и генерал выдает за него дочь свою, убеждаясь, что «не место человека красит, человек – место».
Как видите, содержание комедии чрезвычайно забавно. Зная одно это содержание, можно уже предположить, что у действующих лиц комедии очень мало смысла в голове и что столкновение их на сцене производит комизм необыкновенный. Так, вероятно, думал и сам автор, так, кажется, думает и вся публика, которая потешается комедиею г. Львова в Александрийском театре. Но не так думают критики. Они – представьте себе – вообразили, что г. Львов имел намерение вывести в своей комедии какие-то идеалы чего-то!.. Вон куда метнули! И ведь пресерьезно, по всем правилам эстетики, расположились да и разбирают каждую фразу: прилична ли она идеалу или нет? Конец концов, критики основательно доказывают, что лицо, возведенное ими в идеал, недостойно сана идеала, как говорящее и делающее много вещей, идеалу вовсе неприличных. Но ведь это вам же не делает чести, господа критики: с чего вы взяли возводить лица комедии в идеалы? кто дал вам на это право? На каком основании утверждаете вы, что автор так, а не иначе понимал созданные им лица? Все это требует основательного рассмотрения.
Прежде всего нужно заметить, что намерения писателя драматического кроются во глубине души его и всегда бывают темны для посторонних. Не находясь в интимных отношениях, например, хоть с автором комедии «Предубеждение», невозможно сказать наверное, что он вот именно такого-то мнения о характерах своих героев. Может быть, и такого, а может быть, и нет: пари держать трудно. Я не могу опровергнуть вашего мнения, если вам вздумается утверждать, что г. Львов видит идеал благородства в своем Фролове; но и вы не можете опровергнуть меня, если я стану убеждать вас, что г. Львов, создавая это лицо, хотел именно вывести смешную и пошлую сторону подобных фразеров. Ведь автор ничего не говорит от себя, следовательно, мы сами уже должны придать тот или другой смысл явлениям, которые он изображает. Найдем мы истинный смысл явления – хорошо; ошибемся – мы виноваты. Но навязывать наши собственные воззрения самому автору комедии – нам никто не дает ни малейшего права. Иначе мало ли что можем мы выдумать и в чем обвинить драматического писателя!
Высказавши наши основания, мы намерены рассмотреть комедию г. Львова, вовсе не касаясь ее автора и его намерений, а только говоря о том, какой смысл имеет в наших глазах комедия «Предубеждение» и все выведенные в ней действующие лица. Нас не смущают при этом и ярлыки, приданные автором каждому лицу при исчислении персонажей комедии. Ярлыки эти весьма много повредили автору. Один остроумный критик даже основал на них свое суждение о комедии, и так как о Фролове сказано: «горячая голова и открытая душа», то критик и предположил, что в нем г. Львов хотел изобразить идеал[3]. Предположение, как увидим, едва ли основательное. По нашему мнению, г. Львов, делая замечания о свойствах выведенных им лиц, хотел только объяснить актерам, какими они должны казаться в своей роли, то есть какими считаются эти лица в их кругу. Читатель увидит, в продолжении нашей рецензии, какими изображает г. Львов свои лица, и мы решительно считаем неделикатным мнение, будто автор хотел в них изобразить идеалов: говорить это – значит совершенно отнимать у человека присутствие здравого смысла.
Приступая к разбору комедии, заметим прежде всего, что самое название пьесы комедиею должно отвести нас от всякой мысли об идеалах. Известно всем и каждому, известно, вероятно, и г. Львову, что идеалы составляют достояние трагедии, на долю же комедии выпали именно недостатки людские. Общего между трагедиею и комедиею то, что содержание обеих почерпается из ненормального положения вещей и что цель их – выход из этого ненормального положения. Но трагедия отличается тем, что изображает положения, зависящие от обстоятельств внешних, от того, что у древних называлось судьбою и что не зависит от воли человека. Комедия, напротив, именно выставляет на посмеяние хлопоты человека для избежания затруднений, созданных и поддерживаемых его же собственной глупостью. Смотря на комедию, мы все понимаем, что, будь эти люди немножко поумнее, все разрешилось бы очень легко и просто. Вспомните, например, как невыносимо глуп Городничий в «Ревизоре», сам же своими деяниями воспитавший в себе чувство ужаса при первом слухе о ревизии и потом сам же затащивший к себе Хлестакова, от которого желает отделаться. Вспомните, как глуп и Хлестаков, не умеющий даже понять своего положения и пользующийся им очень неискусно. Вспомните, как тупы и нелепы все комические лица у Грибоедова и даже Фонвизина. Правда, им в придачу выводились иногда в комедиях и идеальные лица; но выводились они именно только в придачу. Они играли роль греческого хора и обязаны были пояснять недогадливым зрителям, что представленные им глупые лица – действительно глупы. Для этой цели, между прочим, у Грибоедова выведен Чацкий. Но до сих пор нельзя указать хорошей комедии, основанной на несчастном положении идеально-благородных, возвышенных характеров. Такие характеры возбуждают не смех, а сострадание, сочувствие к своим несчастиям, и, следовательно, комический элемент исчезает здесь в слезно-драматическом. Г-н Львов не мог не знать этого, и вот почему мы полагаем, что название его пьесы комедиею достаточно уже показывает отсутствие в авторе всякой мысли об идеалах.
Вообразим себе, в самом деле, что лица, выведенные г. Львовым, таковы, как хотят его критики. Чтоб это было возможно, надобно несколько изменить их положение. Представим себе, что Фролов – бедный становой пристав, служащий в этой должности не по собственной охоте, а по необходимости, потому что иначе ему некуда деваться. Он прекрасный, благородный человек, возвышенного образа мыслей. Он полюбил дочь генерала Славомирского, которая также любит его. Отец ее – добрый, честный, прямой человек, хотя и вспыльчивого характера. Он говорит дочери, что никогда не будет приневоливать ее в деле замужества: выходи за того, кого полюбила, иначе нет счастья в супружестве… Он узнает о любви ее к Фролову и готов бы ее отдать за него; но, к несчастью, он убеждается, и убеждается, по его мнению, неоспоримо, что Фролов – взяточник и негодяй. В сердце этого благородного отца совершается страшная борьба: он должен или идти наперекор своей дочери, разрушить ее надежды, презреть ее любовь, – или удовлетворить ее чувству и отдать ее в руки негодяя. Фролов также терзается: с одной стороны, женившись на дочери Славомирского, он не может дать ей тех средств к жизни, какие она имела у отца, и должен заставить терпеть всю горечь бедности; с другой – его терзает мысль, что отец его милой Наденьки, а может быть, и она сама, считают его, совершенно несправедливо, негодяем и подлецом. Обе эти мысли, в соединении с тою страстною любовью, какую питает он к Наденьке, производят в нем ужасные страдания и ставят его в положение действительно трагическое. В подобном же положении должна находиться и дочь Славомирского, лишающаяся своего возлюбленного, да еще узнающая, что он мошенник и взяточник. Трагедия может разрешиться тем, что Фролов уедет на Кавказ, Наденька зачахнет, а отец умрет от тоски по дочери, или тем, что Наденька, несмотря ни на что, убежит к Фролову, а отец проклянет ее. Можно, если хотите, дать становому приставу возможность оправдаться перед Славомирским и его дочерью (хотя это, в сущности, довольно трудно сделать без натяжки), и тогда все кончится благополучно. Но как ни вертите, а благородного и умного Фролова, доброго и честного Славомирского – никак нельзя поставить в комическое положение. Второстепенные лица могут быть комичны сколько угодно, но от этого сущность пьесы не переменится; вспомните, сколько комических лиц в трагедиях Шекспира.
Кто же на подобных данных может основать комедию? Кому придет в голову отыскивать что-нибудь забавное в таких тяжелых, отчаянных положениях? И какой смысл, какая цель могла бы быть в подобном труде – выставить на общее посмеяние страдания честных и благородных людей? Если бы кто-нибудь взялся за подобную комедию идеальных характеров, то не вправе ли были бы мы назвать автора бездарным человеком? Нет, автор, написавший комедию, думал, конечно, что лица, выведенные им, имеют комический характер: это подтверждается содержанием пьесы.
По нашему мнению, комедия г. Львова составляет пародию до того искусную, что ее пародический характер не всеми замечается с первого взгляда. Еще прежде г. Львов написал пародию на «Чиновника» графа Соллогуба, известную под именем комедии «Свет не без добрых людей». Граф Соллогуб в своем Надимове действительно видел идеального чиновника: это доказывается многими местами творений графа Соллогуба, в которых он говорит от своего собственного лица. Чтобы показать, как несправедливы воззрения графа Соллогуба и какую ничтожную заслугу составляет бескорыстие в богатом человеке, г. Львов вывел в своей комедии бедного и притом крайне пошлого и глупого чиновника и этого-то несчастного заставил говорить громкие, растянутые, приторные фразы о добродетели и отказываться от взяток. Пародия была понята очень многими, тем более что некоторые фразы Надимова почти целиком явились в «Свет не без добрых людей». Публика хохотала и хлопала до пресыщения, удивляясь тому, как верно в Волкове схвачен г. Львовым обедневший Надимов. Успех первой пародии очень естественно вызвал вторую. Она опять направлена на тот же предмет – на бестолковых фразеров, прикидывающихся благонамеренными. Но вместе с тем в постройке всей пьесы очевидна пародия еще на другое явление – на «Горация» Корнеля. Чем помешал Корнель г. Львову, что вызвало пародию на «Горация», – мы не знаем и не хотим знать: что нам за дело до намерений автора! Может быть, смерть Рашели[4] перенесла к Корнелю мысль «света Николая Михайловича», может быть, в торжественной напыщенности Надимова заметил он сходство с языком корнелевских героев, может быть, и другое что… как бы то ни было, мы замечаем только факт, что «Не место красит человека» и пр. есть пародия на «Горация» Корнеля. Вы помните, что Гораций, назначенный для битвы с альбанцем Куриацием, женат на сестре этого Куриация, который, в свою очередь, хочет жениться на сестре Горация. Вы помните также, что Куриаций несколько колеблется между долгом гражданина и чувством жениха и брата, но Гораций непоколебим и, безусловно, все покоряет чувству гражданского долга. Пред вами трагические герои, поставленные в неестественное положение тяжелыми обстоятельствами, совершенно внешними, решительно не зависевшими от их воли. Их назначили по жребию; они не могут отказаться; государству римскому нет дела до того, кто кому родня… Положение действительно тяжкое, трагическое… Но вообразите, что Гораций сам напросился идти в битву, не слушая ничьих убеждений и без всякой надобности: какое впечатление произведут на вас его пышные возгласы о том, что он так геройски побеждает свои чувства, жертвуя ими требованиям долга? Равным образом – каковы показались бы и жалобы Куриация, если бы он перед тем сам настойчиво просился в битву? Мы полагаем, что при таких условиях оба героя явились бы лицами в высокой степени комическими. А что еще, если бы Гораций начал с горечью рассказывать о том, каким он неприятностям и опасностям подвергает себя в самой битве, которую хочет вести для славы своего отечества?! Это могло бы возвысить комизм его до степени шутовства; создалось бы лицо вроде Фальстафа[5].
Комедия г. Львова именно и составляет попытку изобразить корнелевского Горация в шутовском виде. Герой ее, Фролов, сам, без всякой надобности, без приказа и приглашения, вызвался служить становым приставом. Идет, видите, новая война с Альбою[6], – злоупотреблениями и невежеством: он тотчас вступает с ними в единоборство, потому что, говорит, иначе я ни на что не годен. Это его собственное признание. Но, вышедши на арену для этого единоборства, он (по собственной охоте, заметьте) – он начинает тем, что обращается к зрителям с жалобной гримасой и сентиментально говорит: «Да, тяжело служить в моей должности! На каждом шагу оскорбления!» Он воображает, что зрители прослезятся и умиленно заговорят в один голос: «Голубчик ты наш! как нам тебя жа-а-алко!..» Но зрители с первого разу, конечно, понимают, что это за молодец, и от души хохочут над его геройским малодушием. Впрочем, глупенькая, самодовольная личность этого господина Фролова так занимательна, что мы решаемся проследить за ней от начала до конца.
Еще прежде появления Фролова на сцену мы слышим разговор о нем, дающий понятие о его бескорыстии и исполнительности. Его, видите, прислали взыскать долг с штабс-капитанши Душкиной, помещицы девяти душ. Девять лет уже с нее взыскивали этот долг, в пользу ростовщика Чеснокова, давшего ей 200 целковых и написавшего 400, а потом с каждым годом все прибавлявшего процент. Прежним становым Душкина давала по три целковых, чтобы они каждый раз показывали ее в неизвестной отлучке; Фролов не берет денег и непременно хочет описать имение Душкиной. Она прибегает о жалобой к генералу Славомирскому. Славомирский посылает за приставом, и тот является. Явившись на сцену, Фролов ловко подходит к Славомирскому, рекомендуется и говорит: «Вам, генерал, угодно было меня видеть». Такое начало обещает вам Чичикова, тоже отличавшегося, как известно, ловкостью почти военного человека и не пропускавшего случая сказать: генерал и ваше превосходительство. Но последующая сцена показывает в нем еще более Молчалина, нежели Чичикова. Славомирский (хорош тоже и этот!), подпершись руками в бока, начинает свистать и, не говоря худого слова, ругать Фролова как взяточника. Что, вы думаете, отвечает ему Фролов? Да что мог бы ответить Молчалин?.. «Я, говорит, не имел еще времени подать повод». На этот жалостный ответ Славомирский сострадательно говорит: «Ну, не имел еще времени, так будешь иметь!» Утешься, дескать. На что Фролов хочет сказать Славомирскому какую-то дерзость и уже произносит слово: «Генерал!», но вдруг, опомнившись, умолкает. Далее идет разговор о Душкиной. Желая объяснить генералу все дело, Фролов садится с ним рядом. Генерал восклицает: что-о? Фролов отвечает: а что, генерал?
Затем следует удивительная сцена, выставляющая в самом ярком свете всю пошлость господина Фролова:
СЛАВОМИРСКИЙ. Что-о? ты смел сесть пред генералом?
ФРОЛОВ. Генерал, я не вижу…
СЛАВОМИРСКИЙ (вскакивает и кричит). Молчать!
ФРОЛОВ (встает). Помилуйте, генерал! Что с вами?
СЛАВОМИРСКИЙ. Молчать! говорят тебе. Когда старший говорит – твое дело слушать.
ФРОЛОВ (в сторону). Боже мой! Что с ним?
СЛАВОМИРСКИЙ (приступает к нему). Куда ты пришел? а? К кому ты пришел? а? к генералу? Ты кто? Мальчишка! Становой пристав! Твое место вон где: у косяка! а ты засел в кресло! рядышком сел! Генерал его не приглашает, так он сам – изволите видеть! (Бегает взад и вперед по комнате.)
ФРОЛОВ. Помилуйте, генерал! Вы полагаете, что я становой пристав, так должен торчать у вашей двери… С чего же вы это изволили взять, ваше превосходительство? Если другие унижали подобным образом свое звание, так это еще не значит, чтоб и всякий… Я никому не позволю… я не лакей вам… я становой пристав…
СЛАВОМИРСКИЙ (выходя us себя). Прошу покорно, он еще рассуждает! Молчать! или я… я… напишу к предводителю… к губернатору… черт знает кого присылают! Либо мошенники, либо грубияны, невежи! Какова дерзость, – а? Какова дерзость! (Останавливается.) Да что ж ты, забыл, что ли, с кем говоришь?
Читая эту сцену, невольно спрашиваешь себя: как же могли наши критики вообразить себе, будто в лице Фролова автор хотел вывести идеал благородства? Самое предположение это кажется нам невероятным. Не ясно ли в самой первой сцене выражает Фролов полное отсутствие всяких понятий о чести и благородстве? Не очевидно ли является он перед нами Чичиковым, только без его сметливости? На него кричат: как ты смел сесть перед мной? А он смиренно начинает оправдываться: генерал, я не вижу… Ему кричат: молчать! – он опять: помилуйте, генерал, и дождался того, что генерал назвал его мальчишкой, грубияном, невежей и сказал, что его место у косяка. И поделом ему! так и следует отделывать этих пошленьких фразеров, которые толкуют – туда же! – о чести и благородстве, а сами не могут с первого раза поддержать себя и своим подловатым тоном сами напрашиваются, чтоб их выругали. И об этом человеке будто бы серьезно можно было сказать, что он – горячая голова! Да будь он горячая голова и имей хотя малейшее понятие о чести, так после первого же восклицания генерала прочитал бы ему строжайшее назидание и откланялся бы, да уж потом бы и не явился без крайней необходимости. А он только повторяет себе: генерал, генерал… И еще нужно заметить, что генерал этот служил, после военной, в гражданской службе, и, следовательно, из генералов сделался уже действительным статским советником. Но Фролову это ничего: он иначе не называет Славомирского, как генерал, и мы уверены, что он только по крайней своей глупости не рассказывает этому генералу, подобно Чичикову, – что он пишет историю о генералах, вообще и в особенности. Будь Фролов человеком, хоть немножко понимающим права человеческой личности, его бы возмутила выходка Славомирского до такой степени, что комедии продолжаться не было бы уже никакой возможности. Тут конец, обрыв, дальше не может быть ничего общего между этим изумительным генералом и благородным человеком, которого он так оскорбил. Но дело в том, что Фролов не благородный человек, а Чичиков, тем более отвратительный, что он есть Чичиков по своей гаденькой натуре, бескорыстный и бессознательный. Чем, вы думаете, кончается сцена между им и Славомирским? А вот чем. Вбегает Наденька, дочь Славомирского, и оказывается, что Фролов есть милый Андрей Николаич, которого она полюбила в то время, как гостила в губернском городе у своей тетушки Кустодиевской. Славомирскому делается совестно, и он просит извинения у Фролова следующим образом: «Ну, извини, извиии старика… Я ведь не знал, что вы там знакомы». Вы думаете, по крайней мере теперь Фролов вскипит благородным негодованием и прочтет генералу нотацию: «Во-первых, дескать, я не смею поддерживать той фамильярности, на которую вы меня вызываете, говоря мне: ты. Во-вторых, дескать, позвольте вам заметить, что мое знакомство с вашей дочерью к делу не относится. Знали вы или не знали, что я с ней знаком, все-таки вам бесноваться не следовало. Мне, дескать, лично не нужна ваша вежливость, но меня возмущают ваши дикие понятия, и если вы извиняетесь передо мной только потому, что ваша дочь меня знает, то я не могу примириться с вами, не могу простить вашей дерзости» и т. д. Но Фролов не из таковских. Он отвечает: «Я сам, генерал, виноват, погорячился немного!» О милейший Павел Иванович Чичиков! Отчего же это вы так поглупели? Верно, новейшие фразы о чести и добродетели сбили вас с толку? Скажите, пожалуйста, какая жалость!.. Вот что значит попасть не в свою тарелку, взяться не за свое дело. Прежде мы по крайней мере видели, что у вас, добрейший Павел Иванович, цель есть высокая; мы понимали, что вы собственным достоинством для этой цели жертвовали. Не мудрено поэтому, что вы не могли понять, как мог оскорбиться Тентетников тем, что генерал стал говорить ему: ты. Но зачем же теперь-то вы унижаетесь? Кажется, ведь Фролов не собирается покупать мертвых душ у Славомирского; зачем же он в продолжение всей комедии позволяет этому невеже говорить себе: ты, братец, и любезный?.. Может быть, потому, что он хочет купить у Славомирского одну живую душу – Наденьку? Но нет, он говорит, что посвятил себя на пользу общую и для этого всякие жертвы делает… тут не может быть любовного расчета. Просто-напросто натуришка у него такая дрянная, у него есть кой-какие затверженные понятия, но и те представляются ему как-то смутно. Он, например, понимает отчасти, что генерал поступил невежливо, но как он это понимает? «Ведь, говорит, если бы я к вам, генерал, пришел просто, как дворянин к дворянину, вы бы, конечно, не указали мне место у притолоки?» Видите, – его соображение вертится вот на чем: того, что сделали со мной, с дворянином не сделали бы, – значит, это оскорбительно. Другого понятия о благородстве, независимо от дворянского звания, Фролов не имеет. По его мнению, с чиновником, купцом, лекарем – генерал Славомирский имел полное право разыграть подобную сцену, которая, в сущности, не может быть допущена даже порядочным наемным лакеем. Фролов не понимает этого, и потому на него не производит особенного впечатления брань Славомирского. На вопрос Наденьки, за что отец ее на него рассердился, он преспокойно отвечает: «За то, что я сел без его приглашения». А она замечает: «Он все с своей службой!» Хороши и ее-то понятия: она видит тут службу!! Сейчас видно, что воспитана своим папенькой…
Извинившись перед генералом, что выслушал его брань, Фролов начинает жаловаться на тягость своей должности. «Со мной, говорит, нагло обращаются». По нашему мнению, эта сцена великолепно может быть разыграна на сцене; она, может статься, затмит собою рассказ Расплюева о том, как его отделали до бесчувствия…[7] С одной стороны, конечно, и жалко его: все-таки же ведь ему больно, бедняку… Но личность его так пошла, положение его так глупо, что нельзя над ним не смеяться. Так и Фролов. У него нет даже настолько такту, чтобы понять всю пошлость, даже гадость жалоб на то положение, которое он сам выбрал, и выбрал, как говорит, для общей пользы. Вообразите, что человек приходит на пожар с тем, чтобы спасти кого-нибудь из пламени, и, в ожидании случая выказать на деле свое геройство, прославляет перед всеми свою решимость, горько жалуясь в то же время на все неудобства, которые его ожидают. «Близ огня очень жарко, – умиленно говорит он, – можно опалить лицо, платье испортить, обломиться на обгорелом бревне… можно совсем сгореть самому… Ужасное положение! Но что делать? Я решаюсь все это вытерпеть для пользы человечества». Совершенно в этом смысле говорит Фролов о своих расплюевских огорчениях. «Мы, говорит, должны выносить глубокое оскорбление, тяжкую печаль, а может быть, и более едкое чувство, выходя из общества людей, с которыми нам так часто приходится иметь дело и которые привыкли обращаться с нами так нагло». В ответ на эти забавные жалобы зрители, разумеется, хохочут, вспоминая первую сцену, которая так ясно показывает, чем вызывает г. Фролов наглости, которые ему делают. Но генерал, выдерживая свой характер, замечает Фролову, что он занесся. Чтобы оправдать свои слова пред генералом, так любезно его встретившим, г. Фролов рассказывает случай, бывший с ним и состоявший в следующем:
ФРОЛОВ. Не назову вам где, неделю назад я был у помещика, у одного, впрочем, из первых в уезде и по состоянию и по положению в обществе. Заметьте, генерал, что я к нему поехал не по делу, а просто потому, что меня все уверили, что всякий вновь назначаемый становой пристав и даже исправник должен сделать визит этому барину. Для чего уж это – не понимаю, но говорят – принято так. Я к нему приехал часа в два и ие знал, что у него в этот день обедают несколько человек. Он меня принял в саду. Был по возможности любезен, проговорил со мной с полчаса и, полагаю, успел заметить, что я получил некоторое образование, по крайней мере настолько, чтоб не напиться с его старостой, как вы, генерал, рассказывали о моем предместнике, и не плясать перед окнами. Но представьте же себе мое положение: когда начали приезжать гости, оставил меня в саду, вдвоем с своим приказчиком, с которым он толковал, когда я пришел к нему, и приказчик этот предложил мне, впрочем, от имени господина, отобедать у него в конторе, потому, дескать, что у барина гости!
Выслушавши эту историю, Славомирский, тот самый Славомирский, который так хорошо зарекомендовал себя перед зрителями относительно своей вежливости, отвечает: «Ну, это невежа! Это – что говорить – есть и из нас всякие. Нет, у меня, братец, ешь сколько хочешь, милости просим, а дисциплину люблю – не погневайся». Фролов оставляет без внимания это милое замечание; но на вопрос Наденьки: «Что же вы, Андрей Николаич?» – отвечает с гордым сознанием собственного достоинства: «Натурально, уехал. Не идти же мне было, в самом деле, в контору».
Вся эта сцена отлично обрисовывает гаденькую, мелочную, пошло-самолюбивую натуришку Фролова, равно как и ничтожность Славомирского, которому одному только (с подобными ему, разумеется) Фролов и может казаться человеком порядочным. Рассказ Фролова ставит его в нравственном отношении неизмеримо ниже Расплюева. Тот по крайней мере имел основание жаловаться на свое положение, потому что действительно был разобижен. Но разберите, чем обижается Фролов. Он приезжает к знатному барину – представиться. Тот его принимает, разговаривает с ним, вообще оказывается очень любезен. Чего же больше? Человек, мало-мальски знающий приличия, поспешил бы откланяться через десять минут, потому что он приехал просто для почетного визита. Но г. Фролов не так низко о себе думает. Он, вероятно, подошел к барину с ловкостью почти военного человека, говорил ему при каждом слове: «генерал!», толковал о том, что служит для общей пользы и что это очень тяжело и горько. После этого он уже считает несомненным, что хозяин должен пасть пред ним на колени, ввести его в свой избранный круг и слушать, как оракула. Вследствие таких мечтаний г. Фролов старается продлить свое посещение. Хозяину докладывают, что гости приехали; Фролов все не догадывается убраться. Хозяин, разумеется, в очень затруднительном положении: там у него, может быть, его интимные друзья, люди, с которыми он хотел бы быть запросто, по-семейному, и которые, может быть, не захотели бы видеть в своем дружеском кругу никого из посторонних, хотя бы то был и не становой, а губернаторский чиновник или даже сам губернатор. А между тем Фролов все не уходит. Пригласить его к обеду нет никакой возможности: во-первых, он ни с кем не знаком и к хозяину дома является только в первый раз, во-вторых, – и это главное, – хозяин (не походивший, как видно, на Славомирского) не мог не заметить, что Фролов пошл и глуп неимоверно. Всякий порядочный человек постарался бы отделаться от такого гостя. Сошлемся на вас, читатели: приятно ли вам было бы иметь у себя за столом такого господина, как Фролов?.. Хозяин полагал, конечно, что Фролов догадается уйти хоть в то время, когда он пойдет встречать своих гостей. Ничего не бывало: хозяин пошел к гостям, г. Фролов остался в саду. Что тут прикажете делать? Какое понятие дает о себе г. Фролов знатному барину, к которому приехал представиться! Очевидно, тот подумал наконец, что Фролов непременно хочет утолить свой голод в его владениях. Видя, что с этим господином никакая деликатность не помогает, хозяин велел своему приказчику пригласить нахального гостя в контору, объяснивши ему, что у барина обедать нельзя, потому что у него гости. Заметьте: приглашают его в контору именно потому, что у барина гости; сам Фролов говорит это. Значит, если б гостей не было, барин, пожалуй, и пригласил бы его к своему столу, несмотря на всю его пошлость. А Фролов этим обижается и приводит этот случай в доказательство наглого обращения с ним! Славомирский поступает еще лучше: он восклицает, что этот барин невежа (Славомирский говорит о вежливости!), и торжественно объявляет: «Нет, у меня, братец, ешь сколько хочешь»… Он смотрит на все дело с точки зрения еды, и Фролов не замечает в словах Славомирского нового оскорбления для себя. Можно подумать, что он в самом деле обижен именно тем, что не удалось ему пообедать за столом знатного барина; иных оскорблений – вроде тех, какие ему делает на каждом шагу Славомирский, – он, кажется, не может понимать.
Вслед за этой эпизодической сценой начинается пародия Корнеля. Генерал просит Фролова, нельзя ли как-нибудь пособить Душкиной? Фролов говорит: «Мне и самому ее жаль, генерал; старуха простая, но добрая (!?), и потом – дети могут остаться без куска хлеба… Но ведь я ничего не могу сделать: я исполнитель только того, что предписано». Слова эти очень любопытны в устах Фролова; мы их припомним в своем месте. Славомирский просит затянуть дело, обещаясь через несколько времени отдать деньги за старуху и притом уговорить ростовщика Чеснокова помириться на половине суммы. Фролов затвердил одно: «Не смею нарушить, долг службы!» Напрасно Славомирский толкует ему, напрасно Наденька упрашивает, – Фролов непоколебим. «Я, говорит, дал себе слово ни для чего в мире не отступать ни на шаг». И затем Фролов, при сей верной оказии, пародирует те знаменитые фразы, которые Гораций говорит своей жене и сестре, собираясь на битву с Куриацием. В этой пародии Фролов выходит, впрочем, не столько смешон, сколько гнусен. Во всяком порядочном человеке кипит негодование против этого дрянного, гнилого человека, строго и твердо говорящего о вещах, которые должны быть священны для благородных людей. Он говорит о каком-то долге, присяге, клятве; но все это у него затверженные стереотипные фразы, как мы уже отчасти видели и как сейчас увидим еще яснее.
Поговоривши с Наденькой о долге службы, Фролов удаляется. Между тем является Феликс Викентьич Голумбицкий с предложением Наденьке, а Наденька рассказывает отцу о любви своей к Андрею Николаичу Фролову. Славомирский не знает, что ему делать: звание станового пристава пугает его, и он посылает за Фроловым, в намерении, кажется, уговорить его оставить эту должность. Фролов, конечно, является. Начинается следующий разговор:
ФРОЛОВ (подходя). Что прикажете, генерал?
СЛАВОМИРСКИЙ. Поди сюда, мой любезный. Сядь-ка вон здесь, – потолкуем.
ФРОЛОВ (садясь). Я к вашим услугам.
СЛАВОМИРСКИЙ. Прежде всего прости ты меня, старика, за давишнее. Ну, погорячился, что станешь делать!
ФРОЛОВ. Я уж забыл, генерал. В моей должности…
СЛАВОМИРСКИЙ. Вот то-то и есть… и пр.
Перечитывая этот разговор, как-то чувствуешь, что послужит этот Фролов годок-другой и тогда уже в совершенстве разыграет знаменитую чичиковскую сцену перед генералом:
– Что, братец, ведь твой дядя дурак?
– Дурак, ваше превосходительство.
– Ведь он осел?
– Осел, ваше превосходительство.
Фролов не может не дойти до этого: натура уж у него такая. И тем забавнее слушать его возвышенные рассуждения, в которых он, против воли и незаметно для себя самого, высказывает свой узенький, крайне ограниченный взгляд на вещи. Генерал, видите, спрашивает его, зачем он пошел в становые. Фролов говорит: «Я дворянин, стало – должен служить». Заключение не слишком строго вытекает из посылки; но от Фролова нельзя требовать большой логичности. Пусть ответит по крайней мере, – зачем он пошел в становые. Прежде всего, видите ли, вот какая причина: служа в губернии, нельзя далеко пойти. «Для этого надобно вертеться на глазах у начальства, надобны связи, протекция. Нужно чаще бывать в избранном обществе, а губернское общество так прихотливо, так требовательно, что молодому человеку без средств нельзя туда и показываться. Откуда же взять все, что для этого надобно?..» Так вот он, проповедник общей пользы! Вот как нечаянно высказались его тайные думы! Он, видите, не мог пробить себе дороги в губернском городе, потому что у него не было связей и протекции, не было состояния, чтобы держаться в избранном губернском обществе… И с каким сожалением говорит он об этом! какую важность придает этому обстоятельству! Оно у него на первом плане; даже общая польза забывается при грустном воспоминании о том, что у него не было связей и протекции… Впрочем, мы и в этих словах находим только новое доказательство крайней тупости и пошлости Фролова. По своему тупоумию он не заметил, что протекция была у него именно в той самой госпоже Кустодиевской, сестре Славомирского, у которой он познакомился с Наденькой. Встретившись с ним у Славомирского, Кустодиевская говорит ему: «Мне кажется, вы не могли не заметить участия, которое я в вас всегда принимала. Вы знали мои отношения к людям, от которых зависела ваша служба». Правда, Фролов на это ответил ей: «Благодарю вас, Евгения Всеволодовна: я честным трудом хочу проложить себе дорогу». Но это он уж стал после говорить, – виноград, дескать, зелен… а прежде он, конечно, не воспользовался протекцией потому только, что не догадался, не заметил, а вовсе не потому, чтобы не хотел. Иначе вачем бы ему сожалеть о недостатке связей и протекции?
Но тупоумие Фролова еще ничего не значит в сравнении с его бесстыдством, которое обнаруживается в том, что он для красного словца клевещет на свое доброе и благородное начальство. Теперь он говорит, что начальству нужны угодники, вертящиеся у него на глазах, люди со связями и протекцией, а в продолжение разговора сам же сообщает сведения совершенно противоположные. Говоря о своем поступлении в становые, он выражается так: «Я пошел сам к губернатору, объяснил ему мои намерения; он, как человек вполне благородный, меня понял». Несколько раньше, рассуждая о взятках становых, Фролов говорит: «Что касается лобанчиков и синеньких, то к мерам этим действительно вынуждены прибегать некоторые из нас там, где с них самих требуют, как это велось искони; но теперь, благодаря просвещению, и это выводится. Вот, например, у нас в губернии… Боже избави, если б губернатор узнал!» Этих двух указаний на справедливость и благородство губернского начальника – для нас достаточно. Как же смел этот господин Фролов так клеветать на это самое начальство, толкуя о связях и протекциях и давая понять, что человека дельного и благородного, но не умеющего кланяться и вертеться на глазах, никогда не заметит и не отличит губернское начальство? Жалкий пустозвон этот г. Фролов!
Но этого мало: начиная врать, Фролов вдруг развертывается не хуже Ивана Александровича Хлестакова. «Я, говорит, не довольствуюсь мертвой буквой, я хочу внать живого человека, изучить быт народа, узнать его нужды (я люблю иногда этак пописать, сочинить что-нибудь, как признается Иван Александрович). Здесь, говорит, мне вверены жизнь и спокойствие тридцати тысяч человек; я могу быть им полезен; мне дана власть защитить обиженного, предать правосудию виноватого, «водворить мир в семействе. (Как же, Иван Александрович! Без вас ведь ничего не делается в департаменте, вам Смирдин сорок тысяч платит, вас однажды звали министерством управлять!) Вот для чего, генерал, пошел я в эту должность», – заключает торжественно господин Фролов. Вслед за тем он прибавляет, уж не знаем с какой стати: «И неужели вы думаете, нет в целой России людей, которые бы словами «общая польза» не прикрывали видов корысти? Поверьте, сотнями явятся, кликните только. Но, генерал, не одним только словом, покажите же и делом!» Генерал не находит ничего ответить на эту выходку, как только: «Мне весело тебя слушать». Полагаем, потому весело, что Фролов на каждом слове генералом честит его. Больше нечему, кажется, веселиться, и если бы Славомирский хоть немножко был поумнее, он бы сразу осадил дрянного хвастунишку, припомнивши последнее происшествие с Душкиной и прежние разговоры Фролова. Фролов, видите, хочет знать живого человека, а не мертвую букву. Как же совершается это знание? Вне своих обязанностей он ездит представляться, сам не зная зачем, знатным барам да смиренно выслушивает ругательства Славомирского. В исполнении же своих обязанностей он имеет большое преимущество в том, что превращается в машину не пишущую, а исполняющую написанное. Чиновник, написавший предписание о взыскании долга с Душкиной, имел дело с мертвой бумагой; а становой пристав, взыскивающий долг, имеет дело с живым человеком. Какая же от этого выгода? А вот какая: он узнал, что <если> у человека хотят отнять имущество за долги, то ему бывает неприятно, особенно когда у него на руках остается шестеро маленьких детей. Правда, что для этого не стоило поступать в становые пристава; но что же делать, если Фролов не может иначе смекнуть даже и этого? Кроме того, он в своем простодушии воображает, что он есть какой-то гений-хранитель тридцати тысяч душ. А между тем вспомните, чем отзывается этот гений-хранитель, отказываясь пособить Душкиной. «Я, говорит, очень жалею о ней, знаю, что ее обманули, что взыскание восьмисот рублей, когда она занимала всего двести, не совсем справедливо; но что же делать? Мне предписано, и я должен исполнить. Я только исполнитель того, что приказано». Скажите же на милость: стоит идти в становые пристава, чтобы исполнять приказы, которых внутренне не одобряешь? Можно сказать о себе: «Мне вверены жизнь и спокойствие тридцати тысяч человек», – когда знаешь, что на каждом шагу в своих отношениях к ним ты связан предписаниями земского суда, исправника, губернского правления и пр. Вы видите по ходу всего дела, какова власть станового пристава: он не может не сделать взыскания, он не может отложить его, он не может даже представить о бедности должника или о том, что в уплате нужна рассрочка и что за верность уплаты ручается генерал Славомирский. Он должен непременно сей час же получить все деньги или описать имущество: так ему предписано!.. А туда же говорит: «Мне дана власть защитить обиженного, предать правосудию виноватого, водворить мир в семействе». Да этакая-то власть – исполнять предписания – и будочнику дана; так уж лучше бы Фролову стать на будку и философствовать о своем высоком назначении.
Кроме своей крайней ничтожности, Фролов еще упоминает об одном обстоятельстве, которое заставило бы задуматься всякого порядочного человека, вынужденного поступить на должность Фролова. Он говорит, что «некоторые из нас принуждены прибегать к взяткам, когда с них самих требуют, как это велось искони». Положим, что этого не было в то счастливое время, когда Фролов пошел в становые; но все-таки достаточно ли и надолго ли обеспечена его должность? Губернатора переведут в другую губернию, правитель его канцелярии будет новый, советник в губернском правлении заведется нехороший, просто исправника другого назначат, – все эти обстоятельства могут совершенно изменить положение станового. Прежде с него не требовали, а теперь будут требовать, – и он вынужден будет к взяткам! Он может, правда, не давать; но тогда его через месяц прогонят из службы, несмотря даже на то, что он убил в себе все человеческие чувства и поставил вместо их уважение к долгу службы, под которым он понимает исполнение предписаний исправника. Фролов, впрочем, не боится того, что его прогонят, он даже будет рад этому. Он говорит: «Пусть прогонят; тогда вина не на мне будет перед богом и государем. Была бы моя совесть покойна, а пусть будет, что будет». Славомирский называет его за то благородным и умным малым, но, по нашему мнению, совершенно напрасно. В словах Фролова выражается фамусовское правило: «Подписано – так с плеч долой». Слушая его разглагольствия, вы, может быть, подумали, что он и в самом деле об общей пользе хлопочет; вот он и спешит разуверить вас. «Нет, говорит, что мне общая польза? Бог с ней! Пусть будет, что будет! Мне главное, чтобы самому быть спокойным».
Конечно, выжить человека можно из всякой службы, если он станет идти слишком смело наперекор принятому порядку. Подобные случаи могли десятками каждый день представляться в должности Фролова. Но он ничего не хочет понять; он забрал себе в голову и твердит, что «есть в России места, на которых человек вполне образованный, человек с сердцем, может приносить действительную пользу человечеству». Само собою разумеется, что под этими местами он разумеет места становых приставов, а под вполне образованным человеком с сердцем – самого себя!..
Пораженный благородством убеждений Фролова, Славомирский решается выдать за него дочь свою и требует только, чтобы тот нашел себе службу получше, где бы круг деятельности его был побольше и не в такой мере зависел от предписаний земских судов, исправников и пр. Фролов упирается. По его мнению, снять с себя мундир станового – значит изменить своим убеждениям. В разговоре его с Славомирским по этому случаю выказывается в полном блеске его тупоумие, которому позавидовала бы сама Коробочка. Мы уже видели выше, что Фролов своим убеждением считает предписание земского суда; ему говорят: нельзя ли отложить это предписание или донести, что его исполнить нельзя? – а он отвечает: «Помилуйте, вы заставляете меня изменить моим убеждениям…» Теперь своим убеждением он считает должность станового. «Как, – восклицает он, – я откажусь, из-за чего бы то ни было, от моих убеждений! Никогда, генерал! (Прибавлять к каждой фразе: генерал, составляет также, кажется, одно из коренных убеждений Фролова.) Ведь это я не фразу вам давеча рассказывал… Хороша общая польза!.. Нет, кто решился раз посвятить себя на общую пользу, тот должен быть готов на всякую жертву». Выслушав это, Славомирский готов уже воскликнуть? ну, парень! крепколобый!.. Но он еще хочет испытать Фролова и спрашивает: «Это ваше последнее слово?» Фролов отвечает: «Последнее, генерал». Тогда Славомирский гордо говорит ему: «Ступайте!» Фролов вдруг пугается и хочет, кажется, принести слезное раскаяние. «Генерал!..» – начинает он. Но генерал уже не слушает, а указывает ему на дверь и три раза повторяет: «Ступайте, ступайте, ступайте…» После этого любезного приглашения Фролов почтительно раскланивается (что значит – поучил генерал-то в первой сцене!) и уходите словами: «Бог вам судья, генерал!»
Далее нет на сцене Фролова, но незримо он присутствует в пьесе до конца. О нем говорят, его великодушие всеми превозносится и, наконец, побеждает предубеждение генерала… Читатели знают уже, что Фролов заплатил деньги за Душкину. Об этом она рассказывает Славомирскому, прибавляя, что Фролов держал к ней такую речь: «Родитель, говорит, мой всю жисть копил одну тысячу. Да мне, говорит, куда с ними в деревне-то? царского, говорит, жалованья станет…» Рассказывая это, Душкина плачет, Славомирский – тоже, а Шалаев, племянник Славомирского, лежебок и картежник, крепится, чтоб не заплакать!.. Трогательно!.. В заключение генерал хочет отдать дочь за великодушного станового. Ему говорят, что становой уж уехал; он посылает воротить его. И Фролов, без всякого сомнения, воротится, несмотря на то, что ему так любезно указали дверь в последний раз. Таких людей, как он, можно сто раз обругать, выгнать и потом опять призвать: они не чувствуют оскорблений. Им только бы исполнить долг службы, то есть предписание исправника. Как поддержать свое собственное личное достоинство, об этом они не заботятся, потому что на этот счет из земского суда – нет никакого предписания…
Такова эта личность, которую наши критики хотели принять за идеал. Скажите, возможно ли, чтоб автор мог создавать это лицо как идеал честности и благородства? Мы не думаем. Не смеем утверждать своего мнения как непреложного; но, признаемся, мы не могли представить себе, чтобы вообще нашелся человек, который мог бы увлечься Фроловым и принять его серьезно за что-нибудь порядочное. Мы считаем даже не совсем естественным то, что такой глупец, как Славомирский, мог признать во Фролове какое-то благородство. По нашему крайнему разумению, даже Славомирский не мог не догадаться, что за птица этот Фролов. Нравственный характер Чичикова и упорное тупоумие Коробочки, соединенные с бестолковым хвастовством Хлестакова, ярко выражаются в каждой фразе Фролова. Не заметить их – невозможно, особенно когда Фролов пускается в рыцарские рассуждения о том, как он хочет общей пользы в как должен терпеть по службе за правду.
К довершению своей карикатурности, Фролов обладает еще сентиментальностью карамзинского Эраста[8]. Когда Славомирский ругает его, у него являются слезы на глазах; защищает звание станового он со слезами на глазах; когда его Славомирский гонит от себя, он почтительно кланяется со вздохом; наконец, отдавая свои последние деньги первой встречной дуре, он выказывает нежнейшую чувствительность, которая может равняться только его бестолковости. О добросердечный и наивный Эраст! Сердце твое не могло вынести слез госпожи Душкиной, и ты отдал ей все, что имел! Что же теперь будет с тобою? Завтра, по всей вероятности, пред глазами твоими явятся новые несчастные, гораздо более нуждающиеся в твоей помощи. Ты захочешь помочь им, но – увы! – ты уже не в состоянии это сделать: ты все отдал госпоже Душкиной, для отдачи ростовщику Чеснокову, и теперь ты сам ничего не имеешь!.. Как должно терзаться твое сердце чувствительное при виде горестной бедности, которая неминуемо тебе встретится в стане твоем, среди тридцати тысяч людей, коих жизнь и счастие тебе вверены! О чувствительный, но безрассудный Эраст! Сколько раз кровию обольется сердце твое при виде нищеты, коей ты не можешь помочь, при виде слез, кои не можешь отереть! Сколько раз проклянешь ты свою чувствительность расточительную, когда неумолимый рассудок предаст тебя в жертву мрачному раскаянию! О Эраст, Эраст! Отчего природа, сия общая мать наша, снабдив тебя редкою чувствительностью, не наделила тебя здравым смыслом? правда, теперь ты счастлив, ты вознагражден за свой чувствительный поступок выгодной партией; по вспомни, о простодушный Андрей Николаич, что редко в сем мире встречаются смертные столь глупые, как Славомирский!..
Мы могли бы подробно проследить и за Славомирским и выставить на вид многие черты его нравственной низости. Мы могли бы распространиться о том, как он из военной пошел в гражданскую службу и был недоволен тем, что здесь нельзя прямо приказывать, а все нужно советоваться; могли бы привести его рассказ в том, как он отличался в гражданской службе, прогоняя честных людей за взятки и держа при себе взяточников за честность; могли бы рассмотреть те основания, по которым он ненавидит взятки, говоря, что «дворянину подкупать подьячего стыдно», словом – могли бы дать десятки доказательств того, как жалок в душе и как ограничен умом этот Славомирский. Но, полагаем, и того, что привели мы раньше, уже достаточно для оценки этого характера. Оставим его в покое: идиот этот Фроловым восхищается, – чего же вам больше?
Читатели, может быть, ждут, что мы займемся еще остальными персонажами пьесы, рассмотрим постройку комедии, скажем наше суждение о ее сценических и художественных достоинствах и пр. Напрасно. Мы уже сказали, что в пьесе г. Львова видим пародию на «Чиновника» и что в этой пародии нам кажется удачно схваченным характер Фролова как обедневшего Надимова. Но вместе с тем мы должны заметить, что вообще пародия эта неудачна. Во-первых, она есть уже повторение первой пародии, что очень много вредит ей. Во-вторых, в составлении этой второй пародии г. Львов, как видно, слишком поторопился и не выказал никакой изобретательности, необходимой для того, чтоб пародия имела самостоятельное значение. Кроме перемены имен и состояния Надимова, г. Львов ничего не изменил в пьесе графа Соллогуба. Там является губернаторский чиновник для следствия; здесь является становой пристав для взыскания долга. Там графиня, в которую чиновник влюблен; здесь генеральская дочка, в которую влюблен становой. Там предлагают Надимову взятку, и он беснуется на сцене, крича о своей добродетели; здесь Фролова упрашивают, и он тоже кричит о долге службы. Там дело разыгрывается очень благополучно тем, что Надимов платит за какого-то глупого господина десять тысяч. Здесь точно так же Фролов платит 800 рублей за глупую бабу. Спрашивается: какая цель, какая надобность в подобной пародии? Ведь уж Надимов достаточно обличен; зачем же еще, в обличение его, сочинять длинную скучную пьесу, в которой опять тот же несносный Надимов, намеренно опошленный и одураченный еще более прежнего, долбит свои заученные, жалкие фразы?.. Конечно, глупость и пошлость имеют тысячи разнообразнейших оттенков, и каждый из них имеет право на обличение. Но надобно же позаботиться о том, чтобы обличение это было хоть сколько-нибудь поживее, поновее и подействительнее. А то ведь нужно признаться, что г. Львов, отлично схвативши пошлую и глупую сторону Фролова, не умел, однако же, сделать его отвратительным в такой мере, как бы следовало. Он заставил Фролова на деле поддерживать свои бестолковые понятия, и хоть это очень забавно, но неестественно. По нашему мнению, такому пошлому пустозвону, как Фролов, не должна была прийти в голову мысль – последовать на деле своим убеждениям. Автор произвольно посадил его в должность станового и заставил вести себя так нелепо – вероятно, с тем намерением, чтобы еще забавнее было прямое сопоставление нравственной низости и умственной ограниченности этого человека с затверженными им идеями, которые он формально приводит даже и в исполнение. И действительно, тупоумие Фролова крайне забавно; но низость его не так ярко бросается в глаза. Автор нигде не показал, что он намеренно выставлял Фролова такой дрянью; напротив – он как будто одобрял поступки этого господина. Это, по нашему мнению, предосторожность тоже излишняя. Она-то, в соединении с небрежностью отделки характера Фролова, и подала повод некоторым вообразить, будто в этом лице автор хотел изобразить идеал благородства.
Что касается художественных достоинств, то, разумеется, каких же достоинств требовать от пародии? Чтоб она была жива и остроумна? Этого, как мы сказали, нет в пародии г. Львова. Чтоб была нова? Тоже нет. Зла, ярка, назойлива? Этого вовсе нет; напротив, пародия г. Львова очень слаба, бледна и не имеет единства цели. Успех ее на сцене доказывает только, как надоели нашей публике все эти гг. Надимовы и как она рада всякому случаю посмеяться над их бестолковостью и пошлостью.
Впрочем, мы слышали с большим прискорбием, что «Предубеждение» имеет не столь блистательный успех, как «Свет не без добрых людей». Причиною этого (кроме того, что вторая попытка уже не так интересна, как первая) служит, вероятно, то, что заглавие комедии слишком просто. Г-н Львов пишет для публики, в которой иные, пожалуй, и Фролова примут за человека не совсем пошлого и Славомирского почтут не вполне глупым. К такой публике нужно приноровляться, и мы предсказываем г. Львову, что его пьеса будет иметь успех вдесятеро больший, если он даст ей следующее заглавие:
ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧКА И СТАНОВОЙ ПРИСТАВ,
ИЛИ
БЕСКОРЫСТНАЯ ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ, ВОЗНАГРАЖДЕННАЯ ВЫГОДНОЙ ПАРТИЕЙ
Комедия в двух картинах с эпилогом. Соч. Н. Львова
Картина 1
Скромный Андрюша и вспыльчивый генерал.
Картина 2
Ай да становой пристав!
или
Мой стан мне всего дороже.
Эпилог
О становой пристав! приди в мои объятия.
Лучше этого мы ничего не можем посоветовать г. Львову.
Примечания
Условные сокращения
Все ссылки на произведения Н. А. Добролюбова даются по изд.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М. – Л., Гослитиздат, 1961–1964, с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.
Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.
БдЧ – «Библиотека для чтения»
ГИХЛ – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.
Изд. 1862 г, – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.
ЛН – «Литературное наследство»
Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).
ОЗ – «Отечественные записки»
РБ – «Русская беседа»
РВ – «Русский вестник»
Совр. – «Современник»
Чернышевский – Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.
Впервые Совр., 1858, № 7, отд. II, с. 41–63, без подписи.
Н. М. Львов – драматург, редактор юмористического журнала «Весельчак» (СПб., 1858–1859; о журнале «Весельчак» см.: III, 246–249) и журнала «изящных искусств и литературы» «Светопись» (СПб., 1858–1859). Одно время руководители «Современника» рассматривали его как потенциального сотрудника». Н. Г. Чернышевский в рецензии Львова на комедию В. А. Соллогуба «Чиновник» (Совр., 1856, № 6) увидел принципиальное неприятие поверхностного обличительства и, рассчитывая на его знание чиновничьего мира (Львов служил в петербургской управе благочиния), ждал от него «рассказов, вроде Щедрина» (Чернышевский, XIV, 341). Первая комедия Львова – «Свет не без добрых людей», воспринятая как «опровержение» «Чиновника», была оценена в «Современнике» благожелательно, хотя и отмечалась ее художественная слабость (Чернышевский, IV, 735–736; XIV, 343; Панаев И. И. Петербургская жизнь. – Совр., 1857, № 12). С появлением комедии Львова «Предубеждение» отношение «Современника» к нему определилось окончательно – ироническим отзывом И. И. Панаева (см. примеч. 2) и настоящей рецензией.
Добролюбов воспользовался в этой рецензии своеобразным критическим приемом. Он делает вид, будто не согласен с мнением критики (в частности А. Пальховского – см. примеч. 3), что комедия Львова – еще одна неудачная попытка создать образ идеального чиновника, и рассматривает пьесу как пародию на все того же «Чиновника», а образ главного героя не как безжизненный и натянутый, а как живой и типический. Этот прием позволяет Добролюбову говорить не о слабой комедии, а о реальном жизненном явлении, которое отразилось в ней помимо воли автора. Критик высмеивает здесь глубоко антипатичный ему тип фразера, человека с формальными, затверженными убеждениями, а также распространенное умонастроение второй половины 1850-х гг., для которого характерно поверхностное представление о природе общественного зла и вера в легкие способы его преодоления. Вместе с тем спор с А. Пальховским – не просто прием: Добролюбов (по существу разделяя его оценку пьесы) не принимает самую постановку вопроса о несоответствии героя идеалу, предполагающую возможность образа идеального чиновника.
Комментарии
1
Премьера спектакля по пьесе Львова «Предубеждение» в петербургском Александрийском театре состоялась 5 мая 1858 г. Пьеса с успехом шла в течение всего 1858 г., но затем быстро сошла со сцены.
(обратно)2
И. И. Панаевым в «Заметках Нового поэта» (Совр., 1858, № 6).
(обратно)3
Речь идет об А. Пальховском (Атеней, 1858, ч. 3).
(обратно)4
Элиза Рашель – известная французская актриса, прославившаяся исполнением ролей в трагедиях Корнеля, Расина и других драматургов классицизма. В 1853–1854 гг. выступала в России. Умерла в январе 1858 г.
(обратно)5
Фальстаф – обжора, пьяница и плут, комический персонаж хроник Шекспира «Генрих IV», «Генрих V» и комедии «Виндзорские проказницы».
(обратно)6
В трагедии Корнеля «Гораций» рассказывается о завоевании римлянами города Альба Лонги.
(обратно)7
Добролюбов упоминает рассказ Расплюева – персонажа комедии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (д. 2, явл. 2).
(обратно)8
Эраст – герой повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792).
(обратно)


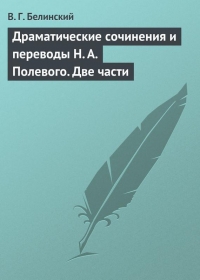
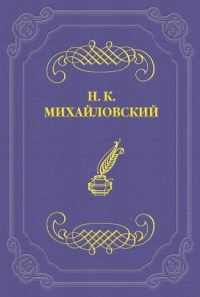
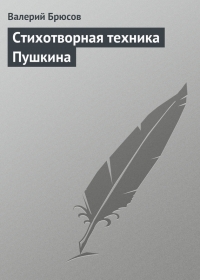
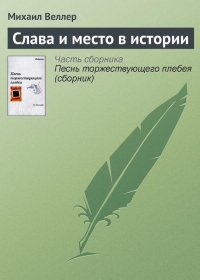

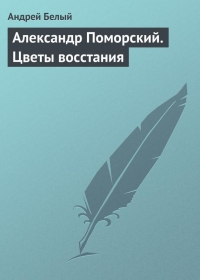
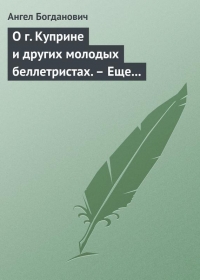
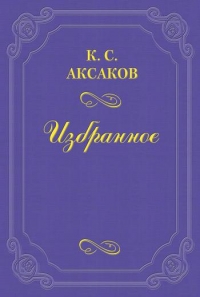

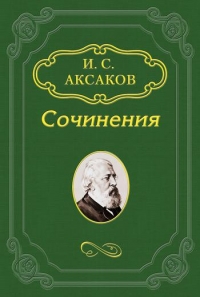
Комментарии к книге «Предубеждение, или Не место красит человека, человек – место», Николай Александрович Добролюбов
Всего 0 комментариев