Виссарион Григорьевич Белинский Грамматические разыскания. В. А. Васильева…
ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗЫСКАНИЯ. В. А. Васильева. 1) О букве ё. 2) Об образовании имен уменьшительных рода мужеского и женского. Санкт-Петербург. В тип. Конрада Вингебера. 1845. В 8-ю д. л., 65 стр.
Появление книжки г. Васильева очень порадовало нас. В самом деле, давно бы уже пора приняться нам за разработывание русской грамматики. А то – ведь стыдно сказать! – грамматика полагается у нас в основание учению общественному и частному, – а, между тем у нас нет решительно ни одной удовлетворительной грамматики! И как же бы могла она явиться у нас, когда теория языка русского почти не начата, и для грамматики, как систематического свода законов языка, не приготовлено никаких данных? Оттого, если сличить две русские грамматики разных составителей, например, грамматику г. Греча с грамматикою г. Востокова{1}, – подумаешь, что каждая из них рассуждает об особенном языке или что они отделены одна от другой большим промежутком времени. Каждый пишущий в России руководствуется своею собственною грамматикою; нововведениям, этимологическим, синтаксическим и орфографическим, нет числа и меры: всякий молодец на свой образец! И между тем, несмотря на вопли некоторых старых писак против этой грамматической анархии, в которой они видят злоупотребление и чуть не разбой, – при настоящем положении русского языка, эта грамматическая анархия неизбежна и необходима – даже полезна и благотворна… Русский язык еще не установился, – и дай бог, чтоб он еще как можно долее не установился, потому что чем дольше будет он установляться, тем лучше и богаче установится он. Есть люди, которые верят, или только делают вид, что верят, будто Карамзиным русский язык совершенно утвердился и дальше идти не может: много благодарны за этот язык-скороспелку, которому только без году неделя, а он уж и состарелся! Как один из замечательнейших моментов развития русского языка, мы принимаем карамзинский язык с любовию, уважением, благодарностью и даже, если хотите, с удивлением; но нам и даром не нужно карамзинского языка, если в нем должно видеть совершенно установившийся язык русский… Мы думаем, что если Крылов и обязан Карамзину чистотою своего языка, то все же язык Крылова во сто раз выше языка Карамзина, по той простой причине, что язык Крылова до nec plus ultra[1] язык русский, тогда как язык Карамзина только в «Истории государства Российского» обнаружил стремление быть языком русским, а до тех пор обнаруживал стремление только не быть славяно-латинско-немецким, или ломоносовским языком (что и было со стороны Карамзина великою заслугою). Но сфера языка Крылова сама по себе довольно ограничена, и потому не в ней русский язык мог достичь своего установления и не на басне остановиться. Ему надо было идти, и он пошел вперед содействием Жуковского, Батюшкова, Гнедича, самого Карамзина, который в своей «Истории государства Российского» говорил совсем другою манерою, нежели прежде, – правда, манерою еще более искусственною, но зато и более полезною для успеха русского языка. Явился Пушкин – и русский язык обрел новую силу, прелесть, гибкость, богатство, а главное – стал развязен, естествен, стал вполне русским языком. Поэтому, слушая людей, которые наивно утверждают, что Карамзин кончил, так сказать, воспитание русского языка, и совсем умалчивают о Пушкине, как будто бы в деле языка он не заслуживает и упоминовения, – невольно вспоминаешь стих Крылова, обратившийся в пословицу:
Слона-то я и не заметил!{2}Теперь посмотрите: Ломоносов установляет славяно-латинско-немецкую форму русского языка, всеми принятую безусловно; но в писателях екатерининского века уже виден в ходе языка значительный успех: Державина и Фонвизина, по отношению к языку, уже никак нельзя сравнивать с Ломоносовым. Карамзин, так сказать, убивает насмерть язык Ломоносова, с одной стороны, представив образцы новой прозы, а с другой, вместе с Дмитриевым, представив образцы стиха, далеко, в отношении к языку (а не поэзии), опередившего стих Державина. Мало этого: лишь только проза его сделалась образцовою и начала развиваться далее содействием Жуковского, как он сам отрекается от нее и в своей «Истории» силится создать совсем другого рода прозу.
О Крылове мы говорили. Стих Жуковского и Батюшкова неизмеримо далеко оставляет за собою стих Дмитриева и Карамзина; Гнедич создает русский гекзаметр и делает русский язык способным для воспроизведения изящной древней речи эллинской. Кажется, много сделано? Трудно поверить, чтоб можно было идти дальше? И что же? – Пушкин является полным реформатором языка, увлекает за собою Крылова, писателя, опередившего его целою четвертью века, увлекает Жуковского. Вместе с Пушкиным является Грибоедов и создает язык русской стихотворной комедии, как Крылов создал язык русской басни. Сам Пушкин не стоял на одном месте: с «Полтавы», вышедшей в 1829 году, началась для его поэтической деятельности новая эпоха в отношении и к творчеству и к языку. Прозою он писал до того времени мало, но и в его прозаических отрывках (особенно в «Арапе Петра Великого») видно уже начало совершенно новой русской прозы. И все это сделалось в какие-нибудь девяносто лет, считая от первой оды Ломоносова – «На взятие Хотина», написанной правильным топическим размером, навсегда утвердившимся в русской поэзии (1739), до «Полтавы» Пушкина (1829)!.. Какая же могла тут явиться грамматика? Ведь грамматика есть абстракция языка, существующего в созданиях литературы, а литература изменялась с каждым годом? При таких условиях, какую ни напишите грамматику, – она успеет отстать от языка литературы, пока вы будете печатать ее.
Но почему же, спросят нас, мы говорим всё о языке литературы, а не о языке народа? По самой простой причине: масса народа отстала от образованного общества, и язык ее сделался для общества слишком бедным и неудовлетворительным: ведь не у всякого же достанет духа объясняться маленько мужицким слогом{3}. Язык же общества беспрестанно изменялся вместе с литературою.
Однако ж и Пушкиным не кончилось развитие русского языка, который и теперь еще далек от того, чтоб установиться. Особенно беден доселе разговорный, общественный русский язык. Для поэзии, преимущественно высокой, еще нашими писателями до Пушкина (преимущественно Державиным, Жуковским и Батюшковым) сделано было много, а Пушкиным довершено их дело. И не мудрено: русский язык необыкновенно богат для выражения явлений природы и, по своему близкому сродству с древнецерковным славянским языком, причастен гению древних классических языков, способен к передаче произведений древнегреческой и латинской поэзии. В самом деле, какое богатство для изображения явлений естественной действительности заключается только в глаголах русских, имеющих виды! Плавать, плыть, приплывать, приплыть, заплывать, отплывать, заплыть, приплыть <проплыть?>, уплывать, уплыть, наплывать, наплыть, подплывать, подплыть, поплавать, поплыть, расплавиться, расплыться, наплыватъся, заплаваться – это все один глагол для выражения двадцати оттенков одного и того же действия!
Степь раздольная Далеко вокруг. Широко лежит, Ковылем-травой Расстилается! Ах ты, степь моя, Степь привольная, Широко ты, степь, Пораскинулась, К морю Черному Понадвинулась!{4}На каком другом языке передали бы вы поэтическую прелесть этих выражений покойного Кольцова о степи: расстилается, пораскинулась, понадвинулась?..
Да, благодаря уже самому свойству русского языка, поэзия природы, поэзия чувств и мыслей, не ознаменованных ни печатию абстракции, ни печатию общественности, навсегда установилась у нас Пушкиным, и язык для нее вполне выработался, – так что дальнейший прогресс для языка будет уже не столько со стороны формы, сколько со стороны содержания. Но такой прогресс возможен не только для юного русского языка, еще далеко не во всех отношениях вышедшего из пелен, но и для вполне развившегося с лишком два века назад французского языка. Каждый вновь появляющийся великий писатель открывает в своем родном языке новые средства для выражения новой сферы созерцания. Так, например, в грамматическом отношении нет почти никакой разницы между языком Руссо и Жоржа Занда; но зато какая разница между тем и другим языком в отношении к их содержанию! В этом отношении, благодаря Лермонтову, русский язык далеко подвинулся вперед после Пушкина, и таким образом он не перестанет подвигаться вперед до тех пор, пока не перестанут на Руси являться великие писатели.
Но зато как еще беден русский язык для выражения предметов науки, общественности, – словом, всего отвлеченного, всего цивилизованного, глубоко и тонко развитого, даже ежедневных житейских отношений! И причина этой бедности заключается, к несчастию, не в том только, что русский язык молод, неразвит, не обработан, но еще и в историческом развитии русского народа. Как богаты перед ним, в этом отношении, языки народов Западной Европы! – А почему? – Потому, что они образовались большею частию из обломков латинского, через который приняли в себя не малое число даже греческих слов. Исключение остается за немецким языком, как самостоятельным; а попробуйте исключить из него все взятые немцами латинские и греческие слова, – и вы увидите, как страшно обеднеет он. Вместе с словами искаженного латинского языка тевтонские варвары взяли от римлян и те понятия, те идеи, которые могла породить и развить только гуманическая классическая древность и которые не могли бы иным путем достаться варварам. От этого, например, французский язык так богат словами, которые заключают в себе философский смысл и которые, несмотря на то, употребляются в самом простом житейском разговоре. Субъект, объект, индивидуум, индивидуальный, абсолютный, субстанция, субстанцияльный, конкретный, универсальный, абстрактный, категория, рационализм, рациональный, обскурантизм, индифферентизм, специальный, специализм, коллизия – все эти слова считаются у нас книжными, смешными и дикими и навлекают на себя глумление невежд, если употребляются и не в разговоре, а в рассуждениях об умственных предметах{5}. Оно отчасти и понятно: их не было в русском языке, потому что в русской цивилизации до Петра Великого не было выражаемых ими понятий; а во французском языке они существуют как весьма обыкновенные слова: l'objet, le sujet, l'individu, individuel, l'individualite, absolu, la substance, substantiel, concret, universel, l'universalite, abstrait, la categorie, le rationalisme, rationel, l'obscurantisme, l'indifferentisme, le specialisme, la collision… Таких слов мы не перечли здесь и сотой доли. Все такие слова мы поневоле должны брать целиком у иностранцев; многие из них совершенно обрусели, и мы так привыкли к ним, что как будто и не считаем их за чужие: коммерция, монополия, манифест, декларация, прокламация, инстинкт, фабрика, мануфактура, брильянт, поэзия, проза, музыка, гармония, мелодия, администрация, губерния, мастер, мастерство, маляр, кучер, солдат, офицер и пр., и пр., и пр.{6}. Таких слов мы не исчислили здесь и тысячной доли. Многие из иностранных слов удачно переведены на русский язык и получили в нем право гражданства: правительство, промышленность, предмет, личность (не оскорбление, a personnalite), девственность, любезность, воспроизведение (reproduction), влияние, отношение, заключение (conclusion), изложение (exposition){7} и пр. Нечего уже говорить, что, чрез столкновение русского ума с доселе чуждыми ему идеями, русский язык стал богаче словами, которые умножились этимологическим производством для выражения оттенков уже существовавших понятий. Таким образом произошло неисчислимое множество слов вроде следующих: враждебность, количественность, творчество, знаменитость (в смысле славного чем-нибудь человека, celebrite), множественность, сладостный, принадлежность, влюбчивость, письменность, грамотность и т. п.{8}. Но, несмотря на то, во французском языке остается множество слов, в значении которых мы не можем не нуждаться, но которых, в то же время, не можем ни перевести (потому что у нас нет соответствующих им слов), ни взять целиком (потому что они как-то не вошли сами в наш язык). Впрочем, некоторые из них мы поневоле мешаем в свой русский разговор, к величайшему неудовольствию пуристов, которых ограниченность не видит в них нужды; таковы: compromettre, solidarite, alternative, charite, exagerer, se prononcer, pretendre, conception, garantir, garantie, exploiter, initier, initiation, initiative, varier, remonter, preponderance, chance, camaraderie, association, attribut, etaler, detailler, assortir, revanche и пр. (компрометировать, эксажерировать, прононсироваться, претендовать, концепция, гарантировать, эксплуатировать, вариировать, ремонтировать, препондеранс, шанс, ассоцияция, атрибут, эталировать, детальировать, сортировать, реванш){9}. Нечего говорить о богатстве французской фразеологии, о гибкости французского языка, способного на выражение всевозможных тонкостей и оттенков мыслей. Выписанные нами выше слова важны еще и по определенности, с какою выражают они заключенное в них понятие: поэтому многие из них можно бы перевести, да только перевод будет неточен – то же, да не то. Так, например, charite можно перевести словом милосердие, а будет не то: схвачено понятие, но потеряны некоторые оттенки его; etaler – выставлять, раскладывать напоказ – опять близко, но не то; revanche – возмездие: похоже, а не совсем! Вот почему французский язык не у одних у нас в таком употреблении. Можно быть в нем не слишком сильным, – и, несмотря на то, подлинник хорошего французского сочинения понимать лучше, нежели превосходный перевод его по-русски. Писать по-русски письма – просто мучение: фраза выходит тяжела, пахнет грамматикою и семинариею, обороты неуклюжи. Пишете, мараете – и кончите тем, что сразу напишете по-французски – и выйдет хорошо. Говорить по-русски, не вмешивая фраз и слов французских, очень трудно. Наши литераторы и так называемые патриоты упрекали и теперь упрекают высшее общество в равнодушии и даже презрении к русскому языку и русской литературе, в пристрастии и даже страсти к французскому языку и французской литературе: обвинение несправедливое и в высшей степени мещанское! Наше высшее общество, вдруг столкнувшись, так сказать, с Европою, увидело, что для его новых потребностей, идей и общественных отношений русский язык беден и недостаточен, хотя для своего общества (до времен Петра Великого) он, как и естественно, был не только удовлетворителен, но еще и очень богат. Русскому обществу по-русски читать было нечего; однако ж то немногое, что было, оно читало: при Екатерине Великой оно читало Державина и Богдановича, смотрело в театре трагедии Сумарокова и комедии Фонвизина; при Александре 1-м оно не по одним слухам знало о Карамзине, Дмитриеве, Озерове, Крылове, Жуковском и Батюшкове. Но это ведь еще не была литература, способная занять и наполнить досуги образованного общества: годовой бюджет произведений всех этих писателей едва мог ставать на неделю чтения. Явился Пушкин – высшее общество прочло его.
В то же время оно не только прочло Гоголя и Лермонтова, но перелистывает иногда и не столь крупных писателей, заглядывает даже в журналы. В чем же упрекают его? – Разве в том, что оно не проглатывает всего, что производит досужество российских сочинителей? – Ну, за это надо извинить высшее общество: оно немножко деликатно и боится индижестии{10}… Но оно не говорит по-русски? – Правда; и это оттого, что, как сказал Пушкин,
Доселе гордый наш язык К почтовой прозе не привык{11},и оттого, что он еще менее привык к разговору: местоимения его такие длинные, например, который, без которого между тем нельзя составить фразы; а его причастия, и действительные и страдательные, так долговязы, главное же – так отзываются «высоким слогом»; его фраза так пахнет книгою.
Для устранения всех этих препятствий еще очень мало сделано и высшим обществом и литературою, но «мало» не значит еще «ничего». Немного сделано, но уже делается: с одной стороны, высшее общество, все больше и больше читая по-русски, естественно, больше и говорит по-русски; а когда русская литература будет ежегодно производить хорошего и интересного столько же, сколько ежегодно производит французская литература, или хоть около того, – тогда наше высшее общество будет и читать и говорить по-русски, без сомнения, больше, чем по-французски. А то ведь, согласитесь сами, – две или три, много-много пять порядочных повестей в год, роман в иной год да десяток журналов, которые больше чем наполовину наполняются переводами и из которых разве только два удобны для чтения, – согласитесь, что такая литература, если только она и в самом деле – литература, немного времени возьмет у самого жадного до чтения, но хотя немного разборчивого читателя. С другой стороны, русская литература теперь на доброй дороге для того, чтоб выработать из языка книги язык общества и жизни. Она давно уже стремится к этому, – с тех пор, как заговорили о важности так называемой легкой поэзии и легкой литературы{12}. Перебирая наших деятелей в этом отношении, пропустим Сумарокова, Богдановича, даже Хемницера и начнем с Фонвизина, потом упомянем Крылова и Дмитриева (басни и сказки; в особенности «Модная жена»); от них перейдем к бессмертному созданию Грибоедова «Горе от ума», к «Евгению Онегину» и «Графу Нулину» Пушкина, причем упомянем о прозаических опытах Пушкина (преимущественно об «Арапе Петра Великого»). С Гоголя начинается новый период русской литературы, которая, в лице этого генияльного писателя, обратилась преимущественно к изображению русского общества. Пуристы, грамматоеды и корректоры нападают на язык Гоголя{13}, и, если хотите, не совсем безосновательно: его язык точно неправилен, нередко грешит против грамматики и отличается длинными периодами, которые изобилуют вставочными предложениями; но со всем тем он так живописен, так ярок и рельефен, так определителен и точен, что его недостатки, о которых мы сказали выше, скорее составляют его прелесть, нежели порок, как иногда некоторые неправильности черт или веснушки составляют прелесть прекрасного женского лица. Возьмите самый неуклюжий период Гоголя: его легко поправить, и это сумеет сделать всякий грамотей десятого разряда; но покуситься на это значило бы испортить период, лишить его оригинальности и жизни. Гоголь дал направление прозаической литературе нашего времени, как Лермонтов дал направление всей стихотворной литературе последнего времени. И направление, данное Гоголем, особенно плодотворно для литературы и для языка, которые поэтому учатся и научатся хорошо говорить о простых вещах, и уже не поучать, как прежде, торжественно и, важно публику, а беседовать с нею. С другой стороны, еще с появления «Московского журнала» и «Вестника Европы» Карамзина наша журнальная литература оказала стремление объясняться с публикою не парадным языком книги, а живым языком общества. Но Карамзин не долго действовал на журнальном поприще, – и потому только с появления «Московского телеграфа» начинается период настоящей журнальной деятельности, полезной и для общества и для языка. И нельзя сказать, чтоб в этом отношении журналистика наша не сделала с тех пор значительных успехов.
Но как бы ни был язык неразвит и необработан, – он все же ведь имеет свой гений, свой дух, свои законы и свои, только ему свойственные, характер и физиономию: исследовать, определить, – словом, привести их в ясное сознание, есть дело грамматики. Взглянем же на то, что сделала у нас для языка грамматика. Сначала, подобно русской поэзии и русской литературе вообще, русская грамматика нисколько не была русскою, но представляла какой-то странный сколок с латинской, французской и немецкой грамматики. Наши грамматисты, от Мелетия Смотрицкого до Ломоносова и бывшей академии Российской, составляя русскую грамматику, как будто ничего другого не делали, как только переводили латинскую, – и потому они в русских глаголах, кроме трех времен – настоящего, прошедшего и будущего, действительно существующих, нашли еще неопределенное прошедшее (преходящее), совершенно прошедшее, давно прошедшее, неопределенное будущее, совершенное будущее и другие и при каждом глаголе открыли по нескольку неокончательных наклонений. Также неудовлетворительна была грамматика, изданная Российской академиею{14}. Впрочем, за это облатынение русской грамматики не должно строго судить наших старинных грамотеев: вся их вина состояла в том, что они начали с начала, по естественному ходу человеческого ума. Вследствие реформы Петpa Великого у нас все русское неизбежно должно было обыностраниться. Наконец, знаменитый лингвист, немец Фатер, первый проникнув в особенные свойства русских глаголов, положил твердое основание русской грамматике, по крайней мере, сделал ее возможною. Он доказал, что совершающееся в глаголах других языков посредством множества времен у нас делается через виды, что каждый русский глагол имеет несколько видов, что каждый вид имеет только одно неокончательное наклонение и что глаголы неопределенного и многократного вида имеют три времени – настоящее, прошедшее и будущее, а глаголы совершенного (или определенного) и многократного вида имеют только два времени – прошедшее и будущее (последнее спрягается совершенно так, как настоящее время глаголов неопределенного и многократного видов){15}. Об этом самом писал покойный профессор Болдырев, которого обвиняли в том, что он присвоил себе мысли Фатера{16}. Справедливо ли это, мы решить не можем, а лучше скажем, что профессор Болдырев написал еще прекрасное рассуждение о степенях сравнения русских прилагательных, в котором доказал, что степень, которую принимали за превосходную и которая оканчивается на айший и ыйший, есть, напротив, сравнительная степень полной формы прилагательных, тогда как степень, которая одна считалась сравнительною и которая оканчивается на ѣе, ѣй и е, есть только сравнительная усеченной формы прилагательных{17}. Потом мы помним еще небольшую, но дельную статейку профессора И. И. Давыдова «О порядке слов»{18}. Имя г. Востокова по справедливости должно быть упоминаемо с почетом, как автора лучшей доселе русской грамматики. Но все это – не корень, не начало. Прежде составления грамматики необходимо аналитическое исследование русского языка, глубокое проникновение в анатомию, в физиологию, в тайну организма языка. Надо начать с звука, с буквы. Это и сделал знаменитый филолог наш, Г. П. Павский, который один стоит целой академии. Его «Филологическими наблюдениями над составом русского языка» положено прочное основание филологическому изучению русского языка, показан истинный метод для этого изучения{19}. Это превосходное сочинение еще не кончено; но мы знаем из верного источника, что последняя, шестая, часть его приводится к окончанию автором и вместе с четвертою и пятою не замедлит поступить в печать. Первые три части этого творения уже все распроданы и выйдут вторым изданием, когда окончатся печатанием три последние части. Это успех, успех блестящий и славный тем более, что у нас нет еще публики для ученых сочинений и что журналы не оценили великий труд о. Павского как следует, – а не оценили потому, что для него, как сочинения совершенно самобытного и оригинального, которое первое полагает основание русской филологии, не нашлось ценителей, достаточно сильных для подобной оценки. Но придет время, когда сочинение о. Павского сделается классическою и настольною книгою для всякого ученого, который посвятит себя изучению русского языка. Уже и теперь плоха и ничтожна была бы самая хорошая грамматика, которой автор, при ее составлении, много и крепко не посоветовался бы с «Филологическими наблюдениями над составом русского языка».
«Грамматические разыскания» г. Васильева явились вследствие книги г. Павского и написаны по указанному ею методу и в ее духе. Не сомневаемся, что найдутся остряки, забавники и потешники: они будут смеяться над ничтожностью и мелочностью предмета, о котором так серьезно хлопочет книжка г. Васильева. Пусть глумятся на здоровье себе и на потеху своим читателям!{20} Положим, что книжка г. Васильева порождена даже педантизмом; но разве не такому педантизму обязаны французы удивительною разработкою своего языка? Что бы ни говорили, но грамматика именно учит не чему другому, как правильному употреблению языка, то есть правильно говорить, читать и писать на том или другом языке. Ее предмет и цель – правильность, и ни до чего остального ей нет дела. С педантическою кропотливостью задумывается она над тем, как правильнее произносить, склонять, спрягать, согласовать, писать, – словом, употреблять то или другое слово, – и все это иногда для того, чтоб, добившись цели своих изысканий, сказать: «Так должно бы по правилу употреблять это слово, но так употребляется оно в живом языке общества»! Можно знать хорошо грамматику, говорить и писать правильно, и в то же самое время можно говорить и, особенно, писать дурно: это правда; но также можно хорошо и говорить и писать и в то же самое время не знать языка. А между тем теоретическое знание языка важно и полезно, даже необходимо, и без приложения. Грамматика есть логика, философия языка, и кто знает грамматику своего языка, для того по крайней мере возможно знание всеобщей грамматики – этой прикладной философии слова человеческого. Сверх того, люди, которые только по инстинкту хорошо говорят или пишут на своем языке, по необходимости часто ошибаются против духа языка, в ущерб своему успеху на поприще изустной или письменной изящной речи. И нет никакого сомнения, что, когда к инстинктивной способности хорошо говорить или писать присоединяется теоретическое знание языка, – сила способности удвояется, утрояется. Грамматика не дает таланта, но дает таланту большую силу; а грамматику только тот знает, кто знает, как следовало по правилу сказать или написать то или другое слово, ту или другую фразу, которым живая власть употребления (usus – tyrannus[2]) дала неправильную форму. Сидельцы овощных лавок и кухарки говорят и пишут, руководствуясь только употреблением, а отнюдь не грамматикою; но потому-то иногда смешно слышать их говорящими и всегда так трудно понимать написанное ими…
Грамматика не дает правил языку, но извлекает правила из языка. Общее незнание этих правил, то есть незнание грамматики, вредит языку народа, делая его неопределенным и подчиняя его произволу личностей: тут всякий молодец говорит и пишет на свой образец. В формах языка должно быть единство. А этого единства можно достигнуть только строгим исследованием, как правильнее должно говорить или писать то или другое. Это искание правильности должно быть доведено до педантизма – для успеха самого языка. Пусть будут тут злоупотребления: они отвергнутся обществом, и живое слово не покорится им; но зато все истинное и полезное, но не связывающее языка мелочными и ненужными правилами, будет принято всеми. Посмотрите на русскую орфографию, что это такое! В этом отношении русский язык представляет собою странное исключение из общего правила: у нас столько же орфографий, сколько книг, сколько журналов, сколько литераторов, – и потому нет никакой орфографии. Неужели это хорошо? А между тем за это никак нельзя никого винить: виноватого нет! Итак, вместо того чтоб петь иеремиады против нововводителей, – не лучше ли было бы приняться за разработку орфографии, за исследование – какой орфографии должно держаться, сообразно с духом языка и его правилами. Об этом стоит рассуждать и спорить. Пусть в этих рассуждениях и спорах наговорено будет много странного и нелепого, лишь бы только результатом всего этого было, рано или поздно, удовлетворительное решение вопроса. Но, видно, обвинять и бранить других гораздо легче, нежели доказать, почему они ошибаются и как им надо писать, чтоб писать правильно…
Вот почему мы очень рады появлению брошюрки г. Васильева. Может быть, ею начинается бесконечный ряд филологико-грамматических брошюр, рассуждений, полемических статей и статеек, которыми должна разработаться наша грамматика и прийти в единство наша орфография. Брошюрка г. Васильева разделяется на две части. В первой он пытается решить, правы ли те, которые вместо почетный, счет, в чем, черный пишут: почотный, счот, в чом, чорный, – и правы ли те, которые нападают на них, как это делает фельетонист «Северной пчелы». Г-н Васильев не согласен ни с тою, ни с другою стороною. Он говорит, что наши грамматисты, гг. Востоков и Греч, ошибаются, утверждая, будто бы буква ё не может следовать за зубными буквами: ж, ч, ш, щ, или по крайней мере произносится после них не как ё, но как о; но что если внимательнее прислушаться в произношении слов: счет и счот, щетка и щотка, желтый и жолтый, то нельзя не увериться, что слова эти, при звуках ё и о, совсем не одинаково произносятся и что, следовательно, должно писать в этих словах не о, а е. С другой стороны, он не согласен с доводами фельетониста «Северной пчелы», который в употреблении буквы о в помянутых словах видит нарушение искони соблюдавшегося правила{21}. Г-н Васильев справедливо замечает, что искони писали: осквернении, отшедшыя, продающым, идущым, российстии, распеншии, денми и что «Библиотека для чтения» следует коренной древней, хотя и неправильной привычке русского народа, утвержденной веками, употребляя дательный падеж вместо родительного, между тем как фельетонист «Северной пчелы» нападает же за это на «Библиотеку для чтения»{22}.
Спорные буквы е и о суть беглые, то есть такие, которые то исчезают, то опять появляются в слове, как, например: лед, льда, орел, орла, близкий, близок. Г-н Павский говорит, что когда над этими буквами должно стоять ударение, то их должно употреблять по правилам сочетаемости букв, то есть о ставить после согласных тупых, а е – после согласных острых. Г-н Васильев, напротив, утверждает, что беглая гласная, находясь между двумя согласными и имея на себе ударение, должна угождать обеим, – так что, если последние в слове требуют перед собою е, а предыдущие о, – то, так как обеих поставить нельзя, должно поставить среднюю между о и е, то есть ё. Основываясь на этом правиле, г. Васильев положительно утверждает, что слова: дружек, лужек, мужичек, колпачек, кружек и т. п. должно писать через е, а не через о.
Прекрасно! Но что же делать с выговором-то и употреблением? Что ни говорите, а далеко не во всех словах звук ё отличается в произношении от о. В слове жолтый не слышно никакого ё, а слышно одно чистое о; то же должно сказать о слове хорошо, которое, как усечение слова хорошее, должно бы и писаться: хороше, а произноситься хорошё; но – вопреки правилу, по прихоти употребления, ни то ни другое невозможно, – поэтому оно и пишется и говорится хороше, а не хорошё. Мы согласны, что в словах: щетка, счет, в чем, черный, щелок, щеголь слышится звук более похожий на ё, нежели на о, и что, следовательно, нелепо для слуха и безобразно для глаз писать: щотка, счот, в чом, чорный, щолок, щоголь. Но так же точно, сколько ни прислушивайтесь к словам: лицо, крыльцо, яйцо, кольцо, словцо, жолтый, шорох, шопот, кружок, лужок, отцом, – а воля ваша, звука ё в них вы не услышите, а если же и услышите, то вам трудно будет выговаривать эти слова, и этот звук оскорбит ваш слух, – следственно, нелепо для слуха и безобразно для глаз писать лице, крыльце, яйце, кольце, словце, желтый, шепот, кружек, лужек, отцем. В первом случае буква о, как говорится, дерет глаза; во втором то же действие производит буква е. Согласны: правило г. Васильева верно, да та беда, что употребление попортило его целость, так что теперь, избегая педантизма, который иногда бывает хуже невежества, необходимо уступить деспотической воле употребления и из одного старого правила сделать два, то есть помириться на середине: с буквами щ и ч писать е, а с буквами ж и ш писать о. Возьмите слово: плече, – и произносите на конце острое ё: вы выговорите его так, как оно в самом деле выговаривается, следовательно, нет никакой нужды нарушить общего правила и писать о (плечо); но в слове: лицо, как ни старайтесь выговаривать ё, не выговорите, а если и выговорите, вам самим будет смешно своего усилия, равно как и звука, который вымучите вы из своих губ. Остановимся на середине, избегая равно и педантизма и произвольности: обе крайности равно нехороши. Что ж делать, если дух нового русского языка часто бывает в противоречии с духом старого русского языка и если все акустические и орфографические предания разорваны так, что иногда и следов нельзя отыскать? Тут остается только покориться необходимости.
Мы не обратили бы особенного внимания на брошюрку г. Васильева, если б в ней было сказано только то, в чем мы с нею не согласились. Нет, в ней, кроме этого, много дельного и интересного, как, например, критика мнений разных грамматистов и исследование, в каких случаях буква е выговаривается как ё. Последнее исследование стоило автору больших трудов: чтоб поверить справедливость своих выводов, он должен был перечесть весь лексикон русский. Хлопотливо и тяжело, – а нельзя иначе при подобных исследованиях, если не хотите нагромоздить кучу произвольных правил, которых язык и не думал признавать. Г-н Васильев приводит в своей брошюре разительный пример подобной произвольности, происшедшей от легкости в работе. Г-н Греч говорит: «Если над буквою е находится ударение и гласная (также полугласная), то оная произносится как йо (то есть как ё); например: елка, твердо, дерну, блеклый, мед. То же бывает, когда е находится в конце слова: житье, сине, мое» («Практическая русская грамматика», 1834 г., стр. 416). Г-н Васильев приводит множество слов в опровержение этого правила: верба, векша, жертва, трапеза, горе, ложе, море, поле и проч. Но изложение правил, открытых (числом 12) г. Васильевым об употреблении буквы ё, было бы излишне в нашей статье. Наше дело указать хорошее, а кто хочет увидеть его сам, может обратиться к самой брошюрке.
Очень интересно и второе разыскание: «Об образовании имен уменьшительных рода мужеского и женского», – интересно как по разбору мнений гг. Греча и Востокова об этом предмете, так и по выводам самого автора. Вообще, брошюрка г. Васильева такого рода, что ни один будущий составитель грамматики не обойдется без того, чтоб, при труде своем, не принять ее к сведению, а иногда даже и не посоветоваться с нею. Слова на обертке брошюры: первый выпуск, обещают нам продолжение трудов г. Васильева по части разработывания русской грамматики: очень рады!{23}
Брошюра г. Васильева невольно напомнила нам собою другую книжку, совсем в другом роде, но которая относится к тому же предмету, которая давно уже вышла, но о которой мы не сказали вовремя. Это – брошюрка г. Кодинского: «Упрощение русской грамматики». Мы прошли ее молчанием не потому, чтоб ничего не хотели о ней сказать, а потому, что, напротив, слишком много хотели сказать о ней. Mieux, tard que jamais[3], и мы теперь поговорим ни мало, ни много, а сколько скажется, но сделаем это в следующей книжке «Отечественных записок»{24}.
Примечания
Грамматические разыскания. В. А. Васильева… (с. 605–618). Впервые – «Отечественные записки», 1845, т. XLI, № 8, отд. VI «Библиографическая хроника», с. 51–61 (д. р. 30 июля; вып. в свет 9 августа). Без подписи. Вошло в КСсБ, ч. X, с. 113–132.
В. А. Васильев (1819–1899) – беллетрист, филолог; сотрудничал в 1840-х гг. в журнале «Маяк» (статьи, заметки и рецензии по русскому языкознанию); как грамматист опирался на исследования Г. Павского.
Тема литературного языка, его совершенствования и развития, – одна из сквозных том в критике Белинского. Его суждения по вопросам языка и стиля носят глубоко продуманный, систематический характер, органически связаны с основным направлением в развитии его литературной теории. Воздействие этих суждений Белинского на развитие русского литературного языка в 1830–1840-е гг. было несомненно значительным. Деятельность Белинского оказала влияние на формирование стилей русской литературной речи, на развитие новых форм выражения в критике и публицистике, на обогащение словарного состава русского языка и его фразеологии. В данной рецензии основные особенности языковой концепции Белинского выражены отчетливо и концентрированно.
Высоко оценивая национальную самобытность и, в частности, богатство присущих русскому языку выразительных средств, Белинский особо подчеркивает высокую способность его в новое время к усовершенствованию и развитию, к смене языковых норм под влиянием развития литературы и общественного сознания. Он неизменно отмечает устарелость языковых ограничений и стилистических предписаний сторонников классического и карамзинского направления. Отвергая пуристические запреты на новые слова, Белинский отстаивал необходимость пополнения словаря словами отвлеченного значения, выражающими важные понятия, терминами философского, социального порядка. Разграничивая задачи нормативного упорядочения языкового употребления («стилистики», по его определению) и стилевого многообразия живой русской речи (понятие «слога» как изменчивой и гибкой системы языкового выражения), Белинский особенно отстаивал от нападений пуристов стилевое своеобразие языка новейших писателей – Лермонтова и Гоголя, представителей «натуральной школы». Великое значение придавалось им Пушкину и его роли в развитии русского литературного языка (в отличие от обычных еще представлений о Ломоносове или Карамзине как законодателях современного языкового употребления). С явлением Пушкина, говорится и в рецензии, литературный русский язык приобрел новую силу, гибкость, богатство, свободу («развязность», «естественность»). Вместе с тем здесь идет речь и о живой эволюции языка и стиля самого Пушкина, о том, что развитие языка не может остановиться. Это дальнейшее развитие Белинский связывает со сферою «содержания», то есть с изменениями в семантической системе русского языка, со сферою выражения всего «общественного», «цивилизованного», «глубоко и тонко развитого». В противоположность тем, кто понятие народности ограничивал «простонародностью» и не видел принципиальной важности создания и непрерывного совершенствования литературного языка как языка культурного, отражающего ход исторического развития общества, Белинский горячо возражал против подмены понятия истинной демократизации литературного языка простым копированием разговорной речи низших социальных слоев, внедрением в литературу «маленько мужицкого слога».
Поддерживая идею тесной близости письменной и разговорной речи, необходимость развития живого разговорного языка образованного общества, Белинский вместе с тем критиковал тех, кто, подобно О. И. Сенковскому, подменял установкой на «разговорность» языка заботу о развитии его многосторонней стилистической системы, о расширении состава литературного языка, призванного выполнять многие социальные функции. Белинский, однако, подвергал критике и склонность к удержанию в языке традиционных книжных форм, уже чуждых живому речевому употреблению. Так, постоянным насмешкам подвергались с его стороны некоторые «славянизмы», которые считались необходимой принадлежностью поэтической речи. Борьбе с типично книжными элементами речи (сей, оный; неполногласные формы слов типа брег, младой и т. п.) Белинский уделял внимание на протяжении всей своей деятельности.
Высказанные в рецензии мысли подверглись нападению в статье помощника попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастова «Голос в защиту русского языка», напечатанной в «Москвитянине» (1845, ч. VI, с. 47–134; подпись: Д). Белинский отвечал на нее в «Отечественных записках» статьей «Голос в защиту от «Голоса в защиту русского языка» (см. ее в наст. изд., т. 8).
Сноски
1
крайних пределов (лат.). – Ред.
(обратно)2
привычка – деспот (лат.). – Ред.
(обратно)3
Лучше поздно, чем никогда (фр.). – Ред.
(обратно)(обратно)Комментарии
1
Грамматика П. П. Греча – «Практическая русская грамматика» (1-е изд. – СПб., 1327; 2-е исправл. изд. – 1834); грамматика Востокова – «Русская грамматика А. X. Востокова, по начертанию его же сокращенной полнее изложенная». СПб., 1831; (см. рецензию на 6-е изд. ее в наст. т.). По принципам описания и по конкретным рекомендациям эти грамматики во многом противоположны. Грамматика Греча, при относительном богатстве представляемых в ней фактов языка, склонна к жесткой нормативности и регламентации, описание фактов нередко носит схематический характер. Греч придерживался стилистических норм карамзинской школы. Востоков, опираясь на ломоносовские традиции исследования грамматического строя русского языка, широко охватывал стилистически различные особенности живого языкового употребления.
(обратно)2
Ср. в басне «Любопытный»:
Слона-то я и не приметил. (обратно)3
Обычная у Белинского насмешка над теми, кто пытался подделаться под простонародный язык. См. об этом в «Литературных и журнальных заметках» (март 1843 г.; наст. изд., т. 5, с. 424).
(обратно)4
Из стихотворения Кольцова «Косарь». Курсив Белинского.
(обратно)5
По поводу этих и сходных слов отвлеченного значения Белинский, начавший их широко употреблять в статьях конца 1830 – начала 1840-х гг., вел постоянную борьбу с представителями старой школы. Особенно сильны были нападки на Белинского за употребление этих слов со стороны «Северной пчелы».
(обратно)6
Большая часть приведенных слов вошла в русский язык в XVIII в.; некоторые еще ранее (мастер, солдат, кучер и др.).
(обратно)7
Почти все эти слова в указанных значениях вошли у нас в употребление в XVIII в.
(обратно)8
Все перечисленные здесь слова (за исключением сладостный) вошли в употребление не ранее конца XVIII – начала XIX в.
(обратно)9
Почти все эти слова вошли в состав русского языка в 1840-х гг. Белинский много способствовал окончательному усвоению этих терминов. См. данные об истории усвоения ряда этих слов в кн.: Ю. С. Сорокин. Развитие словарного состава русского литературного языка 30–90-х гг. XIX в. М. – Л., 1965 (по указателю слов).
(обратно)10
Индижестия (фр. indigestion) – несварение желудка; здесь образно.
(обратно)11
Ср. в «Евгении Онегине» (глава третья, строфа XXVI):
Доныне гордый наш язык К почтовой прозе не привык. (обратно)12
О важности и необходимости легкой поэзии, легкой литературы у нас начали писать в первые десятилетия XIX в. (Батюшков и др.).
(обратно)13
Говоря о грамматоедах и корректорах, нападающих на язык Гоголя, Белинский несомненно в первую очередь имел в виду «Северную пчелу», Булгарина и Греча. Ср. шутливое утверждение О. И. Сенковского, что Греч «прочитал в корректуре всю русскую литературу».
(обратно)14
Мелетию Смотрицкому принадлежит изданная им в 1619 г. в Эвю (Литва) и переизданная с изменениями в Москве в 1648 г. книга «Грамматики славенския правилное синтагма». В ней был описан и оригинально истолкован грамматический строй книжно-славянского типа языка. «Российская грамматика, сочиненная императорскою Российскою академиею» (СПб., 1802) в основном следовала за «Российской грамматикой» Ломоносова 1755 г. Зависимость ее описаний от латинской грамматики особенно сказалась на характеристике системы времен русского глагола.
(обратно)15
Ср. «Praktische Grammatik der russischen Sprache» («Практическую русскую грамматику») И.-С. Фатера, изданную в Лейпциге в 1809 г.
(обратно)16
Ср. статьи А. В. Болдырева «Рассуждение о глаголах» («Труды Общества любителей российской словесности», ч. II. М., 1812) и «Рассуждение о средствах исправить ошибки в глаголе» (там же, ч. III, 1812); ответ Болдырева на обвинение в плагиате у Фатера – в том же издании, ч. VI, 1816. Согласно этому ответу Фатер при работе над своей грамматикой пользовался его советами.
(обратно)17
Ср. статью А. В. Болдырева «Нечто о сравнительной степени» («Труды Общества любителей российской словесности», ч. XV. М., 1819).
(обратно)18
«Опыт о порядке слов» И. И. Давыдова – в «Трудах Общества любителей российской словесности», ч. V, VII, IX, XIV, 1816–1817, 1819.
(обратно)19
См. примеч. 4 к рецензии на «Русскую грамматику» А. Востокова.
(обратно)20
Так смеялся над В. А. Васильевым Сенковский в «Библиотеке для чтения» (1845, т. LXX, отд. VI, с. 12).
(обратно)21
В. А. Васильев в своей брошюре не совсем справедливо утверждал, что «теперь почти только один В. С. Межевич в изданиях, находящихся под его редакцией, стал писать: почОтный, счОт, в чОм, чОрный и т. д.» (с. 2). На Межевича за это правописание нападала «Северная пчела». Однако такие написания встречались и в других изданиях 1840-х гг. (в частности, в «Отечественных записках»).
(обратно)22
Сенковский употреблял формы род. пад. сущ. муж. р. ед. ч. на – у очень широко, считая окончание – у обычным для данной формы. Неправомерно интерпретировать эту особенность употребления как замену родительного падежа дательным.
(обратно)23
Других выпусков не последовало.
(обратно)24
Статья о книжке К. М. Кодинского «Упрощение русской грамматики» (СПб., 1842) появилась не в следующем, а в декабрьском номере «Отечественных записок» за 1845 г. (см. ее: Белинский, АН СССР, т. IX, с. 328–345).
(обратно)(обратно)
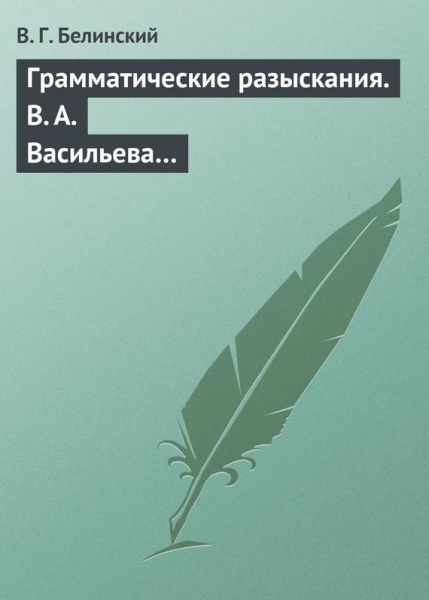



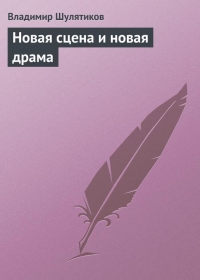
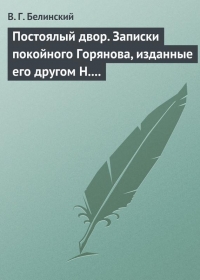
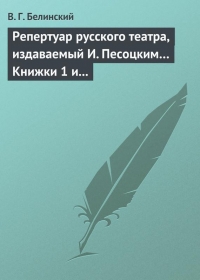
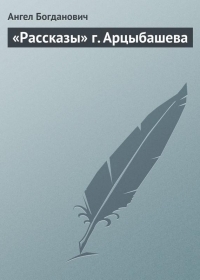


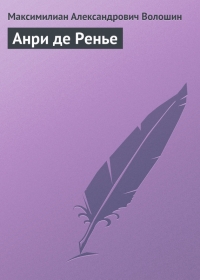
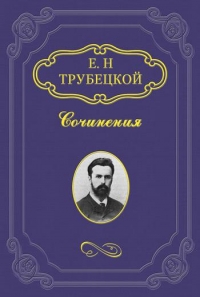
Комментарии к книге «Грамматические разыскания. В. А. Васильева…», Виссарион Григорьевич Белинский
Всего 0 комментариев