Виссарион Григорьевич Белинский Тереза Дюнойе. Роман Евгения Сю
ТЕРЕЗА ДЮНОЙЕ Перевод В. М. Строева. СПб. 1847. Четыре части.
МАТИЛЬДА, ЗАПИСКИ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ. Сочинение Евгения Сю, автора «Парижских тайн» и «Вечного жида». Перевод с французского, пересмотренный и исправленный В. Строевым. СПб. 1846–1847. Тринадцать частей.
СЫН ТАЙНЫ (LE FILS DU DIABLE). Роман Поля Феваля. СПб. 1847. Два тома, восемь частей.
ИЕЗУИТ. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА ИЗ (?) ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ОСЬМНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ. Соч. К. Шпиндлера. Перевод с немецкого. Издание П.И. Мартынова, СПб. 1847. Три части.
Роман и повесть овладели в наше время литературою, или вовсе вытеснив, или оттеснив на задний план все другие ее роды. Можно сказать без большого преувеличения, что под литературою в наше время разумеются роман и повесть. Оставя на время в стороне разницу между романом и повестью, будем то и другое разуметь под одним первым именем, так как повесть есть не что иное, как вид романа. Роман выходит отдельно, – и если он хоть сколько-нибудь хорош или дурен в любимом вкусе времени, – он будет иметь успех, не залежится в книжных лавках, а его автор и с известностию и с именем. Журнал просто не может существовать без романа. И добро бы еще журнал в нашем русском смысле, то есть то, что в Европе называется «обозрением» (revue); нет! настоящий журнал, то, что у нас называется газетою, уже не может поддерживаться только одною политикою, которая всех так интересует и волнует, к которой все так ненасытимо жадны. В фельетонах этих журналов печатаются длинные романы, и терпеливые читатели, в продолжение года, а иногда и с лишком, довольствуются двумя или много тремя главами в неделю «интересного» романа, и каждый из них пуще всего боится умереть прежде, нежели успеет прочесть его последнюю, заключительную главу, для пущей важности обыкновенно называемую «эпилогом»… Но вот и эпилог прочтен – глядь, в следующем, а иногда и в том же листке начало нового романа, – и опять трепещет за свою жизнь бедный читатель в продолжение года, вплоть до вожделенного эпилога… Журналы набили страшные цены на романы, и теперь иной бездарный писака, вроде г. Поля Феваля, например, получает, может быть, те же суммы, которые назад тому лет тридцать казались баснословно огромными, когда дело шло о романах отца и творца новейшего романа, великого и генияльного Вальтера Скотта… Не только люди с замечательным дарованием, как Ежень Сю, или с каким-нибудь дарованием, как Александр Дюма, даже люди вовсе без дарования, как уже упомянутый нами Поль Феваль, продают по контрактам свое вдохновение, или свой задор, свой талант, или свою бездарность, словом, свою деятельность на столько-то лет такому-то журналу. О деньгах тут спору нет: они считаются тут десятками тысяч и восходят до сотен тысяч – только пишите, пишите как можно больше, пишите день и ночь, пишите за двоих, за троих, а не станет вас на это одного, найдите себе сотрудников, устройте фабрику… Что деньги – деньги вздор, дело – роман, за роман мы не пожалеем денег и будем подписываться на журналы, лишь бы в их фельетонах тянулись бесконечные романы…
Что же за чародей этот роман? В чем заключается причина его владычества над грамотными массами? О чем он им говорит, чему их учит, чем прельщает?
Роман порожден рыцарскими временами, как и романс. Романское наречие, образовавшееся на юге Франции, дало ему имя. Содержание его составляли рыцарские подвиги; тут, разумеется, важную роль играли красавицы и волшебники. Между действительным и мечтательным миром не проводилось никакой черты, и чем нелепее был рассказ, тем казался он вероятнее. От таких-то романов помешался благородный ламанчский дворянин, обессмертивший себя, благодаря несравненному гению Сервантеса, под именем Дон Кихота. Потом наступил век сентиментально-аллегорических романов, из которых особенно был знаменит «Роман Розы». Впрочем, полное торжество романа настало только в XVIII веке, не в том смысле, чтобы в это время он получил определенное и настоящее значение, а в том, что он сделался любимым родом словесности преимущественно перед всеми другими ее родами. Но еще гораздо прежде XVIII века явилось несколько замечательных творений в этом роде. Генияльный Рабле – этот Вольтер XVI века, облекал сатиру в форму чудовищно безобразных романов; и в том же веке великий Сервантес написал своего бессмертного Дон Кихота, в котором сатира явилась в форме высокохудожественного романа. В XVII веке Скаррон попытался на изображение действительности, как понимал ее веселый и цинический ум его, в своем «Roman comique»[1], который навсегда останется замечательным произведением, каким по справедливости доселе считался.
В XVIII веке роман не получил никакого определенного значения. Каждый писатель понимал его по-своему. Ричардсон и Фильдинг делали из него картины частной семейной жизни, с целью установить для нее неизменяемые моральные правила, и потому он у них был длинен, растянут, чопорен, поучителен и сух. Добрый немец Август Лафонтен пленял в романе чувствительные души приторно сладенькими мещанскими картинами семейственного счастия, в немецком вкусе. Француз Дюкре-Дюмениль (Ducray Dumenil)[2] рассказывал в романе о детях, которых рождение покрыто тайною, но которые потом благополучно находят своих «дражайших родителей», папеньку и маменьку, и делаются богатыми и счастливыми. Англичанка Анна Радклиф, или Радклейф (Radcliffe), пугала в романе воображение своих читателей явлениями мертвецов и призраков, которые потом очень естественно объяснялись тайными ходами и дверями в замках. Англичанин Левис (Lewis) угощал в романе пылкое воображение своих читателей таинственными лицами, вроде выходцев с того света[3]. Немец Шпис сделал из романа мистически-фантастически-аллегорический рассказ с нравственною целью. Многочисленное племя романов под фирмою «автора Ринальдо Ринальдини» досыта кормило публику удалыми и иногда великодушными разбойниками. Г-жи Шанлис (Genlis) и Коттен (Gottin) прославились сентиментально-моральными романами; но у первой на главном плане была мораль и – ее неизбежная спутница – скука[4]. Не распространяясь ни об авторе «Таинственной урны», ни о романах Коцебу и не упоминая о прочих, менее важных романистах и романах прошлого века, – скажем, что все исчисленные нами романические школы и изделия, несмотря на все их различия, совершенно сходны в одном: все они изображали действительность, жизнь и людей в искаженном виде, так, чтобы начитавшийся их и поверивший им молодой человек, вступя в действительную жизнь, с ужасом увидел наконец, что она диаметрально противоположна тому понятию о ней, которое извлек он из своих любезных романов. Это были сказки, тешившие воображение и фантазию и добросовестно обманывавшие юный и неопытный ум. Однако ж были и приятные исключения из общности этого явления. Француз Лесаж (Lesage), автор «Хромоногого беса» и «Жиль-Блаза», именно тем и останется навсегда знаменит, что, при замечательном, хотя не самобытном таланте (ибо большею частию заимствовал у испанщев), он изображал жизнь и людей такими, каковы они есть на самом деле, а не такими, какими бы им следовало (по личному мнению автора) быть[5]. К одной категории принадлежат француз Пиго-Лебрён (Pigault-Lebrun)[6] и немец Крамер (Gotieb Cramer): оба они с манерою изображать действительность, отчасти циническою и преувеличенною в наше время Поль де Коком, соединяли иронию отрицания, чего вовсе нет у последнего. Гораздо замечательнее их, и со стороны таланта и со стороны иронии отрицания, два англичанина – Свифт (Swift), автор («Гулливерова путешествия», и Стерн (Sterne), автор «Тристрама Шанди»[7]. Нужно ли упоминать, что два вождя века – Вольтер и Руссо пользовались формою романа: один для выражения своих идей отрицания, другой для выражения своих восторженных идей о любви («Новая Элоиза») и о воспитании («Эмиль»)? Но нельзя не упомянуть о романе, который написан обыкновенным человеком, но которому, по его поэтической и психологической верности, суждено бессмертие: мы говорим об «Histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut» аббата Прево (Prevost d'Exiles)[8].
Во всех лучших романах прежнего времени видно стремление быть картиною общества, представляя анализ его оснований. Но это было только стремлением; XIX веку, в лице Вальтера Скотта, предоставлено было навсегда утвердить истинное значение романа. В эпоху величайшего торжества своего великий шотландский романист был, разумеется, не понят. Все думали, что вся тайна чрезвычайного их успеха заключается в исторической верности нравов и костюмов, – тогда как все дело заключалось прежде всего в верности действительности, в живом и правдоподобном изображении лиц, умении все основать на игре страстей, интересов и взаимных отношений характеров. Доказательством справедливости нашего мнения может служить то, что, например, «Сен-Ронанские воды» и «Ламмермурская невеста», не будучи нисколько историческими, тем не менее принадлежат к лучшим романам Вальтера Скотта. Не понявши этого, явилась толпа подражателей во всех европейских литературах, и исторические романы свирепым потоком низвергнулись на литературы всей Европы и затопили их. Вальтер Скоттов развелось везде столько, что девать было некуда. Но в сущности не они, не эти Вальтеры Скотты, воспользовались новым широким путем, проложенным в искусстве настоящим Вальтером Скоттом. Только гений понимает гения и пользуется правом преемственности от него продолжения великого дела, потому что только гений умеет отличить в деле идею от формы. Между романами Купера и Вальтера Скотта столько же сходства, сколько между старою, историческою гражданственностию Англии и юною, лишенною почвы преданий, еще не установившеюся цивилизациею Северо-Американских Штатов, сколько между бледною природою тесного пространства, занимаемого Великобританией), и богатою природою неисходных девственных пустынь Северной Америки. А между тем, нисколько не подражая Вальтеру Скотту, Купер больше и лучше его жалких подражателей воспользовался открытою им новою великою дорогою в искусстве 12. В истории искусства и литературы так же все преемственно, как в истории человечества, и никак нельзя сказать, чтобы Жорж Санд не был столько же обязан гению Вальтера Скотта и Купера, сколько этот последний первому, а между тем что же есть общего между романами Жоржа Санда и романами Вальтера Скотта и Купера?..
Жорж Санд есть, без сомнения, первый поэт и первый романист нашего времени. За его романами, не без основания, утверждено название «социальных» как за романами Вальтера Скотта было с меньшим основанием утверждено название «исторических». Не нужно особенно пристально вглядываться вообще в романы нашего времени, сколько-нибудь запечатленные истинным художественным достоинством, чтоб увидеть, что их характер по преимуществу социальный. Довольно указать на романы англичанина Диккенса, обладающего талантом высшего разряда; а у нас в России – на произведения автора «Мертвых душ», давшего живое общественное и глубоко национальное направление новой литературе своего отечества… Содержание романа – художественный анализ современного общества, раскрытие тех невидимых основ его, которые от него же самого скрыты привычкою и бессознательностию. Задача современного романа – воспроизведение действительности во всей ее нагой истине. И потому очень естественно, что роман завладел, исключительно перед всеми другими родами литературы, всеобщим вниманием: в нем общество видит свое зеркало и, через него, знакомится с самим собою, совершает великий акт самосознания.
«Как! – скажут нам, может быть: – и эти рассказы о небывалых и невозможных князьях Родольфах, рыцарствующих в кабаках и убежищах нищеты и воровства, о Вечном жиде и дражайшей половине его Иродиане, обнимающихся через Берингов пролив, о бедном моряке, который превращается каким-то чудом в графа Монте-Кристо, обладающего биллионами, все эти тайны – лондонские, берлинские, брюссельские, все эти дети тайны или черта, – неужели все это не вздорные сказки, а глубокий анализ, верная картина современного общества?»
Мы охотно признали бы справедливость подобного возражения, если бы оно нам было сделано; скажем более: этот-то вопрос и составляет предмет нашей статьи. Но прежде, нежели мы к нему обратимся, нам нужно воротиться немного назад.
Еще прежде, нежели романы Вальтера Скотта получили всеобщую известность и классический авторитет, роман в XIX веке начал уже изменяться в духе и направлении и стремиться к более серьезному значению. Революция изменила нравы Европы, сентиментальность прошлого века стала становиться смешною, а легкая каламбурная ирония и насмешливость – уступать место то сарказму и юмору, то необузданному доверию к фантастическим идеям. Переходная эпоха, не понимая себя и не находя в себе самой никакой прочной опоры, бросилась искать спасения в средних веках. Чистого, наивного верования, свойственного векам младенческого состояния человечества, не было и не могло быть в цивилизации, обладавшей знанием и прошедшей через радикальное отрицание XVIII столетия. Это отразилось и на романе. Он не хотел больше быть сказкою для забавы праздного воображения; напротив, обнаружил притязание на решение высших вопросов мистической стороны жизни. И вот в то время, когда Дюкре-Дюмениль и г-жа Жанлис досказывали еще свои запоздалые сказки, ирландец Матюрен[9] изумил всех в своем «Мельмоте Скитальце» необузданностию дикой фантазии, которая, при лучшем направлении, могла бы произвести что-нибудь ознаменованное истинным талантом. В Германии генияльный безумец Гофман возвысил до поэзии болезненное расстройство нерв. Обладая удивительным юмором, при огромном таланте изображать действительность во всей ее истинности и казнить ядовитым сарказмом филистерство и гофратство своих соотечественников, – он в то же время, как истинный немец, призракам своего расстроенного воображения, которых искренно пугался и боялся и над которыми тоже искренно смеялся, и фантастическим нелепостям принес в жертву и свой несравненный талант и бессмертие имени своего в потомстве… Артист по натуре, поэт, живописец и музыкант, одаренный в высшей степени художественным смыслом, – как только познакомился он с романами Вальтера Скотта, тотчас понял и то, что это истинные произведения творчества, и то, что его собственные романы – незаконнорожденные дети искусства. Тогда написал он лучшую свою повесть, так громко свидетельствующую об огромности его таланта, – «Мастер Иоганес Вахт», в которой уже не было ничего фантастического. Казалось, он решился идти новою дорогою; но было уже поздно: вскоре после того он умер, истощенный беспорядочным образом жизни[10]. Жан Поль Рихтер, в «Титане» и «Левании», с замечательным талантом выражал сваи раздуто идеальные, натянуто превыспренние идеи о значении человека и жизни его. К этой же категории должно отнести Тика, романтика по убеждению и довольно посредственного писателя, который, впрочем, писал во всех родах. Его «Виттория Аккарамбони» есть попытка написать роман уже в духе нашего времени.
Еще в конце прошлого века Гете издал своего «Вертера»[11] (1774) – этого родоначальника слабых, болезненных натур, которыми всегда так обильны переходные эпохи. «Вильгельм Мейстер», по своему дидактическому характеру, принадлежит к типу «Эмиля» Руссо; но в «Вертере» Гете как будто опередил время и разгадал болезнь будущего века. Поэтому его роман имел на наш век огромное влияние, – и «Вертер» явился потом в «Рене» Шатобриана, в «Обермане» Сенанкура и отразился в бесчисленном множестве других более или менее замечательных или незамечательных произведений. Шатобриан не довольствовался «Аталою» и «Рене»: он из «Мучеников» сделал роман, довольно надутый и реторический; но он был в духе реакции прошлому веку и потому привел в восторг возвратившуюся во Францию эмиграцию, которая горьким опытом дознала, что для нее выгоднее мистический пиетизм, нежели вольтериянское кощунство, недавно столь любимое ею… Надутый Дарленкур, в своих нелепых романах, довел до карикатуры это романтико-пиетистическое направление.
По мере ознакомления Франции с европейскими литературами, которых она прежде с гордым невежеством не хотела знать, ее собственная литература подверглась влиянию всех других литератур, преимущественно английской, и отчасти даже немецкой. В романе особенно отразилось двойственное влияние Вальтера Скотта и Байрона. Тогда-то возникла так называемая «неистовая школа», любившая изображать ад душевных и физических страданий человека. Все страсти, все злодейства, варварства, пороки, пытки, муки – были пущены в дело. Демонические натуры à la Byron дюжинами рисовались в качестве героев новых произведений. Это было ложно и натянуто, потому что эти страшные Байроны в сущности были предобрые и даже веселые ребята; но все это было не без смысла, не без таланта, не без достоинства, хотя и временного только. Французы всегда умеют остаться французами, под чьими бы и под сколькими бы влияниями ни находились они. И потому эти «разочарованные» романы никогда не брались ни за отвлеченные, ни за фантастические идея, но всегда имели в виду общество, и если, с одной стороны, страшно лгали на него, то, с другой, иногда и говорили правду, а главное – подняли важные общественные вопросы, – больше всех вопрос о пауперизме. Наконец, явился Жорж Санд, – и роман окончательно сделался общественным, или социальном.
Какое бы ни было направление французских романистов – Бальзака, Гюго, Жанена, Сю, Дюма и пр., в первую эпоху их деятельности, – оно имело свои хорошие стороны, потому что происходило от более или менее искренних личных убеждений и невольно выражало дух времени. Все эти романисты писали с французскою живостию и быстротою, но, однако ж, не на заказ. В их сочинениях видно было уважение и к литературе, и к публике, и к самим себе, потому что видны были следы мысли, соображения, литературной отделки. И вдруг все это изменилось: потянулись романы один другого длиннее, безобразнее, нелепее. Если в прежних романах частенько нарушалось правдоподобие, это происходило от ложности убеждения, которое все-таки было искренно и наивно. Но теперь не то: теперь автор сознательно искажает истину, лжет с умыслом, придумывает нелепости с намерением. Ему лишь бы эффект был, а каков этот эффект – не его дело; он обращается со своими читателями, как с школьниками, как далай-лама с своими поклонниками, морочит их, как фокусник, выдающий себя за колдуна перед толпою деревенских простаков. За примерами ходить не далеко; они у всех в свежей памяти. Но прежде надобно условиться в значении романа как поэтического произведения. Роман, как всякое художественное произведение, есть воспроизведение явлений действительного мира во всей их истине. Истина так же есть предмет и цель искусства, как и философии; вся разница в средствах и приемах. Иначе чем бы искусство было выше игры в карты? Нет, оно было бы ниже всякого ремесла, потому что ремесло полезно. Но если бы роман был и просто только сказкою для развлечения от скуки, и тогда люди с умом вправе были бы требовать от него, чтоб он и в качестве сказки удовлетворял их как людей с умом, а не как глупцов. А что же может быть умного в невозможном? А разве возможны эти богатства частных людей, превосходящие кодовой бюджет богатейшего из европейских государств? Но вот пример самый свежий. В последнем и остановившемся, кажется, надолго, к крайнему огорчению его читателей и почитателей, романе своем «Записки врача» г. Александр Дюма показал такой неслыханный опыт бесстыдного неуважения к здравому смыслу публики, который должен привести в отчаяние всех других сказочников. Известно, что в XVIII веке был шарлатан, который выдавал себя за графа де Сен-Жермена и умел втереться ко двору Лудовика XV. Этот шарлатан, как догадываются, принадлежал к шайке герметистов (обладающих алхимическою тайною делать золото), которой главою был известный авантюрист Казанова; он разглашал о себе, что умеет делать золото и что он жил во все века и помнит как своих современников Сократа, Платона, Александра Македонского, Юлия Цезаря, не говоря уже о замечательных лицах от Карла Великого до XVIII века включительно. Есть предание, будто, за веселым ужином, он предрек своим собеседникам ужасы революции, и когда они показали недоверчивость к его пророчеству, он пригласил их посмотреть друга на друга, – и они с ужасом увидели себя обезглавленными, кроме одного, который впоследствии действительно успел увернуться от гильотины. Разумеется, это предание одного сорта с преданием о Вечном жиде и сочинено задним числом. Но г. Александру Дюма того и нужно. Он вспомнил кстати о другом знаменитом шарлатане XVIII века, фокуснике, интригане, пройдохе и мошеннике Калиостро, – и из этих двух совершенно различных лиц сделал одно, предоставив ему лестную честь играть роль героя своего нового романа. Этот герой едет в Париж, верхом на арабском жеребце, сопровождая карету, которая похожа на дом и состоит из двух отделений: в одном устроена химическая лаборатория, и в ней столетний старик, что-то вроде индейца или тибетца, занимается, дорогою, отыскиванием жизненного эликсира, дающего человеку бессмертие; другое отделение, как во всех каретах, – в нем сидит прекрасная девушка. Когда герою г. Александра Дюма нужно узнать или будущее, или что-нибудь такое, чего, за отдаленностию нескольких десятков или сотен миль, он не может видеть и знать, – тогда он одним взглядом и размеренными движениями рук приводит в сомнамбулизм первую попавшуюся ему молоденькую и хорошенькую девушку и повелительно делает ей нужные ему вопросы, а она, трепеща и страдая телом и душою, покорно отвечает ему… Таким образом, посредством магнетического влияния, он влюбил в себя красавицу, обреченную монастырю и уже постриженную, и увел ее из монастыря сквозь стены, запертые на замки ворота, мимо караульных… Ему все возможно – на то он и герой… В это время ехала из Вены в Париж австрийская эрцгерцогиня, Мария Антуанетта, к своему жениху, будущему королю Франции, Лудовику XVI. На дороге вздумалось ей заехать к одному разорившемуся маркизу (то есть г. Александру Дюма вздумалось вложить ей это желание). Маркиз ничего не предчувствует, но герой романа, остановившийся на ночь в его развалившемся замке, предсказывает ему это. Приехала принцесса – принять ее негде, угостить нечем. Но для нашего героя это не затруднение, а пустяки: махнул рукою – и на дворе, под липами, явилась великолепная палатка, а в ней – великолепно сервированный стол с чудным завтраком; белье тоньше паутины, белее снегу, золото, серебро, фарфор, хрусталь… Герой ловко набивается на честь быть представленным, в качестве колдуна, принцессе. Чтобы убедиться в его чародействе, она требует, чтобы он предсказал ей ее будущую участь. Поломавшись, он согласился; все вышли из палатки; колдун стал смотреть в графин с какою-то жидкостию и показывать его принцессе: г. Александр Дюма не открыл своим читателям, что увидела там принцесса, но когда, услышав крик ее, свита вбежала в палатку, принцесса лежала на полу без чувств, а колдуна и след простыл, словно сквозь землю провалился… Понятно, что он предрек ей события 93 года, столь плачевные для королевской фамилии. Известно достоверно, что Марии Антуанетте никто подобного предсказания не делал; но если г. Александр Дюма давно уже отрекся начисто от здравого смысла, как унизительной для гения препоны, то что ему после этого история – к черту ее!.. Приехав в Париж, он, посредством магнетизирования своей красавицы (которая было улепетнула от него, но которую он опять сумел вырвать из монастыря, где настоятельницею была дочь Лудовика XV), он узнает все, что делается в Париже, и, словно кашу, варит в химической кастрюле кусок золота для кардинала Рогана, в его присутствии, – кусок ценою в триста тысяч франков… Дальнейших фокус-покусов интересного героя мы не знаем, затем что роман остановился, как по причине путешествия автора в Испанию, а оттуда на казенном пароходе в Алжир, так и по причине процесса, в который впутался великий господин Александр Дюма, за одну из тех проделок на манер Калиостро, которые от одних удостаиваются названия «генияльных», а от других… как бы это сказать повежливее?., ну хоть – «бесчестных»… О великий господин Александр Дюма, о достойный герой, о любимое, балованное дитя нашего века! – Что-то еще наплетешь и напутаешь ты нам в своем романе, когда, вдохновленный штрафами, которые принужден будешь заплатить по приговору суда, или – чего, вероятно, с тобою не будет – воспользовавшись уединением тюрьмы (которой бы ты, право, стоил!), – примешься ты вновь продолжать интересные похождения своего интересного и достойного галер героя?..
И вот такие-то романы теперь всеми читаются с жадностью, увеличивают собою число подписчиков на политические журналы, доставляют своим производителям огромные деньги; потом отпечатываются отдельно и по всей Европе расходятся в неимоверном числе экземпляров и, наконец, дают пищу и поддерживают в переводах даже некоторые из наших журналов, и опять, отдельно печатаемые, расходятся в большом числе экземпляров!
Что это такое? Или снова настал век Анны Радклиф и автора «Ринальдо Ринальдини» с братиею? Или, и в самом деле, наш дряхлый век впал в умственное младенчество и не может иначе вздремнуть после сытного обеда, как под однообразный лепет старой няни, рассказывающей ему разные небылицы?.. Или, и в самом деле, прав негодующий поэт, который сказал, что
Нас тешат блестки и обманы; Как ветхая краса, наш ветхий мир привык Морщины прятать под румяны?..Не спешите обвинять наш век – ему и так больно достается со всех сторон, и его только бранят, а никто не похвалит… А между тем, право, его есть за что и похвалить. Правда, он вовсе не рыцарь, не думает нисколько ни о добродетели, ни о морали, ни о чести и весь погружен в приобретение, или, как у нас ловко выражаются, в «благоприобретение»; правда, он торгаш, алтынник, спекулянт, разжившийся всеми неправдами, откупщик; но он очень умен и, что мне больше всего нравится в нем, очень верен самому себе, логически последователен… Он, видите ли, лучше своих предшественников смекнул, на чем стоит и чем держится общество, и ухватился за принцип собственности, впился в него и душою и телом и развивает его до последних следствий, каковы бы они ни были… Воля ваша, а тут нельзя не видеть своего рода героизма и логической последовательности… И как ловко взялся он за это: из старой морали и из всего, чем думало держаться прежнее общество, он удержал только то, что пригодно ему как полицейская мера, облегчающая средства к «благоприобретению» и обеспечивающая спокойное обладание его сочными плодами… Чудный век! нельзя довольно нахвалиться им! Его открытие важнее открытия Америки и изобретения пороха и книгопечатания, потому что открытая им великая тайна – теперь уже не тайна не для одних капиталистов, антрепренеров и подрядчиков, словом, «приобретателей», живущих чужими трудами, – но и для тех, которые для них трудятся… и эти уж знают, на чем мир стоит, то есть и они хотят читать романы…
И действительно, кто читает эти романы? В старину чернь называлась у нас «подлым народом»; благодаря образованности и просвещению это подлое название давно уже истребилось, а слово «чернь» удержалось. Но чернь есть везде, во всех слоях общества; Пушкин указал нам даже на светскую чернь… Везде есть эти ординарные, дюжинные натуры, которым физическая пища нужна самая деликатная, утонченная, а нравственная – самая грубая, безвкусные изделия харчевенных поваров вроде г. Александра Дюма с братиею. Вы думаете, много читателей во Франции у Жоржа Санда? Вероятно, гораздо меньше, нежели сколько их есть у него в сложности в других странах Европы и в Америке. И Жоржу Санду журналисты платят большие деньги за печатание его романов в фельетоне, но это больше для громкого имени, и потом (мы знаем это из достоверных источников) сильно пожимаются и, наверстывают свою потерю продажею отдельно напечатанного того же романа. Вот другой пример. Лучший после Жоржа Санда романист во Франции – Шарль Бернар. Это человек не генияльный, но с замечательным талантом, истинный поэт, а не эффектный сказочник. Легитимист по своим убеждениям, он этим иногда вредит себе как поэту, но поэтический инстинкт в нем так крепок, что от него часто достается своим, и нередко выставляет он в лучшем свете чужих. Как всегда просты и естественны завязка, ход, развитие и развязка его романов! Как хорошо выдержаны характеры, как верно изображается современное французское общество! Вспомним хоть последний роман его: «Деревенский дворянин»; в нем рассказы происшествия двух или трех дней, до того простые, естественные, обыкновенные, что мудрено было бы пересказать их на словах, а между тем, зачитавши этот роман, нельзя от него оторваться, не кончивши его… Вот это талант! Но пользуется ли он хотя десятою долею известности, какою пользуются, например, г. Александр Дюма и подобные ему? Кто знает его, например, у нас? А между тем все его романы постоянно переводились в «Отечественных записках» – журнале, который, как известно, давно уже пользуется большим расходом.
Ежели грубые и безвкусные изделия вроде «Записок врача» находят себе читателей, почитателей и восторженных обожателей в образованных классах общества, сколько же должны находить они их в полуобразованных и низших классах? И действительно, романы Сю, Дюма, Сулье и т. п. с жадностью читаются в Париже дворниками (portiers), преимущественно их женами (portieres), гризетками, лоретками и т. д., которые не читают романов Жоржа Санда, находя их неинтересными и скучными.
У нас многие негодуют на то, что такими романами преимущественно наполняются наши журналы, видя в этом какой-то вред и для нравов и для литературы. Подобное мнение нам всегда казалось несправедливым. «Тысяча и одна ночь», или арабские сказки не более вредны для нравов. А что касается до искажения вкуса и упадка литературы – это еще больше напрасное опасение. Есть люди, которые уж родятся с таким вкусом, который только такими романами и может удовлетворяться: не будь их, они ничего не читали бы. А читать хоть и вздор, лишь бы безвредный, все же лучше, нежели играть в карты или сплетничать. Что же касается до людей низших классов общества, эти романы для них – истинное благодеяние. Соответственно с их образованием, эти романы для них – художественные произведения, способные развить и возвысить, а не исказить и огрубить их понятия. Конечно, у нас не только дворники, но и швейки еще не читают романов (образования последних пока еще не хватает дальше водевильных куплетцев российского изделия); но сколько же у нас людей, которые по образованию – те же швейки, а по положению имеют и время и способы к чтению? При том же, если чернь есть везде, и в высших слоях общества, то и аристократия (природы) есть везде, и в низших слоях общества. Иной переходит к чтению этих романов от «Бовы», «Еруслана» и «Георга, милорда аглицкого», а от этих романов – к романам Вальтера Скотта, Купера и ко всему, что иностранные литературы и своя отечественная представляют лучшего, и уже не возвращаются назад. А если б и не так – что нужды, лишь бы читали!
Но если эти романы ни в каком смысле не могут быть вредны, напротив, во многих отношениях полезны, – из этого отнюдь не следует, чтобы их авторы заслуживали уважение или благодарность. Они тем не менее все-таки торгаши, фигляры, гаеры, потешающие за деньги толпу, без всякого уважения к самим себе. Они трудятся не для литературы, не для искусства, не для общества, а только для своих житейских выгод. За что ж их уважать и благодарить? Вол пасется па поле и, оставляя на нем следы своего присутствия, способствует его большему плодородию на будущее лето, но кто за это поклонится ему?..
Грустнее всего, что к этой шайке сказочных потешников добровольно примкнулся писатель с несомненным и большим дарованием. Мы говорим о знаменитом Ежене Сю. В его «Парижских тайнах» столько любви к человечеству, благородных инстинктов, столько страниц, запечатленных признаками высокого таланта! И между тем весь роман основан на мелодраме, столько неестественных лиц, особенно между отличающихся по части добродетели! Герой романа – лицо сказочное, невозможное, героиня – и приторна и неестественна; поэтому эпилог, как неизбежное следствие ложной причины, бросается в глаза своею пошлостию, приторною сентиментальностию, лицемерством чувства, скукою, неестественностию, надутостию и фразерством. В «Вечном жиде» местами поражают читателя те же яркие достоинства, какими блистают «Парижские тайны»; но недостатки уже во сто раз поразительнее, нежели в послед нем романе. Важность иезуитов, сила их влияния мелодраматически преувеличена; это еще куда бы ни шло, по крайней мере, цель автора была хороша и похвальна; но к чему приплел он тут легенду о жиде и жидовке? И что он ею сделал? – насмешил всех, потому что впал через нее не только в неестественность рассказа, но еще и в реторическую надутость изложения. А это чудовищно огромное наследство, в 200 миллионов, охраняемое несколькими поколениями одной и той же жидовской фамилии? А приторные близнецы-сестры, Роза и Бланка, а страшный успех всех проделок Родэна и мелодраматическая смерть: всех добродетельных лиц романа? Но всего и не перечтешь! Зачем же это «все» замешалось в произведение необыкновенно) даровитого писателя? Затем, что нужно время и время для того, чтобы писать хорошо и обходиться без нелепостей, натяжек и эффектов, чтобы обдумывать свое произведение прежде, нежели оно написано, и потом обделывать, исправлять, а местами и вовсе переделывать все написанное сгоряча, неловкое, неровное, несообразное с целым. А времени-то и нет у г. Сю: он контрактом обязался поставлять по целому тому к такому-то сроку. Написавши главу первого тома, он сейчас же отсылает ее в типографию журнала, и, таким образом, первая глава первого тома должна оставаться неизменяемою, хотя автор хорошенько не знает, что он будет писать во втором томе, а всех томов-то десять!.. Итак, если в первой главе он допустил, может быть, и по необходимости, какую-нибудь нелепость, – он уже на весь роман связан этою нелепостию и должен развивать ее во всех десяти томах, как бы ни отвратительна казалась потом она самому ему!.. Всему злу корень – деньги. Еженю Сю платят огромные суммы и, естественно, за это требуют, чтобы он работал за троих. Сколько уже раз останавливался он в своих работах, как останавливается водовозная лошадь, несмотря на удары кнута, ибо чувствует, что ей надо или остановиться и перевести дух, или сейчас же повалиться замертво… Итак, здоровье, талант, литературная репутация, – все принесено в жертву деньгам! Винить ли его за это?.. Не дай Бог никому подражать ему, но я не чувствую никакой охоты винить его, тем более что и без меня за обвинителями дело не станет… По-моему, тут во всем виноват fatum… (рок (лат.))
Что бы ни писал Ежень Сю, всегда у него есть что-то вроде мысли, какое-то стремление решить, или, по крайней мере, поставить на вид, какой-нибудь нравственный социальный вопрос. В этом отношении он верен себе и в двух романах, которых заглавие выставлено в начале нашей статьи. Героиня первого романа, Тереза Дюнойе, страстно полюбила величайшего негодяя, который, нисколько не любя ее, уверил в своей любви, из расчета, потому что женитьбой на ней думал поправить свои расстроенные обстоятельства. Чтобы вернее достичь цели, он обманул ее, но, когда увидел, что отец прогнал Терезу и начисто отказался дать ей хоть грош, он решился из сострадания к ней еще несколько времени обманывать ее. Она видит все, страдает, но верит ему со всем упорством слепой страсти и сильного характера. Она не перестала страстно любить его и тогда, как вполне убедилась в его подлости. Ее любил другой, спас с ребенком от голодной смерти, перевез к себе в замок, против ее воли, обеспечил участь ее ребенка, в надежде, что она излечится наконец от своей несчастной страсти к негодяю и полюбит его; но он, несмотря на эту надежду, ничего от нее не требовал. Тереза видела его страдания, сознавала его благородство и достоинства, была ему благодарна, глубоко уважала его, так же как ясно видела, что первый предмет ее уродливой любви – мерзавец, – и все-таки продолжала любить мерзавца… Мысль верная, но не новая! Ее давно уже прекрасно выразил аббат Прево в превосходном романе своем «Манон Леско». Еще шире, глубже и полнее развил эту мысль Жорж Санд в одном из лучших романов своих – «Леон Леони». Тягаться г. Сю с такими произведениями, конечно, не под силу; но тем не менее роман его, не будучи художественным созданием, имел бы свое значительное беллетристическое и литературное достоинство, если б в него, как и во все романы Сю, не вмешалась мелодрама. Герой романа, барон Эвен Кереллио, влюбился в Терезу совершенно фантастически, заочно, то есть он влюбился в портрет какой-то женщины, по преданиям, наделавший много зла его фамилии, а потом влюбился в Терезу, увидев, что она, как две капли воды, похожа на портрет. А портрет – заметьте – был сожжен в камине еще в детстве Эвена, а явился вновь по воле рока… К чему все эти истертые, пошлые и тривьяльные «роковые» пружины, столь обольстительные для суеверия старых баб (а не женщин, потому что это не одно и то же) да для легковерия юных пансионерок? Заключение романа – верх нелепости и пошлости: помешанный рыбак, старый суеверный бретонец, Мор-Надер, искренно считающий себя колдуном и предсказателем, давно уже предрекал Эвену, что он погибнет в волнах океана в черный для его фамилии месяц (ноябрь), – и раз во время прогулки в лодке по морю едва с умыслу не утопил Эвена, за то, что тот усомнился в его даре предсказания… И вот наши несчастные жертвы любви, после смерти ребенка, решаются в черный месяц оправдать предсказание Мор-Надера – и погибают вместе с ним втроем… Удивительно эффектно, но это-то и любит толпа, а деньги за то и даются теперь, что любит толпа…
Почти на эту же тему написана и «Матильда». Прежде всего это роман длинный, длинный, длинный, растянутый, монотонный и страшно скучный; потом, это вообще преплохой роман, хотя в нем и встречаются изредка довольно удачные страницы. «Матильда» предшествовала «Парижским тайнам» и имела, хотя и далеко не такой, как эти последние, но все же огромный успех. Кроме отсутствия не только художественного, просто литературного, беллетристического достоинства в изложении, в романе этом автор обнаружил редкое непонимание того, что он делал и что бы ему должно было делать, чтобы его произведение не вовсе было чуждо правдоподобия и естественности. Из своей Матильды он силился сделать какой-то идеал женщины, что-то вроде героини добродетели и страдалицу от злобы и развращения света; а на деле выходит, что это женщина ограниченного ума, без характера, легковерная, скучная и несносная своею навязчивостию в любви, своими пансионскими мечтами о счастии вдвоем под соломенною кровлею, – и еще более скучная и несносная своими вечными жалобами, слезами и хныканьем. Уже перегоревшая в страстях, испытанная горем жизни и тяжкими страданиями, она, видя, что молоденькая девочка сделалась больна насмерть от любви к тому, которого она, Матильда, без памяти любит и которым она горячо любима, решается на самое нелепое, по его бесплодности, и самое опасное, по его следствиям, самоотвержение. Она возвращается добровольно к своему мужу, страшному негодяю и развратнику, и притворяется, что опять любит его, а между тем своего благородного и платонического обожателя наводит на мысль – жениться на девочке… Тот вдвойне в отчаянии – и оттого, что мечты его на счастие рушились, и оттого, что любимая им женщина оказалась, по его мнению, весьма основательному, пошлою женщиною, ибо могла сойтись вновь с негодяем, давно заслужившим галеры: скажите, до женитьбы ли тут ему? И как, в этом положении, навести его на подобную мысль? Но для г. Сю нет ничего невозможного; он храбр – и не трусит натяжек и неестественности. Как дурак, герой его женится на девочке, и стал счастлив. Но общий их всех враг тайно уведомил его жену, что она обязана своим замужеством самоотвержению Матильды, – и случилось то, что рано или поздно, так или иначе, а непременно должно было случиться, чем обыкновенно разрешаются подобные самоотвержения: Эмма чахла, чахла, да и умерла. Мы охотно соглашаемся, что без доброго и благородного сердца человек не может быть способен на подобные самоотвержения; но в них еще гораздо больше сердца участвует экзальтированное воображение, глубоко скрытое самолюбие, тайное желание рисоваться перед другими и в особенности перед самим собою в качестве героя добродетели. Такие люди – враги своего и чужого счастия; даже и хорошие их качества служат только ко вреду других и их самих больше всего. Вот как следовало бы автору понять свою Матильду, – и на ее несчастной натуре, а не на злобе света основать все перенесенные ею страдания. Тогда, может быть, вышел бы более или менее интересный роман, а не скучная сказка.
Хуже всего даются Сю добродетельные лица. Почти всегда они у него и неестественны до смешного и приторны до отвратительности. К числу таких лиц принадлежит де Рошгюн. Боже мой, что это за человек! Друг бедных и несчастных, герой и лев на войне, мудрец даже в салоне – и там говорит, словно по книге читает, и никому не кажется смешон! А еще больше портят романы Сю – преувеличение и театральные мелодраматические эффекты. Злодей его романа, Люгарто, еще довольно естественен сам по себе, но его баснословное богатство, его всезнание чужих, тайн и всемогущество в преследовании многочисленных жертв своих, – все это сильно отзывается арабскими сказками. Эффектов и deus ex machina (бог из машины (лат.)) в «Матильде» – бездна. Старуха Блондо, видя, что ее воспитанницу успели охладить к ней, решается умереть, выпрыгнув в окно. Но это лицо необходимо автору в дальнейшем развитии романа: надо спасти его. Старуха начала прощаться с своею восьмилетнею питомицею, которая в полночь спала крепким детским сном. Старуха целует ребенка, плачет и громко говорит монолог самой себе, потом бежит к окну; но не бойтесь: дитя проснулось и удержало самоубийцу на краю пропасти… Как это трогательно!.. Уже замужнюю Матильду враг ее, Люгарто, хитростию завлекает в уединенный: дом, где все слуги подкуплены и где ей, за ужином, подают вино, в которое всыпан сильный усыпляющий порошок. Оставшись одна, она начинает чувствовать действие порошка; тут является к ней ее палач и объявляет ей, что намерен ее обесчестить… Но не бойтесь: вот вламываются ее защитники и мстители, и начинается мелодрама, достойная ярмарочных балаганов…
Одно лицо в «Матильде» очерчено с талантом: это старая мать Семерена, мужа Урсулы; даже и эти два лица довольно недурны; но с первым приятно было бы встретиться даже и не в таком романе, как «Матильда».
«Сын тайны» – замечательный роман во многих отношениях. Когда модное платье франта красуется на его лакее, – явный знак, что оно уже не модное, что мода сменилась. Когда бездарные писаки успевают в каком-нибудь модном роде литературы не хуже тех талантливых писателей, которые ввели его в моду, – явный знак, что этот род литературы или пал, или близок к падению. «Сын тайны» доказывает, что на модные романы уже сочинена реторика, и их с отличным успехом можно писать по рецепту. У г. Поля Феваля нет пи ума, ни воображения, ни: страсти, ни этого мастерства увлекательно рассказывать даже вздоры, которым так владеют французы и в котором больше все, го заключается тайна успеха их нелепых романов. В романе Поля Феваля не встретите ни одной из тех тонких поражающих черт, ни одной из тех увлекательных страниц, которые попадаются иногда даже у Дюма в самых нелепых его романах, – как, например, сцены между Жильбером и Руссо в «Записках врача». «Сын тайны» – это нелепость на нелепости, вздор на вздоре. Все дело вертится на том, что три брата-молодца уродились так похожими друг на друга, что родная мать не отличила бы их одного от другого. Они посвятили всю жизнь свою на то, чтобы отыскать законного наследника замка Блутгаупт, сына их дяди, похищенного в детстве врагами их фамилии, и отомстить этим врагам. И они во всем успевают: им покровительствует сама судьба в образе г. Поля Феваля, как покровительствовала Телемаку богиня Паллада, в образе Ментора. Поэтому для них легко и возможно все, решительно невозможное для других смертных. Их беспрестанно сажают в тюрьмы, но выбраться из тюрьмы, когда нужно, – им нипочем. Когда в замок Блутгаупт собрались все враги их и завлекли туда свою жертву, братья немножко поопоздали явиться в замок. Но ничего: они еще успеют свое сделать. На жертву направлена мортира – надо ее уничтожить, а высоко – не достанешь. Один брат влез на плечо другому, а рука все не достает; нижний брат начал приседать под тяжестию верхнего – вот рухнутся оба с высокой стены в бездну. В эту критическую минуту жестокий автор, по праву гения, которому закон не писан, оставляет и братьев, с их неразрушенной мортирой, и задыхающегося от ужасу читателя, с его нетерпением, и начинает новую главу, где переходит к другим лицам своего интересного романа. Братья-удальцы уже работают другое, а мортиру, как видно по ходу рассказа, они уничтожили – как? – это автор почел за нужное утаить от своих читателей, думая, вероятно: много будете знать, скоро состареетесь. Г-н Поль Феваль хорошо знает натуру своих читателей – и зато он с хлебцем… В наше время умный человек не умрет с голоду, если умеет тешить или надувать тех, которые глупее его…
Автор «Иезуита», г. Шпиндлер, некогда пользовался большою известностию в Германии, как счастливый подражатель Вальтера Скотта. Но теперь он пишет в модном роде. Куда бросились французские кони с копытом, туда же поплелся и наш немец с клешнею. Пока действие его романа происходит в Германии, – еще можно читать его; но как скоро перенес он его в Южную Америку – посыпались такие мелодраматические эффекты, что мочи нет. Тут дикари делают нападение на селение обращенных и мудро управляемых добродетельным священником дикарей, кого перерезали, кого забрали в плен, в том числе и добродетельного пастора. Но он, поговорив с ними с час времени, убедил их креститься и увел для поселения на свое пепелище. Тут кому не пропасть, все находятся и друг с другом сходятся, хотя и не обыкновенным, но, по мнению автора, возможным образом. К концу романа герои соединяются законным браком и живут счастливо. Добродетель награждена, порок наказан, раскаяние уважено. Только злодеи иезуиты урвались от заслуженной кары. Стало быть, все как следует.
Было время, когда перевод всякого иностранного романа на русский язык составлял важную новость в литературе и давал пищу критике и полемике, а переводчику всеобщую известность. Время это давно прошло – и безвозвратно. Если бы кто-нибудь перевел теперь вполне, с подлинника, всего Вальтера Скотта или всего Купера, – тот составил бы себе имя. Но перевести, даже порядочно, модный французский роман теперь ничего не значит. На подобные подвиги никто не обратит внимания, тем более что они относятся скорее к промышленности, нежели к литературе, – и если мы решились говорить об этих эфемерных явлениях книжной торговли, то потому только, что не о чем говорить, хоть совсем выключай библиографию из журнала. Но старое обыкновение выставлять на переводных романах имя переводчика опять входит и должно войти в силу, потому что переводами большею частию занимаются люди, равно не знающие ни того языка, с которого переводят, ни того, на который переводят, всего чаще последний, следовательно, публике нужно ручательство известного имени, что перевод удобен к чтению. К числу таких классических имен принадлежит имя г. Строева: оно беспрестанно выставляется на переведенных с французского романах то в качестве переводчика, то в качестве пересмотрщика чужого перевода, в обоих случаях как верное ручательство за достоинство перевода. Для нас верность этого ручательства немного, как бы сказать? сомнительна. Не любя никого обвинять без доказательств, приведем наудачу несколько фраз, сперва из «Терезы Дюнойе», переведенной г. Строевым, а потом из «Матильды», перевод которой, неизвестно чей, пересмотрен им.
«О пусть будет ветренною, неосторожною, чем притворщицею» («Т(ереза) Д(юпойе)», ч. 2-я, стр. 10). «Войдя и увидя маркиза, он изумился, подбежал к нему, дружно пожал ему руку и спросил» (стр. 79). Что такое дружно пожать руку? разве дружески или дружественно, а дружно по-русски прилагается к соединенным отношениям (дружно жили) или усилиям (дружно подхватили) нескольких человек. «И притом же, как не простить его за притворство, когда вздумаешь, что он имел в виду благородную и великодушную цель» (ч. 4-я, стр. 90). Разве: когда подумаешь? Конечно, все это мелочи, но в классически хорошем переводе и их не должно быть; а сверх того, не переписать же нам всего романа для доказательства, что перевод вообще не то чтобы плох, да и по то чтобы хорош. Л вот перевод «Матильды» так решительно плох. «Мы заметили одну комнату, прекрасно расположенную, но коей стены были голы» (ч. II, стр. 85). Светски воспитанная француженка, в своих записках, выражаясь по-русски, употребляет подьяческое слово коей!.. «Напротив, осмелюсь, – возразил г. де Рошгюн, – ибо я хочу, чтоб настоящий благодетель был известен: как ни сладка мне ваша благодарность, я не могу принять ее (я), ибо я поступил так, согласно последнему желанию моего отца, – прибавил г. де Рошгюн растроганным голосом» (стр. 95). Как хорошо это ибо в разговоре светских людей, да и вообще как этот слог разговорен! «Ах! но верьте! – вскричала Урсула, и слезы стыда блеснули на очах ее» (стр. 115). Зачем же на очах, а не на глазах – разве для красоты слога? «Не докончив речи, она снова опустила голову, как бы борясь с желанием говорить и другим влиянием» (стр. 142). Что-то темно! «Это было первое огорчение, которое я от него имела» (ч. IV, стр. 72). «Я вам говорю вперед свои намерения» (стр. 97). «Нет, вы знаете, что я вас не балую… я… может быть, одна только и говорю вам правду… Бы должны быть за то благодарны… потому что я не со всеми такова. Что, вы не находите, – сказала княгиня, обращаясь ко мне, – что надо сколько-нибудь отличать от прочих того, кому решаешься говорить то, чего другие не смеют говорить?» (стр. 106). Складно выражаются по-русски французские княгини! «Он даже не подозревал величины (великости?) огорчений, им мне причиняемых» (ч. VI, стр. 34). «Если проступок может быть извинен и облагорожен достоинствами того, кто заставил нас впасть в оный, то любовь моя извинительна» (стр. 76): это «оный» употребила в разговоре герцогиня де Ришваль!! «Но перо мое останавливается… рука дрожит… я вся дрожу при этом раздирательном воспоминании!» (ч. VIII, стр. 137). Ба! да этот перевод – раздирательный! «Однажды, катаясь в карете в Булонском лесу с г-жою де Ришвиль, две женщины в сопровождении многих мужчин быстро промчались мимо нас» (ч. IX, стр. 125). Каков галлицизм! «Его предпочтения ко мне к (почему же и не сказать этого?) мои предпочтения к нему, ибо чувство, внушившее нам их, не имело в себе ничего дурного, были так естественны» и проч. (ч. X, стр. 56). Довольно!
Но перевод «Иезуита» – еще лучше. Видно, он принадлежит немцу, который в совершенных летах начал учиться по-русски и еще не доучился. «Он занял свое место в креслах у окна, которое, выходя в сад, само представляло сад, уставленное густыми цветами» (ч. I, стр. 81). «Я видел, что глаза твои были заплаканы, когда во время десертаты воротилась к нам» (ч. II, стр. 33). Таких примеров, и даже лучших, в трех частях «Иезуита» бездна, да довольно и этих.
Сноски
1
Знаменитый роман Скаррона был переведен на русский язык в 1801 году, под нелепым заглавием: «Смешные повести забавного Скаррона, с описанием его жизни и всех сочинений», в 4-х частях.
(обратно)2
Впрочем, Дюкре-Дюмениль принадлежит, по времени, и к настоящему столетию: он родился в 1761, а умер в 1819 году.
(обратно)3
Левис родился в 1773, а умер в 1818; знаменитый роман его «Монах» вышел в 1795 году.
(обратно)4
Stephanie – Felicite Dugrest de St.-Aubin, comtesse de Genlis боролась в своих романах с энциклопедистами, называя себя литератором (homme de lettres) и гувернером (gouverneur) детей герцога Орлеанского. Родилась в 1746, умерла в 1830 году. Это был замечательнейший и забавнейший синий чулок прошлого века. Она оставила более восьмидесяти сочинений.
(обратно)5
Лесаж родился в 1668, умер в 1747 году. «Жиль-Блаз» показался в свет между 1715–1735 годов.
(обратно)6
Родился в 1753, умер в 1835 году.
(обратно)7
Свифт родился в 1667, умер в 1745 году; Стерн родился в 1713, умер в 1768 году.
(обратно)8
Родился в 1697, умер в 1763 году. Знаменитый роман его появился в 1732 году.
(обратно)9
Родился в 1782, умер в 1824 году.
(обратно)10
Гофман родился в 1776, умер в 1822 году.
(обратно)11
Шиллер тоже написал роман: «Духовидец», в котором все чудеса производятся, впрочем, очень естественно, посредством обмана, жертвою которого делается не читатель, а герой романа. Роман этот недостоин имени своего автора.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

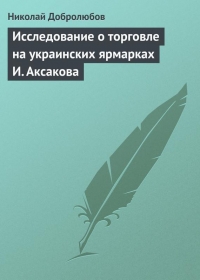

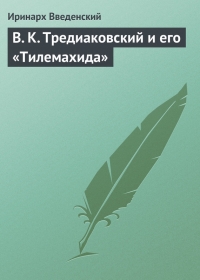
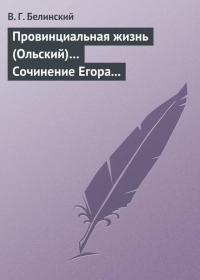

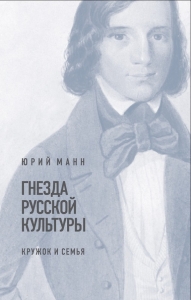
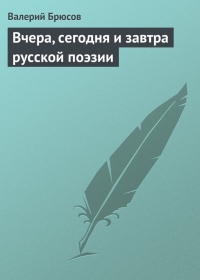

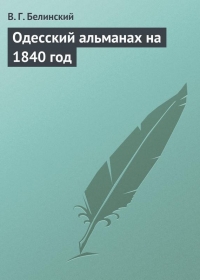
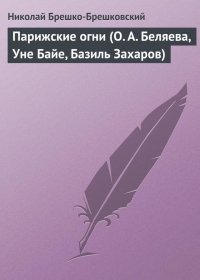
Комментарии к книге «Тереза Дюнойе. Роман Евгения Сю», Виссарион Григорьевич Белинский
Всего 0 комментариев