Виссарион Григорьевич Белинский Петербургский сборник,
изданный Н. Некрасовым. Некоторые статьи иллюстрированы. – В. Г. Белинский. Ф. М. Достоевский. Искандер. А. И. Кронеберг. А. Н. Майков, Н. А. Некрасов. А. В. Никитенко. И. И. Панаев. Гр. В. А. Соллогуб. И. С. Тургенев. – Санктпетербург, 1846.
«Бедные люди», роман г. Достоевского, в этом альманахе – первая статья и по месту и по достоинству. Начинаем с нее.
Появление всякого необыкновенного таланта рождает в читающем и пишущем мире противоречия и раздоры. Если такой талант является в раннюю эпоху еще неустановившейся литературы, – он встречает, с одной стороны, восторженные клики, неумеренные хвалы, с другой – безусловное осуждение, безусловное отрицание. Так было с Пушкиным. Одни увидели в нем «северного Байрона» (как будто где-нибудь был южный Байрон!), «представителя современного человечества», и все это – по первым его произведениям, особенно по тем, которые были слабее других и теперь совершенно потеряли безотносительную ценность{1}; другие упорно смотрели на его произведения, как на унижение, профанацию поэзии, во имя дебелых торжественных од, к которым привыкли с детства. Понять Пушкина предоставлено было уже другому поколению, и едва ли уже не после его смерти. Несколько иначе было с Гоголем. Много встретил себе врагов талант Пушкина, но несравненно более явилось преданных ему друзей, восторженных его почитателей. Против него были старцы летами и духом; за него – и молодые поколения, и сохранившие свежесть чувства старики. Как всякий великий талант, Гоголь скоро нашел себе восторженных поклонников, но число их было уже далеко не так велико, как у Пушкина. Можно сказать, что как на стороне Пушкина было большинство, так на стороне Гоголя – меньшинство: большинство же было сначала решительно против Гоголя. И это очень естественно: мир поэзии Гоголя так оригинален и самобытен, так принадлежит исключительно его таланту, что даже и между людьми, не омраченными пристрастием и не лишенными эстетического смысла, нашлись такие, которые не знали, как им о нем думать. В недоумении, им казалось, что это или уж слишком хорошо, или уж слишком дурно, – и они помирились на половине с творениями самого национального и, может быть, самого великого из русских поэтов, то есть решили, что у него есть талант, даже большой, только идущий по ложной дороге. Естественность поэзии Гоголя, ее страшная верность действительности, изумила их уже не как смелость, но как дерзость. Если и теперь еще не совсем исчезла из русской литературы та чопорность, которая так прекрасно выражается французским словом pruderie[1] и в которой так верно отразились нравы полубоярской и полумещанской части нашего общества; если и теперь еще существуют литераторы, которые естественность считают великим недостатком в поэзии, а неестественность великим ее достоинством и новую школу поэзии думают унизить эпитетом «натуральной», – то понятно, как должно было большинство публики встретить основателя новой школы. И потому естественно, что еще и теперь в нем упорствуют признавать великий талант часто те самые люди, которые с жадностию читают и перечитывают каждое его новое произведение; а кто теперь не читает с жадностию его новых и не перечитывает с наслаждением его старых произведений? Нет нужды говорить, что беспощадная истина его созданий – одна из причин этого нерасположения большинства публики признать на словах великим поэтом того, кого оно же, это же большинство, признало великим поэтом на деле, читая и раскупая его творения и даже самыми своими нападками на них давая им больше, нежели только литературное значение. Но, при всем том, первая и главная причина этого непризнания заключается в беспримерной в нашей литературе оригинальности и самобытности произведений Гоголя. Говорим: беспримерной, потому что с этой стороны ни один русский поэт не может итти в сравнение с Гоголем. Всякий гениальный талант оригинален и самобытен; но есть разница между одною и другою оригинальностью, между одною и другою самобытностью. Оригинальность и самобытность Пушкина, в отношении к предшествовавшим ему поэтам, кроме печати особенности, положенной личностию его на его творения, состояла преимущественно в том, что их произведения были только стремлением к поэзии, а его – самою поэзиею; они, так сказать, были кандидатами на звание поэтов, а он был поэтом-художником в полном и совершенном значении этого слова. Но тем не менее, к чести предшественников Пушкина должно сказать, что они имели на него большее или меньшее влияние и их поэзия больше или меньше была предвестницею его (поэзии, особенно первых его опытов. Еще прямее и непосредственнее было влияние на Пушкина современных ему европейских поэтов. Если, при всем этом, первые произведения Пушкина одних неприятно, других к полному их удовольствию и восторгу поразили не только новостью, но и оригинальностью и самобытностию, – это показывает, как гениален был талант его. Но все-таки его первые произведения напоминали собою многое и в русской литературе, хотя и отдаленно, и еще более многое, и притом ближайшим образом, в иностранных литературах, – чему доказательством служит неудачно и неловко приданный ему титул русского Байрона. У Гоголя не было предшественников в русской литературе, не было (и не могло быть) образцов в иностранных литературах{2}. О роде его поэзии, до появления ее, не было и намеков. Его поэзия явилась вдруг, неожиданная, непохожая ни на чью другую поэзию. Конечно, нельзя отрицать влияния на Гоголя со стороны, например, Пушкина; но это влияние было не прямое: оно отразилось на творчестве Гоголя, а не на особенности, не на физиономии, так сказать, творчества Гоголя. Это было влияние более времени; которое Пушкин подвинул вперед, нежели самого Пушкина. Разумеется, если б Гоголь явился прежде Пушкина, он не мог бы достигнуть той высоты, на которой он стоит теперь. Но прямого влияния, такого, какое имели (в большей или меньшей степени, ближе или отдаленнее) на Пушкина предшествовавшие ему русские и современные ему европейские поэты, – такого влияния со стороны Пушкина на Гоголя нельзя открыть никаких следов в сочинениях последнего. Сверх того, поэзия, избирающая своим предметом только положительно-прекрасные явления жизни и редко испытываемые человеком высокие ощущения, – такая поэзия, если не всем понятна в сущности, то всем доступна по наружности. По крайней мере, она до того нравится толпе, что даже и ложные таланты, если они не лишены блеска и смелости, увлекают ее, пародируя в своих хитро-изысканных выдумках высокую сторону действительности: это доказывает чрезвычайный, хотя и мгновенный успех Марлинского и… но не будем называть других – довольно и одного примера… Скажем более: толпа, представительница прозаической, будничной и черновой стороны жизни, терпеть не может, чтоб поэзия занималась ею, хотя и не смирение, а опасливость неуверенного в себе самолюбия причиною этого; напротив, она любит, чтоб поэзия ей представляла все героев да твердила ей все о высоком и прекрасном. За голосом немногих, которым дано действительно понимать высокое жизни, толпа готова провозгласить великим гением даже Байрона, в котором она, толпа, неспособна понять ни пол-мысли, ни пол-стиха; но искренно пленяет и увлекает ее только театральное и мелодраматическое пародирование высокой стороны жизни (как в повестях Марлинского) или истинное и действительно прекрасное, то вместе с тем и не слишком великое, несколько незрелое и детское, потому что сама толпа есть не что иное, как вечный недоросль, что-то похожее на дряхлого ребенка или на младенчествующего старика. Лучшим доказательством справедливости наших слов может служить Пушкин. Когда слава его была в своей апогее, когда представители толпы провозглашали его «северным Байроном и представителем современного человечества»? – Тогда, когда он удивлял их «Русланом и Людмилою», «Братьями разбойниками», «Кавказским пленником», «Бахчисарайским фонтаном» и теми стишками, в которых воспевал золотую лень, шипучее вино и тому подобное. «Цыганы» приняты были уже с меньшим восторгом; «Полтава» публикою принята холодно, а журналисты встретили ее бранью; «Борис Годунов» вовсе не был оценен, – и многие ли даже теперь догадываются, что за великие создания – «Моцарт и Сальери», «Пир во время, чумы», «Скупой рыцарь», «Галуб», «Медный всадник», «Каменный гость»? Один из критиков того времени, в седьмой главе «Евгения Онегина», которая, по глубине чувства, по зрелости мысли, по художественной отделке, гораздо выше первых шести глав, увидел – решительное падение, chute complete[2] и с торжеством возвестил его на двух языках – русском и французском!.. Другой критик, говоря о той же седьмой главе «Онегина», сделал такое заключение, что Пушкин отстал от века и что на него прошла мода, как некогда прошла мода на Наполеона, потому что и он отстал от века!.. Еще двое других, как будто сговорясь между собою, несмотря на то, что были противниками по мнениям, объявляли, что в третьей части стихотворений Пушкина (вышедшей в 1832 году) не видно прежнего Пушкина!.. И они не ошиблись бы, если б сказали это в том смысле, что Пушкин в этой третьей части стал выше, нежели как был в первых двух частях своих стихотворений; но, увы! – добрые критики говорили тут о падении Пушкина!.. Все это факты, которые, если бы понадобилось, мы скрепили бы указанием на страницы журналов блаженной памяти, в которых (печатались такие диковинки{3}. И вот как судила толпа и о поэте, избравшем предметом песен своих высокую сторону жизни: она восхищалась его ученическими опытами и отступилась от него тотчас, как стал он мастером, и каким еще мастером – великим!..
Как же должна была судить толпа о поэте, дерзнувшем пойти по дороге, до него никому неведомой, решившемся, оставив в покое героев (которые, по правде сказать, на земле являются гораздо реже, нежели в фантазии поэтов), обратиться к толпе и к будничной жизни?.. Сначала, как и следует, она подумала, что этот поэт не знает ничего лучше ее, толпы, и не способен вознестись мыслию за границу вседневной прозаической жизни. И такое заключение было очень естественно с ее стороны: она не встречала в сочинениях этого поэта ни моральных сентенций, ни комических выходок. Напротив, она видела, что он рисует ей своих странных героев и их бедную, жалкую жизнь очень серьезно, говорит о них почти с такою же важностью, как в действительности говорят они о самих себе и своих делишках. Кончено: это писатель, положим, не без дарования, но мелкий, без фантазии, без души, без сердца, без способности понимать высокое и прекрасное, любящий изображать только грязную, неумытую природу! Но – странное дело! – толпа сама не могла не заметить, что она с жадностью его читает, что он чем-то сильно задевает и сердит ее; потом с изумлением узнает она, что высший свет, верховный представитель хорошего тона и приличия, оставляя без внимания бонтонные, опрятные произведения дюжинных сочинителей, без перчаток и с удовольствием читает сочинения этого писателя, исполненные дурного тона, оскорбляющих приличие выражений и картин и, кажется, назначенные для потехи самых необразованных читателей… В то же время нашлись люди, которые, по поводу сочинений этого писателя, заговорили о юморе, как могущественном элементе творчества, посредством которого поэт служит всему высокому и прекрасному, даже не упоминая о них, но только верно воспроизводя явления жизни, по их сущности противоположные высокому и прекрасному, – другими словами: путем отрицания достигая той же самой цели, только иногда еще вернее, которой достигает и поэт, избравший предметом своих творений исключительно идеальную сторону жизни{4}. Все это не могло не иметь влияния на мнение толпы; а между тем с течением времени она все более и более привыкала к его сочинениям, и все, что казалось ей в них странным и резким, со дня на день становилось в ее глазах очень естественным, – чему способствовала много и основанная им литературная школа. И вот теперь, когда французский перевод нескольких его повестей доставил ему громкую известность в Европе{5}, – теперь и самые враги его таланта, имеющие свои причины вести отчаянную войну против его успехов, уже не решаются говорить о нем прежним языком…
Вообще литература наша, в лице Пушкина и Гоголя, перешла через самый трудный и самый блестящий процесс своего развития: благодаря им она, если еще не достигла своей возмужалости, то уже вышла из состояния детства и той юности, которая близка к детству. Это обстоятельство совершенно изменило судьбу явления новых талантов в нашей литературе. Теперь каждый новый талант тотчас же оценяется по его достоинству. Явился Лермонтов – и первыми своими опытами заставил всех смотреть на его талант с изумленным ожиданием чего-то великого. Много ли успел написать он в течение своего краткого (четырехлетнего) литературного поприща? – а между тем нужен был только один смелый голос, чтоб за Лермонтовым, с первых же опытов его, утвердить имя великого, гениального поэта… С другой стороны, как ни хлопочет теперь посредственность выдать себя за гениальность, – ей это никак не удается. Не помогают ей ни драмы, русские и итальянские, ни романы и повести, русские, французские, литовские и немецкие, ни стихотворения, ни дагерротипы, ни иллюстрации… Недавно одна газета хотела сделать из г. Буткова опасного соперника таланту Гоголя, и что же? Все нашли, что у г. Буткова точно есть дарование, но что больше о нем сказать нечего, а ожидать от него чего-то необыкновенного тоже нечего…{6}
Правда, и теперь появление необыкновенного таланта не может не возбуждать своим{7} довольно противоречащих толков; но во-первых, это свойство необыкновенного таланта во всякой литературе, пока не привыкнут к нему (привычка – ум толпы), а во-вторых, в самом противоречии этих толков уже лежит безусловное признание необыкновенности таланта. Говорят и спорят о том, что хорошо и что дурно в его первых произведениях; но что он необыкновенный талант – об этом говорят, но не спорят. Несколько невежественных или завистливых голосов тут ничего не значит. Если какой-нибудь quasi-критик[3] или критикан решится объявить, что произведение нового писателя, возбудившего своим появлением сильное движение в читательском мире, решительно дурно, что в нем нет ни искры таланта, – такой критикан поступит очень нерасчетливо в отношении к самому себе. Самые недогадливые увидят ясно, что он, критикан, не иное что, как жалкая и купно завистливая посредственность… Но, с другой стороны, и преувеличенно-восторженные похвалы, критические гимны и дифирамбы теперь тоже возможны только со стороны людей, не могущих иметь никакого влияния на общественное мнение. Литература наша пережила свою эпоху энтузиастических увлечений, восторженных похвал и безотчетных восклицаний. Теперь от критика требуют, чтобы он спокойно и трезво сказал, как понимает он поэтическое произведение; а до восторгов, в которые привело оно его, до счастия, какое доставило оно ему, никому нет нужды: это его домашнее дело.
Слухи о «Бедных людях» и новом, необыкновенном таланте, готовом появиться на арене русской литературы, задолго предупредили появление самой повести. Подобного обстоятельства никак нельзя назвать выгодным для автора. Для людей с положительным, развитым эстетическим вкусом, все равно быть или не быть предубежденными в пользу или не в пользу автора: прочитав повесть, они увидят, что это такое; но истинных знатоков искусства немного на белом свете, а не знаток от всего заранее расхваленного ожидает какого-то чуда совершенства, то есть фразистой мелодрамы во вкусе Марлинского, – и увидя, что это совсем не то, что все так просто, естественно, истинно и верно, он разочаровывается и, в досаде, уже не видит в произведении и того, что более или менее ему доступно и что, наверное, понравилось бы ему, если б он не был заранее настроен искать тут каких-то волшебных фокус-покусов. Несмотря на то, успех «Бедных людей» был полный. Если б эту повесть приняли все с безусловными похвалами, с безусловным восторгом, – это служило бы неопровержимым доказательством, что в ней точно есть талант, но нет ничего необыкновенного. Такой дебют был бы жалок. Но вышло гораздо лучше: за исключением людей, решительно лишенных способности понимать поэзию, и за исключением, может быть, двух-трех испугавшихся за себя писак, все согласились бы{8}, что в этой повести заметен не совсем обыкновенный талант. Для первого раза нечего больше и желать. Со временем та же повесть будет казаться иною многим из тех, которые сочли преувеличенными предшествовавшие ее появлению слухи о высоком художественном ее достоинстве. Из всех критиков самый великий, самый гениальный, самый непогрешительный – время. Впрочем, не должно забывать, что роман г. Достоевского прочтен всеми только в Петербурге и что только Петербург обнаружил свое, мнение о таланте нового поэта. В Москве еще только читают его «Бедных людей» и «Двойника» (помещенного в февральской книжке «Отечественных записок»){9}, а в провинции еще не читали их. Мы очень любим и уважаем Петербург во многих отношениях, но отнюдь не в климатическом и не в эстетическом: нигде в России так много не читают, как в Петербурге, следовательно, нигде в России нет такой многочисленной читающей публики, сосредоточенной на таком малом пространстве, как в Петербурге, – и при всем том, нас (chaque baron a sa fantasie![4]) почему-то всегда интересует более мнение Москвы и провинции о книге, нежели Петербурга. Мы никогда не говорим: «это сочинение так хорошо, что даже в провинции имело огромный успех»; но, напротив, мы как-то особенно нерасположены к сочинениям, которые только в Петербурге возбуждают общий восторг. Может быть, по этому самому, нам не нравятся стихотворения г. Бенедиктова, «Сенсации мадам Курдюковой» и все патриотические и патетические драмы, возбуждающие такие оглушительные аплодиссманы на сцене Александрынского театра. Может быть, в этом случае мы и не правы, но нам кажется, что жители Петербурга – уж чересчур занятые, чересчур деловые люди, и потому едва ли могут блистать особенно развитым эстетическим вкусом. Им надо что-нибудь, во-первых, не слишком большое, а во-вторых, и это главное – что-нибудь полегче, что-нибудь не слишком требующее углубления мыслию, не слишком вызывающее на размышление, словом, такое, что было бы и коротко и ясно и не заставляло бы думать, как фельетонная статья в «Северной пчеле», как нравоописательная статейка г. Булгарина. И это понятно: в Петербурге все бедны временем: кто служит, кто спекулирует, кто играет в преферанс, а часто случается и так, что одно и то же лицо несет на себе эти три тягости разом. Когда тут читать с самоуглублением в читаемое, с размышлением о читаемом? Тут, дай бог, успеть только перелистывать часть того бедного количества печатных листов, которое выработывают наши типографии. В Москве число читателей несравненно меньше, но в массе московских читателей есть довольно людей, для которых сколько-нибудь замечательная книга есть факт, есть «нечто», которые читают ее сами, читают другим или настоятельно рекомендуют другим читать ее, думают о ней, толкуют, спорят. Смешно было бы утверждать, что и в Петербурге нет таких читателей; но мы знаем достоверно, что в нем их очень мало в сравнении со всею читающею массою и что большая часть их состоит из такого молодого народа, который не успел еще ни поступить на службу, ни постичь поэзию преферанса. Что касается до провинции, в ней, может быть, в сложности не менее, если не более истинно образованных и с эстетическим вкусом людей, нежели в обеих столицах наших; и если их кажется так мало в провинции, это потому, что они рассеяны на огромном пространстве и живут в таком друг от друга расстоянии, что от одного до другого иногда хоть месяц скачи на лихой тройке – не доедешь! Велика матушка Россия!.. {10}
По всему этому очень интересно узнать, какое впечатление талант г. Достоевского произведет на Москву и на провинцию. Но, в ожидании этого, мы поспешим отдать отчет в собственных наших впечатлениях.
С первого взгляда видно, что талант г. Достоевского не сатирический, не описательный, но в высокой степени творческий и что преобладающий характер его таланта – юмор. Он не поражает тем знанием жизни и сердца человеческого, которое дается опытом и наблюдением: нет, он знает их и притом глубоко знает, но à priori[5], следовательно, чисто поэтически, творчески. Его знание есть талант, вдохновение. Мы не хотим его сравнивать ни с кем, потому что такие сравнения вообще отзываются детством и ни к чему не ведут, ничего не объясняют. Скажем только, что это талант необыкновенный и самобытный, который сразу, еще первым произведением своим, резко отделился от всей толпы наших писателей, более или менее обязанных Гоголю направлением и характером, а потому и успехом своего таланта. Что же касается до его отношений к Гоголю, то если его, как писателя с сильным и самостоятельным талантом, нельзя назвать подражателем Гоголя, то и нельзя не сказать, что он еще более обязан Гоголю, нежели сколько Лермонтов обязан был Пушкину. Во многих частностях обоих романов г. Достоевского («Бедных людей» и «Двойника») видно сильное влияние Гоголя, даже в обороте фразы; но со всем тем, в таланте г. Достоевского так много самостоятельности, что это теперь очевидное влияние на него Гоголя, вероятно, не будет продолжительно и скоро исчезнет с другими, собственно ему принадлежащими недостатками, хотя тем не менее. Гоголь навсегда останется, так сказать, его отцом по творчеству. Продолжая эту риторическую фигуру сравнения, прибавим, что тут нет никакого даже намека на подражательность: сын, живя своею собственною жизнию и мыслию, тем не менее все-таки обязан своим существованием отцу. Как бы ни великолепно и ни роскошно развился впоследствии талант г. Достоевского, Гоголь навсегда останется Коломбом той неизмерной и неистощимой области творчества, в которой должен подвизаться г. Достоевский. Пока еще трудно определить решительно, в чем заключается особенность, так сказать, индивидуальность и личность таланта г. Достоевского, но что он имеет все это, в том нет никакого сомнения. Судя по «Бедным людям», мы заключили было, что глубоко человечественный и патетический элемент, в слиянии с юмористическим, составляет особенную черту в характере его таланта; но прочтя «Двойника», мы увидели, что подобное заключение было бы слишком поспешно. Правда, только нравственно слепые и глухие не могут не видеть и не слышать в «Двойнике» глубоко патетического, глубоко трагического колорита и тона; но, во-первых, этот колорит и тон в «Двойнике» спрятались, так сказать, за юмор, замаскировались им, как в «Записках сумасшедшего» Гоголя… Вообще талант г. Достоевского, при всей его огромности, еще так молод, что не может высказаться и выказаться определенно. Это естественно: от писателя, который весь высказывается первым своим произведением, многого ожидать нельзя. Как ни хорош «Герой нашего времени», но если б кто подумал, что Лермонтов впоследствии не мог бы написать чего-нибудь несравненно лучшего, тот этим показал бы, что он не слишком высокого мнения о таланте Лермонтова.
Мы сказали, что в обоих романах г. Достоевского заметна сильное влияние Гоголя, и это должно относиться только к частностям, к оборотам фразы, но отнюдь не к концепции целого произведения и характеров действующих лиц. В последних двух отношениях талант г. Достоевского блестит яркою самостоятельностью. Если можно подумать, что Макару Алексеевичу Девушкину, старику Покровскому и г-ну Голякину-старшему г. Достоевского несколько сродни Попрыщин и Акакий Акакиевич Башмачкин Гоголя, то в то же время нельзя не видеть, что между лицами романов г. Достоевского и повестей Гоголя существует такая же разница, как и между Попрыщиным и Башмачкиным, хотя оба эти лица созданы одним и тем же автором. Мы даже думаем, что Гоголь только первый навел всех (и в этом его заслуга, которой подобной уже никому более не оказать) на эти забитые существования в нашей действительности, но что г. Достоевский сам собою взял их в той же самой действительности.
Нельзя не согласиться, что для первого дебюта «Бедные люди» и, непосредственно за ними, «Двойник» – произведения необыкновенного размера и что так еще никто не начинал из русских писателей. Конечно, это доказывает совсем не то, чтоб г. Достоевский по таланту был выше своих предшественников (мы далеки от подобной нелепой мысли), но только то, что он имел перед ними выгоду явиться после них; однакож, со всем тем, подобный дебют ясно указывает на место, которое со временем займет г. Достоевский в русской литературе, и на то, что если б он и не стал рядом с своими предшественниками, как равный с равными, то долго еще ждать нам таланта, который бы стал к ним ближе его. Посмотрите, как проста завязка в «Бедных людях»: ведь и рассказать нечего! А между тем так много приходится рассказывать, если уже решишься на это! Бедный пожилой чиновник, недалекого ума, без всякого образования, но с бесконечно доброю душою и теплым сердцем, опираясь на право дальнего, чуть ли еще не придуманного им для благовидного предлога, родства, исхищает бедную девушку из рук гнусной торговки женскою добродетелью, девическою красотою. Автор не говорит нам, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать сострадание, или сострадание родило в нем любовь к этой девушке; только мы видим, что его чувство к ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокого старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтоб не возненавидеть жизни и не замереть от ее холода, и которому всего естественнее полюбить существо, обязанное ему, одолженное им, – существо, к которому он привык и которое привыкло к нему. Нет, в чувстве Макара Алексеевича к его «маточке, ангельчику и херувимчику Вариньке» есть что-то похожее на чувство любовника, – на чувство, которое он сидится не признавать в себе, но которое у него против воли по временам прорывается наружу и которое он не стал бы скрывать, если б заметил, что она смотрит на него не как на вовсе неуместное. Но бедняк видит, что этого нет, и с героическим самоотвержением остается при роли родственника-покровителя. Иногда он разнеживается, особенно в первом письме, насчет поднятого уголочка оконной занавески, хорошей весенней погоды, птичек небесных и говорит, что «все в розовом цвете представляется». Получив в ответ намёк на его лета, бедняк впадает в тоску, чувствуя, что его поймали на шалости, в досада его слегка высказывается только в уверениях, что он еще вовсе не старик. Эти отношения, это чувство, эта старческая страсть, в которой так чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка, – все это развито автором с удивительным искусством, с неподражаемым мастерством. Девушкин, помогая Вариньке Доброселовой, забирает вперед жалованье, входит в долги, терпит страшную нужду и, в лютые минуты отчаяния, как русский человек, ищет забвения в пьянстве. Но как он деликатен по инстинкту! Благодетельствуя, он лишает себя всего, так сказать, обворовывает, грабит самого себя, – до последней крайности обманывает свою Вариньку небывалым у него капиталом в ломбарде, и если проговаривается об истинном своем положение, то по стариковской болтливости и так простодушно! Ему не приходит в голову, что он приобрел право своими пожертвованиями требовать вознаграждения любовью за любовь, тогда как по тесноте и узкости его понятий, он мог бы навязать себя Вариньке в мужья уже по тому естественному и весьма справедливому убеждению, что никто, как он, не может так любить ее и всего себя принести ей на жертву; но от нее он не потребовал жертвы: он любил ее не для себя, а для ней самой, и жертвовать для ней всем – было для него счастием. Чем ограниченнее его ум, чем теснее и грубее его понятия, тем, кажется, шире, благороднее и деликатнее его сердце; можно сказать, что у него все умственные способности из головы перешли в сердце. Многие могут подумать, что в лице Девушкина автор хотел изобразить человека, у которого ум и способности придавлены, приплюснуты жизнью. Была бы большая ошибка думать так. Мысль автора гораздо глубже и гуманнее; он, в лице Макара Алексеевича, показал нам, как много прекрасного, благородного и святого лежит в самой ограниченной человеческой натуре. Конечно, не все бедняки такого рода похожи на Макара Алексеевича в его хороших свойствах, и мы согласны, что такие люди редки, но в то же время нельзя не согласиться и с тем, что на таких людей мало обращают внимания, мало ими занимаются, мало их знают. Если богач, ежедневно проедающий сто, двести и больше рублей, бросит нищему двадцать пять рублей, все замечают это и, в чаянии получить от него больше, умиляются душою от его великодушного поступка. Но бедняк, отдающий такому же бедняку, как и он сам, свои последние двадцать копеек медью, как отдал их Девушкин Горшкову, – такой бедняк не всех тронет и в повести, мастерски написанной, а в действительности в его поступке не захотели бы увидеть ничего, кроме смешного. Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: «Ведь это тоже люди, ваши братья!»
Обратите внимание на старика Покровского – и вы увидите ту же гуманную мысль автора. Подставной муж обольщенной, обманутой женщины, потом угнетенный муж разлихой бой-бабы, шут и пьяница – и он человек! Вы можете смеяться над его любовью к своему мнимому сыну, напоминающею робкую любовь собаки к человеку; но если, смеясь над нею, вы в то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображение Покровского, с книгами в кармане и подмышкою, без шапки на голове, в дождь и холод бегущего, с видом помешанного, за гробом смешно любимого им сына, – не производит на вас трагического впечатления, не говорите об этом никому, чтоб какой-нибудь Покровский, шут и пьяница, не покраснел за вас, как за человека…
Вообще трагический элемент глубоко проникает собою весь этот роман. И этот элемент тем поразительнее, что он передается читателю не только словами, но и понятиями Макара Алексеевича. Смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы, – какое уменье, какой талант! И никаких мелодраматических пружин, ничего похожего на театральные эффекты! Все так просто и обыкновенно, как та будничная, повседневная жизнь, которая кишит вокруг каждого из нас и пошлость которой нарушается только неожиданным появлением смерти то к тому, то к другому!.. Все лица обрисованы так полно, так ярко, не исключая ни лица господина Быкова, только на минуту появляющегося в романе собственною особою, ни лица Анны Федоровны, ни разу не появляющейся в романе собственною особою. Отец и мать Доброселовой, старик и юноша Покровские, жалкий писака Ротозяев, ростовщик, – словом, каждое лицо даже из тех, которые или только вскользь показываются, или только заочно упоминаются в романе, так и стоит перед читателем, как будто давно коротко ему знакомое. Можно бы заметить, и не без основания, что лицо Вариньки как-то не совсем определенно и оконченно; но, видно, уж такова участь русских женщин, что русская поэзия не ладит с ними, да и только! Не знаем, кто тут виноват, русские ли женщины, или русская поэзия, но знаем, что только Пушкину удалось, в лице Татьяны, схватить несколько черт русской женщины, да и то ему необходимо было сделать ее светскою дамою, чтоб сообщить ее характеру определенность и самобытность. Журнал Вариньки прекрасен, но все-таки, по мастерству изложения, его нельзя сравнить с письмами Девушкина. Заметно, что автор тут был не совсем, как говорится, у себя дома; но и тут он блистательно умел выйти из затруднительного положения. Воспоминания детства, переезд в Петербург, расстройство дел Доброселова, ученье в пансионе, особенно жизнь в доме Анны Федоровны, отношения Вариньки к Покровскому, их сближение, портрет отца Покровского, подарок молодому Покровскому в день именин, смерть Покровского – все это рассказано с изумительным мастерством. Доброселова не выговаривает ни одного щекотливого для нее обстоятельства, ни бесчестных видов на нее Анны Федоровны, ни своей любви к Покровскому, ни своего потом невольного падения; но читатель сам видит все так ясно, что ему и не нужно никаких объяснений.
Рассказывать содержание этого романа было бы излишне; делать большие выписки тоже. Но не мешает иным, может быть, забывчивым читателям напомнить их же собственные впечатления, их же самих призвать в свидетели справедливости и верности нашего мнения о высоком, художественном достоинстве «Бедных людей», и потому считаем необходимым выписать несколько мест из писем Макара Алексеевича. Это не даст большой работы вниманию читателей, – а между тем посреди их, вероятно, найдутся такие, которым эти выписанные нами места покажутся как будто новыми, в первый раз прочитанными, и это обстоятельство, может быть, заставит их вновь перечесть всю повесть и сознаться себе, что они только при этом втором чтении поняли ее… Такие произведения, как «Бедные люди», никому не даются с первого раза: они требуют не только чтения, но и изучения.
«Целая семья бедняков каких-то у нашей хозяйки комнату нанимает, только не рядом с другими нумерами, а по другую сторону, в углу, отдельно. Люди смирные! Об них никто ничего и не слышит. Живут они в одной комнатке, огородясь в ней перегородочкою. Он какой-то чиновник без места, из службы лет семь тому исключенный за что-то. Фамилья его Горшков; такой седенькой, маленькой; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что больно смотреть: куда хуже моего! Жалкой, хилой такой (встречаемся мы с ним иногда в коридоре); коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, бог его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой: уж я застенчив подчас, а этот еще хуже. Семейства у него – жена и трое детей. Старший, мальчик, весь в отца, тоже такой чахлый. Жена была когда-то собою весьма недурна, и теперь заметно; ходит, бедная, в таком жалком отребьи. Они, я слышал, задолжали хозяйке; она с ними что-то не слишком ласкова. Слышал тоже, что у самого-то Горшкова неприятности есть какие-то, по которым он и места лишился… процесс не процесс, под судом не под судом, под следствием каким-то, что ли, – уж истинно не могу вам сказать. Бедны-то они бедны – господи, бог мой! Всегда у них в комнатке тихо и смирно, словно и не живет никто. Даже детей не слышно. И не бывает этого, чтобы когда-нибудь порезвились, поиграли дети, а уж это худой знак. Стало быть, в семье что-нибудь да не прочно. Как-то мне раз, вечером, случилось мимо их дверей пройти; на ту пору в доме стало что-то не по обычному тихо; слышу всхлипывание, потом шопот, потом опять всхлипывание, точно как будто плачут, да так тихо, так жалко, что у меня все сердце надорвалось, и потом всю ночь мысль об этих бедняках меня не покидала, так что я заснуть не удалось хорошенько.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Я к тому про ширманщика этого заговорил, маточка, что случилось мне бедность свою вдвойне испытать сегодня. Остановился я посмотреть на ширманщика. Мысли такие лезли в голову; – так я, чтобы рассеяться, остановился. Стою я, стоят извощики, девка какая-то, да еще маленькая девочка, вся такая запачканная. Шарманщик расположился перед чьими-то окнами. Замечаю малютку, мальчика, так себе лет двенадцати; был бы хорошенькой, да на вид больной такой, чахленькой, в одной рубашонке, да еще в чем-то, чуть ли не босой стоят, разиня рот музыку слушает; – детский возраст! загляделся, как у немца куклы танцуют, а у самого и руки и ноги окоченели, дрожит да кончик рукава грызет. Примечаю, что в руках у него бумажечка какая-то. Прошел один господин и бросил ширманщику какую-то маленькую монетку; монетка прямо упала в тот ящичек с огородочкой, в котором представлен француз, танцующий с дамами. Только что звякнула монетка, встрепенулся мой мальчик, робко осмотрелся кругом, да видно на меня подумал, что я деньги дал. Подбежал он ко мне, ручонки дрожат у него, голосенок дрожит, протянул он ко мне бумажку и говорит – записка! Развернул я записку – ну что, все известное: – дескать, благодетели мои, мать у детей умирает, трое детей голодают, так вы нам теперь помогите; а вот как я умру, так за то, что птенцов моих теперь не забыли, на том свете вас, благодетели мои, не забуду. – Ну, что тут; дело ясное, дело житейское, а что мне им дать? Ну, и не дал ему ничего. А как было жаль! Мальчик бедненькой, посинелый от холода, может быть и голодный, и не врет, ей-ей, не врет; я это дело знаю. Но только то дурно, что зачем эти гадкие матери детей не берегут и полуголых, с записками на такой холод посылают. Она, может быть, глупая баба, характера не имеет; да за нее и постараться, может быть, некому, так она и сидит, поджав ноги, может быть и вправду больная. Ну, да все обратиться бы куда следует; а впрочем, может быть, и просто мошенница, нарочно голодного и чахлого ребенка обманывать народ посылает, на болезнь наводит. И чему научится бедный мальчик с этими записками? Только сердце его ожесточается; ходит он, бегает, просит. Ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные; слова их жестокие. Прочь! убирайся! шалишь! – Вот что слышит он от всех, и ожесточается сердце ребенка, и дробит напрасно на холоде бедненькой, запуганный мальчик, словно птенчик, из разбитого гнездышка выпавший. Зябнут у него руки и ноги; дух занимается. Посмотришь, вот он уж и кашляет; тут не далеко ждать, и болезнь, как гад нечистый, заползет ему в грудь, а там, глядишь, и смерть уж стоит над ним, где-нибудь в смрадном углу, без ухода, без помощи – вот и вся его жизнь! Вот какова она, жизнь-то бывает! Ох, Варинька, мучительно слышать, христа-ради, и мимо пройти и не дать ничего, сказать ему: <Бог подаст». Иное христа-ради еще ничего. (И христа-ради-то разные бывают, маточка). Иное долгое, протяжное, привычное, заученное, прямо нищенское; этому еще не так мучительно не подать, это долгий нищий, давнишний, по ремеслу нищий, этот привык, думаешь, он переможет и знает как перемочь. А иное христа-ради, непривычное, грубое, странное, – вот как сегодня, когда я было от мальчика записку взял, тут же у забора какой-то стоял, не у всех и просил, говорит мне: «Дай, барин, грош, ради Христа!» да таким отрывистым грубым голосом, что я вздрогнул от какого-то страшного чувства; а не дал гроша: не было. А еще люди богатые не любят, чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались – дескать, они беспокоят, они-де назойливы! Да и всегда бедность назойлива; – спать, что ли, мешают их стоны голодные!
«Признательно вам сказать, родная моя, начал я вам описывать это все, частию, чтоб сердце отвести, а более для того, чтоб вам образец хорошего слогу моих сочинений показать. Потому что вы, верно, сами сознаетесь, маточка, что у меня с недавнего времени слог формируется. Но теперь на меня такая тоска нашла, что я сам моим мыслям до глубины души стал сочувствовать, и хотя я сам знаю, маточка, что этим сочувствием не возьмешь, но все-таки некоторым образом справедливость воздашь себе. И подлинно, родная моя, часто самого себя, безо всякой причины, уничтожаешь, в грош не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравнением выразиться, так это, может быть, оттого происходит, что я сам запуган и загнан, как хоть бы и этот бедненькой мальчик, что милостыни у меня просил. Теперь я вам примерно, иносказательно буду говорить, маточка; вот послушайте-ка меня: случается мне, моя родная, рано утром, на службу спеша, заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымится, кипит, гремит, – тут иногда так перед таким зрелищем умалишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному косу, да и поплетешься тише воды, ниже травы своею дорогою, и рукой махнешь! Теперь же разглядите-ка, что в этих черных, закоптелых, больших капитальных домах делается, вникните в это, и тогда сами рассудите, справедливо ли было без толку сортировать себя и в недостойное смущение входить. Заметьте, Варинька, что я иносказательно говорю, не в прямом смысле. Ну, посмотрим, что там такое в этих домах. Там в каком-нибудь дымном углу, в конуре сырой какой-нибудь, которая, по нужде, за квартиру считается, мастеровой какой-нибудь от сна пробудился; а во сие-то ему, примерно говоря, всю ночь сапоги снились, что вчера он подрезал нечаянно, как будто именно такая дрянь и должна человеку сниться! Ну, да ведь он мастеровой, он сапожник; ему простительно все об одном предмете своем думать. У него там дети пищат, и жена голодная; и не одни сапожники встают иногда так, родная моя. Это бы и ничего, и писать бы об этом не стоило, но вот какое выходит тут обстоятельство, маточка; тут же, в этом же доме, этажом выше иль ниже, в позлащенных палатах, и богатейшему лицу все те же сапоги, может быть, ночью снились; то есть на другой манер сапоги{11}; ибо в смысле-то, здесь мною подразумеваемом, маточка, все мы, родная моя, выходим немного сапожники. И это бы все ничего, но только то дурно, что нет никого подле этого богатейшего лица, нет человека, который бы шепнул ему на ухо – «что полно, дескать, о таком думать, о себе одном думать, для себя одного жить; ты, дескать, не сапожник: у тебя дети здоровы и жена есть не просит; оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородного, чем свои сапоги!» Вот что хотел я сказать вам иносказательно, Варинька. Это, может быть, слишком вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бывает, иногда приходит, и тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается. И потому не отчего было в грош себя оценять, испугавшись одного шума и грома! Заключу же тем, маточка, что вы, может быть, подумаете, что я вам клевету говорю, или что это так хандра на меня нашла, или что я это из книжки какой выписал? Нет, маточка, вы разуверьтесь; не то: клеветою гнушаюсь, хандра не находила, и ни из какой книжки ничего не выписывал – вот что!
«Пришел я в грустном расположении духа домой, присел к столику, нагрел себе чайничек, да и приготовился стаканчик-другой чайку хлебнуть. Вдруг, смотрю, входит ко мне Горшков, наш бедный постоялец. Я еще утром заметил, что он все что-то около жильцов шныряет и ко мне хотел подойти. А мимоходом скажу, маточка, что их житье-бытье не в пример моего хуже. Куда! жена, дети! – Так что если бы я был Горшков, так уж я не знаю, что бы я на его месте сделал! Ну, так вот вошел мой Горшков, кланяется, слезинка у него как и всегда на ресницах гноится, шаркает ногами, а сам слова не может сказать. Я его посадил на стул, правда, на изломанный, да другого не было. Чайку предложил. Он извинялся, долго извинялся, наконец однакоже взял стаканчик. Хотел было без сахару пить, начал опять извиняться, когда я стал уверять его, что нужно взять сахару; долго спорил, отказывался, наконец положил в свой стакан самый маленький кусочек и стал уверять, что чай необыкновенно сладок. Эк, до уничижения какого доводит людей нищета! – «Ну, как же, что, батюшка?» сказал я ему. Да вот так и так, дескать, благодетель вы мой, Макар Алексеевич, явите милость господню, окажите помощь семейству несчастному; дети и жена, есть нечего: отцу-то, мне-то, говорит, каково! Я было хотел говорить, да он меня прервал; я, дескать, всех боюсь здесь, Макар Алексеевич, то есть не то что боюсь, а так, знаете, совестно; люди-то они все гордые и кичливые. Я бы, говорит, вас, батюшка и благодетель мой, и утруждать бы не стал; знаю, что у вас самих неприятности были, знаю, что вы многого и не можете дать, но хоть что-нибудь взаймы одолжите; и потому, говорит, просить вас осмелился, что знаю ваше доброе сердце, знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бедствия испытываете, – и что сердце-то ваше потому и чувствует сострадание. – Заключил же он тем, что, дескать, простите мою дерзость и мое неприличие, Макар Алексеевич. – Я отвечаю ему, что рад бы душой, да что нет у меня ничего, ровно нет ничего. – Батюшка, Макар Алексеевич, говорит он мне, я многого и не прошу, а вот так и так – (тут он весь покраснел) – жена, говорит, дети, голодно – хоть гривенничек какой-нибудь. Ну, тут уж мне самому сердце защемило. Куда, думаю: меня перещеголяли! А всего-то у меня и оставалось двадцать копеек, да я на них рассчитывал: хотел завтра на свои крайние нужды истратить. – Нет, голубчик мой, не могу; вот так и так говорю. Батюшка, Макар Алексеевич, хоть что хотите, говорит, хоть десять копеечек. Ну, я ему и вынул из ящика и отдал свои двадцать копеечек, маточка, все доброе дело! Эк нищета-то! Разговорился я с ним: да как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались, да еще при таких нуждах комнату в пять рублей серебром нанимаете? Объяснил он мне, что полгода назад нанял и деньги внес вперед за три месяца; да потом обстоятельства такие сошлись, что ни туда, ни сюда ему, бедному. Ждал он, что дело его к этому времени кончится. А дело у него неприятное. Он, видите ли, Варинька, за что-то перед судом в ответе находится. Тягается он с купцом каким-то, который сплутовал подрядом с казною; обман открыли, купца под суд, а он в дело-то свое разбойничье и Горшкова запутал, который тут как-то также случился. А по правде-то, Горшков виновен только в нерадении, в неосмотрительности и в непростительном упущении из вида казенного интереса. Уж несколько лет дело идет; все препятствия разные встречаются против Горшкова. – В бесчестии же, на меня взводимом, говорит мне Горшков, неповинен, нисколько неповинен, в плутовстве и грабеже неповинен. Дело это его замарало немного; его исключили из службы, и хотя не нашли, что он капитально виновен, но до совершенного своего оправдания он, до сих пор, не может выправить с купца какой-то знатной суммы денег, ему следуемой, и перед судом у него оспариваемой. Я ему верю, да суд-то ему на слово не верит; дело-то оно такое, что все в крючках да в узлах таких, что во сто лет не распутаешь. Чуть немного распутают, а купец еще крючок, да еще крючок. Я принимаю сердечное участие в Горшкове, родная моя, соболезную ему. Человек без должности; за ненадежность никуда не принимается; что было запасу, проели; дело запутано, а между тем жить было нужно; а между тем ни с того, ни с сего, совершенно некстати, ребенок родился, – ну вот издержки. Старшенькой заболел – издержки, умер – издержки. Жена больна; он нездоров застарелой болезнью какой-то. Одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждет, на-днях, благоприятного решения своего дела и что уж в этом теперь и сомнения нет никакого. Жаль, жаль, очень жаль его, маточка! Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запуганный, покровительства ищет, так вот я его и обласкал.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Пишу к вам вне себя. Я весь взволнован страшным происшествием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что все вокруг меня вертится. Ах, родная моя, что я расскажу-то вам теперь! Вот, мы и не предчувствовали этого. Нет, я не верю, чтобы я не предчувствовал; я все это предчувствовал. Все это заране слышалось моему сердцу! Я даже намедни во сне что-то видел подобное.
«Вот что случилось. – Расскажу вам без слога, а так, как мне на душу господь положит. Пошел я сегодня в должность. Пришел, сижу, пишу. А нужно вам знать, маточка, что я и вчера писал тоже. Ну, так вот, вчера подходит ко мне Тимофей Иванович и лично изволит показывать, что вот, дескать, бумага нужная, спешная. Перепишите, говорит, Макар Алексеич, почище, поспешно и тщательно; сегодня к подписанию идет. – Заметить вам нужно, ангельчик, что вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и глядеть не хотелось; грусть, тоска такая напала! На сердце холодно, на душе темно; в памяти все вы были, моя ясочка. {12} Ну, вот, я и принялся переписывать; переписал чисто, хорошо, только уж не знаю как вам точнее сказать, сам ли нечистый меня попутал, или тайными судьбами какими определено было, или просто так должно было сделаться – только пропустил я целую строчку: смысл-то и вышел, господь его знает, какой, просто никакого не вышло. С бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписание его превосходительству только сегодня. Я, как ни в чем не бывало, являюсь сегодня в обычный час и располагаюсь рядком с Емельяном Ивановичем. Нужно вам заметить, родная, что я с недавнего времени стал вдвое более прежнего совеститься и в стыд приходить. Я в последнее время и не глядел ни на кого. Чуть стул заскрипит у кого-нибудь, так уж я и ни жив, ни мертв. Вот точно так и сегодня, приник, присмирел, ежом сижу, так что Ефим Акимович (такой задирала, какого и на свете до него не было) сказал во всеуслышание: Что, дескать, вы, Макар Алексеевич, сидите сегодня таким у-у-у! да тут такую гримасу скорчил, что все, кто около него и меня ни были, так и покатились со смеху, и уж, разумеется, на мой счет. И пошли, и 'пошли! Я и уши прижал и глаза зажмурил, сижу себе, не пошевелюсь. Таков уж обычай мой; они этак скорей отстают. Итак я уткнулся носом в бумагу и вожу пером. Вдруг слышу шум, беготня, суетня; слышу – не обманываются ли уши мои? зовут меня, требуют меня, зовут Девушкина. Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я так испугался, как никогда еще в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, – и как ни в чем не бывало, точно и не я. Но вот, опять начали; ближе и ближе. Вот уж над самым ухом моим: дескать, Девушкина! Девушкина! где Девушкин? Подымаю глаза: передо мною Евстафий Иванович; говорит: Макар Алексеевич! к его превосходительству, скорее! Беды вы с бумагой наделали. Только это одно и сказал, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвел, оледенел, чувств лишился, иду – ну, да уж просто, ни жив, ни мертв отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату, в кабинет – предстал! Положительного отчета, об чем я тогда думал, я вам дать не могу. Вижу, стоят его превосходительство, вокруг него все они. Я, кажется, не поклонился; позабыл. Оторопел так, что и губы трясутся я ноги трясутся. Да и было от чего, маточка. Во-первых, совестно; я взглянул направо в зеркало, так просто было от чего с ума сойти от того, что я там увидел. А во-вторых, я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было. Так, что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем. Может быть, слышали, так, мельком, что есть у них в ведомстве Девушкин, но в кратчайшие сего сношения никогда не входили. «Начали гневно: как же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно к спеху, а вы ее портите. И как же вы это, – тут его превосходительство обратились к Евстафию Ивановичу. Я только слышу, как до меня звуки слов долетают: – нераденье! неосмотрительность! Вводите в неприятности! – я раскрыл было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не мог, убежать – покуситься не смел, и тут… тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда. – Моя пуговка – ну ее к бесу – пуговка, что висела у меня на ниточке, – вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатилась и прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания! Вот и все было мое оправдание, все извинение, весь ответ, все, что я собирался сказать его превосходительству! Последствия были ужасны! Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, {13} что я видел в зеркале, я бросился ловить пуговку, нашла на меня дурь, нагнулся, хочу взять пуговку, катается, вертится, не могу поймать, словом, и в отношении ловкости отличился. Тут уж я чувствую, что и последние силы меня оставляют, что уж все, все потеряно! Вся репутация потеряна, весь человек пропал! – А тут в обоих ушах ни с того, ни с сего и Тереза и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся, да уж коли дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам! Так нет же. Начал пуговку к оторванным ниткам прилаживать, точно от того она и пристанет; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потом опять на меня взглянули – слышу, говорят Евстафию Ивановичу: как же?.. посмотрите, в каком он виде!.. как он!.. что он! – Ах, родная моя, что уж тут – как он? Да что он? отличился, в полном смысле слова отличился! Слышу, Евстафий Иванович говорит – не замечен, ни в чем не замечен, поведения примерного, жалованья достаточно, по окладу… Ну, облегчите его как-нибудь, говорит его превосходительство. Выдать ему вперед… – Да забрал, говорят, забрал, вот за столько-то времени вперед забрал. Обстоятельства верно такие, а поведения хорошего и не замечен, никогда не замечен. – Я, ангельчик мой, горел, в адском огне горел! Я умирал! – Ну, говорят его превосходительство громко: переписать же вновь поскорее; Девушкин, подойдите сюда, перепишите опять вновь без ошибки; да послушайте: тут его превосходительство обернулись к прочим* раздали приказания разные, и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспешно вынимают книжник и из него сторублевую: вот, говорят они – чем могу, считайте как хотите, – возьмите… да и всунул мне в руку. Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась: не знаю, что было со мною; я было схватить их ручку хотел. А он-то весь покраснел, мой голубчик, да – вот уж тут ни на волосок от правды не отступаю, родная моя; взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял да и потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу. Ступайте, говорит; чем могу… Ошибок не делайте, а теперь грех пополам».
Такая страшная сцена может не потрясти глубоко только душу такого человека, для которого человек, если он чиновник не выше 9-го класса, не стоит ни внимания, ни участия. Но всякое человеческое сердце, для которого в мире ничего нет выше и священнее человека, кто бы он ни был, всякое человеческое сердце судорожно и болезненно сожмется от этой – повторяем – страшной, глубоко патетической сцены… И сколько потрясающего душу действия заключается в выражении его благодарности, смешанной с чувством сознания своего падения и с чувством того самоунижения, которое бедность и ограниченность ума часто считают за добродетель!..
«Теперь, маточка, вот как я решил: вас и Федору прошу, и если бы дети у меня были, то и им бы повелел, чтоб богу молились, то есть вот как: за родного отца не молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вечно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю – слушайте меня, маточка, хорошенько – клянусь, что как ни погибал я от скорби душевной, в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на унижение мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили. Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали, и я твердо уверен, что я как ни грешен перед всевышним, но молитва о счастии и благополучии его превосходительства дойдет до престола его!..»
Другим образом, но не менее ужасна эта картина:
«Сего числа случилось у нас в квартире донельзя горестное, ничем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков (заметить вам нужно, маточка) совершенно оправдался. Решение-то уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нем за нерадение и неосмотрительность – на все вышло полное отпущение. Приступили выправить в его пользу с купца знатную сумму денег, так что он и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его от пятна избавилась, и все стало лучше, – одним словом, вышло самое полное исполнение желания. Пришел он сегодня в три часа домой. На нем лица не было, бледный как полотно, губы у него трясутся, а сам улыбается – обнял жену, детей. Мы все гурьбою ходили к нему поздравлять его. Он был весьма растроган нашим поступком, кланялся на все стороны, жал у каждого из нас руку, по нескольку раз. Мне даже показалось, что он и вырос-то и выпрямился-то и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был таком, бедный! Двух минут на месте не мог простоять; брал в руки все, что ему ни попадалось, потом опять бросал, беспрестанно улыбался и кланялся, садился, вставал, опять садился, говорил бог знает что такое – говорит: «честь моя, честь, доброе имя, дети мои» – и как говорил-то! Даже заплакал. Мы тоже большею частию прослезились. Ратазяев, видно, хотел его ободрить и сказал – «что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги главное; вот за что бога благодарите!» – и тут же его по плечу потрепал. Мне показалось, что Горшков обиделся, то есть не то чтобы прямо неудовольствие выказал, а только посмотрел как-то странно на Ратазяева, да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка! Впрочем, различные бывают характеры. – Вот я, например, на таких радостях гордецом бы не выказался; ведь чего, родная моя, иногда и поклон лишний и уничижение изъявляешь, не от чего иного, как от припадка доброты душевной и от излишней мягкости сердца… но, впрочем, не во мне тут и дело-то! – Да, говорит, и деньги хорошо; слава богу, слава богу!.. и потом все время, как мы у него были, твердил: слава богу, слава богу!.. Жена его заказала обед поделикатнее, пообильнее. Хозяйка наша сама для них стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обеда Горшков на месте не мог усидеть. Заходил ко всем в комнаты, звали ль, не звали его. Так себе войдет, улыбнется, присядет на стул; скажет что-нибудь, а иногда и ничего не скажет и уйдет. У мичмана даже карты в руки взял; его и усадили играть за четвертого. Он поиграл-поиграл, напутал в игре какого-то вздора, сделал три-четыре хода и бросил играть. Нет, говорит, ведь я так, я это только так – и ушел от них. Меня встретил в коридоре, взял меня за обе руки, посмотрел мне прямо в глаза, только так чудно; пожал мне руку и отошел и все улыбаясь, но как-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала от радости; весело так у них было, по-праздничному. Пообедали они скоро. Вот после обеда он и говорит жене: «Послушайте, душенька, вот я немного прилягу – да и пошел на постель. Подозвал к себе дочку, положил ей на головку руку и долго-долго гладил по головке ребенка. Потом опять оборотился к жене: дескать, а что ж Петинька? Петя наш, Петинька?.. Жена перекрестилась, да и отвечает, что ведь он же умер. – Да, да, знаю, все знаю, Петинька теперь в царстве небесном. – Жена видит, что он сам не свой, что происшествие-то его потрясло совершенно, и говорит ему – вы бы, душенька, заснули. – Да, говорит, я сейчас… я немножко, – тут он отвернулся, полежал немного, потом оборотился, хотел сказать что-то. Жена его не расслышала: спросила его – что, мой друг? А он не отвечает. Она подождала немножко – ну, думает, уснул, и вышла на часок к хозяйке. Через час времени воротилась – видит, муж еще не проснулся и лежит себе, не шелохнется. Она думала, что спит, села и стала работать что-то. Она рассказывает, что она работала с полчаса и так погрузилась в размышление, что даже не помнит, о чем она думала, говорит только, что она и позабыла об муже. Только вдруг она очнулась от какого-то тревожного ощущения, и гробовая тишина в комнате поразила ее прежде всего. Она посмотрела на кровать и видит, что муж лежит все в одном положении. Она подошла к нему, сдёрнула одеяло, смотрит – а уж он холодехонек – умер, маточка, умер Горшков, внезапно, умер, словно его громом убило. А от чего умер, бог его знает. Меня это так сразило, Варинька, что я до сих пор опомниться не могу. Не верится что-то, чтобы так просто мог умереть человек. Этакой бедняга, горемыка этот Горшков! Ах, судьба-то, судьба какая! Жена в слезах, такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась. У них там суматоха такая идет; следствие медицинское будут делать… уж не могу вам наверно сказать. Только жалко! Грустно подумать, что этак в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь!.. Погибаешь ни за что…»
Что перед этою картиною, написанною такою широкою и мощною кистию, что перед нею мелодраматические ужасы в повестях модных французских фельетонных романистов! Какая страшная простота и истина! И кто все это рассказывает? ограниченный и смешной Макар Алексеевич Девушкин!
Мы не будем больше указывать на превосходные частности этого романа: легче перечесть весь роман, нежели пересчитать все, что в нем превосходного, потому что он весь, в целом, – превосходен. Упомянем только о последнем письме Девушкина к его Вариньке: это слезы, рыдание, вопль, раздирающие душу! Тут все истинно, глубоко и велико, а между тем это пишет ограниченный, смешной Макар Алексеевич Девушкин! И читая его, вы сами готовы рыдать и в то же время вы улыбаетесь… Сколько сокрушительной силы любви, горя и отчаяния в этих простодушных словах старика, теряющего все, чем мила была ему жизнь: «Да вы знаете ли только, что там такое, куда вы едете-то, маточка? Вы, может быть, этого не знаете, так меня спросите! Там степь, родная моя, там степь, чистая, голая степь, вот как моя ладонь голая! Там ходит баба бесчувственная, да мужик необразованный пьяница ходит…»
Мы думаем, что теперь кстати сказать несколько слов и о «Двойнике», хотя он и не относится к «Петербургскому сборнику». Как талант необыкновенный, автор нисколько не повторился во втором своем произведении, – и оно представляет у него совершенно новый мир. Герой романа – г. Голядкин – один из тех обидчивых, помешанных на амбиции людей, которые так часто встречаются в низших и средних слоях нашего общества. Ему все кажется, что его обижают и словами, и взглядами, и жестами, что против него всюду составляются интриги, ведутся подкопы. Это тем смешнее, что он ни состоянием, ни чином, ни местом, ни умом, ни способностями решительно не может ни в ком возбудить к себе зависти. Он не умен и не глуп, не богат и не беден, очень добр и до слабости мягок характером; и жить ему на свете было бы совсем недурно; но болезненная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демон его жизни, которому суждено сделать ад из его существования. Если внимательнее осмотреться кругом себя, сколько увидишь господ Голядкиных, и бедных и богатых, и глупых и умных! Г. Голядкин в восторге от одной своей добродетели, которая состоит в том, что он ходит не в маске, не интриган, действует открыто и идет прямою дорогою. Еще в начале романа, из разговора с доктором Крестьяном Ивановичем, не мудрено догадаться, что г. Голядкин расстроен в уме. Итак, герой романа – сумасшедший! Мысль смелая и выполненная автором с удивительным мастерством! Считаем излишним следить за ее развитием, указывать на отдельные места и удивляться целому созданию. Для всякого, кому доступны тайны искусства, с первого взгляда видно, что в «Двойнике» еще больше творческого таланта и глубины мысли, нежели в «Бедных людях». А между тем почти общий голос петербургских читателей решил, что этот роман несносно растянут и оттого ужасно скучен, из чего-де и следует, что об авторе напрасно прокричали и что в его таланте нет ничего необыкновенного!.. Справедливо ли такое заключение? – Мы не обинуясь скажем, что, с одной стороны, оно крайне ложно, а с другой, что в нем есть основание, как оно всегда бывает в суждении непонимающей самой себя толпы.
Начнем с того, что «Двойник» нисколько не растянут, хотя и нельзя сказать, чтоб он не был утомителен для всякого читателя, как бы глубоко и. верно ни понимал и ни ценил он талант автора. Дело в том, что так называемая растянутость бывает двух родов: одна происходит от бедности таланта, – вот это-то и есть растянутость; другая происходит от богатства, особливо молодого таланта, еще несозревшего, – и ее следует называть не растянутостью, а излишнею плодовитостью. Если б автор «Двойника» дал нам перо в руки с безусловным правом исключать из рукописи его «Двойника» все, что показалось бы нам растянутым и излишним, – у нас не поднялась бы рука ни на одно отдельное место, потому что каждое отдельное место в этом романе – верх совершенства. Но дело в том, что таких превосходных мест в «Двойнике» уж чересчур много, а одно да одно, как бы ни было оно превосходно, и утомляет и наскучает. Демьянова уха была сварена на славу, и сосед Фока ел ее с аппетитом и всласть; но, наконец, бежал же от нее… Очевидно, что автор, «Двойника» еще не приобрел себе такта меры и гармонии, и оттого не совсем безосновательно многие упрекают в растянутости даже и «Бедных людей», хотя этот упрек и идет к ним меньше, нежели к «Двойнику». Итак, в этом отношении, суд толпы справедлив; но он ложен в выводе о таланте г. Достоевского. Самая эта чрезмерная плодовитость только служит доказательством того, как много у него таланта и как велик его талант.
Что же тут делать молодому автору? Продолжать ли итти своею дорогою, никого не слушая, – или, желая угодить толпе, стараться приобрести преждевременную, следовательно, искусственную зрелость своему таланту и, за неимением естественного, прибегнуть к поддельному чувству меры?.. По нашему мнению, обе эти крайности равно гибельны. Талант должен итти своею дорогою, с каждым днем естественным образом избавляясь от своего главного недостатка, то есть молодости и незрелости; но в то же время, он должен, обязан принимать к сведению, чем особенно недовольно большинство его читателей, и всего более должен остерегаться презирать его мнение, но всегда стараться отыскивать основание этого мнения, потому что оно почти всегда дельно и справедливо.
Если что можно счесть в «Двойнике» растянутостью, так это частое и, местами, вовсе ненужное повторение одних и тех же фраз, как например: «Дожил я до беды, дожил я вот таким-то образом до беды… Эка беда ведь какая!.. эка ведь беда одолела какая!..» (стр. 347). Напечатанные курсивом фразы совершенно лишние, а таких фраз в романе найдется довольно. Мы понимаем их источник: молодой талант, в сознании своей силы и своего богатства, как будто тешится юмором; но в нем так много юмора действительного, юмора мысли и дела, что ему смело можно не дорожить юмором слов и фраз.
Вообще, «Двойник» носит на себе отпечаток таланта огромного и сильного, но еще молодого и неопытного: отсюда все его недостатки, но отсюда же и все его достоинства. Те и другие так тесно связаны между собою, что если б автор теперь вздумал совершенно переделать свой «Двойник», чтоб оставить в нем одни красоты, исключив все недостатки, – мы уверены, он испортил бы его. Автор рассказывает приключения своего героя от себя, но совершенно его языком и его понятиями: это, с одной стороны, показывает избыток юмора в его таланте, бесконечно могущественную способность объективного созерцания явлений жизни, способность, так сказать, переселяться в кожу другого, совершенно чуждого ему существа; но с другой стороны, это же самое сделало неясными многие обстоятельства в романе, как то: каждый читатель совершенно вправе не понять и не догадаться, что письма Вахрамеева и г. Голядкина младшего г. Голядкин старший сочиняет сам к себе, в своем расстроенном воображении, – даже, что наружное сходство с ним младшего Голядкина совсем не так велико и поразительно, как показалось оно ему, в его расстроенном воображении, и вообще о самом помешательстве Голядкина не всякий читатель догадается скоро. Все это недостатки, хотя и тесно связанные с достоинствами и красотами целого произведения. Существенный недостаток в этом романе только один: почти все лица в нем, как ни мастерски, впрочем, очерчены их характеры, говорят почти одинаковым языком. Больше указать не на что.
Мы только слегка коснулись обоих произведений г. Достоевского, особенно последнего; говорить о них подробно, значило бы зайти гораздо далее, нежели сколько позволяют пределы журнальной статьи. Такого неисчерпаемого богатства фантазии не часто случается встретить и в талантах огромного размера, – и это богатство, видимо, мучит и тяготит автора «Бедных людей» и «Двойника». Отсюда и их мнимая растянутость, на которую так жалуются люди, очень любящие читать, но, впрочем, отнюдь не находящие, чтоб «Парижские тайны», «Вечный жид» или «Граф Монте-Кристо» были растянуты. И с одной стороны, чтецы такого рода правы: не всякому дано знать тайны искусства, так же как не всякому дано глубоко чувствовать и мыслить. Поэтому чтецы имеют полное право не знать ни причины, ни истинного значения того, что называют они «растянутостью»; они знают только, что чтение «Бедных людей» несколько утомляет их, тогда как этот роман им нравится, а «Двойник» не многим из них удается осилить до конца. Это факт: пусть молодой автор поймет и примет его к сведению. Да спасет его бог вдохновения от гордой мысли презирать мнение даже профанов искусства, когда они все говорят одно и то же, – так же как да спасет он его и от унизительного намерения подделываться под вкус толпы и льстить ему: обе эти крайности – сцилла и харибда таланта. Знатоки искусства, даже и несколько утомляясь чтением «Двойника», все-таки не оторвутся от этого романа, не дочитав его до последней строки; но, во-первых, и они, дорожа и любуясь каждым словом, каждым отдельным местом романа, все-таки чувствуют утомление; во-вторых, истинно большой талант так же должен писать не для одних знатоков, как и не для одной толпы, но для всех. Что же касается до толков большинства, что «Двойник» – плохая повесть, что слухи о необыкновенном таланте его автора преувеличены и т. д. – об этом г. Достоевскому нечего заботиться: его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогеи своей славы. И теперь, когда явится его новая повесть, – за нее с бессознательным любопытством и жадностью поспешат схватиться те самые люди, которые так мудро и окончательно решили по «Двойнику», что у него или вовсе нет таланта, или есть, да так себе, небольшой… {14}
Теперь нам следовало бы сказать что-нибудь о печатных толках и суждениях по поводу «Бедных людей»; но мы чувствуем себя на эту минуту в таком добром расположении духа, что хотим ограничиться советом т. Достоевскому – перепечатать все эти суждения при будущем издании своих сочинений, как это сделал Пушкин, приложивший ко второму или третьему изданию «Руслана и Людмилы» все критики и рецензии, в которых бранили эту поэму… {15}
Обращаемся к остальным статьям «Петербургского сборника».
«Три портрета», рассказ г. Тургенева, при ловком и живом изложении имеют всю заманчивость не повести, а скорее воспоминаний о добром старом времени. К нему шел бы эпиграф: Дела минувших дней!..
«Мартингал» (из записок гробовщика) кн. Одоевского исполнен интереса и по содержанию и по изложению. Можно заметить только, что этот рассказ был бы естественнее, если бы в него не был вмешан гробовщик, которому, несмотря на то, что он немец и учен, едва ли бы молодой человек стал открывать свои заветные и страшные тайны, готовясь, может быть, умереть насильственною смертию…
К отделу рассказов в альманахе должно присовокупить и «Парижские увеселения», легкий и живой очерк того, как веселятся французы и как подделываются под их способ веселиться русские, живущие в Париже. Эта статья тоже интересна. {16}
Переходим к стихотворной части альманаха. Он украшен целыми двумя, и к тому еще прекрасными, поэмами. «Помещик» г. Тургенева – легкая, живая, блестящая импровизация, исполненная ума, иронии, остроумия и грации. Кажется, здесь талант г. Тургенева нашел свой истинный род, и в этом роде он неподражаем. Стих легок, поэтичен, блещет эпиграммою. Кто-то уверял печатно, будто «Помещик» – подражание «Евгению Онегину»; уж не «Энеиде» ли Виргилия? Право, последнее предположение ничем не несправедливее первого. Первое произведение такого рода в русской литературе принадлежит Дмитриеву, автору «Модной жены». Оно было написано в духе и вкусе своего времени (поэтому-то оно прекрасно и теперь). Для нашего же времени Пушкин дал образцы таких произведений в «Графе Нулине» и «Домике в Коломне». А об «Онегине» тут и поминать нечего, как о произведении сивеем другого и притом высшего рода. Пусть успокоится на этот счет почтенный критикан, одаренный такою удивительною способностью находить сходство там, где его вовсе нет. {17} Что «Помещик» г. Тургенева может ему не нравится, этому мы не удивляемся: у всякого свой вкус. Есть люди, которым, например, очень не нравится, что повести Гоголя переведены на французский язык, (через что талант Гоголя получил европейскую известность)[6]; а нам нравится (и притом еще как!) и «Помещик» г. Тургенева и то, что повести Гоголя изданы в Париже в таком прекрасном переводе. {18} Вот для образчика отрывок из «Помещика», – описание деревенского бала:
Итак – на бале мы. Паркет Отлично вылощен. Рядами Теснятся свечи за свечами — Но мутен их дрожащий свет. Вдоль желтых стен, довольно темных, Недвижно – в чепчиках огромных — Уселись маменьки. Одна Любезной важности полна, Другая – молча дует губы… Невыносимо душен жар; Смычки визжат – и воют трубы — И пляшет двадцать восемь пар.XX
Какое пестрое собранье Помещичьих одежд и лиц! Но я намерен описанье Начать – как следует – с девиц. Вот – чисто русская красотка — Одета плохо, тяжела И неловка – но весела, Добра, болтлива как трещотка, И пляшет, пляшет от души. За ней – «созревшая в тиши Деревни» – длинная, худая Стоит Коринна молодая… Ее печально-страстный взор То вдруг погаснет, то заблещет… Она вздыхает, скажет вздор И вся глубоко затрепещет.XXI
Не заговаривал никто С Коринной… сам ее родитель Боялся дочки… но зато Чудак застенчивый, учитель Уездный, бледный человек — Ее преследовал стихами И предлагал ей со слезами «Всего себя… на целый век»… Клялся, что любит беспорочно, Но пел и плакал он заочно, И говорил ей сей Парис В посланьях: «ты» – на деле: – «вы-с». О жалкой, слабый род! О время Полупорывов, долгих дум И робких дел! О век! о племя Без веры в собственный свой ум!XXII
О!!!.. Но – богиня песнопений, О муза! – публика моя Терпеть не может рассуждений… К рассказу возвращаюсь я. Отдельно каждую девицу Вам описать – не моему Дано перу… а потому Вообразите вереницу Широких лиц, больших носов, Улыбок томных, башмаков Козловых, лент и платьев белых. Турбанов, перьев, плеч дебелых, Зеленых, серых, карих глаз. Румяных губ и… и так дале — Заставьте барынь кушать квас — И знайте: вы на русском бале.XXIII
Но вот – среди толпы густой Мелькает быстро перед вами Ребенок робкий и немой С большими, грустными глазами. Ребенок… Ей пятнадцать лет. Но за собой она невольно Влечет вас… за нее вам больно И страшно… бледный, томный цвет Лица, – печальный след сомнений Тревожных, ранних размышлений, Тоски, неопытных страстей, И взгляд внимательный – все в ней Вам говорит о самовластной Душе… ребенок бедный мой! Ты будешь женщиной несчастной… Но я не плачу над тобой…XXIV
О, нет! пускай твои желанья, Твои стыдливые мечты, В суровом холоде страданья Погибнут… не погибнешь ты. Без одобренья, без участья Среди невежд осуждена Ты долго жить… но ты сильна. А сильному не нужно счастья. О нем не думай… но судьбе Не покоряйся; знай: в борьбе С людьми таится наслажденье Неистощимое: презренье. Как яд целительный, оно И жжет и заживляет рану Души… но мне пора давно Вернуться к моему «роману»:XXV
Вот перед вами в вырезном Зеленом фраке – шут нахальный. Болтун и некогда «бель-ом», Стоит законодатель бальный, Он ездит только в «высший свет», А вот – неистово развязный Довольно злой, довольно грязный Остряк; вот парень средних лет, В венгерке, в галстухе широком. Глаза навыкат, ходит боком, Хрипит и красен, как пион. Вот этот черненький – шпион И шулер, – впрочем, малый знатный, Угодник дамский, балагур… А вот помещик благодатный Из непосредственных натур.XXVI
Вот старичок благообразный, Известный взяточник – а вот Светило мира, барин праздный, Оратор, агроном и мот, Чудак, для собственной потехи Лечивший собственных людей… Ну – словом, – множество гостей. Варенье, чернослив, орехи, Изюм, конфекты, крендельки На блюдцах носят казачки… И, несмотря на пот обильный, Все гости тянут чай фамильный. Крик, хохот, топот, говор, звон Стаканов, рюмок, шпор и чашек… А сверху, с хор, из-за колонн Глазеют кучи замарашек.XXVII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {19} Чувствительный артиллерист, Путеец маленький, невзрачный, И пехотинец с виду мрачный, И пламенный кавалерист — Все тут как тут… Но вы, кутилы, Которым барышни не милы, Гроза почтенных становых, Владельцы троек удалых, И покровители цыганок — Вас не видать на тех балах — Как не видать помадных банок На ваших окнах и столах! {20} Превозносимый всем уездом Дом обольстительной вдовы Бывал обрадован приездом Гостей нежданных из Москвы. Чиновник, на пути в отцовский Далекий, незабвенный кров — (Спасаясь зайцем от долгов) Заедет… умница московский, Мясистый, пухлый, с кадыком, Длинноволосый, в кучерском Кафтане, бредит о чертогах Князей старинных, о……. От шапки-мурмолки своей Ждет избавленья, возрожденья — Ест редьку – западных людей Бранит – и пишет… донесенья.XXIX
Бывало – в хлебосольный дом Из дальней северной столицы Промчится борзый лев; и львом Весьма любуются девицы. В деревне лев – глядишь – ручной Зверёк – предобрый; жмурит глазки; И терпеливо сносит ласки Гостеприимности степной. В деревне – водятся должишки За ним… играет он в картишки… Не платит… но как разговор Его любезен, жив, остер! Как он волочится небрежно! Как он насмешливо влюблен! И как забудет безмятежно Все, чем на миг был увлечен!К «Помещику» приложены прекрасные картинки, рисованные г. Агиным. Мы очень рады случаю отдать должную справедливость таланту этого молодого художника, Г. Тимм – бесспорно лучший рисовальщик в России, но в его карандаше ничего нет русского. Смотря на картинки г. Агина, невольно вспомнишь стих Пушкина: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Его картинки к «Помещику» – загляденье! – за исключением, впрочем, четырех, которые не удались, как 16-я, 17-я и 19-я, или мало удались, как 11-я.
В начале прошлого года г. Майков подарил публику прекрасною поэмою «Две судьбы»; в начале нынешнего года он опять дарит ее прекрасною поэмою «Машенька». Рассказывать содержание нового произведения г. Майкова было бы излишне: оно так просто. У бедного чиновника соблазнили страстно любимую им дочь; увидев ее на гулянье, на островах, едущую в пышном наряде, об руку с своим соблазнителем, несчастный отец проклинает ее; оставленная своим любовником, бедная Маша, которой вся вина состоит в страстной натуре и детской неопытности ума и сердца, возвращается к отцу – и тот принимает ее с благословением. Вот и все. Сюжет даже не нов. Но в художественном произведении дело не в сюжете, а в характерах, в красках и тенях рассказа. С этой стороны поэма г. Майкова отличается красотами необыкновенными. Характер отца обрисован превосходно. Маша и ее подруга, Zizine, как институтки, очерчены бесподобно; но характер Маши, как героини поэмы, не совсем ровен и определителей; чего-то недостает ему. Лучшая сторона новой поэмы г. Майкова – то, что на вульгарном языке называется соединением патетического элемента с комическим, которое в сущности есть не иное что, как уменье представлять жизнь в ее истине. Этой истины много в поэме. Особенно порадовала нас в ней прелесть комического разговора, который дает надежду, что для таланта молодого поэта предстоит еще в будущем развитие в таком роде поэзии, к которому, в начале его поприща, никто не считал его способным. Не для показания красот поэмы (для этого ее нужно было бы перепечатать всю), а для пояснения и подтверждения нашей мысли выписываем конец:
Мария шла дрожащею стопой, Одна с больной, растерзанной душой: «Дай силы умереть мне, правый боже! Весь мир – чужой мне… А отец?.. старик… Оставленный… и он… он проклял тоже! За что же? Хоть на него взглянуть бы миг, Все рассказать… а там – пусть проклинает!» Она идет; сторонится народ, Кто молча, кто с угрозой, кто шепнет: «Безумная!» и в страхе отступает. И вот знакомый домик: меркнул день, Зарей вечерней небо обагрилось, И длинная по улицам ложилась От фонарей, дерев и кровель тень. Вот сад, скамья, поросшая травою, Под ветвями широкими берез. На ней старик. Последний клок волос Давно уж выпал. Бледный, он казался Одним скелетом. Ветхий вицмундир Не снят: он, видно, снять не догадался, Придя от должности. Покой и мир Его лица был страшен: это было Спокойствие отчаянья. Уныло Он только ждал скорей оставить мир. Вдруг слышит вздох, и листья задрожали От шороха. «Что, уж не воры ль тут? А пусть все крадут, пусть все разберут, Ведь уж они… они ее украли»… Старик закрыл лицо и зарыдал, И чудятся ему рыданья тоже, И голос: «Что я сделала с ним, боже!» Не зная как, он дочь уж обнимал, Не в силах слово вымолвить. – Папаша, Простите! – «Что, я разве зверь иль жид?» – Простите! – «Полно! Бог тебя простит! А ты… а ты меня простишь ли, Маша?..»Мелких стихотворений в «Петербургском сборнике» немного. Самые интересные из них принадлежат перу издателя сборника, г. Некрасова. Они проникнуты мыслию; это – не стишки к деве и луне; в них много умного, дельного и современного. Вот лучшее из них – «В дороге». {21} Пусть читатели сами судят, справедливо ли наше мнение.
Скучно! скучно!.. Ямщик удалой, Разгони чем-нибудь мою скуку! Песню, что ли, приятель, запой Про рекрутский набор и разлуку, Небылицей какой посмеши, Или что ты видал расскажи — Буду, братец, за все благодарен. «Самому мне не весело, барин — Сокрушила злодейка-жена!.. Слышь ты, смолоду, сударь, она В барском доме была учена Вместе с барышней разным наукам, Понимаешь-ста, шить и вязать, На варгане играть и читать — Всем дворянским манерам и шуткам. Одевалась не то, что у нас На селе сарафанницы наши. А примерно представить, в атлас, Ела вдоволь и меду и каши. Вид вальяжной имела такой. Хоть бы барыне, слышь ты, природной. И не то, что наш брат крепостной, Тоись сватался к ней благородной (Слышь, учитель-ста врезамшись был, — Баит кучер Иваныч Торопка), Да, знать, счастья ей бог не судил; Не нужна-ста в дворянстве холопка! Вышла замуж господская дочь Да и в Питер… А справивши свадьбу, Сам-ат, слышь ты, вернулся в усадьбу, Захворал и на Троицу в ночь Отдал богу господскую душу, Сиротинкой оставивши Грушу… Через месяц приехал зятек, Перебрал по ревизии души, И с запашки ссадил на оброк, А потом добрался и до Груши. Знать, она согрубила ему В чем-нибудь, али напросто тесно Вместе жить показалось в дому, Понимаешь-ста, нам неизвестно, — Воротил он ее на село — Знай-де место свое ты, мужичка! Взвыла девка – крутенько пришло… Белоручка, вишь ты, белоличка!.. «Как на грех девятнадцатый год Мне в ту пору случись… посадили На тягло – да на ней и женили. Тоись, сколько я нажил хлопот! Вид такой, понимаешь, суровой… Ни косить, ни ходить за коровой… Грех сказать, чтоб ленива была. Да, вишь, дело в руках не спорилось! Как дрова или воду несла, Как на барщину шла – становилось Инда жалко подчас… да куды. — Не утешишь ее и обновкой: То натерли ей ногу коты. То, слышь, ей в сарафане неловко. При чужих и туда и сюда, А украдкой ревет как шальная… Погубили ее господа, А была бы бабенка лихая. «На какой-то патрет все глядит, Да читает какую-то книжку… Инда страх меня, слышь ты, щемит, Что погубит она и сынишку — Учит грамоте, моет, стрижет, Словно барченка каждый день чешет, Бить не бьет – бить и мне не дает… Да недолго пострела потешит! Слышь, как щепка худа и бледна. Ходит тоись совсем через силу, В день двух ложек не съест толокна — Чай, свалим через месяц в могилу… А с чего?.. Видит бог, не томил Я ее безустанной работой… Одевал и кормил, без пути не бранил, Уважал, тоись вот как, с охотой… А, слышь, бить – так почти не бивал, Разве только под пьяную руку…» — Ну, довольно, ямщик! Разогнал Ты мою неотвязную скуку!..Из других стихотворений в сборнике замечательны переводы г. Тургенева «Тьма», из Байрона, и «Римская элегия» (XII) Гёте.
«Макбет» Шекспира, переведенный г. Кронебергом, один заслуживал бы особой критической статьи, потому что это перевод классический, вполне достойный подлинника. «Макбет» – одно из самых колоссальных и вместе с тем самых чудовищных произведений Шекспира, где, с одной стороны, отразилась вся исполинская сила творческого его гения, а с другой, все варварство века, в котором жил он. Много рассуждали и спорили о значении ведьм, играющих в «Макбете» такую важную роль: одни хотели видеть в них просто ведьм, другие – олицетворение честолюбивых страстей Макбета, глухо свирепствовавших на дне души его; третьи – поэтические аллегории. Справедливо только первое из этих мнений. Шекспир, может быть, величайший из всех гениев в сфере поэзии, каких только видел мир; но в то же время, он был сын своего времени, своего века, того варварского века, когда разум человеческий едва начинал пробуждаться от тысячелетнего сна, когда в Европе тысячами жгли колдунов и когда никто не сомневался в возможности прямых сношений человека с нечистою силою. Шекспир не был чужд слепоты своего времени, и, вводя ведьм в свою великую трагедию, он нисколько не думал делать из них философические олицетворения и поэтические аллегории. Это доказывается, между прочим, и важною ролью, какую играет в «Гамлете» тень отца героя этой великой трагедии. «Друг Горацио, – говорит Гамлет, – на земле есть много такого, о чем и не бредила ваша философия». Это убеждение Шекспира, это говорит он сам, или, лучше сказать, невежество и варварство его века, – а обскуранты нашего времени так и ухватились за эти слова, как за оправдание своего слабоумия. Шекспир видел и бог весть какую удивительную драматическую и трагическую пружину в ходе Бирнамского леса и в том обстоятельстве, что Макбет не может пасть от руки человека, рожденного женою. Дело оказалось чем-то вроде плохого каламбура; но такова творческая сила этого человека, что, несмотря на все нелепости, которые ввел он в свою драму, «Макбет» все-таки огромное, колоссальное создание, как готические храмы средних веков. Что-то сурово-величаво-грандиозно-трагическое лежит на этих лицах и их судьбе; кажется, имеешь дело не с людьми, а с титанами, и какая глубина мысли, сколько обнаженных тайн человеческой природы, сколько решенных великих вопросов, какой страшный и поучительной урок!.. Вот доказательство, что время не губит гения, но гений торжествует над временем и что каждый момент всемирно-исторического развития человечества дает равно обильную жатву для поэзии. Пройдут еще два века, а может быть и меньше, когда будут дивиться варварству XIX столетия, как мы дивимся варварству XVI-го; не найдут в нем Шекспира, но найдут Байрона и Жоржа Занда… И это не круг в котором безвыходно кружится человечество, а спираль, где каждый последующий круг обширнее предшествующего. Наш век имеет перед XVI-м то важное преимущество, что он заранее знает, в чем последующие века должны увидеть его варварство…
У нас было довольно переводов стихами драм Шекспира. Лучшие из них доселе принадлежали г-ну Вронченко («Гамлет» и «Макбет»). Но переводы г. Вронченко, верно передавая дух Шекспира, не передают его изящности. Г. Кронеберг умел счастливо выполнить оба эти условия: его перевод верен и духу и изящности подлинника, исполнен, в одно и то же время, и энергии и легкости выражения. Это решительно не только лучший, сравнительно с другими русскими переводами, но положительно превосходный перевод одной из лучших трагедий Шекспира, так же как его же перевод «Двенадцатой ночи» («Отечественные записки», 1841, том XVII) есть единственный и превосходный перевод одной из прелестнейших комедий Шекспира.
Теперь остается нам сказать о трех статьях теоретического содержания в «Петербургском сборнике». «Капризы и раздумье» Искандера, автора повести «Кто виноват?» (в «Отечественных записках» прошлого года) и разных статей литературно-философского содержания, – есть род заметок и афористических размышлений о жизни, исполненных ума и оригинальности во взгляде и изложении. Не можем удержаться, чтоб не выписать небольшого отрывка:
«Наука, государство, искусство, промышленность идут, развиваясь, во всей Европе стройно, широко; впереди великие мыслители, великие государственные люди, великие – художники, предприимчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-как, основанная на воспоминаниях, привычках и внешних необходимостях; об ней в самом деле никто не думает, для нее нет ни мыслителей, ни талантов, ни поэтов, – недаром ее называют прозой, в противоположность плаксивой жизни баллад и глупой жизни идиллий. Только лета юности обстановлены похудожественнее; а потом за последним лирическим порывом любви – утомительное semper idem[7] закулисной жизни, ежедневной жизни {22} – это тесная спальня, душная детская, грязная кухня, где гости никогда не бывают. Конечно, в последние три века много переменилось в образе жизни; впрочем, украдкой, бессознательно, даже, вопреки убеждениям, меняя образ жизни, люди не признавались в этом: знамена остались те же, люди, как испанцы, хотят только сохранить фуэросы,[8] несмотря на то, что большая часть их не соответствует настоящему. Прислушиваясь к суждениям мудрых мира сего, дивишься, как может ум дойти до того, чтоб в одно и то же время совместить в свой нравственный кодекс стоические сентенции Сенеки и Катона, романтически-восторженные выходки рыцаря средних веков, самоотверженные нравоучения благочестивых отшельников степей фиваидских и своекорыстные правила политической экономии. Безобразие подобного смешения принесло свой плод, именно – мертвую мораль, мораль, существующую только на словах, а в самом деле недостойную управлять поступками: современная мораль не имеет никакого влияния на наши действия; это милый обман, нравственная благопристойность, одежда, – не более. У каждого человека за его официальной моралью есть свой спрятанный esprit de conduite[9]; официально он будет плакать о том, что бедный беден, официально он благородным львом вступится за честь женщины, – privatim[10] он берет страшные проценты, privatim он считает себя вправе обесчестить женщину, если условился с нею в цене. Постоянная ложь, постоянное двоедушие сделали то, что меньше диких порывов и вдвое больше плутовства, что редко человек скажет другому оскорбительное слово в глаза и почти всегда очернит его за глаза; в Париже я меньше встречал шуринеров и эскарпов, нежели мушаров[11], потому что на первое ремесло надобно иметь откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедушие и подлость. Наполеон с содроганием говорил о гнусной привычке беспрестанно лгать. Мы лжем на словах, лжем движением, лжем из учтивости, лжем из добродетели, лжем из порочности; лганье это, конечно, много способствует к растлению, к нравственному бессилию, в котором родятся и умирают целые поколения, в каком-то чаду и тумане проходящие по земле. Между тем и это лганье сделалось совершенно естественным, даже моральным: мы узнаем человека благовоспитанного потому, что никогда не добьешься от него, чтоб он откровенно сказал свое мнение.
Наполеон говорил {23} еще, что наука до тех пор не объяснит главнейших явлений всемирной жизни, пока не бросится в мир подробностей. Чего желал Наполеон – исполнил микроскоп. Естествоиспытатели увидели, что не в палец толстые артерии и вены, не огромные куски мяса могут разрешить важнейшие вопросы физиологии, а волосяные сосуды, а клетчатки, волокна, их состав. Употребление микроскопа надобно ввести в нравственный мир, надобно рассмотреть нить за нитью паутину ежедневных отношений, которая опутывает самые сильные характеры, самые огненные энергии. Люди никак не могут заставить себя серьезно подумать о том, что они делают дома, с утра до ночи; они тщательно хлопочут и думают обо всем: о картах, о крестах, об абсолютном, о вариационных исчислениях, о том, когда лед пройдет на Неве. – но об ежедневных, будничных отношениях, обо всех мелочах, к которым принадлежат семейные тайны, хозяйственные дела, отношения к родным, близким, присным, слугам и пр. и пр. – об этих вещах ни за что в свете не заставишь подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говорит, что люди для того играют в карты, чтобы не оставаться никогда долго наедине с собою, чтоб не дать развиться угрызениям совести. Очень вероятно, что, руководствуясь тем же инстинктом, человек не любит рассуждать о семейных тайнах, – а не пора ли бы им на свет? Я, как маленькие дети, боюсь темноты; мне все кажется, что в темноте сидит злой дух с рыжеи бородой и с копытом. Зачем, кажется, прятать под спудом то, что не боится света; да в сущности это все равно: прячь не прячь – все обличится; с каждым днем меньше тайн.
Was sich in dem Kammerlein Still und fein gesponnen, Kommt – wie kann es anders sein? Endlich an die Sonnen.[12]Изредка какое-нибудь преступление, совершенное в этом мраке частной жизни, пугнет на день, на другой людей, стоявших возле, заставит их задуматься… для того, чтоб потом начать судить и осуждать. Добрейший человек в мире, который не найдет в душе жестокости, чтоб убить комара, с великим удовольствием растерзает доброе имя ближнего на основании морали, по которой он сам не поступает и которую прилагает к частному случаю, рассказанному во всей его непонятности. «Его жена уехала вчера от него» – скверная женщина! «Отец его лишил наследства» – скверный отец! – Всякое судебное место снисходительнее осуждает, нежели записные филантропы и люди, сознающие себя честными и добрыми. Двести лет тому назад Спиноза доказывал, что всякий прошедший факт надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать как математическую задачу, то есть стараться понять, – этого никак не растолкуешь. К тому же, чтоб преступление обратило на себя внимание, надобно, чтоб оно было чудовищно, громко, скандально, облито кровью. Мы в этом отношении похожи на французских классиков, которые, если шли в театр, то для того, чтоб посмотреть, как цари, герои или по крайней мере полководцы и наперсники их кровь проливают, а не для того, чтоб видеть мещански проливаемые слезы. Людям необходимы декорации, обстановка, надпись; мещанин во дворянстве очень удивился, узнавши, что он сорок лет говорит прозой – мы хохочем над ним; а многие лет сорок делали злодеяния и умерли лет восьмидесяти, не зная этого, потому что их злодеяния не подходили ни под какой параграф кодекса – и мы не плачем над ними.
Лафарж отравила своего мужа (то есть, положим, что отравила; следствие было сделано так неловко, что нельзя понять, Лафарж ли отравила мышьяком своего мужа, или судьи отравили юриспруденцией г-жу Лафарж). Крик, толки. Злодейство в самом деле страшное, гнусное – в этом никто не сомневается; да что же собственно нового в этом убийстве? Я уверен, что в том же самом Париже, где так кричали об этом, нет большой улицы, где бы в год или в два не случилось чего-нибудь подобного – разница в оружиях. Лафарж, как решительная преступница, дала минерального яду; а что дал, например, мой сосед, этот богатый откупщик, своей жене, которая вышла за него потому, что ее нежные родители стояли перед нею на коленях, умоляя спасти их именье, их честь – продажей своего тела, своим бесчестием; что дал ей муж, какого яда, от которого она из ангела красоты сделалась в два года развалиной? Отчего эти ввалившиеся щеки, отчего ее глаза, сделавшиеся огромными, блестят каким-то болезненно жемчужным «отливом? Орфила и сам Распайль не найдут ничего ядовитого в ее желудке, когда она умрет; и немудрено: яд у ней в мозгу. Психические отравы ускользают от химических реагенций и от тупости людских суждений. «Чего недостает этой женщине? она утопает в роскоши», – говорят глупейшие, не понимая, что муж, наряжающий жену не потому, что она хочет этого, а потому, что он хочет, – себя наряжает; он ее наряжает потому, что она его, на том же основании, как наряжает лакея и кучера. «Все так, – говорят умнейшие, – но согласившись на просьбу родителей, она должна была благоразумнее переносить свою судьбу». А позвольте спросить: возможно ли хроническое самоотвержение? Разом пожертвовать собой не важность: Курций бросился в пропасть, да и поминай как звали – это понятно; а беспрестанно, целые годы, каждый день приносить себя на жертву – да где же взять столько геройства или столько ослиного терпенья? Довольно, что хватило сил на первую безумную жертву – такая жертва, само собою разумеется, не приносится ни отцу, ни матери, потому что они перестают быть отцом, и матерью, если требуют таких жертв. Супруг, вероятно, не остановился на купле, потребовал сверх страшных жертв, от которых возмущается все человеческое достоинство, любви, и, не найдя ее, начал, par depit[13], тихое, кроткое, семейное преследование, эту известную охоту par force[14], преследование внимательное, как самая нежная любовь, постоянное, как самая верная старуха-жена, преследование, отравляющее каждый кусок в горле и каждую улыбку на устах. Я коротко знаком с этим преследованием; оно, как Янус о двух лицах, – одно для гостей, глупо улыбающееся, другое для домашнего употребления, тоже улыбающееся, но улыбкой гиены, сказал бы я, если б гиены улыбались: хищные звери добросовестны, они не делают медовых уст, когда хотят кусать. Умри жена, – супруг воздвигнет монумент; об нем будут жалеть больше, нежели об ней; он сам обольет слезами ее гроб, и, для довершения удара, слезами откровенными: он, поддавая ей психического мышьяку, вовсе и не думал, что она умрет.
Людям непременно надобно видимые знаки, несчастию немому они сочувствовать не могут. «Вот видите этого толстого мужчину с усами – он сидел год в тюрьме», – и все: «Ах, боже мой! бедный, что он вынес!» Ну, а какая же тюрьма в образованном государстве может сравниться с свободной жизнью этой женщины? С чего тюремщику, если он не какой-нибудь изверг, которых так же мало, как и великих людей, с чего ему ненавидеть колодника? Они оба несут две довольно тяжелые ноши, и тюремщик, исполняя свою обязанность, не смеет итти далее приказа. Конечно, заключение тяжело – я это знаю лучше многих, но ставить тюрьму рядом с семейными несчастиями смешно. Люди, по своему несовершеннолетию, только те несчастия считают великими, где цепи гремят, где есть кровь, синие пятна, как будто хирургические болезни сильнее нравственных.
Когда я хожу по улицам, особенно поздно вечером, когда все тихо, мрачно и только кое-где светится ночник, тухнущая лампа, догорающая свеча, – на меня находит ужас; за каждой стеной мне мерещится драма, за каждой стеной виднеются горячие слезы, слезы, о которых никто не сведает, слезы обманутых надежд, слезы, с которыми утекают не одни юношеские верования, но все верования человеческие, а иногда и самая жизнь. – Есть, конечно, дома, в которых благоденственно едят и пьют целый день, тучнеют и спят беспробудно целую ночь, да и в таком доме найдется хоть какая-нибудь племянница притесненная, задавленная, хоть горничная или дворник, а уж непременно кому-нибудь да солоно жить.
Отчего все это? Я полагаю, что вещество большого мозга не совсем еще выработалось в шесть тысяч лет; оно еще не готово; оттого люди и не могут сообразить, как устроить домашний быт свой.
Право, так. У большей части людей мозг ребячий, – им надобны дядьки, няньки, педели, наказания, приказания, карцеры, игрушки, конфекты и прочее, – дело детское!»
В статье своей «О характере народности в древнем и новейшем искусстве» г. Никитенко рассматривает один из интереснейших современных вопросов из сферы искусства и удовлетворительно решает его с свойственным ему глубокомыслием и изяществом изложения, показав настоящие отношения между народным и общечеловеческим. Эту прекрасную статью должно читать всю: отрывок не дал бы о ней никакого понятия, потому что вся она не что иное, как стройно-логическое развитие одной основной идеи.
О статье г. Белинского «Мысли и заметки о русской литературе», по известным публике отношениям ее автора к нашему журналу, мы не считаем себя вправе говорить, предоставляя судить о ней читателям. Думаем, однакож, что во всяком случае она не повредила достоинству альманаха.
Успех «Петербургского сборника» упредил наше о нем суждение. Дивиться этому успеху нечего: такой альманах – еще небывалое явление в нашей литературе. Выбор статей, их многочисленность, объем книги, внешняя изящность издания – все это, вместе взятое, есть небывалое явление в этом роде; оттого и успех небывалый.
Комментарии
Впервые: Отечественные записки, 1846, т., XLV, № 3, отд. V, стр. 1–30 (ценз. разр. 25 февраля 1846). Без подписи.
Мы помещаем эту статью в непосредственном соседстве со статьей «Мысли и заметки о русской литературе», напечатанной в «Петербургском сборнике». Настоящее ее место – после статьи «О жизни и сочинениях Кольцова». (Сборник стихотворений Кольцова со статьей Белинского был разрешен цензурой 5 февраля этого же года.)
Появление «Петербургского сборника» было крупным событием в русской литературе 40-х годов. Не ограничиваясь узкой областью «физиологического очерка», молодая реалистическая литература успешно овладевала разнообразными жанрами, на первом месте среди которых были роман и повесть. В «Петербургском сборнике» напечатан роман Достоевского «Бедные люди». В «Северной пчеле» № 22 Булгарин поместил заметку о сборнике и впервые употребил здесь унизительное, как ему казалось, наименование «натуральная литературная школа».
Вслед за тем в №№ 25 и 26 той же газеты появляется большая статья Л. Бранта (за подписью Я. Я. Я.) с пристрастным разбором сборника и в особенности романа «Бедные люди». С выпадами против сборника выступил С. П. Шевырев в «Москвитянине» (1846, №№ 2 и 3). Он особенно ополчился против Белинского, называя его «удалым молодцем современной русской критики». Славянофильскими тенденциями проникнута была статья К. С. Аксакова (Имрек) в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год».
Более объективными, в известной мере даже сочувственными, были отзывы Ап. Григорьева («Финский вестник», 1846, т. IX) и А. В. Никитенко, большая статья которого была помещена в «Библиотеке для чтения» (1846, №№ 3 и 4).
На фоне всех этих разноречивых, в основной массе враждебных, откликов на «Петербургский сборник» резко выделяется настоящая статья Белинского, которой предшествовала его же короткая, рецензия, помещенная в «Отечественных записках» 1846 года, № 2.
Белинский не счел нужным вступать в полемику со своими противниками. Возражения Булгарину по вопросу о «натуральной школе» он поместил в следующей, четвертой книжке «Отечественных записок», в форме «Литературных и журнальных заметок». Здесь же ему представляется важным выдвинуть на первый план произведения, которые определяют лицо сборника. К таким произведениям он относит роман Достоевского «Бедные люди».
Отстаивая молодого писателя от рептильной печати, Белинский вместе с тем делает настороженное замечание по поводу общего направления таланта Достоевского: «Судя по «Бедным людям», мы заключили бы, что глубоко человечественный и патетический элемент, в слиянии с юмористическим, составляет особенную черту в характере его таланта, но, прочтя «Двойника», мы увидели, что подобное заключение было бы слишком поспешно». И действительно, в следующих произведениях Достоевского – «Господин Прохарчин», «Хозяйка» – психологизм Достоевского принял резко выраженный патологический оттенок, совершенно заслонив тот элемент гуманизма, который так ярко пробивался в его первом романе. С особым сочувствием отмечает Белинский стихотворение Некрасова «В дороге», рисующее драму народной жизни. Высоко ценит он и талант (Искандера) Герцена, развившего в оригинальной форме философско-публицистического очерка («Капризы и раздумье») идеи, близкие самому Белинскому.
Заключительное замечание Белинского о небывалом успехе «Петербургского сборника» можно дополнить выдержками из его писем к Герцену этого периода: «Альманах Некрасова дерет; больше 200 экземпляров продано с понедельника (21 января) по пятницу (25)» («Письма», т. III, стр. 97); «Альманах Некрасова дерет, да и только. Только три книги на Руси шли так страшно: «Мертвые души», «Тарантас» и «Петербургский сборник» («Письма», т. III, стр. 100).
Сноски
1
Показная, преувеличенная стыдливость, щепетильность. – Ред.
(обратно)2
Полное падение. – Ред.
(обратно)3
Якобы критик. – Ред.
(обратно)4
У каждого барона своя фантазия. – Ред.
(обратно)5
Априорно, независимо от опыта. – Ред.
(обратно)6
Кстати: в Прусской всеобщей газете (Preussische Allgemeine Zeitung) извещают о переводе французского перевода повестей Гоголя, изданного в Париже г. Луи Виардо, на немецкий язык. Пока вышел только «Тарас Бульба». Помянутая немецкая газета замечает по этому случаю, что талант Гоголя приобрел в Европе классическую известность.
(обратно)7
Всегда одно и то же. – Ред.
(обратно)8
Права, привилегии. – Ред.
(обратно)9
Кодекс поведения. – Ред.
(обратно)10
Частным образом. – Ред.
(обратно)11
Chourineur – убийца ножом; escarpe – профессиональный убийца, бандит; mouchard – шпик, шпион. – Ред.
(обратно)12
То, что тихо и ловко соткано в каморке, выходит потом – как может быть иначе – на свет. – Ред.
(обратно)13
С досады. – Ред.
(обратно)14
Насильно. – Ред.
(обратно)(обратно)Примечания
1
Приведенная оценка Пушкина была высказана Н. Полевым.
(обратно)2
Этим категорическим утверждением Белинский лишь подчеркивает глубокую оригинальность Гоголя. Но в массе своих статей он неоднократно указывал на неразрывную связь Гоголя с «сатирическим направлением» в русской литературе (напр., статья «Кантемир», т. II наст. изд.). В 8-й статье пушкинского цикла критик указывал, что «Евгений Онегин» и «Горе от ума» «положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь».
(обратно)3
Бранный отзыв о «Полтаве» принадлежал Н. И. Надеждину («Вестник Европы», 1829, №№ 8 и 9).
О «Борисе Годунове» с осуждением писали: М. А. Бестужев-Рюмин («Северный Меркурий», 1831, № 1), автор анонимной брошюры «О «Борисе Годунове» (М. 1831). (Рецензию молодого Белинского на эту брошюру см. в Полн. собр. соч., т. I, стр. 148–150), Н. А. Полевой («Московский телеграф», 1831, № 2 и 1833, №№ 1 и 2), Ф. В. Булгарин («Северная пчела», 1831. № 266). В. Плаксин («Сын отечества», 1831, №№ 24–28) и др.
Критиком, провозгласившим в связи с выходом VII главы «Евгения Онегина» «решительное падение» таланта Пушкина, был Булгарин.
«Другой критик», писавший, что Пушкин «отстал от века» – Н. И. Надеждин. (Его статья о VII главе «Евгения Онегина» была напечатана в «Вестнике Европы», 1830, № 2.)
Последние два критика, объединившиеся в суровой и несправедливой оценке третьей части «Стихотворений Ал. Пушкина» (изд. 1832 г.) – Н. А. Полевой и Н. И. Надеждин («Московский телеграф», 1832, ч. 43, стр. 570, «Телескоп», 1832, № 9, стр. 111–115).
(обратно)4
Намек на раннюю статью самого Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835).
(обратно)5
См. примеч. 10 в наст. томе.
(обратно)6
Говоря о «смелом голосе», утверждавшем величие Лермонтова, Белинский намекает на свои статьи (см. т. I наст. изд.).
«Посредственность», которая хлопочет «выдать себя за гениальность» – Н. В. Кукольник.
Противопоставление Буткова Гоголю (к невыгоде последнего) было сделано Булгариным в связи с выходом «Петербургских вершин» Буткова («Северная пчела», 1845, № 243).
(обратно)7
После слова «своим» в журнальном тексте явно пропущено какое-то слово, может быть «появлением», которое тогда должно было быть вычеркнуто из начала фразы.
(обратно)8
Частица «бы» здесь явно не нужна.
(обратно)9
Роман Достоевского «Двойник. Приключения господина Голядкина» был напечатан в № 2 «Отечественных записок», 1846 (отд. I, стр. 263–428).
(обратно)10
Здесь повторяются те мысли, которые Белинский подробно развил в статьях, помещенных в «Физиологии Петербурга» («Петербург и Москва», «Александрынский театр», «Петербургская литература»).
(обратно)11
У Белинского здесь пропущено окончание фразы: «…то есть на другой манер сапоги, фасона другого, но все-таки сапоги».
(обратно)12
У Достоевского (в тексте «Петербургского сборника») «моя бедная ясочка».
(обратно)13
Исправляем здесь очевидную опечатку журнального текста: «вспоминал».
(обратно)14
Эта проницательная характеристика таланта Достоевского представляет собой первое печатное высказывание Белинского о молодом писателе. Увлеченный «Бедными людьми», Белинский в настоящей статье благосклонно судит и о «Двойнике». Однако уже в обзоре русской литературы за 1846 год он сурово осуждает и «Двойника» и особенно «Господина Прохарчина», предостерегая писателя от ложного пути, по которому он пошел. Здесь уже намечалось решительное расхождение между Белинским и Достоевским, которое в дальнейшем привело к окончательному разрыву.
(обратно)15
Вторично издавая в 1828 г. поэму «Руслан и Людмила», Пушкин в предисловии перепечатал извлечения из критических отзывов об этой поэме.
(обратно)16
Автором очерка «Парижские нравы» был И. И. Панаев.
(обратно)17
Почтенный критикан – Л. Брант.
(обратно)18
Цитируемый Белинским отрывок из «Помещика», начиная отсюда и до конца, в издании Солдатенкова и Щепкина опущен.
(обратно)19
Точки стоят здесь на месте следующих четырех строк, выпущенных цензурой в тексте поэмы, напечатанном в «Петербургском сборнике»;
Об офицерах, господа,
Мы потолкуем осторожно…
(Не то рассердятся – беда!)
Но перечесть их… Это можно.
(обратно)20
После этой строки начинается новая (XXVIII) строфа, что не отмечено в журнальном тексте.
(обратно)21
Следующая фраза и весь текст стихотворения Некрасова в издании Солдатенкова и Щепкина были выпущены. Белинский в это время внимательно следил за развитием таланта Некрасова и восторженно оценивал его успехи. О стихотворении «В дороге» он писал в 1846 году Герцену: «Ты прав, что пьеса Некрасова «В дороге» превосходна, он написал и еще несколько таких же и напишет их еще больше» («Письма», т. III, стр. 101).
(обратно)22
Здесь в журнальном тексте большой пропуск в цитате. Должно быть: «…ежедневной жизни, мелких хлопот, булавочных уколов и пр. Общие сферы похожи на вызолоченные гостиные и залы, на отделку которых употреблены капиталы; а частная жизнь – это тесная спальня…»
(обратно)23
В тексте статьи Герцена: «Наполеон говаривал…»
(обратно)(обратно)



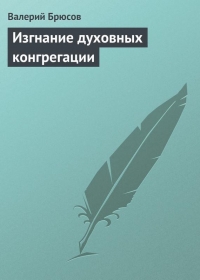
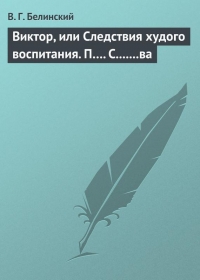
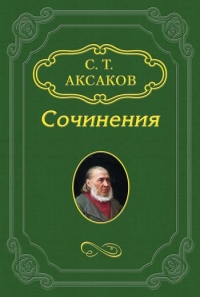
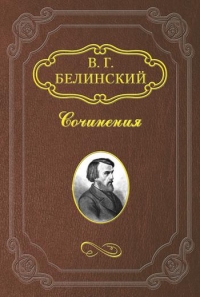
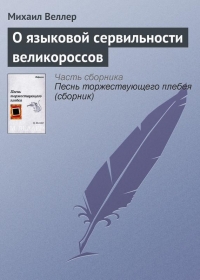


Комментарии к книге «Петербургский сборник», Виссарион Григорьевич Белинский
Всего 0 комментариев