В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев Статьи о русской литературе
Искусство пристрастного чтения (предисловие)
Сколько существует литературная критика (а в России ей насчитывается уже более двух веков), столько идут споры о том, что она, собственно, такое. Наука или искусство? Приложение к литературе или самостоятельный литературный жанр? Посредничество между писателем и читателем или область свободной мысли и творчества?
Ответы (хотя и не исчерпывающие) на эти вопросы лучше всего искать в истории русской классической критики, взяв за образец ее «золотой век», совпадающий с «золотым веком» всей русской литературы. Это период от 30-х годов ХIХ века до «рубежа веков» (конец ХIХ – начало ХХ).
Русская литературная критика рождалась вместе с русской литературой пушкинской и послепушкинской эпохи. Блестящими критиками были уже Карамзин и Жуковский, но лишь с явлением Белинского наша критика становится тем, чем она и являлась весь свой «золотой век» – не просто «умным» мнением и суждением о литературе, не просто индивидуальной или коллективной «теорией», но самим воздухом литературной жизни, не вдыхая который невозможно было жить в пространстве русской литературы.
Впрочем, некоторым писателям этот воздух казался ядовитым. Например, либеральная критика 60—80-х годов ХIХ века фактически отравила жизнь замечательному поэту Афанасию Фету, преследуя его в печати не только за отчетливо консервативные воззрения, но и за «лирическую дерзость», позволявшую ему писать стихи о розах, соловьях и пурпурных закатах тогда, когда, по мнению критиков, «надлежало» писать о страдании народном. Критика преследовала Тургенева за роман «Отцы и дети», находя в нем карикатуру на новое поколение. Критика мстила Лескову за его «антиреволюционные» романы «На ножах» и «Некуда».
Все это было. Но было и другое. Начиная с Белинского именно критика нередко предвосхищала новые пути развития литературы. После мыслей Белинского о «реальной поэзии» (под словом «поэзия» понималась вся высокая литература в противовес развлекательной беллетристике), высказанных в его ранней статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», развитых также в других его статьях, стало возможным рождение реализма середины ХIХ века – Некрасова, Тургенева, раннего Л. Толстого, Гончарова, Островского. Без «славянофильской» критики Константина Аксакова и «органической» критики Аполлона Григорьева и Николая Страхова были бы невозможны (по крайней мере во всей полноте и глубине) ни Достоевский, ни зрелый Лев Толстой. Без философских прозрений Владимира Соловьева о символизме не было бы и феномена русского символизма – Блока, Белого, Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Мережковского...
И писатели сами понимали это. Тургенев завещал похоронить себя рядом с могилой Белинского. Некрасов посвящал стихи Добролюбову. Толстой вел напряженный диалог со Страховым. Островский подлинной глубиной прочтения своих пьес был обязан Григорьеву. Таких примеров можно привести много. Отвечая на вопрос, что же такое русская критика, приходится говорить образно. Это несомненно искусство. Это искусство пристрастного, взволнованного и неслучайного прочтения. Это момент высокой связи двух душ и интеллектов – писателя и читателя, когда они становятся конгениальными друг другу и друг без друга обходиться не могут.
Составитель этой книги стоял перед сложной задачей. Невозможно составить идеальную антологию русской критики «золотого века». Задачи объема заставляют отсекать то, без чего некоторые элементы включенных статей становятся не до конца понятными. Ведь критика – это не отдельные, пусть даже и самые прекрасные имена и статьи, но непрерывный процесс, где все перекликается, все цепляется одно за другое и именно в таком целостном виде и становится живой литературной историей.
Поэтому составитель преследовал более узкие цели. Эта книга окажет несомненную помощь ученику и учителю в изучении школьного курса русской литературы ХIХ – начала ХХ века. В ней собраны наиболее авторитетные, хотя порой и диаметрально противоположные суждения о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Гончарове, Тургеневе, Толстом, Чехове и Горьком.
Павел Басинский
В. Г. Белинский (1811—1848)
Родился в морской крепости Свеаборг в Финляндии в семье флотского врача. Детство провел в Пензенской губернии. Учился в Московском университете, откуда был исключен с формулировкой «по слабому здоровью и притом по ограниченности способностей». Начинал как драматург пьесой «Дмитрий Калинин». Несколько лет вел тяжелую жизнь литературного поденщика,зарабатывая в журналах переводами.
В начале тридцатых годов Белинский сблизился с кружком Н. В. Станкевича, который впоследствии и дал ему крылатое прозвище «неистовый Виссарион». Тогда же стал сотрудником журнала «Телескоп» (редактор Н. И. Надеждин), где появился цикл его статей «Литературные мечтания», принесших ему популярность.
Белинский дружил с лучшими писателями своей эпохи – Н. А. Некрасовым, И. С. Тургеневым, А. И. Герценом и другими. От его публичных суждений рушились громкие репутации (характерный пример – поэт В. Бенедиктов) и создавались новые литературные имена (открытие раннего Достоевского). Он единственный в истории русской литературы критик, чья слава не только не уступала писательской популярности, но и нередко превышала ее. Статьи Белинского в журналах читатели открывали в первую очередь.
Мнения Белинского отличались крайней пристрастностью и порой были несправедливы (недооценка Пушкина-прозаика, непонимание позднего духовного кризиса Гоголя). И в то же время именно он заложил основы серьезной социально-философской и эстетической русской критики, подняв ее уровень на небывалую высоту. Статьи Белинского о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Тургеневе, Достоевском и других и сегодня сохраняют свою остроту и глубину.
О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород»)
<<...>> Поэзия двумя, так сказать, способами объемлет и воспроизводит явления жизни. Эти способы противоположны один другому, хотя ведут к одной цели. Поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи, от его отношений к миру, к веку и народу, в котором он живет, или воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности. Поэтому поэзию можно разделить на два, так сказать, отдела – на идеальную и реальную. Объяснимся.
Поэзия всякого народа, в начале своем, бывает согласна с жизнию, но в раздоре с действительностию, ибо у всякого младенчествующего народа, как и у младенчествующего человека, жизнь всегда враждует с действительностию. Истина жизни недоступна ни для того, ни для другого; ее высокая простота и естественность непонятна для его ума, неудовлетворительна для его чувства. То, что для народа возмужалого, как и для человека возмужалого, кажется торжеством бытия и высочайшею поэзиею, для него было бы горьким, безотрадным разочарованием, после которого уже незачем и не для чего жить. Разоблаченная и обнаженная от своих ложных красок, жизнь представилась бы ему сухою, скучною, вялою и бедною прозою, как будто бы истина и действительность не совместны с поэзиею; как будто бы солнце менее великолепно и лучезарно, когда оно только простой и темный шар, а не торжественная колесница Феба; как будто бы лазурный купол неба менее прекрасен, когда он уже не звездный Олимп, жилище богов бессмертных, а ограниченное нашим зрением беспредельное пространство, вмещающее в себе мириады миров; как будто бы, наконец, земля, жилище человека, менее дивна, когда она лежит не на раменах Атланта, а держится и движется в воздушном океане, не поддерживаемая ничьею рукою, повинующаяся одному простому закону тяготения!.. Таким-то образом первобытное человечество, в лице грека, во всей полноте кипящих сил, во всем разгаре свежего, живого чувства и юного, цветущего воображения, объясняло явления физического мира влиянием высших, таинственных сил. Таким же образом объясняло оно и явления нравственного мира, подчинив их влиянию какой-то грозной и неотразимой силы, которую оно назвало судьбою. Для грека не было законов природы, не было свободной воли человеческой. И вот почему все, входящее в круг обыкновенной жизни, все, объясняющееся простою причиною, почитал он недостойным поэзии, унижением искусства, словом, низкою природою– выражение так глупо понятое, так нелепо принятое французами XVIII столетия. Для него не существовало человека с его свободною волею, его страстями, чувствами и мыслями, страданиями и радостями, желаниями и лишениями, ибо он еще не сознал своей индивидуальности, ибо его я исчезало в я его народа, идея которого трепещет и дышит в его поэтических созданиях. Его лирические песни не носят на себе отпечатка воззрения на мир, следов стремления допытаться его тайн, в них нет унылой думы, грустной мечтательности: это просто или торжественный гимн благодарности, или пламенный дифирамб радости, выражение бессознательной хары, ибо он смотрел на природу взором любовника, а не мыслителя, любил ее, а не исследовал, и вполне был доволен и очарован ею. При взгляде на нее не вопросы, а восторг теснился в его душу, и он изливал этот восторг или в благодарственном гимне, или бешеном дифирамбе, или торжественной оде. Это его лиризм; теперь посмотрим на его эпопею и драму. Что ему жизнь и судьба какого-нибудь частного человека – этот роман, так простой и так обыкновенный? Давайте ему царя, полубога, героя! Что ему картина частной жизни, с ее заботами и хлопотами, с ее высоким и смешным, с ее горем и радостью, любовью и ненавистию – эта повесть, так мелочно подробная, так суетно ничтожная? Разверните перед ним картину борьбы народа с народом, представьте ему зрелище боев и кровопролитий, в которых принимают участие сами небожители и которые оканчиваются по изволу и замыслу судьбы самовластной! Роман и повесть для него пошлы – дайте ему поэму, поэму огромную, величественную, полную чудес, поэму, в которой бы отражалась и виднелась вся жизнь его, со всеми оттенками, как отражается и виднеется в чистом, спокойном зеркале безбрежного океана лазоревое небо с своими облаками, – дайте ему «Илиаду»!..
Но проходит век чудес, волею и неволею, народ сближается с действительною жизнию и, вместо поэмы, требует драмы. Но он и тут не изменяет себе: он только отдалился от прошедшего, но он не забыл его, не охладел к нему, не развыкся с ним. Он уже начинает приглядываться к жизни, но, недовольный ею, не ее хочет перенести в поэзию, но поэзию хочет перенести в нее. Оставляя настоящее, он в прошедшем ищет элементов для своей драмы; и потому его драма не наша, не шекспировская драма, представительница жизни действительной, борьбы страстей с волею человека, – нет: это род таинственного, религиозного обряда, мрачная мистерия, жрица и пророчица судьбы, словом, это трагедия, трагедия высокая и благородная, в царственном, героическом величии, трагедия под маскою и на котурне. Ее героем должен быть царь, полубог, герой, с венцом, венком или шлемом на голове, с скипетром, мечом или щитом в руке, в длинной, волнующейся мантии; ее содержанием должен быть жребий целого поколения царей, полубогов или героев, тесно связанный с судьбой какого-нибудь народа или какого-нибудь великого события, ибо участь простолюдина и подробности частной жизни оскорбили бы ее царственное величие, исказили бы ее религиозный характер, ибо народ хотел видеть на сцене себя, свою жизнь, а не человека, не его жизнь. Для своей драмы, точно так же как и для своей поэмы, выбирает он из жизни одно высокое, благородное и выбрасывает все обыкновенное, повседневное, домашнее, ибо его жизнь на площади, на поле брани, во храме, в судилище, и там его поэзия, а не в домашнем кругу; персонажи его трагедии должны говорить языком высоким, облагороженным, поэтическим, ибо они цари, полубоги, герои; его хор должен выражаться языком таинственным, мрачным и вместе торжественным, ибо он есть орган, истолкователь воли ужасного рока.
Таков бывает характер поэзии первобытных народов; такова была поэзия греков.
Но младенчество не вечно для человека, не вечно для народа, не вечно для человечества; за ним следует юность, потом возмужалость, а там и старость. Поэзия также имеет свои возрасты, которые всегда параллельны возрастам народа. Век поэзии идеальной оканчивается младенческим и юношеским возрастом народа, и тогда искусство должно или переменить свой характер, или умереть. С искусством человечества нашего, новейшего, случилось, как увидим ниже, первое; с искусством человечества древнего случилось последнее, ибо народу, которого поэзия, вначале, была идеальная, вследствие его идеальной жизни, невозможно перейти к поэзии реальной. Упрямо, назло природе, держится он прошедшего и в духе и в формах и, опытный муж, невозвратно утративший веру в чудесное, освоившийся с опытом жизни, силится придать своим поэтическим созданиям колорит идеальный. Но так как у него поэзия не в ладу с жизнию, чего никогда не должно быть, то удивительно ли, что он становится на ходули, за малостию роста, румянится, за неимением природного цвета юности, надувается, за недостатком голоса, что его чудесное переходит в холодную аллегорию, героизм в донкихотство? Такова была поэзия греческая, когда, кончив свой круг, бледною тенью промелькнула в Александрии. Но чаще всего это случается с народами, у которых поэзия развилась не из жизни, а явилась вследствие подражательности: она всегда бывает пародиею на свой образец; ее величие, благородство и идеальность похожи на паяца в мишурной порфире и бумажной короне, важно расхаживающего над входом в балаган. Такова была литература латинская и французская классическая (преимущественно драматическая). Мнимое благородство и возвышенность французской классической трагедии было не что иное, как мещанство во дворянстве, лакей во фраке барина, ворона в павлиных перьях, обезьянское передражниванье греков, ибо оно не согласовалось с жизнию. Но всего разительнее видно это в поэмах. «Илиада» была создана народом, и в ней отражалась жизнь эллинов, она была для них священною книгою, источником религии и нравственности – и эта «Илиада» бессмертна. Но скажите, бога ради, что такое эти «Энеиды», эти «Освобожденные Иерусалимы», «Потерянные рай», «Мессиады»? Не суть ли это заблуждения талантов, более или менее могущественных, попытки ума, более или менее успевшие привести в заблуждение своих почитателей? Кто их читает, кто ими восхищается теперь? Не похожи ли они на старых служивых, которым отдают почтение не за заслуги, не за подвиги, а за старость лет? Не принадлежат ли они к числу тех предрассудков, созданных воображением, которые народ уважает, когда им верит, и которые он щадит, когда уже им не верит, щадит или за их древность, или по привычке, или по лености и неимению свободного времени, чтобы разом рассмотреть их окончательно и расшибить в прах?.. Но это вопрос посторонний: обращаюсь к делу.
Младенчество древнего мира кончилось; вера в богов и чудесное умерла; дух героизма исчез; настал век жизни действительной, и тщетно поэзия становилась на подмостки: в ней уже не было этого высокого простодушия, этого простого, благородного, спокойного и гигантского величия, причина которых заключалась прежде в гармонии искусства с жизнию, в поэтической истине. Мир преобразился крестом, и обновленное и одухотворенное человечество пошло другою дорогою. Родилась идея человека, существа индивидуального, отдельного от народа, любопытного без отношений, в самом себе... Унылая песнь трубадура, в которой изливалось горе любви, жалоба тоскующей поселянки или заключенной принцессы, песнь торжества и победы, повесть любви, мщения, подвига чести – все это получило отзыв... Поэма превратилась в роман. Правда, этот роман был рыцарский, мечтательный, смесь бывалого с небывалым, возможного с невозможным, но уже и не поэма, и в нем зрели семена настоящего романа. Наконец, в XVI веке совершилась окончательная реформа в искусстве: Сервантес убил своим несравненным Дон Кихотом ложно-идеальное направление поэзии, а Шекспир навсегда помирил и сочетал ее с действительною жизнию. Своим безграничным и мирообъемлющим взором проник он в недоступное святилище природы человеческой и истины жизни, подсмотрел и уловил таинственные биения их сокровенного пульса. Бессознательный поэт-мыслитель, он воспроизводил в своих гигантских созданиях нравственную природу, сообразно с ее вечными, незыблемыми законами, сообразно с ее первоначальным планом, как будто бы он сам участвовал в составлении этих законов, в начертании этого плана. Новый Протей, он умел вдыхать душу живу в мертвую действительность; глубокий аналист, он умел в самых, по-видимому, ничтожных обстоятельствах жизни и действиях воли человека находить ключ к разрешению высочайших психологических явлений его нравственной природы. Он никогда не прибегает ни к каким пружинам или подставкам в ходе своих драм; их содержание развивается у него свободно, естественно, из самой своей сущности, по непреложным законам необходимости. Истина, высочайшая истина – вот отличительный характер его созданий. У него нет идеалов в общепринятом смысле этого слов; его люди – настоящие люди, как они есть, как должны быть<<...>>
Итак, вот другая сторона поэзии, вот поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности, наконец, истинная и настоящая поэзия нашего времени. Ее отличительный характер состоит в верности действительности; она не пересоздает жизнь, но воспроизводит, воссоздает ее и, как выпуклое стекло, отражает в себе, под одною точкою зрения, разнообразные ее явления, выбирая из них те, которые нужны для составления полной, оживленной и единой картины. Объемом и границами содержимого этой картины должны определяться великость и генияльность поэтического создания. Чтобы докончить характеристику того, что я называю реальною поэзиею, прибавлю, что вечный герой, неизменный предмет ее вдохновений, есть человек, существо самостоятельное, свободно действующее, индивидуальное, символ мира, конечное его проявление, любопытная загадка для самого себя, окончательный вопрос собственного ума, последняя загадка своего любознательного стремления... Разгадкою этой загадки, ответом на этот вопрос, решением этой задачи – должно быть полное сознание, которое есть тайна, цель и причина его бытия!..
Удивительно ли после этого, что в наше время преимущественно развилось это реальное направление поэзии, это тесное сочетание искусства с жизнию? Удивительно ли, что отличительный характер новейших произведений вообще состоит в беспощадной откровенности, что в них жизнь является как бы на позор, во всей наготе, во всем ее ужасающем безобразии и во всей ее торжественной красоте, что в них как будто вскрывают ее анатомическим ножом? Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, как она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотим ее украшать, ибо думаем, что, в поэтическом представлении, она равно прекрасна в том и другом случае, и потому именно, что истинна, и что где истина, там и поэзия<<...>>
Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют – простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь – поэт, поэт жизни действительной.
Знаете ли, какой вообще недостаток находится в нашей критике? Она не совсем хорошо приноровлена к нашим потребностям. Критик и публика – это два лица беседующие: надобно, чтобы они заранее условились, согласились в значении предмета, избранного для их беседы. Иначе им трудно будет понять друг друга. Вы разбираете сочинение, с важностию говорите о законах творчества, прилагаете их к разбираемому сочинению и, как 22 = 4, доказываете, что оно превосходно. И что ж? публика восхищена вашею критикою и вполне соглашается с вами, видя, что, в самом деле, пункты эстетических законов подведены правильно и что в сочинении все обстоит благополучно. Но вот что худо: часто случается, что она забывает о превознесенном сочинении еще прежде, чем забудет о вашей критике. Отчего же так? Оттого, что разбираемое вами сочинение была хитрая, галантерейная работа, а не изящное создание, что оно, может быть, имело эстетическую форму, но было лишено духа жизни эстетической. У нас еще так зыбки понятия об изящном и вкус еще в таком младенчестве, что наша критика по необходимости должна отступать, в своих приемах, от европейской. Хотя некоторые досужие наши эстетики и говорят, что будто бы законы изящного определены у нас с математическою точностию, но я думаю иначе, ибо, с одной стороны, собственные изделия этих эстетиков, слишком отличающиеся топорной работою, резко противоречат законам изящного, определенным с математическою точностию, а с другой стороны, законы изящного никогда не могут отличаться математическою точностию, потому что они основываются на чувстве, и у кого нет приемлемости изящного, для того всегда кажутся незаконными. И притом, из чего должны выводиться законы изящного, как не из изящных созданий? А много ли у нас их, этих изящных созданий? Нет, пусть каждый толкует по-своему об условиях творчества и подкрепляет их фактами, это самый лучший способ развивать теорию изящного. Цель русского критика должна состоять не столько в том, чтобы расширить круг понятий человечества об изящном, сколько в том, чтобы распространять в своем отечестве уже известные, оседлые понятия об этом предмете. Не бойтесь, не стыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего нового. Это новое не так легко и часто, как обыкновенно думают: оно едва приметными атомами налипает на глыбы старого. Самое старое будет у вас ново, если вы человек с мнением и глубоко убеждены в том, что говорите: ваша индивидуальность и ваш способ выражения и самому вашему старому должны придать характер новости.
Итак, по моему мнению, первый и главный вопрос, предстоящий для разрешения критика, есть – точно ли это произведение изящно, точно ли этот автор поэт? Из решения этого вопроса сами собою вытекают ответы о характере и важности сочинения.
Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества, в душе творящей, есть великое таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия; творчество бесцельно с целию, бессознательно с сознанием, свободно с зависимостию: вот основные его законы. Они будут очень ясны, когда выведутся из акта творчества.
Художник чувствует потребность творить. Эта потребность приходит к нему вдруг, нежданно, без спросу и совершенно независимо от его воли, ибо он не может назначить ни дня, ни часа, ни минуты для своей творческой деятельности; вот свобода творчества, вот его независимость от лица творящего! Потребность творить приводит за собою идею, которая залегает в душу художника, овладевает ею, тяготит ее. Эта идея может быть одною из общих человеческих идей, давно уже известных; но художник берет ее не по выбору, но невольно, берет ее не как предмет ума созерцающего, но воспринимает ее в себя своим чувством, обладаемый трепетным предчувствием ее глубокого, таинственного смысла. Это действие прекрасно выражается непереводимым французским словом «concevoir». Художник чувствует в себе присутствие воспринятой (conсue) им идеи, но, так сказать, не видит ее ясно и томится желанием сделать ее осязаемою для себя и других: вот первый акт творчества. Положим, что эта идея есть идея ревности, и будем следить за ее развитием в душе поэта. Заботливо и томительно носит он ее в сокровенном святилище своего чувства, как носит мать младенца в своей утробе; постепенно эта идея проясняется перед его глазами, облекается в живые образы, переходит в идеалы, и ему, как бы в тумане, видится пламенный африканец Отелло, с его челом смуглым и изрытым морщинами, слышатся его дикие вопли любви, ненависти, отчаяния и мщения, видятся пленительные черты кроткой, любящей Дездемоны, слышатся ее тщетные мольбы и стоны среди глухой полуночи. Эти образы, эти идеалы, в свою очередь, вынашиваются, зреют, выясняются постепенно; наконец, поэт уже видит их, говорит с ними, знает их речь, движения, манеры, походку, черты лица, видит их во весь рост, со всех сторон, видит обоими глазами и так ясно, как бы наяву, на самом деле, видит их прежде, нежели его перо дало им формы, точно так же, как Рафаэль видел перед собою небесный, нерукотворенный образ Мадонны прежде, нежели его кисть приковала этот образ к полотну, точно так же, как Моцарт, Бетховен, Гайдн слышали вызванные ими из души дивные звуки прежде, нежели их перо приковало эти звуки к бумаге. Вот второй акт творчества. Потом поэт дает своему созданию видимые, доступные для всех формы: это третий и последний акт творчества. Он не так важен, ибо есть следствие двух первых.
Итак, главный, отличительный признак творчества состоит в таинственном ясновидении, в поэтическом сомнамбулизме. Еще создание художника есть тайна для всех, еще он не брал в руки пера, а уже видит их ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их чела, избражденного страстями и горем, а уже знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также он знает и то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая обовьет их и свяжет между собою. Где же он видел эти лица, где слышал об этих событиях и что такое его творчество? следствие долговременного и многостороннего опыта, тонкой наблюдательности, глубокого уменья схватывать сходства и обозначать их резкими чертами? Что же его идеалы? Неужели это различные черты, рассеянные в природе и собранные в одно для образования известных типов, составленных по мерке, заранее взятой, как думали и говорили добрые и почтенные эстетики былых времен?.. О, ничего этого, ровно ничего!.. Он нигде не видел созданных им лиц, он не копировал действительности, или нет: он видел все это в вещем, пророческом сне, в светлые минуты поэтического откровения, в эти минуты, знакомые одному таланту, видел их всезрящими очами своего чувства. И вот почему созданные им характеры так верны, ровны, выдержаны; вот почему завязка, развязка, узлы и ход его романа или драмы так естественны, правдоподобны, свободны; вот почему, прочтя его создание, вы как будто были в каком-то мире, прекрасном и гармоническом, как мир божий; вот почему вы так хорошо освоиваетесь с ним, так глубоко понимаете его и так крепко удерживаете его в своей памяти. Тут нет противоречий, нет подделок и изысканности; ибо тут не было расчета вероятностей, не было соображений, не было старания свести концы с концами; ибо это произведение было не сделано, не сочинено, а создалось в душе художника как бы наитием какой-то высшей, таинственной силы, в нем самом и вне его и находившейся; ибо, в этом отношении, он сам был как бы почвою, воспринявшею в себя плодородное зерно, заброшенное рукою неведомою, прозябшее и разросшееся в ветвистое, широколиственное дерево... Какого бы рода ни было такое произведение – идеальное, реальное, – оно всегда истинно, истинно поэтически. «Буря» Шекспира есть произведение нелепое, есть странная прихоть своего творца; в нем действуют и люди и духи бесплотные, в нем действует Калибан, создание чудовищное, плод любви демона с колдуньею; но и это сочинение истинно, истинно поэтически; ибо, читая его, вы всему верите, все находите естественным; ибо, прочтя его, никогда не забудете его, и перед вашими взорами всегда будут носиться чудные образы Проспера, Миранды, Ариэля, образы воздушные, сотканные из ночных туманов, облитые пурпуром зари, осеребренные лучом месяца. Какого бы рода ни было такое создание, оно всегда совершенно и чуждо недостатков. Но отчего же и в произведениях самых генияльных поэтов находят, при великих красотах, и великие недостатки? Оттого, что такие создания или не выношены в душе, не рождены, а выкинуты, как недоноски, прежде времени, или оттого, что авторы, вследствие своих ложных понятий об искусстве или вследствие целей и расчетов каких-нибудь, хитрили и мудрили или писали иногда в холодные, прозаические минуты, ибо поэтические идеи и идеалы – эти небесные тайны – должны и высказываться в светлые минуты откровения, которые называются минутами вдохновения, художнического восторга. Словом, недостатки всегда там, где окончивается творчество и начинается работа.
Теперь, кажется, легко объяснить, что такое бесцельность с целию, бессознательность с сознанием. Когда поэт творит, то хочет выразить, в поэтическом символе, какую-нибудь идею, следовательно, имеет цель и действует с сознанием. Но ни выбор идеи, ни ее развитие не зависит от его воли, управляемой умом, следовательно, его действие бесцельно и бессознательно.
Теперь, что такое свобода творчества от лица творящего при зависимости от него? – Поэт есть раб своего предмета, ибо не властен ни в его выборе, ни в его развитии, ибо не может творить ни по приказу, ни по заказу, ни по собственной воле, если не чувствует вдохновения, которое решительно не зависит от него: следовательно, творчество свободно и независимо от лица творящего, которое здесь является столько же страдательным, сколько и действующим. Но отчего же в создании художника отражается и век, и народ, и собственная его индивидуальность? Отчего в нем отражается и жизнь, и мнения, и степень образованности художника? Следовательно, творчество зависит от него, следовательно, он столько же и господин его, сколько и раб его? Да – оно зависит от него, как зависит душа от организма, как зависит характер от темперамента. Это всего лучше можно объяснить сном. Сон есть нечто свободное, но вместе с тем и зависящее от нас. Меланхолику снятся сны страшные, фантастические; флегматик и во сне спит или ест; актер слышит рукоплескания, военный видит битвы, подьячий взятки и т. д. Так и художник выражается в своих созданиях. Герои Байрона – это типы гордости, с нечеловеческими страстями, желаниями и страданиями; создания Гофмана – фантастические сны и т. д.
Очень не трудно ко всему этому приложить сочинения г. Гоголя, как факты к теории. Я под этим не разумею, чтобы этот поэт был равен Шекспиру, Байрону, Шиллеру и пр. Но здесь вопрос не о степени, не о великости таланта, а о таланте: для гения и таланта одни законы, несмотря на все их неравенство. Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас каждая повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: «Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и, вместе, как оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, почему вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам, так часто виденных вами, и окружить их этими самыми обстоятельствами, так повседневными, так общими, так наскучившими вам в жизни действительной и так занимательными, очаровательными в поэтическом представлении? Вот первый признак истинно художественного произведения. Потом, не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы его давно знали, долго жили с ним вместе? Не дополняете ли вы своим воображением его портрета, и без того уже нарисованного автором во весь рост? Не в состоянии ли прибавить к нему новые черты, как будто забытые автором, не в состоянии ли вы рассказать об этом лице несколько анекдотов, как будто бы опущенных автором? Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все рассказанное автором есть сущая правда, без всякой примеси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания ознаменованы печатию истинного таланта, что они созданы по непреложным законам творчества. Эта простота вымысла, эта нагота действия, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемых автором происшествий – суть верные, необманчивые признаки творчества; это поэзия реальная, поэзия жизни действительной, жизни, коротко знакомой нам. Я нимало не удивляюсь, подобно некоторым, что г. Гоголь мастер делать все из ничего, что он умеет заинтересовать читателя пустыми, ничтожными подробностями, ибо не вижу тут ровно никакого уменья: уменье предполагает расчет и работу, а где расчет и работа, там нет творчества, там все ложно и неверно при самой тщательной и верной копировке с действительности. И чем обыкновеннее, чем пошлее, так сказать, содержание повести, слишком заинтересовывающей внимание читателя, тем больший талант со стороны автора обнаруживает она. Когда посредственный талант берется рисовать сильные страсти, глубокие характеры, он может стать на дыбы, натянуться, наговорить громких монологов, насказать прекрасных вещей, обмануть читателя блестящею отделкою, красивыми формами, самым содержанием, мастерским рассказом, цветистою фразеологию – плодами своей начитанности, ума, образованности, опыта жизни. Но возьмись он за изображение повседневных картин жизни, жизни обыкновенной, прозаической – о, поверьте, для него это будет истинным камнем преткновения, и его вялое, холодное и бездушное сочинение уморит вас зевотою. В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностью и юродством этих живых пасквилей на человечество – это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, господа!» – вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия! И возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами и которая, наконец, называется жизнию. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно! И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!..
В каждом человеке должно различать две стороны: общую, человеческую, и частную, индивидуальную; всякий человек прежде всего человек и потом уже Иван, Сидор и т. д. Точно так же и в художественных созданиях должно различать два характера: характер творчества, общий всем изящным произведениям, и характер колорита, сообщенный индивидуальностию автора. Я уже коснулся, в общих чертах, первого характера в повестях г. Гоголя; теперь рассмотрю его подробнее; потом буду говорить об индивидуальном характере его созданий и, наконец, заключу мою статью беглым взглядом на те из его повестей, о которых можно будет сказать что-нибудь в частности.
Я уже сказал, что отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность – все это черты общие; потом комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния, – черта индивидуальная.
Простота вымысла, в поэзии реальной, есть один из самых верных признаков истинной поэзии, истинного и притом зрелого таланта. Возьмите любую драму Шекспира, возьмите, например, его «Тимона Афинского»: эта пьеса так проста, так немногосложна, так скудна путаницею происшествий, что, право, невозможно и рассказать ее содержания. Люди обманули человека, который любил людей, наругались над его святыми чувствованиями, лишили его веры в человеческое достоинство, и этот человек возненавидел людей и проклял их: вот вам и все тут, больше ничего нет. И что ж? Составили ли вы себе, по моим словам, какое-нибудь понятие об этом великом создании великого гения? О, верно, никакого! ибо эта идея слишком обыкновенна, слишком известна всем, каждому, слишком истерта и истреплена в тысячах сочинений, хороших и дурных, начиная от Софоклова Филоктета, обманутого Улиссом и проклинающего человечество, до «Тихона Михеевича», обманутого вероломною женою и плутом-родственником[1]. Но форма, в которой выражена эта идея, но содержание пьесы и ее подробности? Последние так мелочны, так пусты и притом так всякому известны, что я наскучил бы вам смертельно, если бы вздумал их пересказывать. И однако ж у Шекспира эти подробности так занимательны, что вы не оторветесь от них, и однако ж у него мелочность и пустота этих подробностей приготовляет ужасную катастрофу, от которой волосы встают дыбом – сцену в лесу, где Тимон в бешеных проклятиях, в горьких, язвительных сарказмах, с сосредоточенною, спокойною яростию рассчитывается с человечеством. И потом, как выразить вам то чувство, которое возбуждает в душе известие о смерти добровольного отверженца от людей! И вся эта ужасная, хотя и бескровная, трагедия, ужасная даже в своей простоте, в своем спокойствии, приготовляется глупою комедиею, отвратительною картиною, как люди обжирают человека, помогают ему разориться и потом забывают о нем, эти люди, которые
Любви стыдятся, мысли гонят, Торгуют волею своей, Главы пред идолами клонят И просят денег да цепей!И вот вам жизнь, или, лучше сказать, прототип жизни, созданный величайшим из поэтов! Тут нет эффектов, нет сцен, нет драматических вычур, все просто и обыкновенно, как день мужика, который в будень ест и пашет, спит и пашет, а в праздник ест, пьет и напивается пьян. Но в том-то и состоит задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни. И как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! Возьмите его «Старосветских помещиков»: что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филемоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего достояние двух простаков! И потом, вы так живо представляете себе актеров этой глупой комедии, так ясно видите всю их жизнь, вы, который, может быть, никогда не бывал в Малороссии, никогда не видал таких картин и не слыхал о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, следовательно, очень верно; оттого, что автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев: это чувство – привычка. Знаете ли вы, что такое привычка, это странное чувство, о котором Пушкин сказал:
Привычка небом нам дана: Замена счастия она!Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдает над гробом своей жены, с которой сорок лет грызся, как кошка с собакою? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартире, в которой вы жили много лет, к которой вы привыкли, как душа к телу, и с которою у вас соединяются воспоминания о простой, однообразной жизни, о живом труде и сладком досуге и, может быть, о нескольких сценах любви и наслаждения, и которую вы меняете на великолепные палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собаке, которая десять лет сидела на цепи и десять лет вертела хвостом, когда вы мимо ее проходили?.. О, привычка великая психологическая задача, великое таинство души человеческой. Холодному сыну земли, сыну забот и помыслов житейских, заменяет она чувства человеческие, которых лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный дар провидения, единственный источник его радостей и (дивное дело!) радостей человеческих! Но что она для человека в полном смысле этого слова? Не насмешка ли судьбы! И он платит ей свою дань, и он прилепляется к пустым вещам и пустым людям и горько страдает, лишаясь их! И что же еще? Г-н Гоголь сравнивает ваше глубокое, человеческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть с чувством привычки жалкого получеловека и говорит, что его чувство привычки сильнее, глубже и продолжительнее вашей страсти, и вы стоите перед ним, потупя глаза и не зная, что отвечать, как ученик, не знающий урока, перед своим учителем!.. Так вот где часто скрываются пружины лучших наших действий, прекраснейших наших чувств! О бедное человечество! жалкая жизнь! И однако ж вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны! вы плачете о них, о них, которые только пили и ели и потом умерли! О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, которые только пили и ели и потом умерли!Совершенная истина жизни в повестях г. Гоголя тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором всё схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии оригинала до веснушек лица его; начиная от гардероба Ивана Никифоровича до русских мужиков, идущих по Невскому проспекту, в сапогах, запачканных известью; от колоссальной физиономии богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в зубах и саблею в руках, до стоического философа Хомы, который не боялся ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в руках. «Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начинает кушать. Потом велит принести Гапке чернилицу, и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: сия дыня съедена такого-то числа. Если при этом был какой-нибудь гость, то: участвовал такой-то...» «Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар и очень любит пить чай в такой прохладе». Скажите, бога ради, можно ли язвительнее, злобнее и, вместе с тем, добродушнее и любезнее наругаться над бедным человечеством?.. И все оттого, что слишком верно! А вот посмотрите на жизнь Филемона и Бавкиды: «Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы: «вы, Афанасий Иванович»; «вы, Пульхерия Ивановна». – «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» – «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я»... Или: «После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне: «А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь» – «Чего же бы теперь закусить, Афанасий Иванович? разве коржиков с салом или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых!» – «Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков», – отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закусывал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах самых близких к обеду. «Мне кажется, будто эта каша, – говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, – немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?» – «Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней». – «Пожалуй, – говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку: – попробуем, как оно будет...» – «Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз». – «Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный, – говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, – бывает, что и красный, да не хороший». Замечаете ли вы здесь всю тонкость Афанасия Ивановича, который хочет разными околичностями отвести глаза своей сожительницы от своего ужасного аппетита, которого он как будто сам стыдится? Но посмотрим на его дальнейшие подвиги. «После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхериею Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом... Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной и говорил: „Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?“ – „Чего же бы такого? – говорила Пульхерия Ивановна: – разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить!“ – „И то добре“, – отвечал Афанасий Иванович... „Или, может быть, вы съели бы киселику?“ – „И то хорошо“, – отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать... Ночью иногда Афанасий Иванович, ходя по спальне[2], стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?» – «Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот болит», – говорил Афанасий Иванович. «Может быть, вы бы чего-нибудь съели, Афанасий Иванович?..» – «Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?» – «Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами». —«Пожалуй, разве только попробовать», – говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку. После чего он обыкновенно говорил: «Теперь так как будто сделалось легче».
Как вы думаете об этом? По-моему, так в этом очерке весь человек, вся жизнь его, с ее прошедшим, настоящим и будущим! А супружеская любовь двух старцев, а насмешечки Афанасия Ивановича над своею сожительницею касательно внезапного пожара в их доме или, что еще ужаснее, касательно его намерения идти на войну; страх доброй Пульхерии Ивановны, ее возражения, ее легкая досада и, наконец, чувство самодовольствия, испытываемое Афанасием Ивановичем при мысли, что ему удалось подшутить над своею дражайшею половиною! О, эти картины, эти черты – суть такие драгоценные перлы поезии, в сравнении с которыми все прекрасные фразы наших доморощенных Бальзаков настоящий горох!.. И все это не придумано, не списано с рассказов или с действительности, но угадано чувством, в минуту поэтического откровения! Если бы я вздумал выписывать все места, доказывающие, что г. Гоголь уловил идею описываемой жизни и верно воспроизвел ее, то мне пришлось бы списать почти все его повести, от слова до слова.
Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени; но я не хочу слишком распространяться о их народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условие истинно художественного произведения, если под народностию должно разуметь верность изображения нравов, обычаев и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных, формах, следовательно, если изображение жизни верно, то и народно. Народность, чтобы отразиться в поэтическом произведении, не требует такого глубокого изучения со стороны художника, как обыкновенно думают. Поэту стоит только мимоходом взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена им. Как малороссу, г. Гоголю с детства знакома жизнь малороссийская, но народность его поэзии не ограничивается одною Малороссиею. В его «Записках сумасшедшего», в его «Невском проспекте» нет ни одного хохла, всё русские и, вдобавок, еще немцы; а каково изображены им эти русские и эти немцы! Каков Шиллер и Гофман? Замечу здесь мимоходом, что, право, пора бы нам перестать хлопотать о народности, так же как пора бы перестать писать, не имея таланта; ибо эта народность очень похожа на Тень в басне Крылова: г. Гоголь о ней нимало не думает, и она сама напрашивается к нему, тогда как многие из всех сил гоняются за нею и ловят – одну тривияльность.
Почти то же самое можно сказать и об оригинальности: как и народность, она есть необходимое условие истинного таланта. Два человека могут сойтись в заказной работе, но никогда в творчестве, ибо если одно вдохновение не посещает двух раз одного человека, то еще менее одинаковое вдохновение может посетить двух человек. Вот почему мир творчества так неистощим и безграничен. Поэт никогда не скажет: «О чем мне писать? уж все переписано!» или:
О боги, для чего я поздно так родился?Один из самых отличительных признаков творческой оригинальности, или, лучше сказать, самого творчества, состоит в этом типизме, если можно так выразиться, который есть гербовая печать автора. У истинного таланта каждое лицо – тип, и каждый тип, для читателя, есть знакомый незнакомец. Не говорите: вот человек с огромною душою, с пылкими страстями, с обширным умом, но ограниченным рассудком, который до такого бешенства любит свою жену, что готов удавить ее руками при малейшем подозрении в неверности – скажите проще и короче: вот Отелло! Не говорите: вот человек, который глубоко понимает назначение человека и цель жизни, который стремится делать добро, но, лишенный энергии души, не может сделать ни одного доброго дела и страдает от сознания своего бессилия – скажите: вот Гамлет! Не говорите: вот чиновник, который подл по убеждению, зловреден благонамеренно, преступен добросовестно – скажите: вот Фамусов! Не говорите: вот человек, который подличает из выгод, подличает бескорыстно, по одному влечению души – скажите: вот Молчалин! Не говорите: вот человек, который во всю жизнь не ведал ни одной человеческой мысли, ни одного человеческого чувства, который во всю жизнь не знал, что у человека есть страдания и горести, кроме холода, бессонницы, клопов, блох, голода и жажды, есть восторги и радости, кроме спокойного сна, сытного стола, цветочного чаю, что в жизни человека бывают случаи поважнее съеденной дыни, что у него есть занятия и обязанности, кроме ежедневного осмотра своих сундуков, анбаров и хлевов, есть честолюбие выше уверенности, что он первая персона в каком-нибудь захолустье; о, не тратьте так много фраз, так много слов – скажите просто: вот Иван Иванович Перерепенко, или: вот Иван Никифорович Довгочхун! И поверьте, вас скорее поймут все. В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Михайлович Горич, княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов: разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И, боже мой! как много смысла заключает в себе каждое из них! Это повесть, роман, история, поэма, драма, многотомная книга, короче: целый мир в одном, только в одном слове! Что перед каждым из этих слов ваши заветные: «Qu'il mourût!»[3], «Moi!»[4], «Ax, я Эдип!»? И какой мастер г. Гоголь выдумывать такие слова! Не хочу говорить о тех, о которых и так уже много говорил, скажу только об одном таком его словечке, это – Пирогов!.. Святители! да это целая каста, целый народ, целая нация! О единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок, многозначительнее, чем Фауст! Ты представитель просвещения и образованности всех людей, которые «любят потолковать об литературе, хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове». Да, господа, дивное словцо этот – Пирогов! Это символ, мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет по плечам тысячи человек! О, г. Гоголь большой мастер выдумывать такие слова, отпускать такие bons mots![5] А отчего он такой мастер на них? Оттого, что оригинален. А отчего оригинален? Оттого, что поэт.
Но есть еще другая оригинальность, проистекающая из индивидуальности автора, следствие цвета очков, сквозь которые смотрит он на мир. Такая оригинальность у г. Гоголя состоит, как я уже сказал выше, в комическом одушевлении, всегда побеждаемом чувством глубокой грусти. В этом отношении русская поговорка: начал во здравие, а свел за упокой – может быть девизом его повестей. В самом деле, какое чувство остается у вас, когда пересмотрите вы все эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ее наготе, во всем ее чудовищном безобразии, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь над нею? Я уже говорил о «Старосветских помещиках» – об этой слезной комедии во всем смысле этого слова. Возьмите «Записки сумасшедшего», этот уродливый гротеск, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту психическую историю болезни, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью; это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит и возбуждает сострадание. Я уже говорил также и о «Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» в сем отношении; прибавлю еще, что, с этой стороны, эта повесть всего удивительнее. В «Старосветских помещиках» вы видите людей пустых, ничтожных и жалких, но по крайней мере добрых и радушных; их взаимная любовь основана на одной привычке: но ведь и привычка все же человеческое чувство, но ведь всякая любовь, всякая привязанность, на чем бы она ни основывалась, достойна участия, следовательно, еще понятно, почему вы жалеете об этих стариках. Но Иван Иванович и Иван Никифорович существа совершенно пустые, ничтожные и притом нравственно гадкие и отвратительные, ибо в них нет ничего человеческого; зачем же, спрашиваю я вас, зачем вы так горько улыбаетесь, так грустно вздыхаете, когда доходите до трагикомической развязки? Вот она, эта тайна поэзии! вот они, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видел жизнь, тот не может не вздыхать!..
Комизм или гумор г. Гоголя имеет свой, особенный характер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы прикидывается простачком. Г-н Гоголь с важностию говорит о бекеше Ивана Ивановича, и иной простак не шутя подумает, что автор и в самом деле в отчаянии оттого, что у него нет такой прекрасной бекеши. Да, г. Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишком глупым, чтобы не понять его иронии, но эта ирония чрезвычайно как идет к нему. Впрочем, это только манера, и истинный-то гумор г. Гоголя все-таки состоит в верном взгляде на жизнь и, прибавлю еще, нимало не зависит от карикатурности представляемой им жизни. Он всегда одинаков, никогда не изменяет себе, даже и в таком случае, когда увлекается поэзиею описываемого им предмета. Беспристрастие его идол. Доказательством этого может служить «Тарас Бульба», эта дивная эпопея, написанная кистию смелою и широкою, этот резкий очерк героической жизни младенчествующего народа, эта огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человек с железным характером, железною волею: описывая подвиги его кровавой мести, автор возвышается до лиризма и, в то же время, делается драматиком в высочайшей степени, и все это не мешает ему по местам смешить вас своим героем. Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лишающего мать детей, убивающего собственною рукою родного сына, ужасаетесь его кровавых тризн над гробом детей, и вы же смеетесь над ним, дерущимся на кулачки с своим сыном, пьющим горелку с своими детьми, радующимся, что в этом ремесле они не уступают батюшке, и изъявляющим свое удовольствие, что их добре пороли в бурсе. И причина этого комизма, этой карикатурности изображений заключается не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни. Если г. Гоголь часто и с умыслом подшучивает над своими героями, то без злобы, без ненависти; он понимает их ничтожность, но не сердится на нее; он даже как будто любуется ею, как любуется взрослый человек на игры детей, которые для него смешны своею наивностию, но которых он не имеет желания разделить. Но тем не менее это все-таки гумор, ибо не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение. Это гумор спокойный и, может быть, тем скорее достигающий своей цели. И вот, замечу мимоходом, вот настоящая нравственность такого рода сочинений. Здесь автор не позволяет себе никаких сентенций, никаких нравоучений; он только рисует вещи так, как они есть, и ему дела нет до того, каковы они, и он рисует их без всякой цели, из одного удовольствия рисовать. После «Горя от ума» я не знаю ничего на русском языке, что бы отличалось такою чистейшею нравственностию и что бы могло иметь сильнейшее и благодетельнейшее влияние на нравы, как повести г. Гоголя. О, пред такою нравственностию я всегда готов падать на колена! В самом деле, кто поймет Ивана Ивановича Перерепенко, тот верно рассердится, если его назовут Иваном Ивановичем Перерепенком. Нравственность в сочинении должна состоять в совершенном отсутствии притязаний со стороны автора на нравственную или безнравственную цель. Факты говорят громче слов; верное изображение нравственного безобразия могущественнее всех выходок против него. Однако ж не забудьте, что такие изображения только тогда верны, когда бесцельны, когда созданы, а создавать может одно вдохновение, а вдохновение может быть доступно одному таланту, следовательно, только один талант может быть нравственным в своих произведениях!
Итак, гумор г. Гоголя есть гумор спокойный, спокойный в самом своем негодовании, добродушный в самом своем лукавстве. Но в творчестве есть еще другой гумор, грозный и открытый; он кусает до крови, впивается в тело до костей, рубит со всего плеча, хлещет направо и налево своим бичом, свитым из шипящих змей, гумор желчный, ядовитый, беспощадный. Хотите ли видеть его? Я покажу вам его – смотрите: вот бал, куда собралась толпа мишурных знаменитостей, ничтожного величия, чтобы убить время, своего всегдашнего врага, убийцу, толпа бледная, чудовищная, утратившая образ и подобие божие, позор людей и бессловесных; вот бал: «Между толпами бродят разные лица, под веселый напев контрданса свиваются и развиваются тысячи интриг и сетей; толпы подобострастных аэролитов вертятся вокруг однодневной кометы; предатель униженно кланяется своей жертве; здесь послышалось незначащее слово, привязанное к глубокому долголетнему плану; здесь улыбка презрения скатилась с великолепного лица и оледенила какой-то умоляющий взор; здесь тихо ползут темные грехи и торжественная подлость гордо носит на себе печать отвержения...» Но вдруг бал приходит в смущение, кричат: «Вода! вода!» «В другом конце залы играет еще музыка, там еще танцуют, там еще говорят о будущем, там еще думают о вчера сделанной подлости, о той, которую надо сделать завтра, там еще есть люди, которые ни о чем не думают... Но вскоре достигла страшная весть, музыка прервалась, все смешалось... Отчего же побледнели все эти лица?.. Как, мм. гг., так есть на свете мечта, кроме ваших ежедневных интриг, происков, расчетов? Неправда! пустое! все пройдет! опять наступит завтрашний день! опять можно будет продолжать начатое! свергнуть своего противника, обмануть своего друга, доползти до нового места!.. Но вы не слушаете, вы трепещете, холодный пот обдает вас, вам страшно! И подлинно – вода все растет – вы отворяете окошко, зовете о помощи, вам отвечает свист бури, и белесоватые волны, как разъяренные тигры, кидаются в светлые окна! – Да! в самом деле ужасно! еще минута, и взмокнут эти роскошные, дымчатые одежды ваших женщин! еще минута – и честолюбивые украшения на груди вашей лишь прибавят к вашей тяжести и повлекут на холодное дно. – Страшно! страшно! Где же все мощные средства науки, смеющейся над усилиями природы? Мм. гг., наука замерла под вашим дыханием. – Где же сила молитвы, двигающей горы? – Мм. гг., вы потеряли значение этого слова. – Что же остается вам! – смерть! смерть! смерть ужасная! медленная! Но ободритесь, что такое смерть? – вы люди мудрые, благоразумные, как змии! неужели то, о чем посреди глубоких рассуждений ваших вы никогда и не помышляли, может быть делом столь важным? Призовите на помощь свою прозорливость, испытайте над смертью ваши обыкновенные средства: испытайте, нельзя ли подкупить ее, оклеветать? не испугается ли она вашего холодного, грозного взгляда?..»
Я не буду решать, которому из этих двух видов гумора должно отдать преимущество. Вопрос о подобном превосходстве был бы так же нелеп, как вопрос о превосходстве оды над элегиею, романа над драмою, ибо изящное всегда равно самому себе, в каких бы видах ни проявлялось. Есть вещи, столь гадкие, что стоит только показать их в собственном их виде или назвать их собственным их именем, чтобы возбудить к ним отвращение; но есть еще вещи, которые, при всем своем существенном безобразии, обманывают блеском наружности. Есть ничтожество грубое, низкое, нагое, неприкрытое, грязное, вонючее, в лохмотьях; есть еще ничтожество гордое, самодовольное, пышное, великолепное, приводящее в сомнение об истинном благе самую чистую, самую пылкую душу, ничтожество, ездящее в карете, покрытое золотом, умно говорящее, вежливо кланяющееся, так что вы уничтожены перед ним, что вы готовы подумать, что оно-то есть истинное величие, что оно-то знает цель жизни и что вы-то обманываетесь, вы-то гоняетесь за призраками. Для того и другого рода ничтожества нужен свой, особенный бич, бич крепкий, ибо то и другое ничтожество покрыто тройною бронею. Для того и другого рода ничтожества нужна своя Немезида, ибо надобно же, чтобы люди иногда просыпались от своего бессмысленного усыпления и вспоминали о своем человеческом достоинстве; ибо надобно же, чтобы гром иногда раздавался над их головами и напоминал им о их творце; ибо надобно же, чтобы, за пиршественным столом, посреди остатков безумной роскоши, среди утех беснующейся масленицы, унылый и торжественный звук колокола возмущал внезапно их безумное упоение и напоминал о храме божием, куда всякий должен предстать с раскаянием в сердце, с гимном на устах!..
Г-н Гоголь сделался известным своими «Вечерами на хуторе». Это были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная, как поцелуй любви... Читайте вы его «Майскую ночь», читайте ее в зимний вечер у пылающего камелька, и вы забудете о зиме с ее морозами и метелями; вам будет чудиться эта светлая, прозрачная ночь благословенного юга, полная чудес и тайн; вам будет чудиться эта юная, бледная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище с одним растворенным окном, это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц... Это впечатление очень похоже на то, которое производит на воображение «Сон в летнюю ночь» Шекспира. «Ночь пред Рождеством Христовым» есть целая, полная картина домашней жизни народа, его маленьких радостей, его маленьких горестей, словом, тут вся поэзия его жизни. «Страшная месть» составляет теперь pendant[6] к «Тарасу Бульбе», и обе эти огромные картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя. Но я никогда бы не кончил, если бы стал разбирать «Вечера на хуторе»! «Арабески» и «Миргород» носят на себе все признаки зреющего таланта. В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни. Сверх того, он здесь расширил свою сцену действия и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссии, пошел искать поэзии в нравах среднего сословия в России. И, боже мой, какую глубокую и могучую поэзию нашел он тут! Мы, москали, и не подозревали ее!..
«Невский проспект» есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное; это две полярные стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное о бок друг другу. На одной стороне этой картины бедный художник, беспечный и простодушный, как дитя, замечает на Невском проспекте женщину-ангела, одно из тех дивных созданий, которые могло производить только его художническое воображение; он следит за нею, он дрожит, он не смеет дохнуть, ибо он еще не знает ее, но уже обожает ее, а всякое обожание робко и трепетно; он замечает ее благосклонную улыбку, и «кареты казались ему недвижны, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка и алебарда часового, вместе с золотыми словами и нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице его глаз». Задыхаясь от упоения и трепетного предчувствия блаженства, он входит за нею в третий этаж большого дома, и что же представляется ему?.. Она, все так же прекрасная, очаровательная, она смотрит на него глупо, нагло, как бы говоря ему: «Ну! что же ты?..» Он бросается вон. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивного, драгоценного перла нашей поэзии, второго и единственного, после сна Татьяны Пушкина: здесь г. Гоголь поэт в высочайшей степени. Кто читает эту повесть в первый раз, для того, в этом дивном сне, действительность и поэзия, реальное и фантастическое так тесно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сон. Представьте себе бедного, оборванного, запачканного художника, потерянного в толпе звезд, крестов и всякого рода советников: он толкается между ними, уничтожающими его своим блеском, он стремится к ней, и они беспрестанно разлучают его с ней, они, эти кресты и звезды, которые смотрят на нее без всякого упоения, без всякого трепета, как на свои золотые табакерки... И какое пробуждение после этого сна! и как можно жить после такого пробуждения? И он точно не живет более в действительности, он весь в грезах... Наконец, в его душе блеснул обманчивый, но радужный луч надежды: он решается на самоотвержение, он хочет принести ей в жертву, как Молоху, даже честь свою... «А я только что теперь проснулась, меня привезли в семь часов утра, я была совсем пьяна», – это говорит ему она, все так же прекрасная, очаровательная... После этого можно ли было жить даже и в грезах?.. И нет художника, он сошел в темную могилу, никем не оплаканный, и мир не знал, какая высокая и ужасная драма была разыграна в этой грешной, страдальческой душе...
На другой стороне этой картины вы видите Пирогова и Шиллера, того Пирогова, о котором я уже говорил, того Шиллера, который хотел отрезать себе нос, чтобы избавиться от излишних расходов на табак; того Шиллера, который говорит с гордостью, что он швабский немец, а не русская свинья и что у него есть король в Германии; того Шиллера, который «еще с двадцатилетнего возраста, с того времени, которое русский живет на фуфу, измерил всю свою жизнь и положил себе, в течение 10 лет, составить капитал из 50 тысяч и у которого это было уже так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово»; наконец, того Шиллера, который «положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, и чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп». Чего вам еще? Тут весь человек, вся история его жизни!.. А Пирогов?.. О, об нем об одном можно написать целую книгу!.. Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, с которою он составляет такую отличную пару, его ссору и отношения с Шиллером; помните, какие ужасные побои претерпел он от флегматического Отелло, помните, каким негодованием, какою жаждою мести закипело сердце поручика, и помните, как скоро прошла его досада от съеденных кондитерских пирожков и прочтения «Пчелы»?.. Чудные пирожки! Чудная «Пчела»! Пискарев и Пирогов – какой контраст! Оба они начали, в один день, в один час, преследования своих красавиц, и как различны для обоих них были следствия этих преследований! О, какой смысл скрыт в этом контрасте! И какое действие производит этот контраст! Пискарев и Пирогов, один в могиле, другой доволен и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужасных побоев!.. Да, господа, скучно на этом свете!..
«Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его талант падает, но он и в самом падении остается талантом. Первой части этой повести невозможно читать без увлечения; даже, в самом деле, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое в этом таинственном портрете, есть какая-то непобедимая прелесть, которая заставляет вас насильно смотреть на него, хотя вам это и страшно. Прибавьте к этому множество юмористических картин и очерков во вкусе г. Гоголя; вспомните квартального надзирателя, рассуждающего о живописи; потом эту мать, которая привела к Черткову свою дочь, чтобы снять с нее портрет, и которая бранит балы и восхищается природою, – и вы не откажете в достоинстве и этой повести. Но вторая ее часть решительно ничего не стоит: в ней совсем не видно г. Гоголя. Это явная приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого участия.
Вообще надо сказать, фантастическое как-то не совсем дается г. Гоголю, и мы вполне согласны с мнением г. Шевырева, который говорит, что «ужасное не может быть подробно: призрак тогда страшен, когда в нем есть какая-то неопределенность; если же вы в призраке умеете разглядеть слизистую пирамиду, с какими-то челюстями вместо ног и языком вверху, тут уж не будет ничего страшного, и ужасное переходит просто в уродливое». Но зато картины малороссийских нравов, описание бурсы (впрочем, немного напоминающее бурсу Нарежного, портреты бурсаков и особенно этого философа Хомы, философа не по одному классу семинарии, но философа по духу, по характеру, по взгляду на жизнь. О несравненный dominus[7] Хома! как ты велик в своем стоистическом равнодушии ко всему земному, кроме горелки! Ты натерпелся горя и страху, ты чуть не попался в когти к чертям, но ты все забываешь за широкою и глубокою ендовою, на дне которой схоронена твоя храбрость и твоя философия; ты, на вопрос о виденных тобою страстях, машешь рукою и говоришь: «Много на свете всякой дряни водится!»; у тебя половина головы поседела в одну ночь, а ты оттопываешь тропака, да так, что добрые люди, смотря на тебя, плюют и восклицают: «Вот это как долго танцует человек!» Пусть судит всякий как хочет, а по мне так философ Хома стоит философа Сковороды! Потом, помните ли вы невольное путешествие философа Хомы, помните ли попойку в шинке, этого Дороша, который, нагрузившись пенником, вдруг захотел узнать, непременно узнать, чему учат в бурсе (шуточное дело!), этого резонера, который божился, что «все должно оставить так, как есть, что бог знает, как нужно», и, наконец, этого казака с седыми усами, который рыдал о том, что остался круглым сиротою... А эти поучительные беседы на кухне, где «обыкновенно говорилось обо всем, и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка»? А суждения этих умных голов о чудесах в природе? А портрет пана сотника, и кто перечтет?.. Нет, несмотря на неудачу в фантастическом, эта повесть есть дивное создание. Но и фантастическое в ней слабо только в описании привидений, а чтения Хомы в церкви, восстание красавицы, явление Вия бесподобны.
Я еще мало говорил о «Тарасе Бульбе» и не буду слишком распространяться о нем, ибо, в таком случае, у меня вышла бы еще статья, не менее самой повести... «Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!.. Если говорят, что в «Илиаде» отражается вся жизнь греческая в ее героический период, то разве одни пиитики и риторики прошлого века запретят сказать то же самое и о «Тарасе Бульбе» в отношении к Малороссии XVI века?.. И в самом деле, разве здесь не все козачество, с его странною цивилизациею, его удалою, разгульною жизнию, его беспечностию и ленью, неутомимостью и деятельностию, его буйными оргиями и кровавыми набегами?.. Скажите мне, чего нет в этой картине? чего недостает к ее полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни? Этот богатырь Бульба с своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцев, дружно отдирающая на площади тропака, этот козак, лежащий в луже, для показания своего презрения к дорогому платью, которое на нем надето, и как бы вызывающий на драку всякого дерзкого, кто бы осмелился дотронуться до него хоть пальцем; этот кошевой, поневоле говорящий красноречивую, витиеватую речь о необходимости войны с бусурманами, потому что «многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет»; эта мать, которая является как бы мимоходом, чтобы заживо оплакать детей своих, как всегда являлась в тот век женщина и мать в козацкой жизни... А жиды и ляхи, а любовь Андрия и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззвание к отцу и «слышу»[8] Бульбы и, наконец, героическая гибель старого фанатика, который не чувствовал своих ужасных мук, потому что чувствовал одну жажду мести к враждебному народу?.. И это не эпопея?.. Да что же такое эпопея?.. И какая кисть, широкая, размашистая, резкая, быстрая! какие краски, яркие и ослепительные!.. И какая поэзия, энергическая, могучая, как эта Запорожская сечь, «то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы, откуда разливается воля и козачество на всю Украину!..»
Что еще сказать вам? может быть, вы мало удовлетворены и тем, что я уже сказал: что делать? Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели заставлять других чувствовать и понимать его! Если одни из читателей, прочтя мою статью, скажут: «Это правда» или по крайней мере: «Во всем этом есть и правда»; если другие, прочтя ее, захотят прочесть и разобранные в ней сочинения, – мой долг выполнен, цель достигнута.
Но какой же общий результат выведу я из всего сказанного мною? Что такое г. Гоголь в нашей литературе? Где его место в ней? Чего должно ожидать нам от него, от него, еще только начавшего свое поприще, и как начавшего? Не мое дело раздавать венки бессмертия поэтам, осуждать на жизнь или смерть литературные произведения; если я сказал, что г. Гоголь поэт, я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему судейские приговоры. Теперь у нас слово «поэт» потеряло свое значение: его смешали с словом «писатель». У нас много писателей, некоторые даже с дарованием, но нет поэтов. Поэт высокое и святое слово; в нем заключается неумирающая слава! Но дарование имеет свои степени; Козлов, Жуковский, Пушкин, Шиллер: эти люди поэты, но равны ли они? Разве не спорят еще и теперь, кто выше: Шиллер или Гете? Разве общий голос не назвал Шекспира царем поэтов, единственным и несравненным? И вот задача критики: определить степень, занимаемую художником в кругу своих собратий. Но г. Гоголь еще только начал свое поприще: следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным. Предоставим времени решить, чем и как кончится поприще г. Гоголя, а теперь будем желать, чтобы этот прекрасный талант долго сиял на небосклоне нашей литературы, чтобы его деятельность равнялась его силе.
В «Арабесках» помещены два отрывка из романа. Об этих отрывках нельзя судить как об отдельном и целом создании; но о них можно сказать, что они вполне могут служить залогом тех надежд, о которых я говорил. Поэты бывают двух родов: одни только доступны поэзии, и она у них бывает более способностию, чем даром или талантом, и много зависит от внешних обстоятельств жизни; у других дар поэзии есть нечто положительное, нечто составляющее нераздельную часть их бытия. Первые, иногда один раз в целую жизнь, выскажут какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и, как будто обессиленные тяжестью свершенного ими подвига, ослабевают и падают в последующих своих произведениях; и вот отчего у них первый опыт, по большей части, бывает прекрасен, а последующие постепенно подрывают их славу. Другие с каждым новым произведением возвышаются и крепнут; г. Гоголь принадлежит к числу этих последних поэтов: этого довольно!
Я забыл еще об одном достоинстве его произведений; это лиризм, которым проникнуты его описания таких предметов, которыми он увлекается. Описывает ли он бедную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощение святого чувства любви – сколько тоски, грусти и любви в его описании! Описывает ли он юную красоту – сколько упоения, восторга в его описании! Описывает ли он красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссии – это сын, ласкающийся к обожаемой матери! Помните ли вы его описание безбрежных степей днепровских? Какая широкая, размашистая кисть! Какой разгул чувства! Какая роскошь и простота в этом описании! Черт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!..
В одном журнале было изъявлено странное желание, чтобы г. Гоголь попробовал своих сил в изображении высших слоев общества: вот мысль, которая в наше время отзывается ужасным анахронизмом! Как! неужели поэт может сказать себе: дай опишу то или другое, дай попробую себя в том или другом роде?.. И притом, разве предмет делает что-нибудь для достоинства сочинения? Разве это не аксиома: где жизнь, там и поэзия? Но мои «разве» никогда бы не кончились, если бы я захотел высказать их все, без остатка. Нет, пусть г. Гоголь описывает то, что велит ему описывать его вдохновение, и пусть страшится описывать то, что велят ему описывать или его воля, или гг. критики. Свобода художника состоит в гармонии его собственной воли с какою-то внешнею, не зависящею от него волею, или, лучше сказать, его воля есть вдохновение!..
Герой нашего времени
<<...>>В то время как какие-нибудь два стихотворения, помещенные в первых двух книжках «Отечественных записок» 1839 года, возбудили к Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили за ним имя поэта с большими надеждами, Лермонтов вдруг является с повестью «Бэла», написанною в прозе. Это тем приятнее удивило всех, что еще более обнаружило силу молодого таланта и показало его разнообразие и многосторонность. В повести Лермонтов явился таким же творцом, как и в своих стихотворениях. C первого раза можно было заметить, что эта повесть вышла не из желания заинтересовать публику исключительно любимым ею родом литературы, не из слепого подражания делать то, что все делают, но из того же источника, из которого вышли и его стихотворения, – из глубокой творческой натуры, чуждой всяких побуждений, кроме вдохновения. Лирическая поэзия и повесть современной жизни соединились в одном таланте. Такое соединение по-видимому столь противоположных родов поэзии не редкость в наше время. Шиллер и Гете были лириками, романистами и драматургами, хотя лирический элемент всегда оставался в них господствующим и преобладающим. Сам «Фауст» есть лирическое произведение в драматической форме. Поэзия нашего времени по преимуществу роман и драма; но лиризм все-таки остается общим элементом поэзии, потому что он есть общий элемент человеческого духа. С лиризма начинает почти каждый поэт, так же, как с него начинает каждый народ. Сам Вальтер Скотт перешел к роману от лирических поэм. Только литература Северо-Американских Штатов началась романом Купера, и это явление так же странно, как и общество, в котором оно произошло. Может быть, это оттого, что североамериканская литература есть продолжение английской.
Наша литература представляет тоже совершенно особенное явление: мы вдруг переживаем все моменты европейской жизни, которые на Западе развивались последовательно. Только до Пушкина наша поэзия была по преимуществу лирическою. Пушкин недолго ограничивался лиризмом и скоро перешел к поэме, а от нее – к драме. Как полный представитель духа своего времени, он также покушался на роман: в «Современнике» 1837 года помещено шесть глав (с началом седьмой) из неконченого романа его под названием «Арап Петра Великого», из которых четвертая глава была первоначально помещена в «Северных цветах» 1829 года. Повести Пушкин начал писать уже в последние годы своей недоконченной жизни. Однако ж очевидно, что настоящим его родом был лиризм, стихотворная повесть (поэма) и драма, ибо его прозаические опыты далеко не равны стихотворным. Самая лучшая его повесть, «Капитанская дочка», при всех ее огромных достоинствах, не может идти ни в какое сравнение с его поэмами и драмами. Это не больше, как превосходное беллетрическое произведение с поэтическими и даже художественными частностями. Другие его повести, особенно «Повести Белкина», принадлежат исключительно к области беллетристики. Может быть, в этом заключается причина того, что и роман, так давно начатый, не был кончен. Лермонтов и в прозе является равным себе, как и в стихах, и мы уверены, что, с большим развитием его художнической деятельности, он непременно дойдет до драмы. Наше предположение не произвольно: оно основывается сколько на полноте драматического движения, заметного в повестях Лермонтова, столько же и на духе настоящего времени, особенно благоприятного соединению в одном лице всех форм поэзии. Последнее обстоятельство очень важно, ибо и у искусства всякого народа есть свое историческое развитие, вследствие которого определяется характер и род деятельности поэта. Может быть, и Пушкин был бы таким же великим романистом, как лириком и драматургом, если бы явился позже и имел подобного себе предшественника.
«Бэла», заключая в себе интерес отдельной и оконченной повести, в то же время была только отрывком из большого сочинения, равно как и «Фаталист» и «Тамань», впоследствии напечатанные в «Отечественных же записках». Теперь они являются, вместе с другими, с «Максимом Максимычем», «Предисловием к журналу Печорина» и «Княжною Мери», под одним общим заглавием «Героя нашего времени». Это общее название – не прихоть автора; равным образом, по названию не должно заключать, чтобы содержащиеся в этих двух книжках повести были рассказами какого-нибудь лица, на которого автор навязал роль рассказчика. Во всех повестях одна мысль, и эта мысль выражена в одном лице, которое есть герой всех рассказов. В «Бэле» он является каким-то таинственным лицом. Героиня этой повести вся перед вами, но герой – как будто бы показывается под вымышленным именем, чтобы его не узнали. Из-за отношений его по «Бэле» вы невольно догадываетесь о какой-то другой повести, заманчивой, таинственной и мрачной. И вот автор тотчас показывает вам его при свидании с Максимом Максимычем, который рассказал ему повесть о Бэле. Но ваше любопытство не удовлетворено, а только еще более раздражено, и повесть о Бэле все еще остается для вас загадочною. Наконец, в руках автора журнал Печорина, в предисловии к которому автор делает намек на идею романа, но намек, который только более возбуждает ваше нетерпение познакомиться с героем романа. В высшей степени поэтическом рассказе «Тамань» герой романа является автобиографом, но загадка от этого становится только заманчивее, и отгадка еще не тут. Наконец, вы переходите к «Княжне Мери», и туман рассевается, загадка разгадывается, основная идея романа, как горькое чувство, мгновенно овладевшее всем существом вашим, пристает к вам и преследует вас. Вы читаете наконец «Фаталиста», и хотя в этом рассказе Печорин является не героем, а только рассказчиком случая, которого он был свидетелем, хотя в нем вы не находите ни одной новой черты, которая дополнила бы вам портрет «героя нашего времени», но, странное дело! вы еще более понимаете его, более думаете о нем, и ваше чувство еще грустнее и горестнее.<<...>>
Что же за человек этот Печорин? – Здесь мы должны обратиться к «Предисловию», написанному автором романа к журналу Печорина.
Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться над его головою громом упреков, советов, насмешек и сожалений.
Несмотря на всю софистическую ложность этой горькой выходки, – самая ее желчность свидетельствует уже, что в ней есть своя истинная сторона. В самом деле, и дружба, подобно любви, есть роза с роскошным цветом, упоительным ароматом, но и с колючими шипами. Каждая индивидуальность как бы по природе своей враждебна другой и силится пересоздать ее по-своему, и в самом деле, когда сходятся две субъективности, они, так сказать, чрез взаимное трение друг о друга сглаживаются и изменяются, заимствуя одна от другой то, чего им недостает. Отсюда это взаимное цензорство в дружбе, эта страсть разражаться над головою друга градом упреков, насмешек и сожалений. Самолюбие тут играет свою роль, но если дружба основана не на детской привязанности или какой-нибудь внешней связи, – истинная привязанность, внутреннее человеческое чувство всегда играет тут свою роль. Автор видит в дружбе одни шипы – и его ошибка не в ложности, а в односторонности взгляда. Он, видимо, находится в том состоянии духа, когда в нашем разумении всякая мысль распадается на свои же собственные моменты, до тех пор, пока дух наш не созреет для великого процесса разумного примирения противоположностей в одном и том же предмете. Вообще, хотя автор и выдает себя за человека, совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи – удивительное сходство. Следующее место из «Предисловия» еще более подтверждает нашу мысль:
Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ – заглавие этой книги. – «Да это злая ирония!..» – скажут они. – Не знаю.
Итак – «Герой нашего времени» – вот основная мысль романа. В самом деле, после этого весь роман может почесться злою ирониею, потому что большая часть читателей наверное воскликнет: «Хорош же герой!» – А чем же он дурен? – смеем вас спросить.
Зачем же так неблагосклонно Вы отзываетесь о нем? За то ль, что мы неугомонно Хлопочем, судим обо всем, Что пылких дум неосторожность, Себялюбивую ничтожность Иль оскорбляет, иль смешит, Что ум, любя простор, теснит, Что слишком часто разговоры Принять мы рады за дела, Что глупость ветрена и зла, Что важным людям важны вздоры И что посредственность одна Нам по плечу и не страшна?Вы говорите против него, что в нем нет веры. Прекрасно! но ведь это то же самое, что обвинять нищего за то, что у него нет золота; он бы и рад иметь его, да не дается оно ему. И притом, разве Печорин рад своему безверию? разве он гордится им? разве он не страдал от него? разве он не готов ценою жизни и счастия купить эту веру, для которой еще не настал час его?.. Вы говорите, что он эгоист? – Но разве он не презирает и не ненавидит себя за это? разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной?.. Нет, это не эгоизм: эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе. Эгоизм <<не>> знает мучения: страдание есть удел одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля, пусть взрыхлит ее страдание и оросит благодатный дождь, – и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви... Этому человеку стало больно и грустно, что его все не любят, – и кто же эти «все»? – пустые, ничтожные люди, которые не могут простить ему его превосходства над ними. А его готовность задушить в себе ложный стыд, голос светской чести и оскорбленного самолюбия, когда он за признание в клевете готов был простить Грушницкому, человеку, сейчас только выстрелившему в него пулею и бесстыдно ожидавшему от него холостого выстрела? А его слезы и рыдания в пустынной степи, у тела издохшего коня? – нет, все это не эгоизм! Но его – скажете вы – холодная расчетливость, систематическая рассчитанность, с которою он обольщает бедную девушку, не любя ее, и только для того, чтобы посмеяться над нею и чем-нибудь занять свою праздность? – Так, но мы и не думаем оправдывать его в таких поступках, ни выставлять его образцом и высоким идеалом чистейшей нравственности: мы только хотим сказать, что в человеке должно видеть человека и что идеалы нравственности существуют в одних классических трагедиях и морально-сентиментальных романах прошлого века.
Судя о человеке, должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою. В идеях Печорина много ложного, в ощущениях его есть искажение; но все это выкупается его богатою натурою. Его во многих отношениях дурное настоящее – обещает прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрым движением парохода, видите в нем великое торжество духа над природою? – и хотите потом отрицать в нем всякое достоинство, когда он сокрушает, как зерно жернов, неосторожных, попавших под его колеса: не значит ли это противоречить самим себе? Опасность от парохода есть результат его чрезмерной быстроты; следовательно, порок его выходит из его достоинства. Бывают люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведения, потому что она в них есть следствие безжизненности и слабости духа. Порок возмутителен и в великих людях; но, наказанный, он приводит в умиление вашу душу. Это наказание только тогда есть торжество нравственного духа, когда оно является не извне, но есть результат самого порока, отрицание собственной личности индивидуума в оправдание вечных законов оскорбленной нравственности. Автор разбираемого нами романа, описывая наружность Печорина, когда он с ним встретился на большой дороге, вот что говорит о его глазах: «Они не смеялись, когда он смеялся... Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак – или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен». – Согласитесь, что как эти глаза, так и вся сцена свидания Печорина с Максимом Максимычем показывают, что если это порок, то совсем не торжествующий, и надо быть рожденным для добра, чтоб так жестоко быть наказану за зло?.. Торжество нравственного духа гораздо поразительнее совершается над благородными натурами, чем над злодеями...
А между тем этот роман совсем не злая ирония, хотя и очень легко может быть принят за иронию; это один из тех романов,
В которых отразился век, И современный человек Изображен довольно верно С его безнравственной душой, Себялюбивой и сухой, Мечтанью преданной безмерно, С его озлобленным умом, Кипящим в действии пустом.«Хорош же современный человек!» – воскликнул один нравоописательный «сочинитель», разбирая, или, лучше сказать, ругая седьмую главу «Евгения Онегина». Здесь мы почитаем кстати заметить, что всякий современный человек, в смысле представителя своего века, как бы он ни был дурен, не может быть дурен, потому что нет дурных веков, и ни один век не хуже и не лучше другого, потому что он есть необходимый момент в развитии человечества или общества.
Пушкин спрашивал самого себя о своем Онегине:
Чудак печальный и опасный, Созданье ада иль небес, Сей ангел, сей надменный бес, Что ж он? Ужели подражанье, Ничтожный призрак, иль еще Москвич в Гарольдовом плаще, Чужих причуд истолкованье, Слов модных полный лексикон, — Уж не пародия ли он?И этим самым вопросом он разрешил загадку и нашел слово. Онегин не подражание, а отражение, но сделавшееся не в фантазии поэта, а в современном обществе, которое он изображал в лице героя своего поэтического романа. Сближение с Европою должно было особенным образом отразиться в нашем обществе, – и Пушкин гениальным инстинктом великого художника уловил это отражение в лице Онегина. Но Онегин для нас уже прошедшее, и прошедшее невозвратно. Если бы он явился в наше время, вы имели бы право спросить, вместе с поэтом:
Все тот же ль он, иль усмирился? Иль корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем нынче явится? – Мельмотом, Космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой Иль маской щегольнет иной. Иль просто будет добрый малый, Как вы да я, как целый свет?Печорин Лермонтова есть лучший ответ на все эти вопросы. Это Онегин нашего времени, герой нашего времени. Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и не видимая самим поэтом...
Со стороны художественного выполнения нечего и сравнивать Онегина с Печориным. Но как выше Онегин Печорина в художественном отношении, так и Печорин выше Онегина по идее. Впрочем, это преимущество принадлежит нашему времени, а не Лермонтову. Что такое Онегин? – Лучшею характеристикою и истолкованием этого лица может служить французский эпиграф к поэме: «Petri de vanite, il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifference les bonnes comme les mauvaises actions suite d'un sentiment de superiorite, peut-être imaginaire»[9]. Мы думаем, что это превосходство в Онегине нисколько не было воображаемым, потому что он «вчуже чувства уважал» и что в «его сердце была и гордость и прямая честь». Он является в романе человеком, которого убили воспитание и светская жизнь, которому все пригляделось, все приелось, все прилюбилось и которого вся жизнь состояла в том,
Что он равно зевал Средь модных и старинных зал.Не таков Печорин. Этот человек не равнодушно, не апатически несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения: подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою. Он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений и, стараясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только откровенно признается в своих истинных недостатках, но еще и выдумывает небывалые или ложно истолковывает самые естественные свои движения. Как в характеристике современного человека, сделанной Пушкиным, выражается весь Онегин, так Печорин весь в этих стихах Лермонтова:
И ненавидим мы, и любим мы случайно. Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови.«Герой нашего времени» – это грустная дума о нашем времени, как и та, которою так благородно, так энергически возобновил поэт свое поэтическое поприще и из которой мы взяли эти четыре стиха...
Но со стороны формы изображение Печорина не совсем художественно. Однако причина этого не в недостатке таланта автора, а в том, что изображаемый им характер, как мы уже слегка и намекнули, так близок к нему, что он не в силах был отделиться от него и объектировать его. Мы убеждены, что никто не может видеть в словах наших желание выставить роман г. Лермонтова автобиографиею. Субъективное изображение лица не есть автобиография: Шиллер не был разбойником, хотя в Карле Мооре и выразил свой идеал человека. Прекрасно выразился Фарнгаген, сказав, что на Онегина и Ленского можно бы смотреть, как на братьев Вульта и Вальта у Жан-Поля Рихтера, то есть как на разложение самой природы поэта, и что он, может быть, воплотил двойство своего внутреннего существа в этих двух живых созданиях. Мысль верная, а между тем было бы очень нелепо искать сходных черт в жизни этих лиц с жизнию самого поэта.
Вот причина неопределенности Печорина и тех противоречий, которыми так часто опутывается изображение этого характера. Чтобы изобразить верно данный характер, надо совершенно отделиться от него, стать выше его, смотреть на него как на нечто оконченное. Но этого, повторяем, не видно в создании Печорина. Он скрывается от нас таким же неполным и неразгаданным существом, как и является нам в начале романа. Оттого и самый роман, поражая удивительным единством ощущения, нисколько не поражает единством мысли и оставляет нас без всякой перспективы, которая невольно возникает в фантазии читателя по прочтении художественного произведения и в которую невольно погружается очарованный взор его. В этом романе удивительная замкнутость создания, но не та высшая, художественная, которая сообщается созданию чрез единство поэтической идеи, а происходящая от единства поэтического ощущения, которым он так глубоко поражает душу читателя. В нем есть что-то неразгаданное, как бы недоговоренное, как в «Вертере» Гете, и потому есть что-то тяжелое в его впечатлении. Но этот недостаток есть в то же время и достоинство романа г. Лермонтова: таковы бывают все современные общественные вопросы, высказываемые в поэтических произведениях: это вопль страдания, но вопль, который облегчает страдание...
Это же единство ощущения, а не идеи, связывает и весь роман. В «Онегине» все части органически сочленены, ибо в избранной рамке романа своего Пушкин исчерпал всю свою идею, и потому в нем ни одной части нельзя ни изменить, ни заменить. «Герой нашего времени» представляет собою несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя. Части этого романа расположены сообразно с внутреннею необходимостию; но как они суть только отдельные случаи из жизни хотя и одного и того же человека, то и могли б быть заменены другими, ибо вместо приключения в крепости с Бэлою, или в Тамани, могли б быть подобные же и в других местах, и с другими лицами, хотя при одном и том же герое. Но тем не менее основная мысль автора дает им единство, и общность их впечатления поразительна, не говоря уже о том, что «Бэла», «Максим Максимыч» и «Тамань», отдельно взятые, суть в высшей степени художественные произведения. И какие типические, какие дивно художественные лица – Бэлы, Азамата, Казбича, Максима Максимыча, девушки в Тамани! Какие поэтические подробности, какой на всем поэтический колорит!
Но «Княжна Мери», и как отдельно взятая повесть, менее всех других художественна. Из лиц один Грушницкий есть истинно художественное создание. Драгунский капитан бесподобен, хотя и является в тени, как лицо меньшей важности. Но всех слабее обрисованы лица женские, потому что на них-то особенно отразилась субъективность взгляда автора. Лицо Веры особенно неуловимо и неопределенно. Это скорее сатира на женщину, чем женщина. Только что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, как автор тотчас же и разрушает ваше участие и очарование какою-нибудь совершенно произвольною выходкою. Отношения ее к Печорину похожи на загадку. То она кажется вам женщиною глубокою, способною к безграничной любви и преданности, к геройскому самоотвержению; то видите в ней одну слабость, и больше ничего. Особенно ощутителен в ней недостаток женственной гордости и чувства своего женственного достоинства, которые не мешают женщине любить горячо и беззаветно, но которые едва ли когда допустят истинно глубокую женщину сносить тиранство любви. Она любит Печорина, а в другой раз выходит замуж, и еще за старика, следовательно, по расчету, по какому бы то ни было; изменив для Печорина одному мужу, изменяет и другому, и скорее по слабости, чем по увлечению чувства. Она обожает в Печорине его высшую природу, и в ее обожании есть что-то рабское. Вследствие всего этого она не возбуждает к себе сильного участия со стороны автора и, подобно тени, проскользает в его воображении. Княжна Мери изображена удачнее. Это девушка неглупая, но и не пустая. Ее направление несколько идеально, в детском смысле этого слова: ей мало любить человека, к которому влекло бы ее чувство, непременно надо, чтобы он был несчастен и ходил в толстой и серой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ее: стоило только казаться непонятным и таинственным и быть дерзким. В ее направлении есть нечто общее с Грушницким, хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя; но, когда увидела себя обманутою, она, как женщина, глубоко почувствовала свое оскорбление и пала его жертвою, безответною, безмолвно страдающею, но без унижения, – и сцена ее последнего свидания с Печориным возбуждает к ней сильное участие и обливает ее образ блеском поэзии. Но, несмотря на это, и в ней есть что-то как будто бы недосказанное, чему опять причиною то, что ее тяжбу с Печориным судило не третье лицо, каким бы должен был явиться автор.
Однако, при всем этом недостатке художественности, вся повесть насквозь проникнута поэзиею, исполнена высочайшего интереса. Каждое слово в ней так глубоко знаменательно, самые парадоксы так поучительны, каждое положение так интересно, так живо обрисовано! Слог повести – то блеск молнии, то удар меча, то рассыпающийся по бархату жемчуг! Основная идея так близка сердцу всякого, кто мыслит и чувствует, что всякий из таких, как бы ни противоположно было его положение положениям, в ней представленным, увидит в ней исповедь собственного сердца.
В «Предисловии» к журналу Печорина автор, между прочим, говорит:
Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света, но теперь я не могу взять на себя эту ответственность.
Благодарим автора за приятное обещание, но сомневаемся, чтоб он его выполнил: мы крепко убеждены, что он навсегда расстался с своим Печориным. В этом убеждении утверждает нас – признание Гете, который говорит в своих записках, что, написав «Вертера», бывшего плодом тяжелого состояния его духа, он освободился от него и был так далек от героя своего романа, что ему смешно было видеть, как сходила от него с ума пылкая молодежь... Такова благородная природа поэта, собственною силою своею вырывается он из всякого момента ограниченности и летит к новым, живым явлениям мира, в полное славы творенье... Объектируя собственное страдание, он освобождается от него; переводя на поэтические звуки диссонансы духа своего, он снова входит в родную ему сферу вечной гармонии... Если же г. Лермонтов и выполнит свое обещание, то мы уверены, что он представит уже не старого и знакомого нам, о котором он уже все сказал, а совершенно нового Печорина, о котором еще можно много сказать. Может быть, он покажет его нам исправившимся, признавшим законы нравственности, но, верно, уж не в утешение, а в пущее огорчение моралистов: может быть, он заставит его признать разумность и блаженство жизни, но для того, чтобы увериться, что это не для него, что он много утратил сил в ужасной борьбе, ожесточился в ней и не может сделать эту разумность и блаженство своим достоянием... А может быть и то: он сделает его и причастником радостей жизни, торжествующим победителем над злым гением жизни... Но то или другое, а во всяком случае искупление будет совершено через одну из тех женщин, существованию которых Печорин так упрямо не хотел верить, основываясь не на своем внутреннем созерцании, а на бедных опытах своей жизни... Так сделал и Пушкин с своим Онегиным: отвергнутая им женщина воскресила его из смертного усыпления для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастие, а для того, чтобы наказать его за неверие в таинство любви и жизни и в достоинство женщины...
Похождения Чичикова, или Мертвые души
Поэма Н. Гоголя. Москва. В университетской типографии. 1842. В 8-ю д. л. 475 стр. (Цена 3 р. сер., с перес. 3 р. 75 к. сер.).
Есть два способа выговаривать новые истины. Один – уклончивый, как будто не противоречащий общему мнению, больше намекающий, чем утверждающий; истина в нем доступна избранным и замаскирована для толпы скромными выражениями: если смеем так думать, если позволено так выразиться, если не ошибаемся и т. п. Другой способ выговаривать истину – прямой и резкий; в нем человек является провозвестником истины, совершенно забывая себя и глубоко презирая робкие оговорки и двусмысленные намеки, которые каждая сторона толкует в свою пользу и в которых видно низкое желание служить и нашим и вашим. «Кто не за меня, тот против меня» – вот девиз людей, которые любят выговаривать истину прямо и смело, заботясь только об истине, а не о том, что скажут о них самих... Так как цель критики есть истина же, то и критика бывает двух родов: уклончивая и прямая. Является великий талант, которого толпа еще не в состоянии признать великим, потому что имя его не притвердилось ей, – и вот уклончивая критика, в осторожнейших выражениях, докладывает «почтеннейшей публике», что явилось-де замечательное дарование, которое, конечно, не то, что высокие гении гг. А, Б и В, уже утвержденные общественным мнением, но которое, не равняясь с ними, все-таки имеет свои права на общее внимание; мимоходом намекает она, что хотя-де и не подвержено никакому сомнению гениальное значение гг. А, Б и В, но что-де и в них не может не быть своих недостатков, потому-де, что «и в солнце и в луне есть темные пятна»; мимоходом приводит она места из нового автора и, ничего не говоря о нем самом, равно как и не определяя положительно достоинства приводимых мест, тем не менее говорит о них восторженно, так что задняя мысль этой уклончивой критики некоторым, весьма немногим, дает знать, что новый автор выше всех гениальных гг. А, Б и В, а толпа охотно соглашается с нею, уклончивою критикою, что новый автор очень может быть и не без дарования, и затем забывает и нового автора и уклончивую критику, чтоб снова обратиться к гениальным именам, которые она, добродушная толпа, затвердила уже наизусть. Не знаем, до какой степени полезна такая критика. Согласны, что, может быть, только она и бывает полезна; но как натуры своей никто переменить не в состоянии, то, признаемся, мы не можем победить нашего отвращения к уклончивой критике, как и ко всему уклончивому, ко всему, в чем мелкое самолюбие не хочет отстать от других в уразумении истины и, в то же время, боится оскорбить множество мелких самолюбий, обнаружив, что знает больше их, а потому и ограничивается скромною и благонамеренною службою и нашим и вашим...
Не такова критика прямая и смелая: заметив в первом произведении молодого автора исполинские силы, пока еще не сформировавшиеся и не для всех приметные, она, упоенная восторгом великого явления, прямо объявляет его Алкидом в колыбели, который детскими руками мощно душит завистливые мелкие дарованьица, пристрастных или ограниченных и недальновидных критиков... Тогда на бедную «прямую» критику сыплются насмешки и со стороны литературной братии и со стороны публики. Но эти насмешки и шутки чужды всякого спокойствия и всякой добродушной веселости; напротив, они отзываются каким-то беспокойством и тревогою бессилия, исполнены вражды и ненависти. И не мудрено: «прямая критика» не удовольствовалась объявлением, что новый автор обещает великого автора; нет, она, при этом удобном случае, выразилась с свойственною ей откровенностию, что гениальные гг. А, Б и В с компаниею никогда не были даже и замечательно талантливыми господами; что их слава основалась на неразвитости общественного мнения и держится его ленивою неподвижностью, привычкою и другими чисто внешними причинами; что один из них, взобравшись на ходули ложных, натянутых чувств и надутых, пустозвонных фраз, оклеветал действительность ребяческими выдумками; другой ударился в противоположную крайность и грязью с грязи мазал свои грубые картины, приправляя их провинциальным юмором; и так третьего, четвертого и пятого... Вот тут-то и начинается борьба старых мнений с новыми, предрассудков, страстей и пристрастий – с истиною (борьба, в которой всего более достается «прямой критике» и о которой всего менее хочет знать «прямая критика»)...
Врагами нового таланта являются даже и умные люди, которые уже столько прожили на белом свете и так утвердились в известном образе мыслей, что уж в новом свете истины поневоле видят только помрачение истины; если же из них найдется хоть один такой, который в свое время и сам понимал больше других, был поборником новой истины, теперь уже ставшей старою, – то, спрашиваем, какова же должна быть его немощная вражда против нового таланта, в котором он чует что-то, но которого понять не может? И если у этого cidevant[10] умного и шедшего впереди с высшими взглядами, а теперь отсталого от времени человека, если у него характер слабый, ничтожный и завистливый, а самолюбие мелкое и раздражительное, то, спрашиваем, какое жалкое зрелище должна представлять его отчаянно бессильная борьба с новым талантом?.. Что же сказать о тех «господах сочинителях», которые, благодаря своей ловкости и сметливости, заменяющим у людей ограниченных и бездарных ум и талант, пошлыми, в камердинерском вкусе остротами над французским языком, балами и модами, лорнетками, куцыми фраками, прическою а là russe[11], усами, бородами и т. п., успели вовремя подтибрить себе известность нравственно-сатирических и нравственно-описательных талантов? Правда, новый талант ничего им не сделал, ничего о них не сказал, никогда с ними не знался ни лично, ни литературно, как с людьми, с которыми у него общего ничего нет и быть не может; но зато он показал, что такое истинный юмор и не прощаемая невежеством и пороком истинная ирония и как должно действовать в пользу общественной нравственности, не резонерствуя о нравственности, но только «возводя в перл создания» типические явления действительности: а это разве не то же самое, что убить наповал наших нравственно-сатирических сочинителей, даже и не принимая на себя труда знать о их незанимательном существовании? И вот они, эти господа, нравственно-сатирических и других родов сочинители, прославившиеся не одними романами, но и в качестве грамотеев и исправных корректоров, прибегают для унижения страшного им таланта ко всевозможным свойственным им уловкам: сперва не признают в нем никакого таланта и видят решительную бездарность; но сознавая, к своему ужасу, что слава таланта все растет и растет, все идет и идет своею дорогою и не замечает раздающегося вокруг него лая, они начинают милостиво замечать в нем талант, изъявляя сожаление, что он дозволяет себе сбиваться с пути, увлекаться непомерными похвалами приятелей (из которых со многими он даже и не знаком совсем), которые видят в нем и бог знает что, тогда как он в самом-то деле имеет талант только верно и забавно списывать с натуры; далее, «при сей верной оказии», доказывают, что он даже и языка-то не знает, в подтверждение чего указывают на мелкие промахи против грамматики г. Греча, на типографские ошибки, или осуждая со всем негодованием, свойственным «угнетенной невинности», сильные, оскорбляющие приличие выражения, вроде слова вонять, которого, по их уверению, не скажет в их обществе и порядочный лакей...
Большинство публики, с своей стороны, оскорбленное, сколько похвалами «прямой критики» новому таланту, к которому оно еще не привыкло и которого потому еще не могло понять, столько же – или еще больше – ее откровенными выходками против гениальных гг. А, Б и В, к которым оно давно привыкло и которых хотя уж и не читает, но по привычке и преданию все еще считает гениями, – это большинство публики вдвойне не благоволит к новому таланту. Господа нравственно-сатирические сочинители хорошо понимают это и еще лучше пользуются этим: они по времени перестают говорить о себе и своих бессмертных сочинениях и являются жаркими поклонниками чужой славы, прежде, то есть когда она была в ходу, ими ненавидимой и оскорбляемой, а теперь, то есть когда она скоропостижно скончалась, будто бы дорогой и священной для них... И вот они кричат о духе партий, который заставляет иной «толстый журнал» хвалить писателя, не умеющего писать по-русски, и пристрастно унижать истинные дарования... Но вот слава гениальных господ А, Б и В наконец забывается благодаря времени и резкой откровенности «прямой критики»; новый талант делается авторитетом: его оригинальные и самобытные создания, полные мысли, сияющие художественною красотою, веющие духом новой, прекрасной жизни, проникают в сознание общества, производят новую школу в искусстве и литературе, так что сами нравственно-сатирические сочинители, волею или неволею, принуждены перечинить на новый лад свои притупившиеся перья и передразнивать форму недоступных им по содержанию творений гения; общественное мнение круто поворачивается в пользу великого поэта, – и вопиющая партия отсталых посредственностей теряется, не знает, что делать, грозит ругательными статьями и не смеет выполнить угрозы, боясь конечного для себя позора... Не знаем, какую роль во всем этом играла «прямая критика» и насколько содействовала она этому процессу общественного сознания; но знаем, что те же люди, которые из порицателей великого поэта сделались жалкими его поклонниками, не любят вспоминать, что такой-то критик, еще при первом появлении поэта, не боясь идти против общественного мнения, не боясь равно раздразнить гусей, равно презирая и насмешки и ненависть, смело и резко сказал о нем то, что теперь говорит о нем большинство и они сами, эти беспамятные люди... Знаем также, что, явись опять новое, свежее дарование, первыми своими созданиями обещающее великую будущность, – «прямая критика» также честно разыграет свою ролю, и ту же игру повторят, в отношении к ней и к поэту, и завистливая посредственность, и тугая, медленная в процессах своего сознания толпа... Но знаем при этом еще и то, что «прямота», как и все истинное и великое, должна быть сама себе целью и в самой себе находить свое удовлетворение и свою лучшую награду...
Все это – так, взгляд, рассуждения; теперь скажем слова два о некоторых фактах, подавших нам повод к этим рассуждениям и имеющих близкое отношение к автору книги, заглавие которой выставлено в начале этой статьи. Не углубляясь далеко в прошедшее нашей литературы, не упоминая о многих предсказаниях «прямой критики», сделанных давно и теперь сбывшихся, скажем просто, что из ныне существующих журналов только на долю «Отечественных записок» выпала роль «прямой» критики. Давно ли было то время, когда статья о Марлинском[12] возбудила против нас столько криков, столько неприязненности, как со стороны литературной братии, так и со стороны большинства читающей публики? – И что же? смешно и жалко видеть, как, с голосу «Отечественных записок», словами и выражениями (не новы, да благо уж готовы!) преследуют теперь бледный призрак падшей славы этого блестящего фразера – бог знает из каких щелей понаползшие в современную литературу критиканы, бог ведает какие журналы и какие газеты! Большинство публики не только не думает сердиться, но тоже, в свою очередь, повторяет вычитываемые им о Марлинском фразы! Давно ли многие не могли нам простить, что мы видели великого поэта в Лермонтове? Давно ли писали о нас, что мы превозносим его пристрастно, как постоянного вкладчика в наш журнал? – И что же! Мало того, что участие и устремленные на поэта полные изумления и ожидания очи целого общества, при жизни его, и потом общая скорбь образованной и необразованной части читающей публики, при вести о его безвременной кончине, вполне оправдали наши прямые и резкие приговоры о его таланте, – мало того: Лермонтова принуждены были хвалить даже те люди, которых не только критик, но и существования он не подозревал и которые гораздо лучше и приличнее могли бы почтить его талант своею враждою, чем приязнию... Но эти нападки на наш журнал за Марлинского и Лермонтова ничто в сравнении с нападками за Гоголя... Из существующих теперь журналов «Отечественные записки» первые и одни сказали и постоянно, со дня своего появления до сей минуты, говорят, что такое Гоголь в русской литературе... Как на величайшую нелепость со стороны нашего журнала, как на самое темное и позорное пятно на нем указывали разные критиканы, сочинители и литературщики на наше мнение о Гоголе... Если б мы имели несчастие увидеть гения и великого писателя в каком-нибудь писаке средней руки, предмете общих насмешек и образце бездарности, – и тогда бы не находили этого столь смешным, нелепым, оскорбительным, как мысль о том, что Гоголь – великий талант, гениальный поэт и первый писатель современной России... За сравнение его с Пушкиным на нас нападали люди, всеми силами старавшиеся бросать грязью своих литературных воззрений в страдальческую тень первого великого поэта Руси... Они прикидывались, что их оскорбляла одна мысль видеть имя Гоголя подле имени Пушкина; они притворялись глухими, когда им говорили, что сам Пушкин первый понял и оценил талант Гоголя и что оба поэта были в отношениях, напоминавших собою отношения Гете и Шиллера...
Из всех немногих высоко превозносимых в «Отечественных записках» поэтов только один Лермонтов находился с их издателем в близких приятельских отношениях и почти исключительно одному ему отдавал свои произведения; так как этого нельзя было поставить в упрек ни издателю, ни его журналу, – то вздумали уверять, что немногим (sic![13]) успехом своим «Отечественные записки» обязаны Лермонтову. Это уверение воспоследовало после многих других уверений в том, что «Отечественные записки» никогда не имели, не имеют и не будут иметь никакого успеха... Судя по такому постоянству в мнении об успехе «Отечественных записок», можно думать, что эти люди скоро убедятся в следующей истине: если стихотворения такого поэта, как Лермонтов, не могли не придать собою большего блеска журналу, то еще не было на Руси (да и нигде) примера, чтоб какой-нибудь журнал держался чьими бы то ни было стихотворениями... При этом, может быть, вспомнят они, что «Московский вестник», в котором Пушкин исключительно печатал свои стихотворения, не имел никакого успеха, ни большого, ни малого, потому что в нем, кроме стихов Пушкина, ничего интересного для публики не было... Издатель «Отечественных записок» всегда сохранит как лучшее достояние своей жизни признательную память о Пушкине, который удостоивал его больше, чем простого знакомства; но признает себя обязанным отречься от высокой чести быть приятелем, или, как обыкновенно говорится, «другом» Пушкина: если он высоко ставит поэтический гений Пушкина, так это по причинам чисто литературным... В его журнале читатели не раз встречали восторженные похвалы Крылову и Жуковскому: – и это опять по причинам чисто литературным, хотя издатель и пользуется честью знакомства с обоими лауреатами нашей литературы и хотя последний удостоил его журнал помещением в нем нескольких пьес своих... В «Отечественных записках» читатели не раз встречали также восторженные похвалы Батюшкову и особенно Грибоедову; но этих двух поэтов издатель «Отечественных записок» даже никогда и не видывал... Что касается до Гоголя, издатель «Отечественных записок» действительно имел честь быть знаком с ним; но не больше как знаком, – и в то время, как «Отечественные записки» своими отзывами о Гоголе возбуждали к себе ненависть и навлекали на себя осуждения разных критиканов, – Гоголь жил в Италии, а возвращаясь на родину, жил преимущественно в Москве, и ни одной строки его еще не было в нашем журнале... Что же заговорят наши критические рыцари печального образа, если когда-нибудь увидят в «Отечественных записках» повесть Гоголя?.. О, тогда они завопят: «Видите ли, всё хвалят своих!..»
Мы не без умысла разговорились, по поводу поэмы Гоголя, о таких не прямо литературных предметах. Что делать! наша литература еще так молода, общественное мнение так еще не твердо, что нам должно говорить о многом, о чем уже давно не говорится в иностранных литературах и о чем, есть надежда, скоро совсем перестанут говорить и в нашей литературе... Журнал издается не для известного круга, а для всех; «Отечественные записки» имеют такой обширный круг читателей, в котором нельзя никак предполагать единства в мнении. Притом же иногородная публика, которая издалека смотрит на Петербург, как на центр литературной деятельности в России, не может иногда не приходить в смущение от противоречащих журнальных толков, не зная, кому верить, кому не верить: и потому должно давать ей ключ к истине не одними словами, но и фактами. Чего доброго! – может быть, скоро ей начнут превозносить Гоголя те же самые люди, которые поносили нас за похвалы ему и которые теперь, потерявшись от неслыханного успеха «Мертвых душ», подобно утопающему, хватаются даже за соломинку для своего спасения от потопления в волнах Леты и уверяют, что «Кузьма Петрович Мирошев» выше «Мертвых душ»... Чего доброго! – может быть, скоро эти люди будут упрекать нас в невежестве, безвкусии и пристрастии, если бы нам когда-нибудь случилось какое-нибудь новое произведение Гоголя найти неудовлетворительным... Времена переменчивы... Притом же есть люди, которые думают, что то и хорошо, что в ходу...
Но пока для нас еще существует достоверность, что все знают, кто первый оценил на Руси Гоголя... Мы знаем, что если б где и случилось публике встретить более или менее подходящее к истине суждение о Гоголе, особенно в тоне и духе «Отечественных записок», публика будет знать источник, откуда вытекло это суждение, и не примет его за новость... Теперь все стали умны, даже люди, которые родились неумны, и каждый сумеет поставить яйцо на стол... После появления «Мертвых душ» много найдется литературных Коломбов, которым легко будет открыть новый великий талант в русской литературе, нового великого писателя русского – Гоголя...
Но не так-то легко было открыть его, когда он был еще действительно новым. Правда, Гоголь при первом появлении своем встретил жарких поклонников своему таланту; но их число было слишком мало. Вообще, ни один поэт на Руси не имел такой странной судьбы, как Гоголь: в нем не смели видеть великого писателя даже люди, знавшие наизусть его творения; к его таланту никто не был равнодушен: его или любили восторженно, или ненавидели. И этому есть глубокая причина, которая доказывает скорее жизненность, чем мертвенность нашего общества. Гоголь первый взглянул смело и прямо на русскую действительность, и если к этому присовокупить его глубокий юмор, его бесконечную иронию, то ясно будет, почему ему еще долго не быть понятным и что обществу легче полюбить его, чем понять... Впрочем, мы коснулись такого предмета, которого нельзя объяснить в рецензии. Скоро будем мы иметь случай поговорить подробно о всей поэтической деятельности Гоголя, как об одном целом, и обозреть все его творения в их постепенном развитии. Теперь же ограничимся выражением в общих чертах своего мнения о достоинстве «Мертвых душ» – этого великого произведения.
Нашей литературе, вследствие ее искусственного начала и неестественного развития, суждено представлять из себя зрелище отрывочных и самых противоречащих явлений. Мы уже не раз говорили, что не верим существованию русской литературы как выражению народного сознания в слове, исторически развившегося; но видим в ней прекрасное начало великого будущего, ряд отрывочных проблесков, ярких, как молния, широких и размашистых, как русская душа, но не более, как проблесков. Все остальное, из чего слагается вседневная деятельность нашей литературы, имеет мало или совсем не имеет отношения к этим проблескам, кроме разве того, какое отношение имеет тень к свету и мрак к блеску. Гоголь начал свое поприще при Пушкине и с смертию его замолк, казалось, навсегда. После «Ревизора» он не печатал ничего до половины текущего года. В этот промежуток его молчания, столь печалившего друзей русской литературы и столь радовавшего литературщиков, успела взойти и погаснуть на горизонте русской поэзии яркая звезда таланта Лермонтова. После «Героя нашего времени» только в журналах (читатели знают, в каких) и альманахе Смирдина явилось несколько повестей, более или менее замечательных; но ни в журналах, ни отдельно не явилось ничего капитального, ничего такого, что составляет вечное приобретение литературы и, как лучи солнечные в фокусе стекла, сосредоточивает в себе общественное сознание, в одно и то же время возбуждая и любовь и ненависть, и восторженные похвалы и ожесточенные порицания, полное удовлетворение и совершенное недовольство, но во всяком случае общее внимание, шум, толки и споры. Какое-то апатическое уныние овладело литературою; торжество посредственности было полное; видя, что никто ей не мешает, она овладела и романом, и повестью, и театром; она выпустила длинную фалангу уродов и недоносков, то передразнивая Марлинского в призраках, то шарлатаня французскою историею и литовскими преданиями, растягивая их на длинные томы скучных россказней; то перебиваясь старою ветошью мнимо патриотических и мнимо народных сцен пресловутой старины; то выдавая нам за народность грязь простонародья, за патриотизм сало и галушки, а за юмор и остроумие карикатуры нигде не бывалых идиотов, которые, по воле г. сочинителя, то глупы, то умны, то опять глупы; то пародируя Шекспира и перелагая его драмы на русские нравы; то переводя на русский язык и русскую сцену мусор и щебень с заднего двора немецкой драматической литературы... И вдруг, среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной народности, – вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта – и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое...
В «Мертвых душах» автор сделал такой великий шаг, что все, доселе им написанное, кажется слабым и бледным в сравнении с ними... Величайшим успехом и шагом вперед считаем мы со стороны автора то, что в «Мертвых душах» везде ощущаемо и, так сказать, осязаемо проступает его субъективность. Здесь мы разумеем не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажает объективную действительность изображаемых поэтом предметов; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая в художнике обнаруживает человека с горячим сердцем, симпатичною душою и духовно-личною самостию, – ту субъективность, которая не допускает его с апатическим равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить через свою душу живу явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать душу живу... Это преобладание субъективности, проникая и одушевляя собою всю поэму Гоголя, доходит до высокого лирического пафоса и освежительными волнами охватывает душу читателя даже в отступлениях, как, например, там, где он говорит о завидной доле писателя, «который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения; который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратиям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы»; или там, где говорит он о грустной судьбе «писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи»; или там еще, где он, по случаю встречи Чичикова с пленившею его блондинкою, говорит, что «везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных, неопрятно-плеснеющих низменных рядов ее или среди однообразно-хладных и скучно-опрятных сословий высших, – везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, не похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь; везде, поперек каким бы то ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотою упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно промчится мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги, – и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая шапок, хоть давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж...» Таких мест в поэме много – всех не выписать. Но этот пафос субъективности поэта проявляется не в одних таких высоколирических отступлениях: он проявляется беспрестанно, даже и среди рассказа о самых прозаических предметах, как, например, об известной дорожке, проторенной забубенным русским народом... Его же музыку чует внимательный слух читателя и в восклицаниях, подобных следующему: «Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!»...
Столь же важный шаг вперед со стороны таланта Гоголя видим мы и в том, что в «Мертвых душах» он совершенно отрешился от малороссийского элемента и стал русским национальным поэтом во всем пространстве этого слова. При каждом слове его поэмы читатель может говорить:
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!Этот русский дух ощущается и в юморе, и в иронии, и в выражении автора, и в размашистой силе чувств, и в лиризме отступлений, и в пафосе всей поэмы, и в характерах действующих лиц, от Чичикова до Селифана и «подлеца чубарого» включительно, – в Петрушке, носившем с собою свой особенный воздух, и в будочнике, который при фонарном свете, впросонках, казнил на ногте зверя и снова заснул. Знаем, что чопорное чувство многих читателей оскорбится в печати тем, что так субъективно свойственно ему в жизни, и назовет сальностями выходки вроде казненного на ногте зверя; но это значит не понять поэмы, основанной на пафосе действительности, как она есть. Изображайте мещанско-филистерскую жизнь немцев, и вы принуждены будете упоминать (в похвалу или насмешку) о педантизме их опрятности; касаясь же жизни русского простонародья, не отличающегося, как известно, излишнею чистоплотностью, значило бы пропустить одну из характеристических черт ее, если б не заметить, что не только в деревнях, днем, сидя у ворот, бабы усердно занимаются казнением зверей у ребятишек, изъявляя им этим свою нежность и заботливость, но и в столицах извозчики на биржах и работники на улицах нередко оказывают друг другу подобную услугу, единственно из бескорыстной любви к такому занятию... Мы знаем наперед, что наши сочинители и критиканы не пропустят воспользоваться расположением многих читателей к чопорности и их склонностию находить в себе образованность большого света, выказывая при этом собственное знание приличий высшего общества. Нападая на автора «Мертвых душ» за сальности его поэмы, они с сокрушенным сердцем воскликнут, что и порядочный лакей не станет выражаться, как выражаются у Гоголя благонамеренные и почтенные чиновники... Но мимо их, этих столь посвященных в таинства высшего общества критиканов и сочинителей; пусть их хлопочут о том, чего не смыслят, и стоят за то, чего не видали и что не хочет их знать...
«Мертвые души» прочтутся всеми, но понравятся, разумеется, не всем. В числе многих причин есть и та, что «Мертвые души» не соответствуют понятию толпы о романе, как о сказке, где действующие лица полюбили, разлучились, а потом женились и стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, кому важно содержание, а не «сюжет»; для восхищения всех прочих остаются только места и частности. Сверх того, как всякое глубокое создание, «Мертвые души» не раскрываются вполне с первого чтения даже для людей мыслящих: читая их во второй раз, точно читаешь новое, никогда не виданное произведение. «Мертвые души» требуют изучения. К тому же еще должно повторить, что юмор доступен только глубокому и сильно развитому духу. Толпа не понимает и не любит его. У нас всякий писака так и таращится рисовать бешеные страсти и сильные характеры, списывая их, разумеется, с себя и с своих знакомых. Он считает для себя унижением снизойти до комического и ненавидит его по инстинкту, как мышь кошку. «Комическое» и «юмор» большинство понимает у нас как шутовское, как карикатуру, – и мы уверены, что многие не шутя, с лукавою и довольною улыбкою от своей проницательности, будут говорить и писать, что Гоголь в шутку назвал свой роман поэмою... Именно так! Ведь Гоголь большой остряк и шутник, и что за веселый человек, боже мой! Сам беспрестанно хохочет и других смешит!.. Именно так, вы угадали, умные люди...
Что касается до нас, то, не считая себя вправе говорить печатно о личном характере живого писателя, мы скажем только, что не в шутку назвал Гоголь свой роман «поэмою» и что не комическую поэму разумеет он под нею. Это нам сказал не автор, а его книга. Мы не видим в ней ничего шуточного и смешного; ни в одном слове автора не заметили мы намерения смешить читателя: все серьезно, спокойно, истинно и глубоко... Не забудьте, что книга эта есть только экспозиция, введение в поэму, что автор обещает еще две такие же большие книги, в которых мы снова встретимся с Чичиковым и увидим новые лица, в которых Русь выразится с другой своей стороны... Нельзя ошибочнее смотреть на «Мертвые души» и грубее понимать их, как видя в них сатиру. Но об этом и о многом другом мы поговорим в своем месте, поподробнее; а теперь пусть скажет что-нибудь сам автор:
...И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке; пешеход в протертых лаптях, плетущийся за 800 верст; городишки, выстроенные живьем с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой; рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую; помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: «такой-то артиллерийской батареи»; зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям; затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца... Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедна природа в тебе, не развеселят, не испугают взоров дерзкие ее дива, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными, высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали точные линии сияющих гор, несущихся в серебряные, ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора! Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль перед твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!.. (424—427).
...И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!», его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе – и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль – и что-то страшное заключено в сем быстром мельканьи, где не успевает означиться пропадающий предмет; только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица-тройка! кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем, с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход! И вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вот уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух...
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается назади. Остановился, пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, – и мчится вся вдохновленная богом!.. Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа! Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства... (473—475).
Грустно думать, что этот высокий лирический пафос, эти гремящие, поющие дифирамбы блаженствующего в себе национального самосознания, достойные великого русского поэта, будут далеко не для всех доступны, что добродушное невежество от души станет хохотать оттого, отчего у другого волосы встанут на голове при священном трепете... А между тем это так, и иначе быть не может. Высокая, вдохновенная поэма пойдет для большинства за «преуморительную штуку». Найдутся также и патриоты, о которых Гоголь говорит на 468-й странице своей поэмы и которые, с свойственною им проницательностию, увидят в «Мертвых душах» злую сатиру, следствие холодности и нелюбви к родному, к отечественному, – они, которым так тепло в нажитых ими потихоньку домах и домиках, а может быть, и деревеньках – плодах благонамеренной и усердной службы... Пожалуй, еще закричат и о личностях... Впрочем, это и хорошо с одной стороны: это будет лучшею критическою оценкою поэмы... Что касается до нас, мы, напротив, упрекнули бы автора скорее в излишестве непокоренного спокойно-разумному созерцанию чувства, местами слишком юношески увлекающегося, нежели в недостатке любви и горячности к родному и отечественному... Мы говорим о некоторых, – к счастию, немногих, хотя, к несчастию, и резких – местах, где автор, слишком легко судит о национальности чуждых племен и не слишком скромно предается мечтам о превосходстве славянского племени над ними (стр. 208 – 430). Мы думаем, что лучше оставлять всякому свое и, сознавая собственное достоинство, уметь уважать достоинство и в других... Об этом много можно сказать, как и о многом другом – что мы и сделаем скоро в свое время и в своем месте.
Из цикла статей «Сочинения Александра Пушкина». Статья девятая. «Евгений Онегин» (Окончание)
Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех слоях русского общества играет первую роль; но мы не скажем, чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет. Исключение остается только за высшим кругом, по крайней мере до известной степени. Давно бы пора нам сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всем копировать европейские обычаи, несмотря на наши балы с танцами, несмотря на отчаяние славянолюбов, что мы совсем переродились в немцев, – несмотря на все это, пора нам наконец признаться, что еще и до сих пор мы – плохие рыцари, что наше внимание к женщине, наша готовность жить и умереть для нее до сих пор как-то театральны и отзываются модною светскою фразою, и притом еще не собственного нашего изобретения, а заимствованною. Чего доброго! теперь и поштенное купечество с бородою, от которой попахивает маненько капусткою и лучком, даже и оно, идя по улице с хозяйкою, ведет ее под руку, а не толкает в спину коленом, указывая дорогу и заказывая зевать по сторонам; но дома... Однако зачем говорить, что бывает дома? зачем выносить сор из избы?.. Набравшись готовых чужих фраз, кричим мы и в стихах и в прозе: «женщина – царица общества; ее очаровательным присутствием украшается общество» и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключением высшего светского): везде мужчины – сами по себе, женщины – сами по себе. И самый отчаянный любезник, сидя с женщинами, как будто жертвует собою из вежливости; потом встает и с утомленным видом, словно после тяжкой работы, идет в комнату мужчин, как бы для того, чтоб свободно вздохнуть и освежиться. В Европе женщина действительно царица общества: весел и горд мужчина, с которым она больше говорит, чем с другими. У нас наоборот: у нас женщина ждет, как милости, чтоб мужчина заговорил с нею; она счастлива и горда его вниманием. И как же быть иначе, если то, что называется тоном и любезностью, у нас заменено жеманством, если у нас все любят поэзию только в книгах, а в жизни боятся ее пуще чумы и холеры? Как вы подадите руку девушке, если она не смеет опереться на нее, не испросив позволения у своей маменьки? Как вы решитесь говорить с нею много и часто, если знаете, что за это сочтут вас влюбленным в нее или даже и огласят ее женихом? Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду. Если вас сочтут влюбленным в нее, вам некуда будет деваться от лукавых и остроумных намеков и насмешек друзей ваших, от наивных и добродушных расспросов совершенно посторонних вам людей. Но еще хуже вам, когда заключат, что вы хотите жениться на ней: если ее родители не будут видеть в вас выгодной партии для своей дочери, они откажут вам от дома и строго запретят дочери быть любезной с вами в других домах; если они увидят в вас выгодную партию – новая беда, страшнее прежней: раскинут сети, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законным браком прежде, нежели успеете опомниться и спросить себя: да как же и когда же случилось все это? Если же вы человек с характером и не поддадитесь, то наживете «историю», которую долго будете помнить.
Отчего все это происходит? – Оттого, что у нас не понимают и не хотят понимать, что такое женщина, не чувствуют в ней никакой потребности, не желают и не ищут ее, словом, оттого, что у нас нет женщины. У нас «прекрасный пол» существует только в романах, повестях, драмах и элегиях; но в действительности он разделяется на четыре разряда: на девочек, на невест, на замужних женщин и, наконец, на старых дев и старых баб. Первыми, как детьми, никто не интересуется; последних все боятся и ненавидят (и часто поделом); следовательно, наш прекрасный пол состоит из двух отделов: из девиц, которые должны выйти замуж, и из женщин, которые уже замужем. Русская девушка – не женщина в европейском смысле этого слова, не человек: она не что другое, как невеста. Еще ребенком она называет своими женихами всех мужчин, которых видит в своем доме, и часто обещает выйти замуж за своего папашу или за своего братца; еще в колыбели ей говорили и мать и отец, и сестры и братья, и мамки и няньки, и весь окружающий ее люд, что она – невеста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двенадцать лет, и мать, упрекая ее в лености, в неумении держаться и тому подобных недостатках, говорит ей: «Не стыдно ли вам, сударыня: ведь вы уж невеста!» Удивительно ли после этого, что она не умеет, не может смотреть сама на себя, как на женственное существо, как на человека, и видит в себе только невесту? Удивительно ли, что с ранних лет до поздней молодости, иногда даже и до глубокой старости, все думы, все мечты, все стремления, все молитвы ее сосредоточены на одной idее fixe[14]: на замужстве, – что выйти замуж – ее единственное страстное желание, цель и смысл ее существования, что вне этого она ничего не понимает, ни о чем не думает, ничего не желает и что на всякого неженатого мужчину она смотрит опять не как на человека, а только как на жениха? И виновата ли она в этом? – С восьмнадцати лет она начинает уже чувствовать, что она – не дочь своих родителей, не любимое дитя их сердца, не радость и счастие своей семьи, не украшение своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товар, лишняя мебель, которая того и гляди спадет с цены и не сойдет с рук. Что же остается ей делать, если не сосредоточить всех своих способностей на искусстве ловить женихов? И тем более что только в одном этом отношении и развиваются ее способности, благодаря урокам «дражайших родителей», милых тетушек, кузин и т. д. За что больше всего упрекает и бранит свою дочь попечительная маменька? – За то, что она не умеет ловко держаться, строить глазки и гримаски хорошим женихам, или за то, что расточает свою любезность перед людьми, которые не могут быть для нее выгодною партиею. Чему она больше всего учит ее? – кокетничать по расчету, притворяться ангелом, прятать под мягкою, лоснящеюся шерсткой кошачьей лапки кошачьи когти. И, какова бы ни была по своей натуре бедная дочь, – она невольно входит в роль, которую дала ей жизнь и в таинство которой ее так прилежно, так основательно посвящают. Дома ходит она неряхою, с непричесанною головою, в запачканном, узеньком и коротком платьишке линючего ситца, в стоптанных башмаках, в грязных, спустившихся чулках: в деревне ведь кто же нас видит, кроме дворни, – а для нее стоит ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завиделся экипаж, обещающий неожиданных гостей, – наша невеста подымает руки и долго держит их над головою, крича впопыхах: гости едут, гости едут! От этого руки из красных делаются белыми: затея сельской остроты! Затем весь дом в смятении: маменька и дочка умываются, причесываются, обуваются и на грязное белье надевают шерстяные или шелковые платья, пять лет назад тому сшитые. О чистоте белья заботиться смешно: ведь белье под платьем, и его никто не видит, а рядиться – известное дело – надо для других, а не для себя. Но вот, рано или поздно, наконец тайные стремления и жаркие обеты готовы свершиться: кандидат-невеста уже действительная невеста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась в него только с той минуты, как поняла, что он имеет на нее виды. И ей кажется, что она действительно влюблена в него. Болезненное стремление к замужеству и радость достижения способны в одну минуту возбудить любовь в сердце, которое так давно уже раздражено тайными и явными мечтами о браке. Притом же когда дело к спеху и торопят, то поневоле влюбитесь сразу, не имея времени спросить себя, точно ли вы любите или вам только кажется, что любите... Но «дражайшие родители» учили свою дочь только искусству во что бы ни стало выйти замуж; подготовить же ее к состоянию замужества, объяснить ей обязанность жены, матери, сделать ее способною к выполнению этой обязанности, – они не подумали. И хорошо сделали: нет ничего бесполезнее и даже вреднее, как наставления, хотя бы и самые лучшие, если они не подкрепляются примерами, не оправдываются, в глазах ученика, всею совокупностию окружающей его действительности. «Я вам пример, сударыня!» – беспрестанно повторяет диктаторским тоном мать своей дочери. И дочь преспокойно копирует свою мать, готовя в своей особе свету и будущему мужу второй экземпляр своей маменьки. Если ее муж – человек богатый, он будет доволен своею женою: дом у них как полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нелепо, грязно, пыльно, в беспорядке, вычищается только перед большими праздниками (и тогда в доме подымается возня, делается вавилонское столпотворение в лицах); дворня огромная, слуг бездна, а не у кого допроситься стакана воды, некому подать вам чашку чаю... А недавняя невеста, теперь молодая дама? – О, она живет в «полном удовольствии»! она наконец достигла цели своей жизни, она уже не сирота, не приемыш, не лишнее бремя в родительском доме; она хозяйка у себя дома, сама себе госпожа, пользуется полною свободою, едет куда и когда хочет, принимает у себя кого ей угодно; ей уже не нужно более притворяться то невинною овечкою, то кротким ангелом; она может капризничать, падать в обмороки, повелевать, мучить мужа, детей, слуг. У ней бездна затей: карета – не карета, шаль – не шаль, дорогих игрушек вдоволь; она живет барыней-аристократкой, никому не уступает, но всех превосходит, и муж ее едва успевает закладывать и перезакладывать имение... Дитя нового поколения, она убрала по возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостиную, кое-как наблюдает в них даже какую-то получистоту, полуопрятность: ведь это комнаты для гостей, комнаты парадные, комнаты напоказ; полное торжество грязи может быть только в спальной, в детской, в кабинете мужа, – словом, во внутренних комнатах, куда гости не ходят. А у ней беспрестанно гости, возле нее беспрестанно кружок; но она пленяет гостей своих не светским умом, не грациею своих манер, не очарованием своего увлекательного разговора, – нет, она только старается показать им, что у нее всего много, что она богата, что у ней все лучшее – и убранство комнат, и угощение, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что таких, как она, немного... Содержание разговоров составляют сплетни и наряды, наряды и сплетни. Бог благословил ее замужество – что ни год, то ребенок. Как же она будет воспитывать детей своих? – Да точно так же, как сама была воспитана своею маменькою: пока малы, они прозябают в детской, среди мамок и нянек, среди горничных, на лоне холопства, которое должно внушить им первые правила нравственности, развить в них благородные инстинкты, объяснить им различие домового от лешего, ведьмы от русалки, растолковать разные приметы, рассказать всевозможные истории о мертвецах и оборотнях, выучить их браниться и драться, лгать не краснея, приучить беспрестанно есть, никогда не наедаясь. И милые дети очень довольны сферою, в которой живут: у них есть фавориты между прислугою и есть нелюбимые; они живут дружно с первыми, ругают и колотят последних. Но вот они подросли: тогда отец делай что хочет с мальчиками, а девочек поучат прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепьяно, немножко болтать по-французски – и воспитание кончено; тогда им одна наука, одна забота – ловить женихов.Но если наша невеста выйдет за человека небогатого, хотя и не бедного, но живущего немного выше своего состояния, посредством умения строгим порядком сводить концы с концами, – тогда горе ее мужу! Она в своей деревне никогда ничего не делала (потому что барышня ведь не холопка какая-нибудь, чтоб стала что-нибудь делать), ничем не занималась, не знает хозяйства, а что такое порядок, чистота, опрятность в доме, – этого она нигде не видала, об этом она ни от кого не слыхала. Для нее выйти замуж – значит сделаться барынею; стать хозяйкою – значит повелевать всеми в доме и быть полною госпожою своих поступков. Ее дело – не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.
И неужели вы обвините ее во всем этом? Какое имеете вы право требовать от нее, чтоб она была не тем, чем сами же вы ее сделали? Можете ли вы обвинять даже ее родителей? Разве не вы сами сделали из женщины только невесту и жену, и ничего более? Разве когда-нибудь подходили вы к ней бескорыстно, просто, без всяких видов, для того только, чтоб насладиться этим ароматом, этою гармониею женственного существа, этим поэтическим очарованием присутствия и сообщества женщины, которые так кротко, успокоительно и обаятельно действуют на жесткую натуру мужчины? Желали ль вы когда-нибудь иметь друга в женщине, в которую вы совсем не влюблены, сестру в женщине вам посторонней? – Нет! если вы входите в женский круг, то не иначе, как для выполнения обычая приличия, обряда; если танцуете с женщиною, то потому только, что мужчинам танцевать с мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое внимание, то всегда с положительными видами – ради женитьбы или волокитства. Ваш взгляд на женщину чисто утилитарный, почти коммерческий: она для вас – капитал с процентами, деревня, дом с доходом; если не это, так кухарка, прачка, ключница, нянька, много, много, если одалиска...
Конечно, из всего этого бывают исключения; но общество состоит из общих правил, а не из исключений, которые всего чаще бывают болезненными наростами на теле общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждают собою наши так называемые «идеальные девы». Они обыкновенно страстные любительницы чтения, и читают много и скоро, едят книги. Но как и что читают они, боже великий!.. Всего достолюбезнее в идеальных девах уверенность их, что они понимают то, что читают, и что чтение приносит им большую пользу. Все они обожательницы Пушкина, – что, однако ж, не мешает им отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова; иные из них с удовольствием читают даже Гоголя, – что, однако ж, нисколько не мешает им восхищаться повестями гг. Марлинского и Полевого. Все, что в ходу, о чем пишут и говорят в настоящее время, все это сводит их с ума. Но во всем этом они видят свою любимую мысль, оправдание своей настроенности, то есть идеальность, – видят ее даже и там, где ее вовсе нет или где она осмеивается. У всех у них есть заветные тетрадки, куда они списывают стишки, которые им понравятся, мысли, которые поразят их в книге. Они любят гулять при луне, смотреть на звезды, следить за течением ручейка. Они очень наклонны к дружбе, и каждая ведет деятельную переписку с своей приятельницею, которая живет с нею в одной деревне, а иногда и в одном доме, только в разных комнатах. В переписке (огромными тетрадищами) сообщают они друг другу свои чувства, мысли, впечатления. Сверх того, каждая из них ведет свой дневник, весь наполненный «выписными чувствами», в которых (как во всех дневниках идеальных и внутренних натур мужеска и женска пола) нет ничего живого, истинного, только претензии и идеальничанье. Они презирают толпу и землю, питают непримиримую ненависть ко всему материальному. Эта ненависть у них часто простирается до желания вовсе отрешиться от материи. Для этого они морят себя голодом, не едят иногда по целой неделе, жгут на свечке пальцы, кладут себе на грудь под платье снегу, пьют уксус и чернила, отучают себя от сна, – и этим стремлением к высшему, идеальному существованию до того успевают расстроить свои нервы, что скоро превращаются в одну живую и самую материальную болячку... Ведь крайности сходятся! Все простые человеческие, и особенно женские, чувства, как, например, страстность, способная к увлечению чувств, любовь материнская, склонность к мужчине, в котором нет ничего необыкновенного, гениального, который не гоним несчастием, не страдает, не болен, не беден, – все такие простые чувства кажутся им пошлыми, ничтожными, смешными и презренными. Особенно интересны понятия «идеальных дев» о любви. Все они – жрицы любви, думают, мечтают, говорят и пишут только о любви. Но они признают только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую. Брак есть профанация любви в их глазах; счастие – опошление любви. Им непременно надо любить в разлуке, и их высочайшее блаженство – мечтать при луне о предмете своей любви и думать: «Может быть, в эту минуту и он смотрит на луну и мечтает обо мне; так, для любви нет разлуки!» Жалкие рыбы с холодною кровью, идеальные девы считают себя птицами; плавая в мутной воде искусственной нервической экзальтации, они думают, что парят в облаках высоких чувств и мыслей. Им чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все «высокое и прекрасное», они любят только себя, они и не подозревают, что только тешат свое мелкое самолюбие трескучими шутихами фантазии, думая быть жрицами любви и самоотвержения. Многие из них не прочь бы и от замужства и при первой возможности вдруг изменяют свои убеждения и из идеальных дев скоро делаются самыми простыми бабами; но в иных способность обманывать себя призраками фантазии доходит до того, что они на всю жизнь остаются восторженными девственницами и, таким образом, до семидесяти лет сохраняют способность к сентиментальной экзальтации, к нервическому идеализму. Самые лучшие из этого рода женщин рано или поздно образумливаются; но прежнее их ложное направление навсегда делается черным демоном их жизни и, подобно остаткам дурно залеченной болезни, отравляет их спокойствие и счастие. Ужаснее всех других те из идеальных дев, которые не только не чуждаются брака, но в браке с предметом любви своей видят высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствии всякого нравственного развития и при испорченности фантазии они создают свой идеал брачного счастия, – и когда увидят невозможность осуществления их нелепого идеала, то вымещают на мужьях горечь своего разочарования.Идеальными девами всех родов бывают по большей части девицы, которых развитие было предоставлено им же самим. И как винить их в том, что вместо живых существ из них выходят нравственные уроды? Окружающая их положительная действительность в самом деле очень пошла, и ими невольно овладевает неотразимое убеждение, что хорошо только то, что не похоже, что диаметрально противоположно этой действительности. А между тем самобытное, не на почве действительности, но в сфере общества совершающееся развитие всегда доводит до уродства. И таким образом им предстоят две крайности: или быть пошлыми на общий манер, быть пошлыми, как все, или быть пошлыми оригинально. Они избирают последнее, но думают, что с земли перепрыгнули за облака, тогда как в самом-то деле только перевалились из положительной пошлости в мечтательную пошлость. И что всего грустнее: между подобными несчастными созданиями бывают натуры, не лишенные истинной потребности более или менее человечески разумного существования и достойные лучшей участи.
Но среди этого мира нравственно увечных явлений изредка удаются истинно колоссальные исключения, которые всегда дорого платятся за свою исключительность и делаются жертвами собственного своего превосходства. Натуры гениальные, не подозревающие своей гениальности, они безжалостно убиваются бессознательным обществом, как очистительная жертва за его собственные грехи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы с почтенным семейством Лариных. Отец – не то чтоб уж очень глуп, да и не совсем умен; не то чтоб человек, да и не зверь, а что-то вроде полипа, принадлежащего в одно и то же время двум царствам природы – растительному и животному.
Он был простой и добрый барин, И там, где прах его лежит, Надгробный памятник гласит: Смиренный грешник, Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, Под камнем сим вкушает мир.Этот мир, вкушаемый под камнем, был продолжением того же самого мира, которым добрый барин наслаждался при жизни под татарским халатом. Бывают на свете такие люди, в жизни и счастии которых смерть не производит ровно никакой перемены. Отец Татьяны принадлежал к числу таких счастливцев. Но маменька ее стояла на высшей ступени жизни, сравнительно с своим супругом. До замужества она обожала Ричардсона, не потому, чтоб прочла его, а потому, что от своей московской кузины наслышалась о Грандисоне. Помолвленная за Ларина, она втайне вздыхала о другом. Но ее повезли к венцу, не спросившись ее совета. В деревне мужа она сперва терзалась и рвалась, а потом привыкла к своему положению и даже стала им довольна, особенно с тех пор, как постигла тайну самовластно управлять мужем.
Она езжала по работам, Солила на зиму грибы, Вела расходы, брила лбы, Ходила в баню по субботам, Служанок била осердясь — Все это мужа не спросясь. Бывало, писывала кровью Она в альбомы нежных дев, Звала Полиною Прасковью И говорила нараспев; Корсет носила очень узкий, И русский Н, как N французский, Произносить умела в нос. Но скоро все перевелось: Корсет, альбом, княжну Полину, Стишков чувствительных тетрадь Она забыла; стала звать Акулькой прежнюю Селину И обновила наконец На вате шлафор и чепец.Словом, Ларины жили чудесно, как живут на этом свете целые мильоны людей. Однообразие семейной их жизни нарушалось гостями:
Под вечер иногда сходилась Соседей добрая семья, Нецеремонные друзья, И потужить и позлословить, И посмеяться кой о чем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Их разговор благоразумной О сенокосе, о вине, О псарне, о своей родне, Конечно, не блистал ни чувством, Ни поэтическим огнем, Ни остротою, ни умом, Ни общежития искусством; Но разговор их милых жен Еще был менее учен.И вот круг людей, среди которых родилась и выросла Татьяна! Правда, тут были два существа, резко отделявшиеся от этого круга – сестра Татьяны, Ольга, и жених последней, Ленский. Но и не этим существам было понять Татьяну. Она любила их просто, сама не зная за что, частию по привычке, частию потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала им внутреннего мира души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они – люди другого мира, что они не поймут ее. И действительно, поэтический Ленский далеко не подозревал, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натуре и могла ему казаться скорее странною и холодною, нежели поэтическою. Ольга еще менее Ленского могла понять Татьяну. Ольга – существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чем не рассуждало, ни о чем не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычке и которое все зависело от привычки. Оля очень плакала о смерти Ленского, но скоро утешилась, вышла за улана и из грациозной и милой девочки сделалась дюжинною барынею, повторив собою свою маменьку, с небольшими изменениями, которых требовало время. Но совсем не так легко определить характер Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. В Татьяне нет этих болезненных противоречий, которыми страдают слишком сложные натуры; Татьяна создана как будто вся из одного цельного куска, без всяких приделок и примесей. Вся жизнь ее проникнута тою целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения. Страстно влюбленная, простая деревенская девушка, потом светская дама, – Татьяна во всех положениях своей жизни всегда одна и та же; портрет ее в детстве, так мастерски написанный поэтом, впоследствии является только развившимся, но не изменившимся.
Дика, печальна, молчалива, Как лань лесная боязлива, Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела К отцу, ни к матери своей; Дитя сама, в толпе детей Играть и прыгать не хотела И часто целый день одна Сидела молча у окна.Задумчивость была ее подругою с колыбельных дней, украшая однообразие ее жизни; пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенком она не любила кукол, и ей чужды были детские шалости; ей был скучен и шум и звонкий смех детских игр; ей больше нравились страшные рассказы в зимний вечер. И потому она скоро пристрастилась к романам, и романы поглотили всю жизнь ее.
Она любила на балконе Предупреждать зари восход, Когда на бледном небосклоне Звезд исчезает хоровод, И тихо край земли светлеет, И, вестник утра, ветер веет, И всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень Полмиром доле обладает, И доле в праздной тишине, При отуманенной луне, Восток ленивый почивает, В привычный час пробуждена, Вставала при свечах она.Итак, летние ночи посвящались мечтательности, зимние – чтению романов, – и это среди мира, имевшего благоразумную привычку громко храпеть в это время! Какое противоречие между Татьяною и окружающим ее миром! Татьяна – это редкий, прекрасный цветок, случайно выросший в расселине дикой скалы,
Незнаемый в траве глухой Ни мотыльками, ни пчелой.Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, гораздо больше идут к Татьяне. Какие мотыльки, какие пчелы могли знать этот цветок или пленяться им? Разве безобразные слепни, оводы и жуки, вроде господ Пыхтина, Буянова, Петушкова и тому подобных? Да, такая женщина, как Татьяна, может пленять только людей, стоящих на двух крайних ступенях нравственного мира, или таких, которые были бы в уровень с ее натурою и которых так мало на свете, или людей совершенно пошлых, которых так много на свете. Этим последним Татьяна могла нравиться лицом, деревенскою свежестью и здоровьем, даже дикостью своего характера, в которой они могли видеть кротость, послушливость и безответность в отношении к будущему мужу – качества, драгоценные для их грубой животности, не говоря уже о расчетах на приданое, на родство и т. п. Стоящие же в середине между этими двумя разрядами людей всего менее могли оценить Татьяну. Надобно сказать, что все эти серединные существа, занимающие место между высшими натурами и чернию человечества, эти таланты, служащие связью гениальности с толпою, по большей части – всё люди «идеальные», под стать идеальным девам, о которых мы говорили выше. Эти идеалисты думают о себе, что они исполнены страстей, чувств, высоких стремлений; но в сущности все дело заключается в том, что у них фантазия развита на счет всех других способностей, преимущественно рассудка. В них есть чувство, но еще больше сентиментальности, и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущения и вечно толковать о них. В них есть и ум, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому в их уме часто бывает много блеска, но никогда не бывает дельности. Главное же, что всего хуже в них, что составляет их самую слабую сторону, их ахиллесовскую пятку, – это то, что в них нет страстей, за исключением только самолюбия, и то мелкого, которое ограничивается в них тем, что они бездеятельно и бесплодно погружены в созерцание своих внутренних достоинств. Натуры теплые, но так же не холодные, как и не горячие, они действительно обладают жалкою способностью вспыхивать на минуту от всего и ни от чего. Поэтому они только и толкуют, что о своих пламенных чувствах, об огне, пожирающем их душу, о страстях, обуревающих их сердце, не подозревая, что все это действительно буря, но только не на море, а в стакане воды. И нет людей, которые бы менее их способны были оценить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человека глубоко чувствующего, неподдельно страстного. Такие люди не поняли бы Татьяны: они решили бы все в голос, что если она не дура пошлая, то очень странное существо и что, во всяком случае, она холодна, как лед, лишена чувства и неспособна к страсти. И как же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничем не увлекается, ничему не радуется, ни от чего не приходит в восторг, ко всему равнодушна, ни к кому не ласкается, ни с кем не дружится, никого не любит, не чувствует потребности перелить в другого свою душу, тайны своего сердца, а главное – не говорит ни о чувствах вообще, ни о своих собственных в особенности... Если вы сосредоточены в себе и на вашем лице нельзя прочесть внутреннего пожирающего вас огня, – мелкие люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчас объявят вас существом холодным, эгоистом, отнимут у вас сердце и оставят при вас один ум, особенно если вы имеете наклонность иронизировать над собственным чувством, хотя бы то было из целомудренного желания замаскировать его, не любя им ни играть, ни щеголять...Повторяем: Татьяна – существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастии взаимности любовь такой женщины – ровное, светлое пламя; в противном случае – упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрастием, с этою наружною холодностью, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур. Такова Татьяна. Но это только главные и, так сказать, общие черты ее личности; взглянем на форму, в которую вылилась эта личность, посмотрим на те особенности, которые составляют ее характер.
Создает человека природа, но развивает и образует его общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека от влияния общества, нигде не скрыться, никуда не уйти ему от него. Самое усилие развиться самостоятельно, вне влияния общества, сообщает человеку какую-то странность, придает ему что-то уродливое, в чем опять видна печать общества же. Вот почему у нас люди с дарованиями и хорошими природными расположениями часто бывают самыми несносными людьми, и вот почему у нас только гениальность спасает человека от пошлости. По этому же самому у нас так мало истинных и так много книжных, вычитанных чувств, страстей и стремлений; словом, так мало истины и жизни в чувствах, страстях и стремлениях и так много фразерства во всем этом. Повсюду распространяющееся чтение приносит нам величайшую пользу: в нем наше спасение и участь нашей будущности; но в нем же, с другой стороны, и много вреда, так же как и много пользы для настоящего. Объяснимся. Наше общество, состоящее из образованных сословий, есть плод реформы. Оно помнит день своего рождения, потому что оно существовало официально прежде, нежели стало существовать действительно; потому что, наконец, это общество долго составлял не дух, а покрой платья, не образованность, а привилегия. Оно началось так же, как и наша литература: копированием иностранных форм без всякого содержания, своего или чужого, потому что от своего мы отказались, а чужого не только принять, но и понять не были в состоянии. Были у французов трагедии: давай и мы писать трагедии, и г. Сумароков в одном лице своем совместил и Корнеля, и Расина, и Вольтера. Был у французов знаменитый баснописец Лафонтен, и опять тот же г. Сумароков, по словам его современников, своими притчами далеко обогнал Лафонтена. Таким же точно образом, в самое короткое время, обзавелись мы своими доморощенными Пиндарами, Горациями, Анакреонами, Гомерами, Виргилиями и т. п. Иностранные произведения все наполнены были любовными чувствами, любовными приключениями, и мы давай тем же наполнять наши сочинения. Но там поэзия книги была отражением поэзии жизни, любовь стихотворная была выражением любви, составлявшей жизнь и поэзию общества: у нас любовь вошла только в книгу да в ней и осталась. Это более или менее продолжается и теперь. Мы любим читать страстные стихи, романы, повести, и теперь подобное чтение не считается предосудительным даже и для девушек. Иные из них даже сами кропают стишки, и иногда недурные. Итак, говорить о любви, читать и писать о ней у нас любят многие; но любить... Это дело другого рода! Оно, конечно, если с позволения родителей, если страсть может увенчаться законным браком, то почему же и не любить! Многие не только не считают этого излишним, но даже считают необходимым и, женясь на приданом, толкуют о любви... Но любить потому только, что сердце жаждет любви, любить без надежды на брак, всем жертвовать увлекающему пламени страсти – помилуйте, как можно! ведь это значит сделать «историю», произвести скандал, стать сказкою общества, предметом оскорбительного внимания, осуждения, презрения; сверх того, приличие, правила нравственности, общественная мораль... А! так вы люди сколько осторожные и благоразумно-предусмотрительные, столько и нравственные! Это хорошо; но зачем же вы противоречите себе своею охотою к стихам и романам, своею страстью к патетической драме? – Но то поэзия, а то жизнь: зачем мешать их между собою, пусть каждая идет своею дорогою; пусть жизнь дремлет в апатии, а поэзия снабжает ее занимательными снами. – Вот это другое дело!...Но худо то, что из этого другого дела необходимо родится третье, довольно уродливое. Когда между жизнию и поэзиею нет естественной, живой связи, тогда из их враждебно отдельного существования образуется поддельно-поэтическая и в высшей степени болезненная, уродливая действительность. Одна часть общества, верная своей родной апатии, спокойно дремлет в грязи грубо-материального существования; зато другая, пока еще меньшая числительно, но уже довольно значительная, из всех сил хлопочет устроить себе поэтическое существование, сочетать поэзию с жизнию. Это у них делается очень просто и очень невинно. Не видя никакой поэзии в обществе, они берут ее из книг и по ней соображают свою жизнь. Поэзия говорит, что любовь есть душа жизни: итак – надо любить! Силлогизм верен, само сердце за него вместе с умом! И вот наш идеальный юноша или наша идеальная дева ищет, в кого бы влюбиться. По долгом соображении, в каких глазах больше поэзии, – в голубых или черных, предмет наконец избран. Начинается комедия – и пошла потеха! В этой комедии есть все: и вздохи, и слезы, и мечты, и прогулки при луне, и отчаяние, и ревность, и блаженство, и объяснение, – все, кроме истины чувства... Удивительно ли, что последний акт этой шутовской комедии всегда оканчивается разочарованием, и в чем же? – в собственном своем чувстве, в своей способности любить?.. А между тем подобное книжное направление очень естественно: не книга ли заставила доброго, благородного и умного помещика манческого сделаться рыцарем Дон Кихотом, надеть бумажную кольчугу, взобраться на тощего Росинанта и пуститься отыскивать по свету прекрасную Дульцинею, мимоходом сражаясь с баранами и мельницами? Между поколениями от двадцатых годов до настоящей минуты сколько было у нас разных Дон Кихотов? У нас были и есть Дон Кихоты любви, науки, литературы, убеждений, славянофильства и еще бог знает чего, всего не перечесть! Выше мы говорили об идеальных девах; а сколько можно сказать интересного об идеальных юношах! Но предмет так богат и неистощим, что лучше не касаться его, чтоб совсем не потерять из виду Татьяны Пушкина.
Татьяна не избегла горестной участи подпасть под разряд идеальных дев, о которых мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляет собою колоссальное исключение в мире подобных явлений, – и теперь не отпираемся от своих слов. Татьяна возбуждает не смех, а живое сочувствие, – но это не потому, чтоб она вовсе не походила на «идеальных дев», а потому, что ее глубокая, страстная натура заслонила в ней собою все, что есть смешного и пошлого в идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественною, простою в самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее действительность. С одной стороны —
Татьяна верила преданьям Простонародной старины, И снам, и карточным гаданьям, И предсказаниям луны. Ее тревожили приметы; Таинственно ей все предметы Провозглашали что-нибудь, Предчувствия теснили грудь.С другой стороны, Татьяна любила бродить по полям,
С печальной думою в очах, С французской книжкою в руках.Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков с страстию к французским книжкам и с уважением к глубокому творению Мартына Задеки возможно только в русской женщине. Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви; ничто другое не говорило ее душе; ум ее спал, и только разве тяжкое горе жизни могло потом разбудить его, – да и то для того, чтоб сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали... Девические дни ее ничем не были заняты; в них не было своей череды труда и досуга, не было тех регулярных занятий и развлечений, свойственных образованной жизни, которые держат в равновесии нравственные силы человека. Дикое растение, вполне предоставленное самому себе, Татьяна создала себе свою собственную жизнь, в пустоте которой тем мятежнее горел пожиравший ее внутренний огонь, что ее ум ничем не был занят.
Давно ее воображенье, Сгорая негой и тоской, Алкало пищи роковой; Давно сердечное томленье Теснило ей младую грудь; Душа ждала... кого-нибудь, И дождалась. Открылись очи; Она сказала: это он! Увы! теперь и дни и ночи, И жаркий одинокий сон, Все полно им; все деве милой Без умолку волшебной силой Твердит о нем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Теперь с каким она вниманьем Читает сладостный роман, С каким живым очарованьем Пьет обольстительный обман! Счастливой силою мечтанья Одушевленные созданья, Любовник Юлии Вольмар, Малек-Адель и де Линар, И Вертер, мученик мятежный, И бесподобный Грандисон, Который нам наводит сон, — Все для мечтательницы нежной В единый образ облеклись, В одном Онегине слились. Воображаясь героиней Своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов Одна с опасной книгой бродит: Она в ней ищет и находит Свой тайный жар, свои мечты, Плоды сердечной полноты, Вздыхает и, себе присвоя Чужой восторг, чужую грусть, В забвеньи шепчет наизусть Письмо для милого героя...Здесь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачем было воображать Онегина Вольмаром, Малек-Аделем, де Линаром и Вертером (Малек-Адель и Вертер: не все ли это равно, что Еруслан Лазаревич и корсар Байрона)? – Затем, что для Татьяны не существовал настоящий Онегин, которого она не могла ни понимать, ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значение, напрокат взятое из книги, а не из жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачем было ей воображать себя Кларисой, Юлией, Дельфиной? Затем, что она и саму себя так же мало понимала и знала, как и Онегина. Повторяем: создание страстное, глубоко чувствующее и в то же время не развитое, наглухо запертое в темной пустоте своего интеллектуального существования, Татьяна как личность является нам подобною не изящной греческой статуе, в которой все внутреннее так прозрачно и выпукло отразилось во внешней красоте, но подобною египетской статуе, неподвижной, тяжелой и связанной. Без книги она была бы совершенно немым существом, и ее пылающий и сохнущий язык не обрел бы ни одного живого, страстного слова, которым бы могла она облегчить себя от давящей полноты чувства. И хотя непосредственным источником ее страсти к Онегину была ее страстная натура, ее переполнившаяся жажда сочувствия, – все же началась она несколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленского и еще менее могла полюбить кого-нибудь из известных ей мужчин: она так хорошо их знала, и они так мало представляли пищи ее экзальтированному, аскетическому воображению... И вдруг является Онегин. Он весь окружен тайною: его аристократизм, его светскость, неоспоримое превосходство над всем этим спокойным и пошлым миром, среди которого он явился таким метеором, его равнодушие ко всему, странность жизни – все это произвело таинственные слухи, которые не могли не действовать на фантазию Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ее к решительному эффекту первого свидания с Онегиным. И она увидела его, и он предстал пред нею, молодой, красивый, ловкий, блестящий, равнодушный, скучающий, загадочный, непостижимый, весь неразрешимая тайна для ее неразвитого ума, весь обольщение для ее дикой фантазии. Есть существа, у которых фантазия имеет гораздо более влияния на сердце, нежели как думают об этом. Татьяна была из таких существ. Есть женщины, которым стоит только показаться восторженным, страстным, и они ваши; но есть женщины, которых внимание мужчина может возбудить к себе только равнодушием, холодностью и скептицизмом, как признаками огромных требований на жизнь или как результатом мятежно и полно пережитой жизни: бедная Татьяна была из числа таких женщин...
Тоска любви Татьяну гонит, И в сад идет она грустить, И вдруг недвижны очи клонит, И лень ей далее ступить: Приподнялася грудь, ланиты Мгновенным пламенем покрыты, Дыханье замерло в устах, И в слухе шум, и блеск в очах... Настанет ночь; луна обходит Дозором дальный свод небес, И соловей во мгле древес Напевы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит И тихо с няней говорит.Разговор Татьяны с нянею – чудо художественного совершенства! Это целая драма, проникнутая глубокою истиною. В ней удивительно верно изображена русская барышня в разгаре томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно в первый период еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце? – сестре? – но она не так бы поняла его. Няня вовсе не поймет; но потому-то и открывает ей Татьяна свою тайну, – или, лучше сказать, потому-то и не скрывает она от няни своей тайны.
. . . . . . . «Расскажи мне, няня, Про ваши старые года: Была ты влюблена тогда?» – И, полно, Таня! В эти лета Мы не слыхали про любовь; А то бы согнала со света Меня покойница свекровь. — «Да как же ты венчалась, няня?» – Так, видно, бог велел. Мой Ваня Моложе был меня, мой свет, А было мне тринадцать лет. Недели две ходила сваха К моей родне, и наконец Благословил меня отец. Я горько плакала со страха, Мне с плачем косу расплели, И с пеньем в церковь повели. – И вот ввели в семью чужую...Вот как пишет истинно народный, истинно национальный поэт! В словах няни, простых и народных, без тривияльности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взгляд на отношения полов, на любовь, на брак... И это сделано великим поэтом одною чертою, вскользь, мимоходом брошенною!.. Как хороши эти добродушные и простодушные стихи:
– И, полно, Таня! В эти лета Мы не знавали про любовь; А то бы согнала со света Меня покойница свекровь!Как жаль, что именно такая народность не дается многим нашим поэтам, которые так хлопочут о народности – и добиваются одной площадной тривияльности...
Татьяна вдруг решается писать к Онегину: порыв наивный и благородный; но его источник не в сознании, а в бессознательности: бедная девушка не знала, что делала. После, когда она стала знатною барынею, для нее совершенно исчезла возможность таких наивно-великодушных движений сердца... Письмо Татьяны свело с ума всех русских читателей, когда появилась третья глава «Онегина». Мы вместе со всеми думали в нем видеть высочайший образец откровения женского сердца. Сам поэт, кажется, без всякой иронии, без всякой задней мысли и писал и читал это письмо. Но с тех пор много воды утекло... Письмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже и отзывается немножко какою-то детскостию, чем-то «романическим». Иначе и быть не могло: язык страстей был так нов и недоступен нравственно немотствующей Татьяне: она не умела бы ни понять, ни выразить собственных своих ощущений, если бы не прибегла к помощи впечатлений, оставленных на ее памяти плохими и хорошими романами, без толку и без разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простым искренним чувством; в нем Татьяна является сама собою:
Я к вам пишу – чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презреньем наказать. Но вы, к моей несчастной доле Хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела; Поверьте: моего стыда Вы не узнали б никогда, Когда б надежду я имела, Хоть редко, хоть в неделю раз В деревне нашей видеть вас, Чтоб только слышать ваши речи, Вам слово молвить, и потом Все думать, думать об одном И день и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим; В глуши, в деревне, все вам скучно, А мы... ничем мы не блестим, Хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья, Я никогда не знала б вас, Не знала б горького мученья. Души неопытной волненья Смирив со временем (как знать?), По сердцу я нашла бы друга, Была бы верная супруга И добродетельная мать.Прекрасны также стихи в конце письма:
. . . . . . . Судьбу мою Отныне я тебе вручаю, Перед тобою слезы лью, Твоей защиты умоляю... Вообрази: я здесь одна, Никто меня не понимает; Рассудок мой изнемогает, И молча гибнуть я должна.Все в письме Татьяны истинно, но не все просто: мы выписали только то, что и истинно и просто вместе. Сочетание простоты с истиною составляет высшую красоту и чувства, и дела, и выражения...
Замечательно, с каким усилием старается поэт оправдать Татьяну за ее решимость написать и послать это письмо: видно, что поэт слишком хорошо знал общество, для которого писал...
Я знал красавиц недоступных, Холодных, чистых, как зима, Неумолимых, неподкупных, Непостижимых для ума; Дивился я их спеси модной, Их добродетели природной, И, признаюсь, от них бежал, И, мнится, с ужасом читал Над их бровями надпись ада: Оставь надежду навсегда. Внушать любовь для них беда, Пугать людей для них отрада. Быть может, на брегах Невы Подобных дам видали вы. Среди поклонников послушных Других причудниц я видал, Самолюбиво равнодушных Для вздохов страстных и похвал. И что ж нашел я с изумленьем? Они, суровым неведеньем Пугая робкую любовь, Ее привлечь умели вновь, По крайней мере сожаленьем, По крайней мере звук речей Казался иногда нежней, И с легковерным ослепленьем Опять любовник молодой Бежит за милой суетой. За что ж виновнее Татьяна? За то ль, что в милой простоте Она не ведает обмана И верит избранной мечте? За то ль, что любит без искусства, Послушная влеченью чувства, Что так доверчива она, Что от небес одарена Воображением мятежным, Умом и волею живой, И своенравной головой, И сердцем пламенным и нежным? Ужели не простите ей Вы легкомыслия страстей? Кокетка судит хладнокровно; Татьяна любит не шутя И предается безусловно Любви, как милое дитя. Не говорит она: отложим — Любви мы цену тем умножим, Вернее в сети заведем; Сперва тщеславие кольнем Надеждой, там недоуменьем Измучим сердце, а потом Ревнивым оживим огнем; А то, скучая наслажденьем, Невольник хитрый из оков Всечасно вырваться готов.Вот еще отрывок из «Онегина», который выключен автором из этой поэмы и особенно напечатан в IX томе собрания его сочинений (стр. 460):
О вы, которые любили Без позволения родных И сердце нежное хранили Для впечатлений молодых, Для радости, для неги сладкой — Девицы! если вам украдкой Случалось тайную печать С письма любезного срывать, Иль робко в дерзостные руки Заветный локон отдавать, Иль даже молча дозволять В минуту горькую разлуки Дрожащий поцелуй любви, В слезах, с волнением в крови, — Не осуждайте безусловно Татьяны ветреной (?!) моей; Не повторяйте хладнокровно Решенья чопорных судей. А вы, о девы без упрека! Которых даже речь порока Страшит сегодня, как змия, — Советую вам то же я. Кто знает? пламенной тоскою Сгорите, может быть, и вы — И завтра легкий суд молвы Припишет модному герою Победы новой торжество: Любви вас ищет божество.Только едва ли найдет, прибавим мы от себя, прозою. Нельзя не жалеть о поэте, который видит себя принужденным таким образом оправдывать свою героиню перед обществом – и в чем же? – в том, что составляет сущность женщины, ее лучшее право на существование – что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом!.. Но еще более нельзя не жалеть об обществе, перед которым поэт видел себя принужденным оправдывать героиню своего романа в том, что она женщина, а не деревяшка, выточенная по подобию женщины. И всего грустнее в этом – то, что перед женщинами в особенности старается он оправдать свою Татьяну... И зато с какою горечью говорит он о наших женщинах везде, где касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости! Как выдается вот эта строфа в первой главе «Онегина»:
Причудницы большого света! Всех прежде вас оставил он. И правда то, что в наши лета Довольно скучен высший тон; Хоть, может быть, иная дама Толкует Сея и Бентама; Но вообще их разговор Несносный, хоть невинный вздор. К тому ж они так непорочны, Так величавы, так умны, Так благочестия полны, Так осмотрительны, так точны, Так неприступны для мужчин, Что вид их уж рождает сплин.Эта строфа невольно приводит нам на память следующие стихи, не вошедшие в поэму и напечатанные особо (т. IX, стр. 190):
Мороз и солнце – чудный день! Но нашим дамам, видно, лень Сойти с крыльца и над Невою Блеснуть холодной красотою: Сидят – напрасно их манит Песком усыпанный гранит. Умна восточная система, И прав обычай стариков: Они родились для гарема Иль для неволи . . . . .Но и на Востоке есть поэзия в жизни, страсть закрадывается и в гаремы... Зато у нас царствует строгая нравственность, по крайней мере внешняя, а за нею иногда бывает такая непоэтическая поэзия жизни, которою, если воспользуется поэт, то, конечно, уж не для поэмы...
Если бы мы вздумали следить за всеми красотами поэмы Пушкина, указывать на все черты высокого художественного мастерства, в таком случае ни нашим выпискам, ни нашей статье не было бы конца. Но мы считаем это излишним, потому что эта поэма давно оценена публикою, и все лучшее в ней у всякого на памяти. Мы предположили себе другую цель: раскрыть по возможности отношение поэмы к обществу, которое она изображает. На этот раз предмет нашей статьи – характер Татьяны, как представительницы русской женщины. И потому пропускаем всю четвертую главу, в которой главное для нас – объяснение Онегина с Татьяною в ответ на ее письмо. Как подействовало на нее это объяснение – понятно: все надежды бедной девушки рушились, и она еще глубже затворилась в себе для внешнего мира. Но разрушенная надежда не погасила в ней пожирающего ее пламени: он начал гореть тем упорнее и напряженнее, чем глуше и безвыходнее. Несчастие дает новую энергию страсти у натур с экзальтированным воображением. Им даже нравится исключительность их положения; они любят свое горе, лелеют свое страдание, дорожат им, может быть, еще больше, нежели сколько дорожили бы они своим счастием, если б оно выпало на их долю... И притом в глухом лесу нашего общества, где бы и скоро ли бы встретила Татьяна другое существо, которое, подобно Онегину, могло бы поразить ее воображение и обратить огонь ее души на другой предмет? Вообще несчастная, неразделенная любовь, которая упорно переживает надежду, есть явление довольно болезненное, причина которого, по слишком редким и, вероятно, чисто физиологическим причинам, едва ли не скрывается в экзальтации фантазии слишком развитой на счет других способностей души. Но как бы то ни было, а страдания, происходящие от фантазии, падают тяжело на сердце и терзают его иногда еще сильнее, нежели страдания, корень которых в самом сердце. Картина глухих, никем не разделенных страданий Татьяны изображена, в пятой главе, с удивительною истиною и простотою. Посещение Татьяною опустелого дома Онегина (в седьмой главе) и чувства, пробужденные в ней этим оставленным жилищем, на всех предметах которого лежал такой резкий отпечаток духа и характера оставившего его хозяина, – принадлежит к лучшим местам поэмы и драгоценнейшим сокровищам русской поэзии. Татьяна не раз повторила это посещение, —
И в молчаливом кабинете, Забыв на время все на свете, Осталась наконец одна, И долго плакала она. Потом за книги принялася. Сперва ей было не до них; Но показался выбор их Ей странен. Чтенью предалася Татьяна жадною душой; И ей открылся мир иной. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И начинает понемногу Моя Татьяна понимать Теперь яснее, слава богу, Того, по ком она вздыхать Осуждена судьбою властной... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ужель загадку разрешила, Ужели слово найдено?..Итак, в Татьяне наконец совершился акт сознания; ум ее проснулся. Она поняла наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви. Но поняла ли она, в чем именно состоят эти другие интересы и страдания, и, если поняла, послужило ли это ей к облегчению ее собственных страданий? Конечно, поняла, но только умом, головою, потому что есть идеи, которые надо пережить и душою и телом, чтоб понять их вполне, и которых нельзя изучить в книге. И потому книжное знакомство с этим новым миром скорбей если и было для Татьяны откровением, это откровение произвело на нее тяжелое, безотрадное и бесплодное впечатление; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотреть на страсти, как на гибель жизни, убедило ее в необходимости покориться действительности, как она есть, и если жить жизнию сердца, то про себя, во глубине своей души, в тиши уединения, во мраке ночи, посвященной тоске и рыданиям. Посещения дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девочки в светскую даму, которое так удивило и поразило Онегина. В предшествовавшей статье мы уже говорили о письме Онегина к Татьяне и о результате всех его страстных посланий к ней.
. . . . . . В одно собранье Он едет; лишь вошел... ему Она навстречу. Как сурова! Его не видит, с ним ни слова; У! как теперь окружена Крещенским холодом она! Как удержать негодованье Уста упрямые хотят! Вперил Онегин зоркий взгляд: Где, где смятенье, состраданье? Где пятна слез?.. Их нет, их нет! На сем лице лишь гнева след... Да, может быть, боязни тайной, Чтоб муж иль свет не угадал Проказы слабости случайной... Всего, что мой Онегин знал...Теперь перейдем прямо к объяснению Татьяны с Онегиным. В этом объяснении все существо Татьяны выразилось вполне. В этом объяснении высказалось все, что составляет сущность русской женщины с глубокою натурою, развитою обществом, – все: и пламенная страсть, и задушевность простого, искреннего чувства, и чистота и святость наивных движений благородной натуры, и резонерство, и оскорбленное самолюбие, и тщеславие добродетелью, под которою замаскирована рабская боязнь общественного мнения, и хитрые силлогизмы ума, светскою моралью парализировавшего великодушные движения сердца... Речь Татьяны начинается упреком, в котором высказывается желание мести за оскорбленное самолюбие:
Онегин, помните ль тот час, Когда в саду, в аллее, нас Судьба свела, и так смиренно Урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была, И я любила вас; и что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ль? Вам была не новость Смиренной девочки любовь? И нынче – боже! – стынет кровь, Как только вспомню взгляд холодной И эту проповедь...В самом деле, Онегин был виноват перед Татьяною в том, что он не полюбил ее тогда, как она была моложе и лучше и любила его! Ведь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность! Вот понятия, заимствованные из плохих сентиментальных романов! Немая деревенская девочка с детскими мечтами – и светская женщина, испытанная жизнию и страданием, обревшая слово для выражения своих чувств и мыслей: какая разница! И все-таки, по мнению Татьяны, она более способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что тогда она была моложе и лучше!.. Как в этом взгляде на вещи видна русская женщина! А этот упрек, что тогда она нашла со стороны Онегина одну суровость? «Вам была не новость смиренной девочки любовь?» Да это уголовное преступление – не подорожить любовию нравственного эмбриона!.. Но за этим упреком тотчас следует и оправдание:
. . . . . . . . . . . . Но вас Я не виню: в тот страшный час Вы поступили благородно, Вы были правы предо мной: Я благодарна всей душой...Основная мысль упреков Татьяны состоит в убеждении, что Онегин потому только не полюбил ее тогда, что в этом не было для него очарования соблазна; а теперь приводит к ее ногам жажда скандалезной славы... Во всем этом так и пробивается страх за свою добродетель...
Тогда – не правда ли? – в пустыне, Вдали от суетной молвы, Я вам не правилась... Что ж ныне Меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ль, что в высшем свете Теперь являться я должна; Что я богата и знатна; Что муж в сраженьях изувечен; Что нас за то ласкает двор? Не потому ль, что мой позор Теперь бы всеми был замечен И мог бы в обществе принесть Вам соблазнительную честь? Я плачу... если вашей Тани Вы не забыли до сих пор, То знайте: колкость вашей брани, Холодный, строгий разговор, Когда б в моей лишь было власти, Я предпочла б обидной страсти И этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам Тогда имели вы хоть жалость, Хоть уважение к летам... А нынче! – что к моим ногам Вас привело? какая малость! Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом?В этих стихах так и слышится трепет за свое доброе имя в большом свете, а в следующих затем представляются неоспоримые доказательства глубочайшего презрения к большому свету... Какое противоречие! И что всего грустнее, то и другое истинно в Татьяне...
А мне, Онегин, пышность эта, Постылой жизни мишура, Мои успехи в вихре света, Мой модный дом и вечера, Что в них? Сейчас отдать я рада Всю эту ветошь маскарада, Весь этот блеск, и шум, и чад За полку книг, за дикий сад, За наше бедное жилище, За те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, Да за смиренное кладбище, Где нынче крест и тень ветвей Над бедной нянею моей...Повторяем: эти слова так же непритворны и искренни, как и предшествовавшие им. Татьяна не любит света и за счастие почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она в свете – его мнение всегда будет ее идолом, и страх его суда всегда будет ее добродетелью...
А счастье было так возможно, Так близко!.. Но судьба моя Уж решена. Неосторожно, Быть может, поступила я: Меня с слезами заклинаний Молила мать; для бедной Тани Все были жребии равны... Я вышла замуж. Вы должны, Я вас прошу, меня оставить; Я знаю: в вашем сердце есть И гордость и прямая честь. Я вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана, Я буду век ему верна.Последние стихи удивительны – подлинно конец венчает дело! Этот ответ мог бы идти в пример классического «высокого» (sublime) наравне с ответом Медеи: moi![15] и старого Горация: qu'il mourût![16] Вот истинная гордость женской добродетели! Но я другому отдана, — именно отдана, а не отдалась! Вечная верность – кому и в чем? Верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовию, в высшей степени безнравственны... Но у нас как-то все это клеится вместе: поэзия – и жизнь, любовь – и брак по расчету, жизнь сердцем – и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренне ежечасно нарушаемых... Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена в жизни сердца; любить – значит для нее жить, а жертвовать – значит любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее... Татьяна невольно напомнила нам Веру в «Герое нашего времени», женщину, слабую по чувству, всегда уступающую ему, и прекрасную, высокую в своей слабости. Правда, женщина поступает безнравственно, принадлежа вдруг двум мужчинам, одного любя, а другого обманывая: против этой истины не может быть никакого спора; но в Вере этот грех выкупается страданием от сознания своей несчастной роли. И как бы могла она поступить решительно в отношении к мужу, когда она видела, что тот, кому она всю себя пожертвовала, принадлежал ей не вполне и, любя ее, все-таки не захотел бы слить с нею свое существование? Слабая женщина, она чувствовала себя под влиянием роковой силы этого человека с демонической натурою и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ее по своей натуре и по характеру, не говоря уже об огромной разнице в художественном изображении этих двух женских лиц: Татьяна – портрет во весь рост; Вера – не больше как силуэт. И, несмотря на то, Вера – больше женщина... но зато и больше исключение, тогда как Татьяна – тип русской женщины... Восторженные идеалисты, изучившие жизнь и женщину по повестям Марлинского, требуют от необыкновенной женщины презрения к общественному мнению. Это ложь: женщина не может презирать общественного мнения, но может им жертвовать скромно, без фраз, без самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятия, которое она берет на себя, повинуясь другому высшему закону – закону своей натуры, а ее натура – любовь и самоотвержение...
Итак, в лице Онегина, Ленского и Татьяны Пушкин изобразил русское общество в одном из фазисов его образования, его развития, и с какою истиною, с какою верностью, как полно и художественно изобразил он его! Мы не говорим о множестве вставочных портретов и силуэтов, вошедших в его поэму и довершающих собою картину русского общества высшего и среднего; не говорим о картинах сельских балов и столичных раутов: все это так известно нашей публике и так давно оценено ею по достоинству... Заметим одно: личность поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такою прекрасною, такою гуманною, но в то же время по преимуществу артистическою. Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса для него – вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование... Вспомните описание семейства Лариных во второй главе и особенно портрет самого Ларина... Это было причиною, что в «Онегине» многое устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из «Онегина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе так быстро развивающейся...
«Онегин» писан был в продолжение нескольких лет, – и потому сам поэт рос вместе с ним, и каждая новая глава поэмы была интереснее и зрелее. Но последние две главы резко отделяются от первых шести: они явно принадлежат уже к высшей, зрелой эпохе художественного развития поэта. О красоте отдельных мест нельзя наговориться довольно, притом же их так много! К лучшим принадлежат: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онегина с Ленским и весь конец шестой главы. В последних двух главах мы и не знаем, что хвалить особенно, потому что в них все превосходно; но первая половина седьмой главы (описание весны, воспоминание о Ленском, посещение Татьяною дома Онегина) как-то особенно выдается из всего глубокостию грустного чувства и дивно-прекрасными стихами... Отступления, делаемые поэтом от рассказа, обращения его к самому себе исполнены необыкновенной грации, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта в них является такою любящею, такою гуманною. В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества! «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением. Удивительно ли, что эта поэма была принята с таким восторгом публикою и имела такое огромное влияние и на современную ей и на последующую русскую литературу? А ее влияние на нравы общества? Она была актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него!.. Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным... Пусть идет время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет «Онегина»: как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор... Эти строфы, которые так и просятся в заключение нашей статьи, своим непосредственным впечатлением на душу читателя лучше нас выскажут то, что бы хотелось нам высказать:
Увы! на жизненных браздах Мгновенной жатвой поколенья, По тайной воле провиденья, Восходят, зреют и падут; Другие им вослед идут... Так наше ветреное племя Растет, волнуется, кипит И к гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, И наши внуки в добрый час Из мира вытеснят и нас! Покамест упивайтесь ею, Сей легкой жизнию, друзья! Ее ничтожность разумею И к ней привязан мало я; Для призраков закрыл я вежды; Но отдаленные надежды Тревожат сердце иногда: Без неприметного следа Мне было б грустно мир оставить, Живу, пишу не для похвал; Но я бы, кажется, желал Печальный жребий свой прославить, Чтоб обо мне, как верный друг, Напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет; И, сохраненная судьбой, Быть может, в Лете не потонет Строфа, слагаемая мной; Быть может, – лестная надежда! — Укажет будущий невежда На мой прославленный портрет И молвит: то-то был поэт! Прими ж мое благодаренье, Поклонник мирных аонид, О ты, чья память сохранит Мои летучие творенья, Чья благосклонная рука Потреплет лавры старика!К. С. Аксаков (1817—1860)
Родился в с. Ново-Аксаково Оренбургской губернии. Старший сын писателя С. Т. Аксакова, брат поэта, филолога и публициста И. С. Аксакова. Детство прошло в Оренбуржье и Башкирии, в местах, воспетых его отцом в повестях «Детские годы Багрова-внука» и «Семейные хроники». Учился в Московском университете. Начинал как поэт. Вместе с Белинским входил в кружок Н. В. Станкевича. Увлекался немецкой философией.
В начале сороковых годов стал одним из основателей течения славянофильства, первые черты которого заметны в публикуемой ниже статье о Гоголе, вызвавшей резкую критику Белинского, который не принял мнения Аксакова о «Мертвых душах» как о «древнем, гомеровском эпосе». В дальнейшем братья Аксаковы, Константин и Иван, были одними из главных оппозиционеров направлению русского западничества, которое связывали непосредственно с Белинским.
Как личность Константин Аксаков отличался крайней оригинальностью. С 1843 года в знак протеста против запрета Петром I национальной русской одежды он демонстративно появлялся на московских улицах в красной рубахе, древнерусском зипуне и шапке «мурмолке», чем вызвал не только ядовитую критику «западников» Белинского и Тургенева, но и серьезный гнев в правительственных верхах, в конце концов запретивших дворянину Аксакову одеваться таким образом.
Именно Константин Аксаков заложил основы славянофильской критики, снискав себе славу «Белинского славянофильства» (С. А. Венгеров). Его статьи о русской народной эстетике, о древнем славянском быте и в целом о духовном содержании национальной жизни сохранили свое значение до наших дней.
Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова, или Мертвые души»
Мы нисколько не берем на себя важного труда отдать отчет в этом новом великом произведении Гоголя, уже ставшего высоко предыдущими созданиями; мы считаем нужным сказать несколько слов, чтобы указать на точку зрения, с какой, нам кажется, надобно смотреть на его поэму.
Многим, если почти не всякому, должна показаться странною его поэма; явление ее так важно, так глубоко и вместе так ново-неожиданно, что она не может быть доступною с первого раза. Эстетическое чувство давно уже не испытывало такого рода впечатления, мир искусства давно не видал такого создания, – и недоумение должно было быть у многих, если не у всех, первым, хотя и минутным, ощущением: мы говорим о людях, более или менее одаренных чувством изящного.
Так, глубоко значение, являющееся нам в «Мертвых душах» Гоголя! Пред нами возникает новый характер создания, является оправдание целой сферы поэзии, сферы, давно унижаемой; древний эпос восстает пред нами. Объяснимся.
Древний эпос, основанный на глубоком простом созерцании, обнимал собою целый определенный мир во всей неразрывной связи его явлений; и в нем, при этом созерцании, все обхватывающем, столь зорком и все видящем, представляются все образы природы и человека, заключенные в созерцаемом мире, и, – соединенные чудно, глубоко и истинно, шумят волны, несется корабль, враждуют и действуют люди; ни одно явление не выпадает и всякое занимает свое место; на все устремлен художнический, ровный и спокойный, бесстрастный взор, переносящий в область искусства всякий предмет с его правами и, чудным творчеством, переносящий его туда, каждый, с полною тайною его жизни: будь это человек великий, или море, или шум дождя, бьющего по листьям. Всемирно-исторический интерес, великое событие, эпоха становится содержанием эпоса; единство духа – та внутренняя связь, которая связует все его явления. (Мы говорим здесь про этот элемент эпоса, про необходимый объективный его характер, не входя подробно в разбор его: дальнейшему развитию не противоречат слова наши.) Этот древний эпос, перенесенный из Греции на Запад, мелел постепенно; созерцание изменялось и перешло в описание и вместе в украшение; мало-помалу бледнели фальшивые краски, более и более выдвигалось то, что и без помощи их, и само по себе имеет интерес – голое событие, которое в таком виде (т<<о>> е<<есть>> как голое событие) или, будучи историческим, должно быть отнесено к истории, или, будучи частным, сделаться анекдотом про себя. История укрыла наконец свои великие события от недостойного уже взора, столько раз их оскорблявшего; людям самим стало смешно, и они отошли от истории: название поэмы сделалось укорительно-насмешливым именем. Все более и более выдвигалось происшествие, уже мелкое и мелеющее с каждым шагом, и наконец сосредоточило на себе все внимание, весь интерес устремился на происшествие, на анекдот, который становился хитрее, замысловатее, занимал любопытство, заменившее эстетическое наслаждение; так снизошел эпос до романов и, наконец, до крайней степени своего унижения, до французской повести. Мы потеряли, мы забыли эпическое наслаждение; наш интерес сделался интересом интриги, завязки: чем кончится, как объяснится такая-то запутанность, что из этого выйдет? Загадка, шарада стала наконец нашим интересом, содержанием эпической сферы, повестей и романов, унизивших и унижающих, за исключением светлых мест, древний эпический характер[17].
И вдруг среди этого времени возникает древний эпос с своею глубиною и простым величием – является поэма Гоголя. Тот же глубокопроникающий и всевидящий эпический взор, то же всеобъемлющее эпическое созерцание. Как понятно, что мы, избалованные в нашем эстетическом чувстве в продолжении веков, мы с недоумением, не понимая, смотрим сначала на это явление, мы ищем: в чем же дело, перебираем листы, желая видеть анекдот, спешим добраться до нити завязки романа, увидеть уже знакомого незнакомца, таинственную, часто понятную, загадку, думаем, нет ли здесь, в этом большом сочинении, какой-нибудь интриги помудреннее; – но на это на все молчит его поэма; она представляет вам целую сферу жизни, целый мир, где опять, как у Гомера, свободно шумят и блещут воды, всходит солнце, красуется вся природа и живет человек, – мир, являющий нам глубокое целое, глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни, связующий единым духом все свои явления. Но нам не того надо: нам нужно внешнего содержания, анекдота, шарады, – и дичится давно избалованное эстетическое чувство, как ребенок, которого сажают за дело. В поэме Гоголя является нам тот древний, гомеровский эпос; в ней возникает вновь его важный характер, его достоинство и широкообъемлющий размер. Мы знаем, как дико зазвучат во многих ушах имена Гомера и Гоголя, поставленные рядом; но пусть прижимают, как котят, сказанное нами теперь твердым голосом; впрочем, мы хотим предупредить здесь одно недоразумение: только неблагонамеренные люди могут сказать, что мы «Мертвые души» называем «Илиадой»; мы не то говорим: мы видим разницу в содержании поэм; в «Илиаде» является Греция со своим миром, со своею эпохою и, следовательно, содержание само уже кладет здесь разницу[18]; конечно, «Илиада» именно, эпос, так исключительно некогда обнявший все, не может повториться; но эпическое созерцание, это говорим мы прямо, эпическое созерцание Гоголя – древнее, истинное, то же, какое и у Гомера; и только у одного Гоголя видим мы это созерцание, только он обладает им, только с Гоголем, у него, из-под его творческой руки восстает, наконец, древний, истинный эпос, надолго оставлявший мир, – самобытный, полный вечно свежей, спокойной жизни, без всякого излишества. Чудное, чудное явление! К новому художественному наслаждению призывает оно нас, новое глубокое чувство изящного современно будит оно в нас, и невольно открывается впереди прекрасная даль.
Такое-то явление видим мы в поэме Гоголя «Мертвые души». Вот точка зрения, с которой должны мы смотреть на Гоголево произведение, как нам кажется. Пред нами, в этом произведении, предстает, как мы уже сказали, чистый, истинный, древний эпос, чудным образом возникший в России; предстает он пред нами, затемненными целым бесчисленным множеством романов и повестей, давно отвыкшими от эпического наслаждения. Какие новые струны наслаждения искусством разбудил в нас он! Разумеется, этот эпос, эпос древности, являющийся в поэме Гоголя «Мертвые души», есть в то же время явление в высшей степени свободное и современное. Полнейшее объяснение, как, каким образом мог он возникнуть именно у нас и что знаменует, какое значение имеет его явление вообще и в целом мире искусства; это, разумеется, длинное объяснение – до другого раза, а теперь прибавим несколько замечаний, которые будут служить подтверждением нами сказанного.
Некоторым может показаться странным, что лица у Гоголя сменяются без особенной причины; это им скучно; но основание упрека лежит опять в избалованности эстетического чувства, у кого оно есть. Именно эпическое созерцание допускает это спокойное появление одного лица за другим, без внешней связи, тогда как один мир объемлет их, связуя их глубоко и неразрывно единством внутренним. Конечно, мы понимаем, что интрига со всею путаницей менее заставляет двигнуться всем внутренним силам человека, менее, несравненно менее глубоко заставляет его, если только он может, почувствовать, принять впечатление; интрига, анекдот занимают любопытство и до такой степени унизили эпос в романах и повестях, что не нужно эстетического чувства, чтоб понимать их, интересоваться ими: это может всякий любопытный недурак; а охотнее человек принимается за то, что легче, что не требует большого напряжения внутренних его сил. Какая же интрига между тем, какая завязка в «Илиаде»? происшествие все в двух словах и открыто; какая завязка, интрига в божием мире, полном жизни и единства?[19] В поэме Гоголя явления идут одни за другими, спокойно сменяя друг друга, объемлемые великим эпическим созерцанием, открывающим целый мир, стройно предстающий со своим внутренним содержанием и единством, со своею тайною жизни. Одним словом, как мы уже сказали и повторяем: древний, важный эпос является в своем величавом течении.
И точно, созерцание Гоголя таково (не говоря вообще о его характере), что предмет является у него, не теряя нисколько ни одного из прав своих, является с тайною своей жизни, одному Гоголю доступною; его рука переносит в мир искусства предмет, не измяв его нисколько; нет, свободно живет он там, еще выше поставленный; не видать на нем следов его перенесшей руки, и поэтому узнаешь ее. Всякая вещь, которая существует, уже по этому самому имеет жизнь, интерес жизни, как бы мелка она ни была, но постижение этого доступно только такому художнику, как Гоголь; и в самом деле: все, и муха, надоедающая Чичикову, и собаки, и дождь, и лошади от заседателя до чубарого, и даже бричка – все это, со всею своею тайною жизни, им постигнуто и перенесено в мир искусства (разумеется, творчески, создано, а не описано, боже сохрани; всякое описание скользит только по поверхности предмета); и опять, только у Гомера можно найти такое творчество.
Интерес, разумеется, есть; но не интерес анекдота, занимающий в романах и повестях; интерес эпоса, поэмы. Я думаю, ясно, какой это интерес после того, что мы говорили о самом эпосе. Прочтя первую часть, чувствуешь необходимость второй, чувствуешь живой интерес, но совсем не потому, чтобы узнать, как разгадается такая-то загадка, как распутается такая-то интрига; занимает не то, как разрешится такое-то происшествие, но то, как разрешится самый эпос, как явится и предстанет полное все создание, как разовьется мир, пред нами являющийся, мир, носящий в себе глубокое содержание, тем более что, по словам Гоголя, раздвинуться должна широкая повесть.
Какой смысл получает теперь, после всего, нами сказанного, название поэмы, стоящее в заглавии книги! Да, это поэма, и это название вам доказывает, что автор понимал, что производил; понимал всю великость и важность своего дела.
Если сказать несколько слов о самом произведении, то первый вопрос, который нам бы сделали, будет: какое содержание? Мы сказали, что здесь нечего искать содержания романов и повестей; это поэма, и, разумеется, в ней лежит содержание поэмы. Итак, нас могут спросить, что же в ней заключается, что, какой мир объемлет собою поэма? – Хотя это только первая часть, хотя это еще начало реки, дальнейшее течение которой бог знает куда приведет нас и какие явления представит, – но мы, по крайней мере, можем, имеем даже право думать, что в этой поэме обхватывается широко Русь, и уж не тайна ли русской жизни лежит, заключенная в ней, не выговорится ли она здесь художественно? – Не входя подробно в раскрытие первой части, в которой во всей, разумеется, лежит одно содержание, мы можем указать, по крайней мере, на ее окончание, так чудно, так естественно вытекающее. Чичиков едет в бричке, на тройке; тройка понеслась шибко, и кто бы ни был Чичиков, хоть он и плутоватый человек, и хоть многие и совершенно будут против него, но он был русский, он любил скорую езду, – и здесь тотчас это общее народное чувство, возникнув, связало его с целым народом, скрыло его, так сказать; здесь Чичиков, тоже русский, исчезает, поглощается, сливаясь с народом в этом общем всему ему чувстве. Пыль от дороги поднялась и скрыла его; не видать, кто скачет, – видна одна несущаяся тройка. И когда здесь, в конце первой части, коснулся Гоголь общего субстанциального чувства русского, то вся сущность (субстанция) русского народа, тронутая им, поднялась колоссально, сохраняя свою связь с образом, ее возбудившим. Здесь проникает наружу и видится Русь, лежащая, думаем мы, тайным содержанием всей его поэмы. И какие эти строки, что дышит в них! и как, несмотря на мелочность предыдущих лиц и отношений на Руси, – как могущественно выразилось то, что лежит в глубине, то сильное, субстанциальное, вечное, не исключаемое нисколько предыдущим. Это дивное окончание, повершающее первую часть, так глубоко связанное со всем предыдущим и которое многим покажется противоречием, – каким чудным звуком наполняет оно грудь, как глубоко возбуждаются все силы жизни, которую чувствуешь в себе разлитою вдохновенно по всему существу.
Указывать ли на места? Но без полного созерцания это значит вырывать их. Все, от начала до конца, – полно одной неослабной, неустающей, живой жизни, той жизни, которою живет предмет, перенесенный весь и свободно без малейшей утраты в область искусства; жизнь всюду, в каждой строке, и потому медленно надо читать Гоголя; содержание предлагается в каждом слове, каждая глава много, много наполнит человека, и изящное его чувство много, много насладится; нечего бояться потерять из виду внешнюю связь происшествия: здесь нечего сшивать в памяти, как бы ниткою, обстоятельства, как мы делаем это во многих повестях и романах, где часто разыгрываем роль судей, посланных на следствие; но здесь не то, здесь нечего бояться за память, нечего бояться потерять единство: оно не внешнее, оно всегда тут; связует не наружно, но внутренне все предметы между собою; все оживлено одним духом, глубоко лежащим внутри и являющимся в гармоническом разнообразии, как в божием мире. Мы не можем не сказать, что есть места, наиболее открывающие сущность вещи и дух самого автора; кто читал их, верно, помнит эти вдохновенные, торжественные места; мы же не хотели и не станем входить в подробности, ограничивая статью нашу только несколькими словами, общим взглядом и отдельными замечаниями[20].
Вероятно, некоторые станут нападать на слог, но тут будет совершенная ошибка; слог Гоголя не образцовый, и слава богу; это был бы недостаток. Нет, слог у Гоголя составляет часть его создания; он подлежит тому же акту творчества, той же образующей руке, которая вместе дает и ему формы, и самому произведению, и потому слога нельзя у него отделить от его создания, и он в высшей степени хорош (мы не говорим о частностях и безделицах). Это наша вина, если мы не вдруг его постигаем; если можно не вдруг понять красоту произведения, то также не вдруг понять и слог и оборот, вполне выражающий, что надо; пора перестать смотреть на слог, как на какое-то платье, сшитое известным и общим для всех образом, в которое всякий должен точно рядить свои мысли; напротив, слог не красная, не шитая вещь, не платье; он жив, в нем играет жизнь языка его, и не заученные формулы и приемы, а только дух сливает его с мыслью; тем более слог языка русского, имеющего в себе неиссякаемые источники сил, бездну едва уловимых оттенков и совершенно свободный, но не произвольный, синтаксис. Надобно только постичь дух и законы языка, и Гоголь постиг это своим творческим гением.
В «Мертвых душах» мы находим одну особенность, о которой мы не можем умолчать, которая невольно выдается и невольно приводит нам на мысль «Илиаду». Это тогда, когда встречаются сравнения; сравнивая, Гоголь совершенно предается предмету, с которым сравнивает, оставляя на время тот, который навел его на сравнение; он говорит, пока не исчерпает весь предмет, приведенный ему в голову. Всякий, кто читал «Илиаду», верно, вспомнит Гомера, читая сравнения Гоголя; вспомнит, как Гомер, тоже оставляя сравниваемый предмет, предается тому, с которым сравнивает; и это нас всегда невольно останавливало даже и у Гомера: потому, что мы далеко отодвинуты от полного эпического созерцания; но этот характер сравнения необходим при всеобъемлющем эпическом взгляде; у поэта-эпика не может быть намеков, он не может просто указать на предмет и удовольствоваться; нет, взор его видит его вполне, со всею его жизнью, в которой находит сродство с жизнию повествуемого предмета, и взгляд его объемлет его вполне, и он вполне, независимо, самобытно, не утрачивая сколько-нибудь своей жизни, потому что он взят как сравнение, предстает перед читателем. Если мы останавливаемся при таких местах и смущаемся, то ошибаемся мы; не просветлело еще наше эстетическое чувство, не вполне раскрылось оно, чтобы обнять создание.
Общий характер лиц Гоголя тот, что ни одно из них не имеет ни тени односторонности, ни тени отвлеченности, и какой бы характер в нем ни высказывался, это всегда полное, живое лицо, а не отвлеченное качество (как бывает у других, так что над одним напиши: скупость, над другим: вероломство, над третьим: верность и т. д.); нет, все стороны, все движения души, какие могут быть у какого бы то ни было лица, все не пропущены его взором, видящим полноту жизни; он не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного человеческого движения; все воображены в полноте жизни; на какой бы низкой степени ни стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образу и подобию божию. Это видишь во всех его сочинениях. Вспомним Ивана Федоровича Шпоньку: человек, кажется, пустой в высшей степени, дурачок, большею частию лежащий на кровати, скинувши мундир; вспомним, как он, приехавши в свою деревню, выехал на сенокос: на него действует природа, он соединен с нею, тут он чувствует, но чувство выказалось в нем столько, сколько должно и могло выказаться. Говорить ли о «Старосветских помещиках», в которых столько глубоко человеческое значение открыл взор Гоголя, там, где другие увидели бы только пошлость и животность; он открыл и проложил путь сочувствию человеческому и к этим людям и к этой жизни. В «Мертвых душах» видим то же. Например, Манилов, при всей своей пустоте и приторной сладости имеющий свою ограниченную, маленькую жизнь, но все же жизнь, – и без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием, смотришь, как он стоит на крыльце, куря свою трубку, а в голове его и бог знает что воображается, и это тянется до самого вечера. Или Плюшкин, скупец, но за которым лежат иначе проведенные годы, который естественно и необходимо развился до своей скупости; вспомните то место, когда прежняя жизнь проснулась в нем, тронутая воспоминанием, и на его старом, безжизненном лице мелькнуло выражение чувства. Одним словом: везде у Гоголя такое совершенное отсутствие всякой отвлеченности, такая всесторонность, истина и вместе такая полнота жизни, не теряющей ни малейшей частицы своей от явлений природы: мухи, дождя, листьев и пр. до человека, – какая составляет тайну искусства, открывающуюся очень, очень немногим.
В самом деле, у кого встретим мы такую полноту, такую конкретность создания (отчего не употребить этого слова)? Скажем здесь, не обинуясь, наше мнение. Да, очень у немногих: только у Гомера и Шекспира встречаем мы то же; только Гомер, Шекспир и Гоголь обладают этою тайною искусства. Опять неблагонамеренные люди скажут, что мы ставим Гоголя совершенно рядом с Гомером и Шекспиром; но мы опять устраним недоразумение: Гоголь не сделал того теперь (кто знает, что будет вперед?), что сделали Гомер и Шекспир, и потому, в отношении к объему творческой деятельности, к содержанию ее, мы не говорим, что Гоголь то же самое, что Гомер и Шекспир; но в отношении к акту творчества, в отношении к полноте самого создания – Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира, ставим мы рядом с Гоголем. Мы далеки от того, чтобы унижать колоссальность других поэтов, но, в отношении к акту создания, они ниже Гоголя. Разве не может быть так, например: поэт, обладающий полнотою творчества, может создать, положим, цветок, но во всем его совершенстве, во всей свободе его жизни; другой создаст великого человека, взявши большее содержание, но только наметит его общими чертами; велико будет дело последнего, но оно будет ниже в отношении к той полноте и живости, какую дает поэт, обладающий тайною творчества. Итак, этим сравнением (хотя вообще сравнения объясняют неполно, но чтобы не писать длинной статьи) надеемся мы пояснить наши слова: в отношении к акту творчества. Но боже нас сохрани, чтобы миниатюрное сравнение с цветком было в наших глазах мерилом для великих созданий Гоголя: мы хотим только сказать, что он обладает тою же тайною, какою обладали Шекспир и Гомер, и только они; что он совершит еще, имея ее, после того, что он уже сделал, – будущее покажет; но он уже много сделал, и уже наконец является великая поэма, так много нам с собой принесшая.
Итак, повторим наши слова, как бы они странны ни казались: только у Гомера и Шекспира можем мы встретить такую полноту созданий, как у Гоголя; только Гомер, Шекспир и Гоголь обладают великою, одною и тою же тайною искусства. И потому велико всякое создание Гоголя, и мы с наслаждением смотрим на его творческую деятельность, так могущественно идущую вперед и уже так много нам давшую. Кроме его художественных повестей, которые так знакомы всякому образованному русскому, кроме всего остального, он дал нам комедию, истинную комедию, какой нигде нет; он дает нам поэму; он может дать нам трагедию.
Мы знаем, многим покажутся странными слова наши; но мы просим в них вникнуть. Что касается до мнения петербургских журналов, очень известно, что они подумают (впрочем, исключая, может быть, «О<<течественные>> з<<аписки>>«, которые хвалят Гоголя); но не о петербургских журналистах говорим мы; напротив, мы о них и не говорим; разве в Петербурге может существовать круг их деятельности!..
Еще одно важное обстоятельство сопряжено с явлением Гоголя: он из Малороссии. Глубоко в ней лежащий художественный ее характер высказывается в ее многочисленных, мягких звуками песнях, живых и нежных, округленных в своих размерах; не таков характер великорусской песни. Но Малороссия – живая часть России, созданной могущественным великорусским духом; под его сению может она явить свой характер и войти, как живой элемент, в общую жизнь Руси, объемлющей равно все свои составы и не называющейся Великоруссиею (так бы она удержалась в своей односторонности, и прочие части относились бы к ней, как побежденные к победителю), но уже Россиею. Разумеется, единство вытекло из великорусского элемента; им дан общий характер; за ним честь создания; при широком его размере свободно может развиться все, всякая сторона, – и он сохранил свое законное господство, как законно господство головы в живом человеческом теле; но все тело носит название человека, а не головы; так и Россия зовется Россией, а не Великоруссией. Разумеется, только пишучи по-русски (т<<о>> е<<сть>> по-великорусски), может явиться поэт из Малороссии; только русским может и должен явиться он, будучи таким же гражданином общей всем России, с собою принося ей свой собственный элемент и новую жизнь вливая в ее члены. Теперь, с Гоголем, обозначился художественный характер Малороссии из ее прекрасных малороссийских песен, ее прекрасного художественного начала, возник, наконец, уже русский гений, когда общая жизнь государства обняла все свои члены и дала ему обнаружиться в колоссальном объеме; новый элемент искусства втек широко в жизнь искусства в России. Гоголь, принесший нам этот новый элемент, который возник из страны, важнейшей составной части многообъемлющего отечества, и следовательно, так много выразивший, оправдавший (не в смысле: извинивший, но объяснивший) эту страну, Гоголь – русский, вполне русский, и это наиболее видно в его поэме, где содержание Руси, всей Руси занимает его, и вся она, как одно исполинское целое, колоссально является ему. Итак, важно это явление малороссийского элемента уже русским, живым элементом общерусской жизни, при законном преимуществе великорусского. Вместе с тем элемент малороссийского языка прекрасно внесен Гоголем в наш русский.
А великорусская песня! песня русская, как называется она, и справедливо: ибо стало это племя не имеет односторонности, когда могло создать все государство и слить во живое едино все, с первого взгляда разнородные, враждующие члены; имя: «Русский» осталось за ним и вместе за Россией. Когда хотят говорить отдельно о действиях других племен, то придают им их племенное имя, потому что, отдельно взятые, они представляют, каждое, односторонность, от которой освобождаются, становясь русскими, с помощью великорусского элемента. А великорусское племя, следовательно, не имело этой односторонности или уничтожило ее самобытно, в своей собственной жизни, когда создало целое государство и дало в нем развиться свободно всем частям. Итак, имя «русский» слилось с этим племенем, духом которого живет и движется государство; название: русская песня осталось преимущественно, и по праву, за песнею великорусскою. А русская песня, которую так часто вспоминает Гоголь в своей поэме, русская песня! Что лежит в ней? Как широк напев ее! Кажется, дух и образ великого, могучего пространства, о котором так прекрасно говорит Гоголь, лежит в ней. Нет ей конца, бесконечная песня, как называет ее он же. В самом деле, нельзя сказать, что русская песня оканчивается; она не оканчивается, но уносится. Когда слушаешь, как широкие волны звуков раздаются слабее и слабее и наконец затихают так, что слух едва ловит последние звуки русской песни – нет, она не кончилась, она унеслась, удалилась только и где-то поется, вечно поется.
Москва, июня 16, 1842
П. А. Вяземский (1792—1878)
Родился в Москве в родовитой дворянской семье, ведущей свое начало от Рюрика и Мономаха. Родственник историка и писателя Н. М. Карамзина, который заботился о юноше Вяземском после смерти его отца. Учился в петербургском иезуитском пансионе, брал частные уроки у профессоров Московского университета. Служил чиновником в Межевой канцелярии.
В литературу вошел как поэт-сентименталист, представитель «карамзинского» направления в русской словесности. Вместе с Батюшковым, Жуковским, Василием Пушкиным (дядя А. С. Пушкина) основал литературный кружок «Арзамас». Старший товарищ А. С. Пушкина, вместе с которым сотрудничал в «Литературной газете» А. И. Дельвига как острый и непримиримый критик и публицист.
Эстетические и политические симпатии Вяземского отличались одновременно и крайним аристократизмом, и последовательным либерализмом (конституционная монархия, просвещение народа, отмена крепостного права). В поздние годы он стремительно продвигался по линии государственной службы (сенатор, товарищ министра просвещения, член Государственного совета). Но в это же время его литературные мнения отличались горьким разочарованием и пессимизмом. Он не принял новых веяний в литературе, связанных с именами Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, продолжая исповедовать идеалы карамзинско-пушкинской эпохи.
Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина
<<...>>
III
В последнее десятилетие литература наша как будто осиротела.
Лермонтов имел великое дарование, но он не успел, а может быть, и не умел вполне обозначить себя. Лермонтов держался до конца поэтических приемов, которыми Пушкин ознаменовал себя при начале своем и которыми увлекал за собою толпу, всегда впечатлительную и всегда легкомысленную. Он не шел вперед. Лира его не звучала новыми струнами. Поэтический горизонт его не расширялся. Лермонтов остался русским и слабым осколком Байрона. Пушкин умел выродить из себя самобытного и настоящего Пушкина.
Пушкин мог иногда увлекаться суетными побуждениями, страстями, более привитыми, чем, так сказать, самородными; но ум его, в нормальном положении, был чрезвычайно ясен, трезв и здрав. При всех своих уклонениях, он хорошо понимал истину и выражал ее. С этой точки зрения он мог уподобляться тем дням, в которые, при сильных порывах ветра и при волнении в нижних слоях атмосферы, безоблачное небо остается спокойным и светлым. В Лермонтове не было, или еще не было, этой невозмутимой ясности, которая способствует поэту верно воспринимать внешние впечатления и так же верно отражать их на других. Бури Пушкина были бури внутренние, бури Лермонтова – более внешние, театральные, заимствованные и, так сказать, заказные, то есть он сам заказывал их себе. В природе Лермонтова не было всеобъемлемости и разнообразия природы Пушкина. В том и другом была в высшей степени развита поэтическая впечатлительность, восприимчивость и раздражительность, доходящая до болезненности; может быть, сближались они и в высоком художественном чувстве. Но в одном из них не было той творческой силы, того глубокого и проницательного взгляда, бесстрастия и равновесия, которые так сильно выказались в некоторых из творений другого поэта. В созданиях Пушкина отражается живой и целый мир. В созданиях Лермонтова красуется пред вами мир театральный с своими кулисами и суфлером, который сидит в будке своей и подсказывает речь, благозвучно и увлекательно повторяемую мастерским художником.
Как бы то ни было, преждевременный конец Лермонтова оставляет неразрешенным вопрос: мог ли бы он со временем заместить Пушкина вполне? По моему мнению: вероятно, нет. Оно может быть и ошибочно, – не спорю; но, по крайнему разумению моему, я указал на причины, которые никогда не дали бы Лермонтову достигнуть высоты, занятой Пушкиным.
IV
Не позволю себе и вовсе не желаю оскорбить ничье самолюбие. Охотно и с полным сознанием скажу, что и после Пушкина встречаются у нас дарования: святое место не совсем опустело. Но ссылаюсь на добросовестное решение и единомышленников, и противников наших в деле литературном и спрошу их: выдается ли в наше время личность, облеченная, по высокому дарованию своему, властью законною и, так сказать, державною, пред которою преклоняются и соискатели власти и большинство грамотного народонаселения? Единогласным ответом будет: нет! О властях незаконных, о самозванцах, как бы они удачно и блистательно ни разыгрывали роли своей, мы пока говорить не будем.
Ныне более заботятся о переломке старого, нежели о воздвижении нового: на это сил не хватает. Переломки, перестройки могут быть иногда допущены, даже иногда полезны. Но при этом нужны зодчие, которые сооружали бы новые здания на место разрушенных. Одним ломом в руке можно повалить кремлевскую стену, но не выстроишь ни одной лачуги. На развалинах завестись домиком и хозяйничать трудно. При этой литературной ломке мы словно кочуем, а оседлости не имеем. Ныне учение, правила, образцы, созданные авторитетами, частью ниспровергнуты, а сами авторитеты поколеблены и сбиты с места. Анархия вторглась даже в установленное правописание. Кто раньше встал да перо взял, тот и коверкает все по-своему. А на всякое коверканье сыщется много подражателей и помощников. Каждый хочет отличиться своею импровизированною наугад орфографиею. Каждый спешит внести свой кирпичик в это новое вавилонское столпотворение. Русский язык, правописание его пестрят так, что в глазах зарябит. Как будто коренные начала, основы языка уже не положены и не освящены именами: Ломоносова, Карамзина, Пушкина. Они писали не наобум, а обдумывали, взвешивали каждое слово, чуть ли не каждую букву, отдавая себе ясный отчет в каждом движении пера.
Когда Карамзин писал свое последнее стихотворение: «Освобождение Европы», 1814 г., он прочел мне следующие стихи:
Как трудно общество создать! Оно устроилось веками; Гораздо легче разрушать Безумцу с дерзкими руками, —и спросил меня, как, по-моему, лучше сказать: «безумцу дерзкими руками» или «с дерзкими руками»? Я указал на первый оборот. Нет, – отвечал он, – второе выражение живее и изобразительнее. – Так оно и есть. Частица с олицетворяет безумца. Вообще, за весьма редкими исключениями, нововведение в правописание признак или тщеславия, гоньбы за пустым отличием или, что почти то же, признак умничанья, чтобы не сказать глупости. Благоразумнее держаться обычая, если он даже и не совершенно правилен. Новая речь наша также испещряется нередко заимствованием чужеязычных слов, вовсе не нужных нам и имеющих на нашем языке слова им соответственные. Карамзина упрекали в излишестве галлицизмов. Но в сравнении с нынешними галломанами он едва ли не другой Шишков, старовер старого слога. Дмитриев говорит, что новые писатели учатся русскому языку у лабазников. В этом отношении виноват немного и Пушкин. Он советовал прислушиваться речи просфирней и старых няней. Конечно, от них можно позаимствовать некоторые народные обороты и выражения, выведенные из употребления в письменном языке к ущербу языка; но притом наслушаешься и много безграмотности. Нужно иметь тонкое и разборчивое ухо Пушкина, чтобы удержать то, что следует, и пропустить мимо то, что не годится. Но не каждый одарен, как он, подобным слухом. Впрочем, он сам мало пользовался преподаваемым им советом. Он не любил щеголять во что бы ни стало простонародным наречием. Уменье употреблять слова в прямом и верном значении их, так, а не иначе, кстати, а не так, как попало, уменье, по-видимому, очень не головоломное, есть тайна, известная одним избранным писателям: иные прилагательные слова вовсе не идут к иным существительным. Французы говорят про эти дикие сочетания: des mots qui hurlent de se trouver ensemble, – слова, которые воют при совокуплении их. У нас с некоторого времени раздается этот вой.
V
Пора сделать нам нужную оговорку. Мы доселе судили о чистой, так называемой изящной литературе. На нее одну падают наши замечания. Между тем по справедливости должно сказать, что по другим отделениям письменная деятельность оказывает у нас несомненные успехи. Собственно наука идет вперед. По разным отраслям ее издаются книги весьма замечательные. Духовная словесность, которая доныне принимала слабое участие в общем движении, пробудила современное внимание многими трудами не только в отношении нравственно-религиозном, но и в отношении историческом и богословском. Официальная, правительственная литература никогда не была так полна жизни, как ныне. Правительство раскрывает любознанию свои богатые запасы. Статистика, политическая экономия, дипломатика выходят на божий свет из государственных тайников, в которых они долго скрывались. Отечественная история обогатилась многими исследованиями и отдельными сочинениями. Их так много, мнения так различны и противоположны, что можно разве опасаться одного, чтобы излишними пояснениями не затемнили дела. Можно опасаться, чтобы грудами материалов не загромоздили уже пробитой дороги. Много представлено новых смет и планов. В ожидании устройства новой дороги отвлекают от прежней. За спорами дело стало. Карамзин, не мудрствуя лукаво, провел русскую историю широкими путями провидения. Многие, которым показалось, что этот способ слишком прост, силятся провести ее сквозь иглиные уши особых систем. В молодежи эти попытки понятны. Самонадеянность и алчность новизны неизменные, а в некотором отношении и похвальные свойства молодого поколения в деле жизни и науки. Узнав, что Пушкин пишет в деревне своей трагедию: «Борис Годунов», я просил его сказать мне несколько слов о плане, который он предначертал себе. «Мой план, – отвечал он, – весь находится в X и XI томах „Истории“ Карамзина». Почти то же сказал он и в посвящении труда своего памяти историографа. Некоторые критики ставят ему это в порок. Мы находим в этом новое свидетельство зрелости и ясности поэтических понятий Пушкина. Если кто спросил бы Карамзина, когда готовился он писать «Историю»: какому плану намерен он следовать? он мог бы отвечать с таким же чистосердечием и глубокою мудростью: «Мой план весь в событиях». Ныне пользуются событиями, чтобы изнасильничать их: так поступают особенно французские новейшие историки. Эта школа закладывается и у нас. Разумеется, исполнение простого плана не может удовлетворить всем требованиям. Иные хотят, чтобы чрез всю историю протянута была одна мысль, слышан был один лозунг, на который откликались все события. И точно, есть историки, которые сбиваются на водевильных певцов. Все клонится, натягивается на один известный припев. Они начинают с того, что приберут окончательный стих, а там уже направляют мысли и выражения к заданному себе напеву. Нет сомнения, что и этот способ может иметь и в поэзии и в истории свое достоинство, но достоинство относительное, условное и особенно же местное и единовременное. Беранже – великий поэт, даром что тащит за собою неминуемый напев, как каторжник колодку, к которой он прикован. История вроде Тьера и некоторых других французских историков имеет свою занимательность. Эти красноречивые адвокатские записки в пользу одного или другого решения политической задачи. Этот способ может еще быть употребляем в историческом изложении известной и определенной эпохи. Тут как-нибудь можно еще, пополам с грехом, насильно натягивать концы с концами. Но в истории России, и особенно же в труде Карамзина, который должен был начать с того, чтобы из-под праха отыскать и восстановить события, всякая натяжка, всякое заданное себе наперед направление лишили бы его возможности представить полную картину того, что было и как было.
Некоторые обвиняют «Историю» Карамзина в том, что она не философическая; нужно бы наперед ясно и явственно определить, что должно признавать философиею истории. Если под этим выражением должно подразумевать систему и обязанность с заданной точки зрения смотреть на события, то его творение в самом деле не философическое. Но между тем должно приписать это не тому, что Карамзин не знал подобного требования новейших критиков, но тому, что, в сознании ясного и самобытного ума, он был выше этих требований. Если же принять философию в более обширном и общечеловеческом смысле, то есть в смысле бесстрастной и нелицеприятной мудрости, любви к истине и человечеству, возвышенной покорности пред промыслом, то история его глубоко проникнута и одушевлена выражением этой философии. Одна есть философия частного ума и определенной эпохи, другая – выражение души бессмертной, опытности и мудрости веков. Политический характер «Истории» Карамзина также верно обозначен. Он может не всем нравиться – это другое дело. Возлюбив Россию, Карамзин должен был полюбить и пути, которыми провидение привело ее к той степени величия и могущества, которую ныне она занимает. Карамзин не мог не быть монархическим писателем в высшем и бескорыстном смысле этого слова, потому что Россия развилась, окрепла и сосредоточилась в силу монархического начала. По этому пути нет у него нигде ни натяжки, ни отступления от добросовестности. Ум его был ясен, сердце было чисто. Один был чужд предубеждений и систематической односторонности, другое было чуждо лукавства и лести. Не опасаясь поколебать верование в правила, коих истина и святость были для него несомненны, он нигде не утаивает ошибок, погрешностей и предосудительных уклонений власти, когда подлежат они суду историка.
Карамзин сделал многое, но, разумеется, не все историческое поле им проследовано и прочищено. Оно еще не окончательно разработано. Еще много трудов впереди. В предисловии к «Истории» Карамзин сказал, что более всего поддерживало его в труде: «Надежда быть полезным, то есть сделать российскую историю известнее для многих, даже и для строгих его судей«. Надежда его вполне сбылась. Хорошо делают строгие судии его, что, не слепо доверяя ему, стараются новыми изысканиями и пояснениями отдельных вопросов дополнить труд его и сделать отечественную историю еще известнее. Худо поступают те, которые, принимаясь за это дело, увлекаются излишнею самонадеянностию и заносят оскорбительную руку на творение, которое все же пока остается у нас единственным памятником и маяком в области отечественной истории. Нельзя без жалости и негодования встречать часто легкомысленные и даже презрительные отзывы, которыми оценивается многолетний и добросовестный труд великого писателя. Со стороны некоторых критиков эти отзывы не заслуживают внимания. Они теряются в ничтожности обыкновенного их пустословия. Но прискорбно видеть, что в этом отношении не совершенно безгрешны даже некоторые из малого числа наших исторических делателей, которых заслуги не подлежат сомнению. По крайней мере, им надлежало бы быть умереннее и признательнее. Их любовь к науке, их ученость и ум не только давали им на это право, но ставили им это и в обязанность. Кажется, Пушкиным было сказано о некоторых критиках Карамзина-историка: «Они младенцы, которые кусают грудь кормилицы своей!»
Впрочем, как бы то ни было, все эти разыскания, споры противоположных мнений, гипотезы, разрешения частных вопросов, как они ни будь относительно полезны, все не дают же истории. Возвращаясь, после долгого отступления, к основному началу нашей статьи, нам все-таки останется заметить и сожалеть, что как после Пушкина не было у нас великого поэта, так после Карамзина не было у нас историка. Собиратели материалов, каменосеки – люди очень полезные и необходимые, но для сооружения здания нужны зодчие, а зодчего у нас нет. Еще одно замечание: нынешние исторические труды окажут свою действительную пользу в будущем. И в этом отношении они драгоценны. Ныне они, по сухости и частности своей, вообще недоступны и бесплодны для большинства читателей. Специальные люди занимаются разработкою нашей истории, но публика не в состоянии вникать в эти труды и следовать за ними. Публике нужны не догадки, не гипотезы, не материалы, а нужно что-нибудь целое, стройное, художественное. Нет сомнения, и нельзя о том не соболезновать, что с того времени, как самые начала истории нашей снова приведены в спорную статью, что доверие к труду Карамзина потрясено разнородными требованиями, новое поколение читателей – не говорю и производителей – хуже знает нашу историю, нежели знали ее за двадцать лет тому.
Распространившись здесь о Карамзине, мы, впрочем, не отступили от первоначальной мысли нашей и от задачи, которую себе положили. Отсутствие Карамзина и Пушкина живо обозначают нашу нынешнюю литературную эпоху, эпоху переходную, как мы надеемся. Как ни были разнообразны между собою дарования обоих писателей, а равно и направления их, нередко даже и противоположны, но Пушкин едва ли не более всех других писателей наших родственно примыкает к Карамзину и является прямым и законным наследником его. Как тот, так и другой были наиболее влиятельными и господствующими писателями своих эпох. В них сосредоточивались литературная сила и власть. А что ни говори, и в республике письмен (republique des lettres) нужна глава, нужен президент. У многих нянек дитя без глаза, а здесь, пожалуй, без языка. Избранный писатель, увлекая деятельностью и производительностью своею, вместе с тем нечувствительно и неосязательно налагает пример свой на других. Он, кажется, одарен одною прелестью, но эта прелесть оказывается могуществом, неотразимым завоеванием. Великий писатель назло выдуманной Тьером политической аксиоме: le roi rиgne et ne gouverne pas, в одно время и царствует и управляет: он царствует потому, что управляет, и управляет потому, что царствует.
VI
В это последнее время литература переродилась в журналистику. Уже давно сатирик князь Горчаков сказал:
И наконец я зрю в стране моей родной Журналов тысячу, а книги ни одной.Что же сказал бы он ныне?
Литература, эта некогда блестящая и богатая барыня, была, вследствие несчастных обстоятельств, выжита из наследственных и роскошных своих палат; волею-неволею вынуждена она перебраться в заезжий дом, в шамбр-гарни[21], и там пробавлялась на мещанском положении: обедать с жильцами дома за общим столом, не слишком опрятным, а часто и малосытным. Sic transit gloria mundi[22], сказал бы я, если хотел пощеголять дешевым знанием латинского языка. Но, к прискорбию моему, я по-латыни не знаю, хотя во время оно и усердно учился ей у знаменитого профессора Буле и сохранил, в старых бумагах своих, целые тетради, писанные мною смолоду на латинском языке. Дивлюсь им и не верю глазам своим, гляжу на них и узнаю свой почерк. Жизнь, последствия ее и практические, насущные потребности жизни выбили из головы и памяти моей всю эту латинскую премудрость.
Толстые журналы начали появляться и при Пушкине. Но после него они, не скажу подобрели, а, кажется, еще пожирели. Журналы – дело хорошее и полезное, но при соблюдении некоторых условий. Журналы должны быть дополнением к литературе, а не могут быть заменою ее. Надобно начать литературою и кончить журналистикою. У нас журналистика стала впереди. Это беззаконное завладение чужою собственностью. Это самозванство. Журналы уместны и пригодны в обществе уже образованном, зрело воспитанном на почве сведений и науки. Там служат они справочными листками, ведомостями не о самой науке, но о движении различных отраслей ее, о новых применениях ее к делу жизни, к делу действительности. Там никто не учится по журналам, а насущно доучивается, потому что каждый день, каждый шаг чему-нибудь дополнительно доучит и к чему-нибудь новому поведет. В обществе, еще мало образованном, исключительное, всепоглощающее господство журналистики имеет свою вредную сторону. Журналы кое-как бросают семена в неприготовленную, неразработанную почву, дают огнестрельные оружия в руки, не наученные, как ими пользоваться. Нет книг, которые требуют усидчивого внимания и труда и, так сказать, правильного и медленного пищеварения. Жадности читателей кидают статьи, которые в один присест, в один глоток проглатывают. Молодежь, которая сама ничего не читала, кроме текущих журналов, пускается тоже в журнальный коловорот, пишет статьи и учит тому, чему сама не училась, по той простой и естественной причине, что она не училась ничему. Можно представить себе, какие слои, какие пласты ошибочных лживых и превратных понятий и сведений, какая гуща невежества окончательно ложатся на умы молодых поколений, которые образуют себя на этой нездоровой почве и питаются этими смешанными и мутными подонками.
Журналы приобрели у нас в последние годы такое влияние, что стоит о них поговорить еще обстоятельнее и пространнее. Во-первых, заметим, что эта журналомания, как в отношении к самим журналам, так и в отношении к порабощению читателей, закабаливших себя с своими понятиями, верованиями, правилами тому или другому журналу, явление у нас вовсе не самородное, а более заимствованное и усвоенное по нашей привычке и ловкости к подражанию. Русская газета, русский журнал, пожалуй, то же, да совсем не то, что газета и журналы, например, французские и английские. Журналистика на Западе, а особенно во Франции, которая нам более известна, есть в самом деле сила, общественное учреждение, истекающие из целого общественного и гражданского строя. Да и самая материальная, экономическая сторона журнала вовсе не та, что у нас. Там журнал, газета – не единоличный орган или проводник мнений. Они явления и плоды товарищества умственного и денежного. Тем самым они представители чего-то положительного и существенного как в теории и умозрении, так и в действительности и на практике. Там подобное товарищество, как и всякое другое, подчинено условиям и законам взаимной пользы, взаимного единомыслия. Там оно связано выгодами или невыгодами предприятия, дивидендами нравственного успеха и успеха денежного. Главные участники в периодическом издании, вкладчики в журнальный капитал, в журнальную кассу имеют непосредственный, или побочный, голос в делах журнала, в направлении его, в поддержке и распространении тех или других мнений и воззрений и в ратоборстве с мнениями и стремлениями противоположных лагерей. Там газета и журнал водружают политическое или литературное знамя своего цвета, своего ополчения, потому что там есть организованные враждебные силы, есть литература более или менее деятельная и воинственная (militante). Под этими знаменами вербуются новые рекруты, будущие сподвижники, укрепляются во мнении и служении своем старые бойцы и сослуживцы. С подобными журналами, отголосками общества, то есть того или другого большинства этого общества, и само общество и правительство могут и должны справляться, должны следовать за движениями и указаниями этих барометров. У нас журнал не может иметь ни того значения, ни той важности. У нас журнал – не коллективная сила. У нас первый Петр Иванович Добчинский или первый Петр Иванович Бобчинский может завести журнал, как завел бы он табачную лавочку. Разница только в том, что для заведения табачной или другой лавочки нужно предварительно иметь все-таки какой-нибудь запасной капитал; а здесь сами потребители, покупщики-подписчики вносят заранее и на кредит деньги в открывающуюся лавочку в надежде на товар и на будущие блага. Нельзя не заметить еще, что журналист Бобчинский, до облачения себя в звание журналиста, был или вовсе не известен в уезде своем, или не пользовался в нем никаким авторитетом, а только «петушком, петушком бегал за дрожками городничего» («Ревизор» Гоголя). Никому, разумеется, не приходило в голову обращаться к нему за советом, за руководством в том или другом недоумении, за суждением о правительственном или общественном вопросе. Но Бобчинский-Добчинский сделался журналистом, и весь уезд обращается к нему с благоговением или страхом. Он переродился в наставника, проповедника, пророка. Уезд в него верует, им мыслит, им любит и ненавидит, им смотрит и видит, им слушает и слышит.
Благо что заплатил я деньги, говорит подписчик, и теперь освобожден от труда и неволи ломать себе голову над разрешением того или другого вопроса. Это дело журналиста отправлять черную работу, а мне подавай он уже готовые разрешения.
И в самом деле, ум многих подписчиков, так сказать, на хлебах у журналиста. Стоит только присесть к журналу и кушать.
Иная книга, и умно и дельно написанная, все же стоячая вода. Она и сама не двигается и других не приводит в движение. Журнал и газета – источники, которые беспрерывным движением, капля за каплею, пробивают камень или голову читателя, который подставил ее под их подмывающее действие.
Пушкин и сам одно время, очень непродолжительное, был журналистом. Он на веку своем написал несколько острых и бойких журнальных статей; но журнальное дело не было его делом. Он не имел ни достойных качеств, ни погрешностей, свойственных и даже нужных присяжному журналисту. Он по крайней мере во втором периоде жизни и дарования своего не искал популярности. Он отрезвился и познал всю суетность и, можно сказать, горечь этого упоения. Журналист – поставщик и слуга публики. А Пушкин не мог быть ничьим слугою. Срочная работа была не по нем. Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале. Думал он, что совладает с журнальным предприятием не хуже другого. Не боги же обжигают горшки. Нет, не боги, а горшечники; но он именно не был горшечником. Таким образом он ошибся и обчелся и в литературном и в денежном отношении. Пушкин тогда не был уже повелителем и кумиром двадцатых годов. По мере созревания и усиливающейся мужественности таланта своего, он соразмерно утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения и нашу бессознательную и слабоголовную критику. Подобное явление нередко и в других литературах, а у нас оно почти естественно. По этому предмету говорил Гнедич: «Представьте себе на рынке двух торговцев съестными припасами: один на чистом столике разложил слоеные, вкусные, гастрономические пирожки; другой на грязном лотке предлагает гречневики, облитые вонючим маслом. К кому из них обратится большинство покупщиков? Разумеется, к последнему».
Пушкин не только не заботился о своем журнале с родительскою нежностью, он почти пренебрегал им. Однажды прочел он мне свое новое поэтическое произведение. Что же, спросил я, ты напечатаешь его в следующей книжке? Да, как бы не так, отвечал он, pas si bête[23]: подписчиков баловать нечего. Нет, я приберегу стихотворение для нового тома сочинений своих. Он впоследствии, когда запряг себя в журнальную упряжь, сердился на меня, что я навязал ему название «Современника», при недоумении его, как окрестить журнал. Обозревая положение литературы нашей по кончине Пушкина, нельзя не заметить, что с развитием журналистики народилась и быстро и сильно развилась у нас литература скороспелая, литература, и особенно критика, на авось, на катай-валяй, на а le diable m'emporte[24], на знай наших, а ничего другого и никаких других мы знать не хотим. Любопытно было бы знать и определить, могла ли бы эта разнузданная, междуцарственная литература и порожденная ею критика достигнуть при Пушкине тех крайностей, которых дошла она после Пушкина. Едва ли. Самые ярые наездники наши, вероятно, побоялись бы или постыдились его.
В этом предположении заключается сожаление о том, чего не мог он доделать сам, и о том, что было сделано после него и потому, что его уже не было.
VII
А что сделал бы он еще, если смерть не прекратила бы так скоропостижно деятельность его? Грустно о том подумать. Его не стало в самой поре зрелости и силы жизни его и дарования. Сложения был он крепкого и живучего. По всем вероятностям, он мог бы прожить еще столько же, если не более, сколько прожил. Дарование его было также сложения живучего и плодовитого. Неблагоприятные обстоятельства, раздражавшие его по временам, могли бы улечься, и улеглись бы, без сомнения. Очистилось бы и небо его. Впрочем, не из тучи грянул и гром, сразивший его. В Пушкине и близкой среде, окружающей его, были залоги будущего спокойствия и домашнего счастия. Жизнь своими самовластительными условиями и неожиданными превратностями нередко так усложняет и перепутывает обстоятельства, что не каждому дается вовремя и победоносно справиться с ними. Кто тут виноват? Что тут виновато? Не скоро доберешься до разрешения этой темной и таинственной задачи.
Теперь не настала еще пора подробно исследовать и ясно разоблачить тайны, окружающие несчастный конец Пушкина. Но, во всяком случае, зная ход дела, можем сказать положительно, что злорадству и злоречию будет мало поживы от беспристрастного исследования и раскрытия существенных обстоятельств этого печального события.
Повторяем: Пушкин мог бы еще долго предаваться любимым занятиям своим и содействовать славе отечественной литературы и, следовательно, самого отечества. Движимый, часто волнуемый мелочами жизни, а еще более внутренними колебаниями не совсем еще установившегося равновесия внутренних сил, столь необходимого для правильного руководства своего, он мог увлекаться или уклоняться от цели, которую имел всегда в виду и к которой постоянно возвращался после переходных заблуждений. Но при нем, но в нем глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей, он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства, которые из груди его просились на свет божий и облекались в звуки, краски, в глаголы очаровательные и поучительные. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретали бодрость и свежесть немощь уныния, восстановлялись расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался. Эта живительная, плодотворная деятельность иногда притаиваласъ в нем, но ненадолго. Она опять пробуждалась с новою свежестью и новым могуществом. Она никогда не могла бы совершенно остыть и онеметь. Ни года, ни жизнь, с испытаниями своими, не могли бы пересилить ее.
VIII
В последнее время работа, состоящая у него на очереди, или на ферстаке (верстаке), как говаривал граф Канкрин, была история Петра Великого.
Труд многосложный, многообъемлющий, почти всеобъемлющий. Это целый мир! В Пушкине было верное пониманье истории; свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностями ума его были: ясность, проницательность и трезвость. Он был чужд всех систематических, искусственно составленных руководств; не только был он им чужд, он был им враждебен. Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как то часто делают новейшие историки, для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению. Он не историю воплощал бы в себя и в свою современность, а себя перенес бы в историю и в минувшее. Он не задал бы себе уроком и обязанностию во что бы то ни стало либеральничать в истории и философничать умозрительными анахронизмами. Пушкин был впечатлителен и чуток на впечатления; он был одарен воображением и, так сказать, самоотвержением личности своей настолько, что мог отрешать себя от присущего и воссоздавать минувшее, уживаться с ним, породниться с лицами, событиями, нравами, порядками, давным-давно замененными новыми поколениями, новыми порядками, новым общественным и гражданским строем. Все это качества необходимые для историка, и Пушкин обладал ими в достаточной мере. История прежде всего должна быть, так сказать, разумным зеркалом минувшего, а не переложением того, что есть. В старину переводились у нас иностранные драмы с переложением на русские нравы, так что все выходило ложно: был искажен и подлинник, были искажены и изнасилованы нравы. То же бывает и с историями, выкроенными по последнему образцу и по последнему вкусу, то есть переложенными на новые либеральные нравы. С Пушкиным опасаться того было нечего. Он перенес бы себя во времена Петра и был бы его живым современником; но был ли бы он законным и полномочным судиею Петра и всего, что он создал? Это другой вопрос. Не берусь решить его ни в утвердительном, ни в отрицательном отношении. Замечу только, что нужно почти всеведение, чтобы критически исследовать все преобразования, совершенные Петром, оценить их каждое особо и все в сложности их и во взаимной их совокупности. Живописец пишет картину с природы и поражает вас естественною и художественною верностью. Геолог изучает и воссоздает ту же местность, что живописец; но он не довольствуется внешнею стороною почвы и проникает в подспудные таинства ее и выводит, определяет непреложные законы природы. Историк должен быть живописец и геолог. Одно из этих свойств было в Пушкине до высшей степени. Пушкин был великий живописец, но мог ли он быть вместе с тем историком-геологом, другим историком Кювье. Тот изучил перевороты, перерождения земного шара (des revolutions du globe) и едва ли не с математическою верностью определил их свойства и значения. Царствование Петра заключает в себе несколько революций, изменивших старый склад и, так сказать, ветхий русский мир.
Пушкин оставил по себе опыт исторического пера в своей истории Пугачевского бунта. Но это произведение одно эпизодическое повествование данной эпохи, можно сказать, данного события. Но и в этом отношении труд его не столько история Пугачевского бунта, сколько военная история этого бунта. Автор свел в одно стройное целое военные реляции, военные дневники и материалы. Из них составил он боевую картину свою. Но в историю события, но в глубь его он почти не вникнул, не хотел вникнуть, или, может быть, что вероятнее, не мог вникуть по внешним причинам, ограничившим действие его. Автор в предисловии своем говорит: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною составленного». Этими словами он почти опровергает или, по крайней мере, значительно ослабляет более обширный смысл заглавия книги своей. Как отрывок, с предназначенною целью, он совершенно достигает ее. При чтении убеждаешься, что события стройно и ясно вкладывались в понятие его и так же стройно и ясно передаются читателю. Рассказ везде живой, но обдуманный и спокойный, может быть, слишком спокойный. Сдается, что Пушкин будто сторожил себя; наложенною на себя трезвостью он будто силился отклонить от себя и малейшее подозрение в употреблении поэтического напитка. Прозаик крепко-накрепко запер себя в прозе, так чтобы поэт не мог и заглянуть к нему. Впрочем, такое хладнокровие, такая мерность были естественными свойствами дарования его, особенно когда выражалось оно прозою. Он не любил бить на эффект, des phrases, des mots а effet, как говорят и делают французы. Может быть, доводил это правило почти до педантизма.
У Пушкина, кроме Пугачевского бунта, найдутся еще другие произведения, в которые история входит и вносит свои вспомогательные силы. Возьмите, например, главы, к сожалению, не конченного романа: «Арап Петра Великого». Как живо и верно обрисованы легкие очерки Петра и современного и, так сказать, насильственно создаваемого им общества. Как увлекательно и могущественно переносят они читателя в эту эпоху. Истории прагматической, истории политической, учебной истории здесь нет. Здесь мимоходом только, так сказать, случайные прикосновения к истории. Но сколько нравственной, художественной истины в этих прикосновениях. – Это дополнительные и объяснительные картины к тексту истории. Петр выглядывает, выходит из них живой. Встреча его с любимым Ибрагимом в Красном Селе, где, уведомленный о приезде его, ждет его со вчерашнего дня, может быть, и даже вероятно, не исторически верна, но – что важнее того – она характеристически верна. Этого не было, но оно могло быть; оно согласно с характером Петра, с нетерпеливостью и пылкостью его, с простотою его обычаев и нрава. То же можно сказать об аудиенции, которую Петр на мачте нового корабля дает приезжему из Парижа молодому К.
Тут нет ни одной черты, которая изменила бы очертанию и краскам современного быта; нет ни единого слова, которое звучало бы неуместно и фальшивою нотою. Везде верный колорит, везде верный диапазон. А неожиданный приезд Петра к Гавриле во время самого обеда и в самый разгар сетований о старом времени и укоризн на новые порядки. Сватовство дочери хозяина за любимого им арапа, которое он принял на себя: все это живые картины, а потому и верные. Где нет верности, там нет и жизни, а одна подделка под жизнь, то есть именно то, что часто встречается в новейших романах, за исключением английских. Англичане такой практический народ, что и романы их практические. Даже и в вымысле держатся они того, что есть или быть может.
Оставляем в стороне прелесть романического рассказа, также живого отголоска того, что есть и быть могло. Здесь имеем в виду одни свойства будущего историка, одни попытки, в которые он умел схватить, так сказать мимоходом, несомненные приметы исторического лица, что, впрочем, доказал он и прежде в изображениях своих Бориса Годунова, Димитрия Самозванца, Марины, Шуйского.
В «Капитанской дочке» история Пугачевского бунта или подробности о нем как-то живее, нежели в самой истории. В этой повести коротко знакомишься с положением России в эту странную и страшную годину. Сам Пугачев обрисован метко и впечатлительно. Его видишь, его слышишь. Может быть, в некоторых чертах автор несколько идеализировал его. В его – странно сказать, а иначе сказать нельзя – простодушии, которое в нем по временам оказывается, в его искренности относительно Гринева, пред которым он готов не выдаваться за Петра III, есть что-то напоминающее очерк Димитрия Самозванца, начертанный тем же Пушкиным. Но если некоторые подробности встречаешь с недоумением, то основа целого и басня, на ней изложенная, верны. Скажем опять: если оно было и не так, то могло так быть. От крепости Белогорской вплоть до Царского Села картина сжатая, но полная и мастерски воспроизведенная. Императрица Екатерина так же удачно и верно схвачена кистью мастера, как и комендантша Василиса Егоровна.
А что за прелесть Мария! Как бы ни было, она принадлежит русской былине о Пугачеве. Она воплотилась с нею и отсвечивается на ней отрадным и светлым оттенком. Она другая Татьяна того же поэта. Как далеки эти два разнородных типа русской женщины от Софии Павловны, которую сам Грибоедов назвал негодяйкою, и от других героинь-негодяек, которых многие из повествователей наших воспроизводят с такою любовью, по образу и подобию привидений, посещающих их расстроенное воображение. Разница между лицами, вымышленными фантазиею писателя с дарованием, и лицами, может быть иногда и действительными, которых писатели другого разряда выводят на сцене или на страницах романа, заключается в следующем: первые лица, небывалые, бесплотные, мимолетные, нам с первых пор кажутся знакомыми и сродни; мы тотчас входим с ними в сочувственные отношения; их радость – наша радость, их горе – наше горе. А другие лица, хотя и патентованные, взятые из живой среды, не только воплощенные, но и плотные, не прикасаются до нас под кистью неумелого живописца. Чем более, чем далее мы в них всматриваемся, тем более кажутся нам они незнакомыми и несбыточными. Дело в том, что в лицах первого разряда, то есть вымышленных, есть истина, то есть художественная реальность; а в лицах другого разряда, домогающихся казаться реальными, есть ложь или отсутствие дарования, как ни воспроизводи живописец каждую бородавку, каждое родимое пятнышко, каждую морщинку на лице избранного им подлинника; в подробностях есть утомительная отчетливость, но в целом нет оригиналов, нет жизни...
Чем более вникаешь в изучение Пушкина, тем более убеждаешься в ясности и трезвости взгляда и слова его. В лирических творениях своих поэт не прячется, не утаивает, не переодевает личности своей. Напротив, он как будто невольно, как будто бессознательно, весь себя выказывает с своими заветными и потаенными думами, с своими страстными порывами и изнеможениями, с своими сочувствиями и ненавистями. Так, где он лицо постороннее, а действующие лица его должны жить собственною жизнию своею, а не только отпечатками автора, автор и сам держится в стороне. Тут он только соглядатай и сердцеиспытатель; он просто рассказчик и передает не свои наблюдения, умствования и впечатления. Часто повествователи держатся неотлучно при своих героях, то есть при школьниках своих. Они перед публикою подсказывают им понятия и чувства свои. Им все хочется проговориться и сказать публике: это я так говорю, так мыслю, так действую, так люблю, так ненавижу, и проч. Ищите меня в приводимых мною лицах, а в них ничего не ищите. Они нули, и только при моей всепоглощающей единице они составляют какое-нибудь число. Оттого повествования и при количестве лиц, нагнанных ими на сцену, выходят однообразны и одноголосны, а следовательно, протяжны и скучны.
Если позволено несколько опоэтизировать прозу действительности, то можно было бы сказать, что литература наша обрекла себя на десятилетний траур по кончине Пушкина. Вдова вся сосредоточилась и сама погребла себя в утрате и скорби своей. Она уже не показывается в праздничных и яркого цвета платьях. Она ходит в черной рясе, чуть ли не в власянице. Дом ее затих и почти опустел. Новых гостей не видать в нем. Изредка посещают его одни старые приятели дома. Так и чуешь, так и видишь, что хозяина нет.
Теперь, как в доме опустелом, Все в нем и тихо, и темно, Замолкло навсегда оно: Закрыты ставни, окна мелом Забелены.Оно так, но, надеемся, не навсегда. Срок продолжительного траура минует. Дом опять оживится. Вдова скинет траурную одежду свою. Может быть, около входа в дом уже заглядывают в него молодые посетители, может быть, и будущие новые соперники оплакиваемого властителя. Не будем предаваться унынию и безнадежному отчаянию. Посмотрим, что скажет, что покажет нам новое десятилетие.
1847, 1878
А. А. Григорьев (1922—1864)
Родился в Москве. Детство прошло в купеческо-мещанском Замоскворечье, повлиявшем своим патриархальным бытом на мировоззрение будущего поэта и критика. Учился в Московском университете, в студенческие годы дружил с поэтами А. А. Фетом и Я. П. Полонским. Впервые в литературе выступил как поэт. Его единственная книга стихов «Стихотворения Аполлона Григорьева» (1846) вызвала сочувственный отклик Белинского.
В 50-е годы вместе с драматургом А. Н. Островским возглавляет редакцию журнала «Москвитянин». В это время Григорьевым вырабатываются принципы органической критики, то есть такой критики, которая стремится к максимальному соответствию разбираемому произведению искусства и не ограничивается только его рассудочным анализом.
В искусстве Григорьева прежде всего волновал элемент нравственный. Он был принципиальным противником теории «искусства для искусства».
Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина Пушкин. – Грибоедов. – Гоголь. – Лермонтов
I
В 1834 году в одном из московских журналов, пользовавшемся весьма небольшим успехом, но взамен того отличавшемся серьезностию взгляда и тона, впервые появилось с особенною яркостию имя, которому суждено было долго играть истинно путеводную роль в нашей литературе. В «Молве», издававшейся при «Телескопе» Надеждина, появлялись в течение нескольких месяцев статьи под названием «Литературные мечтания». Эти статьи изумляли невольно своей беспощадной и вместе наивной смелостию, жаром глубокого и внутри души выросшего убеждения, прямым и нецеремонным поставлением вопросов, наконец, тою видимой молодостию энергии, которая дорога даже и тогда, когда впадает в ошибки, – дорога потому, что самые ошибки ее происходят от пламенного стремления к правде и добру. «Мечтания» так и дышали верою в эти стремления и не щадили никакого кумиропоклонения, во имя идеалов разбивали простейшим образом всякие авторитеты, не подходившие под мерку идеалов. В них выразилось первое сознательное чувство нашей критики – я говорю чувство, а не взгляд – ибо в них все было чувство. Так как по общему органическому закону мироздания ни одна мысль не является в стройной форме, не пройдя наперед несколько форм, так сказать, допотопных, – то и «Литературным мечтаниям» Виссариона Григорьевича Белинского (под ними подписался он еще таким образом: – он... инский. Чембар. 1834 г. дек. 12 дня; но все молодое поколение знало хорошо имя того, кто так смело и честно высказал то, что жило во всех, носилось в воздухе эпохи) – и «Литературным мечтаниям» – говорю я – предшествовали критические динофериумы Никодима Надоумки – смелые, резкие, но неуклюжие и безвкусные выходки против застарелых мыслей... Но какая разница обличалась с первого же раза между деятельностию Белинского и деятельностию Никодима Надоумки! Вся правда и энергия Никодима Аристарховича пропадали даром вследствие семинарского безвкусия тона и положительного отсутствия чувства изящного: все заблуждения и промахи Белинского исчезали, сгорали в его огненной речи, в огненном чувстве, в ярком и истинно поэтическом понимании. И только при таких условиях могло пройти столько истин, и только при таких условиях могло начаться то дело, которого «Литературные мечтания» были первым камнем.
«Литературные мечтания» – не более не менее как ставили на очную ставку всю русскую литературу со времен реформы Петра, литературу, в которой невзыскательные современники и почтительные потомки насчитывали уже несколько гениев, которую привыкли уже считать за какое-то sacrum[25], – и разве только подчас какие-нибудь пересмешники повторяли стих их старика Вольтера: «Sacres ils sont, car personne n'y touche»[26]. Пересмешников благомыслящие и почтенные люди не слушали, и торжественно раздавались гимны не только Ломоносову и Державину, но даже Хераскову и чуть ли не Николеву; всякое критическое замечание насчет Карамзина считалось святотатством, а гениальность Пушкина надобно было еще отстаивать, а поэзию первых гоголевских созданий почувствовали еще очень немногие, и из этих немногих, во-первых, сам Пушкин, а во-вторых, автор «Литературных мечтаний».
Между тем умственно-общественная ложь была слишком очевидна. Хераскова уже положительно никто не читал, Державина читали немногие, да и то не целиком; читалась история Карамзина, но не читались его повести и рассуждения. Сознавать эту ложь внутри души могли многие, но сознательно почувствовать ее до того, чтобы сознательно и смело высказать всем, – мог только призванный человек, и таким-то именно человеком был Виссарион Белинский.
Дело, начатое им в «Литературных мечтаниях», было до того смело и ново, что чрез много лет потом казалось еще более чем смелым – дерзким и разрушительным всем почтительным потомкам невзыскательных дедов, – что чрез много лет потом оно вызывало юридические акты в стихах, вроде следующих:
Карамзин тобой ужален, Ломоносов – не поэт!Но – странным образом – начало этого дела в «Литературных мечтаниях» не возбудило еще ожесточенных криков. До этих криков уже потом додразнил Белинский своих противников, – хотя весь он с его пламенною верою в развитие вылился в своем юношеском произведении, – хотя множество взглядов и мыслей целиком перешли из «Литературных мечтаний» в последующую его деятельность, – и хотя, наконец, – положительно можно сказать, с этой минуты он, в глазах всех нас, тогдашнего молодого племени, стал во главе сознательного или критического движения.В ту эпоху, которой первым сознанием были «Литературные мечтания», – кроме старых, уже не читаемых, а только воспоминаемых авторитетов, был еще живой авторитет, Пушкин, – только что появился почти в печати Грибоедов, – и только что вышли еще «Вечера на хуторе близ Диканьки». В эту эпоху, впрочем, не Пушкин, не Грибоедов и не «Вечера на хуторе» тревожили умы и внушали всеобщий интерес. Публика охладела на время к Пушкину, с жаром читала Марлинского, добродушно принимала за правду и настоящее дело разные исторические романы, появлявшиеся дюжинами в месяц, с тайной тревогою прислушивалась к соблазнительным отголоскам юной французской словесности в рассказах барона Брамбеуса и под рукою почитывала переводные романы Поль де Кока.
Белинский был слишком живая натура, чтобы не увлечься хоть несколько стремлениями окружавшего его мира, и впечатлительность его выразилась в «Литературных мечтаниях» двумя сторонами: негодованием на тогдашнюю деятельность Пушкина и лихорадочным сочувствием к стремлениям молодой французской литературы. Из этих сторон только первая требует пояснения, – вторая в нем не нуждается. Белинский не был бы Белинским, не был бы гениальным критиком, если бы полным сердцем не отозвался на все то, что тревожило поколение, которого он был могущественным голосом. Чтобы идти впереди нашего понимания, он должен был понимать нас, наши сочувствия и вражды, должен был пережить поклонения бальзаковскому Феррагусу и «Notre Dame»[27] В. Гюго. Человек гораздо старше его летами и, может быть, пониманием, хотя гораздо слабейший его относительно даровитости, Н. И. Надеждин написал в своей статье «Барон Брамбеус и юная словесность» несколько страниц в защиту этой словесности, в которой он видел необходимую для человечества анатомию; и, без всякого сомнения, подобная защита была и выше и разумнее в свое время пустых насмешек. Не сочувствовать юной словесности имел тогда право, может быть, только Пушкин, ибо в нем одном такое несочувствие было прямое, художнически разумное и чуждое задних мыслей. Его орлиный взгляд видел далеко вперед, так далеко, как мы и теперь еще, может быть, не видим. Остальные, исключая разве того немногочисленного мыслящего кружка, которого представителем был И. В. Киреевский – автор первого философского обозрения нашей словесности, – или лукавили в своем несочувствии, или не сочувствовали потому, что давно потеряли способность чему-либо серьезно и душевно сочувствовать, или, наконец, в основу своего несочувствия клали узенькие моральные сентенции и – что еще хуже – побуждения вовсе не литературные. А Белинский не был ни уединенным, строго логическим мыслителем, как И. В. Киреевский, ни одним из опекунов нравственности и русского языка, – он был человек борьбы и жизни. Все наши сомнения и надежды выносил он в своей душе – и оттого-то все мы жадно слушали его волканическую речь, шли за ним как за путеводителем – в продолжение целого литературного периода, до тех пор, пока... переворот, совершившийся в художественной деятельности Гоголя, не разделил всех мыслящих людей на две литературные партии.
Но об этом речь впереди. Имя Белинского, как плющ, обросло четыре поэтических венца, четыре великих и славных имени, которые мы поставили в заглавии статьи, – сплелось с ними так, что, говоря о них как об источниках современного литературного движения, – постоянно бываешь поставлен в необходимость говорить и о нем. Высокий удел, данный судьбою немногим из критиков! – едва ли даже, за исключением Лессинга, данный не одному Белинскому. И дан этот удел совершенно по праву. Горячего сочувствия при жизни и по смерти стоил тот, кто сам умел горячо и беззаветно сочувствовать. Бесстрашный боец за правду – он не усумнился ни разу отречься от лжи, как только сознавал ее, и гордо отвечал тем, которые упрекали его за изменения взглядов и мыслей, что не изменяет мыслей только тот, кто не дорожит правдой. Кажется даже, он создан был так, что натура его не могла устоять против правды, как бы правда ни противоречила его взгляду, каких бы жертв она ни потребовала. Смело и честно звал он первый гениальным то, что он таковым сознал, и благодаря своему критическому чутью ошибался редко. Так же смело и честно разоблачал он, часто наперекор общему мнению, все, что казалось ему ложным или напыщенным, – заходил иногда за пределы, но в сущности, в основах никогда не ошибался. У него был ключ к словам его эпохи, и в груди его жила могущественная и волканическая сила. Теории увлекали его, как и многих, но в нем было всегда нечто высшее теорий, чего нет во многих. У него – теоретики назовут это слабостию, а мы великою силою – никогда недостало бы духу развенчать во имя теории сегодня то, что сознал он великим и прекрасным вчера. Он не мог холодно отвернуться от Гоголя, он не написал бы никогда, что г. N или Z, как проводители принципов, имеют в нашей литературе значение высшее, чем Пушкин.
И между тем Белинский начал свое дело тем, что вместе с толпою горевал об утрате прежнего Пушкина, то есть Пушкина «Кавказского пленника», первых глав «Онегина» и проч. Как объяснить этот странный факт?.. И прежде всего не говорит ли этот факт против легкости в перемене взглядов и убеждений, в которой упрекали Белинского его враги? Белинский слишком глубоко воспринял в себя первую, юношескую деятельность Пушкина, слишком крепко сжился с нею, чтобы разом перейти вместе с поэтом в иные, высшие сферы. Он и перешел потом, перешел искренне, но только тогда, когда сжился с этим новым воздухом. Вполне дитя своего века, он не опередил, да и не должен был опережать его. Чем дольше боролся он с новою правдою жизни или искусства, тем сильнее должны были действовать на поколение, его окружавшее, его обращения к новой правде. Если бы Белинский прожил до нашего времени, он и теперь стоял бы во главе критического сознания по той простой причине, что сохранил бы возвышенное свойство своей натуры: неспособность закоснеть в теории против правды искусства и жизни...
Есть нечто неотразимо увлекательное в страницах «Литературных мечтаний», посвященных Пушкину: чувство горячей любви бьет из них ключом; наивность непонимания новых сторон поэта идет об руку с глубоким, душою прочувствованным пониманием прежних, и многое, сказанное по поводу этих прежних сторон, – никогда, может быть, уже так свежо и девственно страстно не скажется!
II
«Пушкин был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чутьем и удивительною способностию принимать и отражать всевозможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века; он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия, переставшая верить в несомненность вековых правил, самою мудростию извлеченных из писаний великих гениев (слова эти – курсивом в оригинале и относятся к тогдашнему поклонению установленным авторитетам), и с удивлением узнавшая о других мирах мыслей и понятий и новых, неизвестных ей до того взглядах на давно известные ей дела и события. Несправедливо говорят, будто он подражал Шенье, Байрону и другим: Байрон владел им не как образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что Пушкин заплатил свою дань каждому великому явлению. Да – Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества, – но мира русского, но человечества русского. Что делать? Мы все гении-самоучки, мы всё знаем, ничему не учившись, всё приобрели, веселясь и играя, словом,
Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь.Пушкин от шумных оргий разгульной юности переходил к суровому труду:
Чтоб в просвещении стать с веком наравне, —от труда опять к младым играм, сладкому безделью и легкокрылому похмелью. Ему недоставало только немецко-художественного воспитания (?). Баловень природы, он, шаля и играя, похищал у ней пленительные образы и формы, и, снисходительная к своему любимцу, она роскошно оделяла его теми цветами и звуками, за которые другие жертвуют ей наслаждениями юности, которые покупают у ней ценою отречения от жизни... Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы, играл по воле нашими чувствами... Он пел – и как изумлена была Русь звуками его песен: и не диво, она еще никогда не слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним: и не диво, в них трепетали все нервы ее жизни! Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка, в летние дни, из растворенных окон, носились по воздуху эти звуки, подобные шуму вод или журчанью ручья (курсивом в оригинале).Невозможно обозреть всех его созданий и определить характер каждого: это значило бы перечесть и описать все деревья и цветы Армидина сада. У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений; у него по большей части всё поэмы: его поэтические тризны над урнами великих, его «Андрей Шенье», его могучая беседа с «Морем», его вещая дума о «Наполеоне» – поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэтического венка, без сомнения, суть «Евгений Онегин» и «Борис Годунов». Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить о сих произведениях.
Пушкин царствовал в литературе десять лет: «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина; он умер, или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское «быть или не быть» скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анджело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Где теперь эти звуки, в коих слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска; где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего груди, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иронии вместе злой и тоскливой, которые поражали ум своею игрою: где теперь эти картины жизни и природы, пред которыми была бледна жизнь и природа?.. Увы! вместо их мы читаем теперь стихи с правильною цезурою, с богатыми и полубогатыми рифмами, с пиитическими вольностями, о коих так пространно, так удовлетворительно и так глубокомысленно рассуждали архимандрит Аполлос и г. Остолопов!.. Странная вещь, непонятная вещь! Неужели Пушкина, которого не могли убить ни исступленные похвалы энтузиастов, ни сильные, нередко справедливые, нападки и порицания его антагонистов, неужели, говорю я, этого Пушкина убило «Новоселье» г. Смирдина?.. И однако ж, не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших заключениях; предоставим времени решить этот запутанный вопрос. О Пушкине судить не легко. Вы, верно, читали его «Элегию» в октябрьской книжке «Библиотеки для чтения»? Вы, верно, были потрясены глубоким чувством, которым дышит это создание? Упомянутая «Элегия», кроме утешительных надежд, подаваемых ею о Пушкине, еще замечательна в том отношении, что заключает в себе самую верную характеристику Пушкина как художника:
Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь.Да, я свято верю, что он вполне разделял безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фантазии; что он, вместе с своим мрачным Гиреем, томился этою тоскою души, пресыщенной наслаждениями и все еще не ведавшей наслаждений; что он горел неистовым огнем ревности, вместе с Заремою и Алеко, и упивался дикою любовью Земфиры, что он скорбел и радовался за свои идеалы, что журчание его стихов согласовалось с его рыданиями и смехом... Пусть скажут, что это – пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифирует «Библиотеку для чтения», чем тому, что его талант погас. Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних...» («Молва», 1834 г., ч. VIII, стр. 397 – 400).Сколько размышлений возбуждают эти пылкие юношеские страницы, на которых, повторю опять, глубокое понимание идет об руку с странным непониманием. Не ясно ли, что самое непонимание новых сторон, открывавшихся в Пушкине, было следствием слишком живого проникновения натуры критика прежними его созданиями! Иначе как объяснить, что человек, который равно ценил и лирические и юмористические стороны гения Пушкина, – стало быть, и «Цыган», и «Графа Нулина» (а надобно припомнить непристойную статью Никодима Надоумки по поводу «Графа Нулина»!) – не понял «Гусара», напечатанного в «Библиотеке для чтения», не понял стремления Пушкина к Шекспиру, выразившегося в «Анджело»? И между тем этот юноша, не понявший «Анджело» и «Гусара», верит упорно в Пушкина, видит в нем выражение современного ему мира, «но мира русского», – верит, наконец, в душу поэта, разлитую в его созданиях и тесно с ними соединенную, живущую одною с ними жизнью! Не говорю уже о том, что юноша, ставши мужем, понял и «Анджело», и «Гусара», и «Каменного гостя»!
Все это в 1834 году.
А в 1857 и 1858 годах являются в журналах наших статьи, где то оправдываются отношения Полевого к Пушкину и Полевой ставится выше по убеждениям, – то гг. NN, ZZ приписывается как проводителям принципов больше значения в русской литературе, чем Пушкину, – то, поклоняясь произведению, действительно достойному уважения, как «Семейная хроника», вовсе забывают о «Капитанской дочке» и «Дубровском»!.. А в 1859 году является статья, исполненная искренней любви и искреннего поклонения великому поэту, но такой любви, от которой не поздоровится, такого поклонения, которое лишает поэта его великой личности, его пламенных, но обманутых жизнию сочувствий, его высокого общественного значения, – которое сводит его на степень кимвала звенящего и меди бряцающей, громкого и равнодушного эха, – сладко поющей птицы! Все это развенчание совершается с наивнейшею любовью, во имя поэтической непосредственности...
Да! вопрос о Пушкине мало подвинулся к своему разрешению со времен «Литературных мечтаний», – а без разрешения этого вопроса мы не можем уразуметь настоящего положения нашей литературы. Одни хотят видеть в Пушкине отрешенного художника, веря в какое-то отрешенное, не связанное с жизнию и не жизнию рожденное искусство, – другие заставили бы жреца «взять метлу» и служить их условным теориям... Лучшее, что было сказано о Пушкине в последнее время, сказалось в статьях Дружинина, но и Дружинин взглянул на Пушкина только как на нашего эстетического воспитателя.
А Пушкин – наше все: Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, – все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, – образ, который мы долго еще будем оттенять красками. Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что после него было и будет правильного и органически – нашего. Сочувствия ломоносовские, державинские, новиковские, карамзинские, – сочувствия старой русской жизни и стремления новой, – все вошло в его полную натуру в той стройной мере, в какой бытие послепотопное является сравнительно с бытием допотопным, в той мере, которая определяется русскою душою. Когда мы говорим здесь о русской сущности, о русской душе, – мы разумеем не сущность народную допетровскую и не сущность послепетровскую, а органическую целость: мы верим в Русь, какова она есть, какой она оказалась или оказывается после столкновений с другими жизнями, с другими народными организмами, после того как она, воспринимая в себя различные элементы, – одни брала и берет как родственные, другие отрицала и отрицает как чуждые и враждебные... Пушкин-то и есть наша такая, на первый раз очерком, но полно и цельно обозначившаяся душевная физиономия, физиономия, выделившаяся, вырезавшаяся уже ясно из круга других народных, типовых физиономий, – обособившаяся сознательно, именно вследствие того, что уже вступила в круг их. Это – наш самобытный тип, уже мерявшийся с другими европейскими типами, переходивший сознанием те фазисы развития, которые они проходили, но братавшийся с ними сознанием, – но вынесший из этого процесса свою физиологическую, типовую самостоятельность.
Показать, как из всякого брожения выходило в Пушкине цельным это типовое, было бы задачей труда огромного. В великой натуре Пушкина, ничего не исключающей: ни тревожно-романтического начала, ни юмора здравого рассудка, ни страстности, ни северной рефлексии, – в натуре, на все отозвавшейся, но отозвавшейся в меру русской души, – заключается оправдание и примирение для всех наших теперешних, по-видимому, столь враждебно раздвоившихся сочувствий.
В настоящую минуту мы видим только раздвоение. Смеясь над нашими недавними сочувствиями, относясь к ним теперь постоянно критически, мы, собственно, смеемся не над ними, а над их напряженностию. И до Пушкина, и после Пушкина мы в сочувствиях и враждах постоянно пересаливали: в нем одном, как нашем единственном цельном гении, заключается правильная, художественно-нравственная мера, мера, уже дознанная, уже окрепшая в различных столкновениях. В его натуре – очерками обозначились наши физиономические особенности полно и цельно, хотя еще без красок – и все современное литературное движение есть только наполнение красками рафаэлевски правдивых и изящных очерков.
Пушкин выносил в себе все. Он долго, например, носил в себе в юности мутно-чувственную струю ложного классицизма (эпоха лицейских и первых послелицейских стихотворений); из нее он вышел наивен и чист, да еще с богатым запасом живучих сил для противодействия романтической туманности, от которой ничто не защищало несравненно менее цельный талант Жуковского. Эта мутная струя впоследствии очистилась у него до наивного пластицизма древности, и, благодаря стройной мере его натуры, ни одна словесность не представит таких чистых и совершенно ваятельных стихотворений, как пушкинские. Но и в этом отношении как он сам, так и все, что пошло от него по прямой линии (Майков, Фет в их антологических стихотворениях), умели уберечься в границах здравого, ясного смысла и здравого, достойного разумно-нравственного существа, сочувствия. Молодое кипение этой струи отразилось у самого Пушкина в нескольких стихотворениях молодости, отражалось, благодаря его наполовину африканской крови, и в последующие эпохи стихотворениями удивительными и пламенными («Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»), которые, однако, он не хотел видеть в печати. Оно обособилось в пламенном Языкове, но и тот искал потом успокоения своему жгучему лиризму или в высших сферах вдохновения, или в созданиях более объективных и спокойных, какова, например, «Сказка о Сером волке и Иване царевиче», красоту которой, говоря par parenthèse[28], мы потеряли способность ценить, избалованные судорожными вдохновениями современных муз. Напряженность же, насильственно подогретое клокотание этой струи – истощило в наши времена талант г. Щербины и весьма еще недавно вылилось в мутно-сладострастных стихах молодого, только что начинающего поэта, г. Тура; но не следует по злоупотреблениям, противным здравому русскому чувству, умозаключать, что самая струя, в меру взятая, ему противна...
Вообще же не только в мире художественных, но и в мире всех общественных и нравственных наших сочувствий – Пушкин есть первый и полный представитель нашей физиономии. Гоголь явился только меркою наших антипатий и живым органом их законности, поэтом чисто отрицательным; симпатий же наших кровных, племенных, жизненных он олицетворить не мог, во-первых, как малоросс, а во-вторых, как уединенный и болезненный аскет.
III
В русской натуре вообще заключается одинаковое, равномерное богатство сил, как положительных, так и отрицательных. Нещадно смеясь над всем, что несообразно с нашей душевной мерой, хотя бы безобразие несообразности явилось даже в том, что мы любим и уважаем, чем мы и отличаемся от других народов, в особенности от немцев, совершенно неспособных к комическому взгляду, мы столь же мало способны к строгой, однообразной чинности, кладущей на все печать уровня внешнего порядка и составной цельности. Любя праздники и целую жизнь проживая иногда в праздношатательстве и кружении, мы не можем мешать дело с бездельем и, делая дело, сладострастно наслаждаться в нем мыслию о приготовлении себе известной порции законного безделья; – чем опять-таки мы отличаемся от немцев: нет! мы все говорим, как один из наших типических героев, грибоедовский Чацкий:
Когда дела – я от веселья прячусь, Когда дурачиться – дурачусь. А смешивать два этих ремесла Есть тьма охотников – я не из их числа!Мы можем ничего не делать, но не можем с важностию делать ничего, il far niente[29], как итальянцы. А с другой стороны, мы не можем помириться с вечной суетой и толкотней общественно-буднишней жизни, не можем заглушить в ней тревожного голоса своих высших духовных интересов или впадаем в хандру – и вот почему, изо всех произвольно составленных утопий общественных, нет для русской души противнее утопии Фурье, хотя нет племени, в котором братство, любовь, незлобие и общение были бы так просты и непосредственны.
Пока эта природа с богатыми стихийными началами и с беспощадным здравым смыслом живет еще сама в себе, то есть живет бессознательно, без столкновения с другими живыми организмами, – как то было до реформы Петра, – она еще спокойно верит в свою стихийную жизнь, еще не определяет, не разлагает своих стихийных начал, довольствуясь теми формами, в которые свободно уложилось все ее стихийное...
Стольник, например, Лихачев, ездивший от царя Алексея Михайловича править посольство во град Флоренск к дуку Фердинандусу, носил в душе крепко сложившиеся, вековые типы, которых он никогда не разлагал, в которых он никогда не сомневался и дальше которых он ничего не видел. Его непосредственное отношение к жизни, вовсе ему чуждой, так дорого, что нельзя без искреннего умиления читать у него хоть бы вот это: «В Ливорно церковь Греческая во имя Николая Чудотворца и протопоп Афанасий – да в Венеции церковь же Греческая, а больше того от Рима до Кольского острога нигде нет благочестия«. Вы нисколько не заподозрите также его искренности, когда он с вершины своих типовых, никогда не разложенных им убеждений рассказывает вам об аудиенции у дука Фердинандуса[30]. Вы понимаете всю неразорванность этого взгляда, всю цельность и известную красоту типа, лежащего в его основании. Тип этот, наследованный от предков, – завещанный предками, – ни разу еще не сличал себя с другими жизненно-историческими типами. Он есть до того простое и наивное верование, что скажется скорее комическим взглядом на все другие типы, чем сомнением в самом себе и своей исключительной законности, – и, будет ли это Лихачев во Флоренции, Чемоданов в Венеции, Потемкин во Франции, наконец, в эпоху позднейшую, даже Денис Фонвизин в разных иностранных землях, – вы в них верите, вы их понимаете, вы их любите, – разумеется, если вы – кровный русский. Вы понимаете, как с незыблемо утвержденных основ своего типа должны они смотреть на все чуждое, что им представляется; вы цените тонкую ловкость Чемоданова, хитро выспрашивающего венециан насчет разных полезных вещей, и не потребуете от него, конечно, чтобы он восхищался фантастическою, мрачно-пестрою, трагически-сладострастною Венециею и приходил в лиризм
С венецианкой молодой, То говорливой, то немой, Плывя в таинственной гондоле.Вы не возмущаетесь тем, что Денису Фонвизину в варшавском театре звуки польского языка кажутся подлыми – и поражаетесь скорее меткостию и злой правдивостию его замечаний, вроде того, что «рассудка француз не имеет, да иметь его почел бы за величайшее несчастие». Все эти черты старого типа вам понятны, любезны и почтенны. Тип хранится этими людьми так верно, так искренно, что они и понять не могут ничего того, что их типу противоречит. Потемкин во Франции, оскорбленный откупщиком «маршалка де Граммона», хотевшего взять пошлину с окладов святых икон, прямо называет его «врагом креста Христова и псом несытым» – и знать не хочет, что откупщик действует на основании своих прав...
Такова крепость типа в его еще покойном, бессознательном состоянии... Естественно, что в этой цельности и замкнутости он остаться не может при столкновении с другими типами.
Эта же самая природа с богатыми стихийными силами и с беспощадно-критическим здравым смыслом – вдруг поставлена, и поставлена уже не случайно, не на время, а навсегда, в столкновение с иною, доселе чуждою ей жизнию, с иными крепко же и притом роскошно и полно сложившимися идеалами. Пусть на первый раз она, как Фонвизин, отнеслась к этим чуждым ей типам только критически. Но потом происходит неминуемо другой процесс. Тронутые с места стихийные начала встают, как морские волны, поднятые бурею, и начинается страшная ломка, выворачивается вся внутренняя, бездонная пропасть. Оказывается, как только старый исключительный тип разложился, что в нас есть сочувствие ко всем идеалам, то есть существуют стихии для создания многообразных идеалов. Сущность наша, личность, то есть типовая мера, душевная единица на время позабывается: действуют только силы страшные, дикие, необузданные. Каждая хочет сделаться центром души – и, пожалуй, могла бы, если бы не было другой, третьей, многих, равно просящих работы, равно зиждительных и, стало быть, равно разрушительных, и если бы в каждой силе не заключалась ее равномерная отрицательная сторона, указывающая неумолимо на все неправильные, смешные – противные типовой душевной мере уклонения.
Способность сил доходить до крайних пределов, соединенная с типовою болезненно-критическою отрыжкою, порождает состояние страшной борьбы. В этой борьбе закруживаются неминуемо натуры могущественные, но не гармонические, натуры допотопных образований: – и часто мрачное fatum[31] уносит и гармонические натуры, попавшие в водоворот.
Наши великие, бывшие доселе, решительно представляются с этой точки могучими заклинателями страшных сил, пробующими во всех возможных направлениях служебную деятельность стихий, но забывающими порою, что не всегда можно пускать на свободу эти порождения душевной бездны. Стоит только стихии вырваться из центра на периферию, чтобы, по общему закону организмов, – она стала обособляться, сосредоточиваться около собственного центра и получила свое отдельное, цельное и реальное бытие...
И тогда – горе заклинателю, который выпустил ее из центра, и это горе неминуемо ждет всякого заклинателя, поколику он человек... Пушкина скосила отделившаяся от него стихия Алеко, – Лермонтова – тот страшный идеал, который сиял пред ним, «как царь немой и гордый», и от мрачной красоты которого самому ему «было страшно и душа тоскою сжималася»; Кольцова – та раздражительная и начинавшая во всем сомневаться стихия, которую тщетно заклинал он своими «Думами». А сколько могучих, но негармонических личностей закруживали стихийные начала: Милонова, Кострова, Радищева в прошлом веке, – Полежаева, Мочалова, Варламова на нашей памяти.
Да не скажут, чтобы я здесь играл словами. Стихийное начало вовсе не то, что личность. Личность пушкинская не Алеко и вместе с тем не Иван Петрович Белкин, от лица которого он любил рассказывать свои повести; личность пушкинская – сам Пушкин, заклинатель и властелин многообразных стихий; как личность лермонтовская – не Арбенин и не Печорин, а сам он,
Еще неведомый избранник, —и, может быть, по словам Гоголя, «будущий великий живописец русского быта». Прасол Кольцов, умевший ловко вести свои торговые дела, спас бы нам надолго жизнь великого лирика Кольцова, – если б не пожрала его, вырвавшись за пределы, та раздражающая действительностию, недовольная, слишком впечатлительная сила, которую не всегда заклинал он своей возвышенной и трогательной молитвою:
О, гори, лампада, Ярче пред распятьем... Тяжелы мне думы. Сладостна молитва.В Пушкине, по преимуществу, как в первом цельном очерке русской натуры, очерке, в котором обозначились и объем и границы ее сочувствий, – отразилась эта борьба, высказался этот момент нашей духовной жизни, хотя великий муж был и не рабом, а властелином и заклинателем этого страшного момента.
Поучительна в высокой степени история душевной борьбы Пушкина с различными идеалами, борьбы, из которой он выходит всегда самим собою, особенным типом, совершенно новым. Ибо что, например, общего между Онегиным и Чайльд-Гарольдом Байрона, что общего между пушкинским и байроновским, или мольеровским французским, или, наконец, испанским Дон-Жуаном?.. Это типы совершенно различные, ибо Пушкин, по словам Белинского, был представителем мира русского, человечества русского. Мрачный сплин и язвительный скептицизм Чайльд-Гарольда заменился в лице Онегина хандрою от праздности, тоскою человека, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрее своих идеалов, который наделен критическою способностию здорового русского смысла, то есть прирожденною, а не приобретенною критической способностию, который – критик, потому что даровит, а не потому, что озлоблен, хотя сам и хочет искать причин своего критического настройства в озлоблении, и которому та же критическая способность может – того и гляди – указать дорогу, выйти из ложного и напряженного положения на ровную дорогу.
С другой стороны, Дон-Жуан южных легенд – это сладострастное кипение крови, соединенное с демонски скептическим началом, на которое намекает великое создание Мольера и которым до опьянения восторгается немец Гофман, – эти свойства обращаются в создании Пушкина в какую-то беспечную, юную, безграничную жажду наслаждения, в сознательное даровитое чувство красоты, в способность «по узенькой пятке» дорисовать весь образ, способность находить «странную приятность» в «потухшем взоре и помертвелых глазках черноокой Инесы»; тип создается, одним словом, из южной, даже африканской страстности, но смягченной русским тонко критическим чувством, – из чисто русской удали, беспечности, какой-то дерзкой шутки с прожигаемою жизнию, какой-то безусталой гоньбы за впечатлениями, – так что чуть впечатление принято душою, душа уже далеко, и только «на снеговой пороше» остался след «не зайки, не горностайки», а Чурилы Пленковича, этого Дон-Жуана мифических времен, порождения нашей народной фантазии.
Взгляните еще на борьбу пушкинской, то есть идеально русской натуры, с тем типом, в котором
Лорд Байрон прихотью удачной Облек в унылый романтизм И безнадежный эгоизм, —на эту схватку с совершенно сложившимся исторически типом могучих, но еще не уходившихся стихийных начал, в которых идеал, мерка не доросли еще до сознания, а между тем бессознательно сказываются, подают свой голос при всяком лишнем шаге и невольно их обуздывают.Эта поучительная для нас борьба и в гениально юношеском лепете «Кавказского пленника», и в Алеко, и в Гирее (недаром же печальной памяти «Маяк» объявлял героев Пушкина уголовными преступниками!), и в Онегине, и в ироническом, лихорадочном и вместе сухом тоне «Пиковой дамы», и в отношениях Ивана Петровича Белкина к мрачному Сильвио в повести «Выстрел». На каждой из этих ступеней борьба стоит подробнейшего изучения... Но что везде особенно поразительно, так это постоянная непоследовательность живой и самобытной души, ее упорная непокорность усвояемому ей типу, при постоянной последовательности умственной, последовательности понимания и усвоения типа. Ясно видно, что в типе есть для этой души что-то неотразимо влекущее и есть вместе с тем что-то такое, чему она постоянно изменяет, что, стало быть, решительно не по ней. Я позволяю себе думать, что глубокое психологическое изучение этих душевных пушкинских отношений внесло бы в наше сознание гораздо больше ясности, чем возгласы о том, что Пушкин и Гоголь, изволите видеть, не сознавали принципов, а г. NN или г. ZZ их сознают и, стало быть, имеют большее для нас значение. Я – и авось-либо не один я – не знаю, да и знать не хочу, какие принципы и какое учение сознавал Пушкин, – а знаю, что для нашей русской натуры он все более и более будет становиться меркою принципов. В нем заключается все наше – все, от отношений, совершенно двойственных, нашего сознания к Петру и его делу до наших тщетных усилий насильственно создать в себе и утвердить в душе обаятельные призраки и идеалы чужой жизни, до нашей столь же тщетной теперешней борьбы с этими идеалами и столь же тщетных усилий вовсе от них оторваться и заменить их чисто отрицательными и смиренными идеалами. И все истинные, правдивые стремления современной нашей литературы находятся в духовном родстве с пушкинскими стремлениями, от них по прямой линии ведут свое начало. В Пушкине надолго, если не навсегда, завершился, обрисовавшись широким очерком, весь наш душевный процесс – и тайна этого процесса в его следующем, глубоко душевном и благоухающем стихотворении:
Художник-варвар кистью сонной Картину гения чернит И свой рисунок беззаконный На ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые, с летами, Спадают ветхой чешуей; Созданье гения пред нами Выходит с прежней чистотой. Так исчезают заблужденья С измученной души моей, И возникают в ней виденья Первоначальных, чистых дней.Этот процесс со всеми нами в отдельности и с нашею общественною жизнию совершался и поныне совершается. Кто не видит могучих произрастаний типового, коренного, народного – того природа обделила зрением и вообще чутьем.
IV
Случайно или, пожалуй, и не случайно, наше славянское коренное и типовое есть вместе и наиболее удобная подкладка для истинно человеческого, то есть христианского, – но только подкладка, не более. И таковою подкладкой является оно вследствие своих отрицательных качеств, страдательных, с одной стороны, критических, с другой. Благодаря тем и другим мы не можем долго и насильственно поддерживать в себе поклонения какому бы ни было человеческому типу, какому бы ни было кумиру, из какого бы драгоценного металла или мрамора этот кумир ни был создан и как бы изящно он ни создался, – а вместе с тем во всяком типе мы видим и слабые его стороны – и тотчас же относимся к ним комически, как бы дорог тип нам ни был.
В этом-то отношении, в цельной натуре Пушкина и в ее борьбе с различными, тревожившими ее и пережитыми ею типами – и заключается для нас слово разгадки... Повторяю еще раз: Пушкин все наше перечувствовал (разумеется, только как поэт, в благоухании), от любви к загнанной старине («Родословная моего героя») до сочувствий реформе («Медный всадник»), от наших страстных увлечений эгоистически-обаятельными идеалами до смиренного служения Савелья («Капитанская дочка»), от нашего разгула до нашей жажды самоуглубления, жажды «матери пустыни», и только смерть помешала ему воплотить наши высшие стремления и весь дух кротости и любви в просветленном образе Тазита, – смерть, которая унесла его столь же преждевременно, как братьев его по духу, таких же набрасывателей многообъемлющего и многосодержащего идеала, Рафаэля Санцио и Моцарта. Ибо есть какой-то тайный закон, по которому недолговечно все, разметывающееся в ширину, и коренится, как дуб, односторонняя глубина...
Есть натуры, предназначенные на то, чтобы наметить грани процессов, набросать полные и цельные, но одними очерками обозначенные идеалы, и такая-то натура была у Пушкина. Он наше все – не устану повторять я, не устану, во-первых, потому, что находятся в наше время критики, даже историки литературы, которые без малейшего зазрения совести объявляют, что Пушкин умер весьма кстати, ибо иначе не стал бы в уровень с современным движением и пережил бы самого себя, – во-вторых, потому, что есть мыслители, не подобным критикам и историкам чета, а достойные уважения по честности и серьезности взгляда, которые к Пушкину находятся немного в тех же отношениях, в каких находились пуритане к Шекспиру, – и, наконец, потому, что многие блестящие и проницательные умы, сознавая великое значение в нашей жизни Пушкина, как воспитателя художественного, не обращают внимания на его нравственно-общественное для нас значение, на то, что в нем – крайние, хотя только обрисованные, набросанные определения всех наших сочувствий, что во всей современной литературе нет ничего истинно замечательного и правильного, что бы в зародыше своем не находилось у Пушкина.
Об этом я буду говорить в свое время и в своем месте... Здесь позволю себе заметить только, что все простые, не преувеличенные юмористически и не идеализированные трагически отношения литературы к окружающей действительности и к русскому быту – по прямой линии ведут свое начало от взгляда на жизнь Ивана Петровича Белкина.
Тип Ивана Петровича Белкина был почти любимым типом поэта в последнюю эпоху его деятельности. Какое же душевное состояние выразил нам поэт в этом типе и каково его собственное душевное отношение к этому типу, влезая в кожу, принимая взгляд которого он рассказывает нам столь многие добродушные истории, между прочим «Летопись села Горохина» и семейную хронику Гриневых, эту родоначальницу всех теперешних «семейных хроник»?
Помните ли вы, мои читатели, место в отрывках главы, не вошедшей в поэму об Онегине и некогда предназначавшейся на то, чтобы привести существование Онегина в многообразные столкновения с русской жизнию и русской землею, как свидетельствуют уцелевшие строфы, – привести эту праздную, тяготящуюся собою жизнь на разные очные ставки с деятельною, суетливохлопочущею жизнию?.. Эти отрывки, хотя они и отрывки, но весьма значительны.
Дело объезжать Россию и сталкиваться с различными слоями ее жизни Пушкин поручил потом не Онегину, а известному «плутоватому человеку» Павлу Ивановичу Чичикову (Гоголь сам говорит, что идея «мертвых душ» дана ему Пушкиным); – но между тем, в этих отрывочных строфах, Онегин является для нас с новой стороны, как лицо, которому, несмотря на всю прожитую бурно жизнь, все-таки некуда девать здоровья и жизни:
Зачем, как тульской заседатель, Я не лежу в параличе? Зачем не чувствую в плече Хоть ревматизма? Ах, создатель! Я молод, жизнь во мне крепка... Чего мне ждать? Тоска, тоска!Да! тоскою о том, что много еще сил, много здоровья и крепости жизни, – должен кончить Онегин, как отражение известной минуты душевного процесса – но не тоскою одной кончает живая, многообъемлющая натура самого поэта:
Порой дождливою намедни Я, завернув на скотный двор... Тьфу! прозаические бредни, Фламандской школы пестрый сор! Таков ли был я, расцветая? Скажи, фонтан Бакчисарая, Такие ль мысли мне на ум Взводил твой бесконечный шум?Эта выходка поэта – негодование на прозаизм и мелочность окружающей его обстановки, но вместе и невольное сознание того, что этот прозаизм имеет неотъемлемые права над душою, что он в душе остался как отсадок после всего брожения, после всех напряжений, после всех тщетных попыток окамениться в байроновских формах. И тщета этой борьбы с собственною душою, и негодование на то, что после борьбы остался именно такой отсадок, – одинаково знаменательны:
Какие б чувства ни таились Тогда во мне, – теперь их нет; Они прошли иль изменились... Мир вам, тревоги прошлых лет! В ту пору мне казались нужны Пустыни, вод края жемчужны, И моря шум, и груды скал, И гордой девы идеал, И безыменные страданья... Другие дни, другие сны! Смирились вы, моей весны Высокопарные мечтанья, И в поэтический бокал Воды я много подмешал. Иные нужны мне картины: Люблю песчаный косогор, Перед избушкой две рябины, Калитку, сломанный забор, На небе серенькие тучи, Перед гумном соломы кучи, Да пруд под сенью ив густых, Раздолье уток молодых... Теперь мила мне балалайка, Да пьяный топот трепака Перед порогом кабака; Мой идеал теперь – хозяйка, Мои желания – покой, Да щей горшок, да сам большой...Поразительна эта простодушнейшая смесь ощущений самых разнородных, негодования и желания набросить на картину колорит самый серый с невольной любовию к картине, с чувством ее особенной, самобытной красоты! Эти строфы – ключ к самому Пушкину и к нашей русской натуре вообще, ключ, гораздо более важный, чем принципы г. NN или г. ZZ... Это чувство есть наше типовое... Оно только что очнулось от тревожно-лихорадочного сна, только что вырвалось из кипящего, страшного омута, оглядывается на божий свет, встряхивает кудрями, чувствует, что и все вокруг него то же, такое же, как было до сна, и само оно то же, такое же, как было до борьбы с призраками, и юношески недовольно тем, что оно свежо и молодо после всех схваток с подводными чудовищами...Но, кружась в водовороте этого омута, наше сознание видело такие сны, и образы их так ясно в нем отпечатлелись, что в призрачной борьбе с ними, или, лучше сказать, меряясь с ними, оно ощутило в себе силы необъятные. Как же это оно так молодо, здорово, испытавши столько, и как же, испытавши столько, оно опять видит пред собою прежнюю обстановку?.. Ведь в борьбе, хотя и призрачной[32], оно узнало само себя, узнало, что не только эту бедную и обыденную обстановку может воспринять и усвоить, но и всякую другую, как бы ни была эта другая сложна, широка и великолепна. Пусть на первый раз оно разъяснило себе себя в чуждой обстановке, то есть пусть на первый раз мера сил познана в примерке к чужому, для них призрачному, – да силы-то уж себя знают, и знают уже, кроме того, что им мала, бедна и узка обыденная обстановка действительности.
А между тем и в самом кружении, в самой борьбе с тенями, силы чувствовали минутами припадки непонятного влечения к этой самой, по-видимому, столь узкой и скудной, обстановке, к своей собственной почве.
Негодование сил, изведавших уже «добрая и злая», – выразившись у Пушкина в вышеприведенных строфах, еще сильней отразилось в стихотворении, которое он сам назвал «капризом»,
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый...», —и от которого пошло в нашей литературе столько стихотворений – и лермонтовских, и огаревских, и некрасовских... Но у Пушкина негодование перешло в серьезную мужескую думу о своих отношениях к миру призрачному и к миру действительному.В те дни, когда муза, по словам его, услаждала ему
...путь немой Волшебством тайного рассказа, —когда... но пусть лучше говорит он сам:
Как часто по скалам Кавказа Она Ленорой, при луне, Со мной скакала на коне! Как часто по брегам Тавриды Она меня во мгле ночной Водила слушать шум морской, Немолчный шепот Нереиды, Глубокий, вечный хор валов, Хвалебный гимн отцу миров.В эти дни молодого и кипучего вдохновения великая натура мерила свои силы со всем великим, что уже она встретила данным и готовым, подвергаясь равномерно влиянию и светлых и темных его сторон. Оказалось, во-первых, что на «вся добрая и злая» – у нее есть удивительная отзывчивость; во-вторых, что эта отзывчивость не может остановиться на среднем пути, а ведет всякое сочувствие до крайних его пределов; и, в-третьих, наконец, что все-таки не может оно перестать любить своего типового, не может не искать его и не может забыть своей почвы... Эта любовь скажется то радостию «заметить разность» между Онегиным и собою, то мечтою о поэме «песен в двадцать пять» с мирным, семейным характером... мало ли чем, наконец? – записыванием сказок старой няньки или анекдотов о старине!..Когда поэт в эпоху зрелости самосознания привел для самого себя в очевидность все эти, по-видимому, совершенно противоположные явления, совершавшиеся в его собственной натуре, – то прежде всего, правдивый и искренний, он умалил себя, когда-то Гирея, Пленника, Алеко, до образа Ивана Петровича Белкина... Я говорю: умалил себя, а не поставил в надлежащие границы, ибо трудно представить себе действительно Иваном Петровичем Белкиным натуру, которая и прежде мерялась, да и не переставала меряться силами с самыми могучими типами, ибо в то же самое время гений поэта проникал в мрачно-сосредоточенную душу Сальери и в вечно жаждущую жизни натуру Дон-Жуана, – стало быть, вовсе не сосредоточивалась исключительно в существовании Белкина.
В этом типе узаконивалась, и притом только на время, только отрицательно, критически, чисто типовая сторона. В существование Белкина пошел только критический отсадок борьбы, а отнюдь не вся личность поэта, – ибо Пушкин вовсе не думал отрекаться от прежних своих сочувствий или считать их противузаконными, – как это готовы делать иногда мы. Белкин для Пушкина вовсе не герой его, – а просто критическая сторона души, ибо иначе откуда взялась бы в душе поэта другая сторона ее, сторона широких и пламенных сочувствий?
Недавно – года два тому назад – один критик, разбирая «Семейную хронику» Аксакова и повергая к ее подножию всю русскую литературу, упрекал Лермонтова в малом уважении его к личности Максима Максимыча. Но мы были бы народ весьма не щедро наделенный природою, если бы героями нашими были Иван Петрович Белкин и Максим Максимыч. Тот и другой вовсе не герои, а только контрасты типов, которых величие оказалось на нашу душевную мерку несостоятельным.
Что такое пушкинский Белкин, тот Белкин, который плачется в повестях Тургенева о том, что он вечный Белкин, что он принадлежит к числу «лишних людей», или «куцих»[33], – которому в Писемском смерть хотелось бы – но совершенно тщетно – посмеяться над блестящим и страстным типом, которого хочет не в меру и насильственно поэтизировать Толстой и пред которым даже Петр Ильич драмы Островского «Не так живи, как хочется» – смиряется... по крайней мере, до новой масленицы и до новой Груши?
Белкин пушкинский есть простой здравый толк и здравое чувство, кроткое и смиренное, – вопиющий законно против злоупотребления нами нашей широкой способности понимать и чувствовать: стало быть, начало только отрицательное, – правое только как отрицательное, ибо представьте его самому себе – оно перейдет в застой, мертвящую лень, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова.
Посмотрите на этот отрицательный тип у Пушкина – везде, где он у него самолично является или где поэт повествует в его тоне и с его взглядом на жизнь... Запуганный страшным призраком Сильвио, ошеломленный его мрачной сосредоточенностию в одном деле, в одной мстительной мысли, – он еще не сомневается в том, что Сильвио может существовать: только в наше время, в повестях Толстого дошел он анализом до предположения, что таких людей, как Сильвио, не бывает. У Пушкина он знает только, что сам он вовсе не Сильвио, и боится этого типа. «Нет уж, – говорит он, – лучше пойду я к людям попроще», – и первый опускается в простые и так называемые низшие слои жизни. В «Гробовщике» – зерно всех наших теперешних отношений в этих слоях жизни, а в «Станционном смотрителе» – зерно всей натуральной школы.
Но с этой жизнию попроще, куда он хочет спуститься, он ведь тоже разобщен кой-каким образованием, а главное, он уже смотрит на нее с высоты этого кой-какого образования.
Комизм положения человека, который считает себя обязанным по своему образованию смотреть как на нечто себе чуждое на то, с чем у него гораздо более общего, чем с приобретенными им верхушками образованности, – является необыкновенно ярко в лице Белкина, автора «Летописи села Горохина»... Эта летопись – тончайшая и вместе добродушно-поэтическая насмешка над целою вековою полосою нашего развития, над всею нашею поверхностною образованностию, из которой мы вынесли взгляд, совершенно неприложимый к явлениям окружающей нас действительности... В этом наивном летописце села Горохина лукаво скрыты и все наши прошлые взгляды на наш быт и нашу старину, выражавшиеся то стихами вроде:
Российские князья, бояре, воеводы, Пришедшие чрез Дон отыскивать свободы, —то фразами, как, например: «Ярослав приехал господствовать над трупами», или: «Отселе история наша приемлет достоинство истинно государственной», – по удивительному поэтическому предведению, скрыты так же, как и все теперешние наши отношения к действительности.И ведь мало того, что в этом легком очерке, в этих немногих гениальных страницах – бездна самой беспощадной иронии: в них есть нечто высшее иронии. Откуда в нем, в этом Белкине, который считает обязанностию писать с важностию древних историков о стране, называемой Горохином, и живописует вычурным тоном нравы ее обитателей, – откуда в нем такое удивительное знание этих нравов и такое любовное и вместе совершенно правильное к ним отношение?.. о, сказки Ирины Родионовны, – пробивавшиеся в натуре нашего поэта сквозь все искусственные произрастания, – вы хранили такую свежую, чистую струю в душе молодого, воспитанного по-французски барича, – что отдаленное потомство помянет вас добрым словом и благословением, забывши разные принципы, сознательным проведением которых гг. NN, ZZ и иные стоят якобы выше Пушкина и Гоголя!
Все наши жилы бились в натуре Пушкина, и в настоящую минуту литература наша развивает только его задачи – в особенности же тип и взгляд Белкина. Белкин, который писал в «Капитанской дочке» хронику семейства Гриневых, написал и «хронику семейства Багровых»; Белкин – и у Тургенева и у Писемского, Белкин отчасти и у Толстого – ибо Белкин пушкинский был первым выражением критической стороны нашей души, очнувшейся от сна, в котором грезились ей различные миры.
Но чтобы понять Белкина и оценить его ни выше, ни ниже того, чего он действительно стоит, то есть чтобы разъяснить себе эту критическую сторону нашей души, – должно попристальнее вглядеться и в тот пестрый сон, в котором душа наша освоивалась с многообразными мирами, перед ней мелькавшими, боролась с многими для нее обаятельными призраками. В отношениях, хотя и напряженных, к этим призракам – сказались, однако, существенные свойства нашей души, ее сочувствия или вражды, широта ее захвата, пределы ее сил; это были пробы ее самостоятельной жизни.
Если бы начать доискиваться, какие принципы руководили Пушкина в создании лиц Пленника, Гирея, Алеко, Сильвио, Германна, то можно было бы дойти только до обвинения его в том, что герои его – уголовные преступники, или до противоположных нелепостей. Ни к чему иному исканье принципов обыкновенно не приводит, да и привесть не может. Не мудрено отыскать принципы в обличительной и полезной литературе, но,
...позабыв свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у вас метлу берут? —хотя, с другой стороны, – великие жрецы и не суть жрецы какого-то отвлеченного от жизни, бессеменного и бесплодного искусства.Живое создание не укладывается в тесные рамки, назначаемые принципами, – как и жизнь сама в них не укладывается. Жизнь весьма часто иронически смеется над самыми верными принципами, которыми хотят ее определить. Вдруг порою покажет она нежданно-негаданно такие силы, которые способны создавать новые миры, когда вы думаете, что совершенно вызнали ее ход, что проникли ее тайную думу, – когда вы уверены, что она вот так и будет двигаться по предузнанному вами направлению!
VI
Гоголь еще только что выступил тогда на литературное поприще, и немногие понимали еще все его будущее великое значение для нашей литературы и нашей общественной жизни. Положительно можно сказать, что вполне понимавшими громадность этого тогда только что выступившего таланта были Пушкин, благословивший его, как некогда «старик Державин» благословил самого Пушкина, – Белинский и Плетнев.
«Г-н Гоголь, – говорит Белинский в тех же „Литературных мечтаниях“, – принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому неизвестны его „Вечера на хуторе близь Диканьки“? Сколько в них остроумия, веселости, поэзии и народности! Дай бог, чтобы он вполне оправдал поданные ими о себе надежды!»
Думал ли сам критик, когда писал он эти немногие, но глубоко сочувственные строки, о том, в какой мере суждено и осуществиться и потом разбиться его надеждам... Разумеется, нет. Он шел потом с Гоголем рука об руку, толкуя, поясняя его, разливая на массу свет его высоких произведений. Гоголь стал литературным верованием Белинского и целой эпохи, – и здесь место определить свойства его великой художественной натуры, до минуты ее болезненного разложения, – ибо этими свойствами определяются и степень и значение влияния его на всю последующую эпоху литературного движения.
Всякое дело получает значение по плодам его, и каков бы ни был талант поэта, одного только таланта как таланта еще недостаточно. Важное дело в поэте то, для чего у немцев существует общепонятный и общеупотребительный термин die Weltanschauung, что у нас, tant bien que mal[34], переводится миросозерцанием.
Миросозерцание, или, проще, – взгляд поэта на жизнь, не есть что-либо совершенно личное, совершенно принадлежащее самому поэту. Широта или узость миросозерцания обусловливается эпохой, страной, одним словом, временными и местными историческими обстоятельствами. Гениальная натура, при всей своей крепкой и несомненной самости или личности, является, так сказать, фокусом, отражающим крайние истинные пределы современного ей мышления, последнюю истинную степень развития общественных понятий и убеждений. Это мышление, эти общественные понятия и убеждения возводятся в ней, по слову Гоголя, в «перл создания», очищаясь от грубой примеси различных уклонений и односторонностей. Гениальная натура носит в себе как бы клад всего непеременного, что есть в стремлениях ее эпохи. Но, отражая эти стремления, она не служит им рабски, а владычествует над ними, глядя яснее многих вперед. Противоречия примиряются в ней высшими началами разума, который вместе с тем есть и бесконечная любовь.
Отношение такой гениальной натуры к окружающей ее и отражающейся в ее созданиях действительности только на первый взгляд представляется иногда враждебным. Вглядитесь глубже, и во вражде, в желчном негодовании уразумеете вы любовь, только разумную, а не слепую; за мрачным колоритом картины ясно будет сквозить для вас сияние вечного идеала, и, к изумлению вашему, нравственно выше, благороднее, чище выйдете вы из адских терзаний Отелло, из безвыходных мук морального бессилия Гамлета, – из грязной тины мелких гражданских преступлений, раскрывающейся пред вами в «Ревизоре», и пусть холод сжимал ваше сердце при чтении «Шинели», вы чувствуете, что этот холод освежил и отрезвил вас, и нет в вашем наслаждении ничего судорожного, и на душе у вас как-то торжественно. Миросозерцание поэта, невидимо присутствующее в создании, примирило вас, уяснивши вам смысл жизни. Поэтому-то создание истинного художника в высокой степени нравственно, не в том, конечно, пошлом и условном смысле, над которым поделом смеется наш век: избави вас небо от той нравственности, которая до сих пор еще готова видеть в Пушкине безнравственного поэта и в героях его уголовных преступников, которая до сих пор еще не прощает Мольеру его Тартюфа и доискивается атеизма в Шекспире. Нет, создание истинного художника нравственно в том смысле, – что оно живое создание. Оживите перед вами лица Шекспировых драм, обойдитесь с ними как с живыми личностями, призовите их вторично на суд, и вы убедитесь, что Немезида, покаравшая или помиловавшая их, полна любви и разума. Даже не нужно и убеждаться в том, что совершенно непосредственно сознается, осязательно чувствуется.
В сердце у человека лежат простые вечные истины, и по преимуществу ясны они истинно гениальной натуре. От этого и сущность миросозерцания одинакова у всех истинных представителей литературных эпох, различен только цвет. Одну и ту же глубокую, живую веру и правду, – одно и то же тонкое чувство красоты и благоговения к ней встретите вы в Шекспире, в Гоголе, в Гете и в Пушкине, – та же самая нота звучит и в напряженном пафосе Гоголя, и в мерно-ровном, блестящем течении творчества Гете, и в благоуханной простоте Пушкина, и в строго-безукоризненном величии Шекспира. Различие может быть только в степени и в цвете чувствования. Мы верим Гете, когда слышим из уст его слово его жизни, спокойное и твердое слово юноши-старца:
Das Wahre war schon längst gefunden, Hat edle Geisterschaft verbunden; Das alte Wahre fab es an[35], —и понимаем, что эта великая натура, вопреки воплям Менцелей и писку разных насекомых, от сердца сказала: «О высоких мыслях и чистом сердце должны мы просить бога». Мы верим Пушкину, когда говорит он нам:
Но не хочу, о други, умирать, Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать; И знаю, будут мне минуты наслажденья Средь горестей, забот и треволненья...Мы, повсюду за живыми лицами Шекспировых драм, сочувствуем великой мужеской личности самого творца и внимаем разумно-любовному слову жизни; мы слышим тоску по идеале в созданиях Гоголя, все равно, с кем ни знакомит он нас, с Тарасом ли Бульбой или с Маниловым, с Акакием ли Акакиевичем или с ослепляющей, как молния, красотой Аннунциаты. И какое таинственное чутье указывает гениальной натуре пределы в создании, что охраняет ее от двух зол: от рабской копировки явлений жизни и от ходульной идеализации, что заставляет ее остановиться вовремя, что, наконец, хранит в ней самой так свято, так неприкосновенно завещанное ей ее слово жизни?.. Одна бы, кажется, недомолвка – и Акакий Акакиевич поразил бы вас не трагическим, а сентиментально-плаксивым впечатлением; еще бы одна черта – и Миньона Гете стала бы фальшивой, хотя блестящей Эсмеральдой; лишняя минута в жизни Татьяны или лишний порыв в простом рассказе о «капитанской дочке», и эти создания потеряли бы свою недосягаемую простоту; немного гуще краски в изображении Офелии или Дездемоны – и гармония, целость, полнота «Отелло» и «Гамлета» были бы нарушены!
Истинный художник сам верует в разумность создаваемой им жизни, свято дорожит правдою, и оттого мы в него веруем, и оттого в прозрачном его произведении сквозит очевидно созерцаемый им идеал: фигуры его рельефны, но не до такой степени, чтобы прыгали из рам; за ними есть еще что-то, что зовет нас к бесконечному, что их самих связывает незримою связью с бесконечным. Одним словом, как говорит Гоголь в своем глубоком по смыслу «Портрете», предметы видимого мира отразились сперва в душе самого художника – и оттуда уже вышли не мертвыми сколками с видимых явлений, а живыми, самостоятельными созданиями, в которых, как Гоголь же говорит, «просвечивает душа создавшего».
Гоголь, одна из таких предызбранных гениальных натур, пояснил нам отчасти процесс такого извнутри выходящего творчества. Вот это многознаменательное, хотя болезненное признание, подавшее повод в свое время к различным толкам. Великий художник, яснее и врагов своих и поклонников, определяет здесь и свойство и значение своего таланта, и пружины своего творчества, и, наконец, даже свою историческую задачу («Переписка с друзьями», стр. 141).
«Герои мои, – говорит Гоголь, – потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения – история моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определю тебе себя самого, как писателя. Обо мне много толковали, разбирали кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого нет у других писателей».
Останавливаемся несколько здесь и заметим, что поэт напрасно боялся открыть это душевное обстоятельство. Оно, по нашему мнению, относится не к человеку Гоголю, а к художнику, в широкой натуре которого заключены и «добрая и злая». Гоголь как художник должен был быть таковым, чтобы сказать миру свое слово, и все, что говорит он о себе как о человеке, должно относить к художнику.
«Итак, вот в чем мое главное достоинство, – продолжает он, – но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною.
Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков, все равно, как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность, но зато, вместо того, во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств, но лучшее из них было желание быть лучшим. Я стал, – говорит далее поэт, – наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы точно содрогнулся».
Здесь мы оставляем нравственную, лично-человеческую сторону, забываем странное смешение признаний нравственных с эстетическими: берем эти места как материал, бросающий ясный свет на процесс художнического творчества, о чем Гоголь, разумеется, не думал в своей странной книге. Для нас – это ключ к гениальной натуре и к ее творчеству. Две черты ярко обозначаются в этом саморазложении: с одной стороны, природа многосторонняя, в которой божий мир отражается со всем разнообразием дурного и хорошего, с другой стороны, природа сосредоточенно-страстная, тонко чувствующая, болезненно-раздражительная. Эта сосредоточенная страстность, эта способность болезненно, то есть слишком чутко, отзываться на все и составляет, вместе с постоянным стремлением к идеалу, особенный цвет гоголевской гениальности. Гете спокойно, ясно отражал в себе действительность и, столько же многообразная, но сангвиническая натура, – отбрасывал ее от себя, как шелуху, высвобождаясь беспрестанно из-под ее влияния, установляя в себе одном центр. Пушкин был чистым, возвышенным и гармоническим эхом всего, все претворяя в красоту и гармонию; Шекспир постоянно носил в себе светлый характер Генриха V и, как тот из отношений с Фальстафом, – выходил цел и с ясным челом, с вечным сознанием собственных сил из мук Макбета, Отелло и Гамлета. Гоголю дано было все язвы износить на себе и следы этих язв вечно в себе оставить. Натура холерически-меланхолическая, склонная к бесконечной вдумчивости, подверженная борьбе со всеми темными началами, и между тем сама в себе носящая залог спасения, – «желание быть лучшим», стремление к идеалу, стремление, обусловленное в своей возможности той же страстностию и раздражительностию. Как до непомерно громадных размеров разрастаются в этой душе различные противоречия действительности, так отзывается же она и на красоту, истину и добро. Творец Акакия Акакиевича, с тем вместе и жарко чувствует красоту Аннунциаты, хотя, по особенному свойству таланта, не в силах создать сам живого образа красоты. В одну из страшных минут своей моральной жизни эта великая натура высказала стонами и воплями свое отношение к идеалу. «Замирает от ужаса душа, – говорит поэт, как бы пожираемый огнем той таинственной любви, которая и светит тихим светом, и жжет пламенем неугасимым, и поражает, как меч обоюдоострый, – при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений бога, перед которыми пыль все величие его творений, здесь вами зримых и вас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся».
Отношение подобной натуры к действительности, ее окружающей и ею отражаемой, выразилось опять-таки по ее же свойству в юморе, и притом в юморе страстном, гиперболическом. Историческая задача ее была: сказать, что «дрянь и тряпка стал всяк человек», «выставить пошлость пошлого человека», свести с ходуль так называемого добродетельного человека, уничтожить все фальшивое самообольщение, привести, одним словом, к полному христианскому сознанию, но спокойно, бесстрастно она сделать этого не могла. Двоякий путь предстоял художнику в обращении с этою действительностию: или дать волю собственному болезненному раздражению и негодованию, или просто списывать. Ни того, ни другого Гоголь по натуре своей сделать не мог. Не мог он холодно списывать, потому что сам на себе носил язвы, им изображаемые; не увлекся он и личною раздражительностию, потому что весь проникнут был желанием усовершенствования. Те чудовища, которые выливались, по его признанию, из-под пера его, для него были чудовищами и явились на свет божий в произведениях других, которые пошли по его пути, но не руководились его светом, явились в господине Голядкине, господине Прохарчине и других, запечатленных порою высокою даровитостию, но явно болезненных произведениях самого блестящего из представителей натуральной школы. С другой стороны, и голая копировка действительности выступила ярко во многих позднейших произведениях, как другая крайняя сторона того же Гоголя. В произведениях этих двух ветвей натуральной школы, бесспорно, высказалось много таланта, но как в болезненном до чудовищности юморе, под влиянием которого рождались различные чудовища без формы и вида, с одной громадной и вместе мелочной претензией личности, так и в дагерротипном изображении различных повседневных явлений раздвоился полный и цельный Гоголь.
VIII
Гоголь впервые выступил на литературное поприще с своими «Вечерами на хуторе близь Диканьки». Это были еще юношеские, свежие вдохновения поэта, светлые, как украинское небо: все в них ясно и весело, самый юмор простодушен, как юмор народа; еще не слыхать того грустного смеха, который после является единственным честным лицем в произведениях Гоголя, и самое особенное свойство таланта поэта, «свойство очертить всю пошлость пошлого человека», выступает здесь еще наивно и добродушно, и легко и светло оттого на душе читателя, как светло и легко на душе самого поэта: над ним как будто еще развернулось синим шатром его родное небо, он еще вдыхает благоухание черемух своей Украйны. Здесь проявляется в особенности необычайная тонкость его поэтического чувства. Может быть, ни один писатель не одарен был таким полным, гармоническим сочувствием с природою, ни один писатель не постигал так пластической красоты, красоты полной, «существующей для всех и каждого», никто, наконец, так не полон был сознания о «прекрасном» физически и нравственно человеке, как этот писатель, призванный очертить пошлость пошлого человека, и по тому самому ни один писатель не обдает души вашей такой тяжелой грустью, как Гоголь, когда он, как беспощадный анатомик, по частям разнимает человека... В «Вечерах на хуторе» еще не видать этого беспощадного анализа; юмор еще только причудливо грациозен: в гомерическом ли изображении пьяного Каленика, отплясывающего гопака на улице в майскую ночь, в простодушном ли очерке характера Ивана Федоровича Шпоньки, в котором таится уже зерно глубокого создания характера Подколесина. В этом быте, простом и вместе поэтическом быте Украйны, поэт еще видит свою красавицу Оксану, свою Галю – чудное существо, которое спит в «божественную ночь, очаровательную ночь», спит, распустив черные косы, под украинским небом, когда на этом небе «серпом стоит месяц»; тут все еще полно таинственного обаяния: и прозрачность озера, и фантастические пляски ведьм, и лик утопленницы-панночки, запечатленный какой-то светлой грустью. А Сорочинская ярмарка с ее шумом и толкотнею, а кузнец Вакула, а исполинские образы двух братьев Kaрпатских гор, осужденных на страшную казнь за гробом, эти дантовские образы народных преданий? Все это еще то светло, то таинственно и обаятельно-чудно, как лепет ребенка, как сказки старухи няни.
Но не долго любовался поэт этим бытом, радовался беспечной радостию художника, воссоздавая этот быт. Он кончил его апотеозу эпопеею о Тарасе Бульбе и легендой о Вие, где вся природа его страны говорит с ним шелестом трав и листьев в прозрачную летнюю ночь и где между тем в тоске безысходной, в замирании сердца мчащегося с ведьмою по бесконечной степи философа Хомы Брута слышится тоска самого поэта и невольно переходит на читателя. Разделавшись навсегда с обаянием своего родного края в этой части своего «Миргорода», Гоголь уже взглянул оком аналитика на действительность: простодушно, как прежде, принялся было он чертить истинно человеческие фигуры Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны и остановился в тяжелом раздумье над страшным трагическим fatum, лежащим в самой крепости, в самой непосредственности их отношений: с гиперболически веселым юмором изобразил бесплодные существования Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича и, кончая свою картину, вынужден был воскликнуть: «Скучно на этом свете, господа». С этой минуты он уже взял в руки анатомический нож, с этой минуты обильно потекли уже «сквозь зримый миру смех незримые слезы». Но страшно ошиблись бы те, которые в этих слезах увидели бы только слезы негодования. Везде Гоголя выручает юмор, и этот юмор полон любви к жизни и стремления к идеалу, везде, одним словом, виден поэт, чуждый всякой задней мысли. Этот юмор достигает крайних пределов своих в «Носе», оригинальнейшем и причудливейшем произведении, где все фантастично и вместе с тем все – в высшей степени поэтическая правда, где все понятно без толкования и где всякое толкование убило бы поэзию...
Все глубже и глубже опускался скальпель анатомика, и наконец в «Ревизоре» один уже смех только выступил честным и карающим лицем, а между тем тому, кто понимает великое общественное значение этой комедии (а кто же не понимает его теперь и для кого оно не уяснилось?), очевидны сквозь этот смех слезы. Вся эта бездна мелочных, но в массе тяжких грехов и преступлений, разверзающаяся с ужасающею постепенностию перед глазами зрителей, прежде спокойная, невозмутимая, как болотная тина, и словно развороченная одним прикосновением пустого проезжего чиновника, этот страх перед призраком, принятым за действительную грозу закона, глубокий смысл того факта, что тревожная совесть городских властей ловится на такую бренную удочку, – все это ясно и понятно уже каждому в наше время; что же касается до господ, до сих пор еще удивляющихся тому, как мог городничий, обманувший трех губернаторов, принять за ревизора проезжего свища, то остается только подивиться чистоте их совести, которой никогда не тревожили призраки, вызванные ее собственным тревожным состоянием, или недобросовестности, озлобленной на русскую литературу вообще и на одного из великих ее представителей в особенности. Рассуждающие о несообразности этого происшествия вовсе не понимают ни поэтической гиперболы, ни смысла комедии Гоголя, не понимают, что чем пустее, чем глаже и бесцветнее Хлестаков, тем очевиднее комическая Немезида над беззакониями города.
Мы сказали, что особенное свойство гоголевского юмора обусловлено отношением натуры его к действительности. С одной стороны, это натура, по признанию самого Гоголя, многосторонняя и, стало быть, способная отражать в себе действительность со всем бесконечным разнообразием ее явлений, и притом отражать ярко и цельно, – с другой стороны, это – натура в высшей степени страстная, на которую все противоречия идеалу действуют болезненно. Руководи Гоголя только личное раздражение, будь он, одним словом, не в такой степени исполнен чутья жизни, он был бы только великим лириком-дидактиком; будь в нем меньше настоящего стремления к идеалу, раздражение его противоречиями действительности отзывалось бы пафосом, несколько натянутым. Вещи познаются по сравнению, и чтобы оценить Гоголя, стоит только сравнить его произведения с другими, тоже талантливыми произведениями. Есть, например, на первый взгляд, нечто общее между пафосом «Насмешки мертвеца», «Города без имени», «Квартиры с отоплением и освещением» и других произведений талантливого и мыслящего кн. Одоевского и пафосом «Невского проспекта», «Записок сумасшедшего», «Шинели», «Рима», но вглядитесь пристальнее, и вы увидите бесконечную разницу, вслушайтесь внимательнее – и в прекрасных дидактических рассказах Одоевского вы услышите только отрицательный пафос, пафос негодования пополам с горькою ирониею Гамлета, с улыбкою скорби скептика, с неопределенными стремлениями мистика. Вы чувствуете, что вражда не осилила здесь действительности, не обладает ею мужески, и только плачет над нею, только обещает что-то лучшее в туманной безграничной дали. В пафосе Гоголя и в самых капризных причудах его юмора вы чувствуете живое чутье к жизни, любовь к жизни; его идеалы красоты и правды существуют для него в крепких осязаемых формах. С другой стороны, сравните, например, «Шинель» с однородною почти с нею по основным мыслям повестию даровитого писателя Н. Ф. Павлова «Демон». Сравните хоть сцену с начальником у того и другого писателя! А между тем вы не можете не сознаться, читая «Демона», что талант тут явно присутствует, что анализ тут чрезвычайно глубок; может быть, даже оттого это и действует, что анализ чересчур уже старается быть глубоким, что талант принимает чудовища фантастически настроенного воображения за действительные, живые создания, и страдания бедного Ивана Петровича, помешавшегося на мысли, что бедная жизнь заест век его хорошенькой половины, растут до невероятно колоссальных размеров, и странно то, что чем больше они стараются расти, тем меньше вы становитесь способны им сочувствовать, и весь пафос автора пропадает задаром. Напротив, как просто рассказано обхождение чиновников с Акакием Акакиевичем и его горе при потере шинели, а сердце ваше сжимается, и вместе с тем в каком-то упоении восторга наслаждаетесь вы этим верным художественным анализом. Мы не хотим сравнивать Гоголя с позднейшими произведениями школы, которая была представительницею крайности его болезненного юмора; мы не напоминаем этих страшных, чудовищных снов, где, наконец, самые сапоги получают физиономию и являются фантастическими существами. Возьмите, например, две повести Гоголя, где он изобразил нам тип чрезвычайно исключительный, тип художника. Музыкантов, поэтов, живописцев, вообще художников – и до него и после него весьма часто изображали в нашей литературе; это была даже общая тема повестей тридцатых годов нашей словесности, тема, успевшая уже в сороковых годах стать совершенно избитою темою; по крайней мере, в эти годы уже потерял всякий кредит и совершенно опошлился романтический способ представления художников и поэтов в манере повестей Полевого и драм г. Кукольника. У Полевого раз весьма наивно обличилась разгадка этого способа; последнее слово направления сказалось у него в «Аббаддонне», где поэты и художники ставятся на одну доску с сумасшедшими. Наивно сказалось это слово потому, что ничего дурного не подразумевал в таком сопоставлении романист, написавший даже повесть под заглавием «Блаженство безумия». Действительно: художники и поэты гг. Полевого, Кукольника, Тимофеева, заговаривающиеся ли, как Доминикино, до детского лепета, вроде: «Цаца ляля, цаца ляля!» – отвергающие ли всякие права ума в земном мире, как Джакобо Санназар, достойны, по всей справедливости, заключения иногда в сумасшедшие, иногда в смирительные дома. Должно сказать притом, что появление в литературе нашей этого типа, правильно или неправильно взятого, произошло вовсе не из потребностей общежития и что самое отношение к типу было неоригинально.Гоголь, призванный разоблачать фальшь всего того, что в нашей жизни взято напрокат из чужих жизней или что, под влиянием внешнего формализма, развилось в ней в неорганический нарост, – Гоголь разом порешил и в этом деле все фальшивые отношения мысли к типу в своем «Невском проспекте». Какую поразительную черту провел он здесь между положением художника в других странах и положением его в нашем общежитии! Как оттенил он лице художника Пискарева сопоставлением жизни и трагической судьбы его с судьбою поручика Пирогова! Какою скорбною и вместе возвышеннейшею ирониею проникнут поэт в своих отношениях к этому лицу, которому он при всей иронии своей, обращенной на его экзотичность, глубоко и болезненно сочувствует и к которому глубокое же и болезненное сочувствие возбуждает он в читателях, а с другой стороны, как свел он с ходуль и возвратил в простую действительность этот тип, доведенный до крайности смешного повестями тридцатых годов, получивших его из германской романтической реакции или даже из вторых рук французского романтизма. В «Невском проспекте» и в первой части «Портрета» Гоголь почти исчерпал все наличные отношения художника к жизни, отношения трагические в обоих этих произведениях: в одном трагическое отношение мечтательного идеализма художнической натуры к общежитию, в другом не менее трагическое поглощение художнического идеализма искушениями формального общежития, официальностию, светскостию, внешним лоском и рутинерством.
Еще и прежде, впрочем, Пушкин не менее глубоко отнесся к типу художника, взявши его в самой условнейшей среде общежития. Его Чарский, стыдящийся своего поэтического призвания, запирающийся, когда нападет на него блажь писать стихи, и между тем сознающийся, что никогда он не бывает так счастлив, как в эпохи этой блажи, – тоже создан под влиянием созерцания иронического, под влиянием мысли, весьма неутешительной, о разъединенности художества с жизнию общества, о том, что художники и художество суть в общежитии растения экзотические. Замечательно, что именно те писатели, которые вывели наше искусство из теплиц на вольный воздух жизни, развили в обществе внутреннюю потребность искусства, воспитали в нем понимание искусства, – высказали такое ироническое воззрение.
Сравнивая юмор Гоголя с юмором других юмористов: Стерна, Ж.-П. Рихтера, Диккенса, Гофмана – мы наглядно можем убедиться в его особенности. В Жан-Поле, например, при всей оригинальной его гениальности, нельзя не видать немецкого мещанства, kleinstädtisches Wesen[36]. Юмор Гофмана только в эксцентричностях находит спасение от удушливой тюрьмы мещанства и филистерства; юмор Стерна весь вышел из скептицизма XVIII века и разлагается на две составные части, на слезливую сентиментальность и на скептическую иронию Гамлета над черепом Йорика. Юмор же Гоголя полон, целен, неразложим; Диккенс так же, пожалуй, исполнен любви, как Гоголь, но его идеалы правды, красоты и добра чрезвычайно узки, и его жизненное примирение, по крайней мере, для нас, русских, довольно неудовлетворительно, чтобы не сказать пошло; его братцы Чарльсы и другие добрые герои для нас приторны. И у нас на Руси найдутся, пожалуй, образы, которые с первого взгляда покажутся похожи на братцев Чарльсов, и мы любим душевно эти образы, эти добрые личности. Но, во-первых, в них нет методически-пуританской добродетели по заданным себе наперед темам, – а во-вторых, надобно спросить себя самих: что именно мы в них любим? Одну ли только доброту? Как бы не так! Мы любим в них смышленость, здоровый ум, известный юмор – соединенные с добротою. Мы скорее за означенные качества легко перевариваем в человеке примесь маленькой грязцы, дряни, мошенничества, – нежели уважим тупоумие за одну доброту. Недаром же у нас пословица, что «простота хуже воровства».
Мы привели уже место, где сам поэт высказал с величайшею искренностию и простотою побудительные причины своего юмора. «Не думай, однако же, после моей исповеди, – оканчивает он свое третье письмо по поводу „Мертвых душ“ („Переписка с друзьями“, стр. 149), – чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои: нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им, но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои, я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет бог, и это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих недостатков избавился тем, что передал их своим героям, их осмеял в них и заставил других также над ними посмеяться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с тою гадостью, которая всем видна. Тебе объяснится также и то, почему не выставил я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь постоянством и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств, – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и как земля от неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошемаров я также не выдумывал: кошемары эти давили собственную мою душу: что было в душе, то из нее и вышло».
Такова была цельная и гармоническая художественная натура поэта до эпохи ее болезненного уклонения, до эпохи того страшного переворота, который окончательно содействовал к раздвоению направлений русской мысли. Но об этой несчастной эпохе говорить еще здесь не место. Мы начинаем здесь с того, во что еще полно и цельно верил энергичнейший представитель нашего критического сознания Виссарион Белинский.
VIII
К числу его глубочайших литературных верований принадлежала и поэзия Лермонтова... На этом основании мы, прежде чем обозреть литературу тридцатых годов, – захватываем в общих чертах и это необыкновенное явление, оставившее такой глубокий след на сороковых годах.
По крайней мере, мы позволим себе определить главные свойства этой совершенно трагической натуры.
В Лермонтове – две стороны. Эти две стороны: Арбенин (я беру нарочно самую резкую сторону типа) и Печорин. Арбенин (или все равно: Мцыри, Арсений и т. д.) – это необузданная страстность, рвущаяся на широкий простор, почти что безумная сила, воспитавшаяся в диких понятиях (припомните воспитание Арбенина, или Арбеньева, как названо это лице в известном лермонтовском отрывке), вопиющая против всяких общественных понятий и исполненная к ним ненависти или презрения, сила, которая сознает на себе «печать проклятья» и гордо носит эту печать, сила отчасти зверская и которая сама в лице Мцыри радуется братству с барсами и волками. Пояснить возможность такого настроения души поэта не может, кажется мне, одно влияние музы Байрона. Положим, что Лара Ньюстида обаянием своей поэзии, так сказать, подкрепил, оправдал тревожные требования души поэта, – но самые элементы такого настройства могли зародиться только или под гнетом обстановки, сдавливающей страстные порывы Мцыри и Арсения, или на диком просторе разгула и неистового произвола страстей, на котором взросли впечатления Арбенина.
Представьте же подобного рода, под гнетом ли, на просторе ли развившиеся, стремления – в столкновении с общежитием, и притом с условнейшею из условных сфер его, с сферою светскою! Если эти стремления – точно то, за что они выдают себя, или, лучше сказать, чем они сами себе кажутся, – то они суть совсем противуобщественные стремления, не только что противуобщественные в смысле условном; и – падение или казнь ждут их неминуемо. Мрачные, зловещие предчувствия такого страшного исхода отражаются во многих из лирических стихотворений поэта, и особенно ясно в стихотворении «Не смейся над моей пророческой тоскою». Если же в этих стремлениях есть известная натяжка, известная напряженность, – выросшие опять-таки под гнетом или на диком просторе, среди своевольных беззаконий обстановки, то первое, что закрадется в душу человека, тревожимого ими или встретившего отпор им в общежитии, будет, конечно, сомнение, но еще не истинно разумное сомнение в законности произвола личности, а только сомнение в силе личности, в средствах ее.
Вглядитесь внимательнее в эту нелепую, с детской небрежностию набросанную, хаотическую драму «Маскарад», и след такого сомнения увидите вы в лице князя Звездича, которого одна из героинь определяет так:
...безнравственный, безбожный, Себялюбивый, злой, – но слабый человек!В создании Звездича – выразилась минута первой схватки разрушительной личности с условнейшею из сфер общежития, схватки, которая кончилась не к чести диких требований и необъятного самолюбия. Следы этой же первой эпохи, породившей разуверение в собственных силах, отпечатлелись во множестве стихотворений, из которых одно замечательно наиболее по строфе, определяющей вполне минуту подобного душевного настройства:
Любить? но кого же? на время не стоит труда, А вечно любить невозможно! В себя ли заглянешь? там прошлого нет и следа; И радость и горе и все так ничтожно!И много неудавшихся Арбениных, оказавшихся при столкновении с светскою сферою жизни соллогубовскими Леониными, – отозвались на эти строки горького, тяжелого разубеждения: одни только Звездичи остались собою совершенно довольны.Между тем лице Звездича и несколько подобных стихотворений – это тот пункт, с которого в натуре нравственной, то есть крепкой и цельной, должно начаться правильное, то есть комическое, и притом беспощадно комическое, отношение к дикому произволу личности, оказавшемуся несостоятельным. Но гордость редко может допустить такой поворот.
В стремлении к идеалу или на пути духовного совершенствования всякого стремящегося ожидают два подводных камня: отчаяние от сознания своего собственного несовершенства, из которого есть еще выход, и неправильное, непрямое отношение к своему несовершенству, которое почти совершенно безвыходно. Что человеку неприятно и тяжело сознавать свои слабые стороны, это, конечно, не подлежит ни малейшему сомнению: задача здесь заключается преимущественно в том, чтобы к этим слабым сторонам своим отнестись с полною, беспощадною справедливостию. Самое обыкновенное искушение в этом случае – уменьшить в собственных глазах свои недостатки. Но есть искушение, несравненно более тонкое и опасное, именно: преувеличить свои слабости до той степени, на которой они получают известную значимость и, пожалуй даже, по извращенным понятиям современного человека, – величавость и обаятельность зла. Мысль эта станет совершенно понятна, если я напомню обаятельную атмосферу, которая разлита вокруг образов, не говорю уже Манфреда, Лары, Гяура, – но Печорина и Ловласа, – психологический факт, весьма нередкий с тех пор, как
Британской музы небылицы Тревожат сон отроковицы...Возьмите какую угодно страсть и доведите ее в вашем представлении до известной степени энергии, поставьте ее в борьбу с окружающею ее обстановкою – ваше трагическое воззрение закроет от вас все мелкие пружины ее деятельности. Эгоизму современного человека несравненно легче помириться в себе с крупным преступлением, чем с мелкой и пошлой подлостью; гораздо приятнее вообразить себя Ловласом, чем гоголевским Собачкиным, Скупым рыцарем, чем Плюшкиным, Печориным, чем Меричем; даже, уж если на то пошло, Грушницким, чем Милашиным Островского, потому что Грушницкий хоть умирает эффектно! Сколько лягушек надуваются по этому случаю в волов в нас самих и вокруг нас! Сколько людей желают показаться себе и другим преступными, когда они сделали только пошлость, сколько гаденьких чувственных поползновений стремятся принять в нас размеры колоссальных страстей! Хлестаков, даже Хлестаков, и тот зовет городничих «удалиться под сень струй»; Мерич в «Бедной невесте» самодовольно просит Марью Андреевну простить его, что он «возмутил мир ее невинной души». Тамарин рад-радехонек, что его зовут демоном!Таким образом, даже и по наступлении той минуты, с которой в натуре нравственной должно начаться правильное, то есть комическое отношение к собственной мелочности и слабости, гордость вместо прямого поворота, предлагает нам изворот. Изворот же заключается в том, чтобы поставить на ходули бессильную страстность души, признать ее требования все-таки правыми; переживши минуты презрения к самому себе и к своей личности, сохранить, однако, вражду и презрение к действительности. Посредством такого изворота лице Звездича, в процессе лермонтовского развития, переходит в тип Печорина. В сущности, что такое Печорин? Смесь арбенинских беззаконий с светскою холодностию и бессовестностию Звездича, которого все неблестящие и невыгодные стороны пошли в создание Грушницкого, существующего в романе исключительно только для того, чтобы Печорин, глядя на него, как можно более любовался собою, и чтобы другие, глядя на Грушницкого, более любовались Печориным. Что такое Печорин? Существо совершенно двойственное, человек, смотрящийся в зеркало перед дуэлью с Грушницким, и рыдающий, почти грызущий землю, как зверенок Мцыри, после тщетной погони за Верою. Что такое Печорин? Поставленное на ходули бессилие личного произвола! Арбенин с своими необузданно самолюбивыми требованиями провалился в так называемом свете: он явился снова в костюме Печорина, искушенный сомнением в самом себе, более уже хитрый, чем заносчивый, – и так называемый свет ему поклонился...
Н. А. Добролюбов (1836—1861)
Родился в Нижнем Новгороде в семье учителя духовного училища, затем священника. Учился в Нижегородском духовном училище и семинарии. Начинал как поэт, прозаик и драматург. После смерти родителей заботился о своих малолетних братьях и сестрах. Прославился как ведущий (вместе с Н. Г. Чернышевским) критик и публицист некрасовского журнала «Современник». Наиболее знаменитые статьи Добролюбова – «Что такое обломовщина?» (о И. А. Гончарове), «Когда же придет настоящий день?» (о И. С. Тургеневе), «Луч света в темном царстве» (о А. Н. Островском). Напряженная журналистская работа и тяжелый быт подорвали здоровье Добролюбова, скончавшегося в молодом возрасте.
Что такое обломовщина? «Обломов», роман И. А. Гончарова. «Отечественные записки», 1859, № I—IV
Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперед»? Веки проходят за веками, полмильона сидней, увальней и болванов дремлет непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произнести его, это все – могущее слово...
ГогольДесять лет ждала наша публика романа г. Гончарова. Задолго до его появления в печати о нем говорили как о произведении необыкновенном. К чтению его приступили с самыми обширными ожиданиями. Между тем первая часть романа, написанная еще в 1849 году и чуждая текущих интересов настоящей минуты, многим показалась скучною. В это же время появилось «Дворянское гнездо», и все были увлечены поэтическим, в высшей степени симпатичным талантом его автора. «Обломов» остался для многих в стороне; многие даже чувствовали утомление от необычайно тонкого и глубокого психического анализа, проникающего весь роман г. Гончарова. Та публика, которая любит внешнюю занимательность действия, нашла утомительною первую часть романа потому, что до самого конца ее герой все продолжает лежать на том же диване, на котором застает его начало первой главы. Те читатели, которым нравится обличительное направление, недовольны были тем, что в романе оставалась совершенно нетронутою наша официально-общественная жизнь. Короче – первая часть романа произвела неблагоприятное впечатление на многих читателей.
Кажется, немало было задатков на то, чтобы и весь роман не имел успеха, по крайней мере в нашей публике, которая так привыкла считать всю поэтическую литературу забавой и судить художественные произведения по первому впечатлению. Но на этот раз художественная правда скоро взяла свое. Последующие части романа сгладили первое неприятное впечатление у всех, у кого оно было, и талант Гончарова покорил своему неотразимому влиянию даже людей, всего менее ему сочувствовавших. Тайна такого успеха заключается, нам кажется, сколько непосредственно в силе художественного таланта автора, столько же и в необыкновенном богатстве содержания романа.
Может показаться странным, что мы находим особенное богатство содержания в романе, в котором, по самому характеру героя, почти вовсе нет действия. Но мы надеемся объяснить свою мысль в продолжение статьи, главная цель которой и состоит в том, чтобы высказать несколько замечаний и выводов, на которые, по нашему мнению, необходимо наводит содержание романа Гончарова.
«Обломов» вызовет, без сомнения, множество критик. Вероятно, будут между ними корректурные, которые отыщут какие-нибудь погрешности в языке и слоге, и патетические, в которых будет много восклицаний о прелести сцен и характеров, и эстетично-аптекарские, с строгою поверкою того, везде ли точно, по эстетическому рецепту, отпущено действующим лицам надлежащее количество таких-то и таких-то свойств и всегда ли эти лица употребляют их так, как сказано в рецепте. Мы не чувствуем ни малейшей охоты пускаться в подобные тонкости, да и читателям, вероятно, не будет особенного горя, если мы не станем убиваться над соображениями о том, вполне ли соответствует такая-то фраза характеру героя и его положению или в ней надобно было несколько слов переставить, и т. п. Поэтому нам кажется нисколько не предосудительным заняться более общими соображениями о содержании и значении романа Гончарова, хотя, конечно, истые критики и упрекнут нас опять, что статья наша написана не об Обломове, а только по поводу Обломова.
Нам кажется, что в отношении к Гончарову более, чем в отношении ко всякому другому автору, критика обязана изложить общие результаты, выводимые из его произведения. Есть авторы, которые сами на себя берут этот труд, объясняясь с читателем относительно цели и смысла своих произведений. Иные и не высказывают категорически своих намерений, но так ведут весь рассказ, что он оказывается ясным и правильным олицетворением их мысли. У таких авторов каждая страница бьет на то, чтобы вразумить читателя, и много нужно недогадливости, чтобы не понять их... Зато плодом чтения их бывает более или менее полное (смотря по степени таланта автора) согласие с идеею, положенною в основание произведения. Остальное все улетучивается через два часа по прочтении книги. У Гончарова совсем не то. Он вам не дает, и, по-видимому, не хочет дать, никаких выводов. Жизнь, им изображенная, служит для него не средством к отвлеченной философии, а прямою целью сама по себе. Ему нет дела до читателя и до выводов, какие вы сделаете из романа: это уж ваше дело. Ошибетесь – пеняйте на свою близорукость, а никак не на автора. Он представляет вам живое изображение и ручается только за его сходство с действительностью; а там уж ваше дело определить степень достоинства изображенных предметов: он к этому совершенно равнодушен. У него нет и той горячности чувства, которая иным талантам придает наибольшую силу и прелесть. Тургенев, например, рассказывает о своих героях как о людях близких ему, выхватывает из груди их горячее чувство и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за ними, сам страдает и радуется вместе с лицами, им созданными, сам увлекается той поэтической обстановкой, которой любит всегда окружать их... И его увлечение заразительно: оно неотразимо овладевает симпатией читателя, с первой страницы приковывает к рассказу мысль его и чувство, заставляет и его переживать, перечувствовать те моменты, в которых являются перед ним тургеневские лица. И пройдет много времени – читатель может забыть ход рассказа, потерять связь между подробностями происшествий, упустить из виду характеристику отдельных лиц и положений, может, наконец, позабыть все прочитанное; но ему все-таки будет памятно и дорого то живое, отрадное впечатление, которое он испытывал при чтении рассказа. У Гончарова нет ничего подобного. Талант его неподатлив на впечатления. Он не запоет лирической песни при взгляде на розу и соловья; он будет поражен ими, остановится, будет долго всматриваться и вслушиваться, задумается... Какой процесс в это время произойдет в душе его, этого нам не понять хорошенько... Но вот он начинает чертить что-то... Вы холодно всматриваетесь в неясные еще черты... Вот они делаются яснее, яснее, прекраснее... и вдруг, неизвестно каким чудом, из этих черт восстают перед вами и роза и соловей, со всей своей прелестью и обаяньем. Вам рисуется не только их образ, вам чуется аромат розы, слышатся соловьиные звуки... Пойте лирическую песнь, если роза и соловей могут возбуждать ваши чувства; художник начертил их и, довольный своим делом, отходит в сторону; более он ничего не прибавит... «И напрасно было бы прибавлять, – думает он, – если сам образ не говорит вашей душе, то что могут вам сказать слова?..» В этом уменье охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его – заключается сильнейшая сторона таланта Гончарова. И ею он превосходит всех современных русских писателей. Из нее легко объясняются все остальные свойства его таланта. У него есть изумительная способность – во всякий данный момент остановить летучее явление жизни во всей его полноте и свежести и держать его перед собою до тех пор, пока оно не сделается полной принадлежностью художника. На всех нас падает светлый луч жизни, но он у нас тотчас же и исчезает, едва коснувшись нашего сознания. И за ним идут другие лучи, от других предметов, и опять столь же быстро исчезают, почти не оставляя следа. Так проходит вся жизнь, скользя по поверхности нашего сознания. Не то у художника: он умеет уловить в каждом предмете что-нибудь близкое и родственное своей душе, умеет остановиться на том моменте, который чем-нибудь особенно поразил его. Смотря по свойству поэтического таланта и по степени его выработанности, сфера, доступная художнику, может суживаться или расширяться, впечатления могут быть живее или глубже; выражение их – страстнее или спокойнее. Нередко сочувствие поэта привлекается каким-нибудь одним качеством предметов, и это качество он старается вызывать и отыскивать всюду, в возможно полном и живом его выражении поставляет свою главную задачу, на него по преимуществу тратит свою художническую силу. Так являются художники, сливающие внутренний мир души своей с миром внешних явлений и видящие всю жизнь и природу под призмою господствующего в них самих настроения. Так, у одних все подчиняется чувству пластической красоты, у других по преимуществу рисуются нежные и симпатичные черты, у иных во всяком образе, во всяком описании отражаются гуманные и социальные стремления, и т. д. Ни одна из таких сторон не выдается особенно у Гончарова. У него есть другое свойство: спокойствие и полнота поэтического миросозерцания. Он ничем не увлекается исключительно или увлекается всем одинаково. Он не поражается одной стороною предмета, одним моментом события, а вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления и тогда уже приступает к их художественной переработке. Следствием этого является, конечно, в художнике более спокойное и беспристрастное отношение к изображаемым предметам, большая отчетливость в очертании даже мелочных подробностей и ровная доля внимания ко всем частностям рассказа.
Вот отчего некоторым кажется роман Гончарова растянутым. Он, если хотите, действительно растянут. В первой части Обломов лежит на диване; во второй ездит к Ильинским и влюбляется в Ольгу, а она в него; в третьей она видит, что ошибалась в Обломове, и они расходятся; в четвертой она выходит замуж за друга его Штольца, а он женится на хозяйке того дома, где нанимает квартиру. Вот и все. Никаких внешних событий, никаких препятствий (кроме разве разведения моста через Неву, прекратившего свидания Ольги с Обломовым), никаких посторонних обстоятельств не вмешивается в роман. Лень и апатия Обломова – единственная пружина действия во всей его истории. Как же это можно было растянуть на четыре части! Попадись эта тема другому автору, тот бы ее обделал иначе: написал бы страничек пятьдесят, легких, забавных, сочинил бы милый фарс, осмеял бы своего ленивца, восхитился бы Ольгой и Штольцом, да на том бы и покончил. Рассказ никак бы не был скучен, хотя и не имел бы особенного художественного значения. Гончаров принялся за дело иначе. Он не хотел отстать от явления, на которое однажды бросил свой взгляд, не проследивши его до конца, не отыскавши его причин, не понявши связи его со всеми окружающими явлениями. Он хотел добиться того, чтобы случайный образ, мелькнувший перед ним, возвести в тип, придать ему родовое и постоянное значение. Поэтому во всем, что касалось Обломова, не было для него вещей пустых и ничтожных. Не только те комнаты, в которых жил Обломов, но и тот дом, в каком он только мечтал жить; не только халат его, но серый сюртук и щетинистые бакенбарды слуги его Захара; не только писание письма Обломовым, но и качество бумаги и чернил в письме старосты к нему – все приведено и изображено с полною отчетливостью и рельефностью. Автор не может пройти мимоходом даже какого-нибудь барона фон Лангвагена, не играющего никакой роли в романе; и о бароне напишет он целую прекрасную страницу, и написал бы две и четыре, если бы не успел исчерпать его на одной. Это, если хотите, вредит быстроте действия, утомляет безучастного читателя, требующего, чтоб его неудержимо завлекали сильными ощущениями. Но тем не менее в таланте Гончарова – это драгоценное свойство, чрезвычайно много помогающее художественности его изображений. Начиная читать его, находишь, что многие вещи как будто не оправдываются строгой необходимостью, как будто не соображены с вечными требованиями искусства. Но вскоре начинаешь сживаться с тем миром, который он изображает, невольно признаешь законность и естественность всех выводимых им явлений, сам становишься в положение действующих лиц и как-то чувствуешь, что на их месте и в их положении иначе и нельзя, да как будто и не должно действовать. Мелкие подробности, беспрерывно вносимые автором и рисуемые им с любовью и с необыкновенным мастерством, производят наконец какое-то обаяние. Вы совершенно переноситесь в тот мир, в который ведет вас автор: вы находите в нем что-то родное, перед вами открывается не только внешняя форма, но и самая внутренность, душа каждого лица, каждого предмета. И после прочтения всего романа вы чувствуете, что в сфере вашей мысли прибавилось что-то новое, что к вам в душу глубоко запали новые образы, новые типы. Они вас долго преследуют, вам хочется выяснить [их] значение и отношение к вашей собственной жизни, характеру, наклонностям. Куда денется ваша вялость и утомление; бодрость мысли и свежесть чувства пробуждаются в вас. Вы готовы снова перечитать многие страницы, думать над ними, спорить о них. Так, по крайней мере, на нас действовал Обломов: «Сон Обломова» и некоторые отдельные сцены мы прочли по нескольку раз; весь роман почти сплошь прочитали мы два раза, и во второй раз он нам понравился едва ли не более, чем в первый. Такое обаятельное значение имеют эти подробности, которыми автор обставляет ход действия и которые, по мнению некоторых, растягивают роман!
Таким образом, Гончаров является перед нами прежде всего художником, умеющим выразить полноту явлений жизни. Изображение их составляет его призвание, его наслаждение; объективное творчество его не смущается никакими теоретическими предубеждениями и заданными идеями, не поддается никаким исключительным симпатиям. Оно спокойно, трезво, бесстрастно. Составляет ли это высший идеал художнической деятельности или, может быть, это даже недостаток, обнаруживающий в художнике слабость восприимчивости? Категорический ответ затруднителен и во всяком случае был бы несправедлив, без ограничений и пояснений. Многим не нравится спокойное отношение поэта к действительности, и они готовы тотчас же произнести резкий приговор о несимпатичности такого таланта. Мы понимаем естественность подобного приговора и, может быть, сами не чужды желания, чтобы автор побольше раздражал наши чувства, посильнее увлекал нас. Но мы сознаем, что желание это – несколько обломовское, происходящее от наклонности иметь постоянно руководителей – даже в чувствах. Приписывать автору слабую степень восприимчивости потому только, что впечатления не вызывают у него лирических восторгов, а молчаливо кроются в его душевной глубине, – несправедливо. Напротив, чем скорее и стремительнее высказывается впечатление, тем чаще оно оказывается поверхностным и мимолетным. Примеров мы видим множество на каждом шагу в людях, одаренных неистощимым запасом словесного и мимического пафоса. Если человек умеет выдержать, взлелеять в душе своей образ предмета и потом ярко и полно представить его, – это значит, что у него чуткая восприимчивость соединяется с глубиной чувства. Он до времени не высказывается, но для него ничто не пропадает в мире. Все, что живет и движется вокруг него, все, чем богата природа и людское общество, у него все это —
Как-то чудно Живет в душевной глубине.В нем, как в магическом зеркале, отражаются и по воле его останавливаются, застывают, отливаются в твердые недвижные формы все явления жизни, во всякую данную минуту. Он может, кажется, остановить саму жизнь, навсегда укрепить и поставить перед нами самый неуловимый миг ее, чтобы мы вечно на него смотрели, поучаясь или наслаждаясь.Такое могущество в высшем своем развитии стоит, разумеется, всего, что мы называем симпатичностью, прелестью, свежестью или энергией таланта. Но и это могущество имеет свои степени, и кроме того, – оно может быть обращено на предметы различного рода, что тоже очень важно. Здесь мы расходимся с приверженцами так называемого искусства для искусства, которые полагают, что превосходное изображение древесного листочка столь же важно, как, например, превосходное изображение характера человека. Может быть, субъективно это будет и справедливо: собственно сила таланта может быть одинакова у двух художников, и только сфера их деятельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэт, тратящий свой талант на образцовые описания листочков и ручейков, мог иметь одинаковое значение с тем, кто с равною силою таланта умеет воспроизводить, например, явления общественной жизни. Нам кажется, что для критики, для литературы, для самого общества гораздо важнее вопрос о том, на что употребляется, в чем выражается талант художника, нежели то, какие размеры и свойства имеет он в самом себе, в отвлечении, в возможности.
Как же выразился, на что потратился талант Гончарова? Ответом на этот вопрос должен служить разбор содержания романа.
По-видимому, не обширную сферу избрал Гончаров для своих изображений. История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, – не бог весть какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь, в ней предстает перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадной строгостью и правильностью, в ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это – обломовщина; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени.
Обломов есть лицо не совсем новое в нашей литературе; но прежде оно не выставлялось пред нами так просто и естественно, как в романе Гончарова. Чтобы не заходить слишком далеко в старину, скажем, что родовые черты обломовского типа мы находим еще в Онегине и затем несколько раз встречаем их повторение в лучших наших литературных произведениях. Дело в том, что это коренной, народный наш тип, от которого не мог отделаться ни один из наших серьезных художников. Но с течением времени, по мере сознательного развития общества, тип этот изменял свои формы, становился в другие отношения к жизни, получал новое значение. Подметить эти новые фазы его существования, определить сущность его нового смысла – это всегда составляло громадную задачу, и талант, умевший сделать это, всегда делал существенный шаг вперед в истории нашей литературы. Такой шаг сделал и Гончаров своим «Обломовым». Посмотрим на главные черты обломовского типа и потом попробуем провести маленькую параллель между ним и некоторыми типами того же рода, в разное время появлявшимися в нашей литературе.
В чем заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. По внешнему своему положению – он барин; «у него есть Захар и еще триста Захаров», по выражению автора. <<...>>
Такое воспитание вовсе не составляет чего-нибудь исключительного, странного в нашем образованном обществе. Не везде, конечно, Захарка натягивает чулки барчонку и т. п. Но не нужно забывать, что подобная льгота дается Захару по особому снисхождению или вследствие высших педагогических соображений и вовсе не находится в гармонии с общим ходом домашних дел. Барчонок, пожалуй, и сам оденется; но он знает, что это для него вроде милого развлечения, прихоти, а в сущности, он вовсе не обязан этого делать сам. Да и вообще ему самому нет надобности что-нибудь делать. Из чего ему биться? Некому, что ли, подать и сделать для него все, что ему нужно?.. Поэтому он себя над работой убивать не станет, что бы ему ни толковали о необходимости и святости труда: он с малых лет видит в своем доме, что все домашние работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся за дурное исполнение. И вот у него уже готово первое понятие – что сидеть сложа руки почетнее, нежели суетиться с работою... В этом направлении идет и все дальнейшее развитие.
Понятно, какое действие производится таким положением ребенка на все его нравственное и умственное образование. Внутренние силы «никнут и увядают» по необходимости. Если мальчик и пытает их иногда, то разве в капризах и в заносчивых требованиях исполнения другими его приказаний. А известно, как удовлетворенные капризы развивают бесхарактерность и как заносчивость несовместна с уменьем серьезно поддерживать свое достоинство. Привыкая предъявлять бестолковые требования, мальчик скоро теряет меру возможности и удобоисполнимости своих желаний, лишается всякого уменья соображать средства с целями и потому становится в тупик при первом препятствии, для отстранения которого нужно употребить собственное усилие.
Когда он вырастает, он делается Обломовым, с большей или меньшей долей его апатичности и бесхарактерности, под более или менее искусной маской, но всегда с одним неизменным качеством – отвращением от серьезной и самобытной деятельности.
Много помогает тут и умственное развитие Обломовых, тоже, разумеется, направляемое их внешним положением. Как в первый раз они взглянут на жизнь навыворот, – так уж потом до конца дней своих и не могут достигнуть разумного понимания своих отношений к миру и к людям. Им потом и растолкуют многое, они и поймут кое-что; но с детства укоренившееся воззрение все-таки удержится где-нибудь в уголку и беспрестанно выглядывает оттуда, мешая всем новым понятиям и не допуская их уложиться на дно души... И делается в голове какой-то хаос: иной раз человеку и решимость придет сделать что-нибудь, да не знает он, что ему начать, куда обратиться... И не мудрено: нормальный человек всегда хочет только того, что может сделать; зато он немедленно и делает все, что захочет... А Обломов... он не привык делать что-нибудь, следовательно, не может хорошенько определить, что он может сделать и чего нет, – следовательно, не может и серьезно, деятельно захотеть чего-нибудь... Его желания являются только в форме: «а хорошо бы, если бы вот это сделалось»; но как это может сделаться – он не знает. Оттого он любит помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтания придут в соприкосновение с действительностью. Тут он старается взвалить дело на кого-нибудь другого, а если нет никого, то на авось...
Все эти черты превосходно подмечены и с необыкновенной силой и истиной сосредоточены в лице Ильи Ильича Обломова. Не нужно представлять себе, чтобы Илья Ильич принадлежал к какой-нибудь особенной породе, в которой бы неподвижность составляла существенную, коренную черту. Несправедливо было бы думать, что он от природы лишен способности произвольного движения. Вовсе нет: от природы он – человек как и все. <<...>>
И ведь Обломов не только своих сельских порядков не знает, не только положения своих дел не понимает: это бы еще куда ни шло!.. Но вот в чем главная беда: он и вообще жизни не умел осмыслить для себя. В Обломовке никто не задавал себе вопроса: зачем жизнь, что она такое, какой ее смысл и назначение? Обломовцы очень просто понимали ее, «как идеал покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд, как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным». Точно так относился к жизни и Илья Ильич. Идеал счастья, нарисованный им Штольцу, заключался ни в чем другом, как в сытной жизни, – с оранжереями, парниками, поездками с самоваром в рощу и т. п., – в халате, в крепком сне, да для промежуточного отдыха – в идиллических прогулках с кроткою, но дебелою женою и в созерцании того, как крестьяне работают. Рассудок Обломова так успел с детства сложиться, что даже в самом отвлеченном рассуждении, в самой утопической теории имел способность останавливаться на данном моменте и затем не выходить из этого status quo, несмотря ни на какие убеждения. Рисуя идеал своего блаженства, Илья Ильич не думал спросить себя о внутреннем смысле его, не думал утвердить его законность и правду, не задал себе вопроса: откуда будут браться эти оранжереи и парники, кто их станет поддерживать и с какой стати будет он ими пользоваться?.. Не задавая себе подобных вопросов, не разъясняя своих отношений к миру и к обществу, Обломов, разумеется, не мог осмыслить своей жизни и потому тяготился и скучал от всего, что ему приходилось делать. Служил он – и не мог понять, зачем это бумаги пишутся; не понявши же, ничего лучше не нашел, как выйти в отставку и ничего не писать. Учился он – и не знал, к чему может послужить ему наука; не узнавши этого, он решился сложить книги в угол и равнодушно смотреть, как их покрывает пыль. Выезжал он в общество – и не умел себе объяснить, зачем люди в гости ходят; не объяснивши, он бросил все свои знакомства и стал по целым дням лежать у себя на диване. Сходился он с женщинами, но подумал: однако, чего же от них ожидать и добиваться? подумавши же, не решил вопроса и стал избегать женщин... Все ему наскучило и опостылело, и он лежал на боку, с полным, сознательным презрением к «муравьиной работе людей», убивающихся и суетящихся бог весть из-за чего...
Дойдя до этой точки в объяснении характера Обломова, мы находим уместным обратиться к литературной параллели, о которой упомянули выше. Предыдущие соображения привели нас к тому заключению, что Обломов не есть существо, от природы совершенно лишенное способности произвольного движения. Его лень и апатия есть создание воспитания и окружающих обстоятельств. Главное здесь не Обломов, а обломовщина. Он бы, может быть, стал даже и работать, если бы нашел дело по себе: но для этого, конечно, ему надо было развиться несколько под другими условиями, нежели под какими он развился. В настоящем же своем положении он не мог нигде найти себе дела по душе, потому что вообще не понимал смысла жизни и не мог дойти до разумного воззрения на свои отношения к другим. Здесь-то он и подает нам повод к сравнению с прежними типами лучших наших писателей. Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым. В самом деле – раскройте, например, «Онегина», «Героя нашего времени», «Кто виноват?», «Рудина», или «Лишнего человека», или «Гамлета Щигровского уезда», – в каждом из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова.
Онегин, как Обломов, оставляет общество, затем, что его
Измены утомить успели, Друзья и дружба надоели.И вот он занялся писаньем:
Отступник бурных наслаждений, Онегин дома заперся, Зевая, за перо взялся, Хотел писать, но труд упорный Ему был тошен; ничего Не вышло из пера его...На этом же поприще подвизался и Рудин, который любил читать избранным «первые страницы предполагаемых статей и сочинений своих». Тентетников тоже много лет занимался «колоссальным сочинением, долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек зрения»; но и у него «предприятие больше ограничивалось одним обдумываньем: изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось в сторону». Илья Ильич не отстал в этом от своих собратий: он тоже писал и переводил, – Сэя даже переводил. «Где же твои работы, твои переводы?» – спрашивает его потом Штольц. «Не знаю, Захар куда-то дел; в углу, должно быть, лежат», – отвечает Обломов. Выходит, что Илья Ильич даже больше, может быть, сделал, чем другие, принимавшиеся за дело с такой же твердой решимостью, как и он... А принимались за это дело почти все братцы обломовской семьи, несмотря на разницу своих положений и умственного развития. Печорин только смотрел свысока на «поставщиков повестей и сочинителей мещанских драм»; впрочем, и он писал свои записки. Что касается Бельтова, то он, наверное, сочинял что-нибудь, да еще, кроме того, артистом был, ходил в Эрмитаж и сидел за мольбертом, обдумывал большую картину встречи Бирона, едущего из Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь... Что из всего этого вышло, известно читателям... Во всей семье та же обломовщина...
Относительно «присвоения себе чужого ума», то есть чтения, Обломов тоже не много расходится с своими братьями. Илья Ильич читал тоже кое-что, и читал не так, как покойный батюшка его: «давно, говорит, не читал книги»; «дай-ко почитаю книгу», – да и возьмет, какая под руку попадется... Нет, веяние современного образования коснулось и Обломова; он уже читал по выбору, сознательно. «Услышит о каком-нибудь замечательном произведении, – у него явится позыв познакомиться с ним; он ищет, просит книги, и если принесут скоро, он примется за нее, у него начнет формироваться идея о предмете; еще шаг, и он овладел бы им, а посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок, а книга лежит подле него недочитанная, непонятая... Охлаждение овладевало им еще быстрее, нежели увлечение: он уже никогда не возвращался к покинутой книге». Не то ли же самое было и с другими? Онегин, думая себе присвоить ум чужой, начал с того, что
Отрядом книг уставил полку,и принялся читать. Но толку не вышло никакого: чтение скоро ему надоело, и —
Как женщин, он оставил книги, И полку, с пыльной их семьей, Задернул траурной тафтой.Тентетников тоже так читал книги (благо он привык их всегда иметь под рукой), – большею частию во время обеда: «с супом, с соусом, с жарким, и даже с пирожным»... Рудин тоже признается Лежневу, – что накупил он себе каких-то агрономических книг, но ни одной до конца не прочел; сделался учителем, да нашел, что фактов знал маловато, и даже на одном памятнике XVI столетия был сбит учителем математики. И у него, как у Обломова, принимались легко только общие идеи, а «подробности, сметы и цифры» постоянно оставались в стороне.«Но ведь это еще не жизнь, – это только приготовление к жизни», – думал Андрей Иванович Тентетников, проходивший, вместе с Обломовым и всей этой компанией, тьму ненужных наук и не умевший ни йоты из них применить к жизни. «Настоящая жизнь – это служба». И все наши герои, кроме Онегина и Печорина, служат, и для всех их служба – ненужное и не имеющее смысла бремя; и все они оканчивают благородной и ранней отставкой. Бельтов четырнадцать лет и шесть месяцев не дослужил до пряжки, потому что, погорячившись сначала, вскоре охладел к канцелярским занятиям, стал раздражителен и небрежен... Тентетников поговорил крупно с начальником, да притом же хотел принести пользу государству, лично занявшись устройством своего имения. Рудин поссорился с директором гимназии, где был учителем. Обломову не понравилось, что с начальником все говорят «не своим голосом, а каким-то другим, тоненьким и гадким»; – он не захотел этим голосом объясняться с начальником по тому поводу, что «отправил нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск», и подал в отставку... Везде все одна и та же обломовщина...
В домашней жизни обломовцы тоже очень похожи друг на друга:
Прогулки, чтенье, сон глубокий, Лесная тень, журчанье струй, Порой белянки черноокой Младой и свежий поцалуй, Узде послушный конь ретивый, Обед довольно прихотливый, Бутылка светлого вина, Уединенье, тишина, — Вот жизнь Онегина святая...То же самое, слово в слово, за исключением коня, рисуется у Ильи Ильича в идеале домашней жизни. Даже поцелуй черноокой белянки не забыт у Обломова. «Одна из крестьянок, – мечтает Илья Ильич, – с загорелой шеей, с открытыми локтями, с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется от барской ласки, а сама счастлива... тс... жена чтоб не увидала, боже сохрани!» (Обломов воображает себя уже женатым)... И если б Илье Ильичу не лень было уехать из Петербурга в деревню, он непременно привел бы в исполнение задушевную свою идиллию. Вообще обломовцы склонны к идиллическому, бездейственному счастью, которое ничего от них не требует: «наслаждайся, мол, мною, да и только»... Уж на что, кажется, Печорин, а и тот полагает, что счастье-то, может быть, заключается в покое и сладком отдыхе. Он в одном месте своих записок сравнивает себя с человеком, томимым голодом, который в «изнеможении засыпает и видит пред собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта исчезает, остается удвоенный голод и отчаяние»... В другом месте Печорин себя спрашивает: «Отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?» Он сам полагает – оттого, что «душа его сжилась с бурями и жаждет кипучей деятельности»... Но ведь он вечно недоволен своей борьбой и сам же беспрестанно высказывает, что все свои дрянные дебоширства затевает потому только, что ничего лучшего не находит делать... А уж коли не находит дела и вследствие того ничего не делает и ничем не удовлетворяется, так это значит, что к безделью более наклонен, чем к делу... Та же обломовщина...
Отношения к людям и в особенности к женщинам тоже имеют у всех обломовцев некоторые общие черты. Людей они вообще презирают, с их мелким трудом, с их узкими понятиями и близорукими стремлениями. «Это все чернорабочие», – небрежно отзывается даже Бельтов, гуманнейший между ними. Рудин наивно воображает себя гением, которого никто не в состоянии понять. Печорин, уж разумеется, топчет всех ногами. Даже Онегин имеет за собою два стиха, гласящие, что
Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей.Тентетников даже, – уж на что смирный, – и тот, пришедши в департамент, почувствовал, что «как будто его за проступок перевели из верхнего класса в нижний»; а приехавши в деревню, скоро постарался, подобно Онегину и Обломову, раззнакомиться со всеми соседями, которые поспешили с ним познакомиться. И наш Илья Ильич не уступит никому в презрении к людям: оно ведь так легко, для него даже усилий никаких не нужно. Он самодовольно проводит перед Захаром параллель между собой и «другими»; он в разговорах с приятелями выражает наивное удивление, из-за чего это люди бьются, заставляя себя ходить в должность, писать, следить за газетами, посещать общество и пр. Он даже весьма категорично выражает Штольцу сознание своего превосходства над всеми людьми. «Жизнь, говорит, в обществе? Хороша жизнь! Чего там искать? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!..» И затем Илья Ильич очень пространно и красноречиво говорит на эту тему, так что хоть бы Рудину так поговорить.В отношении к женщинам все обломовцы ведут себя одинаково постыдным образом. Они вовсе не умеют любить и не знают, чего искать в любви, точно так же как и вообще в жизни. Они не прочь пококетничать с женщиной, пока видят в ней куклу, двигающуюся на пружинках; не прочь они и поработить себе женскую душу... как же! этим бывает очень довольна их барственная натура! Но только чуть дело дойдет до чего-нибудь серьезного, чуть они начнут подозревать, что пред ними действительно не игрушка, а женщина, которая может и от них потребовать уважения к своим правам, – они немедленно обращаются в постыднейшее бегство. Трусость у всех этих господ непомерная! Онегин, который так «рано умел тревожить сердца кокеток записных», который женщин «искал без упоенья, а оставлял без сожаленья», – Онегин струсил перед Татьяной, дважды струсил – и в то время, когда принимал от нее урок, и тогда, как сам ей давал его. Она ему ведь нравилась с самого начала и если бы любила менее серьезно, он не подумал бы принять с нею тон строгого нравоучителя. А тут он увидел, что шутить опасно, и потому начал толковать о своей отжитой жизни, о дурном характере, о том, что она другого полюбит впоследствии, и т. д. Впоследствии он сам объясняет свой поступок тем, что, «заметя искру нежности в Татьяне, он не хотел ей верить» и что
Свою постылую свободу Он потерять не захотел.А какими фразами-то прикрыл себя, малодушный!Бельтов с Круциферской, как известно, тоже не посмел идти до конца и убежал от нее, хотя и по совершенно другим соображениям, если ему только верить. Рудин – этот уже совершенно растерялся, когда Наталья хотела от него добиться чего-нибудь решительного. Он ничего более не сумел, как только посоветовать ей «покориться». На другой день он остроумно объяснял ей в письме, что ему «было не в привычку» иметь дело с такими женщинами, как она.
Таким же оказывается и Печорин, специалист до части женского сердца, признающийся, что, кроме женщин, он ничего в свете не любил, что для них он готов пожертвовать всем на свете. И он признается, что, во-первых, «не любит женщин с характером: их ли это дело!» – во-вторых, что он никогда не может жениться. «Как бы страстно я ни любил женщину, – говорит он, – но если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, – прости любовь. Мое сердце превращается в камень, и ничто не разогреет его снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? куда я себя готовлю? чего я жду от будущего? Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие» и т. д. А в сущности это – больше ничего, как обломовщина.
А Илья Ильич разве, вы думаете, не имеет в себе, в свою очередь, печоринского и рудинского элемента, не говоря об онегинском? Еще как имеет-то! Он, например, подобно Печорину, хочет непременно обладать женщиной, хочет вынудить у нее всяческие жертвы в доказательство любви.
Он, видите ли, не надеялся сначала, что Ольга пойдет за него замуж, и с робостью предложил ей быть его женой. Она ему сказала что-то вроде того, что это давно бы ему следовало сделать. Он пришел в смущение, ему стало не довольно согласия Ольги, и он – что бы вы думали?.. он начал – пытать ее, столько ли она его любит, чтобы быть в состоянии сделаться его любовницей! И ему стало досадно, когда она сказала, что никогда не пойдет по этому пути; но затем ее объяснение и страстная сцена успокоили его... А все-таки он струсил под конец до того, что даже на глаза Ольге боялся показаться, прикидывался больным, прикрывал себя разведенным мостом, давал понять Ольге, что она его сможет компрометировать, и т. д. И все отчего? – оттого, что она от него потребовала решимости, дела, того, что не входило в его привычки. Женитьба сама по себе не страшила его так, как страшила Печорина и Рудина: у него более патриархальные были привычки. Но Ольга захотела, чтоб он пред женитьбой устроил дела по именью; это уж была бы жертва, и он, конечно, этой жертвы не совершил, а явился настоящим Обломовым. А сам между тем очень требователен. Он сделал с Ольгою такую штуку, какая и Печорину в пору была бы. Ему вообразилось, что он не довольно хорош собою и вообще не довольно привлекателен для того, чтобы Ольга могла сильно полюбить его. Он начинает страдать, не спит ночь, наконец вооружается энергией и строчит к Ольге длинное, рудинское послание, в котором повторяет известную, тертую и перетертую вещь, говоренную и Онегиным Татьяне, и Рудиным Наталье, и даже Печориным княжне Мери: «я, дескать, не так создан, чтобы вы могли быть со мною счастливы; придет время, вы полюбите другого, более достойного».
Сменит не раз младая дева Мечтами легкие мечты... Полюбите вы снова: но... Учитесь властвовать собою; Не всякий вас, как я, поймет... К беде неопытность ведет.Все обломовцы любят уничижать себя; но это они делают с той целью, чтоб иметь удовольствие быть опровергнутыми и услышать себе похвалу от тех, пред кем они себя ругают. Они довольны своим самоунижением и все похожи на Рудина, о котором Пигасов выражается: «Начнет себя бранить, с грязью себя смешает, – ну, думаешь, теперь на свет божий глядеть не станет. Какое! повеселеет даже, словно горькой водкой себя попотчевал!» Так и Онегин после ругательств на себя рисуется пред Татьяной своим великодушием. Так и Обломов, написавши к Ольге пасквиль на самого себя, почувствовал, «что ему уж не тяжело, что он почти счастлив»... Письмо свое он заключает тем же нравоучением, как и Онегин свою речь: «История со мною пусть, говорит, послужит вам руководством в будущей, нормальной любви», и пр. Илья Ильич, разумеется, не выдержал себя на высоте уничижения перед Ольгой: он бросился подсмотреть, какое впечатление произведет на нее письмо, увидел, что она плачет, удовлетворился и – не мог удержаться, чтобы не предстать пред ней в критическую минуту. А она доказала ему, каким он пошлым и жалким эгоистом явился в этом письме, написанном «из заботы об ее счастье». Тут уже он окончательно спасовал, как делают, впрочем, все обломовцы, встречая женщину, которая выше их по характеру и по развитию.
«Однако же, – возопиют глубокомысленные люди, – в вашей параллели, несмотря на подбор видимо одинаковых фактов, совсем нет смысла. При определении характера не столько важны внешние проявления, сколько побуждения, вследствие которых то или другое делается человеком. А относительно побуждений, как же не видеть неизмеримой разницы между поведением Обломова и образом действий Печорина, Рудина и других?.. Этот все делает по инерции, потому что ему лень самому с места двинуться и лень упереться на месте, когда его тащат; вся его цель состоит в том, чтобы лишний раз пальцем не пошевелить. А те снедаются жаждою деятельности, с жаром за все принимаются, ими беспрестанно
Овладевает беспокойство, Охота к перемене мести другие недуги, признаки сильной души. Если они и не делают ничего истинно полезного, так это потому, что не находят деятельности, соответствующей своим силам. Они, по выражению Печорина, подобны гению, прикованному к чиновничьему столу и осужденному переписывать бумаги. Они выше окружающей их действительности и потому имеют право презирать жизнь и людей. Вся их жизнь есть отрицание в смысле реакции существующему порядку вещей; а его жизнь есть пассивное подчинение существующим уже влияниям, консервативное отвращение от всякой перемены, совершенный недостаток внутренней реакции в натуре.Можно ли сравнивать этих людей? Рудина ставить на одну доску с Обломовым!.. Печорина осуждать на то же ничтожество, в каком погрязает Илья Ильич!.. Это совершенное непонимание, это нелепость, – это преступление!..»
Ах, боже мой! В самом деле – мы ведь и позабыли, что с глубокомысленными людьми надо держать ухо востро; как раз выведут такие заключения, о которых вам даже и не снилось. Если вы собираетесь купаться, а глубокомысленный человек, стоя на берегу со связанными руками, хвастается тем, что он отлично плавает, и обещает спасти вас, когда вы станете тонуть, – бойтесь сказать: «Да помилуй, любезный друг, у тебя ведь руки связаны; позаботься прежде о том, чтоб развязать себе руки». Бойтесь говорить это, потому что глубокомысленный человек сейчас же ударится в амбицию и скажет: «А, так вы утверждаете, что я не умею плавать! Вы хвалите того, кто связал мне руки! Вы не сочувствуете людям, которые спасают утопающих!..» И так далее... глубокомысленные люди бывают очень красноречивы и обильны на выводы самые неожиданные... Вот и теперь: сейчас выведут заключение, что мы Обломова хотели поставить выше Печорина и Рудина, что мы хотели оправдать его лежанье, что мы не умеем видеть внутреннего, коренного различия между ним и прежними героями, и т. д. Поспешим же объясниться с глубокомысленными людьми.
Во всем, что мы говорили, мы имели в виду более обломовщину, нежели личность Обломова и других героев. Что касается до личности, то мы не могли не видеть разницы темперамента, например, у Печорина и Обломова, так же точно, как не можем не найти ее и у Печорина с Онегиным, и у Рудина с Бельтовым... Кто же станет спорить, что личная разница между людьми существует (хотя, может быть, и далеко не в той степени и не с тем значением, как обыкновенно предполагают). Но дело в том, что над всеми этими лицами тяготеет одна и та же обломовщина, которая кладет на них неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужности на свете. Весьма вероятно, что при других условиях жизни, в другом обществе, Онегин был бы истинно добрым малым. Печорин и Рудин делали бы великие подвиги, а Бельтов оказался бы действительно превосходным человеком. Но при других условиях развития, может быть, и Обломов с Тентетниковым не были бы такими байбаками, а нашли бы себе какое-нибудь полезное занятие... Дело в том, что теперь-то у них всех одна общая черта – бесплодное стремление к деятельности, сознание, что из них многое могло бы выйти, но не выйдет ничего... В этом они поразительно сходятся. «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, – лучший цвет жизни». Это – Печорин... А вот как рассуждает о себе Рудин: «Да, природа мне много дала; но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа. Все мое богатство пропадет даром: я не увижу плодов от семян своих...» Илья Ильич тоже не отстает от прочих: и он «болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно пора бы этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища». Видите – сокровища были зарыты в его натуре, только раскрыть их пред миром он никогда не мог. Другие братья его, помоложе, «по свету рыщут»,
Дела себе исполинского ищут, Благо наследье богатых отцов Освободило от малых трудов...Обломов тоже мечтал в молодости «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработывания неистощимых источников»... Да и теперь он «не чужд всеобщих человеческих скорбей, ему доступны наслаждения высоких помыслов», и хотя он не рыщет по свету за исполинским делом, но все-таки мечтает о всемирной деятельности, все-таки с презрением смотрит на чернорабочих и с жаром говорит:
Нет, я души не растрачу моей На муравьиной работе людей...А бездельничает он ничуть не больше, чем все остальные братья обломовцы; только он откровеннее – не старается прикрыть своего безделья даже разговорами в обществах и гуляньем по Невскому проспекту. Но отчего же такая разница впечатлений, производимых на нас Обломовым и героями, о которых мы вспоминали выше? Те представляются нам в разных родах сильными натурами, задавленными неблагоприятной обстановкой, а этот – байбаком, который и при самых лучших обстоятельствах ничего не сделает. Но, во-первых, – у Обломова темперамент слишком вялый, и потому естественно, что он для осуществления своих замыслов и для отпора враждебных обстоятельств употребляет еще несколько менее попыток, нежели сангвинический Онегин или желчный Печорин. В сущности же, они все равно несостоятельны пред силою враждебных обстоятельств, все равно погружаются в ничтожество, когда им предстоит настоящая, серьезная деятельность. В чем обстоятельства Обломова открывали ему благоприятное поле деятельности? У него было именье, которое мог он устроить; был друг, вызывавший его на практическую деятельность; была женщина, которая превосходила его энергией характера и ясностью взгляда и которая нежно полюбила его... Да скажите, у кого же из обломовцев не было всего этого, и что все они из этого сделали? И Онегин и Тентетников хозяйничали в своем именье, и о Тентетникове мужики даже говорили сначала: «Экой востроногий!» Но скоро те же мужики смекнули, что барин хоть и прыток на первых порах, но ничего не смыслит и толку никакого не сделает... А дружба? Что они все делают со своими друзьями? Онегин убил Ленского; Печорин только все пикируется с Вернером; Рудин умел оттолкнуть от себя Лежнева и не воспользовался дружбой Покорского... Да и мало ли людей, подобных Покорскому, встречалось на пути каждого из них?.. Что же они? Соединились ли друг с другом для одного общего дела, образовали ли тесный союз для обороны от враждебных обстоятельств? Ничего не было... Все рассыпалось прахом, все кончилось той же обломовщиной... О любви нечего и говорить. Каждый из обломовцев встречал женщину выше себя (потому что Круциферская выше Бельтова и даже княжна Мери все-таки выше Печорина), и каждый постыдно бежал от ее любви или добивался того, чтоб она сама прогнала его... Чем это объяснить, как не давлением на них гнусной обломовщины?
Кроме разницы темперамента, большое различие находится в самом возрасте Обломова и других героев. Говорим не о летах: они почти однолетки, Рудин даже двумя-тремя годами постарше Обломова; говорим о времени их появления. Обломов относится к позднейшему времени, стало быть, он уже для молодого поколения, для современной жизни должен казаться гораздо старше, чем казались прежние обломовцы... Он в университете, каких-нибудь семнадцати – восемнадцати лет, прочувствовал те стремления, проникся теми идеями, которыми одушевляется Рудин в тридцать пять лет. За этим курсом для него было только две дороги: или деятельность, настоящая деятельность – не языком, а головой, сердцем и руками вместе, или уже просто лежанье сложа руки. Апатическая натура привела его к последнему: скверно, но по крайней мере тут нет лжи и обморочиванья. Если б он, подобно своим братцам, пустился толковать во всеуслышание о том, о чем теперь осмеливается только мечтать, то он каждый день испытывал бы огорчения, подобные тем, какие испытал по случаю получения письма от старосты и приглашения от хозяина дома – очистить квартиру. Прежде с любовью, с благоговением слушали фразеров, толкующих о необходимости того и другого, о высших стремлениях и т. п. Тогда, может быть, и Обломов не прочь был бы поговорить... Но теперь всякого фразера и прожектера встречают требованием: «А не угодно ли попробовать?» Этого уж обломовцы не в силах снести...
В самом деле – как чувствуется веяние новой жизни, когда, по прочтении Обломова, думаешь, что вызвало в литературе этот тип. Нельзя приписать этого единственно личному таланту автора и широте его воззрений. И силу таланта и воззрения самые широкие и гуманные находим мы и у авторов, произведших прежние типы, приведенные нами выше. Но дело в том, что от появления первого из них, Онегина, до сих пор прошло уже тридцать лет. То, что было тогда в зародыше, что выражалось только в неясном полуслове, произнесенном шепотом, то приняло уже теперь определенную и твердую форму, высказалось открыто и громко. Фраза потеряла свое значение; явилась в самом обществе потребность настоящего дела. Бельтов и Рудин, люди с стремлениями действительно высокими и благородными, не только не могли проникнуться необходимостью, но даже не могли представить себе близкой возможности страшной, смертельной борьбы с обстоятельствами, которые их давили. Они вступали в дремучий, неведомый лес, шли по топкому, опасному болоту, видели под ногами разных гадов и змей и лезли на дерево – отчасти чтоб посмотреть, не увидят ли где дороги, отчасти же для того, чтобы отдохнуть и хоть на время избавиться от опасности увязнуть или быть ужаленными. Следовавшие за ними люди ждали, что они скажут, и смотрели на них с уважением, как на людей, шедших впереди. Но эти передовые люди ничего не увидели с высоты, на которую взобрались: лес был очень обширен и густ. Между тем, взлезая на дерево, они исцарапали себе лицо, переранили себе ноги, испортили руки... Они страдают, они утомлены, они должны отдохнуть, примостившись как-нибудь поудобнее на дереве. Правда, они ничего не делают для общей пользы, они ничего не разглядели и не сказали; стоящие внизу сами, без их помощи, должны прорубать и расчищать себе дорогу по лесу. Но кто же решится бросить камень в этих несчастных, чтобы заставить их упасть с высоты, на которую они взмостились с такими трудами, имея в виду общую пользу? Им сострадают, от них даже не требуют пока, чтобы они принимали участие в расчистке леса; на их долю выпало другое дело, и они его сделали. Если толку не вышло, – не их вина. С этой точки зрения каждый из авторов мог прежде смотреть на своего обломовского героя, и был прав. К этому присоединялось еще и то, что надежда увидеть где-нибудь выход из лесу на дорогу долго держалась во всей ватаге путников, равно как долго не терялась и уверенность в дальнозоркости передовых людей, взобравшихся на дерево. Но вот мало-помалу дело прояснилось и приняло другой оборот: передовым людям понравилось на дереве; они рассуждают очень красноречиво о разных путях и средствах выбраться из болота и из лесу; они нашли даже на дереве кой-какие плоды и наслаждаются ими, бросая чешуйку вниз; они зовут к себе еще кой-кого, избранных из толпы, и те идут и остаются на дереве, уже и не высматривая дороги, а только пожирая плоды. Это уже – Обломовы в собственном смысле... А бедные путники, стоящие внизу, вязнут в болоте, их жалят змеи, пугают гады, хлещут по лицу сучья... Наконец толпа решается приняться за дело и хочет воротить тех, которые позже полезли на дерево; но Обломовы молчат и обжираются плодами. Тогда толпа обращается и к прежним своим передовым людям, прося их спуститься и помочь общей работе. Но передовые люди опять повторяют прежние фразы о том, что надо высматривать дорогу, а над расчисткой трудиться нечего. – Тогда бедные путники видят свою ошибку и, махнув рукой, говорят: «Э, да вы все Обломовы!» И затем начинается деятельная, неутомимая работа: рубят деревья, делают из них мост на болоте, образуют тропинку, бьют змей и гадов, попавшихся на ней, не заботясь более об этих умниках, об этих сильных натурах, Печориных и Рудиных, на которых прежде надеялись, которыми восхищались. Обломовцы сначала спокойно смотрят на общее движение, но потом, по своему обыкновению, трусят и начинают кричать... «Ай, ай, – не делайте этого, оставьте, – кричат они, видя, что подсекается дерево, на котором они сидят. – Помилуйте, ведь мы можем убиться, и вместе с нами погибнут те прекрасные идеи, те высокие чувства, те гуманные стремления, то красноречие, тот пафос, любовь ко всему прекрасному и благородному, которые в нас всегда жили... Оставьте, оставьте! Что вы делаете?..» Но путники уже слыхали тысячу раз все эти прекрасные фразы и, не обращая на них внимания, продолжают работу. Обломовцам еще есть средство спасти себя и свою репутацию: слезть с дерева и приняться за работу вместе с другими. Но они, по обыкновению, растерялись и не знают, что им делать... «Как же это так вдруг?» – повторяют они в отчаянии и продолжают посылать бесплодные проклятия глупой толпе, потерявшей к ним уважение.
А ведь толпа права! Если уж она сознала необходимость настоящего дела, так для нее совершенно все равно – Печорин ли перед ней или Обломов. Мы не говорим опять, чтобы Печорин в данных обстоятельствах стал действовать именно так, как Обломов; он мог самыми этими обстоятельствами развиться в другую сторону. Но типы, созданные сильным талантом, долговечны: и ныне живут люди, представляющие как будто сколок с Онегина, Печорина, Рудина и пр., и не в том виде, как они могли бы развиться при других обстоятельствах, а именно в том, в каком они представлены Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым. Только в общественном сознании все они более и более превращаются в Обломова. Нельзя сказать, чтоб превращение это уже совершилось: нет, еще и теперь тысячи людей проводят время в разговорах и тысячи других людей готовы принять разговоры за дела. Но что превращение это начинается – доказывает тип Обломова, созданный Гончаровым. Появление его было бы невозможно, если бы хотя в некоторой части общества не созрело сознание о том, как ничтожны все эти quasi-талантливые натуры, которыми прежде восхищались. Прежде они прикрывались разными мантиями, украшали себя разными прическами, привлекали к себе разными талантами. Но теперь Обломов является пред нами разоблаченный, как он есть, молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом. Вопрос: что он делает? в чем смысл и цель его жизни? – поставлен прямо и ясно, не забит никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало или настает неотлагательно время работы общественной... И вот почему мы сказали в начале статьи, что видим в романе Гончарова знамение времени.
Посмотрите, в самом деле, как изменилась точка зрения на образованных и хорошо рассуждающих лежебоков, которых прежде принимали за настоящих общественных деятелей.
Вот перед вами молодой человек, очень красивый, ловкий, образованный. Он выезжает в большой свет и имеет там успех; он ездит в театры, балы и маскарады; он отлично одевается и обедает; читает книжки и пишет очень грамотно... Сердце его волнуется только ежедневностью светской жизни, но он имеет понятие и о высших вопросах. Он любит потолковать о страстях,
О предрассудках вековых И гроба тайнах роковых...Он имеет некоторые честные правила: способен
Ярем он барщины старинной Оброком легким заменить,способен иногда не воспользоваться неопытностью девушки, которую не любит; способен не придавать особенной цены своим светским успехам. Он выше окружающего его светского общества настолько, что дошел до сознания его пустоты; он может даже оставить свет и переехать в деревню; но только и там скучает, не зная, какое найти себе дело... От нечего делать он ссорится с другом своим и по легкомыслию убивает его на дуэли... Через несколько лет опять возвращается в свет и влюбляется в женщину, любовь которой сам прежде отверг, потому что для нее нужно было бы ему отказаться от своей бродяжнической свободы... Вы узнаете в этом человеке Онегина. Но всмотритесь хорошенько; это – Обломов.Перед вами другой человек, с более страстной душой, с более широким самолюбием. Этот имеет в себе как будто от природы все то, что для Онегина составляет предмет забот. Он не хлопочет о туалете и наряде: он светский человек и без этого. Ему не нужно подбирать слова и блистать мишурным знанием: и без этого язык у него как бритва. Он действительно презирает людей, хорошо понимая их слабости; он действительно умеет овладеть сердцем женщины, не на краткое мгновенье, а надолго, нередко навсегда. Все, что встречается ему на его дороге, он умеет отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: он не знает, куда идти. Сердце его пусто и холодно ко всему. Он все испытал, и ему еще в юности опротивели все удовольствия, которые можно достать за деньги; любовь светских красавиц тоже опротивела ему, потому что ничего не давала сердцу; науки тоже надоели, потому что он увидел, что от них не зависит ни слава, ни счастье; самые счастливые люди – невежды, а слава – удача; военные опасности тоже ему скоро наскучили, потому что он не видел в них смысла и скоро привык к ним. Наконец, даже простосердечная, чистая любовь дикой девушки, которая ему самому нравится, тоже надоедает ему: он и в ней не находит удовлетворения своих порывов. Но что же это за порывы? куда влекут они? отчего он не отдается им всей силой души своей? Оттого, что он сам их не понимает и не дает себе труда подумать о том, куда девать свою душевную силу; и вот он проводит свою жизнь в том, что острит над глупцами, тревожит сердца неопытных барышень, мешается в чужие сердечные дела, напрашивается на ссоры, выказывает отвагу в пустяках, дерется без надобности... Вы припоминаете, что это история Печорина, что отчасти почти такими словами сам он объясняет свой характер Максиму Максимычу... Всмотритесь, пожалуйста, получше: вы и тут увидите того же Обломова...
Но вот еще человек, более сознательно идущий по своей дороге. Он не только понимает, что ему дано много сил, но знает и то, что у него есть великая цель... Подозревает, кажется, даже и то, какая это цель и где она находится. Он благороден, честен (хотя часто и не платит долгов); с жаром рассуждает не о пустяках, а о высших вопросах; уверяет, что готов пожертвовать собою для блага человечества. В голове его решены все вопросы, все приведено в живую, стройную связь; он увлекает своим могучим словом неопытных юношей, так что, послушав его, и они чувствуют, что призваны к чему-то великому... Но в чем проходит его жизнь? В том, что он все начинает и не оканчивает, разбрасывается во все стороны, всему отдается с жадностью и – не может отдаться... Он влюбляется в девушку, которая наконец говорит ему, что, несмотря на запрещение матери, она готова принадлежать ему; а он отвечает: «Боже! так ваша маменька не согласна! какой внезапный удар! Боже! как скоро!.. Делать нечего, – надо покориться!..» И в этом точный образец всей его жизни... Вы уже знаете, что это Рудин... Нет, теперь уж и это Обломов. Когда вы хорошенько всмотритесь в эту личность и поставите ее лицом к лицу с требованиями современной жизни, – вы сами в этом убедитесь.
Общее у всех этих людей то, что в жизни нет им дела, которое бы для них было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось с ними, так что отнять его у них значило бы лишить их жизни. Все у них внешнее, ничто не имеет корня в их натуре. Они, пожалуй, и делают что-то такое, когда принуждает внешняя необходимость, так, как Обломов ездил в гости, куда тащил его Штольц, покупал ноты и книги для Ольги, читал то, что она заставляла его читать. Но душа их не лежит к тому делу, которое наложено на них случаем. Если бы каждому из них даром предложили все внешние выгоды, какие им доставляются их работой, они бы с радостью отказались от своего дела. В силу обломовщины, обломовский чиновник не станет ходить в должность, если ему и без того сохранят его жалованье и будут производить в чины. Воин даст клятву не прикасаться к оружию, если ему предложат те же условия, да еще сохранят его красивую форму, очень полезную в известных случаях. Профессор перестанет читать лекции, студент перестанет учиться, писатель бросит авторство, актер не покажется на сцену, артист изломает резец и палитру, говоря высоким слогом, если найдет возможность даром получить все, чего теперь добивается трудом. Они только говорят о высших стремлениях, о сознании нравственного долга, о проникновении общими интересами, а на поверку выходит, что все это – слова и слова. Самое искреннее, задушевное их стремление к покою, к халату, и самая деятельность их есть не что иное, как почетный халат (по выражению, не нам принадлежащему), которым прикрывают они свою пустоту и апатию. Даже наиболее образованные люди, притом люди с живою натурою, с теплым сердцем, чрезвычайно легко отступаются в практической жизни от своих идей и планов, чрезвычайно скоро мирятся с окружающей действительностью, которую, однако, на словах не перестают считать пошлою и гадкою. Это значит, что все, о чем они говорят и мечтают, – у них чужое, наносное; в глубине же души их коренится одна мечта, один идеал – возможно-невозмутимый покой, квиетизм, обломовщина. Многие доходят даже до того, что не могут представить себе, чтобы человек мог работать по охоте, по увлечению. Прочтите-ка в «Экономическом указателе» рассуждения о том, как все умрут голодною смертью от безделья, ежели равномерное распределение богатства отнимет у частных людей побуждение стремиться к наживанию себе капиталов...
Да, все эти обломовцы никогда не переработывали в плоть и кровь свою тех начал, которые им внушили, никогда не проводили их до последних выводов, не доходили до той грани, где слово становится делом, где принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней и делается единственною силою, двигающею человеком. Потому-то эти люди и лгут беспрестанно, потому-то они и являются так несостоятельными в частных фактах своей деятельности. Потому-то и дороже для них отвлеченные воззрения, чем живые факты, важнее общие принципы, чем простая жизненная правда. Они читают полезные книги для того, чтобы знать, что пишется; пишут благородные статьи затем, чтобы любоваться логическим построением своей речи; говорят смелые вещи, чтобы прислушиваться к благозвучию своих фраз и возбуждать ими похвалы слушателей. Но что далее, какая цель всего этого читанья, писанья, говоренья, – они или вовсе не хотят знать, или не слишком об этом беспокоятся. Они постоянно говорят вам: вот что мы знаем, вот что мы думаем, а впрочем – как там хотят, наше дело – сторона... Пока не было работы в виду, можно было еще надувать этим публику, можно было тщеславиться тем, что мы вот, дескать, все-таки хлопочем, ходим, говорим, рассказываем. На этом и основан был в обществе успех людей, подобных Рудину. Даже больше – можно было заняться кутежом, интрижками, каламбурами, театральством – и уверять, что это мы пустились, мол, оттого, что нет простора для более широкой деятельности. Тогда и Печорин, и даже Онегин, должен был казаться натурою с необъятными силами души. Но теперь уж все эти герои отодвинулись на второй план, потеряли прежнее значение, перестали сбивать нас с толку своей загадочностью и таинственным разладом между ними и обществом, между великими их силами и ничтожностью дел их...
Теперь загадка разъяснилась, Теперь им слово найдено.Слово это – обломовщина.
Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, – я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.
Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он – Обломов.
Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он Обломов.
Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, – я думаю, что это все пишут из Обломовки.
Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, – я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку...
Остановите этих людей в их шумном разглагольствии и скажите: «Вы говорите, что нехорошо то и то; что же нужно делать?» Они не знают... Предложите им самое простое средство, – они скажут: «Да как же это так вдруг?» Непременно скажут, потому что Обломовы иначе отвечать не могут... Продолжайте разговор с ними и спросите: что же вы намерены делать? – Они вам ответят тем, чем Рудин ответил Наталье: «Что делать? Разумеется, покориться судьбе. Что же делать! Я слишком хорошо знаю, как это горько, тяжело, невыносимо, но, посудите сами...» и пр. (См.: Тургенев. «Повести», ч. III, стр. 249.) Больше от них вы ничего не дождетесь, потому что на всех их лежит печать обломовщины.
Кто же, наконец, сдвинет их с места этим всемогущим словом: «вперед!», о котором так мечтал Гоголь и которого так давно и томительно ожидает Русь? До сих пор нет ответа на этот вопрос ни в обществе, ни в литературе. Гончаров, умевший понять и показать нам нашу обломовщину, не мог, однако, не заплатить дани общему заблуждению, до сих пор столь сильному в нашем обществе: он решился похоронить обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой век», – говорит он устами Штольца, и говорит неправду. Вся Россия, которая прочитала или прочитает Обломова, не согласится с этим. Нет, Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы – наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово. Не за что говорить об нас с Ильею Ильичом следующие строки:
В нем было то, что дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его природное золото; он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла; пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот, – никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем, на него всюду и везде можно положиться.
Распространяться об этом пассаже мы не станем; но каждый из читателей заметит, что в нем заключена большая неправда. Одно в Обломове хорошо действительно: то, что он не усиливался надувать других, а уж так и являлся в натуре – лежебоком. Но, помилуйте, в чем же на него можно положиться? Разве в том, где ничего делать не нужно? Тут он действительно отличится так, как никто. Но ничего-то не делать и без него можно. Он не поклонится идолу зла! Да ведь почему это? Потому, что ему лень встать с дивана. А стащите его, поставьте на колени перед этим идолом: он не в силах будет встать. Не подкупишь его ничем. Да на что его подкупать-то? На то, чтобы с места сдвинулся? Ну, это действительно трудно. Грязь к нему не пристанет! Да пока лежит один, так еще ничего; а как придет Тарантьев, Затертый, Иван Матвеич – брр! какая отвратительная гадость начинается около Обломова. Его объедают, опивают, спаивают, берут с него фальшивый вексель (от которого Штольц несколько бесцеремонно, по русским обычаям, без суда и следствия избавляет его), разоряют его именем мужиков, дерут с него немилосердные деньги ни за что ни про что. Он все это терпит безмолвно и потому, разумеется, не издает ни одного фальшивого звука.
Нет, нельзя так льстить живым, а мы еще живы, мы еще по-прежнему Обломовы. Обломовщина никогда не оставляла нас и не оставила даже теперь – в настоящее время, когда и пр. Кто из наших литераторов, публицистов, людей образованных, общественных деятелей, кто не согласится, что, должно быть, его-то именно и имел в виду Гончаров, когда писал об Илье Ильиче следующие строки:
Ему доступны были наслаждения высоких помыслов; он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества, испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску, и стремления куда-то вдаль, туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штольц. Сладкие слезы потекут по щекам его. Случается и то, что он исполнится презрения к людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу, и разгорится желанием указать человеку на его язвы, – и вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море, потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нем, – задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намерения преображаются в стремления: он, движимый нравственною силою, в одну минуту быстро изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом... Вот, вот стремление осуществится, обратится в подвиг... и тогда, господи! каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от такого высокого усилия! Но, смотришь, промелькнет утро, день уж клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова; бури и волнения смиряются в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно к небу, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом. И сколько, сколько раз он провожал солнечный закат!
Не правда ли, образованный и благородно мыслящий читатель, – ведь тут верное изображение ваших благих стремлений и вашей полезной деятельности? Разница может быть только в том, до какого момента вы доходите в вашем развитии. Илья Ильич доходил до того, что привставал с постели, протягивал руку и озирался вокруг. Иные так далеко не заходят; у них только мысли гуляют в голове, как волны в море (таких большая часть); у других мысли вырастают в намерения, но не доходят до степени стремлений (таких меньше); у третьих даже стремления являются (этих уж совсем мало)...
Итак, следуя направлению настоящего времени, когда вся литература, по выражению Г. Бенедиктова, представляет
...нашей плоти истязанье, Вериги в прозе и стихах, —мы смиренно сознаемся, что как ни лестны для нашего самолюбия похвалы г. Гончарова Обломову, но мы не можем признать их справедливыми. Обломов менее раздражает свежего, молодого, деятельного человека, нежели Печорин и Рудин, но все-таки он противен в своей ничтожности.Отдавая дань своему времени, г. Гончаров вывел и противоядие Обломову – Штольца. Но по поводу этого лица мы должны еще раз повторить наше постоянное мнение – что литература не может забегать слишком далеко вперед жизни. Штольцев, людей с цельным, деятельным характером, при котором всякая мысль тотчас же является стремлением и переходит в дело, еще нет в жизни нашего общества (разумеем образованное общество, которому доступны высшие стремления; в массе, где идеи и стремления ограничены очень близкими и немногими предметами, такие люди беспрестанно попадаются). Сам автор сознавал это, говоря о нашем обществе: «Вот, глаза очнулись от дремоты, послышались бойкие, широкие шаги, живые голоса... Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!» Должно явиться их много, в этом нет сомнения; но теперь пока для них нет почвы. Оттого-то из романа Гончарова мы и видим только, что Штольц – человек деятельный, все о чем-то хлопочет, бегает, приобретает, говорит, что жить – значит трудиться, и пр. Но что он делает и как он ухитряется делать что-нибудь порядочное там, где другие ничего не могут сделать, – это для нас остается тайной. Он мигом устроил Обломовку для Ильи Ильича; – как? этого мы не знаем. Он мигом уничтожил фальшивый вексель Ильи Ильича; – как? это мы знаем. Поехав к начальнику Ивана Матвеевича, которому Обломов дал вексель, поговорил с ним дружески – Ивана Матвеича призвали в присутствие и не только что вексель велели возвратить, но даже и из службы выходить приказали. И поделом ему, разумеется; но, судя по этому случаю, Штольц не дорос еще до идеала общественного русского деятеля. Да и нельзя еще: рано. Теперь еще – хотя будь семи пядей во лбу, а в заметной общественной деятельности можешь, пожалуй, быть добродетельным откупщиком Муразовым, делающим добрые дела из десяти мильонов своего состояния, или благородным помещиком Костанжогло, – но далее не пойдешь... И мы не понимаем, как мог Штольц в своей деятельности успокоиться от всех стремлений и потребностей, которые одолевали даже Обломова, как мог он удовлетвориться своим положением, успокоиться на своем одиноком, отдельном, исключительном счастье... Не надо забывать, что под ним болото, что вблизи находится старая Обломовка, что нужно еще расчищать лес, чтобы выйти на большую дорогу и убежать от обломовщины. Делал ли что-нибудь для этого Штольц, что именно делал и как делал, – мы не знаем. А без этого мы не можем удовлетвориться его личностью... Можем сказать только то, что он не тот человек, который «сумеет, на языке понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово: „Вперед!“.
Может быть, Ольга Ильинская способнее, нежели Штольц, к этому подвигу, ближе его стоит к нашей молодой жизни. Мы ничего не говорили о женщинах, созданных Гончаровым: ни об Ольге, ни об Агафье Матвеевне Пшеницыной (ни даже об Анисье и Акулине, которые тоже отличаются своим особым характером), потому что сознавали свое совершеннейшее бессилие что-нибудь сносное сказать о них. Разбирать женские типы, созданные Гончаровым, значит предъявлять претензию быть великим знатоком женского сердца. Не имея же этого качества, женщинами Гончарова можно только восхищаться. Дамы говорят, что верность и тонкость психологического анализа у Гончарова – изумительна, и дамам в этом случае нельзя не поверить... Прибавить же что-нибудь к их отзыву мы не осмеливаемся, потому что боимся пускаться в эту совершенно неведомую для нас страну. Но мы берем на себя смелость, в заключении статьи, сказать несколько слов об Ольге и об отношениях ее к обломовщине.
Ольга, по своему развитию, представляет высший идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней русской жизни. Оттого она, необыкновенной ясностью и простотой своей логики и изумительной гармонией своего сердца и воли, поражает нас до того, что мы готовы усомниться в ее даже поэтической правде и сказать: «Таких девушек не бывает». Но, следя за нею во все продолжение романа, мы находим, что она постоянно верна себе и своему развитию, что она представляет не сентенцию автора, а живое лицо, только такое, каких мы еще не встречали. В ней-то более, нежели в Штольце, можно видеть намек на новую русскую жизнь; от нее можно ожидать слова, которое сожжет и развеет обломовщину... Она начинает с любви к Обломову, с веры в него, в его нравственное преобразование... Долго и упорно, с любовью и нежною заботливостью, трудится она над тем, чтобы возбудить жизнь, вызвать деятельность в этом человеке. Она не хочет верить, чтобы он был так бессилен на добро; любя в нем свою надежду, свое будущее создание, она делает для него все, пренебрегает даже условными приличиями, едет к нему, одна, никому не сказавшись, и не боится, подобно ему, потери своей репутации. Но она с удивительным тактом замечает тотчас же всякую фальшь, проявлявшуюся в его натуре, и чрезвычайно просто объясняет ему, как и почему это ложь, а не правда. Он, например, пишет ей письмо, о котором мы говорили выше, и потом уверяет ее, что писал это единственно из заботы о ней, совершенно забывши себя, жертвуя собою, и т. д. «Нет, – отвечает она, – неправда: если б вы думали только о моем счастии и считали необходимою для него разлуку с вами, то вы бы просто уехали, не посылая мне предварительно никаких писем». Он говорит, что боится ее несчастия, если она со временем поймет, что ошибалась в нем, разлюбит его и полюбит другого. Она спрашивает в ответ на это: «Где же вы тут видите несчастье мое? Теперь я вас люблю, и мне хорошо; а после я полюблю другого, и, значит, мне с другим будет хорошо. Напрасно вы обо мне беспокоитесь». Эта простота и ясность мышления заключает в себе задатки новой жизни, не той, в условиях которой выросло современное общество... Потом – как воля Ольги послушна ее сердцу! Она продолжает свои отношения и любовь к Обломову, несмотря на все посторонние неприятности, насмешки и т. п., до тех пор, пока не убеждается в его решительной дрянности. Тогда она прямо объявляет ему, что ошиблась в нем и уже не может решиться соединить с ним свою судьбу. Она еще хвалит и ласкает его и при этом отказе и даже после; но своим поступком она уничтожает его, как ни один из обломовцев не был уничтожаем женщиной. Татьяна говорит Онегину, в заключении романа:
Я вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана И буду век ему верна...Итак, только внешний нравственный долг спасает ее от этого пустого фата; будь она свободна, она бы бросилась ему на шею. Наталья оставляет Рудина только потому, что он сам уперся на первых же порах, да и, проводив его, она убеждается только в том, что он ее не любит, и ужасно горюет об этом. Нечего и говорить о Печорине, который успел заслужить только ненависть княжны Мери. Нет, Ольга не так поступила с Обломовым. Она просто и кротко сказала ему: «Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья; ты нежен... как голубь; ты спрячешь голову под крыло – и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей... да я не такая: мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего – не знаю!» И она оставляет Обломова, и она стремится к своему чему-то, хотя еще и не знает его хорошенько. Наконец она находит его в Штольце, соединяется с ним, счастлива; но и тут не останавливается, не замирает. Какие-то туманные вопросы и сомнения тревожат ее, она чего-то допытывается. Автор не раскрыл пред нами ее волнений во всей их полноте, и мы можем ошибиться в предположении насчет их свойства. Но нам кажется, что это в ее сердце и голове веяние новой жизни, к которой она несравненно ближе Штольца. Думаем так потому, что находим несколько намеков в следующем разговоре.
– Что же делать? поддаться и тосковать? – спросила она.
– Ничего, – сказал он, – вооружаться твердостью и спокойствием. Мы не титаны с тобой, – продолжал он, обнимая ее, – мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье и...
– А если они никогда не отстанут: грусть будет тревожить все больше, больше?.. – спрашивала она.
– Что ж? примем ее, как новую стихию жизни... Да нет, этого не бывает, не может быть у нас! Это не твоя грусть; это общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля... Все это страшно, когда человек отрывается от жизни, – когда нет опоры. А у нас...
Он не договорил, что у нас... Но ясно: что это он не хочет «идти на борьбу с мятежными вопросами», он решается «смиренно склонить голову»... А она готова на эту борьбу, тоскует по ней и постоянно страшится, что ее тихое счастье с Штольцем не превратилось во что-то подходящее к обломовской апатии. Ясно, что она не хочет склонять голову и смиренно переживать трудные минуты в надежде, что потом опять улыбнется жизнь. Она бросила Обломова, когда перестала в него верить; она оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него. А это случится, ежели вопросы и сомнения не перестанут мучить ее, а он будет продолжать ей советы – принять их как новую стихию жизни и склонить голову. Обломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить ее во всех видах, под всеми масками и всегда найдет в себе столько сил, чтоб произнести над нею суд беспощадный... <<...>>
А. В. Дружинин (1824—1864)
Родился в Петербурге в семье чиновника. Обучался в Пажеском корпусе, откуда был выпущен в чине прапорщика лейб-гвардии. Литературная карьера Дружинина началась повестью «Полинька Сакс», положительно оцененной Белинским. В дальнейшем выступал как прозаик, критик и публицист, активно печатавшийся в некрасовском журнале «Современник».
С приходом в «Современник» Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова в журнале наметился раскол. С 1856 года Дружинин возглавлял журнал «Библиотека для чтения», идейно противостоящий «Современнику». Программная статья Дружинина «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (1856) была направлена не против Гоголя, а против статьи «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевского. В качестве критика Дружинин выступал за «светлое», «артистическое» искусство, которое чуждается «грязных» сторон жизни.
«Обломов». Роман И. А. Гончарова Два тома. Спб., 1859
Английский писатель Льюиз, не тот Льюиз, который сочинил «Монаха», повергавшего в ужас наших бабушек, а Льюиз, сочинивший знаменитую биографию Гете, в одном из своих сочинений рассказывает анекдот, не лишенный занимательности. Героем анекдота был Томас Карлейль, современный нам историк и критик, большой любитель германской литературы и германской философии. Итак, вышепоименованный и довольно знаменитый у нас Томас Карлейль, находясь в Берлине, вскоре после смерти Гете присутствовал на обеде у какого-то профессора вместе с весьма смешанною публикою, между которой находились представители самых крайних партий в Пруссии. Пьетисты сидели рядом с демократами и новые феодалы новой прусской газеты, тогда еще не существовавшей, с защитниками единства Германии. При конце стола разговор коснулся недавно скончавшегося поэта и сделался всеобщим. Вы можете себе представить, что тени веймарского Юпитера досталось немалое количество порицаний. Один гость упрекал автора «Фауста» за то, что он, не пользуясь своим авторитетом, мало служил делу благочестия и морали; другой находил беззаконными два знаменитые стиха:
Напрасно силитесь, германцы, составить из себя один народ; Лучше бы каждый из вас свободно стремился к тому, чтоб развиваться человеком.Находились лица, упрекавшие Гете в нечувствительности к политическим стремлениям современников, были даже чудаки, порицавшие его великое слово: лишь в одном законе может существовать истинная свобода. Беседа уже переходила в брань, а Карлейль все молчал и вертел в руках свою салфетку. Наконец он поглядел вокруг себя и сказал тихим голосом: «Meine Herren[37], слыхали вы когда-нибудь про человека, который ругал солнце за то, что оно не хотело зажечь его сигарки?» Бомба, упавшая на стол, не могла поразить спорщиков более этой выходки. Все замолчали, и насмешливый англичанин остался победителем.
Анекдот, сейчас рассказанный нами, чрезвычайно хорош, и шутка Карлейля имела значение как противоречие крайностям других собеседников, хотя, по нашему мнению, мудрый поклонник Гете немного увлекся в своих выражениях. Таких важных сторон жизни, как национальные стремления, религиозные потребности, жажда политического развития, не совсем ловко сравнивать с дрянной немецкой сигаркою. Вседневные, насущные потребности общества законны как нельзя более, хотя из этого совершенно не следует, чтоб великий поэт был их прямым и непосредственным представителем. Сфера великого поэта иная – и вот почему никто не имеет права извлекать его из этой сферы. Прусак Штейн как министр был несравненно выше министра и тайного советника фон Гете, и всякая политическая параллель между этими двумя людьми невозможна. Но кто из самых предубежденных людей не сознается, что поэт Гете в самом практическом смысле слова оказался для человечества благодетельнее благодетельного и благородного Штейна. Миллионы людей в своем внутреннем мире были просветлены, развиты и направлены на добро поэзиею Гете, миллионы людей были одолжены этой поэзии, этому истинному слову нашего века, полезнейшими и сладкими часами своей жизни. Миллионы отдельных нравственных хаосов сплотились в стройный мир через магические поучения поэта-философа, и его безмерное влияние на умы современников с годами отразится во всей жизни Германии, будет ли она единою или раздробленною Германиею. Вследствие всего сейчас сказанного выходка Карлейля совершенно справедлива, невзирая на ее грубость. Великий поэт есть всегда великий просветитель, и поэзия есть солнце нашего внутреннего мира, которое, по-видимому, не делает никаких добрых дел, никому не дает ни гроша, а между тем живит своим светом всю вселенную.
Величие и значение истинной поэзии (хотя бы и не мировой, хотя бы и не великой) нигде не сказывается так ясно, так осязательно, как в литературе народов, еще молодых или только что пробуждающихся от долгого мысленного бездействия. В обществах созревших, много изведавших и во многом просветленных опытом долгих лет, жажда к поэтическому слову бывает сдержана в границах, нарушить которые может лишь влияние истинного гения или могучего провозвестника новых истин. В этих обществах и сильные таланты стареются, забываются потомством и переходят в достояние одних библиофилов; причина тому весьма понятна – ни звезд, ни луны не видать там, где светит солнце. Но в обществах юных мы видим совсем противное: там поэты долговечны, там таланту воздается все должное и весьма часто больше, чем должное. Поглядите, например, какою бесконечною, непрерывною популярностью пользуются в Америке Лонгфелло, поэт весьма не громадного разбора, Вашингтон Ирвинг, писатель истинно поэтический, но никак не гениальный, господа Ситсфильд и Мельвилль, едва-едва известные европейскому читателю. Этих людей американец не только уважает, но обожает, их он наивно сравнивает с первыми гениями Англии, Германии и Италии. И гражданин Соединенных Штатов прав, и все молодое общество, в котором он родился, совершенно право в своей безмерной жажде ко всякому новому слову в деле родной поэзии. Люди, нами названные, не гении, все ими написанное – ничто перед одною из драм Шекспира, но они отвечают потребностям своей родины, они вносят свой, хотя бы и не сильный, свет в потемки внутреннего мира своих сограждан, они истолковывают слушателям своим поэзию и правду жизни, их охватывающей, и вот их лучшая слава, вот их постоянный диплом на долговечность!
Не то же ли видим мы и у нас в России. В нашей несложившейся, расплывшейся по журналам, подражательной и зараженной множеством пороков литературе ни одно произведение, отмеченное печатью настоящей поэзии, не пропадет и не пропадало.
У нас, при всей нашей ветрености, даже при временной моде вести родословную искусства со вчерашнего дня, все истинно поэтическое – и, стало быть, мудрое, – не стареет и кажется лишь вчера написанным. Пушкин, Гоголь и Кольцов, эта поэтическая триада, охватывающая собой поэзию самых разносторонних явлений русского общества, не только не поблекли для нашего времени, но живут и действуют со всей силою никогда не умирающего факта. Предположите на одну минуту (трудное предположение!), что наши мыслящие люди, вдруг, позабыли все, чему их научили три поэта, сейчас нами названные, и страшно вообразить себе, какой мрак будет неразлучен с таким забвением! Иначе и быть не может: недаром современное общество ценит поэтов и слова, произнесенные истинными поэтами, нашими просветителями. Сильный поэт есть постоянный просветитель своего края, просветитель тем более драгоценный, что он никогда не научит худому, никогда не даст нам правды, которая неполна и со временем может стать неправдою. В период тревожной практической деятельности, при столкновении научных и политических теорий, в эпохи сомнения или отрицания – важность и величие истинных поэтов возрастают наперекор всем кажущимся препятствиям. На них общество, в полном смысле слова, устремляет «свои полные ожидания очи», и устремляет их вовсе не потому, чтоб ждало от поэтов разгадки на свои сомнения или направления для своей практической деятельности. Общество вовсе не питает таких неисполнимых фантазий и никогда не даст поэту роли какого-нибудь законодателя в сфере своих обыденных интересов. Но оно даст ему веру и власть в делах своего внутреннего мира и не ошибается в своем доверии. После всякого истинно художественного создания оно чувствует, что получило урок, самый сладкий из уроков, урок в одно и то же время прочный и справедливый. Общество знает, хотя и смутно, что плоды такого урока не пропадут и не истлеют, но перейдут в его вечное и действительно потомственное достояние. Тут-то и заключается причина того, почему холодность к делу поэзии есть вещь ненормальная в развитом члене юного общества, а жалкая идиосинкразия, нравственная болезнь, признак самый неутешительный. Когда человек, по-видимому, разумный, говорит во всеуслышание, что ему нет дела до созданий искусства и что ему в обществе нужны только звание и благосостояние, он или заблуждается печальным образом, или прикрывает свою собственную идиосинкразию хитросплетенными фразами. Разве не сказал нам один из величайших германских мыслителей: «Искусство пересоздает человека и, воспитывая отдельные единицы, из которых состоит общество, представляет собою верный рычаг всех общественных усовершенствований. Оно освещает путь к знанию и благосостоянию, оно просветляет внутренний мир избранных личностей и, действуя на них, благодетельствует всему свету, который двигается вперед лишь идеями и усилиями немногих избранных личностей».
То, что верно относительно первых поэтов России, точно так же верно относительно их последователей. Ни один истинный талант у нас никогда не пропадал без внимания. Всякий человек, когда-либо написавший одну честную и поэтическую страницу, знает очень хорошо, что эта страница жива в памяти каждого развитого современника. Эта жадность к поэтическому слову, эта страстная встреча достойных созданий искусства у нас давно не новость, хотя о них еще никогда не было писано. Чем более молодое наше общество рвется к просвещению, тем горячее оно в своих отношениях к талантам. В настоящие года вся читающая Россия, при всех своих деловых стремлениях, жаждет истинных созданий искусства, как нива в жаркий день жаждет живительной влаги. Как нива, она поглощает в себя каждую росинку, каждую каплю освежительного дождя, как бы ни непродолжителен был этот дождик. Общество смутно, очень смутно понимает, что внутренний мир человека, тот мир, на который действуют все истинные поэты и художники, есть основа всего в здешнем свете и что до той поры, пока наш собственный внутренний мир не будет смягчен и озарен просвещением, все наши стремления вперед будут не движением прогресса, а страдальческими движениями больного, без толку ворочающегося в своей постели. Таким-то образом масса русских мыслящих людей инстинктивно угадывает ту истину, которой Гете и Шиллер так благотворно и так усердно служили в период своей дружбы и совокупной деятельности: «Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus!»[38] Извольте ж после этого говорить, что «в наше время движения изящная литература должна стоять на втором плане!».
Лучшим опровержением сейчас приведенного и все еще недостаточно осмеянного парадокса служит настоящий 1859 год и литературные дела настоящего года. Вначале его появилось в наших журналах несколько замечательных произведений, конечно, не шекспировских и даже не пушкинских, но произведений честных и поэтических.
Во всей Европе, где никогда и никто не отодвигал на задний план созданий искусства, эти произведения имели бы почетный, спокойный успех, очень завидный, но не поразительный и не шумливый. У нас же, вследствие сейчас сказанного парадокса, им бы следовало тотчас же отойти на второй план и развлекать собой досуги барышень или праздного люда, но то ли вышло. Успех «Дворянского гнезда» оказался таким, какого мы за много лет не упомним. Небольшим романом г. Тургенева зачитывались до исступления, он проник повсюду и сделался таким популярным, что не читать «Дворянского гнезда» было непозволительным делом. Его ждали несколько месяцев и кинулись на него, как на давно ожидаемое сокровище. Но, положим, «Дворянское гнездо» появилось в январе месяце, месяце новостей, толков и так далее, роман вышел в свет во всей целости, при всех наиблагоприятнейших условиях для его оценки. Но вот «Обломов» г. Гончарова. Трудно пересчитать все шансы, собранные против этого художественного создания. Оно печаталось помесячно, стало быть, перерывалось три или четыре раза. Первая часть, всегда так важная, особенно важная при печатании романа в раздробленном виде, была слабее всех остальных частей. В этой первой части автор согрешил тем, чего, по-видимому, никогда не прощает читатель, – бедностью действия; все прочли первую часть, заметили ее слабую сторону, а между тем, продолжение романа, так богатое жизнью и так мастерски построенное, еще лежало в типографии! Люди, знавшие весь роман, восхищенные им до глубины души, в течение долгих дней трепетали за г. Гончарова; что же должен был перечувствовать сам автор, пока решилась судьба книги, которую он более десяти лет носил в своем сердце. Но опасения были напрасны. Жажда света и поэзии взяла свое в молодом читающем мире. Наперекор всем препятствиям «Обломов» победоносно захватил собою все страсти, все внимание, все помыслы читателей. В каких-то пароксизмах наслаждения все грамотные люди прочли «Обломова». Толпы людей, как будто чего-то ждавших, шумно кинулись к «Обломову». Без всякого преувеличения можно сказать, что в настоящую минуту во всей России нет ни одного малейшего, безуездного, заштатнейшего города, где бы не читали «Обломова», не хвалили «Обломова», не спорили об «Обломове». Почти в одно время с романом г. Гончарова в Англии появился «Адам Бид», роман Эллиота, человека тоже высоко талантливого, энергического и предназначенного на великую роль в литературе, да сверх всего человека совсем нового. «Адам Бид» имел огромный успех, но сравните этот спокойный, магистральный успех с восторгами, произведенными «Обломовым», и вы не пожалеете о доле русских писателей. Даже в материальных выгодах успеха г. Гончаров чуть ли не опередил счастливого англичанина. Если все это значит «отодвигать искусство на задний план» – то дай Бог, чтобы русское искусство и русские поэты подолее оставались на таком для них выгодном заднем плане!
Постараемся же, по мере сил наших, разъяснить до некоторой степени причину необыкновенного успеха «Обломова». Труд наш не будет трудом очень тяжелым – роман так известен всякому, что анализировать его и знакомить читателя с его содержанием – дело совершенно бесполезное. Об особенностях г. Гончарова, как писателя с высоким поэтическим значением, мы тоже говорить многого не в состоянии – наш взгляд на него уже высказан нами года четыре тому назад, в «Современнике», по поводу книги нашего автора «Русские в Японии». Рецензия, о которой мы упоминаем, в свое время возбудила сочувствие знатоков русской литературы и до сих пор еще не устарела, по крайней мере мы, и весьма недавно, встречали из нее не один отрывок в позднейших отзывах о трудах Гончарова.
В писателе, подарившем нашей словесности «Обыкновенную историю» и «Обломова», мы всегда видели и видим теперь одного из сильнейших современных русских художников – с таким суждением, без сомнения, согласится всякий человек, умеющий с толком читать по-русски. Об особенностях гончаровского дарования тоже больших споров быть не может. Автор «Обломова», вместе с другими первоклассными представителями родного искусства, – есть художник чистый и независимый, художник по призванию и по всей целости того, что им сделано. Он реалист, но его реализм постоянно согрет глубокой поэзиею; по своей наблюдательности и манере творчества он достоин быть представителем самой натуральной школы, между тем как его литературное воспитание и влияние поэзии Пушкина, любимейшего из его учителей, навеки отдаляют от г. Гончарова самую возможность бесплодной и сухой натуральности. В нашей рецензии, о которой упоминалось выше, мы проводили подробную параллель между талантом Гончарова и талантами первоклассных живописцев фламандской школы, параллель, как нам и теперь кажется, дает верный ключ к уразумению заслуг, достоинств и даже недостатков нашего автора. Подобно фламандцам, г. Гончаров национален, неотступен в раз принятой задаче и поэтичен в малейших подробностях создания. Подобно им, он крепко держится за окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета, который не мог бы быть возведен в поэтическое представление силой труда и дарования. Как художник-фламандец, г. Гончаров не путается в системах и не рвется в области ему чуждые. Как Доу, Ван дер-Нээр и Остад, он знает, что ему незачем ходить далеко за предметами творчества. Простой и даже как будто скупой на вымысел, подобно трем сейчас нами названным великим людям, г. Гончаров, подобно им, не выдает всей своей глубины поверхностному наблюдателю. Но, подобно им, он является глубже и глубже с каждым внимательным взглядом, подобно им, он ставит перед нашими глазами целую жизнь данной сферы, данной эпохи и данного общества, – для того, чтоб, подобно им же, навсегда остаться в истории искусства и освещать ярким светом моменты действительности, им уловленной.
Несмотря на некоторые несовершенства выполнения, о которых мы будем говорить ниже, невзирая на видимое всем несогласие первой части романа со всеми последующими, лицо Ильи Ильича Обломова вместе с миром его окружающим как нельзя более подтверждает собой все нами сейчас сказанное о даровании г. Гончарова. Обломов и обломовщина: эти слова недаром облетели всю Россию и сделались словами, навсегда укоренившимися в нашей речи. Они разъяснили нам целый круг явлений современного нам общества, они поставили перед нами целый мир идей, образов и подробностей, еще недавно нами не вполне сознанных, являвшихся нам как будто в тумане. Силой своего труда человек с глубоким поэтическим дарованием сделал для известного отдела нашей современной жизни то, что сделали родственные ему фламандцы со многими сторонами своей родной действительности. Обломова изучил и узнал целый народ, по преимуществу богатый обломовщиной, – и мало того, что узнал, но полюбил его всем сердцем, потому что невозможно узнать Обломова и не полюбить его глубоко. Напрасно и до сей поры многие нежные дамы смотрят на Илью Ильича как на существо достойное посмеяния, напрасно многие люди с чересчур практическими стремлениями усиливаются презирать Обломова и даже звать его улиткою: весь этот строгий суд над героем показывает одну поверхностную и быстропреходящую придирчивость. Обломов любезен всем нам и стоит беспредельной любви – это факт, и против него спорить невозможно. Сам его творец беспредельно предан Обломову, и в этом вся причина глубины его создания. Обвинить Обломова за его обломовские качества не значит ли то же, что сердиться на то, зачем добрые и пухлые лица фламандских бургомистров на фламандских картинах не украшены черными глазами неаполитанских рыбаков или римлян из Транстевере? Метать громы на общество, рождающее Обломовых, по нашему мнению, то же самое, что сердиться за недостаток снеговых гор в картинах Рюйздаля. Разве мы не видим с разительной ясностью, что в этом деле вся сила поэта порождена его твердым, неуклонным отношением к действительности, помимо всех прикрас и сентиментальностей. Крепко держась за действительность и разрабатывая ее до глубины еще никем не изведанной, творец «Обломова» и добился до всего, что истинно, поэтично и вековечно в его создании. Скажем более, через свой фламандский, неотступный труд он дал нам ту любовь к своему герою, про которую мы говорили и говорить будем. Не спустись г. Гончаров так глубоко в недра обломовщины, та же обломовщина, в ее неполной разработке, могла бы нам показаться грустною, бедною, жалкою, достойною пустого смеха. Теперь над обломовщиной можно смеяться, но смех этот полон чистой любви и честных слез, – о ее жертвах можно жалеть, но такое сожаление будет поэтическим и светлым, ни для кого не унизительным, но для многих высоким и мудрым сожалением.
Новый роман г. Гончарова, как это известно всякому, кто прочел его в «Отечественных записках», распадается на два неровных отдела. Под первою частью его, если не ошибаемся, подписан 1849 год, под остальными тремя 1857 и 58. Итак, почти десять лет отделяют первоначальный, многотрудный и еще не вполне выискавшийся замысел от его зрелого осуществления. Между Обломовым, который безжалостно мучит своего Захара, и Обломовым, влюбленным в Ольгу, может, лежит целая пропасть, которой никто не в силах уничтожить. Насколько Илья Ильич, валяющийся на диване между Алексеевым и Тарантьевым, кажется нам заплесневшим и почти гадким, настолько тот же Илья Ильич, сам разрушающий любовь избранной им женщины и плачущий над обломками своего счастия, глубок, трогателен и симпатичен в своем грустном комизме. Черты, лежащие между этими двумя героями, наш автор не был в силах сгладить. Все его старания в этой части пропали даром – как все художники по натуре, наш автор бессилен везде, где требуется деланная работа: то есть сглаживания, притягивания, объяснения, одним словом, то, что легко дается талантам обыкновенным. Поработав и тяжело поработав над невозможною задачею, г. Гончаров наконец убедился, что ему не сгладить черты, нами указанной, не загрузить пропасти, лежащей между двумя Обломовыми. На пропасти этой лежала одна planche de salut[39], одна переходная доска: неподражаемый Сон Обломова. Все усилия прибавить к ней что-нибудь оказались тщетными, пропасть оставалась прежней пропастью. Убедясь в этом, автор романа махнул рукой и подписал под первою частью романа все объясняющую цифру 49 года. Этим он высказал свое положение и откровенно отдавал себя как художника на суд публики. Успех «Обломова» был ему ответом – читатель прощал несовершенства частные за наслаждения, доставленные ему целым творением. Не будем же и мы чрезмерно взыскательными, а лучше воспользуемся распадением романа на две части, чтобы по обеим проследить любопытный процесс творчества, выданный нам по поводу самого Обломова и обломовщины, его окружающей.
Нет никакого сомнения в том, что первые отношения поэта к могущественному типу, завладевшему всеми его помыслами, были вначале далеко не дружественными отношениями. Не ласку и не любовь встретил Илья Ильич, еще не созрелый, еще не живой Илья Ильич, в душе своего художника. Время перед 1849 годом не было временем поэтической независимости и беспристрастия во взглядах; при всей самостоятельности г. Гончарова он все же был писателем и сыном своего времени. Обломов жил в нем, занимал его мысли, но еще являлся своему поэту в виде явления отрицательного, достойного казни и по временам почти ненавистного. Во всех первых главах романа, до самого «Сна», г. Гончаров откровенно выводит перед нами того героя, который ему сказывался прежде, того Илью Ильича, который представлялся ему как уродливое явление уродливой русской жизни. Этот Обломов embrio[40] достаточно обработан, достаточно объективен для того, чтоб действовать на два или на три тома, достаточно верен для того, чтоб осветить собою многие темные стороны современного общества, но, боже мой, как далек от теперешнего, сердцу милого Обломова, этот засаленный, нескладный кусок мяса, носящий тоже имя Обломова в первых главах романа! Каким эгоизмом безобразного холостяка пропитано это существо, как оно мучит всех его окружающих, как оскорбительно-равнодушно оно ко всему унизительному, как лениво-враждебно к тому, что только выходит из его узенькой сферы. Злая и противная сторона обломовщины исчерпана вся, но где же ее впоследствии проявившаяся поэзия, где ее комическая грация, где ее откровенное сознание своих слабостей, где ее примиряющая сторона, успокаивающая сердце и, так сказать, узаконяющая незаконное? В 1849 году при дидактических стремлениях словесности и при крайне стесненной возможности проявлять эти стремления Обломов embrio мог бы восхитить собой читателя и ценителя. Какие громы метались бы на него критиками, какие сумрачные толки раздались бы о среде, рождающей Обломовых! Г. Гончаров мог бы явиться обличителем тяжких недугов общественных ко всеобщему удовольствию и даже к небольшой пользе людей, стремящихся полиберальничать, не подвергаясь большой опасности, и показать кукиш обществу в надежде на то, что кукиш этот именно не будет примечен теми, кто не любит показанных кукишей. Но подобного успеха нашему автору было бы слишком мало. Отталкивающий и непросветленный поэзиею, Обломов не удовлетворял идеалу, столько времени им носимому в сердце. Голос поэзии говорил ему: иди дальше и ищи глубже.
«Сон Обломова»! – этот великолепнейший эпизод, который останется в нашей словесности на вечные времена, был первым, могущественным шагом к уяснению Обломова с его обломовщиной. Романист, жаждущий разгадки вопросам, занесенным в его душу его же созданием, потребовал ответа на эти вопросы; за ответами обратился он к тому источнику, к которому ни один человек с истинным дарованием не обращается напрасно. Ему надобно было наконец узнать, из-за какой же причины Обломов владеет его помыслами, отчего ему мил Обломов, из-за чего он недоволен первоначальным объективно верным, но неполным, не высказывающим его помыслов Обломовым. Конечного слова на свои колебания г. Гончаров стал выспрашивать у поэзии русской жизни, у своих воспоминаний детства и, разъясняя прошлую жизнь своего героя, со всей свободою погрузился в ту сферу, которая ее окружала. Следом за Пушкиным, своим учителем, по примеру Гоголя, своего старшего товарища, он ласково отнесся к жизни действительной и отнесся не напрасно. «Сон Обломова» не только осветил, уяснил и разумно опоэтизировал все лицо героя, но еще тысячью невидимых скреп связал его с сердцем каждого русского читателя. В этом отношении «Сон», сам по себе разительный как отдельное художественное создание, еще более поражает своим значением во всем романе. Глубокий по чувству, его внушившему, светлый по смыслу, в нем заключенному, он в одно время и поясняет и просветляет собою то типическое лицо, в котором сосредоточивается интерес всего произведения. Обломов без своего «Сна» был бы созданием неоконченным, не родным всякому из нас, как теперь, – «Сон» его разъясняет все наши недоумения и, не давая нам ни одного голого толкования, повелевает нам понимать и любить Обломова. Нужно ли говорить о чудесах тонкой поэзии, о лучезарном свете правды, с помощью которых происходит это сближение между героем и его ценителями. Тут нет ничего лишнего, тут не найдете вы неясной черты или слова, сказанного попусту, все мелочи обстановки необходимы, все законны и прекрасны. Онисим Суслов, на крыльцо которого можно было попасть не иначе, как ухватясь одной рукой за траву, а другою за кровлю избы, – любезен нам и необходим в этом деле уяснения. Заспанный челядинец, дующий спросонья на квас, в котором сильно шевелятся утопающие мухи, и собака, признанная бешеною за то только, что бросилась бежать от людей, собравшихся на нее с вилами и топорами, и няня, засыпающая после жирного обеда с предчувствием, что Ильюша пойдет затрагивать козла и лазить на галерею, и сотня других обворожительных, миерисовских подробностей здесь необходимы, ибо содействуют целости и высокой поэзии главной задачи. Тут сродство г. Гончарова с фламандскими мастерами бьет в глаза, сказывается во всяком образе. Или для праздной потехи всякие художники, нами вспомянутые, громоздили на свое полотно множество мелких деталей? Или по бедности воображения они тратили жар целого творческого часа над какой-нибудь травкою, луковицей, болотной кочкой, на которую падает луч заката, кружевным воротничком на камзоле тучного бургомистра? Если так, то отчего же они велики, почему они поэтичны, почему детали их созданий слиты с целостью впечатления, не могут быть оторваны от идеи картины? Как же произошло, что эти истинные художники, так зоркие на поэзию, до такой степени осветившие, опоэтизировавшие жизнь своего родного края, бросались в мелочи, сидели над подробностями? Видно, в названных нами мелочах и подробностях таилось нечто большее, чем о том думает иной близорукий составитель хитрых теорий. Видно, труд над деталями был необходим и важен для уловлении тех высших задач искусства, на которых все зиждется, от которых все питается и вырастает. Видно, творя малую частность, художник недаром отдавался ей всей душою своею, и, должно быть, творческий дух его отражался во всякой подробности мощного произведения, так, как солнце отражается в малой капле воды – по словам оды, которую мы учили наизусть еще ребятишками.
Итак, «Сон Обломова» расширил, узаконил и уяснил собою многознаменательный тип героя, но этого еще не было достаточно для полноты создания. Новым и последним, решительным шагом в процессе творчества было создание Ольги Ильинской – создание до того счастливое, что мы, не обинуясь, назовем первую мысль о нем краеугольным камнем всей обломовской драмы, самой счастливой мыслью во всей артистической деятельности нашего автора. Даже оставивши в стороне всю прелесть исполнения, всю художественность, с которою обработано лицо Ольги, мы не найдем достаточных слов, чтоб высказать все благотворное влияние этого персонажа на ход романа и развитие типа Обломова. Несколько лет тому назад, давая отчет о «Рудине» г. Тургенева, мы имели случай заметить, что типы вроде Рудина не поясняются любовью, – теперь приходится перевернуть нашу сентенцию и объявить, что Обломовы выдают всю прелесть, всю слабость и весь грустный комизм своей натуры именно через любовь к женщине. Без Ольги Ильинской и без ее драмы с Обломовым не узнать бы нам Ильи Ильича так, как мы его теперь знаем, без Ольгина взгляда на героя мы до сих пор не глядели бы на него надлежащим образом. В сближении этих двух основных лиц произведения все в высшей степени естественно, каждая подробность удовлетворяет взыскательнейшим требованиям искусства – и между тем сколько психологической глубины и мудрости через него развивается перед нами! Как живит и наполняет все наши представления об Обломове эта юная, горделиво-смелая девушка, как сочувствуем мы стремлению всего ее существа к этому незлобивому чудаку, отделившемуся от окружающего его мира, как страдаем мы ее страданием, как надеемся мы ее надеждами, даже зная и хорошо зная их несбыточность. Г. Гончаров, как смелый знаток сердца человеческого, с первых сцен между Ольгой и ее первым избранником, отдал большую долю интриги комическому элементу. Его бесподобная, насмешливая, бойкая Ольга с первых минут сближения видит все смешные особенности героя, не обманываясь нисколько, играет ими, почти наслаждается ими и обманывается только в своих расчетах на твердые основы характера Обломова. Все это поразительно верно и вместе с тем смело, потому что до сих пор никто еще из поэтов не останавливался на великом значении нежно-комической стороны в любовных делах, между тем как эта сторона всегда существовала, вечно существует и выказывает себя в большей части наших сердечных привязанностей. Много раз в течение последних месяцев нам случалось слышать и даже читать выражения недоумения о том, «как могла умная и зоркая Ольга полюбить человека, неспособного переменить квартиру и с наслаждением спящего после обеда», – и, сколько мы можем припомнить, все подобные выражения принадлежали лицам очень молодым, очень незнакомым с жизнию. Духовный антагонизм Ольги с обломовщиной, ее шутливое, затрогивающее отношение к слабостям избранника объясняется и фактами и существом дела. Факты сложились весьма естественно – девушка, по натуре своей не увлекающаяся мишурой и пустыми светскими юношами своего круга, заинтересована чудаком, о котором умный Штольц рассказал ей столько историй, любопытных и смешных, необыкновенных и забавных. Она сближается с ним из любопытства, нравится ему от нечего делать, может быть вследствие невинного кокетства, а затем останавливается в изумлении перед чудом, ею сделанным.
Мы уже сказали, что нежная, любящая натура Обломовых вся озаряется через любовь – и может ли быть иначе с чистою, детски ласковой русской душою, от которой даже ее леность отгоняла растление с искушающими помыслами. Илья Ильич высказался вполне через любовь свою, и Ольга, зоркая девушка, не осталась слепа перед теми сокровищами, что перед ней открылись. Вот факты внешние, а от них лишь один шаг до самой существенной истины романа. Ольга поняла Обломова ближе, чем понял его Штольц, ближе, чем все лица, ему преданные. Она разглядела в нем и нежность врожденную, и чистоту нрава, и русскую незлобивость, и рыцарскую способность к преданности, и решительную неспособность на какое-нибудь нечистое дело, и наконец – чего забывать не должно – разглядела в нем человека оригинального, забавного, но чистого и нисколько не презренного в своей оригинальности. Раз ставши на эту точку, художник дошел до такой занимательности действия, до такой прелести во всем ходе событий, что неудавшаяся, печально кончившаяся любовь Ольги и Обломова стала и навсегда останется одним из обворожительнейших эпизодов во всей русской литературе. Кто из стариков не зачитывался этих страниц, кто из восприимчивых юношей при чтении их не чувствовал горячих слез на своих глазах? И какими простыми, часто какими комическими средствами достигнут такой небывалый результат! Какой страх, соединенный с улыбкою, возбуждают в нас эти бесконечно разнообразные проявления обломовщины в борьбе с истинной, деятельной жизнью сердца! Мы знаем, что время обновления упущено, что не Ольге дано поднять Обломова, а между тем, при всякой коллизии в их драме сердце наше замирает от неизвестности. Чего мы не перечувствовали при всех перипетиях этой страсти, начиная хоть от той минуты, когда Илья Ильич, глядя на Ольгу так, как глядит на нее нянька Кузьминишна, важно толкует о том, что нехорошо и опасно видаться наедине, до его страшного, последнего свидания с девушкой и до ее последних слов: «Что сгубило тебя, нет имени этому злу!» Чего только нет в этом промежутке, в этой борьбе света и тени, отдающей нам всего Обломова и сближающей его с нами так, что мы мучимся за него, когда он, охая и скучая, пробирается в оперу с Выборгской стороны, и озаряемся радостью в те минуты, когда в его обломовском, запыленном гнезде, при отчаянном лае скачущей на цепи собаки, вдруг является неожиданное видение доброго ангела. Перед сколькими частностями означенного эпизода добродушнейший смех овладевает нами, и овладевает затем, чтоб тотчас же смениться ожиданием, грустью, волнением, горьким соболезнованием к слабому! Вот к чему ведет нас ряд художественных деталей, начавшийся еще со сна Обломова. Вот где является истинный смех сквозь слезы – тот смех, который стал было нам ненавистен – так часто им прикрывались скандалезные стихотворцы и биографы нетрезвых взяточников! Выражение, так безжалостно опозоренное бездарными писателями, вновь получило для нас свою силу: могущество истинной, живой поэзии снова воротило к нему наше сочувствие.
Создание Ольги так полно – и задача, ею выполненная в романе, выполнена так богато, что дальнейшее пояснение типа Обломова через другие персонажи становится роскошью, иногда ненужною. Одним из представителей этой излишней роскоши является нам Штольц, которым, как кажется, недовольны многие из почитателей г. Гончарова. Для нас совершенно ясно, что это лицо было задумано и обдумано прежде Ольги, что на его долю, в прежней идее автора, падал великий труд уяснения Обломова и обломовщины путем всем понятного противопоставления двух героев. Но Ольга взяла все дело в свои руки, к истинному счастию автора и к славе его произведения. Андрей Штольц исчез перед нею, как исчезает хороший, но обыкновенный муж перед своей блистательно одаренною супругою. Роль его стала незначительною, вовсе не соразмерною с трудом и обширностью подготовки, как роль актера, целый год готовившегося играть Гамлета и выступившего перед публикой в роли Лаэрта. Глядя на дело с этой точки зрения, мы готовы осудить слишком частое появление Штольца, очень же осуждать его как живое лицо мы неспособны точно так же, как осуждать Лаэрта за то, что он не Гамлет. Мы не видим в Штольце ровно ничего несимпатического, а в создании его ничего резко несовместного с законами искусства: это человек обыкновенный и не метящий в необыкновенные люди, лицо, вовсе не возводимое романистом в идеал нашего времени, персонаж, обрисованный с излишнею кропотливостью, которая все-таки не дает нам должной полноты впечатления. Весьма подробно и поэтично описывая нам детство Штольца, г. Гончаров так охлаждается к периоду его зрелости, что даже не сообщает нам, какими именно предприятиями занимается Штольц, и эта странная ошибка неприятно действует на читателя, с детства своего привыкшего глядеть неласково на всякого афериста, которого деловые занятия покрыты мраком неизвестности. Если б в Штольце предстояла великая надобность, если б только через него тип Обломова был способен к должному уяснению, мы не сомневаемся, что наш художник, при своей силе и зоркости, не отступил бы перед раз заданной темой, но мы сказали уже, что создание Ольги далеко оттеснило Штольца и его значение в романе. Уяснение через резкую противоположность двух несходных мужских характеров стало ненужным: сухой неблагодарный контраст заменился драмой, полною любви, слез, смеха и жалости. За Штольцем осталось только некоторое участие в механическом ходе всей интриги, да еще его беспредельная любовь к особе Обломова, в какой, впрочем, у него много соперников.
И в самом деле, окиньте весь роман внимательным взглядом, и вы увидите, как много в нем лиц, преданных Илье Ильичу и даже обожающих его, этого кроткого голубя, по выражению Ольги. И Захар, и Анисья, и Штольц, и Ольга, и вялый Алексеев – все привлечены прелестью этой чистой и цельной натуры, перед которою один только Тарантьев может стоять, не улыбаясь и не чувствуя на душе теплоты, не подшучивая над ней и не желая ее приголубить. Зато Тарантьев мерзавец, мазурик; ком грязи, скверный булыжник сидит у него в груди вместо сердца, и Тарантьева мы ненавидим, так что, явись он живой перед нами, мы бы почли за наслаждение побить его собственноручно. Зато холод проникает нас до костей и гроза поднимается в нашей душе в ту минуту, когда после описания беседы Обломова с Ольгой, после седьмого неба поэзии, мы узнаем, что в креслах Ильи Ильича сидит и ждет его прихода Тарантьев. К счастию, в свете немного Тарантьевых и в романе есть кому любить Обломова. Всякий почти из действующих лиц любит его по-своему, а эта любовь так проста, так необходимо вытекает из сущности дела, так чужда всякого расчета или авторской натяжки! Но ничье обожание (даже считая тут чувства Ольги в лучшую пору ее увлечения) не трогает нас так, как любовь Агафьи Матвеевны к Обломову, той самой Агафьи Матвеевны Пшеницыной, которая с первого своего появления показалась нам злым ангелом Ильи Ильича, – и увы! действительно сделалась его злым ангелом. Агафья Матвеевна, тихая, преданная, всякую минуту готовая умереть за нашего друга, действительно загубила его вконец, навалила гробовой камень над всеми его стремлениями, ввергнула его в зияющую пучину на миг оставленной обломовщины, но этой женщине все будет прощено за то, что она много любила. Страницы, в которых является нам Агафья Матвеевна, с самой первой застенчивой своей беседы с Обломовым, верх совершенства в художественном отношении, но наш автор, заключая повесть, переступил все грани своей обычной художественности и дал нам такие строки, от которых сердце разрывается, слезы льются на книгу и душа зоркого читателя улетает в область тихой поэзии, что до сих пор, из всех русских людей, быть творцом в этой области было дано одному Пушкину. Скорбь Агафьи Матвеевны о покойном Обломове, ее отношения к семейству и Андрюше, наконец этот дивный анализ ее души и ее прошлой страсти – все это выше самой восторженной оценки. Тут в рецензии нужно одно какое-нибудь короткое слово, одно восклицание сочувствия – да, может быть, выписка разительнейших строк отрывка, выписка, годная на случай, если б читатель пожелал освежить воспоминание обо всем эпизоде, не отмечивая книги и не теряя минуты на переворачивание ее листов.
Вот она в темном платье, в черном шерстяном платке на шее, ходит из комнаты в кухню, по-прежнему отворяет и затворяет шкафы, шьет, гладит кружева, но тихо, без энергии, говорит будто нехотя, тихим голосом, и не по-прежнему смотрит вокруг беспечно перебегающими с предмета на предмет глазами, а с сосредоточенным выражением, с затаившимся внутренним смыслом в глазах. Мысль эта села невидимо на ее лицо, кажется, в то мгновение, когда она сознательно и долго всматривалась в мертвое лицо своего мужа, и с тех пор не покидала ее. Она двигалась по дому, делала руками все, что было нужно, но мысль ее не участвовала тут. Над трупом мужа, с потерею его, она, кажется, вдруг уразумела свою жизнь и задумалась над ее значением, и эта задумчивость навсегда легла тенью на ее лицо. Выплакав потом живое горе, она сосредоточилась на сознании о потере: все прочее умерло для нее, кроме маленького Андрюши. Только когда видела она его, в ней будто пробуждались признаки жизни, черты лица оживали, глаза наполнялись радостным светом и потом заливались слезами воспоминаний. Она была чужда всего окружающего: рассердится ли братец за напрасно истраченный рубль, за подгорелое жаркое, за несвежую рыбу, надуется ли невестка за мягко накрахмаленные юбки, за некрепкий и холодный чай, нагрубит ли толстая кухарка, Агафья Матвеевна не замечает ничего, как будто не о ней речь, не слышит даже язвительного шепота: «Барыня! помещица!» Она на все отвечает достоинством своей скорби и покорным молчанием. Напротив, в святки, в светлый день, в веселые вечера масленицы, когда все ликует, поет, ест и пьет в доме, она вдруг, среди общего веселья, зальется горькими слезами и спрячется в свой угол. Потом опять сосредоточится и иногда даже смотрит на братца и на жену его как будто с гордостью, с сожалением. Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять; что засветило в ней солнце и померкло навсегда... Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее; теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно.
Она так полно и много любила: любила Обломова – как любовника, как мужа и как барина; только рассказать никогда она этого, как прежде, не могла никому. Да никто и не понял бы ее вокруг. Где бы она нашла язык. В лексиконе братца, Тарантьева, невестки не было таких слов, потому что не было понятий; только Илья Ильич понял бы ее, но она ему никогда не высказывала, потому что не понимала тогда сама и не умела... На всю жизнь ее разлились лучи, тихий свет от пролетевших, как одно мгновение, семи лет, и нечего было ей ждать больше, некуда идти...
После всего нами сказанного и выписанного, может быть, иной скептический читатель спросит нас: «Да за что же наконец Обломов так любим лицами его окружающими – и еще более, за что именно он любезен читателю? Если для возбуждения выражений и дел преданности достаточно есть и валяться по диванам, не делать никакого зла и сознаваться в своей житейской неспособности, да сверх всего этого иметь несколько комических сторон в своем характере, то значительная масса рода человеческого имеет право на нашу возможную привязанность! Если Обломов действительно добр как голубь, то почему же автор не выразил перед нами практических проявлений этой доброты, если герой честен и неспособен на зло, то почему же эти почтенные стороны его натуры не выставлены перед нами осязательным образом? Обломовщина, как ни тяготей она над человеком, не может же вывести его из круга той вседневной, мелкой, насущной деятельности, которой, как всякий знает, всегда достаточно для выражения привлекательных сторон нашей натуры. Отчего же все подобные выражения натуры у Обломова исключительно пассивны и отрицательны? Отчего, наконец, он не совершает перед нами даже самого малого дела любви и кротости, хотя бы дела, которое может быть покончено без разлуки с халатом, – почему он не скажет приветного и задушевного слова хоть одному из второстепенных лиц, стоящих около него, хотя бы в награду за всю их преданность?» В таком замечании читателя отыскивается своя доля правды. Обломов, лучшее и сильнейшее создание нашего блистательного романиста, не принадлежит к числу типов, «к которым невозможно добавить ни одной лишней черты» – над этим типом невольно задумываешься, дополнений к нему невольно жаждешь, но дополнения эти сами приходят на мысль, и автор со своей стороны сделал почти все нужное для того, чтобы они приходили.
Германский писатель Риль сказал где-то: горе тому политическому обществу, где нет и не может быть честных консерваторов; подражая этому афоризму, мы скажем: нехорошо той земле, где нет добрых и неспособных на зло чудаков в роде Обломова! Обломовщина, так полно обрисованная г. Гончаровым, захватывает собою огромное количество сторон русской жизни, но из того, что она развилась и живет у нас с необыкновенной силою, еще не следует думать, чтоб обломовщина принадлежала одной России. Когда роман, нами разбираемый, будет переведен на иностранные языки, успех его покажет, до какой степени общи и всемирны типы, его наполняющие. По лицу всего света рассеяны многочисленные братья Ильи Ильича, то есть люди, не подготовленные к практической жизни, мирно укрывшиеся от столкновений с нею и не кидающие своей нравственной дремоты за мир волнений, к которым они не способны. Такие люди иногда смешны, иногда вредны, но очень часто симпатичны и даже разумны. Обломовщина относительно вседневной жизни то же, что, относительно политической жизни, консерватизм, упомянутый Рилем: она, в слишком обширном развитии, вещь нестерпимая, но к свободному и умеренному ее проявлению не за что относиться с враждою. Обломовщина гадка, ежели она происходит от гнилости, безнадежности, растления и злого упорства, но ежели корень ее таится просто в незрелости общества и скептическом колебании чистых душою людей пред практической безурядицей, что бывает во всех молодых странах, то злиться на нее значит то же, что злиться на ребенка, у которого слипаются глазки посреди вечерней крикливой беседы людей взрослых. Русская обломовщина так, как она уловлена г. Гончаровым, во многом возбуждает наше негодование, но мы не признаем ее плодом гнилости или растления. В том-то и заслуга романиста, что он крепко сцепил все корни обломовщины с почвой народной жизни и поэзии – проявил нам ее мирные и незлобные стороны, не скрыв ни одного из ее недостатков. Обломов – ребенок, а не дрянной развратник, он соня, а не безнравственный эгоист или эпикуреец времен распадения. Он бессилен на добро, но он положительно неспособен к злому делу, чист духом, не извращен житейскими софизмами – и, несмотря на всю свою жизненную бесполезность, законно завладевает симпатиею всех окружающих его лиц, по-видимому отделенных от него целою бездною.
Весьма легко нападать на Обломова с точки зрения людей практических, а между тем отчего бы иногда нам не взглянуть на недостатки современных практических мудрецов, так презрительно толкающих ребенка – Обломова. Лениво зевающее дитя в физиологическом отношении, конечно, слабее и негоднее чиновника средних лет, подписывающего бумагу за бумагою, но у чиновника средних лет, без сомнения, есть геморрой и, может быть, другие болезни, которых дитя не имеет. Так и заспанный Обломов, уроженец заспанной и все-таки поэтической Обломовки, свободен от нравственных болезней, какими страдает не один из практических людей, кидающих в него камнями. Он не имеет ничего общего с бесчисленной массой грешников нашего времени, самонадеянно берущихся за дела, к которым не имеют призвания. Он не заражен житейским развратом и на всякую вещь смотрит прямо, не считая нужным стесняться перед кем-нибудь или перед чем-нибудь в жизни. Он сам не способен ни к какой деятельности, усилия Андрея и Ольги к пробуждению его апатии остались без успеха, но из этого еще далеко не следует, чтоб другие люди при других условиях не могли подвигнуть Обломова на мысль и благое дело. Ребенок по натуре и по условиям своего развития, Илья Ильич во многом оставил за собой чистоту и простоту ребенка, качества драгоценные во взрослом человеке, качества, которые сами по себе, посреди величайшей практической запутанности, часто открывают нам область правды и временами ставят неопытного, мечтательного чудака и выше предрассудков своего века, и выше целой толпы дельцов, его окружающих.
Попробуем подтвердить слова наши. Обломов, как живое лицо, достаточно полон для того, чтоб мы могли судить о нем в разных положениях, даже не замеченных его автором. По практичности, по силе воли, по знанию жизни он далеко ниже своей Ольги и Штольца, людей хороших и современных; по инстинкту правды и теплоте своей натуры он их несомненно выше. В последние годы его жизни супруги Штольц навестили Илью Ильича, Ольга осталась в карете, Андрей вошел в известный нам домик с цепной собакой у калитки. Выйдя от своего друга, он только сказал жене: все кончено или что-то в этом роде и уехал, и Ольга уехала, хотя, без сомнения, с горем и слезами. В чем же заключался смысл этого безнадежного, отчаянного приговора? Илья Ильич женился на Пшеницыной (и прижил с этой необразованной женщиной ребенка). И вот причина, по которой кровная связь расторгнута, обломовщина признана переступившей все пределы! Ни Ольгу, ни ее мужа мы за это не виним: они подчинялись закону света и не без слез покинули друга. Но повернем медаль и на основании того, что дано нам поэтом, спросим себя: так ли бы поступил Обломов, если б ему сказали, что Ольга сделала несчастную mesalliance[41], что его Андрей женился на кухарке и что оба они, вследствие того, прячутся от людей, к ним близких. Тысячу раз и с полной уверенностью скажем, что не так. Ни идеи отторжения от дорогих людей из-за причин светских, ни идеи о том, что есть на свете mesalliances, для Обломова не существует. Он бы не сказал слова вечной разлуки, и, ковыляя, пошел бы к добрым людям, и прилепился бы к ним, и привел бы к ним свою Агафью Матвеевну. И Андреева кухарка стала бы для него не чужою, и он дал бы новую пощечину Тарантьеву, если б тот стал издеваться над мужем Ольги. Отсталый и неповоротливый Илья Ильич в этом простом деле, конечно, поступил бы сообразнее с вечным законом любви и правды, нежели два человека из числа самых развитых в нашем обществе. И Штольц, и Ольга, без всякого сомнения, гуманны в своих идеях, без всякого сомнения, они знают силу добра и головами своими привязаны к участи меньших братьев, но стоило их другу связать свое существование с судьбой женщины из породы этих меньших братьев, и они оба, просвещенные люди, поспешили со слезами сказать: все кончено, все пропало – обломовщина, обломовщина!
Продолжим параллель нашу. Обломов умер, Андрюша его вместе с Обломовкой поступил под опеку Штольца и Ольги. Очень вероятно, что и Андрюше было у них хорошо, и обломовские мужики не терпели притеснений. Но Захар, оставшийся без призрения, лишь случайно был найден в числе нищих, но вдова Ильи Ильича не была приближена к друзьям ее мужа, но дети Агафьи Матвеевны, которых Обломов учил чистописанию и географии, дети, которых он не отделял от своего сына, остались на произвол своей матери, слишком привыкшей во всем отделять их от барчонка Андрюши. Ни житейский порядок, ни житейская правда этим нарушены не были, и супругов Штольц никакой закон не нашел бы виноватыми. Но Илья Ильич Обломов, смеем думать, иначе поступил бы с лицами и сиротами, которых присутствие когда-то услаждало собой жизнь его Андрея и в особенности Ольги. Очень может быть, что он не сумел бы быть им полезным практически, но любви своей к ним не стал бы подразделять на разные степени. Без расчета и соображений он поделился бы с ними последним куском хлеба и, говоря метафорически, принял бы их всех равно под сень своего теплого халата. У кого сердце дальновиднее головы, тот может наделать множество глупостей, но в стремлениях своих все-таки останется горячее и либеральнее людей, запутанных сетьми светской мудрости. Возьмем хоть поведение Штольца в ту пору, когда он жил где-то на Женевском озере, а Обломов чуть не повергнут был в нищету ковами друзей Тарантьева. Андрей Штольц, которому ничего не значило изъездить пол-Европы, человек со связями и деловой опытностью, не захотел даже найти в Петербурге дельца, который за приличное вознаграждение согласился бы принять надзор над положением Обломова. А между тем и он и Ольга не могли не знать участи, грозившей их другу. Со своим практическим laissez faire, laissez passer[42] они оба были вполне правы, и винить их никто не смеет. Кто в наше время осмеливается совать свой нос в дела самого близкого человека? Но предположите теперь, что до Ильи Ильича доходит слух о том, что Андрей и Ольга на краю нищеты, что они окружены врагами, грозящими их будущности. Трудно сказать, что бы совершил Обломов при этом известии, но кажется нам, что он не сказал бы самому себе: какое право имею я вмешиваться в дела лиц, когда-то мне дорогих и близких.
Может быть, догадки наши покажутся иному читателю не совсем основательными, но такова наша точка зрения, и в искренности ее никто не имеет права сомневаться. Не за комические стороны, не за жалостную жизнь, не за проявления общих всем нам слабостей любим мы Илью Ильича Обломова. Он дорог нам как человек своего края и своего времени, как незлобный и нежный ребенок, способный, при иных обстоятельствах жизни и ином развитии, на дела истинной любви и милосердия. Он дорог нам как самостоятельная и чистая натура, вполне независимая от той схоластико-моральной истасканности, что пятнает собою огромное большинство людей, его презирающих. Он дорог нам по истине, какою проникнуто все его создание, по тысяче корней, которыми поэт-художник связал его с нашей родной почвою. И наконец, он любезен нам как чудак, который в нашу эпоху себялюбия, ухищрений и неправды мирно покончил свой век, не обидевши ни одного человека, не обманувши ни одного человека и не научивши ни одного человека чему-нибудь скверному.
Н. Г. Чернышевский (1828—1889)
Родился в Саратове в семье священника. Учился в Саратовской семинарии, где ему прочили блестящую духовную карьеру, затем в Петербургском университете. Во время учебы в университете начал увлекаться политикой, философскими и экономическими учениями ранних социалистов Ш. Фурье, А. Сен-Симона, Л. Фейербаха. Одновременно складывались эстетические воззрения Чернышевского, которые отразились в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», где он проповедует подчинение искусства жизненным задачам.
В 1853 году познакомился с Н. А. Некрасовым и вскоре стал сотрудником «Современника», фактически определяющим политику этого журнала. Другом и соратником Чернышевского был также Н. А. Добролюбов.
В 1862 году был арестован по политическому обвинению. В Петропавловской крепости до вынесения приговора (гражданская казнь, лишение всех прав состояния и каторжные работы) успел написать знаменитый роман «Что делать?», опубликованный в «Современнике» по недосмотру цензуры. После каторги жил в ссылке в Якутии, затем в Астрахани и Саратове.
Литературно-критические статьи Чернышевского отличались острой политической направленностью. Высказать политические воззрения было для него важнее чисто эстетических задач. И в то же время в некоторых его статьях присутствует глубокий художественный анализ, который, в частности, позволил ему глубже многих критиков оценить творчество раннего Л. Н. Толстого.
Детство и Отрочество Сочинение графа Л. Н. Толстого. СПб., 1856 Военные рассказы графа Л. Н. Толстого. СПб., 1856
«Чрезвычайная наблюдательность, тонкий анализ душевных движений, отчетливость и поэзия в картинах природы, изящная простота – отличительные черты таланта графа Толстого». Такой отзыв вы услышите от каждого, кто только следит за литературою. Критика повторяла эту характеристику, внушенную общим голосом, и, повторяя ее, была совершенно верна правде дела.
Но неужели ограничиться этим суждением, которое, правда, заметило в таланте графа Толстого черты, действительно ему принадлежащие, но еще не показало тех особенных оттенков, какими отличаются эти качества в произведениях автора «Детства», «Отрочества», «Записок маркера», «Метели», «Двух гусаров» и «Военных рассказов»? Наблюдательность, тонкость психологического анализа, поэзия в картинах природы, простота и изящество, – все это вы найдете и у Пушкина, и у Лермонтова, и у г. Тургенева, – определять талант каждого из этих писателей только этими эпитетами было бы справедливо, но вовсе не достаточно для того, чтобы отличить их друг от друга; и повторить то же самое о графе Толстом еще не значит уловить отличительную физиономию его таланта, не значит показать, чем этот прекрасный талант отличается от многих других столь же прекрасных талантов. Надобно было охарактеризовать его точнее.
Нельзя сказать, чтобы попытки сделать это были очень удачны. Причина неудовлетворительности их отчасти заключается в том, что талант графа Толстого быстро развивается, и почти каждое новое произведение обнаруживает в нем новые черты. Конечно, все, что сказал бы кто-нибудь о Гоголе после «Миргорода», оказалось бы недостаточным после «Ревизора», и суждения, высказавшиеся о г. Тургеневе, как авторе «Андрея Колосова» и «Хоря и Калиныча», надобно было во многом изменять и дополнять, когда явились его «Записки охотника», как и эти суждения оказались недостаточными, когда он написал новые повести, отличающиеся новыми достоинствами. Но если прежняя оценка развивающегося таланта непременно оказывается недостаточною при каждом новом шаге его вперед, то, по крайней мере, для той минуты, как является, она должна быть верна и основательна. Мы уверены, что не дальше, как после появления «Юности», то, что мы скажем теперь, будет уже нуждаться в значительных пополнениях: талант графа Толстого обнаружит перед нами новые качества, как обнаружил он севастопольскими рассказами стороны, которым не было случая обнаружиться в «Детстве» и «Отрочестве», как потом в «Записках маркера» и «Двух гусарах» он снова сделал шаг вперед. Но талант этот, во всяком случае, уже довольно блистателен для того, чтобы каждый период его развития заслуживал быть отмечен с величайшею внимательностью. Посмотрим же, какие особенные черты он уже имел случай обнаружить в произведениях, которые известны читателям нашего журнала.
Наблюдательность у иных талантов имеет в себе нечто холодное, бесстрастное. У нас замечательнейшим представителем этой особенности был Пушкин. Трудно найти в русской литературе более точную и живую картину, как описание быта и привычек большого барина старых времен в начале его повести «Дубровский». Но трудно решить, как думает об изображаемых им чертах сам Пушкин. Кажется, он готов был бы отвечать на этот вопрос: «можно думать различно; мне какое дело, симпатию или антипатию возбудит в вас этот быт? я и сам не могу решить, удивления или негодования он заслуживает». Эта наблюдательность – просто зоркость глаза и памятливость. У новых наших писателей такого равнодушия вы не найдете; их чувства более возбуждены, их ум более точен в своих суждениях. Не с равною охотою наполняют они свою фантазию всеми образами, какие только встречаются на их пути; их глаз с особенным вниманием всматривается в черты, которые принадлежат сфере жизни, наиболее их занимающей. Так, например, г. Тургенева особенно привлекают явления, положительным или отрицательным образом относящиеся к тому, что называется поэзиею жизни, и к вопросу о гуманности. Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь, по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем. Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого – влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего – связь чувств с действиями; четвертого – анализ страстей; графа Толстого всего более – сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином.
Из других замечательнейших наших поэтов более развита эта сторона психологического анализа у Лермонтова; но и у него она все-таки играет слишком второстепенную роль, обнаруживается редко, да и то почти всегда в совершенном подчинении анализу чувства. Из тех страниц, где она выступает заметнее, едва ли не самая замечательная – памятные всем размышления Печорина о своих отношениях к княжне Мери, когда он замечает, что она совершенно увлеклась им, бросив кокетничанье с Грушницким для серьезной страсти.
«Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь и т. д. – Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:
– Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез...» и т. д.
Тут яснее, нежели где-нибудь у Лермонтова, уловлен психический процесс возникновения мыслей, – и, однако ж, это все-таки не имеет ни малейшего сходства с теми изображениями хода чувств и мыслей в голове человека, которые так любимы графом Толстым. Это вовсе не то, что полумечтательные, полурефлективные сцепления понятий и чувств, которые растут, движутся, изменяются перед нашими глазами, когда мы читаем повесть графа Толстого, – это не имеет ни малейшего сходства с его изображениями картин и сцен, ожиданий и опасений, проносящихся в мысли его действующих лиц; размышления Печорина наблюдены вовсе не с той точки зрения, как различные минуты душевной жизни лиц, выводимых графом Толстым, – хотя бы, например, это изображение того, что проживает человек в минуту, предшествующую ожидаемому смертельному удару, потом в минуту последнего сотрясения нерв от этого удара:
«Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидел молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услыхал крик часового: „маркела!“ и слова одного из солдат, шедших сзади: „как раз на бастион прилетит!“
Михайлов оглянулся. Светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените – в том положении, когда решительно нельзя определить ее направление. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в средину бастиона.
– Ложись! – крикнул чей-то голос.
Михайлов и Праскухин прилегли к земле. Праскухин, зажмурясь, слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом, – бомбу не рвало. Праскухин испугался: не напрасно ли он струсил? может быть, бомба упала далеко, и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с удовольствием увидел, что Михайлов, около самых ног его, недвижимо лежал на земле. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой в аршине от него крутившейся бомбы.
Ужас – холодный, исключающий все другие мысли и чувства ужас, – объял все существо его. Он закрыл лицо руками.
Прошла еще секунда, – секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.
«Кого убьет – меня или Михайлова? или обоих вместе? А коли меня, то куда? В голову, так все кончено; а если в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, – и я могу еще жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьет: тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убили и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе... меня!»
Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову. Женщина, которую он любил, явилась ему в воображении в чепце с лиловыми лентами, человек, которым он был оскорблен пять лет тому назад и которому не отплатил за оскорбление, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний чувство настоящего – ожидания смерти – ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет», – подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в средину груди: он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.
«Слава богу! я только контужен», – было его первой мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди; но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавили голову. В глазах его мелькали солдаты, и он бессознательно считал их: «один, два, три солдата; а вот, в подвернутой шинели, офицер», – думал он. Потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки. А вот еще выстрелили; а вот еще солдаты – пять, шесть, семь солдат, идут все мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его. Он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро у него около груди: это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал», – подумал он, и, все более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «возьмите меня!», но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало слушать себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, – а ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди». Это изображение внутреннего монолога надобно, без преувеличений, назвать удивительным. Ни у кого другого из наших писателей не найдете вы психических сцен, подмеченных с этой точки зрения. И, по нашему мнению, та сторона таланта графа Толстого, которая дает ему возможность уловлять эти психические монологи, составляет в его таланте особенную, только ему свойственную силу. Мы не то хотим сказать, что граф Толстой непременно и всегда будет давать нам такие картины: это совершенно зависит от положений, им изображаемых, и, наконец, просто от воли его. Однажды написав «Метель», которая вся состоит из ряда подобных внутренних сцен, он в другой раз написал «Записки маркера», в которых нет ни одной такой сцены, потому что их не требовалось по идее рассказа. Выражаясь фигуральным языком, он умеет играть не одной этой струной, может играть или не играть на ней, но самая способность играть на ней придает уже его таланту особенность, которая видна во всем постоянно. Так, певец, обладающий в своем диапазоне необыкновенно высокими нотами, может не брать их, если то не требуется его партией, – и все-таки, какую бы ноту он ни брал, хотя бы такую, которая равно доступна всем голосам, каждая его нота будет иметь совершенно особенную звучность, зависящую собственно от способности его брать высокую ноту, и в каждой ноте его будет обнаруживаться для знатока весь размер его диапазона.
Особенная черта в таланте графа Толстого, о которой мы говорили, так оригинальна, что нужно с большим вниманием всматриваться в нее, и тогда только мы поймем всю ее важность для художественного достоинства его произведений. Психологический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту. Но обыкновенно он имеет, если можно так выразиться, описательный характер, – берет определенное, неподвижное чувство и разлагает его на составные части, – дает нам, если так можно выразиться, анатомическую таблицу. В произведениях великих поэтов мы, кроме этой стороны его, замечаем и другое направление, проявления которого действуют на читателя или зрителя чрезвычайно поразительно: это – уловление драматических переходов одного чувства в другое, одной мысли в другую. Но обыкновенно нам представляются только два крайние звена этой цепи, только начало и конец психического процесса, – это потому, что большинство поэтов, имеющих драматический элемент в своем таланте, заботятся преимущественно о результатах, проявлениях внутренней жизни, о столкновениях между людьми, о действиях, а не о таинственном процессе, посредством которого вырабатывается мысль или чувство; даже в монологах, которые, по-видимому, чаще всего должны бы служить выражением этого процесса, почти всегда выражается борьба чувств, и шум этой борьбы отвлекает наше внимание от законов и переходов, по которым совершается ассоциация представлений, – мы заняты их контрастом, а не формами их возникновения, – почти всегда монологи, если содержат не простое анатомированье неподвижного чувства, только внешностью отличаются от диалогов: в знаменитых своих рефлексиях Гамлет как бы раздвояется и спорит сам с собою; его монологи, в сущности, принадлежат к тому же роду сцен, как и диалоги Фауста с Мефистофелем или споры маркиза Позы с Дон Карлосом. Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс, – и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым. Есть живописцы, которые знамениты искусством уловлять мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них по преимуществу говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто подобное делает граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. В этом состоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Из всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело.
Конечно, эта способность должна быть врождена от природы, как и всякая другая способность: но было бы недостаточно остановиться на этом слишком общем объяснении: только самостоятельною деятельностью развивается талант, и в той деятельности, о чрезвычайной энергии которой свидетельствует замеченная нами особенность произведений графа Толстого, надобно видеть основание силы, приобретенной его талантом. Мы говорим о самоуглублении, о стремлении к неутомимому наблюдению над самим собой. Законы человеческого действия, игру страстей, сцепление событий, влияние обстоятельств и отношений мы можем изучать, внимательно наблюдая других людей; но все знание, приобретаемое этим путем, не будет иметь ни глубины, ни точности, если мы не изучим сокровеннейших законов психической жизни, игра которых открыта перед нами только в нашем собственном самознании. Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей. Та особенность таланта графа Толстого, о которой говорили мы выше, доказывает, что он чрезвычайно внимательно изучал тайны жизни человеческого духа в самом себе; это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность написать картины внутренних движений человеческой мысли, на которые мы обратили внимание читателя, но еще, быть может, больше потому, что дало ему прочную основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений. Мы не ошибемся, сказав, что самонаблюдение должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюдательность, приучить его смотреть на людей проницательным взглядом.
Драгоценно в таланте это качество, едва ли не самое прочное из всех прав на славу истинно замечательного писателя. Знание человеческого сердца, способность раскрывать перед нами его тайны – ведь это первое слово в характеристике каждого из тех писателей, творения которых с удивлением перечитываются нами. И, чтобы говорить о графе Толстом, глубокое изучение человеческого сердца будет неизменно придавать очень высокое достоинство всему, что бы ни написал он и в каком бы духе ни написал. Вероятно, он напишет много такого, что будет поражать каждого читателя другими, более эффектными качествами, – глубиною идеи, интересом концепций, сильными очертаниями характеров, яркими картинами быта, – и в тех произведениях его, которые уже известны публике, этими достоинствами постоянно возвышался интерес, – но для истинного знатока всегда будет видно – как очевидно и теперь, – что знание человеческого сердца – основная сила его таланта. Писатель может увлекать сторонами более блистательными; но истинно силен и прочен его талант только тогда, когда обладает этим качеством.
Есть в таланте г. Толстого еще другая сила, сообщающая его произведениям совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замечательной свежестью, – чистота нравственного чувства. Мы не проповедники пуританизма; напротив, мы опасаемся его: самый чистый пуританизм вреден уже тем, что делает сердце суровым, жестким; самый искренний и правдивый моралист вреден тем, что ведет за собою десятки лицемеров, прикрывающихся его именем. С другой стороны, мы не так слепы, чтобы не видеть чистого света высокой нравственной идеи во всех замечательных произведениях литературы нашего века. Никогда общественная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в наше благородное время, – благородное и прекрасное, несмотря на все остатки ветхой грязи, потому что все силы свои напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от наследных грехов. И литература нашего времени, во всех замечательных своих произведениях, без исключения, есть благородное проявление чистейшего нравственного чувства. Не то мы хотим сказать, что в произведениях графа Толстого чувство это сильнее, нежели в произведениях другого какого из замечательных наших писателей: в этом отношении все они равно высоки и благородны; но у него это чувство имеет особенный оттенок. У иных оно очищено страданием, отрицанием, просветлено сознательным убеждением, является уже только как плод долгих испытаний, мучительной борьбы, быть может, целого ряда падений. Не то у графа Толстого: у него нравственное чувство не восстановлено только рефлексиею и опытом жизни, оно никогда не колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести. Мы не будем сравнивать того и другого оттенка в гуманистическом отношении, не будем говорить, который из них выше по абсолютному значению – это дело философского или социального трактата, а не рецензии, – мы здесь говорим только об отношении нравственного чувства к достоинствам художественного произведения, и должны признаться, что в этом случае непосредственная как бы сохранившаяся во всей непорочности от чистой поры юношества, свежесть нравственного чувства придает поэзии особенную – трогательную и грациозную – очаровательность. От этого качества, по нашему мнению, во многом зависит прелесть рассказов графа Толстого. Не будем доказывать, что только при этой непосредственной свежести сердца можно было рассказать «Детство» и «Отрочество» и с тем чрезвычайно верным колоритом, с тою нежною грациозностью, которые дают истинную жизнь всем этим повестям. Относительно «Детства» и «Отрочества» очевидно каждому, что без непорочности нравственного чувства невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и задумать их. Укажем другой пример – в «Записках маркера»: историю падения души, созданной с благородным направлением, мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант, сохранивший первобытную чистоту.
Благотворное влияние этой черты таланта не ограничивается теми рассказами или эпизодами, в которых она выступает заметным образом на первый план: постоянно служит она оживительницею, освежительницею таланта. Что в мире поэтичнее, прелестнее чистой юношеской души, с радостною любовью откликающейся на все, что представляется ей возвышенным и благородным, чистым и прекрасным, как сама она? Кто не испытывал, как освежается его дух, просветляется его мысль, облагораживается все существо присутствием девственного душою существа, подобного Корделии, Офелии или Дездемоне? Кто не чувствовал, что присутствие такого существа навевает поэзию на его душу, и не повторял вместе с героем г. Тургенева (в «Фаусте»):
Крылом своим меня одень, Волненье сердца утиши, И благодатна будет сень Для очарованной души...Такова же сила нравственной чистоты и в поэзии. Произведение, в котором веет ее дыхание, действует на нас освежительно, миротворно, как природа, – ведь и тайна поэтического влияния природы едва ли не заключается в ее непорочности. Много зависит от того же веяния нравственной чистоты и грациозная прелесть произведений графа Толстого.
Эти две черты – глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства, придающие теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого, останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии.
Само собою разумеется, что всегда останется при нем и его художественность. Объясняя отличительные качества произведений графа Толстого, мы до сих пор не упоминали об этом достоинстве, потому что оно составляет принадлежность или, лучше сказать, сущность поэтического таланта вообще, будучи собственно только собирательным именем для обозначения всей совокупности качеств, свойственных произведениям талантливых писателей.
Не стоит внимания то, что люди, особенно много толкующие о художественности, наименее понимают, в чем состоят ее условия. Мы где-то читали недоумение относительно того, почему в «Детстве» и «Отрочестве» нет на первом плане какой-нибудь прекрасной девушки лет восемнадцати или двадцати, которая бы страстно влюблялась в какого-нибудь так же прекрасного юношу... Удивительные понятия о художественности! Да ведь автор хотел изобразить детский и отроческий возраст, а не картину пылкой страсти, и разве вы не чувствуете, что если б он ввел в свой рассказ эти фигуры и этот патетизм, дети, на которых он хотел обратить ваше внимание, были бы заслонены, их милые чувства перестали бы занимать вас, когда в рассказе явилась бы страстная любовь, – словом, разве вы не чувствуете, что единство рассказа было бы разрушено, что идея автора погибла бы, что условия художественности были бы оскорблены? Именно для того, чтобы соблюсти эти условия, автор не мог выводить в своих рассказах о детской жизни ничего такого, что заставило бы нас забыть о детях, отвернуться от них. Далее, там же мы нашли нечто вроде намека на то, что граф Толстой ошибся, не выставив картин общественной жизни в «Детстве» и «Отрочестве»; да мало ли и другого чего он не выставил в этих повестях? в них нет ни военных сцен, ни картин итальянской природы, ни исторических воспоминаний, нет вообще многого такого, что можно было бы, но неуместно и не должно было бы рассказывать: ведь автор хочет перенесть нас в жизнь ребенка, – а разве ребенок понимает общественные вопросы, разве он имеет понятие о жизни общества? Весь этот элемент столь же чужд детской жизни, как лагерная жизнь, и условия художественности были бы точно так же нарушены, если бы в «Детстве» была изображена общественная жизнь, как и тогда, если б изображена была в этой повести военная или историческая жизнь. Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности – единство произведения и что потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-нибудь другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями. И люди, предъявляющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества! Удивительно, как не ищут они в «Илиаде» – Макбета, в Вальтере Скотте – Диккенса, в Пушкине – Гоголя! Надобно понять, что поэтическая идея нарушается, когда в произведение вносятся элементы, ей чуждые, и что если бы, например, Пушкин в «Каменном госте» вздумал изображать русских помещиков или выражать свое сочувствие к Петру Великому, «Каменный гость» вышел бы произведением нелепым в художественном отношении. Всему свое место: картинам южной любви – в «Каменном госте», картинам русской жизни – в «Онегине», Петру Великому – в «Медном всаднике». Так и в «Детстве» или «Отрочестве» уместны только те элементы, которые свойственны тому возрасту, – а патриотизму, геройству, военной жизни будет свое место в «Военных рассказах», страшной нравственной драме – в «Записках маркера», изображению женщины – в «Двух гусарах». Помните ли вы эту чудную фигуру девушки, сидящей у окна ночью, помните ли, как бьется ее сердце, как сладко томится ее грудь предчувствием любви?
«Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уже весь блестевший серебряным сияньем.
Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед ней совершенно в новом свете: старая, капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые мужики, обожающие барышню, дойные коровы и телки, – вся эта все та же, столько раз умиравшая и обновлявшаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что давало ей такой легкий, приятный душевный отдых, – все это вдруг показалось не то, все это показалось скучно, не нужно. Как будто кто-нибудь сказал ей: «дурочка, дурочка! двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье!» Она это думала теперь, вглядываясь в глубину светлого, неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? Нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее; но он дурен, бедный, и молчалив как-то. Она невольно забывала его и с злобой и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то», – говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен! Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог бы быть любимым, – идеал, ни разу не обрезанный, для того, чтобы слить его с какой-нибудь грубой действительностью.
Сначала уединение и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душу каждого из нас вложило провидение, была еще цела и невозмутима в ее сердце; теперь же уже слишком долго она жила грустным счастием чувствовать в себе присутствие этого чего-то и, изредка открывая таинственный сердечный сосуд, наслаждаться созерцанием его богатств, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь все то, что там было. Дай бог, чтобы она до гроба наслаждалась этим скупым счастием. Кто знает, не лучше ли и не сильнее ли оно? и не одно ли оно истинно и возможно?
«Господи боже мой! – думала она, – неужели я даром потеряла счастие и молодость, и уж не будет... никогда не будет? неужели это правда?» И она вглядывалась в высокое светлое около месяца небо, покрытое белыми волнистыми тучами, которые, застилая звездочки, подвигались к месяцу. «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит, правда», – подумала она. Туманная, дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде; черные тени дерев стали менее заметны. И, как будто вторя мрачной тени, осенившей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна росистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени.
«Нет, это неправда, – утешала она себя, – а вот если соловей запоет нынче ночью, то значит вздор все, что я думаю, и не надо отчаиваться», – подумала она. И долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осветилось и ожило, и снова несколько раз набегали на месяц тучки и все померкло. Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздавшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой, широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешительные слезы, налились в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами.
Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение то было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты...»
Граф Толстой обладает истинным талантом. Это значит, что его произведения художественны, то есть в каждом из них очень полно осуществляется именно та идея, которую он хотел осуществить в этом произведении. Никогда не говорит он ничего лишнего, потому что это было бы противно условиям художественности, никогда не безобразит он свои произведения примесью сцен и фигур, чуждых идее произведения. Именно в этом и состоит одно из главных требований художественности. Нужно иметь много вкуса, чтобы оценить красоту произведений графа Толстого; но зато человек, умеющий понимать истинную красоту, истинную поэзию, видит в графе Толстом настоящего художника, то есть поэта с замечательным талантом.
Этот талант принадлежит человеку молодому, с свежими жизненными силами, имеющему перед собой еще долгий путь, – многое новое встретится ему на этом пути, много новых чувств будет еще волновать его грудь, многими новыми вопросами займется его мысль, – какая прекрасная надежда для нашей литературы, какие богатые новые материалы жизнь даст его поэзии! Мы предсказываем, что все, данное доныне графом Толстым нашей литературе, только залоги того, что совершит он впоследствии; но как богаты и прекрасны эти залоги!
Русский человек на rendez-vous[43] Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася»
«Рассказы в деловом, изобличительном роде оставляют в читателе очень тяжелое впечатление, потому я, признавая их пользу и благородство, не совсем доволен, что наша литература приняла исключительно такое мрачное направление».
Так говорят довольно многие из людей, по-видимому, неглупых, или, лучше сказать, говорили до той поры, пока крестьянский вопрос не сделался действительным предметом всех мыслей, всех разговоров. Справедливы или несправедливы их слова, не знаю; но мне случилось быть под влиянием таких мыслей, когда начал я читать едва ли не единственную хорошую новую повесть, от которой по первым страницам можно уже было ожидать совершенно иного содержания, иного пафоса, нежели от деловых рассказов. Тут нет ни крючкотворства с насилием и взяточничеством, ни грязных плутов, ни официальных злодеев, объясняющих изящным языком, что они – благодетели общества, ни мещан, мужиков и маленьких чиновников, мучимых всеми этими ужасными и гадкими людьми. Действие – заграницей, вдали от всей дурной обстановки нашего домашнего быта. Все лица повести – люди из лучших между нами, очень образованные, чрезвычайно гуманные, проникнутые благороднейшим образом мыслей. Повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных стоpон жизни. Вот, думал я, отдохнет и освежится душа. И действительно, освежилась она этими поэтическими идеалами, пока дошел рассказ до решительной минуты. Но последние страницы рассказа непохожи на первые, и по прочтении повести остается от нее впечатление еще более безотрадное, нежели от рассказов о гадких взяточниках с их циническим грабежом. Они делают дурно, но они каждым из нас признаются за дурных людей; не от них ждем мы улучшения нашей жизни. Есть, думаем мы, в обществе силы, которые положат преграду их вредному влиянию, которые изменят своим благородством характер нашей жизни. Эта иллюзия самым горьким образом отвергается в повести, которая пробуждает своей первой половиной самые светлые ожидания.
Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя все, за что наш век называется веком благородных стремлений. И что же делает этот человек? Он делает сцену, какой устыдился бы последний взяточник. Он чувствует самую сильную и чистую симпатию к девушке, которая любит его; он часа не может прожить, не видя этой девушки; его мысль весь день, всю ночь рисует ему ее прекрасный образ, настало для него, думаете вы, то время любви, когда сердце утопает в блаженстве. Мы видим Ромео, мы видим Джульетту, счастью которых ничто не мешает, и приближается минута, когда навеки решится их судьба, – для этого Ромео должен только сказать: «Я люблю тебя, любишь ли ты меня?» – и Джульетта прошепчет: «Да...» И что же делает наш Ромео (так мы будем называть героя повести, фамилия которого не сообщена нам автором рассказа), явившись на свидание с Джульеттой? С трепетом любви ожидает Джульетта своего Ромео; она должна узнать от него, что он любит ее, – это слово не было произнесено между ними, оно теперь будет произнесено им, навеки соединятся они; блаженство ждет их, такое высокое и чистое блаженство, энтузиазм которого делает едва выносимой для земного организма торжественную минуту решения. От меньшей радости умирали люди. Она сидит, как испуганная птичка, закрыв лицо от сияния являющегося перед ней солнца любви; быстро дышит она, вся дрожит; она еще трепетнее потупляет глаза, когда входит он, называет ее имя; она хочет взглянуть на него и не может; он берет ее руку, – эта рука холодна, лежит как мертвая в его руке; она хочет улыбнуться; но бледные губы ее не могут улыбнуться. Она хочет заговорить с ним, и голос ее прерывается. Долго молчат они оба, – и в нем, как сам он говорит, растаяло сердце, и вот Ромео говорит своей Джульетте... и что же он говорит ей? «Вы предо мною виноваты, – говорит он ей: – вы меня запутали в неприятности, я вами недоволен, вы компрометируете меня, и я должен прекратить мои отношения к вам; для меня очень неприятно с вами расставаться, но вы извольте отправляться отсюда подальше». Что это такое? Чем она виновата? Разве тем, что считала его порядочным человеком? компрометировала его репутацию тем, что пришла на свидание с ним? Это изумительно! Каждая черта в ее бледном лице говорит, что она ждет решения своей судьбы от его слова, что она всю свою душу безвозвратно отдала ему и ожидает теперь только того, чтоб он сказал, что принимает ее душу, ее жизнь, и он ей делает выговоры за то, что она его компрометирует! Что это за нелепая жестокость? что это за низкая грубость? И этот человек, поступающий так подло, выставлялся благородным до сих пор! Он обманул нас, обманул автора. Да, поэт сделал слишком грубую ошибку, вообразив, что рассказывает нам о человеке порядочном. Этот человек дряннее отъявленного негодяя.
Таково было впечатление, произведенное на многих совершенно неожиданным оборотом отношений нашего Ромео к Джульетте. От многих мы слышали, что повесть вся испорчена этою возмутительною сценой, что характер главного лица не выдержан, что если этот человек таков, каким представляется в первой половине повести, то не мог поступить он с такою пошлой грубостью, а если мог так поступить, то он с самого начала должен был представиться нам совершенно дрянным человеком.
Очень утешительно было бы думать, что автор в самом деле ошибся; но в том и состоит грустное достоинство его повести, что характер героя верен нашему обществу. Быть может, если бы характер этот был таков, каким желали бы видеть его люди, недовольные грубостью его на свидании, если бы он не побоялся отдать себя любви, им овладевавшей, повесть выиграла бы в идеально-поэтическом смысле. За энтузиазмом сцены первого свидания последовало бы несколько других высокопоэтических минут, тихая прелесть первой половины повести возвысилась бы до патетической очаровательности во второй половине, и вместо первого акта из «Ромео и Джульетты» с окончанием во вкусе Печорина мы имели бы нечто действительно похожее на Ромео и Джульетту или по крайней мере на один из романов Жоржа Занда. Кто ищет в повести поэтически-цельного впечатления, действительно должен осудить автора, который, заманив его возвышенно-сладкими ожиданиями, вдруг показал ему какую-то пошло-нелепую суетность мелочно-робкого эгоизма в человеке, начавшем вроде Макса Пикколомини и кончившем вроде какого-нибудь Захара Сидорыча, играющего в копеечный преферанс.
Но точно ли ошибся автор в своем герое? Если ошибся, то не в первый раз делает он эту ошибку. Сколько ни было у него рассказов, приводивших к подобному положению, каждый раз его герои выходили из этих положений не иначе как совершенно оконфузившись перед нами. В «Фаусте» герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней, мечтать о ней – это его дело, но по части решительности, даже в словах, он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его; речь несколько минут шла уже так, что ему следовало непременно сказать это, но он, видите ли, не догадался и не посмел сказать ей этого; а когда женщина, которая должна принимать объяснение, вынуждена наконец сама сделать объяснение, он, видите ли, «замер», но почувствовал, что «блаженство волною пробегает по его сердцу», только, впрочем, «по временам», а собственно говоря, он «совершенно потерял голову» – жаль только, что не упал в обморок, да и то было бы, если бы не попалось кстати дерево, к которому можно было прислониться. Едва успел оправиться человек, подходит к нему женщина, которую он любит, которая высказала ему свою любовь, и спрашивает, что он теперь намерен делать? Он... он «смутился». Не удивительно, что после такого поведения любимого человека (иначе, как «поведением», нельзя назвать образ поступков этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка; еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в «Фаусте»; почти то же и в «Рудине». Рудин вначале держит себя несколько приличнее для мужчины, нежели прежние герои: он так решителен, что сам говорит Наталье о своей любви (хоть говорит не по доброй воле, а потому, что вынужден к этому разговору); он сам просит у ней свидания. Но когда Наталья на этом свидании говорит ему, что выйдет за него, с согласия или без согласия матери все равно, лишь бы он только любил ее, когда произносит слова: «Знайте же, я буду ваша», – Рудин только и находит в ответ восклицание: «О боже!» – восклицание больше конфузное, чем восторженное, – а потом действует так хорошо, то есть до такой степени труслив и вял, что Наталья принуждена сама пригласить его на свидание для решения, что же им делать. Получивши записку, «он видел, что развязка приближается, и втайне смущался духом». Наталья говорит, что мать объявила ей, что скорее согласится видеть дочь мертвой, чем женой Рудина, и вновь спрашивает Рудина, что он теперь намерен делать? Рудин отвечает по-прежнему: «Боже мой, боже мой», и прибавляет еще наивнее: «так скоро! что я намерен делать? у меня голова кругом идет, я ничего сообразить не могу». Но потом соображает, что следует «покориться». Названный трусом, он начинает упрекать Наталью, потом читать ей лекцию о своей честности и на замечание, что не это должна она услышать теперь от него, отвечает, что он не ожидал такой решительности. Дело кончается тем, что оскорбленная девушка отворачивается от него, едва ли не стыдясь своей любви к трусу.
Но, может быть, эта жалкая черта в характере героев – особенность повестей г. Тургенева? Быть может, характер именно его таланта склоняет его к изображению подобных лиц? Вовсе нет; характер таланта, нам кажется, тут ничего не значит. Вспомните любой хороший, верный жизни рассказ какого угодно из нынешних наших поэтов, и если в рассказе есть идеальная сторона, будьте уверены, что представитель этой идеальной стороны поступает точно так же, как лица г. Тургенева. Например, характер таланта г. Некрасова вовсе не таков, как г. Тургенева; какие угодно недостатки можете находить в нем, но никто не скажет, чтобы недоставало в таланте г. Некрасова энергии и твердости. Что ж делает герой в его поэме «Саша»? Натолковал он Саше, что, говорит, «не следует слабеть душою», потому что «солнышко правды взойдет над землею», и что надобно действовать для осуществления своих стремлений; а потом, когда Саша принимается за дело, он говорит, что все это напрасно и ни к чему не поведет, что он «болтал пустое». Припомним, как поступает Бельтов, – и он точно так же предпочитает всякому решительному шагу отступление. Подобных примеров набрать можно было бы очень много. Повсюду, каков бы ни был характер поэта, каковы бы ни были его личные понятия о поступках своего героя, герой действует одинаково со всеми другими порядочными людьми, подобно ему выведенными у других поэтов: пока о деле нет речи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желания, – большая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и косноязычно выразить что-то, дающее смутное понятие о их мыслях; но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: «Вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим», – при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что «как же можно так скоро», и «притом же они – честные люди», и не только честные, но очень смирные, и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего – ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они «никак не ждали и не ожидали», и проч.
Таковы-то наши «лучшие люди» – все они похожи на нашего Ромео. Много ли беды для Аси в том, что г. Н. никак не знал, что ему с нею делать, и решительно прогневался, когда от него потребовалась отважная решимость; много ли беды в этом для Аси, мы не знаем. Первою мыслью приходит, что беды от этого ей очень мало; напротив, и слава богу, что дрянное бессилие характера в нашем Ромео оттолкнуло от него девушку еще тогда, как не было поздно. Ася погрустит несколько недель, несколько месяцев и забудет все и может отдаться новому чувству, предмет которого будет более достоин ее. Так, но в том-то и беда, что едва ли встретится ей человек более достойный; в том и состоит грустный комизм отношений нашего Ромео к Асе, что наш Ромео – действительно один из лучших людей нашего общества, что лучше его почти и не бывает людей у нас. Только тогда будет довольна Ася своими отношениями к людям, когда, подобно другим, станет ограничиваться прекрасными рассуждениями, пока не представляется случая приняться за исполнение речей, а чуть представится случай, прикусит язычок и сложит руки, как делают все. Только тогда и другие будут ею довольны; а теперь сначала, конечно, всякий скажет, что эта девушка очень милая, с благородной душой, с удивительною силой характера, вообще девушка, которую нельзя не полюбить, перед которой нельзя не благоговеть; но все это будет говориться лишь до той поры, пока характер Аси выказывается одними словами, пока только предполагается, что она способна на благородный и решительный поступок; а едва сделает она шаг, сколько-нибудь оправдывающий ожидания, внушаемые ее характером, тотчас сотни голосов закричат: «Помилуйте, как это можно, ведь это безумие! Назначать rendez-vous молодому человеку! Ведь она губит себя, губит совершенно бесполезно! Ведь из этого ничего не может выйти, решительно ничего, кроме того, что она потеряет свою репутацию. Можно ли так безумно рисковать собою?» – «Рисковать собою? Это бы еще ничего, – прибавят другие. – Пусть она делала бы с собой, что хочет, но к чему подвергать неприятностям других? В какое положение поставила она этого бедного молодого человека? Разве он думал, что она захочет повести его так далеко? Что теперь ему делать при ее безрассудстве? Если он пойдет за нею, он погубит себя; если он откажется, его назовут трусом и сам он будет презирать себя. Я не знаю, благородно ли ставить в подобные неприятные положения людей, не подавших, кажется, никакого особенного повода к таким несообразным поступкам. Нет, это не совсем благородно. А бедный брат? Какова его роль? Какую горькую пилюлю поднесла ему сестра? Целую жизнь ему не переварить этой пилюли. Нечего сказать, одолжила милая сестрица! Я не спорю, все это очень хорошо на словах, – и благородные стремления, и самопожертвование, и бог знает какие прекрасные вещи, но я скажу одно: я бы не желал быть братом Аси. Скажу более: если б я был на месте ее брата, я запер бы ее на полгода в ее комнате. Для ее собственной пользы надобно запереть ее. Она, видите ли, изволит увлекаться высокими чувствами; но каково расхлебывать другим то, что она изволила наварить? Нет, я не назову ее поступок, не назову ее характер благородным, потому что я не называю благородными тех, которые легкомысленно и дерзко вредят другим». Так пояснится общий крик рассуждениями рассудительных людей. Нам отчасти совестно признаться, но все-таки приходится признаться, что эти рассуждения кажутся нам основательными. В самом деле, Ася вредит не только себе, но и всем, имевшим несчастье по родству или по случаю быть близкими к ней; а тех, которые для собственного удовольствия вредят всем близким своим, мы не можем не осуждать.
Осуждая Асю, мы оправдываем нашего Ромео. В самом дело, чем он виноват? разве он подал ей повод действовать безрассудно? разве он подстрекал ее к поступку, которого нельзя одобрить? разве он не имел права сказать ей, что напрасно она запутала его в неприятные отношения? Вы возмущаетесь тем, что его слова суровы, называете их грубыми. Но правда всегда бывает сурова, и кто осудит меня, если вырвется у меня даже грубое слово, когда меня, ни в чем не виноватого, запутают в неприятное дело, да еще пристают ко мне, чтоб я радовался беде, в которую меня втянули?
Я знаю, отчего вы так несправедливо восхитились было неблагородным поступком Аси и осудили было нашего Ромео. Я знаю это потому, что сам на минуту поддался неосновательному впечатлению, сохранившемуся в вас. Вы начитались о том, как поступали и поступают люди в других странах. Но сообразите, что ведь то другие страны. Мало ли что делается на свете в других местах, но ведь не всегда и не везде возможно то, что очень удобно при известной обстановке. В Англии, например, в разговорном языке не существует слова «ты»: фабрикант своему работнику, землевладелец нанятому им землекопу, господин своему лакею говорит непременно «вы» и, где случится, вставляют в разговоре с ними sir[44], то есть все равно, что французское monsieur[45], а по-русски и слова такого нет, а выходит учтивость в том роде, как если бы барин своему мужику говорил: «Вы, Сидор Карпыч, сделайте одолжение зайдите ко мне на чашку чаю, а потом поправьте дорожки у меня в саду». Осудите ли вы меня, если я говорю с Сидором без таких субтильностей? Ведь я был бы смешон, если бы принял язык англичанина. Вообще, как скоро вы начинаете осуждать то, что не нравится вам, вы становитесь идеологом, то есть самым забавным и, сказать вам на ушко, самым опасным человеком на свете, теряете из-под ваших ног твердую опору практичной действительности. Опасайтесь этого, старайтесь сделаться человеком практическим в своих мнениях и на первый раз постарайтесь примириться хоть с нашим Ромео, кстати уж зашла о нем речь. Я вам готов рассказать путь, которым я дошел до этого результата не только относительно сцены с Асей, но и относительно всего в мире, то есть стал доволен всем, что ни вижу около себя, ни на что не сержусь, ничем не огорчаюсь (кроме неудач в делах, лично для меня выгодных), ничего и никого в мире не осуждаю (кроме людей, нарушающих мои личные выгоды), ничего не желаю (кроме собственной пользы), – словом сказать, я расскажу вам, как я сделался из желчного меланхолика человеком до того практическим и благонамеренным, что даже не удивлюсь, если получу награду за свою благонамеренность.
Я начал с того замечания, что не следует порицать людей ни за что и ни в чем, потому что, сколько я видел, в самом умном человеке есть своя доля ограниченности, достаточная для того, чтобы он в своем образе мыслей не мог далеко уйти от общества, в котором воспитался и живет, и в самом энергическом человеке есть своя доза апатии, достаточная для того, чтобы он в своих поступках не удалялся много от рутины и, как говорится, плыл по течению реки, куда несет вода. В среднем кругу принято красить яйца к пасхе, на масленице есть блины, – и все так делают, хотя иной крашеных яиц не ест, а на тяжесть блинов почти каждый жалуется. Так не в одних пустяках, – и во всем так. Принято, например, что мальчиков следует держать свободнее, нежели девочек, и каждый отец, каждая мать, как бы ни были убеждены в неразумности такого различия, воспитывают детей по этому правилу. Принято, что богатство – вещь хорошая, и каждый бывает доволен, если вместо десяти тысяч рублей в год начнет получать благодаря счастливому обороту дел двадцать тысяч, хотя, здраво рассуждая, каждый умный человек знает, что те вещи, которые, будучи недоступны при первом доходе, становятся доступны при втором, не могут приносить никакого существенного удовольствия. Например, если с десятью тысячами дохода можно сделать бал в пятьсот рублей, то с двадцатью можно сделать бал в тысячу рублей; последний будет несколько лучше первого, но все-таки особенного великолепия в нем не будет, его назовут не более как довольно порядочным балом, а порядочным балом будет и первый. Таким образом даже чувство тщеславия при двадцати тысячах дохода удовлетворяется очень немногим более того, как при десяти тысячах; что же касается до удовольствий, которые можно назвать положительными, в них разница совершенно незаметна. Лично для себя человек с десятью тысячами дохода имеет точно такой же угол, точно такое же вино и кресло того же ряда в опере, как и человек с двадцатью тысячами. Первый называется человеком довольно богатым, и второй точно так же не считается чрезвычайным богачом – существенной разницы в их положении нет; и, однако же, каждый по рутине, принятой в обществе, будет радоваться при увеличении своих доходов с десяти на двадцать тысяч, хотя фактически не будет замечать почти никакого увеличения в своих удовольствиях. Люди – вообще страшные рутинеры: стоит только всмотреться поглубже в их мысли, чтоб открыть это. Иной господин чрезвычайно озадачит вас на первый раз независимостью своего образа мыслей от общества, к которому принадлежит; покажется вам, например, космополитом, человеком без сословных предубеждений и т. п., и сам, подобно своим знакомым, воображает себя таким от чистой души. Но наблюдайте точнее за космополитом, и он окажется французом или русским со всеми особенностями понятий и привычек, принадлежащими той нации, к которой причисляется по своему паспорту, окажется помещиком или чиновником, купцом или профессором со всеми оттенками образа мыслей, принадлежащими его сословию. Я уверен, что многочисленность людей, имеющих привычку друг на друга сердиться, друг друга обвинять, зависит единственно от того, что слишком немногие занимаются наблюдениями подобного рода; а попробуйте только начать всматриваться в людей с целью проверки, действительно ли отличается чем-нибудь важным от других людей одного с ним положения тот или другой человек, кажущийся на первый раз непохожим на других, – попробуйте только заняться такими наблюдениями, и этот анализ так завлечет вас, так заинтересует ваш ум, будет постоянно доставлять такие успокоительные впечатления вашему духу, что вы не отстанете от него уже никогда и очень скоро придете к выводу: «Каждый человек – как все люди, в каждом – точно то же, что и в других». И чем дальше, тем тверже вы станете убеждаться в этой аксиоме. Различия только потому кажутся важны, что лежат на поверхности и бросаются в глаза, а под видимым, кажущимся различием скрывается совершенное тождество. Да и с какой стати в самом деле человек был бы противоречием всем законам природы? Ведь в природе кедр и иссоп питаются и цветут, слон и мышь движутся и едят, радуются и сердятся по одним и тем же законам; под внешним различием форм лежит внутреннее тождество организма обезьяны и кита, орла и курицы; стоит только вникнуть в дело еще внимательнее, и увидим, что не только различные существа одного класса, но и различные классы существ устроены и живут по одним и тем же началам, что организмы млекопитающего, птицы и рыбы одинаковы, что и червяк дышит подобно млекопитающему, хотя нет у него ни ноздрей, ни дыхательного горла, ни легких. Не только аналогия с другими существами нарушалась бы непризнаванием одинаковости основных правил и пружин в нравственной жизни каждого человека, – нарушалась бы и аналогия с его физической жизнью. Из двух здоровых людей одинаковых лет в одинаковом расположении духа у одного пульс бьется, конечно, несколько сильнее и чаще, нежели у другого; но велико ли это различие? Оно так ничтожно, что наука даже не обращает на него внимания. Другое дело, когда вы сравните людей разных лет или в разных обстоятельствах: у дитяти пульс бьется вдвое скорее, нежели у старика, у больного гораздо чаще или реже, нежели у здорового, у того, кто выпил стакан шампанского, чаще, нежели у того, кто выпил стакан воды. Но тут и понятно всякому, что разница – не в устройстве организма, а в обстоятельствах, при которых наблюдается организм. И у старика, когда он был ребенком, пульс бился так же часто, как у ребенка, с которым вы его сравниваете; и у здорового ослабел бы пульс, как у больного, если бы он занемог той же болезнью; и у Петра, если б он выпил стакан шампанского, точно так же усилилось бы биение пульса, как у Ивана.Вы почти достигли границ человеческой мудрости, когда утвердились в этой простой истине, что каждый человек – такой же человек, как и все другие. Не говорю уже об отрадных следствиях этого убеждения для вашего житейского счастия; вы перестанете сердиться и огорчаться, перестанете негодовать и обвинять, будете кротко смотреть на то, за что прежде готовы были браниться и драться; в самом деле, каким образом стали бы вы сердиться или жаловаться на человека за такой поступок, какой каждым был бы сделан на его месте? В вашу душу поселяется ничем не возмутимая кроткая тишина, сладостнее которой может быть только браминское созерцание кончика носа, с тихим неумолчным повторением слов «ом-ма-ни-пад-мехум». Я не говорю уже об этой неоцененной душевно-практической выгоде, не говорю даже и о том, сколько денежных выгод доставит вам мудрая снисходительность к людям: вы совершенно радушно будете встречать негодяя, которого прогнали бы от себя прежде; а этот негодяй, быть может, человек с весом в обществе, и хорошими отношениями с ним поправятся ваши собственные дела. Не говорю и о том, что вы сами тогда менее будете стесняться ложными сомнениями совестливости в пользовании теми выгодами, какие будут подвертываться вам под руку; к чему будет вам стесняться излишней щекотливостью, если вы убеждены, что каждый поступил бы на вашем месте точно так же, как и вы? Всех этих выгод я не выставляю на вид, имея целью указать только чисто научную, теоретическую важность убеждения в одинаковости человеческой натуры во всех людях. Если все люди существенно одинаковы, то откуда же возникает разница в их поступках? Стремясь к достижению главной истины, мы уже нашли мимоходом и тот вывод из нее, который служит ответом на этот вопрос. Для нас теперь ясно, что все зависит от общественных привычек и от обстоятельств, то есть в окончательном результате все зависит исключительно от обстоятельств, потому что и общественные привычки произошли в свою очередь также из обстоятельств. Вы вините человека, – всмотритесь прежде, он ли в том виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его. Рассуждая о других, мы слишком склонны всякую беду считать виною, – в этом истинная беда для практической жизни, потому что вина и беда – вещи совершенно различные и требуют обращения с собою одна вовсе не такого, как другая. Вина вызывает порицание или даже наказание против лица. Беда требует помощи лицу через устранение обстоятельств более сильных, нежели его воля. Я знал одного портного, который раскаленным утюгом тыкал в зубы своим ученикам. Его, пожалуй, можно назвать виноватым, можно и наказать его; но зато не каждый портной тычет горячим утюгом в зубы, примеры такого неистовства очень редки. Но почти каждому мастеровому случается, выпивши в праздник, подраться – это уж не вина, а просто беда. Тут нужно не наказание отдельного лица, а изменение в условиях быта для целого сословия. Тем грустнее вредное смешивание вины и беды, что различать эти две вещи очень легко; один признак различия мы уже видели: вина – это редкость, это исключение из правила; беда – это эпидемия. Умышленный поджог – это вина; зато из миллионов людей находится один, который решается на такое дело. Есть другой признак, нужный для дополнения к первому. Беда обрушивается на том самом человеке, который исполняет условие, ведущее к беде; вина обрушивается на других, принося виноватому пользу. Этот последний признак чрезвычайно точен. Разбойник зарезал человека, чтобы ограбить его, и находит в том пользу себе, – это вина. Неосторожный охотник нечаянно ранил человека и сам первый мучится несчастием, которое сделал, – это уж не вина, а просто беда.
Признак верен, но если применять его с некоторой проницательностью, с внимательным разбором фактов, то окажется, что вины почти никогда не бывает на свете, а бывает только беда. Сейчас мы упомянули о разбойнике. Сладко ли ему жить? Если бы не особенные, очень тяжелые для него обстоятельства, взялся ли бы он за свое ремесло? Где вы найдете человека, которому приятнее было бы в мороз и в непогоду прятаться в берлогах и шататься по пустыням, часто терпеть голод и постоянно дрожать за свою спину, ожидающую плети, – которому это было бы приятнее, нежели комфортабельно курить сигару в спокойных креслах или играть в ералаш в Английском клубе, как делают порядочные люди?
Нашему Ромео также было бы гораздо приятнее наслаждаться взаимными приятностями счастливой любви, нежели остаться в дураках и жестоко бранить себя за пошлую грубость с Асей. Из того, что жестокая неприятность, которой подвергается Ася, приносит ему самому не пользу или удовольствие, а стыд перед самим собой, то есть самое мучительное из всех нравственных огорчений, мы видим, что он попал не в вину, а в беду. Пошлость, которую он сделал, была бы сделана очень многими другими, так называемыми порядочными людьми или лучшими людьми нашего общества; стало быть, это не иное что, как симптом эпидемической болезни, укоренившейся в нашем обществе.
Симптом болезни не есть самая болезнь. И если бы дело состояло только в том, что некоторые или, лучше сказать, почти все «лучшие» люди обижают девушку, когда в ней больше благородства или меньше опытности, нежели в них, – это дело, признаемся, мало интересовало бы нас. Бог с ними, с эротическими вопросами, – не до них читателю нашего времени, занятому вопросами об административных и судебных улучшениях, о финансовых преобразованиях, об освобождении крестьян. Но сцена, сделанная нашим Ромео Асе, как мы заметили, – только симптом болезни, которая точно таким же пошлым образом портит все наши дела, и только нужно нам всмотреться, отчего попал в беду наш Ромео, мы увидим, чего нам всем, похожим на него, ожидать от себя и ожидать для себя и во всех других делах.
Начнем с того, что бедный молодой человек совершенно не понимает того дела, участие в котором принимает. Дело ясно, но он одержим таким тупоумием, которого не в силах образумить очевиднейшие факты. Чему уподобить такое слепое тупоумие, мы решительно не знаем. Девушка, неспособная ни к какому притворству, не знающая никакой хитрости, говорит ему: «Сама не знаю, что со мною делается. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка». Кажется, ясно, какое чувство пробудилось в ней. Через две минуты она с волнением, отражающимся даже бледностью на ее лице, спрашивает, нравилась ли ему та дама, о которой, как-то шутя, упомянуто было в разговоре много дней тому назад; потом спрашивает, что ему нравится в женщине; когда он замечает, как хорошо сияющее небо, она говорит: «Да, хорошо! Если б мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели!.. Так бы и утонули в этой синеве... но мы не птицы». – «А крылья могут у нас вырасти», – возразил я. – «Как так?» – «Поживите – узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Нe беспокойтесь, у вас будут крылья». – «А у вас были?» – «Как вам сказать... кажется, до сих пор я еще не летал». На другой день, когда он вошел, Ася покраснела; хотела было убежать из комнаты; была грустна и, наконец, припоминая вчерашний разговор, сказала ему: «Помните, вы вчера говорили о крыльях? Крылья у меня выросли».
Слова эти были так ясны, что даже недогадливый Ромео, возвращаясь домой, не мог не дойти до мысли: неужели она меня любит? С этою мыслью заснул и, проснувшись на другое утро, спрашивал себя: «неужели она меня любит?»
В самом деле, трудно было не понять этого, и, однако ж, он не понял. Понимал ли он по крайней мере то, что делалось в его собственном сердце? И тут приметы были не менее ясны. После первых же двух встреч с Асей он чувствует ревность при виде ее нежного обращения с братом и от ревности не хочет верить, что Гагин – действительно брат ей. Ревность в нем так сильна, что он не может видеть Асю, но не мог бы и удержаться от того, чтобы видеть ее, потому он, будто 18-летний юноша, убегает от деревеньки, в которой живет она, несколько дней скитается по окрестным полям. Убедившись наконец, что Ася в самом деле только сестра Гагину, он счастлив, как ребенок, и, возвращаясь от них, чувствует даже, что «слезы закипают у него на глазах от восторга», чувствует вместе с тем, что этот восторг весь сосредоточивается на мысли об Асе, и, наконец, доходит до того, что не может ни о чем думать, кроме нее. Кажется, человек, любивший несколько раз, должен был бы понимать, какое чувство высказывается в нем самом этими признаками. Кажется, человек, хорошо знавший женщин, мог бы понимать, что делается в сердце Аси. Но когда она пишет ему, что любит его, эта записка совершенно изумляет его: он, видите ли, никак этого не предугадывал. Прекрасно; но как бы то ни было, предугадывал он или не предугадывал, что Ася любит его, все равно: теперь ему известно положительно: Ася любит его, он теперь видит это; ну, что же он чувствует к Асе? Решительно сам он не знает, как ему отвечать на этот вопрос. Бедняжка! на тридцатом году ему по молодости лет нужно было бы иметь дядьку, который говорил бы ему, когда следует утереть носик, когда нужно ложиться почивать и сколько чашечек чайку надобно ему кушать. При виде такой нелепой неспособности понимать вещи вам может казаться, что перед вами или дитя, или идиот. Ни то, ни другое. Наш Ромео человек очень умный, имеющий, как мы заметили, под тридцать лет, очень много испытавший в жизни, богатый запасом наблюдений над самим собою и другими. Откуда же его невероятная недогадливость? В ней виноваты два обстоятельства, из которых, впрочем, одно проистекает из другого, так что все сводится к одному. Он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык. Это первое. Второе – он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всем. Он похож на человека, который всю жизнь играл в ералаш по половине копейки серебром; посадите этого искусного игрока за партию, в которой выигрыш или проигрыш не гривны, а тысячи рублей, и вы увидите, что он совершенно переконфузится, что пропадет вся его опытность, спутается все его искусство; он будет делать самые нелепые ходы, быть может, не сумеет и карт держать в руках. Он похож на моряка, который всю свою жизнь делал рейсы из Кронштадта в Петербург и очень ловко умел проводить свой маленький пароход по указанию вех между бесчисленными мелями в полупресной воде; что, если вдруг этот опытный пловец по стакану воды увидит себя на океане?
Боже мой! За что мы так сурово анализируем нашего героя? Чем он хуже других? Чем он хуже нас вcex? Когда мы входим в общество, мы видим вокруг себя людей в форменных и неформенных сюртуках или фраках; эти люди имеют пять с половиной или шесть, а иные и больше футов роста; они отращивают или бреют волосы на щеках, верхней губе и бороде; и мы воображаем, что мы видим перед собой мужчин. Это – совершенное заблуждение, оптический обман, галлюцинация – не больше. Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок мужеского пола, вырастая, делается существом мужеского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиною он не становится или по крайней мере не становится мужчиною благородного характера. Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них. Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие предметом общую пользу, то есть исключены гражданские мотивы, что остается наблюдать мне? в чем остается участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными узенькими заботами о своем кармане, о своем брюшке или о своих забавах. Если я стану наблюдать людей в том виде, как они представляются мне при отдалении от них участия в гражданской деятельности, какое понятие о людях и жизни образуется во мне? Когда-то любили у нас Гофмана, и была когда-то переведена его повесть о том, как по странному случаю глаза господина Перигринуса Тисса получили силу микроскопа, и о том, каковы были для его понятий о людях результаты этого качества его глаз. Красота, благородство, добродетель, любовь, дружба, все прекрасное и великое исчезло для него из мира. На кого ни взглянет он, каждый мужчина представляется ему подлым трусом или коварным интриганом, каждая женщина – кокеткою, все люди – лжецами и эгоистами, мелочными и низкими до последней степени. Эта страшная повесть могла создаться только в голове человека, насмотревшегося на то, что называется в Германии Kleinstädterei[46], насмотревшегося на жизнь людей, лишенных всякого участия в общественных делах, ограниченных тесно размеренным кружком своих частных интересов, потерявших всякую мысль о чем-нибудь высшем копеечного преферанса (которого, впрочем, еще не было известно во времена Гофмана). Припомните, чем становится разговор в каком бы то ни было обществе, как скоро речь перестает идти об общественных делах? Как бы ни были умны и благородны собеседники, если они не говорят о делах общественного интереса, они начинают сплетничать или пустословить; злоязычная пошлость или беспутная пошлость, в том и другом случае бессмысленная пошлость – вот характер, неизбежно принимаемый беседой, удаляющейся от общественных интересов. По характеру беседы можно судить о беседующих. Если даже высшие по развитию своих понятий люди впадают в пустую и грязную пошлость, когда их мысль уклоняется от общественных интересов, то легко сообразить, каково должно быть общество, живущее в совершенном отчуждении от этих интересов. Представьте же себе человека, который воспитался жизнью в таком обществе: каковы будут выводы из его опытов? каковы результаты его наблюдений над людьми? Все пошлое и мелочное он понимает превосходно, но, кроме этого, не понимает ничего, потому что ничего не видал и не испытал. Он мог бог знает каких прекрасных вещей начитаться в книгах, он может находить удовольствие в размышлениях об этих прекрасных вещах; быть может, он даже верит тому, что они существуют или должны существовать и на земле, а не в одних книгах. Но как вы хотите, чтобы он понял и угадал их, когда они вдруг встретятся его неприготовленному взгляду, опытному только в классификации вздора и пошлости? Как вы хотите, чтобы я, которому под именем шампанского подавали вино, никогда и не видавшее виноградников Шампани, но, впрочем, очень хорошее шипучее вино, как вы хотите, чтоб я, когда мне вдруг подадут действительно шампанское вино, мог сказать наверное: да, это действительно уже не подделка? Если я скажу это, я буду фат. Мой вкус чувствует только, что это вино хорошо, но мало ли я пил хорошего поддельного вина? Почему я знаю, что и на этот раз мне поднесли не поддельное вино? Нет, нет, в подделках я знаток, умею отличить хорошую от дурной; но неподдельного вина оценить я нe могу.Счастливы мы были бы, благородны мы были бы, если бы только неприготовленность взгляда, неопытность мысли мешала нам угадывать и ценить высокое и великое, когда оно попадется нам в жизни. Но нет, и наша воля участвует в этом грубом непонимании. Не одни понятия сузились во мне от пошлой ограниченности, в суете которой я живу; этот характер перешел и в мою волю: какова широта взгляда, такова и широта решений; и, кроме того, невозможно не привыкнуть, наконец, поступать так, как поступают все. Заразительность смеха, заразительность зевоты не исключительные случаи в общественной физиологии, – та же заразительность принадлежит всем явлениям, обнаруживающимся в массах. Есть чья-то басня о том, как какой-то здоровый человек попал в царство хромых и кривых. Басня говорит, будто бы все на него нападали, зачем у него оба глаза и обе ноги целы; басня солгала, потому что не договорила всего: на пришельца нападали только сначала, а когда он обжился на новом месте, он сам прищурил один глаз и стал прихрамывать; ему казалось уже, что так удобнее или по крайней мере приличнее смотреть и ходить, и скоро он даже забыл, что, собственно говоря, он не хром и не крив. Если вы охотник до грустных эффектов, можете прибавить, что когда наконец пришла нашему заезжему надобность пойти твердым шагом и зорко смотреть обоими глазами, уже не мог он этого сделать: оказалось, что закрытый глаз уже не открывался, искривленная нога уже не распрямлялась; от долгого принуждения нервы и мускулы бедных искаженных суставов утратили силу действовать правильным образом.
Прикасающийся к смоле зачернится – в наказание себе, если прикасался добровольно, на беду себе, если не добровольно. Нельзя не пропитаться пьяным запахом тому, кто живет в кабаке, хотя бы сам он не выпил ни одной рюмки; нельзя не проникнуться молочностью воли тому, кто живет в обществе, не имеющем никаких стремлений, кроме мелких житейских расчетов. Невольно вкрадывается в сердце робость от мысли, что вот, может быть, придется мне принять высокое решение, смело сделать отважный шаг не по пробитой тропинке ежедневного моциона. Потому-то стараешься уверять себя, что нет, не пришла еще надобность ни в чем таком необыкновенном, до последней роковой минуты нарочно убеждаешь себя, что все кажущееся выходящим из привычной мелочности не более как обольщение. Ребенок, который боится буки, зажмуривает глаза и кричит как можно громче, что буки нет, что бука вздор, – этим, видите ли, он ободряет себя. Мы так умны, что стараемся уверить себя, будто все, чего трусим мы, трусим единственно от того, что нет в нас силы ни на что высокое, – стараемся уверить себя, что все это вздор, что нас только пугают этим, как ребенка букою, а в сущности ничего такого нет и не будет.
А если будет? Ну, тогда выйдет с нами то же, что вышло в повести г. Тургенева с нашим Ромео. Он тоже ничего не предвидел и не хотел предвидеть; он также зажмуривал себе глаза и пятился, а прошло время – пришлось ему кусать локти, да уж не достанет.
И как непродолжительно было время, в которое решалась и его судьба, и судьба Аси, – всего только несколько минут, и от них зависела целая жизнь, и, пропустив их, уже ничем нельзя было исправить ошибку. Едва он вошел в комнату, едва успел произнесть несколько необдуманных, почти бессознательных безрассудных слов, и уже все было решено: разрыв навеки, и нет возврата. Мы нимало не жалеем об Асе; тяжело было ей слышать суровые слова отказа, но, вероятно, к лучшему для нее было, что довел ее до разрыва безрассудный человек. Если б она осталась связана с ним, для него, конечно, было бы то великим счастьем; но мы не думаем, чтоб ей было хорошо жить в близких отношениях к такому господину. Кто сочувствует Асе, тот должен радоваться тяжелой, возмутительной сцене. Сочувствующий Асе совершенно прав: он избрал предметом своих симпатий существо зависимое, существо оскорбляемое. Но хотя и со стыдом, должны мы признаться, что принимаем участие в судьбе нашего героя. Мы не имеем чести быть его родственниками; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких. Но мы не можем еще оторваться от предубеждений, набившихся в нашу голову из ложных книг и уроков, которыми воспитана и загублена была наша молодость, не можем оторваться от мелочных понятий, внушенных нам окружающим обществом; нам все кажется (пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта), будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он представитель нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто бы без него было бы нам хуже. Все сильней и сильней развивается в нас мысль, что это мнение о нем – пустая мечта, мы чувствуем, что не долго уже остается нам находиться под ее влиянием; что есть люди лучше его, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше жить, но в настоящую минуту мы все еще недостаточно свыклись с этою мыслью, не совсем оторвались от мечты, на которой воспитаны; потому мы все еще желаем добра нашему герою и его собратам. Находя, что приближается в действительности для них решительная минута, которою определится навеки их судьба, мы все еще не хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе великодушно, – только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях и привычках, будут уметь действовать как честные и благоразумные граждане, а сами они теперь не пригодны к роли, которая дается им; мы не хотим еще обратить на них слова пророка: «Будут видеть они и не увидят, будут слышать и не услышат, потому что загрубел смысл в этих людях, и оглохли их уши, и закрыли они свои глаза, чтоб не видеть», – нет, мы все еще хотим полагать их способными к пониманию совершающегося вокруг них и над ними, хотим думать, что они способны последовать мудрому увещанию голоса, желавшего спасти их, и потому мы хотим дать им указание, как им избавиться от бед, неизбежных для людей, не умеющих вовремя сообразить своего положения и воспользоваться выгодами, которые представляет мимолетный час. Против желания нашего ослабевает в нас с каждым днем надежда на проницательность и энергию людей, которых мы упрашиваем понять важность настоящих обстоятельств и действовать сообразно здравому смыслу, но пусть по крайней мере не говорят они, что не слышали благоразумных советов, что не было им объясняемо их положение.
Между вами, господа (обратимся мы с речью к этим достопочтенным людям), есть довольно много людей грамотных; они знают, как изображалось счастье по древней мифологии: оно представлялось как женщина с длинной косой, развеваемою впереди ее ветром, несущим эту женщину; легко поймать ее, пока она подлетает к вам, но пропустите один миг – она пролетит, и напрасно погнались бы вы ловить ее: нельзя схватить ее, оставшись позади. Невозвратен счастливый миг. Не дождаться вам будет, пока повторится благоприятное сочетание обстоятельств, как не повторится то соединение небесных светил, которое совпадает с настоящим часом. Не пропустить благоприятную минуту – вот высочайшее условие житейского благоразумия. Счастливые обстоятельства бывают для каждого из нас, но не каждый умеет ими пользоваться, и в этом искусстве почти единственно состоит различие между людьми, жизнь которых устраивается хорошо или дурно. И для вас, хотя, быть может, и не были вы достойны того, обстоятельства сложились счастливо, так счастливо, что единственно от вашей воли зависит ваша судьба в решительный миг. Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в которое вы поставлены теперь, – вот в чем теперь для вас вопрос о счастии или несчастии навеки.
В чем же способы и правила для того, чтоб не упустить счастья, предлагаемого обстоятельствами? Как в чем? Разве трудно бывает сказать, чего требует благоразумие в каждом данном случае? Положим, например, что у меня есть тяжба, в которой я кругом виноват. Предположим также, что мой противник, совершенно правый, так привык к несправедливостям судьбы, что с трудом уже верит в возможность дождаться решения нашей тяжбы: она тянулась уже несколько десятков лет; много раз спрашивал он в суде, когда будет доклад, и много раз ему отвечали «завтра или послезавтра», и каждый раз проходили месяцы и месяцы, годы и годы, и дело все не решалось. Почему оно так тянулось, я не знаю, знаю только, что председатель суда почему-то благоприятствовал мне (он, кажется, полагал, что я предан ему всей душой). Но вот он получил приказание неотлагательно решить дело. По своей дружбе ко мне он призвал меня и сказал: «Не могу медлить решением вашего процесса; судебным порядком не может он кончиться в вашу пользу, – законы слишком ясны; вы проиграете все; потерею имущества не кончится для вас дело; приговором нашего гражданского суда обнаружатся обстоятельства, за которые вы будете подлежать ответственности по уголовным законам, а вы знаете, как они строги; каково будет решение уголовной палаты, я не знаю, но думаю, что вы отделаетесь от нее слишком легко, если будете приговорены только к лишению прав состояния, – между нами будь сказано, можно ждать вам еще гораздо худшего. Ныне суббота; в понедельник ваша тяжба будет доложена и решена; долее отлагать ее не имею я силы при всем расположении моем к вам. Знаете ли, что я посоветовал бы вам? Воспользуйтесь остающимся у вас днем: предложите мировую вашему противнику; он еще не знает, как безотлагательна необходимость, в которую я поставлен полученным мной предписанием; он слышал, что тяжба решается в понедельник, но он слышал о близком ее решении столько раз, что изверился своим надеждам; теперь он еще согласится на полюбовную сделку, которая будет очень выгодна для вас и в денежном отношении, не говоря уже о том, что ею избавитесь вы от уголовного процесса, приобретете имя человека снисходительного, великодушного, который как будто бы сам почувствовал голос совести и человечности. Постарайтесь кончить тяжбу полюбовною сделкой. Я прошу вас об этом как друг ваш».
Что мне теперь делать, пусть скажет каждый из вас: умно ли будет мне поспешить к моему противнику для заключения мировой? Или умно будет пролежать на своем диване единственный остающийся мне день? Или умно будет накинуться с грубыми ругательствами на благоприятствующего мне судью, дружеское предуведомление которого давало мне возможность с честью и выгодою для себя покончить мою тяжбу?
Из этого примера читатель видит, как легко в данном случае решить, чего требует благоразумие.
«Старайся примириться с твоим противником, пока еще не дошли вы с ним до суда; а иначе отдаст тебя противник судье, а судья отдаст тебя исполнителю приговоров, и будешь ты ввергнут в темницу и не выйдешь из нее, пока не расплатишься за все до последней мелочи» (Матф., глава V, стих 25 и 26).
Д. И. Писарев (1840—1868)
Родился в с. Знаменское Орловской губернии в небогатой дворянской семье. Благодаря матери в детстве получил блестящее образование. Учился в Петербургском университете, где, по его собственному признанию, в нем зародилось «ядовитое зерно скептицизма».
Статьи Писарева в журнале «Русское слово» привлекли внимание публики бескомпромиссным полемическим тоном, не щадящим даже великих писателей прошлого (Шекспира, Пушкина), не говоря уже о современниках. В статьях «Реалисты», «Базаров», «Разрушение эстетики» Писарев выступил лидером так называемой позитивистской критики, выступающей против литературного идеализма в пользу сугубо жизненных задач. В этом направлении Писарев доходил до крайностей, отрицая всякое собственное значение искусства.
Базаров («Отцы и дети», роман И. С. Тургенева)
I
Новый роман Тургенева дает нам все то, чем мы привыкли наслаждаться в его произведениях. Художественная отделка безукоризненно хороша; характеры и положения, сцены и картины нарисованы так наглядно и в то же время так мягко, что самый отчаянный отрицатель искусства почувствует при чтении романа какое-то непонятное наслаждение, которого не объяснишь ни занимательностью рассказываемых событий, ни поразительною верностью основной идеи. Дело в том, что события вовсе не занимательны, а идея вовсе не поразительно верна. В романе нет ни завязки, ни развязки, ни строго обдуманного плана; есть типы и характеры, есть сцены и картины, и, главное, сквозь ткань рассказа сквозит личное, глубоко-прочувствованное отношение автора к выведенным явлениям жизни. А явления эти очень близки к нам, так близки, что все наше молодое поколение с своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих лицах этого романа. Я этим не хочу сказать, чтобы в романе Тургенева идеи и стремления молодого поколения отразились так, как понимает их само молодое поколение; к этим идеям и стремлениям Тургенев относится с своей личной точки зрения, а старик и юноша почти никогда не сходятся между собою в убеждениях и симпатиях. Но если вы подойдете к зеркалу, которое, отражая предметы, изменяет немного их цвета, то вы узнаете свою физиономию, несмотря на погрешности зеркала. Читая роман Тургенева, мы видим в нем типы настоящей минуты и в то же время отдаем себе отчет в тех изменениях, которые испытали явления действительности, проходя через сознание художника. Любопытно проследить, как действуют на человека, подобного Тургеневу, идеи и стремления, шевелящиеся в нашем молодом поколении и проявляющиеся, как все живое, в самых разнообразных формах, редко привлекательных, часто оригинальных, иногда уродливых.
Такого рода исследование может иметь очень глубокое значение. Тургенев – один из лучших людей прошлого поколения; определить, как он смотрит на нас и почему он смотрит на нас так, а не иначе, значит найти причину того разлада, который замечается повсеместно в нашей частной семейной жизни; того разлада, от которого часто гибнут молодые жизни и от которого постоянно кряхтят и охают старички и старушки, не успевающие обработать на свою колодку понятия и поступки своих сыновей и дочерей. Задача, как видите, жизненная, крупная и сложная; сладить я с нею, вероятно, не слажу, а подумать – подумаю.
Роман Тургенева, кроме своей художественной красоты, замечателен еще тем, что он шевелит ум, наводит на размышления, хотя сам по себе не разрешает никакого вопроса и даже освещает ярким светом не столько выводимые явления, сколько отношения автора к этим самым явлениям. Наводит он на размышления именно потому, что весь насквозь проникнут самою полною, самою трогательною искренностью. Все, что написано в последнем романе Тургенева, прочувствовано до последней строки; чувство это прорывается помимо воли и сознания самого автора и согревает объективный рассказ, вместо того чтобы выражаться в лирических отступлениях. Автор сам не отдает себе ясного отчета в своих чувствах, не подвергает их анализу, не становится к ним в критические отношения. Это обстоятельство дает нам возможность видеть эти чувства во всей их нетронутой непосредственности. Мы видим то, что просвечивает, а не то, что автор хочет показать или доказать. Мнения и суждения Тургенева не изменят ни на волосок нашего взгляда на молодое поколение и на идеи нашего времени; мы их даже не примем в соображение, мы с ними даже не будем спорить; эти мнения, суждения и чувства, выраженные в неподражаемо живых образах, дадут только материалы для характеристики прошлого поколения, в лице одного из лучших его представителей. Постараюсь сгруппировать эти материалы и, если это мне удастся, объясню, почему наши старики не сходятся с нами, качают головами и, смотря по различным характерам и по различным настроениям, то сердятся, то недоумевают, то тихо грустят по поводу наших поступков и рассуждений.
II
Действие романа происходит летом 1859 года. Молодой кандидат, Аркадий Николаевич Кирсанов, приезжает в деревню к своему отцу вместе с своим приятелем, Евгением Васильевичем Базаровым, который, очевидно, имеет сильное влияние на образ мыслей своего товарища. Этот Базаров, человек сильный по уму и по характеру, составляет центр всего романа. Он – представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппированы те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах; и образ этого человека ярко и отчетливо вырисовывается перед воображением читателя.
Базаров – сын бедного уездного лекаря; Тургенев ничего не говорит об его студенческой жизни, но надо полагать, что то была жизнь бедная, трудовая, тяжелая; отец Базарова говорит о своем сыне, что он у них отроду лишней копейки не взял; по правде сказать, много и нельзя было бы взять даже при величайшем желании, следовательно, если старик Базаров говорит это в похвалу своему сыну, то это значит, что Евгений Васильевич содержал себя в университете собственными трудами, перебивался копеечными уроками и в то же время находил возможность дельно готовить себя к будущей деятельности. Из этой школы труда и лишений Базаров вышел человеком сильным и суровым; прослушанный им курс естественных и медицинских наук развил его природный ум и отучил его принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения; он сделался чистым эмпириком; опыт сделался для него единственным источником познания, личное ощущение – единственным и последним убедительным доказательством. «Я придерживаюсь отрицательного направления, – говорит он, – в силу ощущений. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения – это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу». Как эмпирик, Базаров признает только то, что можно ощупать руками, увидать глазами, положить на язык, словом, только то, что можно освидетельствовать одним из пяти чувств. Все остальные человеческие чувства он сводит на деятельность нервной системы; вследствие этого наслаждения красотами природы, музыкою, живописью, поэзиею, любовью женщины вовсе не кажутся ему выше и чище наслаждения сытным обедом или бутылкою хорошего вина. То, что восторженные юноши называют идеалом, для Базарова не существует; он все это называет «романтизмом», а иногда вместо слова «романтизм» употребляет слово «вздор». Несмотря на все это, Базаров не ворует чужих платков, не вытягивает из родителей денег, работает усидчиво и даже не прочь от того, чтобы сделать в жизни что-нибудь путное. Я предчувствую, что многие из моих читателей зададут себе вопрос: а что же удерживает Базарова от подлых поступков и что побуждает его делать что-нибудь путное? Этот вопрос поведет за собою следующее сомнение: уж не притворяется ли Базаров перед самим собою и перед другими? Не рисуется ли он? Может быть, он в глубине души признает многое из того, что отрицает на словах, и, может быть, именно это признаваемое, это затаившееся спасает его от нравственного падения и от нравственного ничтожества. Хоть мне Базаров ни сват, ни брат, хоть я, может быть, и не сочувствую ему, однако, ради отвлеченной справедливости, я постараюсь ответить на вопрос и опровергнуть лукавое сомнение.
На людей, подобных Базарову, можно негодовать, сколько душе угодно, но признавать их искренность – решительно необходимо. Эти люди могут быть честными и бесчестными, гражданскими деятелями и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствам и по личным вкусам. Ничто, кроме личного вкуса, не мешает им убивать и грабить, и ничто, кроме личного вкуса, не побуждает людей подобного закала делать открытия в области наук и общественной жизни. Базаров не украдет платка по тому же самому, почему он не съест кусок тухлой говядины. Если бы Базаров умирал с голоду, то он, вероятно, сделал бы то и другое. Мучительное чувство неудовлетворенной физической потребности победило бы в нем отвращение к дурному запаху разлагающегося мяса и к тайному посягательству на чужую собственность. Кроме непосредственного влечения, у Базарова есть еще другой руководитель в жизни – расчет. Когда он бывает болен, он принимает лекарство, хотя не чувствует никакого непосредственного влечения к касторовому маслу или к ассафетиде. Он поступает таким образом по расчету: ценою маленькой неприятности он покупает в будущем большее удобство или избавление от большей неприятности. Словом, из двух зол он выбирает меньшее, хотя и к меньшему не чувствует никакого влечения. У людей посредственных такого рода расчет большею частью оказывается несостоятельным; они по расчету хитрят, подличают, воруют, запутываются и в конце концов остаются в дураках. Люди очень умные поступают иначе; они понимают, что быть честным очень выгодно и что всякое преступление, начиная от простой лжи и кончая смертоубийством, – опасно и, следовательно, неудобно. Поэтому очень умные люди могут быть честны по расчету и действовать начистоту там, где люди ограниченные будут вилять и метать петли. Работая неутомимо, Базаров повиновался непосредственному влечению, вкусу и, кроме того, поступал по самому верному расчету. Если бы он искал протекции, кланялся, подличал, вместо того чтобы трудиться и держать себя гордо и независимо, то он поступал бы нерасчетливо. Карьеры, пробитые собственною головою, всегда прочнее и шире карьер, проложенных низкими поклонами или заступничеством важного дядюшки. Благодаря двум последним средствам можно попасть в губернские или в столичные тузы, но по милости этих средств никому, с тех пор как мир стоит, не удавалось сделаться ни Вашингтоном, ни Гарибальди, ни Коперником, ни Генрихом Гейне. Даже Герострат – и тот пробил себе карьеру собственными силами и попал в историю не по протекции. Что же касается до Базарова, то он не метит в губернские тузы: если воображение иногда рисует ему будущность, то эта будущность как-то неопределенно широка; работает он без цели, для добывания насущного хлеба или из любви к процессу работы, а между тем он смутно чувствует по количеству собственных сил, что работа его не останется бесследною и к чему-нибудь приведет. Базаров чрезвычайно самолюбив, но самолюбие его незаметно именно вследствие своей громадности. Его не занимают те мелочи, из которых складываются обыденные людские отношения; его нельзя оскорбить явным пренебрежением, его нельзя обрадовать знаками уважения; он так полон собою и так непоколебимо-высоко стоит в своих собственных глазах, что делается почти совершенно равнодушным к мнению других людей. Дядя Кирсанова, близко подходящий к Базарову по складу ума и характера, называет его самолюбие «сатанинскою гордостью». Это выражение очень удачно выбрано и совершенно характеризует нашего героя. Действительно, удовлетворить Базарова могла бы только целая вечность постоянно расширяющейся деятельности и постоянно увеличивающегося наслаждения, но, к несчастью для себя, Базаров не признает вечного существования человеческой личности. «Да вот, например, – говорит он своему товарищу Кирсанову, – ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, – она такая славная, белая, – вот сказал ты: Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; – ну, а дальше?»
Итак, Базаров везде и во всем поступает только так, как ему хочется или как ему кажется выгодным и удобным. Им управляют только личная прихоть или личные расчеты. Ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя он не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Впереди – никакой высокой цели; в уме – никакого высокого помысла, и при всем этом – силы огромные. – Да ведь это безнравственный человек! Злодей, урод! – слышу я со всех сторон восклицания негодующих читателей. Ну, хорошо, злодей, урод; браните больше, преследуйте его сатирой и эпиграммой, негодующим лиризмом и возмущенным общественным мнением, кострами инквизиции и топорами палачей, – и вы не вытравите, не убьете этого урода, не посадите его в спирт на удивление почтенной публике. Если базаровщина – болезнь, то она болезнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какие паллиативы и ампутации. Относитесь к базаровщине как угодно – это ваше дело; а остановить – не остановите; это та же холера.
III
Болезнь века раньше всего пристает к людям, стоящим по своим умственным силам выше общего уровня. Базаров, одержимый этою болезнью, отличается замечательным умом и вследствие этого производит сильное впечатление на сталкивающихся с ним людей. «Настоящий человек, – говорит он, – тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть». Под определение настоящего человека подходит именно сам Базаров; он постоянно сразу овладевает вниманием окружающих людей; одних он запугивает и отталкивает; других подчиняет, не столько доводами, сколько непосредственною силою, простотою и цельностью своих понятий. Как человек замечательно умный, он не встречал себе равного. «Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, – проговорил он с расстановкой, – тогда я изменю свое мнение о самом себе».
Он смотрит на людей сверху вниз и даже редко дает себе труд скрывать свои полупрезрительные, полупокровительственные отношения к тем людям, которые его ненавидят, и к тем, которые его слушаются. Он никого не любит; не разрывая существующих связей и отношений, он в то же время не сделает ни шагу для того, чтобы снова завязать или поддержать эти отношения, не смягчит ни одной ноты в своем суровом голосе, не пожертвует ни одною резкою шуткою, ни одним красным словцом.
Поступает он таким образом не во имя принципа, не для того, чтобы в каждую данную минуту быть вполне откровенным, а потому, что считает совершенно излишним стеснять свою особу в чем бы то ни было, по тому же самому побуждению, по которому американцы задирают ноги на спинки кресел и заплевывают табачным соком паркетные полы пышных гостиниц. Базаров ни в ком не нуждается, никого не боится, никого на любит и, вследствие этого, никого не щадит. Как Диоген, он готов жить чуть не в бочке и за это предоставляет себе право говорить людям в глаза резкие истины по той причине, что это ему нравится. В цинизме Базарова можно различить две стороны – внутреннюю и внешнюю: цинизм мыслей и чувств и цинизм манер и выражений. Ироническое отношение к чувству всякого рода, к мечтательности, к лирическим порывам, к излияниям составляет сущность внутреннего цинизма. Грубое выражение этой иронии, беспричинная и бесцельная резкость в обращении относятся к внешнему цинизму. Первый зависит от склада ума и от общего миросозерцания; второй обусловливается чисто внешними условиями развития, свойствами того общества, в котором жил рассматриваемый субъект. Насмешливые отношения Базарова к мягкосердечному Кирсанову вытекают из основных свойств общего базаровского типа. Грубые столкновения его с Кирсановым и с его дядею составляют его личную принадлежность. Базаров не только эмпирик – он, кроме того, неотесанный бурш, не знающий другой жизни, кроме бездомной, трудовой, подчас дико-разгульной жизни бедного студента. В числе почитателей Базарова найдутся, наверное, такие люди, которые будут восхищаться его грубыми манерами, следами бурсацкой жизни, будут подражать этим манерам, составляющим во всяком случае недостаток, а не достоинство, будут даже, может быть, утрировать его угловатость, мешковатость и резкость. В числе ненавистников Базарова найдутся, наверное, такие люди, которые обратят особенное внимание на эти неказистые особенности его личности и поставят их в укор общему типу. Те и другие ошибутся и обнаружат только глубокое непонимание настоящего дела. И тем и другим можно будет напомнить стих Пушкина:
Быть можно дельным человеком, И думать о красе ногтей.Можно быть крайним материалистом, полнейшим эмпириком, и в то же время заботиться о своем туалете, обращаться утонченно-вежливо с своими знакомыми, быть любезным собеседником и совершенным джентльменом. Это я говорю для тех читателей, которые, придавая важное значение утонченным манерам, с отвращением посмотрят на Базарова, как на человека mal eleve и mauvais ton[47]. Он действительно mal eleve и mauvais ton, но это нисколько не относится к сущности типа и не говорит ни против него, ни в его пользу. Тургеневу пришло в голову выбрать представителем базаровского типа человека неотесанного; он так и сделал и, конечно, рисуя своего героя, не утаил и не закрасил его угловатостей; выбор Тургенева можно объяснить двумя различными причинами: во-первых, личность человека, беспощадно и с полным убеждением отрицающего все, что другие признают высоким и прекрасным, всего чаще вырабатывается при серой обстановке трудовой жизни; от сурового труда грубеют руки, грубеют манеры, грубеют чувства; человек крепнет и прогоняет юношескую мечтательность, избавляется от слезливой чувствительности; за работою мечтать нельзя, потому что внимание сосредоточено на занимающем деле; а после работы нужен отдых, необходимо действительное удовлетворение физическим потребностям, и мечта нейдет на ум. На мечту человек привыкает смотреть как на блажь, свойственную праздности и барской изнеженности; нравственные страдания он начинает считать мечтательными; нравственные стремления и подвиги – придуманными и нелепыми. Для него, трудового человека, существует только одна, вечно повторяющаяся забота: сегодня надо думать о том, чтобы не голодать завтра. Эта простая, грозная в своей простоте забота заслоняет от него остальные, второстепенные тревоги, дрязги и заботы жизни; в сравнении с этою заботою ему кажутся мелкими, ничтожными, искусственно созданными разные неразрешенные вопросы, неразъясненные сомнения, неопределенные отношения, которые отравляют жизнь людей обеспеченных и досужих.
Таким образом пролетарий-труженик самым процессом своей жизни, независимо от процесса размышления, доходит до практического реализма; он за недосугом отучается мечтать, гоняться за идеалом, стремиться в идее к недостижимо-высокой цели. Развивая в труженике энергию, труд приучает его сближать дело с мыслью, акт воли с актом ума. Человек, привыкший надеяться на себя и на свои собственные силы, привыкший осуществлять сегодня то, что задумано было вчера, начинает смотреть с более или менее явным пренебрежением на тех людей, которые, мечтая о любви, о полезной деятельности, о счастии всего человеческого рода, не умеют шевельнуть пальцем, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить свое собственное, в высшей степени неудобное положение. Словом, человек дела, будь он медик, ремесленник, педагог, даже литератор (можно быть литератором и человеком дела в одно и то же время), чувствует естественное, непреодолимое отвращение к фразистости, к трате слов, к сладким мыслям, к сентиментальным стремлениям и вообще ко всяким претензиям, не основанным на действительной, осязательной силе. Такого рода отвращение ко всему отрешенному от жизни и улетучивающемуся в звуках составляет коренное свойство людей базаровского типа. Это коренное свойство вырабатывается именно в тех разнородных мастерских, в которых человек, изощряя свой ум и напрягая мускулы, борется с природою за право существовать на белом свете. На этом основании Тургенев имел право взять своего героя в одной из таких мастерских и привести его в рабочем фартуке, с неумытыми руками и угрюмо-озабоченным взглядом в общество фешенебельных кавалеров и дам. Но справедливость побуждает меня выразить предположение, что автор романа «Отцы и дети» поступил таким образом не без коварного умысла. Этот коварный умысел и составляет ту вторую причину, о которой я упомянул выше. Дело в том, что Тургенев, очевидно, не благоволит к своему герою. Его мягкую, любящую натуру, стремящуюся к вере и сочувствию, коробит от разъедающего реализма; его тонкое эстетическое чувство, не лишенное значительной дозы аристократизма, оскорбляется даже самыми легкими проблесками цинизма; он слишком слаб и впечатлителен, чтобы вынести безотрадное отрицание; ему необходимо помириться с существованием если не в области жизни, то по крайней мере в области мысли или, вернее, мечты. Тургенев, как нервная женщина, как растение «не тронь меня», сжимается болезненно от самого легкого соприкосновения с букетом базаровщины.
Чувствуя, таким образом, невольную антипатию к этому направлению мысли, он вывел его перед читающей публикою в возможно неграциозном экземпляре. Он очень хорошо знает, что в публике нашей очень много фешенебельных читателей, и, рассчитывая на утонченность их аристократического вкуса, не щадит грубых красок, с очевидным желанием уронить и опошлить вместе с героем тот склад идей, который составляет общую принадлежность типа. Он очень хорошо знает, что большинство его читателей скажут только о Базарове, что он дурно воспитан и что его нельзя пустить в порядочную гостиную; дальше и глубже они не пойдут; но, говоря с такими людьми, даровитый художник и честный человек должен быть в высшей степени осторожен из уважения к самому себе и к той идее, которую он защищает или опровергает. Тут надо держать в узде свою личную антипатию, которая при известных условиях может превратиться в непроизвольную клевету на людей, не имеющих возможности защищаться тем же оружием.
IV
Я старался до сих пор обрисовать крупными чертами личность Базарова, или, вернее, тот общий, складывающийся тип, которого представителем является герой тургеневского романа. Надобно теперь проследить по возможности его историческое происхождение; надо показать, в каких отношениях находится Базаров к разным Онегиным, Печориным, Рудиным, Бельтовым и другим литературным типам, в которых, в прошлые десятилетия, молодое поколение узнавало черты своей умственной физиономии. Во всякое время жили на свете люди, недовольные жизнью вообще или некоторыми формами жизни в особенности; во всякое время люди эти составляли незначительное меньшинство. Масса во всякое время жила припеваючи и, по свойственной ей неприхотливости, удовлетворялась тем, что было налицо. Только какое-нибудь материальное бедствие, вроде «труса, глада, потопа, нашествия иноплеменных», приводило массу в беспокойное движение и нарушало обычный, сонливо-безмятежный процесс ее прозябания. Масса, составленная из тех сотен тысяч неделимых, которые никогда в жизни не пользовались своим головным мозгом как орудием самостоятельного мышления, живет себе со дня на день, обделывает свои делишки, получает местечки, играет в картишки, кое-что почитывает, следит за модою в идеях и в платьях, идет черепашьим шагом вперед по силе инерции и, никогда не задавая себе крупных, многообъемлющих вопросов, никогда не мучась сомнениями, не испытывает ни раздражения, ни утомления, ни досады, ни скуки. Эта масса не делает ни открытий, ни преступлений; за нее думают и страдают, ищут и находят, борются и ошибаются другие люди, вечно для нее чужие, вечно смотрящие на нее с пренебрежением и в то же время вечно работающие для того, чтобы увеличить удобства ее жизни. Эта масса, желудок человечества, живет на всем на готовом, не спрашивая, откуда оно берется, и не внося с своей стороны ни одной полушки в общую сокровищницу человеческой мысли. Люди массы у нас в России учатся, служат, работают, веселятся, женятся, плодят детей, воспитывают их, словом, живут самою полною жизнью, совершенно довольны собою и средою, не желают никаких усовершенствований и, шествуя по торной дороге, не подозревают ни возможности, ни необходимости других путей и направлений. Они держатся заведенного порядка по силе инерции, а не вследствие привязанности к нему; попробуйте изменить этот порядок – они сейчас сживутся с нововведением; закоренелые староверы являются самобытными личностями и стоят выше безответного стада. А масса сегодня ездит по скверным проселочным дорогам и мирится с ними; через несколько лет она сядет в вагоны и будет любоваться быстротою движения и удобствами путешествия. Эта инерция, эта способность на все соглашаться и со всем уживаться составляет, может быть, драгоценнейшее достояние человечества. Убогость мысли уравновешивается таким образом скромностью требований. Человек, у которого не хватает ума на то, чтобы придумать средства для улучшения своего невыносимого положения, может назваться счастливым только в том случае, если он не понимает и не чувствует неудобств своего положения. Жизнь человека ограниченного почти всегда течет ровнее и приятнее жизни гения или даже просто умного человека. Умные люди не уживаются с теми явлениями, к которым без малейшего труда привыкает масса. К этим явлениям умные люди, смотря по различным условиям темперамента и развития, становятся в самые разнородные отношения.
Вот, положим, живет в Петербурге молодой человек, единственный сын богатых родителей. Он умен. Учили его как следует, слегка всему тому, что по понятиям папеньки и гувернера необходимо знать молодому человеку хорошего семейства. Книги и уроки ему надоели; надоели и романы, которые он читал сначала потихоньку, а потом открыто; он жадно набрасывается на жизнь, танцует до упаду, волочится за женщинами, одерживает блестящие победы. Незаметно пролетает два-три года; сегодня то же самое, что вчера, завтра то же, что сегодня, – шуму, толкотни, движения, блеску, пестроты много, а в сущности разнообразия впечатлений нет; то, что видел наш предполагаемый герой, то уже понятно и изучено им; новой пищи для ума нет, и начинается томительное чувство умственного голода, скуки. Разочарованный или, проще и вернее, скучающий молодой человек начинает раздумывать, что бы ему сделать, за что бы ему приняться. Работать, что ли? Но работать, задавать себе работу для того, чтобы не скучать, – все равно, что гулять для моциона без определенной цели. О таком фокусе умному человеку и подумать странно. Да и наконец, не угодно ли вам найти у нас такую работу, которая заинтересовала и удовлетворила бы умного человека, не втянувшегося в эту работу смолоду. Уж не поступить ли ему на службу в казенную палату? Или не готовиться ли для развлечения к магистерскому экзамену? Не вообразить ли себя художником и не приняться ли, в двадцать пять лет, за рисование глаз и ушей, за изучение перспективы или генерал-баса?
Разве влюбиться? – Оно, конечно, не мешало бы, да беда в том, что умные люди очень требовательны и редко удовлетворяются теми экземплярами женского пола, которыми изобилуют блестящие петербургские гостиные. С этими женщинами они любезничают, с ними они сводят интриги, на них они женятся, иногда по увлечению, чаще по благоразумному расчету; но сделать из отношений с подобными женщинами занятие, наполняющее жизнь, спасающее от скуки, – это для умного человека немыслимо. В отношения между мужчиною и женщиною проникла та же мертвящая казенщина, которая обуяла остальные проявления нашей частной и общественной жизни. Живая природа человека здесь, как и везде, скована и обесцвечена мундирностью и обрядностью. Ну вот, молодому человеку, изучившему мундир и обряд до последних подробностей, остается только или махнуть рукой на свою скуку, как на неизбежное зло, или с отчаянья броситься в разные эксцентричности, питая неопределенную надежду рассеяться. Первое сделал Онегин, второе – Печорин; вся разница между тем и другим заключается в темпераменте. Условия, при которых они формировались и от которых они заскучали, – одни и те же; среда, которая приелась тому и другому, – та же самая. Но Онегин холоднее Печорина, и потому Печорин дурит гораздо больше Онегина, кидается за впечатлениями на Кавказ, ищет их в любви Бэлы, в дуэли с Грушницким, в схватках с черкесами, между тем как Онегин вяло и лениво носит с собою по свету свое красивое разочарование. Немножко Онегиным, немножко Печориным бывал и до сих пор бывает у нас всякий мало-мальски умный человек, владеющий обеспеченным состоянием, выросший в атмосфере барства и не получивший серьезного образования.
Рядом с этими скучающими трутнями являлись и до сих пор являются толпами люди грустящие, тоскующие от неудовлетворенного стремления приносить пользу. Воспитанные в гимназиях и университетах, эти люди получают довольно основательные понятия о том, как живут на свете цивилизованные народы, как трудятся на пользу общества даровитые деятели, как определяют обязанности человека разные мыслители и моралисты. В неопределенных, но часто теплых выражениях говорят этим людям профессора о честной деятельности, о подвиге жизни, о самоотвержении во имя человечества, истины, науки, общества. Вариации на эти теплые выражения наполняют собою задушевные студенческие беседы, во время которых высказывается так много юношески-свежего, во время которых так тепло и безгранично верится в существование и в торжество добра. Ну вот, проникнутые теплыми словами идеалистов-профессоров, согретые собственными восторженными речами, молодые люди из школы выходят в жизнь с неукротимым желанием сделать хорошее дело или – пострадать за правду. Пострадать им иногда приходится, но сделать дело никогда не удается. Они ли сами в этом виноваты, та ли жизнь виновата, в которую они вступают, – рассудить мудрено. Верно по крайней мере то, что переделать условия жизни у них не хватает сил, а ужиться с этими условиями они не умеют. Вот они мечутся из стороны в сторону, пробуют свои силы на разных карьерах, просят, умоляют общество: «Пристрой ты нас куда-нибудь, возьми ты наши силы, выжми из них для себя какую-нибудь частицу пользы; погуби нас, но губи так, чтобы наша гибель не пропала даром». Общество глухо и неумолимо; горячее желание Рудиных и Бельтовых пристроиться к практической деятельности и видеть плоды своих трудов и пожертвований остается бесплодным. Еще ни один Рудин, ни один Бельтов не дослужился до начальника отделения; да к тому же – странные люди! – они, чего доброго, даже этою почетною и обеспеченною должностью не удовлетворились бы. Они говорили на таком языке, которого не понимало общество, и после напрасных попыток растолковать этому обществу свои желания они умолкали и впадали в очень извинительное уныние. Иные Рудины успокаивались и находили себе удовлетворение в педагогической деятельности; делаясь учителями и профессорами, они находили исход для своего стремления к деятельности. Сами мы, говорили они себе, ничего не сделали. По крайней мере передадим наши честные тенденции молодому поколению, которое будет крепче нас и создаст себе другие, более благоприятные времена. Оставаясь таким образом вдали от практической деятельности, бедные идеалисты-преподаватели не замечали того, что их лекции плодят таких же Рудиных, как и они сами, что их ученикам придется точно так же оставаться вне практической деятельности или делаться ренегатами, отказываться от убеждений и тенденций. Рудиным-преподавателям было бы тяжело предвидеть, что они даже в лице своих учеников не примут участия в практической деятельности; а между тем они бы ошиблись, если бы, даже предвидя это обстоятельство, они подумали, что не приносят никакой пользы. Отрицательная польза, принесенная и приносимая людьми этого закала, не подлежит ни малейшему сомнению. Они размножают людей, неспособных к практической деятельности; вследствие этого самая практическая деятельность, или, вернее, те формы, в которых она обыкновенно выражается теперь, медленно, но постоянно понижаются во мнении общества. Лет двадцать тому назад все молодые люди служили в различных ведомствах; люди неслужащие принадлежали к исключительным явлениям; общество смотрело на них с состраданием или с пренебрежением; сделать карьеру – значило дослужиться до большого чина. Теперь очень многие молодые люди не служат, и никто не находит в этом ничего странного или предосудительного. Почему так случилось? А потому, мне кажется, что к подобным явлениям пригляделись, или, что то же самое, потому что Рудины размножились в нашем обществе. Не так давно, лет шесть тому назад, вскоре после Крымской кампании, наши Рудины вообразили себе, что их время настало, что общество примет и пустит в ход те силы, которые они давно предлагали ему с полным самоотвержением. Они рванулись вперед; литература оживилась; университетское преподавание сделалось свежее; студенты преобразились; общество с небывалым рвением принялось за журналы и стало даже заглядывать в аудитории; возникли даже новые административные должности. Казалось, что за эпохою бесплодных мечтаний и стремлений наступает эпоха кипучей, полезной деятельности. Казалось, рудинству приходит конец, и даже сам г. Гончаров похоронил своего Обломова и объявил, что под русскими именами таится много Штольцев. Но мираж рассеялся – Рудины не сделались практическими деятелями; из-за Рудиных выдвинулось новое поколение, которое с укором и насмешкой отнеслось к своим предшественникам. «Об чем вы ноете, чего вы ищете, чего просите от жизни? Вам небось счастия хочется, – говорили эти новые люди мягкосердечным идеалистам, тоскливо опустившим крылышки, – да ведь мало ли что! Счастие надо завоевать. Есть силы – берите его. Нет сил – молчите, а то и без вас тошно!» – Мрачная, сосредоточенная энергия сказывалась в этом недружелюбном отношении молодого поколения к своим наставникам. В своих понятиях о доброте и зле это поколение сходилось с лучшими людьми предыдущего; симпатии у них были общие; желали они одного и того же; но люди прошлого метались и суетились, надеясь где-нибудь пристроиться и как-нибудь, втихомолку, урывками, незаметно влить в жизнь свои честные убеждения. Люди настоящего не мечутся, ничего не ищут, нигде не пристраиваются, не поддаются ни на какие компромиссы и ни на что не надеются. В практическом отношении они так же бессильны, как и Рудины, но они сознали свое бессилие и перестали махать руками. «Я не могу действовать теперь, – думает про себя каждый из этих новых людей, – не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружает, и не стану скрывать этого презрения. В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе, как живется, не мирясь с господствующим злом и не давая ему над собой никакой власти. Я – чужой среди существующего порядка вещей, и мне до него нет никакого дела. Занимаюсь я хлебным ремеслом, думаю – что хочу, и высказываю – что можно высказывать».Это холодное отчаяние, доходящее до полного индифферентизма и в то же время развивающее отдельную личность до последних пределов твердости и самостоятельности, напрягает умственные способности; не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать; не имея возможности переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останавливает разрушительной критической работы; суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и миросозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений.
« – Что же вы делаете? (спрашивает дядя Аркадия у Базарова).
– А вот что мы делаем (отвечает Базаров): прежде – в недавнее время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда.
– Ну да, да, вы – обличители, – так, кажется, это называется? Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...
– А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и к доктринерству; мы увидали, что умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит[48], когда все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы напиться дурману в кабаке...
– Так, – перебил Павел Петрович, – так; вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезное не приниматься?
– И решились ни за что не приниматься, – угрюмо повторил Базаров. Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.
– А только ругаться?
– И ругаться.
– И это называется нигилизмом?
– И это называется нигилизмом, – повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью».
Итак, вот мои выводы. Человек массы живет по установленной норме, которая достается ему на долю не по свободному выбору, а потому, что он родился в известное время, в известном городе или селе. Он весь опутан разными отношениями: родственными, служебными, бытовыми, общественными; мысль его скована принятыми предрассудками; сам он не любит ни этих отношений, ни этих предрассудков, но они представляются ему «пределом, его же не прейдеши», и он живет и умирает, не проявив своей личной воли и часто даже не заподозрив в себе ее существования. Если попадется в этой массе человек поумнее, то он, смотря по обстоятельствам, в том или в другом отношении выделится из массы и распорядится по-своему, как ему выгоднее, удобнее и приятнее. Умные люди, не получившие серьезного образования, не выдерживают жизни массы, потому что она надоедает им своею бесцветностью; они сами не имеют понятия о лучшей жизни и потому, инстинктивно отшатнувшись от массы, остаются в пустом пространстве, не зная, куда идти, зачем жить на свете, чем разогнать тоску. Здесь отдельная личность отрывается от стада, но не умеет распорядиться собою. Другие люди, умные и образованные, не удовлетворяются жизнью массы и подвергают ее сознательной критике; у них составлен свой идеал; они хотят идти к нему, но, оглядываясь назад, постоянно боязливо спрашивают друг друга: а пойдет ли за нами общество? А не останемся ли мы одни с своими стремлениями? Не попадем ли мы впросак? У этих людей, за недостатком твердости, дело останавливается на словах. Здесь личность сознает свою отдельность, составляет себе понятие самостоятельной жизни и, не осмеливаясь двинуться с места, раздваивает свое существование, отделяет мир мысли от мира жизни. Люди третьего разряда идут дальше – они сознают несходство с массою и смело отделяются oт нее поступками, привычками, всем образом жизни. Пойдет ли за ними общество, до этого им нет дела. Они полны собою, своею внутреннею жизнью и не стесняют ее в угоду принятым обычаям и церемониалам. Здесь личность достигает полного самоосвобождения, полной особности и самостоятельности.
Словом, у Печориных есть воля без знания, у Рудиных – знание без воли; у Базаровых есть и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое.
V
До сих пор я говорил об общем жизненном явлении, вызвавшем собою роман Тургенева; теперь надо посмотреть, как это явление отразилось в художественном произведении. Узнавши, что такое Базаров, мы должны обратить внимание на то, как понимает этого Базарова сам Тургенев, как он заставляет его действовать и в какие отношения ставит его к окружающим людям. Словом, я приступлю теперь к подробному фактическому разбору романа.
Я сказал выше, что Базаров приезжает в деревню к своему приятелю, Аркадию Николаевичу Кирсанову, подчиняющемуся его влиянию. Аркадий Николаевич – молодой человек, неглупый, но совершенно лишенный умственной оригинальности и постоянно нуждающийся в чьей-нибудь интеллектуальной поддержке. Он, вероятно, лет на пять моложе Базарова и в сравнении с ним кажется совершенно не оперившимся птенцом, несмотря на то, что ему около двадцати трех лет и что он кончил курс в университете. Благоговея перед своим учителем, Аркадий с наслаждением отрицает авторитеты; он делает это с чужого голоса, не замечая таким образом внутреннего противоречия в своем поведении. Он слишком слаб, чтобы держаться самостоятельно в той холодной атмосфере трезвой разумности, в которой так привольно дышится Базарову; он принадлежит к разряду людей, вечно опекаемых и вечно не замечающих над собою опеки. Базаров относится к нему покровительственно и почти всегда насмешливо; Аркадий часто спорит с ним, и в этих спорах Базаров дает полную волю своему увесистому юмору. Аркадий не любит своего друга, а как-то невольно подчиняется неотразимому влиянию сильной личности, и притом воображает себе, что глубоко сочувствует базаровскому миросозерцанию. Отношения его к Базарову чисто головные, сделанные на заказ; он познакомился с ним где-нибудь в студенческом кругу, заинтересовался цельностью его воззрений, покорился его силе и вообразил себе, что он его глубоко уважает и от души любит. Базаров, конечно, ничего не вообразил и, нисколько не стесняя себя, позволил своему новому прозелиту любить его, Базарова, и поддерживать с ним постоянные отношения. Поехал он с ним в деревню не для того, чтобы доставить ему удовольствие, и не для того, чтобы познакомиться с семейством своего нареченного друга, а просто потому, что это было по дороге, да и наконец, отчего же не пожить недели две в гостях у порядочного человека, в деревне, летом, когда нет никаких отвлекающих занятий и интересов?
Деревня, в которую приехали наши молодые люди, принадлежит отцу и дяде Аркадия. Отец его, Николай Петрович Кирсанов, – человек лет сорока с небольшим; по складу характера он очень похож на своего сына. Но у Николая Петровича между его умственными убеждениями и природными наклонностями гораздо больше соответствия и гармонии, чем у Аркадия. Как человек мягкий, чувствительный и даже сентиментальный, Николай Петрович не порывается к рационализму и успокаивается на таком миросозерцании, которое дает пищу его воображению и приятно щекочет его нравственное чувство. Аркадий, напротив того, хочет быть сыном своего века и напяливает на себя идеи Базарова, которые решительно не могут с ним срастись. Он – сам по себе, а идеи – сами по себе болтаются, как сюртук взрослого человека, надетый на десятилетнего ребенка. Даже та ребяческая радость, которая обнаруживается в мальчике, когда его шутя производят в большие, даже эта радость, говорю я, заметна в нашем юном мыслителе с чужого голоса. Аркадий щеголяет своими идеями, старается обратить на них внимание окружающих, думает про себя: «Вот какой я молодец!» и, увы, как дитя малое, неразумное, иногда провирается и доходит до явного противоречия с самим собою и с накладными своими убеждениями.
Дядя Аркадия, Павел Петрович, может быть назван Печориным маленьких размеров; он на своем веку пожуировал и подурачился, и, наконец, все ему надоело; пристроиться ему не удалось, да этого и не было в его характере; добравшись до той поры, когда, по выражению Тургенева, сожаления похожи на надежды и надежды похожи на сожаления, бывший лев удалился к брату в деревню, окружил себя изящным комфортом и превратил свою жизнь в спокойное прозябание. Выдающимся воспоминанием из прежней шумной и блестящей жизни Павла Петровича было сильное чувство к одной великосветской женщине, чувство, доставившее ему много наслаждений и вслед за тем, как бывает почти всегда, много страданий. Когда отношения Павла Петровича к этой женщине оборвались, то жизнь его совершенно опустела.
«Как отравленный, бродил он с места на место, – говорит Тургенев, – он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека, он мог похвастаться двумя-тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал; он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностью, – знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России: в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорее».
Как человек желчный и страстный, одаренный гибким умом и сильною волею, Павел Петрович резко отличается от своего брата и от племянника. Он не поддается чужому влиянию; он сам подчиняет себе окружающие личности и ненавидит тех людей, в которых встречает себе отпор. Убеждений у него, по правде сказать, не имеется, но зато есть привычки, которыми он очень дорожит. Он по привычке толкует о правах и обязанностях аристократии и по привычке доказывает в спорах необходимость принсипов. Он привык к тем идеям, которых держится общество, и стоит за эти идеи, как за свой комфорт. Он терпеть не может, чтобы кто-нибудь опровергал эти понятия, хотя в сущности он не питает к ним никакой сердечной привязанности. Он гораздо энергичнее своего брата спорит с Базаровым, а между тем Николай Петрович гораздо искреннее страдает от его беспощадного отрицания. В глубине души Павел Петрович такой же скептик и эмпирик, как и сам Базаров; в практической жизни он всегда поступал и поступает, как ему вздумается, но в области мысли он не умеет признаться в этом перед самим собою и потому поддерживает на словах такие доктрины, которым постоянно противоречат его поступки. Дяде и племяннику следовало бы поменяться между собою убеждениями, потому что первый ошибочно приписывает себе веру в принсипы, второй точно так же ошибочно воображает себя крайним скептиком и смелым рационалистом. Павел Петрович начинает чувствовать к Базарову сильнейшую антипатию с первого знакомства. Плебейские манеры Базарова возмущают отставного денди; самоуверенность и нецеремонность его раздражают Павла Петровича как недостаток уважения к его изящной особе. Павел Петрович видит, что Базаров не уступит ему преобладания над собою, и это возбуждает в нем чувство досады, за которое он ухватывается как за развлечение среди глубокой деревенской скуки. Ненавидя самого Базарова, Павел Петрович возмущается всеми его мнениями, придирается к нему, насильно вызывает его на спор и спорит с тем рьяным увлечением, которое обыкновенно обнаруживают люди праздные и скучающие.
А что же делает Базаров среди этих трех личностей? Во-первых, он старается обращать на них как можно меньше внимания и большую часть своего времени проводит за работою; шляется по окрестностям, собирает растения и насекомых, режет лягушек и занимается микроскопическими наблюдениями; на Аркадия он смотрит как на ребенка, на Николая Петровича – как на добродушного старичка, или, как он выражается, на старенького романтика. К Павлу Петровичу он относится не совсем дружелюбно; его возмущает в нем элемент барства, но он невольно старается скрывать свое раздражение под видом презрительного равнодушия. Ему не хочется сознаться перед собою, что он может сердиться на «уездного аристократа», а между тем страстная натура берет свое; он часто запальчиво возражает на тирады Павла Петровича и не вдруг успевает овладеть собою и замкнуться в свою насмешливую холодность. Базаров не любит ни спорить, ни вообще высказываться, и только Павел Петрович отчасти обладает уменьем вызвать его на многозначительный разговор. Эти два сильные характера действуют друг на друга враждебно; видя этих двух людей лицом к лицу, можно себе представить борьбу, происходящую между двумя поколениями, непосредственно следующими одно за другим. Николай Петрович, конечно, неспособен быть угнетателем, Аркадий Николаевич, конечно, неспособен вступить в борьбу с семейным деспотизмом; но Павел Петрович и Базаров могли бы, при известных условиях, явиться яркими представителями: первый – сковывающей, леденящей силы прошедшего, второй – разрушительной, освобождающей силы настоящего.
На чьей же стороне лежат симпатии художника? Кому он сочувствует? На этот существенно важный вопрос можно отвечать положительно, что Тургенев не сочувствует вполне ни одному из своих действующих лиц; от его анализа не ускользает ни одна слабая или смешная черта; мы видим, как Базаров завирается в своем отрицании, как Аркадий наслаждается своей развитостью, как Николай Петрович робеет, как пятнадцатилетний юноша, и как Павел Петрович рисуется и злится, зачем на него не любуется Базаров, единственный человек, которого он уважает в самой ненависти своей.
Базаров завирается – это, к сожалению, справедливо. Он сплеча отрицает вещи, которых не знает или не понимает; поэзия, по его мнению, ерунда; читать Пушкина – потерянное время; заниматься музыкою – смешно; наслаждаться природою – нелепо. Очень может быть, что он, человек, затертый трудовой жизнью, потерял или не успел развить в себе способность наслаждаться приятным раздражением зрительных и слуховых нервов, но из этого никак не следует, чтобы он имел разумное основание отрицать или осмеивать эту способность в других. Выкраивать других людей на одну мерку с собою значит впадать в узкий умственный деспотизм. Отрицать совершенно произвольно ту или другую естественную и действительно существующую в человеке потребность или способность – значит удаляться от чистого эмпиризма.
Увлечение Базарова очень естественно; оно объясняется, во-первых, односторонностью развития, во-вторых, общим характером эпохи, в которую нам пришлось жить. Базаров основательно знает естественные и медицинские науки; при их содействии он выбил из своей головы всякие предрассудки; затем он остался человеком крайне необразованным; он слыхал кое-что о поэзии, кое-что об искусстве, не потрудился подумать и сплеча произнес приговор над незнакомыми ему предметами. Эта заносчивость свойственна нам вообще; она имеет свои хорошие стороны как умственная смелость, но зато, конечно, приводит порою к грубым ошибкам. Общий характер эпохи заключается в практическом направлении; мы все хотим жить и придерживаемся того правила, что соловья баснями не кормят. Люди очень энергические часто преувеличивают тенденции, господствующие в обществе; на этом основании слишком неразборчивое отрицание Базарова и самая односторонность его развития стоят в прямой связи с преобладающими стремлениями к осязательной пользе. Нам надоели фразы гегелистов, у нас закружилась голова от витания в заоблачных высях, и многие из нас, отрезвившись и спустившись на землю, ударились в крайность и, изгоняя мечтательность, вместе с нею стали преследовать простые чувства и даже чисто физические ощущения, вроде наслаждения музыкою. Большого вреда в этой крайности нет, но указать на нее не мешает, и назвать ее смешною вовсе не значит стать в ряды обскурантов и стареньких романтиков. Многие из наших реалистов восстанут на Тургенева за то, что он не сочувствует Базарову и не скрывает от читателя промахов своего героя; многие изъявят желание, чтобы Базаров был выведен человеком образцовым, рыцарем мысли без страха и упрека, и чтобы таким образом было доказано перед лицом читающей публики несомненное превосходство реализма над другими направлениями мысли. Да, реализм, по-моему, вещь хорошая; но во имя этого же самого реализма не будем же идеализировать ни себя, ни нашего направления. Мы смотрим холодно и трезво на все, что нас окружает; посмотрим же точно так же холодно и трезво на самих себя; кругом чушь и глушь, да и у нас самих не бог знает как светло. Отрицаемое нелепо, да и отрицатели тоже делают порою капитальные глупости; они все-таки стоят неизмеримо выше отрицаемого, но тут еще честь больно невелика; стоять выше вопиющей нелепости не значит еще быть гениальным мыслителем. Но мы, пишущие и говорящие реалисты, теперь слишком увлечены умственною борьбою минуты, горячими схватками с отсталыми идеалистами, с которыми по-настоящему не стоило бы даже спорить; мы, говорю я, слишком увлечены, чтобы скептически отнестись к самим себе и проверить строгим анализом, не провираемся ли мы в пылу диалектических сражений, совершающихся в журнальных книжках и во вседневной жизни. К нам отнесутся скептически наши дети, или, может быть, мы сами узнаем себе со временем настоящую цену и посмотрим a vol d'oiseau[49] нa теперешние любимые идеи. Тогда мы будем смотреть с высоты настоящего на прошедшее; Тургенев же теперь смотрит на настоящее с высоты прошедшего. Он не идет за нами; он спокойно смотрит нам вслед, описывает нашу походку, рассказывает нам, как мы ускоряем шаги, как прыгаем через рытвины, как порою спотыкаемся на неровных местах дороги.
В тоне его описания не слышно раздражения; он просто устал идти; развитие его личного миросозерцания окончилось, но способность наблюдать за движением чужой мысли, понимать и воспроизводить все ее изгибы осталась во всей своей свежести и полноте. Тургенев сам никогда не будет Базаровым, но он вдумался в этот тип и понял его так верно, как не поймет ни один из наших молодых реалистов. Апофеозы прошедшего нет в романе Тургенева. Автор «Рудина» и «Аси», разоблачивший слабости своего поколения и открывший в «Записках охотника» целый мир отечественных диковинок, делавшихся на глазах этого самого поколения, остался верен себе и не покривил душою в своем последнем произведении. Представители прошлого, «отцы», изображены с беспощадною верностью; они люди хорошие, но об этих хороших людях не пожалеет Россия; в них нет ни одного элемента, который действительно стоило бы спасать от могилы и от забвения, а между тем есть и такие минуты, когда этим отцам можно полнее сочувствовать, чем самому Базарову. Когда Николай Петрович любуется вечерним пейзажем, тогда он всякому непредубежденному читателю покажется человечнее Базарова, голословно отрицающего красоту природы.
« – И природа пустяки? – проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.
– И природа пустяки в том значении, в каком ты ее теперь понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».
В этих словах у Базарова отрицание превращается во что-то искусственное и даже перестает быть последовательным. Природа – мастерская, и человек в ней – работник, – с этой мыслью я готов согласиться; но, развивая эту мысль дальше, я никак не прихожу к тем результатам, к которым приходит Базаров. Работнику надо отдыхать, и отдых не может ограничиться одним тяжелым сном после утомительного труда. Человеку необходимо освежиться приятными впечатлениями, и жизнь без приятных впечатлений, даже при удовлетворении всем насущным потребностям, превращается в невыносимое страдание. Последовательные материалисты, вроде Карла Фохта, Молешотта и Бюхнера, не отказывают поденщику в чарке водки, а достаточным классам – в употреблении наркотических веществ. Они смотрят снисходительно даже на нарушения должной меры, хотя признают подобные нарушения вредными для здоровья. Если бы работник находил удовольствие в том, чтобы в свободные часы лежать на спине и глазеть на стены и потолок своей мастерской, то тем более всякий здравомыслящий человек сказал бы ему: глазей, любезный друг, глазей, сколько душе угодно; здоровью твоему это не повредит, а в рабочее время ты глазеть не будешь, чтобы не наделать промахов. Отчего же, допуская употребление водки и наркотических веществ вообще, не допустить наслаждения красотою природы, мягким воздухом, свежею зеленью, нежными переливами контуров и красок? Преследуя романтизм, Базаров с невероятною подозрительностью ищет его там, где его никогда и не бывало. Вооружась против идеализма и разбивая его воздушные замки, он порою сам делается идеалистом, т.е. начинает предписывать человеку законы, как и чем ему наслаждаться и к какой мерке пригонять свои личные ощущения. Сказать человеку: не наслаждайся природою – все равно, что сказать ему: умерщвляй свою плоть. Чем больше будет в жизни безвредных источников наслаждения, тем легче будет жить на свете, и вся задача нашего времени заключается именно в том, чтобы уменьшить сумму страданий и увеличить силу и количество наслаждений. Многие возразят на это, что мы живем в такое тяжелое время, в котором еще нечего думать о наслаждении; наше дело, скажут они, работать, искоренять зло, сеять добро, расчищать место для великого здания, в котором будут пировать наши отдаленные потомки. Хорошо, я согласен с тем, что мы поставлены в необходимость работать для будущего, потому что плоды всех наших начинаний могут созреть только в течение нескольких столетий; цель наша, положим, очень возвышенна, но эта возвышенность цели представляет очень слабое утешение в житейских передрягах. Человеку усталому и измученному вряд ли станет весело и приятно от той мысли, что его праправнук будет жить в свое удовольствие. В тяжелые минуты жизни утешаться возвышенностью цели – это, воля ваша, все равно, что пить неподслащенный чай, поглядывая на кусок сахара, привешенный к потолку. Людям, не обладающим чрезмерною пылкостью воображения, чай не покажется вкуснее от этих тоскливых взглядов кверху. Точно так же жизнь, состоящая из одних трудов, окажется не по вкусу и не по силам современному человеку. Поэтому, с какой точки зрения вы ни посмотрите на жизнь, а все-таки выйдет на поверку, что наслаждение решительно необходимо. Одни посмотрят на наслаждение как на конечную цель; другие принуждены будут признать в наслаждении важнейший источник сил, необходимых для работы. В этом будет заключаться вся разница между эпикурейцами и стоиками нашего времени.
Итак, Тургенев никому и ничему в своем романе не сочувствует вполне. Если бы сказать ему: «Иван Сергеевич, вам Базаров не нравится, чего же вам угодно?» – то он на этот вопрос не ответил бы ничего. Он никак не пожелал бы молодому поколению сойтись с отцами в понятиях и влечениях. Его не удовлетворяют ни отцы, ни дети, и в этом случае его отрицание глубже и серьезнее отрицания тех людей, которые, разрушая то, что было до них, воображают себе, что они – соль земли и чистейшее выражение полной человечности. В разрушении своем эти люди, может быть, правы, но в наивном самообожании или в обожании того типа, к которому они себя причисляют, заключается их ограниченность и односторонность. Таких форм, таких типов, на которых действительно можно было бы успокоиться и остановиться, еще не выработала и, может быть, никогда не выработает жизнь. Те люди, которые, отдаваясь в полное распоряжение какой бы то ни было господствующей теории, отказываются от своей умственной самостоятельности и заменяют критику подобострастным поклонением, оказываются людьми узкими, бессильными и часто вредными. Поступить таким образом способен Аркадий, но это совершенно невозможно для Базарова, и именно в этом свойстве ума и характера заключается вся обаятельная сила тургеневского героя. Эту обаятельную силу понимает и признает автор, несмотря на то, что сам он ни по темпераменту, ни по условиям развития не сходится с своим нигилистом. Скажу больше: общие отношения Тургенева к тем явлениям жизни, которые составляют канву его романа, так спокойны и беспристрастны, так свободны от раболепного поклонения той или другой теории, что сам Базаров не нашел бы в этих отношениях ничего робкого или фальшивого. Тургенев не любит беспощадного отрицания, и между тем личность беспощадного отрицателя выходит личностью сильною и внушает каждому читателю невольное уважение. Тургенев склонен к идеализму, а между тем ни один из идеалистов, выведенных в его романе, не может сравниться с Базаровым ни по силе ума, ни по силе характера. Я уверен, что многие из наших журнальных критиков захотят во что бы то ни стало увидать в романе Тургенева затаенное стремление унизить молодое поколение и доказать, что дети хуже родителей, но я точно так же уверен в том, что непосредственное чувство читателей, не скованных обязательными отношениями к теории, оправдает Тургенева и увидит в его произведении не диссертацию на заданную тему, а верную, глубоко прочувствованную и без малейшей утайки нарисованную картину современной жизни. Если бы на тургеневскую тему напал какой-нибудь писатель, принадлежащий к нашему молодому поколению и глубоко сочувствующий базаровскому направлению, тогда, конечно, картина вышла бы не такая, и краски были бы положены иначе. Базаров не был бы угловатым бурсаком, господствующим над окружающими людьми естественною силою своего здорового ума; он, может быть, превратился бы в воплощение тех идей, которые составляют сущность этого типа; он, может быть, представил бы нам в своей личности яркое выражение тенденций автора, но вряд ли он был бы равен Базарову в отношении к жизненной верности и рельефности. Предполагаемый мною молодой художник говорил бы своим произведением, обращаясь к сверстникам: «Вот, друзья мои, чем должен быть развитый человек! Вот конечная цель наших стремлений!» Что же касается до Тургенева, то он просто и спокойно говорит: «Вот какие бывают теперь молодые люди!» и при этом не скрывает даже того обстоятельства, что ему такие молодые люди не совсем нравятся. – Как же это можно, закричат многие из наших современных критиков и публицистов, это обскурантизм! – Господа, можно было бы ответить им, да что вам за дело до личного ощущения Тургенева? Нравятся или не нравятся ему такие люди – это дело вкуса; вот если бы он, не сочувствуя типу, клеветал бы на него, тогда каждый честный человек имел бы право вывести его на свежую воду, но подобной клеветы вы не найдете в романе; даже угловатости Базарова, на которые я уже обращал внимание читателя, объясняются совершенно удовлетворительно обстоятельствами жизни и составляют если не существенно необходимое, то по крайней мере очень часто встречающееся свойство людей базаровского типа. Нам, молодым людям, было бы, конечно, гораздо приятнее, если бы Тургенев скрыл и скрасил неграциозные шероховатости; но я не думаю, чтобы, потворствуя таким образом нашим прихотливым желаниям, художник полнее охватил бы явления действительности. Со стороны виднее достоинства и недостатки, и потому строго-критический взгляд на Базарова со стороны в настоящую минуту оказывается гораздо плодотворнее, чем голословное восхищение или раболепное обожание. Взглянув на Базарова со стороны, взглянув так, как может смотреть только человек «отставной», не причастный к современному движению идей, рассмотрев его тем холодным, испытующим взглядом, который дается только долгим опытом жизни, Тургенев оправдал и оценил его по достоинству. Базаров вышел из испытания чистым и крепким. Против этого типа Тургенев не нашел ни одного существенного обвинения, и в этом случае его голос, как голос человека, находящегося по летам и по взгляду на жизнь в другом лагере, имеет особенно важное, решительное значение. Тургенев не полюбил Базарова, но признал его силу, признал его перевес над окружающими людьми и сам принес ему полную дань уважения.Этого слишком достаточно для того, чтобы снять с романа Тургенева всякий могущий возникнуть упрек в отсталости направления; этого достаточно даже для того, чтобы признать его роман практически полезным для настоящего времени.
VI
Отношения Базарова к его товарищу бросают яркую полосу света на его характер; у Базарова нет друга, потому что он не встречал еще человека, «который бы не спасовал перед ним»; Базаров один, сам по себе, стоит на холодной высоте трезвой мысли, и ему не тяжело это одиночество, он весь поглощен собою и работою; наблюдения и исследования над живою природою, наблюдения и исследования над живыми людьми наполняют для него пустоту жизни и застраховывают его против скуки. Он не чувствует потребности в каком-нибудь другом человеке отыскать себе сочувствие и понимание; когда ему приходит в голову какая-нибудь мысль, он просто высказывается, не обращая внимания на то, согласны ли с его мнением слушатели и приятно ли действуют на них его идеи. Чаще всего он даже не чувствует потребности высказаться; думает про себя и изредка роняет беглое замечание, которое обыкновенно с почтительною жадностью подхватывают прозелиты и птенцы, подобные Аркадию. Личность Базарова замыкается в самой себе, потому что вне ее и вокруг нее почти вовсе нет родственных ей элементов. Эта замкнутость Базарова тяжело действует на тех людей, которые желали бы от него нежности и сообщительности, но в этой замкнутости нет ничего искусственного и преднамеренного. Люди, окружающие Базарова, ничтожны в умственном отношении и никаким образом не могут расшевелить его, поэтому он и молчит, или говорит отрывочные афоризмы, или обрывает начатый спор, чувствуя его смешную бесполезность. Посадите взрослого человека в одну комнату с дюжиной ребят, и вы, вероятно, не найдете удивительным, если этот взрослый не станет говорить с своими товарищами по месту жительства о своих человеческих, гражданских и научных убеждениях. Базаров не важничает перед другими, не считает себя гениальным человеком, непонятным для своих современников или соотечественников; он просто принужден смотреть на своих знакомых сверху вниз, потому что эти знакомые приходятся ему по колено; что ж ему делать? Ведь не садиться же ему на пол для того, чтобы сравняться с ними в росте? Не прикидываться же ребенком для того, чтобы делить с ребятами их недозрелые мысленки? Он поневоле остается в уединении, и это уединение не тяжело для него потому, что он молод, крепок, занят кипучею работою собственной мысли. Процесс этой работы остается в тени; сомневаюсь, чтобы Тургенев был в состоянии передать нам описание этого процесса; чтобы изобразить его, надо самому пережить его в своей голове, надо самому быть Базаровым, а с Тургеневым этого не случалось, за это можно поручиться, потому что кто в жизни своей хотя один раз, хоть в продолжение нескольких минут смотрел на вещи глазами Базарова, тот остается нигилистом на весь свой век. У Тургенева мы видим только результаты, к которым пришел Базаров, мы видим внешнюю сторону явления, то есть слышим, что говорит Базаров, и узнаем, как он поступает в жизни, как обращается с разными людьми. Психологического анализа, связного перечня мыслей Базарова мы не находим; мы можем только отгадывать, что он думал и как формулировал перед самим собою свои убеждения. Не посвящая читателя в тайны умственной жизни Базарова, Тургенев может возбудить недоумение в той части публики, которая не привыкла трудом собственной мысли дополнять то, что не договорено или не дорисовано в произведении писателя. Невнимательный читатель может подумать, что у Базарова нет внутреннего содержания и что весь его нигилизм состоит из сплетения смелых фраз, выхваченных из воздуха и не выработанных самостоятельным мышлением. Можно сказать положительно, что сам Тургенев не так понимает своего героя, и только потому не следит за постепенным развитием и созреванием его идей, что не может и не находит удобным передавать мысли Базарова так, как они представляются его уму. Мысли Базарова выражаются в его поступках, в его обращении с людьми; они просвечивают, и их разглядеть не трудно, если только читать внимательно, группируя факты и отдавая себе отчет в их причинах.
Два эпизода окончательно дорисовывают эту замечательную личность: во-первых, отношения его к женщине, которая ему нравится; во-вторых – его смерть.
Я рассмотрю и то и другое, но сначала считаю нелишним обратить внимание на другие, второстепенные подробности.
Отношения Базарова к его родителям могут одних читателей предрасположить против героя, других – против автора. Первые, увлекаясь чувствительным настроением, упрекнут Базарова в черствости; вторые, увлекаясь привязанностью к базаровскому типу, упрекнут Тургенева в несправедливости к своему герою и в желании выставить его с невыгодной стороны. И те и другие, по моему мнению, будут совершенно не правы. Базаров действительно не доставляет своим родителям тех удовольствий, которых эти добрые старики ожидают от его пребывания с ними, но между ним и его родителями нет ни одной точки соприкосновения.
Отец его – старый уездный лекарь, совершенно опустившийся в бесцветной жизни бедного помещика; мать его – дворяночка старого покроя, верящая во все приметы и умеющая только отлично готовить кушанье. Ни с отцом, ни с матерью Базаров не может ни поговорить так, как он говорит с Аркадием, ни даже поспорить так, как он спорит с Павлом Петровичем. Ему с ними скучно, пусто, тяжело. Жить с ними под одною кровлею он может только с тем условием, чтобы они не мешали ему работать. Им это, конечно, тяжело; их он запугивает, как существо из другого мира, но ему-то что ж с этим делать? Ведь это было бы безжалостно в отношении к самому себе, если бы Базаров захотел посвятить два-три месяца на то, чтобы потешить своих стариков; для этого ему надо было бы отложить в сторону всякие занятия и целыми днями просиживать с Василием Ивановичем и с Ариною Власьевною, которые на радостях болтали бы всякий вздор, приплетая каждый по-своему и уездные сплетни, и городские слухи, и замечания об урожае, и рассказы какой-нибудь юродивой, и латинские сентенции из старого медицинского трактата. Человек молодой, энергический, полный своею личною жизнью, не выдержал бы двух дней подобной идиллии и как угорелый вырвался бы из этого тихого уголка, где его так любят и где ему так страшно надоедают. Не знаю, хорошо ли бы себя почувствовали старики Базаровы, если бы после двухсуточного блаженства они услышали от своего ненаглядного сына, что непредвиденные обстоятельства принуждают его уехать. Не знаю вообще, каким образом Базаров мог бы вполне удовлетворить требованиям своих родителей, не отказываясь совершенно от своего личного существования. Если же, так или иначе, ему непременно пришлось бы оставить их неудовлетворенными, тогда не из чего было возбуждать в них такие надежды, которые не могли осуществиться. Когда два человека, любящие друг друга или связанные между собою какими-нибудь отношениями, расходятся между собою в образовании, в идеях, в наклонностях и привычках, тогда разлад и страдание той или другой стороны, а иногда обеих вместе, делаются до такой степени неизбежными, что становится даже бесполезным хлопотать об их устранении. Но родители Базарова страдают от этого разлада, а Базаров и в ус не дует; это обстоятельство естественно располагает сострадательного читателя в пользу стариков; иной скажет даже: зачем он их мучает? Ведь они его так любят! – А чем же, позвольте вас спросить, он их мучает? Тем, что ли, что он не верит в приметы или скучает от их болтовни? Да как же ему верить-то и как же не скучать? Если бы самый близкий мне человек сокрушался бы оттого, что во мне с лишком два с половиною, а не полтора аршина роста, то я, при всем моем желании, не мог бы его утешить; вероятно, даже я не стал бы утешать его, а просто пожал бы плечами и отошел в сторону. Предвижу, впрочем, одно довольно курьезное обстоятельство: если бы Базаров так же страдал от невозможности сойтись с своими родителями, то сострадательные читатели помирились бы с ним и посмотрели бы на него как на несчастную жертву исторического процесса развития.
Но Базаров не страдает, и потому многие на него накинутся и с негодованием назовут его бесчувственным человеком. Эти многие очень дорожат красотою чувства, хотя эта красота не имеет никакого практического значения. Страдание от разъединения с родителями кажется им чертою, необходимою для красоты чувства, и потому они требуют, чтобы Базаров страдал, не обращая внимания на то, что это нисколько не поправило бы дела и что Василию Ивановичу и Арине Власьевне от этого никак не было бы легче. Если же отношения Базарова к его родителям могут повредить ему только во мнении сострадательных читателей, то Тургенева нельзя упрекнуть в несправедливости или утрировке, потому что тем людям, у которых чувствительность берет решительный перевес над критикою ума, вообще не понравятся все существенные, основные черты базаровского типа. Им не понравится ни трезвость мысли, ни беспощадность критики, ни твердость характера, не понравились бы им эти свойства даже в том случае, когда бы автор романа написал этим свойствам восторженный панегирик; следовательно, тут, как и везде, не художественная обработка, а самый материал, самое явление действительности возбудило бы неприязненные чувства. Изображая отношения Базарова к старикам, Тургенев вовсе не превращается в обвинителя, умышленно подбирающего мрачные краски; он остается по-прежнему искренним художником и изображает явление как оно есть, не подслащая и не скрашивая его по своему произволу. Сам Тургенев, может быть, по своему характеру подходит к сострадательным людям, о которых я говорил выше; он порою увлекается сочувствием к наивной, почти не сознанной грусти старухи матери и к сдержанному, стыдливому чувству старика отца, увлекается до такой степени, что почти готов корить и обвинять Базарова; но в этом увлечении нельзя искать ничего преднамеренного и рассчитанного. В нем сказывается только любящая натура самого Тургенева, и в этом свойстве его характера трудно найти что-нибудь предосудительное. Тургенев не виноват в том, что жалеет бедных стариков и даже сочувствует их непоправимому горю. Тургеневу не резон скрывать свои симпатии в угоду той или другой психологической или социальной теории. Эти симпатии не заставляют его кривить душою и уродовать действительность, следовательно, они не вредят ни достоинству романа, ни личному характеру художника.
VII
Базаров с Аркадием отправляются в губернский город, по приглашению одного родственника Аркадия, и встречаются с двумя в высшей степени типичными личностями. Эти личности – юноша Ситников и молодая дама Кукшина – представляют великолепно исполненную карикатуру безмозглого прогрессиста и по-русски эманципированной женщины. Ситниковых и Кукшиных у нас развелось в последнее время бесчисленное множество; нахвататься чужих фраз, исковеркать чужую мысль и нарядиться прогрессистом теперь так же легко и выгодно, как при Петре было легко и выгодно нарядиться европейцем. Истинных прогрессистов, то есть людей действительно умных, образованных и добросовестных, у нас очень немного, порядочных и развитых женщин – еще того меньше, но зато не перечтешь того несметного количества разнокалиберной сволочи, которая тешится прогрессивными фразами, как модною вещицею, или драпируется в них, чтобы закрыть свои пошленькие поползновения. У нас можно сказать, что всякий пустомеля смотрит прогрессистом, лезет в передовые люди, создает из чужих лоскутьев свою теорию и даже часто силится заявить о ней в литературе. «Русский вестник» смотрит на это обстоятельство с сердечным прискорбием, которое часто переходит в крикливое негодование. Это крикливое негодование вызывает себе отпор.
– Что вы делаете? – говорят многие «Русскому вестнику». – Вы ругаете прогрессистов, вы вредите делу и идее прогресса. – «Русский вестник», вероятно, с особенным наслаждением принял на свои страницы те сцены романа Тургенева, в которых действуют Ситников и Кукшина: вот, думает он, все псевдопрогрессисты с ужасом и с отвращением оглянутся на самих себя! Многие из литературных противников «Русского вестника» с ожесточением накинутся на Тургенева за эти сцены. Он осмеивает нашу святыню, – закричат они с неистовыми жестами, – он идет против направления века, против свободы женщины. Этот спор между сторонниками и противниками «Русского вестника», как вообще многие литературные и нелитературные споры, вовсе не касается того предмета, по поводу которого горячатся спорящие стороны. Как негодование «Русского вестника» против Ситниковых, так и негодование многих журналов против возгласов «Русского вестника» не имеют ни малейшего смысла. Негодование против глупости и подлости вообще понятно, хотя, впрочем, оно так же плодотворно, как негодование против осенней сырости или зимнего холода. Но негодование против той формы, в которой выражается глупость или подлость, делается уже совершенно нелепым. Ни правительственные распоряжения, ни литературные теории никогда не уничтожат глупых и мелких людей; эти глупые и мелкие люди надевают на себя тот или другой костюм, но никакой головной убор не может закрыть их ослиные уши. Чем бы ни был Ситников – байронистом (вроде Грушницкого), гегелистом (вроде Шамилова) или нигилистом (каков он и есть), он все-таки останется пошлым человеком. Следовательно, не все ли равно, как он себя величает – консерватором или прогрессистом? Всего лучше то положение, которое делает глупого человека по возможности безвредным, а надо сказать правду, что глупый прогрессист принадлежит к числу наиболее безвредных созданий. В былые годы Ситников был бы способен из удальства бить на почтовых станциях ямщиков; теперь он уже откажет себе в этом удовольствии, потому что это не принято и потому что – я-де прогрессист. Уж и это хорошо, и за то спасибо отечественному прогрессу. Против чего же тут негодовать и отчего же не позволить Ситникову величать себя прогрессистом и деятелем? Кому это вредит? Кому от этого больно? Но только, конечно, надо знать Ситниковым их настоящую цену и не надо ожидать чудес гражданской и человеческой доблести от такого общества, в котором большая половина сама не знает того, что она говорит и чего хочет. Поэтому художник, рисующий перед нашими глазами поразительно живую карикатуру, осмеивающий искажения великих и прекрасных идей, заслуживает нашей полной признательности. Многие идеи сделались ходячею монетою и, путешествуя из рук в руки, потемнели и потерлись, как старый полтинник; на идею валят то, что принадлежит исключительно ее уродливому проявлению, то, что пристало к ней случайно от прикосновения грязных рук; чтобы очистить идею, надо представить уродливое проявление во всей его уродливости и, таким образом, строго отделить основную сущность от произвольных примесей. Между Кукшиной и эманципациею женщины нет ничего общего, между Ситниковым и гуманными идеями XIX века нет ни малейшего сходства. Назвать Ситникова и Кукшину порождением времени было бы в высокой степени нелепо. Оба они заимствовали у своей эпохи только верхнюю драпировку, и эта драпировка все-таки лучше всего остального их умственного достояния. Стало быть, какой же смысл будет иметь негодование теоретиков против Тургенева за Кукшину и Ситникова? Что же, было бы лучше, если бы Тургенев представил русскую женщину, эманципированную в лучшем смысле этого слова, и молодого человека, проникнутого высокими чувствами гуманности? Да ведь это было бы приятное самообольщение! Это была бы сладкая ложь, и к тому же ложь в высшей степени неудачная. Спрашивается, откуда бы взял Тургенев красок для изображения таких явлений, которых нет в России и для которых в русской жизни нет ни почвы, ни простора? И какое значение имела бы эта произвольная выдумка? Вероятно, возбудила бы в наших мужчинах и женщинах добродетельное желание подражать столь высоким образцам нравственного совершенства!.. Нет, скажут противники Тургенева, пусть автор не выдумывает небывалых явлений! Пусть он только разрушает старое, гнилое и не трогает тех идей, от которых мы ожидаем обильных, благодетельных результатов. Ах! да, это понятно; это значит: наших не тронь! Да как же, господа, не трогать, если в числе наших много дряни, если фирмою многих идей пользуются те самые негодяи, которые, за несколько лет тому назад, были Чичиковыми, Ноздревыми, Молчалиными и Хлестаковыми? Неужели не трогать их в награду за то, что они перебежали на нашу сторону, неужели поощрять их за ренегатство подобно тому, как в Турции поощряют за принятие исламизма? Нет, это было бы слишком нелепо. Мне кажется, идеи нашего времени слишком сильны своим собственным внутренним значением, чтобы нуждаться в искусственной подпорке. Пусть принимает эти идеи только тот, кто действительно убежден в их верности, и пусть он не думает, что титул прогрессиста сам по себе, подобно индульгенции, покрывает грехи прошедшего, настоящего и будущего. Ситниковы и Кукшины всегда останутся смешными личностями; ни один благоразумный человек не порадуется тому, что он стоит с ними под одним знаменем, и в то же время не припишет их уродливости тому девизу, который написан на знамени. Посмотрите, как обращается Базаров с этими идиотами; он, по приглашению Ситникова, заходит к Кукшиной, с целью посмотреть людей, завтракает, пьет шампанское, не обращает никакого внимания на усилия Ситникова блеснуть смелостью мысли и на усилия Кукшиной вызвать его, Базарова, на умный разговор, и, наконец, уходит, даже не простившись с хозяйкой.«Ситников выскочил вслед за ними.
– Ну что, ну что? – спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева, – ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот каких бы нам женщин побольше! Она в своем роде высоко нравственное явление!
– А это заведение твоего отца – тоже нравственное явление? – промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили.
Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова».
VIII
В городе Аркадий знакомится на бале у губернатора с молодою вдовою, Анною Сергеевною Одинцовой; он танцует с нею мазурку, между прочим заговаривает с нею о своем друге Базарове и заинтересовывает ее восторженным описанием его смелого ума и решительного характера. Она приглашает его к себе и просит привести с собою Базарова. Базаров, заметивший ее, как только она появилась на бале, говорит о ней с Аркадием, невольно усиливая обыкновенный цинизм своего тона, отчасти для того, чтобы скрыть и от себя и от своего собеседника впечатление, произведенное на него этою женщиною. Он с удовольствием соглашается пойти к Одинцовой вместе с Аркадием и объясняет себе и ему это удовольствие надеждою завести приятную интригу. Аркадия, не преминувшего влюбиться в Одинцову, коробит от шутливого тона Базарова, а Базаров, конечно, не обращает на это ни малейшего внимания, продолжает толковать о красивых плечах Одинцовой, спрашивает у Аркадия, действительно ли эта барыня – ой, ой, ой! – говорит, что в тихом омуте черти водятся и что холодные женщины – все равно что мороженое. Подходя к квартире Одинцовой, Базаров чувствует некоторое волнение и, желая переломить себя, в начале визита ведет себя неестественно развязно и, по замечанию Тургенева, разваливается в кресле не хуже Ситникова. Одинцова замечает волнение Базарова, отчасти отгадывает его причину, успокаивает нашего героя ровною и тихою приветливостью обращения и часа три проводит с молодыми людьми в неторопливой, разнообразной и живой беседе. Базаров обращается с нею особенно почтительно: видно, что ему не все равно, как об нем подумают и какое он произведет впечатление; он, против обыкновения, говорит довольно много, старается занять свою собеседницу, не делает резких выходок и даже, осторожно держась вне круга общих убеждений и воззрений, толкует о ботанике, медицине и других хорошо известных ему предметах. Прощаясь с молодыми людьми, Одинцова приглашает их к себе в деревню. Базаров в знак согласия молча кланяется и при этом краснеет. Аркадий все это замечает и всему этому удивляется. После этого первого свидания с Одинцовой Базаров пробует по-прежнему говорить об ней шутливым тоном, но в самом цинизме его выражений сказывается какое-то невольное, затаенное уважение. Видно, что он любуется этою женщиною и желает с нею сблизиться; шутит он на ее счет потому, что ему не хочется говорить серьезно с Аркадием ни об этой женщине, ни о тех новых ощущениях, которые он замечает в самом себе. Базаров не мог полюбить Одинцову с первого взгляда или после первого свидания; так вообще влюблялись только очень пустые люди в очень плохих романах. Ему просто понравилось ее красивое, или, как он сам выражается, богатое тело; разговор с нею не нарушил общей гармонии впечатления, и этого на первый раз было достаточно, чтобы поддержать в нем желание узнать ее покороче. Базаров не составлял себе никаких теорий о любви. Его студенческие годы, о которых Тургенев не говорит ни слова, вероятно, не обошлись без похождений по сердечной части; Базаров, как мы увидим впоследствии, оказывается опытным человеком, но, по всей вероятности, он имел дело с женщинами совершенно не развитыми, далеко не изящными и, следовательно, неспособными сильно заинтересовать его ум или шевельнуть его нервы. Он и на женщин привык смотреть сверху вниз; встречаясь с Одинцовой, он видит, что может говорить с нею как равный с равною и предчувствует в ней долю того гибкого ума и твердого характера, который он сознает и любит в своей особе. Говоря между собою, Базаров и Одинцова, в умственном отношении, умеют как-то смотреть друг другу в глаза, через голову птенца Аркадия, и эти задатки взаимного понимания доставляют приятные ощущения обоим действующим лицам. Базаров видит изящную форму и невольно любуется ею; под этою изящною формою он отгадывает самородную силу и безотчетно начинает уважать эту силу. Как чистый эмпирик, он наслаждается приятным ощущением и постепенно втягивается в это наслаждение, и втягивается до такой степени, что когда приходит время оторваться, тогда оторваться уже становится тяжело и больно. У Базарова в любви нет анализа, потому что нет недоверия к самому себе. Он едет в деревню к Одинцовой с любопытством и без малейшей боязни, потому что хочется присмотреться к этой миловидной женщине, хочется быть с нею вместе, провести приятно несколько дней. В деревне незаметно проходит пятнадцать дней; Базаров много говорит с Анной Сергеевною, спорит с нею, высказывается, раздражается и, наконец, привязывается к ней какою-то злобною, мучительною страстью. Такую страсть всего чаще внушают энергическим людям женщины красивые, умные и холодные. Красота женщины волнует кровь ее обожателя; ум ее дает ей возможность понимать головою и обсуживать тонким психическим анализом такие чувства, которых она сама не разделяет и которым даже не сочувствует; холодность застраховывает ее против увлечения и, усиливая препятствия, вместе с тем усиливает в мужчине желание преодолеть их. Глядя на такую женщину, мужчина невольно думает: она так хороша, она так умно говорит о чувстве, порою так оживляется, высказывая свои тонкие психологические замечания или выслушивая мои горячо прочувствованные речи. Отчего же в ней так упорно молчит чувственность? Как затронуть ее за живое? Неужели вся жизнь ее сосредоточена в головном мозгу? Неужели она только тешится впечатлениями и не способна ими увлечься? Время уходит в напряженных усилиях распутать живую загадку; голова работает вместе с чувственностью; являются тяжелые, мучительные ощущения; весь роман отношений между мужчиною и женщиною принимает какой-то странный характер борьбы. Знакомясь с Одинцовой, Базаров думал развлечься приятною интригою; узнавши ее покороче, он почувствовал к ней уважение и вместе с тем увидал, что надежды на успех очень мало; если бы он не успел привязаться к Одинцовой, тогда он просто махнул бы рукой и тотчас утешился бы практическим замечанием, что земля не клином сошлась и что на свете много таких женщин, с которыми легко справиться; он попробовал и тут поступить таким образом, но махнуть рукою на Одинцову у него не хватило сил. Практическое благоразумие советовало ему бросить все дело и уехать, чтобы не томить себя понапрасну, а жажда наслаждения говорила громче практического благоразумия, и Базаров оставался, и злился, и сознавал, что делает глупость, и все-таки продолжал ее делать, потому что желание пожить в свое удовольствие было сильнее желания быть последовательным. Эта способность делать сознательные глупости составляет завидное преимущество людей сильных и умных. Человек бесстрастный и сухой поступает всегда так, как велят поступать логические выкладки; человек робкий и слабый старается обмануть себя софизмами и уверить себя в правоте своих желаний или поступков; но Базаров не нуждался в подобных фокусах; он прямо говорит себе: это глупо, а поступаю я все-таки так, как мне хочется, и ломать себя не хочу. Когда явится необходимость, тогда успею и сумею повернуть самого себя как следует. Цельная, крепкая натура сказывается в этой способности сильно увлекаться; здоровый, неподкупный ум выражается в этом умении назвать глупостью то самое увлечение, которое в данную минуту охватывает весь организм.Отношения Базарова с Одинцовой кончаются тем, что между ними происходит странная сцена. Она вызывает его на разговор о счастье и любви, она с любопытством, свойственным холодным и умным женщинам, выспрашивает у него, что в нем происходит, она вытягивает из него признание в любви, она с оттенком невольной нежности произносит его имя; потом, когда он, ошеломленный внезапным притоком ощущений и новых надежд, бросается к ней и прижимает ее к груди, она же отскакивает с испугом на другой конец комнаты и уверяет его, что он ее не так понял, что он ошибся.
Базаров уходит из комнаты, и тем кончаются отношения. Он уезжает на другой день после этого происшествия, потом видится раза два с Анной Сергеевной, даже гостит у нее вместе с Аркадием, но для него и для нее прошедшие события оказываются действительно невоскресимым прошедшим, и они смотрят друг на друга спокойно и говорят между собою тоном рассудительных и солидных людей. А между тем Базарову грустно смотреть на отношения с Одинцовою как на пережитый эпизод; он любит ее и, не давая себе воли ныть, страдать и разыгрывать несчастного любовника, становится, однако, как-то неровен в своем образе жизни, то бросается на работу, то впадает в бездействие, то просто скучает и брюзжит на окружающих людей. Высказаться он ни перед кем не хочет, да он и сам перед собою не сознается в том, что чувствует что-то похожее на тоску и на утомление. Он как-то злится и окисляется от этой неудачи, ему досадно думать, что счастье поманило его и прошло мимо, и досадно чувствовать, что это событие производит на него впечатление. Все это скоро переработалось бы в его организме; он принялся бы за дело, выругал бы самым энергическим образом проклятый романтизм и неприступную барыню, водившую его за нос, и зажил бы по-прежнему, занимаясь резанием лягушек и ухаживая за менее непобедимыми красавицами. Но Тургенев не вывел Базарова из тяжелого настроения. Базаров внезапно умирает, конечно не от огорчения, и роман оканчивается или, вернее, резко и неожиданно обрывается.
В то время как Базаров хандрит в деревне своего отца, Аркадий, влюбившийся также в Одинцову со времени губернаторского бала, но не успевший даже заинтересовать ее, сближается с ее сестрою, Катериною Сергеевною, 18-летнею девушкою, и, сам того не замечая, привязывается к ней, забывает свою прежнюю страсть и, наконец, делает ей предложение. Она соглашается, Аркадий женится на ней, и вот, когда он уже объявлен женихом, между ним и Базаровым, уезжающим к своему отцу, происходит следующий короткий, но выразительный разговор.
«Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.
– Что значит молодость! – произнес спокойно Базаров: – Да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит.
– Прощай, брат! – сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу, и, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: – Вот тебе, изучай!
– Это что значит? – спросил Аркадий.
– Как? разве ты так плох в естественной истории или забыл, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебе пример! Прощайте, синьор!
Телега задребезжала и покатилась».
Да, Аркадий, по выражению Базарова, попал в галки и прямо из-под влияния своего друга перешел под мягкую власть своей юной супруги. Но как бы то ни было, Аркадий свил себе гнездо, нашел себе кой-какое счастье, а Базаров остался бездомным, не согретым скитальцем. И это не прихоть романиста. Это не случайное обстоятельство. Если вы, господа, сколько-нибудь понимаете характер Базарова, то вы принуждены будете согласиться, что такого человека пристроить очень мудрено и что он не может, не изменившись в основных чертах своей личности, сделаться добродетельным семьянином. Базаров может полюбить только женщину очень умную; полюбивши женщину, он не подчинит свою любовь никаким условиям; он не станет охлаждать и сдерживать себя и точно так же не станет искусственно подогревать своего чувства, когда оно остынет после полного удовлетворения. Он не способен поддерживать с женщиной обязательные отношения; его искренняя и цельная натура не поддается на компромиссы и не делает уступок; он не покупает расположение женщины известными обязательствами; он берет его тогда, когда оно дается ему совершенно добровольно и безусловно. Но умные женщины у нас обыкновенно бывают осторожны и расчетливы. Их зависимое положение заставляет их бояться общественного мнения и не давать воли своим влечениям. Их страшит неизвестное будущее, им хочется застраховать его, и потому редкая умная женщина решится броситься на шею к любимому мужчине, не связав его предварительно крепким обещанием перед лицом общества и церкви. Имея дело с Базаровым, эта умная женщина поймет очень скоро, что никакое крепкое обещание не свяжет необузданной воли этого своенравного человека и что его нельзя обязать быть хорошим мужем и нежным отцом семейства. Она поймет, что Базаров или вовсе не даст никакого обещания, или, давши его в минуту полного увлечения, нарушит его тогда, когда это увлечение рассеется. Словом, она поймет, что чувство Базарова свободно и останется свободным, несмотря ни на какие клятвы и контракты. Чтобы не отшатнуться от неизвестной перспективы, эта женщина должна безраздельно подчиниться влечению чувства, броситься к любимому человеку, очертя голову и не спрашивая о том, что будет завтра или через год. Но так способны увлекаться только очень молодые девушки, совершенно незнакомые с жизнью, совершенно не тронутые опытом, а такие девушки не обратят внимания на Базарова или, испугавшись его резкого образа мыслей, откинутся к таким личностям, из которых со временем вырабатываются почтенные галки. У Аркадия гораздо больше шансов понравиться молодой девушке, несмотря на то, что Базаров несравненно умнее и замечательнее своего юного товарища. Женщина, способная ценить Базарова, не отдастся ему без предварительных условий, потому что такая женщина обыкновенно бывает себе на уме, знает жизнь и по расчету бережет свою репутацию. Женщина, способная увлекаться чувством, как существо наивное и мало размышлявшее, не поймет Базарова и не полюбит его. Словом, для Базарова нет женщин, способных вызвать в нем серьезное чувство и с своей стороны горячо ответить на это чувство. В настоящее время нет таких женщин, которые, умея мыслить, умели бы в то же время, без оглядки и без боязни, отдаваться влечению господствующего чувства. Как существо зависимое и страдательное, современная женщина из опыта жизни выносит ясное сознание своей зависимости и потому думает не столько о том, чтобы наслаждаться жизнью, сколько о том, чтобы не попасть в какую-нибудь неприятную переделку. Ровный комфорт, отсутствие грубых оскорблений, уверенность в завтрашнем дне для них дороги. Их за это нельзя осуждать, потому что человек, подверженный в жизни серьезным опасностям, поневоле становится осмотрительным, но вместе с тем трудно осуждать и тех мужчин, которые, не видя в современных женщинах энергии и решимости, навсегда отказываются от серьезных и прочных отношений с женщинами и пробавляются пустыми интригами и легкими победами. Если бы Базаров имел дело с Асею, или с Натальею (в «Рудине»), или с Верою (в «Фаусте»), то он бы, конечно, не отступил в решительную минуту, но дело в том, что женщины, подобные Асе, Наталье и Вере, увлекаются сладкоречивыми фразерами, а пред сильными людьми, вроде Базарова, чувствуют только робость, близкую к антипатии. Таких женщин надо приласкать, а Базаров никого ласкать не умеет. Повторяю, в настоящее время нет женщин, способных серьезно ответить на серьезное чувство Базарова, и пока женщина будет находиться в теперешнем зависимом положении, пока за каждым ее шагом будут наблюдать и она сама, и нежные родители, и заботливые родственники, и то, что называется общественным мнением, до тех пор Базаровы будут жить и умирать бобылями, до тех пор согревающая нежная любовь умной и развитой женщины будет им известна только по слухам да по романам. Базаров не дает женщине никаких гарантий; он доставляет ей только своею особою непосредственное наслаждение, в том случае, если его особа нравится; но в настоящее время женщина не может отдаваться непосредственному наслаждению, потому что за этим наслаждением всегда выдвигается грозный вопрос: а что же потом? Любовь без гарантий и условий не употребительна, а любви с гарантиями и условиями Базаров не понимает. Любовь так любовь, думает он, торг так торг, «а смешивать эти два ремесла», по его мнению, неудобно и неприятно. К сожалению, я должен заметить, что безнравственные и пагубные убеждения Базарова находят себе во многих хороших людях сознательное сочувствие.
IX
Рассмотрю теперь три обстоятельства в романе Тургенева: 1) отношение Базарова к простому народу, 2) ухаживание Базарова за Фенечкою и 3) дуэль Базарова с Павлом Петровичем.
В отношениях Базарова к простому народу надо заметить прежде всего отсутствие всякой вычурности и всякой сладости. Народу это нравится, и потому Базарова любит прислуга, любят ребятишки, несмотря на то, что он с ними вовсе не миндальничает и не задаривает их ни деньгами, ни пряниками. Заметив в одном месте, что Базарова любят простые люди, Тургенев говорит в другом месте, что мужики смотрят на него как на шута горохового. Эти два показания нисколько не противоречат друг другу. Базаров держит себя с мужиками просто, не обнаруживает ни барства, ни приторного желания подделаться под их говор и поучить их уму-разуму, и потому мужики, говоря с ним, не робеют и не стесняются, но, с другой стороны, Базаров и по обращению, и по языку, и по понятиям совершенно расходится как с ними, так и с теми помещиками, которых мужики привыкли видеть и слушать. Они смотрят на него как на странное, исключительное явление, ни то ни се, и будут смотреть таким образом на господ, подобных Базарову, до тех пор, пока их не разведется больше и пока к ним не успеют приглядеться. У мужиков лежит сердце к Базарову, потому что они видят в нем простого и умного человека, но в то же время этот человек для них чужой, потому что он не знает их быта, их потребностей, их надежд и опасений, их понятий, верований и предрассудков.
После своего неудавшегося романа с Одинцовою Базаров снова приезжает в деревню к Кирсановым и начинает заигрывать с Фенечкою, любовницею Николая Петровича. Фенечка ему нравится как пухленькая, молоденькая женщина; он ей нравится как добрый, простой и веселый человек. В одно прекрасное июльское утро он успевает напечатлеть на ее свежие губки полновесный поцелуй; она слабо сопротивляется, так что ему удается «возобновить и продлить свой поцелуй». На этом месте его любовное похождение обрывается; ему, как видно, вообще не везло в то лето, так что ни одна интрига не доводилась до счастливого окончания, хотя все они начинались при самых благоприятных предзнаменованиях.
Вслед за тем Базаров уезжает из деревни Кирсановых, и Тургенев напутствует его следующими словами: «Ему и в голову не пришло, что он в этом доме нарушил все права гостеприимства».
Увидавши, что Базаров поцеловал Фенечку, Павел Петрович, давно уже питавший ненависть к «лекаришке» и нигилисту и, кроме того, неравнодушный к Фенечке, которая почему-то напоминает ему прежнюю любимую женщину, вызывает нашего героя на дуэль. Базаров стреляется с ним, ранит его в ногу, потом сам перевязывает ему рану и на другой день уезжает, видя, что ему после этой истории неудобно оставаться в доме Кирсановых. Дуэль, по понятиям Базарова, нелепость. Спрашивается, хорошо ли поступил Базаров, принявши вызов Павла Петровича? Этот вопрос сводится на другой, более общий вопрос: позволительно ли вообще в жизни отступать от своих теоретических убеждений? Насчет понятия убеждение господствуют различные мнения, которые можно свести к двум главным оттенкам. Идеалисты и фанатики готовы всё сломать перед своим убеждением – и чужую личность, и свои интересы, и часто даже непреложные факты и законы жизни. Они кричат об убеждениях, не анализируя этого понятия, а потому решительно не хотят и не умеют взять в толк, что человек всегда дороже мозгового вывода, в силу простой математической аксиомы, говорящей нам, что целое всегда больше части. Идеалисты и фанатики скажут таким образом, что отступать в жизни от теоретических убеждений – всегда позорно и преступно. Это не помешает многим идеалистам и фанатикам при случае струсить и попятиться, а потом упрекать себя в практической несостоятельности и заниматься угрызениями совести. Есть другие люди, которые не скрывают от себя того, что им иногда приходится делать нелепости, а даже вовсе не желают обратить свою жизнь в логическую выкладку. К числу таких людей принадлежит Базаров. Он говорит себе: «Я знаю, что дуэль – нелепость, но в данную минуту я вижу, что мне от нее отказаться решительно неудобно. По-моему, лучше сделать нелепость, чем, оставаясь благоразумным до последней степени, получить удар от руки или от трости Павла Петровича». Стоик Эпиктет, конечно, поступил бы иначе и даже решился бы с особенным удовольствием пострадать за свои убеждения, но Базаров слишком умен, чтобы быть идеалистом вообще и стоиком в особенности. Когда он размышляет, тогда дает своему мозгу полную свободу и не старается прийти к заранее назначенным выводам; когда он хочет действовать, тогда он по своему благоусмотрению применяет или не применяет свой логический вывод, пускает его в ход или оставляет его под спудом. Дело в том, что мысль наша свободна, а действия наши происходят во времени и в пространстве; между верною мыслью и благоразумным поступком такая же разница, как между математическим и физическим маятником. Базаров знает это и потому в своих поступках руководствуется практическим смыслом, сметкою и навыком, а не теоретическими соображениями.
X
В конце романа Базаров умирает; его смерть – случайность; он умирает от хирургического отравления, то есть от небольшого пореза, сделанного во время рассечения трупа. Это событие не находится в связи с общею нитью романа; оно не вытекает из предыдущих событий, но оно необходимо для художника, чтобы дорисовать характер своего героя. Действие романа происходит летом 1859 года; в течение 1860 и 1861 года Базаров не мог бы сделать ничего такого, что бы показало нам приложение его миросозерцания в жизни; он бы по-прежнему резал лягушек, возился бы с микроскопом и, насмехаясь над различными проявлениями романтизма, пользовался бы благами жизни по мере сил и возможности. Все это были бы только задатки; судить о том, что разовьется из этих задатков, можно будет только тогда, когда Базарову и его сверстникам минет лет пятьдесят и когда им на смену выдвинется новое поколение, которое в свою очередь отнесется критически к своим предшественникам. Такие люди, как Базаров, не определяются вполне одним эпизодом, выхваченным из их жизни. Такого рода эпизод дает нам только смутное понятие о том, что в этих людях таятся колоссальные силы. В чем выразятся эти силы? На этот вопрос может отвечать только биография этих людей или история их народа, а биография, как известно, пишется после смерти деятеля, точно так же, как история пишется тогда, когда событие уже совершилось. Из Базаровых, при известных обстоятельствах, вырабатываются великие исторические деятели; такие люди долго остаются молодыми; сильными и годными на всякую работу; они не вдаются в односторонность, не привязываются к теории, не прирастают к специальным занятиям; они всегда готовы променять одну сферу деятельности на другую, более широкую и более занимательную; они всегда готовы выйти из ученого кабинета и лаборатории; это не труженики; углубляясь в тщательные исследования специальных вопросов науки, эти люди никогда не теряют из виду того великого мира, который вмещает в себя их лабораторию и их самих, со всею их наукою и со всеми их инструментами и аппаратами; когда жизнь серьезно шевельнет их мозговые нервы, тогда они бросят микроскоп и скальпель, тогда они оставят недописанным какое-нибудь ученейшее исследование о костях или перепонках. Базаров никогда не сделается фанатиком, жрецом науки, никогда не возведет ее в кумир, никогда не обречет своей жизни на ее служение; постоянно сохраняя скептическое отношение к самой науке, он не даст ей приобрести самостоятельное значение; он будет ею заниматься или для того, чтобы дать работу своему мозгу, или для того, чтобы выжать из нее непосредственную пользу для себя и для других. Медициною он будет заниматься отчасти для препровождения времени, отчасти как хлебным и полезным ремеслом. Если представится другое занятие, более интересное, более хлебное, более полезное, – он оставит медицину, точно так же как Вениамин Франклин оставил типографский станок. Базаров – человек жизни, человек дела, но возьмется он за дело только тогда, когда увидит возможность действовать не машинально. Его не подкупят обманчивые формы; внешние усовершенствования не победят его упорного скептицизма; он не примет случайной оттепели за наступление весны и проведет всю жизнь в своей лаборатории, если в сознании нашего общества не произойдет существенных изменений. Если же в сознании, а следовательно, и в жизни общества произойдут желаемые изменения, тогда люди, подобные Базарову, окажутся готовыми, потому что постоянный труд мысли не даст им залениться, залежаться и заржаветь, а постоянно бодрствующий скептицизм не позволит им сделаться фанатиками специальности или вялыми последователями односторонней доктрины. Кто решится отгадывать будущее и бросать на ветер гипотезы? Кто решится дорисовывать такой тип, который только что начинает складываться и обозначаться и который может быть дорисован только временем и событиями? Не имея возможности показать нам, как живет и действует Базаров, Тургенев показал нам, как он умирает. Этого на первый раз довольно, чтобы составить себе понятие о силах Базарова, о тех силах, которых полное развитие могло обозначиться только жизнью, борьбою, действиями и результатами. Что Базаров не фразер – это увидит всякий, вглядываясь в эту личность с первой минуты ее появления в романе. Что отрицание и скептицизм этого человека сознаны и прочувствованы, а не надеты для прихоти и для пущей важности, – в этом убеждает каждого беспристрастного читателя непосредственное ощущение. В Базарове есть сила, самостоятельность, энергия, которой не бывает у фразеров и подражателей. Но если бы кто-нибудь захотел не заметить и не почувствовать в нем присутствие этой силы, если бы кто-нибудь захотел подвергнуть ее сомнению, то единственным фактом, торжественно и безапелляционно опровергающим это нелепое сомнение, была бы смерть Базарова. Влияние его на окружающих людей ничего не доказывает; ведь и Рудин имел влияние; на безрыбье и рак рыба; и на людей, подобных Аркадию, Николаю Петровичу, Василию Ивановичу и Арине Власьевне, больно нетрудно произвести сильное впечатление. Но смотреть в глаза смерти, предвидеть ее приближение, не стараясь себя обмануть, оставаться верным себе до последней минуты, не ослабеть и не струсить – это дело сильного характера. Умереть так, как умер Базаров, – все равно что сделать великий подвиг; этот подвиг остается без последствий, но та доза энергии, которая тратится на подвиг, на блестящее и полезное дело, истрачена здесь на простой и неизбежный физиологический процесс. Оттого, что Базаров умер твердо и спокойно, никто не почувствовал себе ни облегчения, ни пользы, но такой человек, который умеет умирать спокойно и твердо, не отступит перед препятствием и не струсит перед опасностью.Описание смерти Базарова составляет лучшее место в романе Тургенева; я сомневаюсь даже, чтобы во всех произведениях нашего художника нашлось что-нибудь более замечательное. Выписывать какой-нибудь отрывок из этого великолепного эпизода я считаю невозможным; это значило бы уродовать цельность впечатления; по-настоящему следовало бы выписать целых десять страниц, но место не позволяет мне этого сделать; кроме того, я надеюсь, что все мои читатели прочли или прочтут роман Тургенева, и потому, не извлекая из него ни одной строки, я постараюсь только проследить и объяснить с начала до конца болезни психическое состояние Базарова. Обрезав себе палец при рассечении трупа и не имевши возможности тотчас прижечь ранку ляписом или железом, Базаров через четыре часа после этого события приходит к отцу и прижигает себе больное место, не скрывая ни от себя, ни от Василия Ивановича бесполезности этой меры в том случае, если гной разлагающегося трупа проник в ранку и смешался с кровью. Василий Иванович, как медик, знает, как велика опасность, но не решается взглянуть ей в глаза и старается обмануть самого себя. Проходит два дня. Базаров крепится, не ложится в постель, но чувствует жар и озноб, теряет аппетит и страдает сильною головною болью. Участие и расспросы отца раздражают его, потому что он знает, что все это не поможет и что старик только самого себя лелеет и тешит пустыми иллюзиями. Ему досадно видеть, что мужчина, и притом медик, не смеет видеть дело в настоящем свете. Арину Власьевну Базаров бережет; он говорит ей, что простудился; на третий день ложится в постель и просит прислать ему липового чаю. На четвертый день он обращается к отцу, прямо и серьезно говорит ему, что скоро умрет, показывает ему красные пятна, выступившие на теле и служащие признаком заражения, называет ему медицинским термином свою болезнь и холодно опровергает робкие возражения растерявшегося старика. А между тем ему хочется жить, жаль прощаться с самосознанием, с своею мыслью, с своею сильною личностью, но эта боль расставания с молодою жизнью и с неизношенными силами выражается не в мягкой грусти, а в желчной, иронической досаде, в презрительном отношении к себе, как к бессильному существу, и к той грубой, нелепой случайности, которая смяла и задавила его. Нигилист остается верен себе до последней минуты.
Как медик, он видел, что люди зараженные всегда умирают, и он не сомневается в непреложности этого закона, несмотря на то, что этот закон осуждает его на смерть. Точно так же он в критическую минуту не меняет своего мрачного миросозерцания на другое, более отрадное; как медик и как человек, он не утешает себя миражами.
Образ единственного существа, возбудившего в Базарове сильное чувство и внушившего ему уважение, приходит ему на ум в то время, когда он собирается прощаться с жизнью. Этот образ, вероятно, и раньше носился перед его воображением, потому что насильственно сдавленное чувство еще не успело умереть, но тут, прощаясь с жизнью и чувствуя приближение бреда, он просит Василия Ивановича послать нарочного к Анне Сергеевне и объявить ей, что Базаров умирает и приказал ей кланяться. Надеялся ли он увидеть ее перед смертью или просто хотел ей дать весть о себе, – это невозможно решить; может быть, ему было приятно, произнося при другом человеке имя любимой женщины, живее представить себе ее красивое лицо, ее спокойные, умные глаза, ее молодое, роскошное тело. Он любит только одно существо в мире, и те нежные мотивы чувства, которые он давил в себе, как романтизм, теперь всплывают на поверхность; это не признак слабости, это – естественное проявление чувства, высвободившегося из-под гнета рассудочности. Базаров не изменяет себе; приближение смерти не перерождает его; напротив, он становится естественнее, человечнее, непринужденнее, чем он был в полном здоровье. Молодая, красивая женщина часто бывает привлекательнее в простой утренней блузе, чем в богатом бальном платье. Так точно умирающий Базаров, распустивший свою натуру, давший себе полную волю, возбуждает больше сочувствия, чем тот же Базаров, когда он холодным рассудком контролирует каждое свое движение и постоянно ловит себя на романтических поползновениях.
Если человек, ослабляя контроль над самим собою, становится лучше и человечнее, то это служит энергическим доказательством цельности, полноты и естественного богатства натуры. Рассудочность Базарова была в нем простительною и понятною крайностью; эта крайность, заставлявшая его мудрить над собою и ломать себя, исчезла бы от действия времени и жизни; она исчезла точно так же во время приближения смерти. Он сделался человеком, вместо того чтобы быть воплощением теории нигилизма, и, как человек, он выразил желание видеть любимую женщину.
Анна Сергеевна приезжает, Базаров говорит с нею ласково и спокойно, не скрывая легкого оттенка грусти, любуется ею, просит у нее последнего поцелуя, закрывает глаза и впадает в беспамятство.
К родителям своим он остается по-прежнему равнодушен и не дает себе труда притворяться. О матери он говорит: «Мать бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом?» Василию Ивановичу он предобродушно советует быть философом.
Следить за нитью романа после смерти Базарова я не намерен. Когда умер такой человек, как Базаров, и когда его геройскою смертью решена такая важная психологическая задача, произнесен приговор над целым направлением идей, тогда стоит ли следить за судьбою людей, подобных Аркадию, Николаю Петровичу, Ситникову et tutti guanti?..[50] Постараюсь сказать несколько слов об отношениях Тургенева к новому, созданному им типу.
XI
Приступая к сооружению характера Инсарова, Тургенев во что бы то ни стало хотел представить его великим и вместо того сделал его смешным. Создавая Базарова, Тургенев хотел разбить его в прах и вместо того отдал ему полную дань справедливого уважения. Он хотел сказать: наше молодое поколение идет по ложной дороге, и сказал: в нашем молодом поколении вся наша надежда. Тургенев не диалектик, не софист, он не может доказывать своими образами предвзятую идею, как бы эта идея ни казалась ему отвлеченно верна или практически полезна. Он прежде всего художник, человек бессознательно, невольно искренний; его образы живут своею жизнью; он любит их, он увлекается ими, он привязывается к ним во время процесса творчества, и ему становится невозможным помыкать ими по своей прихоти и превращать картину жизни в аллегорию с нравственною целью и с добродетельною развязкою. Честная, чистая натура художника берет свое, ломает теоретические загородки, торжествует над заблуждениями ума и своими инстинктами выкупает все – и неверность основной идеи, и односторонность развития, и устарелость понятий. Вглядываясь в своего Базарова, Тургенев, как человек и как художник, растет в своем романе, растет на наших глазах и дорастает до правильного понимания, до справедливой оценки созданного типа.
С недобрым чувством начал Тургенев свое последнее произведение. С первого разу он показал нам в Базарове угловатое обращение, педантическую самонадеянность, черствую рассудочность; с Аркадием он держит себя деспотически-небрежно, к Николаю Петровичу относится без нужды насмешливо, и все сочувствие художника лежит на стороне тех людей, которых обижают, тех безобидных стариков, которым велят глотать пилюлю, говоря о них, что они отставные люди. И вот художник начинает искать в нигилисте и беспощадном отрицателе слабого места; он ставит его в разные положения, вертит его на все стороны и находит против него только одно обвинение – обвинение в черствости и резкости. Всматривается он в это темное пятно; возникает в его голове вопрос: а кого же станет любить этот человек? В ком найдет удовлетворение своим потребностям? Кто его поймет насквозь и не испугается его корявой оболочки? Подводит он к своему герою умную женщину; женщина эта смотрит с любопытством на эту своеобразную личность; нигилист, с своей стороны, вглядывается в нее с возрастающим сочувствием и потом, увидав что-то похожее на нежность, на ласку, кидается к ней с нерассчитанною порывистостью молодого, горячего, любящего существа, готового отдаться вполне, без торгу, без утайки, без задней мысли. Так не кидаются люди холодные, так не любят черствые педанты. Беспощадный отрицатель оказывается моложе и свежее той молодой женщины, с которою он имеет дело; в нем накипела и вырвалась бешеная страсть в то время, когда в ней только что начинало бродить что-то вроде чувства; он бросился, перепугал ее, сбил ее с толку и вдруг отрезвил ее; она отшатнулась назад и сказала себе, что спокойствие все-таки лучше всего. С этой минуты все сочувствие автора переходит на сторону Базарова, и только кой-какие рассудочные замечания, которые не вяжутся с целым, напоминают прежнее недоброе чувство Тургенева.
Автор видит, что Базарову некого любить, потому что вокруг него все мелко, плоско и дрябло, а сам он свеж, умен и крепок; автор видит это и в угле своем снимает с своего героя последний незаслуженный упрек. Изучив характер Базарова, вдумавшись в его элементы и в условия развития, Тургенев видит, что для него нет ни деятельности, ни счастья. Он живет бобылем и умрет бобылем, и притом бесполезным бобылем, умрет как богатырь, которому негде повернуться, нечем дышать, некуда девать исполинской силы, некого полюбить крепкою любовью. А незачем ему жить, так надо посмотреть, как он будет умирать. Весь интерес, весь смысл романа заключается в смерти Базарова. Если бы он струсил, если бы он изменил себе, – весь характер его осветился бы иначе: явился бы пустой хвастун, от которого нельзя ожидать в случае нужды ни стойкости, ни решимости; весь роман оказался бы клеветою на молодое поколение, незаслуженным укором; этим романом Тургенев сказал бы: вот посмотрите, молодые люди, вот случай: умнейший из вас – и тот никуда не годится! Но у Тургенева, как у честного человека и искреннего художника, язык не повернулся произнести теперь такую печальную ложь. Базаров не оплошал, и смысл романа вышел такой: теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности, но в самых увлечениях сказываются свежая сила и неподкупный ум; эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их в жизни.
Кто прочел в романе Тургенева эту прекрасную мысль, тот не может не изъявить ему глубокой и горячей признательности, как великому художнику и честному гражданину России.
А Базаровым все-таки плохо жить на свете, хоть они припевают и посвистывают. Нет деятельности, нет любви, – стало быть, нет и наслаждения.
Страдать они не умеют, ныть не станут, а подчас чувствуют только, что пусто, скучно, бесцветно и бессмысленно.
А что же делать? Ведь не заражать же себя умышленно, чтобы иметь удовольствие умирать красиво и спокойно? Нет! Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсинных деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры.
1862 г. Март
Н. Н. Страхов (1828—1896)
Родился в Белгороде в семье протоиерея, магистра богословия. Учился в Костромской семинарии, затем в Петербургском университете и Главном педагогическом институте по естественно-математическому разряду. Свои естественно-научные знания отразил в цикле статей «Физиологические письма», заинтересовавших А. А. Григорьева, что положило начало дружбы с ним. В конце 50-х годов сблизился с Ф. М. Достоевским и был приглашен сотрудничать в журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха».
Страхов не только критик почвеннического направления (как и А. А. Григорьев), но и самобытный философ, противник материализма, автор философского труда «Мир как целое», в котором утверждается целостный, религиозный взгляд на мироздание.
И. С. Тургенев. Отцы и дети Русский вестник, 1862 г., № 2
Чувствую заранее (да это, вероятно, чувствуют и все, кто у нас нынче пишет), что читатель всего больше будет искать в моей статье поучения, наставления, проповеди. Таково настоящее положение, таково наше душевное настроение, что нас мало интересуют какие-нибудь холодные рассуждения, сухие, строгие анализы, спокойная деятельность мысли и творчества. Чтобы занять и расшевелить нас, нужно нечто более едкое, более острое и режущее. Мы чувствуем некоторое удовлетворение только тогда, когда хоть ненадолго в нас вспыхивает нравственный энтузиазм или закипает негодование и презрение к господствующему злу. Чтобы нас затронуть и поразить, нужно заставить заговорить нашу совесть, нужно коснуться до самых глубоких изгибов нашей души. Иначе мы останемся холодны и равнодушны, как бы ни были велики чудеса ума и таланта. Живее всех других потребностей говорит в нас потребность нравственного обновления и потому потребность обличения, потребность бичевания собственной плоти. К каждому, владеющему словом, мы готовы обратиться с тою речью, которую некогда слышал поэт:
Мы малодушны, мы коварны, Бесстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы, глупцы; Гнездятся клубом в нас пороки... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Давай нам смелые уроки!Чтобы убедиться во всей силе этого запроса на проповедь, чтобы видеть, как ясно чувствовалась и выражалась эта потребность, достаточно вспомнить хотя немногие факты. Пушкин, как мы сейчас заметили, слышал это требование. Оно поразило его странным недоумением. «Таинственный певец», как он сам называл себя, то есть певец, для которого была загадкою его собственная судьба, поэт, чувствовавший, что «ему нет отзыва», он встретил требование проповеди как что-то непонятное и никак не мог отнестись к нему определенно и правильно. Много раз он обращался своими думами к этому загадочному явлению. Отсюда вышли его полемические стихотворения, несколько неправильные и, так сказать, фальшивящие в поэтическом отношении (большая редкость у Пушкина!), например Чернь, или
Не дорого ценю я громкие права.Отсюда произошло то, что поэт воспевал «мечты невольные», «свободный ум» и приходил иногда к энергическому требованию свободы для себя, как для поэта:
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи Вот счастье, вот права!..Отсюда, наконец, та жалоба, которая так грустно звучит в стихотворениях «Поэту», «Памятник», и то негодование, с которым он писал:
Подите прочь! Какое дело Поэту мирному до вас? В разврате каменейте смело, Не оживит вас лиры глас.Пушкин умер среди этого разлада, и, может быть, этот разлад немало участвовал в его смерти.
Вспомним потом, что Гоголь не только слышал требование проповеди, но и сам уже был заражен энтузиазмом проповедования. Он решился выступить прямо, открыто, как проповедник в своей «Переписке с друзьями». Когда же он увидел, как страшно ошибся и в тоне и в тексте своей проповеди, он уже ни в чем не мог найти спасения. У него пропал и творческий талант, исчезло мужество и доверие к себе, и он погиб, как будто убитый неудачею в том, что считал главным делом своей жизни.
В то же самое время Белинский находил свою силу в пламенном негодовании на окружающую жизнь. Под конец он стал с некоторым презрением смотреть на свое призвание критика; он уверял, что рожден публицистом. Справедливо замечают, что в последние годы его критика вдалась в односторонность и потеряла чуткость, которою отличалась прежде. И здесь потребность проповеди помешала спокойному развитию сил.
Как бы то ни было, но только требование урока и поучения как нельзя яснее обнаружилось у нас при появлении нового романа Тургенева. К нему вдруг приступили с лихорадочными и настоятельными вопросами: кого он хвалит, кого осуждает, кто у него образец для подражания, кто предмет презрения и негодования, какой это роман – прогрессивный или ретроградный?
И вот на эту тему поднялись бесчисленные толки. Дело дошло до мелочей, до самых тонких подробностей. Базаров пьет шампанское! Базаров играет в карты! Базаров небрежно одевается! Что это значит, спрашивают в недоумении. Должно это, или не должно? Каждый решил по-своему, но всякий считал необходимым вывести нравоучение и подписать его под загадочною баснею. Решения, однако же, вышли совершенно разногласные. Одни нашли, что «Отцы и дети» есть сатира на молодое поколение, что все симпатии автора на стороне отцов. Другие говорят, что осмеяны и опозорены в романе отцы, а молодое поколение, напротив, превознесено. Одни находят, что Базаров сам виноват в своих несчастных отношениях к людям, с которыми он встретился; другие утверждают, что, напротив, эти люди виноваты в том, что Базарову так трудно жить на свете.
Таким образом, если свести все эти разноречивые мнения, то должно прийти к заключению, что в басне или вовсе нет нравоучения, или же, что нравоучение не так легко найти, что оно находится совсем не там, где его ищут. Несмотря на то, роман читается с жадностью и возбуждает такой интерес, какого, смело можно сказать, не возбуждало еще ни одно произведение Тургенева. Вот любопытное явление, которое стоит полного внимания. Роман, по-видимому, явился не вовремя; он как будто не соответствует потребностям общества; он не дает ему того, чего оно ищет. А между тем он производит сильнейшее впечатление. Г. Тургенев во всяком случае может быть доволен. Его таинственная цель вполне достигнута. Но мы должны отдать себе отчет в смысле его произведения.
Если роман Тургенева повергает читателей в недоумение, то это происходит по очень простой причине: он приводит к сознанию то, что еще не было замечено. Главный герой романа есть Базаров; он и составляет теперь яблоко раздора. Базаров есть лицо новое, которого резкие черты мы увидели в первый раз; понятно, что мы задумываемся над ним. Если бы автор вывел нам опять помещиков прежнего времени или другие лица, давно уже нам знакомые, то, конечно, он не подал бы нам никакого повода к изумлению, и все бы дивились разве только верности и мастерству его изображения. Но в настоящем случае дело имеет другой вид. Постоянно слышатся даже вопросы: да где же существуют Базаровы? Кто видел Базаровых? Кто из нас Базаров? Наконец, есть ли действительно такие люди, как Базаров?
Разумеется, лучшее доказательство действительности Базарова есть самый роман; Базаров в нем так верен самому себе, так полон, так щедро снабжен плотью и кровью, что назвать его сочиненным человеком нет никакой возможности. Но он не есть ходячий тип, всем знакомый и только схваченный художником и выставленный им «на всенародные очи». Базаров во всяком случае есть лицо созданное, а не только воспроизведенное, предугаданное, а не только разоблаченное. Так это должно было быть по самой задаче, которая возбуждала творчество художника. Тургенев, как уже давно известно, есть писатель, усердно следящий за движением русской мысли и русской жизни. Он заинтересован этим движением необыкновенно сильно; не только в «Отцах и детях», но и во всех прежних своих произведениях он постоянно схватывал и изображал отношения между отцами и детьми. Последняя мысль, последняя волна жизни – вот что всего более приковывало его внимание. Он представляет образец писателя, одаренного совершенной подвижностью и вместе глубокою чуткостью, глубокою любовью к современной ему жизни.
Таков он и в своем новом романе. Если мы не знаем полных Базаровых в действительности, то, однако же, все мы встречаем много базаровских черт, всем знакомы люди, то с одной, то с другой стороны напоминающие Базарова. Если никто не проповедует всей системы мнений Базарова, то, однако же, все слышали те же мысли поодиночке, отрывочно, несвязно, нескладно. Эти бродячие элементы, эти неразвившиеся зародыши, недоконченные формы, несложившиеся мнения Тургенев воплотил цельно, полно, стройно в Базарове.
Отсюда происходит и глубокая занимательность романа, и то недоумение, которое он производит. Базаровы наполовину, Базаровы на одну четверть, Базаровы на одну сотую долю – не узнают себя в романе. Но это их горе, а не горе Тургенева. Гораздо лучше быть полным Базаровым, чем быть его уродливым и неполным подобием. Противники же базаровщины радуются, думая, что Тургенев умышленно исказил дело, что он написал карикатуру на молодое поколение: они не замечают, как много величия кладет на Базарова глубина его жизни, его законченность, его непреклонная и последовательная своеобразность, принимаемая ими за безобразие.
Напрасные обвинения! Тургенев остался верен своему художническому дару: он не выдумывает, а создает, не искажает, а только освещает свои фигуры.
Подойдем к делу ближе. Система убеждений, круг мыслей, которых представителем является Базаров, более или менее ясно выражались в нашей литературе. Главными их выразителями были два журнала: «Современник» и «Русское слово», недавно заявившее их с особенною резкостью. Трудно сомневаться, что отсюда, из этих чисто теоретических и отвлеченных проявлений известного образа мыслей взят Тургеневым склад ума, воплощенный им в Базарове. Тургенев взял известный взгляд на вещи, имевший притязания на господство, на первенство в нашем умственном движении; он последовательно и стройно развил этот взгляд до его крайних выводов, и – так как дело художника не мысль, а жизнь – он воплотил его в живые формы. Он дал плоть и кровь тому, что явно уже существовало в виде мысли и убеждения. Он придал наружное проявление тому, что уже существовало как внутреннее основание.
Отсюда, конечно, должно объяснить упрек, сделанный Тургеневу, что он изобразил в Базарове не одного из представителей молодого поколения, а скорее, главу кружка, порождение нашей оторванной от жизни литературы.
Упрек был бы справедлив, если бы мы не знали, что мысль, рано или поздно, в большей или меньшей степени, но непременно переходит в жизнь, в дело. Если базаровское направление имело силу, имело поклонников и проповедников, то оно непременно должно было порождать Базаровых. Так что остается только один вопрос: верно ли схвачено базаровское направление?
В этом отношении для нас существенно важны отзывы тех самых журналов, которые прямо заинтересованы в деле, именно «Современника» и «Русского слова». Из этих отзывов должно вполне обнаружиться, насколько верно Тургенев понял их дух. Довольны ли они или недовольны, поняли Базарова или не поняли, – каждая черта здесь характеристична.
Оба журнала поспешили отозваться большими статьями. В мартовской книжке «Русского слова» явилась статья г. Писарева, а в мартовской книжке «Современника» – статья г. Антоновича. Оказывается, что «Современник» весьма недоволен романом Тургенева. Он думает, что роман написан в укор и поучение молодому поколению, что он представляет клевету на молодое поколение и может быть поставлен наряду с «Асмодеем нашего времени», соч. Аскоченского.
Совершенно очевидно, что «Современник» желает убить г. Тургенева во мнении читателей, убить наповал, без всякой жалости. Это было бы очень страшно, если бы только так легко было это сделать, как воображает «Современник». Не успела выйти в свет его грозная книжка, как явилась статья г. Писарева, составляющая столь радикальное противоядие злобным намерениям «Современника», что лучше ничего не остается желать. «Современник» рассчитывал, что поверят на слово в этом деле. Ну, может быть, найдутся такие, что и усумнятся. Если бы мы стали защищать Тургенева, нас тоже, может быть, заподозрили бы в задних мыслях. Но кто усумнится в г. Писареве? Кто ему не поверит?
Если чем известен г. Писарев в нашей литературе, так именно прямотою и откровенностью своего изложения. Г. Писарев никогда не лукавит с читателями; он договаривает свою мысль до конца. Благодаря этому драгоценному свойству роман Тургенева получил блистательнейшее подтверждение, какого только можно было ожидать.
Г. Писарев, человек молодого поколения, свидетельствует о том, что Базаров есть действительный тип этого поколения и что он изображен совершенно верно. «Все наше поколение, – говорит г. Писарев, – со своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих лицах этого романа». «Базаров – представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппированы те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах, и образ этого человека ярко и отчетливо вырисовывается перед воображением читателей». «Тургенев вдумался в тип Базарова и понял его так верно, как не поймет ни один из молодых реалистов». «Он не покривил душою в своем последнем произведении». «Общие отношения Тургенева к тем явлениям жизни, которые составляют канву его романа, так спокойны и беспристрастны, так свободны от поклонения той или другой теории, что сам Базаров не нашел бы в этих отношениях ничего робкого или фальшивого». Тургенев есть «искренний художник, не уродующий действительность, а изображающий ее, как она есть». Вследствие этой «честной, чистой натуры художника» «его образы живут своею жизнью; он любит их, увлекается ими, он привязывается к ним во время процесса творчества, и ему становится невозможным помыкать ими по своей прихоти и превращать картину жизни в аллегорию с нравственною целью и с добродетельною развязкою».
Все эти отзывы сопровождаются тонким разбором действий и мнений Базарова, показывающим, что критик понимает их и вполне им сочувствует. После этого понятно, к какому заключению должен был прийти г. Писарев как член молодого поколения.
«Тургенев, – пишет он, – оправдал Базарова и оценил его по достоинству. Базаров вышел у него из испытания чистым и крепким». «Смысл романа вышел такой: теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности; но в самых увлечениях сказываются свежая сила и неподкупный ум; эта сила и этот ум дают себя знать в минуту тяжелых испытаний; эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их в жизни.
Кто прочел в романе Тургенева эту прекрасную мысль, тот не может не изъявить ему глубокой и горячей признательности как великому художнику и честному гражданину России!»
Вот искреннее и неопровержимое свидетельство того, как верен поэтический инстинкт Тургенева; вот полное торжество всепокоряющей и всепримиряющей силы поэзии!
В подражание г. Писареву мы готовы воскликнуть: честь и слава художнику, который дождался такого отзыва от тех, кого он изображал.
Восторг г. Писарева вполне доказывает, что Базаровы существуют, если не в действительности, то в возможности, и что они поняты г. Тургеневым по крайней мере в той степени, в какой сами себя понимают. Для предотвращения недоразумений заметим, что совершенно неуместна придирчивость, с которою некоторые смотрят на роман Тургенева. Судя по его заглавию, они требуют, чтобы в нем было вполне изображено все старое и все новое поколение. Почему же так? Почему не удовольствоваться изображением некоторых отцов и некоторых детей? Если же Базаров есть действительно один из представителей молодого поколения, то другие представители должны необходимо находиться в родстве с этим представителем.
Доказав фактами, что Тургенев понимает Базаровых по крайней мере настолько, насколько они сами себя понимают, мы теперь пойдем дальше и покажем, что Тургенев понимает их гораздо лучше, чем они сами себя понимают. Тут нет ничего удивительного и необыкновенного: таково всегдашнее преимущество, неизменная привилегия поэтов. Поэты ведь – пророки, провидцы; они проникают в самую глубину вещей и открывают в них то, что оставалось скрытым для обыкновенных глаз. Базаров есть тип, идеал, явление, «возведенное в перл создания»; понятно, что он стоит выше действительных явлений базаровщины. Наши Базаровы – только Базаровы отчасти, тогда как Базаров Тургенева есть Базаров по превосходству, по преимуществу. И следовательно, когда о нем станут судить те, которые не доросли до него, они во многих случаях не поймут его.
Наши критики, даже и г. Писарев, недовольны Базаровым. Люди отрицательного направления не могут помириться с тем, что Базаров в отрицании дошел до конца. В самом деле, они недовольны героем за то, что он отрицает 1) изящество жизни, 2) эстетическое наслаждение, 3) науку. Разберем эти три отрицания подробнее; таким образом нам уяснится сам Базаров.
Фигура Базарова имеет в себе нечто мрачное и резкое. В его наружности нет ничего мягкого и красивого; его лицо имело другую, не внешнюю красоту: «оно оживлялось спокойною улыбкою и выражало самоуверенность и ум». Он мало заботится о своей наружности и одевается небрежно. Точно так же в своем обращении он не любит никаких излишних вежливостей, пустых, не имеющих значения форм, внешнего лаку, который ничего не покрывает. Базаров прост в высшей степени, и от этого, между прочим, зависит та легкость, с которою он сходится с людьми, начиная от дворовых мальчишек и до Анны Сергеевны Одинцовой. Так определяет Базарова сам юный друг его Аркадий Кирсанов:
«Ты с ним пожалуйста не церемонься, – говорит он своему отцу, – он чудесный малый, такой простой, ты увидишь».
Чтобы резче выставить простоту Базарова, Тургенев противопоставил ей изысканность и щепетильность Павла Петровича. От начала до конца повести автор не забывает подсмеяться над его воротниками, духами, усами, ногтями и всеми другими признаками нежного ухаживания за собственною особой. Не менее юмористически изображено обращение Павла Петровича, его прикосновение усами вместо поцелуя, его ненужные деликатности и пр.
После этого очень странно, что почитатели Базарова недовольны его изображением в этом отношении. Они находят, что автор придал ему грубые манеры, что он выставил его неотесанным, дурно воспитанным, которого нельзя пустить в порядочную гостиную. Так выражается г. Писарев и на этом основании приписывает г. Тургеневу коварный умысел уронить и опошлить своего героя в глазах читателей. По мнению г. Писарева, Тургенев поступил весьма несправедливо; «можно быть крайним материалистом, полнейшим эмпириком и в то же время заботиться о своем туалете, обращаться утонченно-вежливо со своими знакомыми, быть любезным собеседником и совершенным джентльменом. Это я говорю, – прибавляет критик, – для тех читателей, которые, придавая важное значение утонченным манерам, с отвращением посмотрят на Базарова, как на человека mal eleve и mauvais ton. Он действительно mal eleve и mauvais ton, но это нисколько не относится к сущности типа...».
Рассуждения об изяществе манер и о тонкости обращения, как известно, предмет весьма затруднительный. Наш критик, как видно, большой знаток в этом деле, и потому мы не станем с ним тягаться. Это тем легче для нас, что мы вовсе не желаем иметь в виду читателей, которые придают важное значение утонченным манерам и заботам о туалете. Так как мы не сочувствуем этим читателям и мало знаем толку в этих вещах, то понятно, что Базаров нимало не возбуждает в нас отвращения и не кажется нам ни mal eleve, ни mauvais ton. С нами, кажется, согласны и все действующие лица романа. Простота обращения и фигуры Базарова возбуждают в них не отвращение, а скорее внушают к нему уважение; он радушно принят в гостиной Анны Сергеевны, где заседала даже какая-то плохенькая княжна.
Изящные манеры и хороший туалет, конечно, суть вещи хорошие, но мы сомневаемся, чтобы они были к лицу Базарову и шли к его характеру. Человек, глубоко преданный одному делу, предназначивший себя, как он сам говорит, для «жизни горькой, терпкой, бобыльной», он ни в каком случае не мог играть роль утонченного джентльмена, не мог быть собеседником. Он легко сходится с людьми; он живо заинтересовывает всех, кто его знает; но этот интерес заключается вовсе не в тонкости обращения.
Глубокий аскетизм проникает собою всю личность Базарова; это черта не случайная, а существенно необходимая. Характер этого аскетизма совершенно особенный, и в этом отношении должно строго держаться настоящей точки зрения, то есть той самой, с которой смотрит Тургенев. Базаров отрекается от благ этого мира, но он делает между этими благами строгое различие. Он охотно ест вкусные обеды и пьет шампанское; он не прочь даже поиграть в карты. Г. Антонович в «Современнике» видит здесь тоже коварный умысел Тургенева и уверяет нас, что поэт выставил своего героя обжорой, пьянчужкой и картежником. Дело, однако же, имеет совсем не такой вид. Базаров понимает, что простые или чисто телесные удовольствия гораздо законнее и простительнее наслаждений иного рода. Базаров понимает, что есть соблазны более гибельные, более растлевающие душу, чем, например, бутылка вина, и он бережется не того, что может погубить тело, а того, что погубляет душу. Наслаждение тщеславием, джентльменством, мысленный и сердечный разврат всякого рода для него гораздо противнее и ненавистнее, чем ягоды со сливками или пулька в преферанс. Вот от каких соблазнов он бережет себя; вот тот высший аскетизм, которому предан Базаров. За чувственными удовольствиями он не гоняется, он наслаждается ими только при случае; он так глубоко занят своими мыслями, что для него никогда не может быть затруднения отказаться от этих удовольствий; одним словом, он потому предается этим простым удовольствиям, что он всегда выше их, что они никогда не могут завладеть им. Зато тем упорнее и суровее он отказывается от таких наслаждений, которые могли бы стать выше его и завладеть его душою.
Вот откуда объясняется и то более разительное обстоятельство, что Базаров отрицает эстетические наслаждения, что он не хочет любоваться природою и не признает искусства. Обоих наших критиков это отрицание искусства привело в великое недоумение.
«Мы отрицаем, – пишет г. Антонович, – только ваше искусство, вашу поэзию, г. Тургенев; но не отрицаем и даже требуем другого искусства и поэзии, хоть такой поэзии, какую представил, например, Гёте». «Были люди, – замечает критик в другом месте, – которые изучали природу и наслаждались ею, понимали смысл ее явлений, знали движение волн и трав прозябанье, читали звездную книгу ясно, научно, без мечтательности, и были великими поэтами».
Г. Антонович, очевидно, не хочет приводить стихов, которые всем известны:
С природой одною он жизнью дышал. Ручья разумел лепетанье, И говоp древесных листов понимал, И чувствовал трав прозябанье; Была ему звездная книга ясна, И с ним говорила морская волна.Дело ясное: г. Антонович объявляет себя поклонником Гёте и утверждает, что молодое поколение признает поэзию великого старца. От него, говорит он, мы научились «высшему и разумному наслаждению природой». Вот неожиданный и, признаемся, весьма сомнительный факт! Давно ли же это «Современник» сделался поклонником тайного советника Гёте? «Современник» ведь очень много говорит о литературе; он особенно любит стишки. Чуть, бывало, появится сборник каких-нибудь стихотворений, уж на него непременно пишется разбор. Но чтобы он много толковал о Гёте, чтобы ставил его в образец, – этого, кажется, вовсе не бывало. «Современник» бранил Пушкина: вот это все помнят; но прославлять Гёте, – ему случается, кажется, в первый раз, если не поминать давно прошедших и забытых годов. Что же это значит? Разве уж очень понадобился?
Да и возможное ли дело, чтобы «Современник» восхищался Гёте, эгоистом Гёте, который служит вечною ссылкою для поклонников искусства для искусства, который представляет образец олимпийского безучастия к земным делам, который пережил революцию, покорение Германии и войну освобождения, не принимая в них сердечного участия, глядя на все события свысока!..
Не можем мы также думать, чтобы молодое поколение училось наслаждению природой или чему-нибудь другому у Гёте. Дело это известное; если молодое поколение читает поэтов, то уж никак не Гёте; вместо Гёте оно много-много читает Гейне, вместо Пушкина – Некрасова. Если г. Антонович столь неожиданно объявил себя приверженцем Гёте, то это еще не доказывает, что молодое поколение расположено упиваться гётевскою поэзией, что оно учится у Гёте наслаждаться природою.
Гораздо прямее и откровеннее излагает дело г. Писарев. Он также находит, что, отрицая искусство, Базаров завирается, отрицает вещи, которых не знает или не понимает. «Поэзия, – говорит критик, – по его мнению, ерунда; читать Пушкина – потерянное время; заниматься музыкою – смешно; наслаждаться природою – нелепо». Для опровержения таких заблуждений г. Писарев не прибегает к авторитетам, как сделал г. Антонович, но старается собственноручно объяснить нам законность эстетических наслаждений. Отвергать их, говорит он, нельзя: ведь это значило бы отвергать наслаждение «приятным раздражением зрительных и слуховых нервов». Ведь, например, «наслаждение музыкою есть чисто физическое ощущение». «Последовательные материалисты, вроде Карла Фохта, Молешотта и Бюхнера, не отказывают поденщику в чарке водки, а достаточным классам в употреблении наркотических веществ. Они смотрят снисходительно даже на нарушения должной меры, хотя признают подобные нарушения вредными для здоровья». «Отчего же, допуская употребление водки и наркотических веществ вообще, не допустить наслаждения природою»? И точно так, если можно пить водку, то отчего же нельзя читать Пушкина. Отсюда мы уже должны ясно видеть, что так как Базаров допускал питье водки и сам ее пил, то он поступает непоследовательно, смеясь над чтением Пушкина и над игрою на виолончели.
Очевидно, Базаров смотрит на вещи не так, как г. Писарев. Г. Писарев, по-видимому, признает искусство, а на самом деле он его отвергает, то есть не признает за ним его настоящего значения. Базаров прямо отрицает искусство, но отрицает его потому, что глубже понимает его. Очевидно, музыка для Базарова не есть чисто физическое занятие, и читать Пушкина не все равно, что пить водку. В этом отношении герой Тургенева несравненно выше своих последователей. В мелодии Шуберта и в стихах Пушкина он ясно слышит враждебное начало; он чует их всеувлекающую силу и потому вооружается против них.
В чем же состоит эта сила искусства, враждебная Базарову? Выражаясь как можно проще, можно сказать, что искусство есть нечто слишком сладкое, тогда как Базаров никаких сладостей не любит, а предпочитает им горькое. Выражаясь точнее, но несколько старым языком, можно сказать, что искусство всегда носит в себе элемент примирения, тогда как Базаров вовсе не желает примириться с жизнью. Искусство есть идеализм, созерцание, отрешение от жизни и поклонение идеалам; Базаров же реалист, не созерцатель, а деятель, признающий одни действительные явления и отрицающий идеалы.
<<...>> Вражда к искусству составляет важное явление и не есть мимолетное заблуждение; напротив, она глубоко коренится в духе настоящего времени. Искусство всегда было и всегда будет областью вечного: отсюда понятно, что жрецы искусства, как жрецы вечного, легко начинают презрительно смотреть на все временное; по крайней мере, они иногда считают себя правыми, когда предаются вечным интересам, не принимая никакого участия во временных. И, следовательно, те, которые дорожат временным, которые требуют сосредоточения всей деятельности на потребности настоящей минуты, на насущных делах, – необходимо должны стать во враждебное отношение к искусству.
Что значит, например, мелодия Шуберта? Попробуйте объяснить, какое дело делал художник, создавая эту мелодию, и какое дело делают те, кто ее слушает? Искусство, говорят иные, есть суррогат науки; оно косвенно способствует распространению сведений. Попробуйте же рассмотреть, какое знание или сведение содержится и распространяется в этой мелодии. Что-нибудь одно из двух: или тот, кто предается наслаждению музыки, занимается совершенными пустяками, физическим ощущением; или же его восторг относится к чему-то отвлеченному, общему, беспредельному и, однако же, живому и до конца овладевающему человеческой душою.
Восторг – вот зло, против которого идет Базаров и которого он не имеет причины опасаться от рюмки водки. Искусство имеет притязание и силу становиться гораздо выше приятного раздражения зрительных и слышательных нервов; вот этого-то притязания и этой власти не признает законными Базаров.
Как мы сказали, отрицание искусства есть одно из современных стремлений. Напрасно г. Антонович испугался Гёте или, по крайней мере, пугает им других: можно отрицать и Гёте. Недаром наш век называют антиэстетическим. Конечно, искусство непобедимо и содержит в себе неистощимую, вечно обновляющуюся силу; тем не менее веяние нового духа, которое обнаружилось в отрицании искусства, имеет, конечно, глубокое значение.
Оно особенно понятно для нас, русских. Базаров в этом случае представляет живое воплощение одной из сторон русского духа. Мы вообще мало расположены к изящному; мы для этого слишком трезвы, слишком практичны. Сплошь и рядом можно найти между нами людей, для которых стихи и музыка кажутся чем-то или приторным или ребяческим. Восторженность и высокопарность нам не по нутру; мы больше любим простоту, едкий юмор, насмешку. А на этот счет, как видно из романа, Базаров сам великий художник.
Пойдем далее. Базаров отрицает науку. На этот раз наши критики разделились. Г. Писарев вполне понимает и одобряет это отрицание, г. Антонович принимает его за клевету, взведенную Тургеневым на молодое поколение.
«Курс естественных и медицинских наук, прослушанный Базаровым, – говорит г. Писарев, – развил его природный ум и отучил его принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения; он сделался чистым эмпириком; опыт сделался для него единственным источником познавания, личное ощущение – единственным и последним убедительным доказательством. Я придерживаюсь отрицательного направления, – говорит он, – в силу ощущений. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения – это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу«. „Итак, – заключает критик, – ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя Базаров не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого (теоретического) принципа“.
Что касается до г. Антоновича, то такое умственное настроение Базарова он считает весьма нелепым и позорным. Весьма жаль только, что, как он ни усиливается, он никак не может показать, в чем же состоит эта нелепость.
«Разберите, – говорит он, – приведенные выше воззрения и мысли, выдаваемые романом за современные: разве они не походят на кашу? Теперь „нет принципов, то есть ни одного принципа не принимают на веру“; да самое же это решение не принимать ничего на веру и есть принцип!»
Конечно, так. Однако же, какой хитрый человек г. Антонович: нашел противоречие у Базарова! Тот говорит, что у него нет принципов, – и вдруг оказывается, что есть!
«И ужели этот принцип нехорош? – продолжает г. Антонович. – Ужели человек энергический будет отстаивать и проводить в жизнь то, что он принял извне, от другого, на веру, и что не соответствует всему его настроению и всему его развитию?»
Ну вот это странно. Против кого вы говорите, г. Антонович? Ведь вы, очевидно, защищаете принцип Базарова; а ведь вы собрались доказывать, что у него каша в голове. Что же это значит?
Но чем дальше, тем удивительнее.
«И даже, – пишет критик, – когда принцип принимается на веру, это делается не беспричинно, а вследствие какого-нибудь основания, лежащего в самом же человеке. Есть много принципов на веру; но признать тот или другой из них зависит от личности; от ее расположения и развития; значит, все сводится к авторитету, который заключается в личности человека (то есть, как говорит г. Писарев, личное ощущение есть единственное и последнее убедительное доказательство); он сам определяет и внешние авторитеты, и значение их для себя. И когда молодое поколение не принимает ваших принсипов[51], значит, они не удовлетворяют его натуре; внутренние побуждения (ощущения?) располагают в пользу других принципов«.
Яснее дня, что все это суть базаровские идеи. Г. Антонович, очевидно, против кого-то ратует; но против кого, неизвестно; потому что все, что он говорит, служит подтверждением мнений Базарова, а никак не доказательством, что они представляют кашу.
Должно быть, сам г. Антонович почувствовал, наконец, что из его слов выходит не совсем то, что нужно, и потому он заключает так: «Что значит неверие в науку и непризнание науки вообще, – об этом нужно спросить у самого г. Тургенева; где он наблюдал такое явление и в чем оно обнаруживается, нельзя понять из его романа».
По этому случаю мы могли бы многое вспомнить, например, хотя бы то, как «Современник» смеялся над историей, как он потом намекал, что можно обойтись и без философии и что немцы нынче дошли до такой премудрости, что опровергли некоторые науки целиком. Говорим это для примера, а не то чтобы мы указывали важнейшие случаи. Но – не станем отвлекаться от дела.
Не говоря о проявлении образа мыслей Базарова в целом романе, укажем здесь на некоторые разговоры, которые поясняют дело.
« – Это вы все, стало быть, отвергаете? – говорит Базарову Павел Петрович. – Положим. Значит, вы верите в одну науку?
– Я уже доложил вам, – отвечал Базаров, – что ни во что не верю; и что такое наука, наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, знания, а науки вообще не существует вовсе».
В другой раз не менее резко и отчетливо возразил Базаров своему сопернику.
« – Помилуйте, – сказал тот, – логика истории требует...
– Да на что нам эта логика? – отвечал Базаров, – мы и без нее обходимся.
– Как так?
– Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!»
Уже отсюда можно видеть, что воззрения Базарова не представляют каши, как старается уверить критик, а, напротив, образуют твердую и строгую цепь понятий. Вражда против науки есть также современная черта, и даже более глубокая и более распространенная, чем вражда против искусства. Под наукою мы разумеем именно то, что разумеется под наукою вообще и что, по мнению нашего героя, не существует вовсе. Наука для нас не существует, как скоро мы признаем, что она не имеет никаких общих требований, никаких общих методов и общих законов, что каждое знание существует само по себе. Такое отрицание отвлеченности, такое стремление к конкретности в самой области отвлечения, в области знания, составляет одно из веяний нового духа. Представителем его был и есть тот знаменитый философ, которого некоторые мыслители у нас провозгласили последним философом, а себя при этом случае его верными учениками[52]. Ему принадлежит отрицание науки в ее чистейшей форме, в форме философии: «Моя философия, – говорит он, – состоит в том, что я отвергаю всякую философию«.
Конечно, г. Антонович легко бы поймал его, точно так, как он поймал Базарова: «Ну вот, – сказал бы он, – вы отрицаете всякую философию, а между тем самое это отрицание уже и составляет философию!» Дело это, однако же, не разрешается так легко.
Отрицание отвлеченных понятий, отрицание мысли составляет следствие более крепкого, более прямого признания действительных явлений, признания жизни. Это разногласие между жизнью и мыслью никогда так сильно не чувствовалось, как теперь. Оно проявляется в бесчисленных формах и есть важное современное явление. Никогда философия не играла такой жалкой роли, как в настоящее время. Над нею, кажется, сбывается пророчество Шеллинга (1806): «Тогда, – говорит он, – пресыщение отвлеченностями и голыми понятиями само укажет нам единственное средство исцелить душу – именно погрузиться в частные явления». И действительно, всего более разрабатываются, всего более уважаются всеми естественные науки, то есть науки, для которых исходом служат факты, частные явления. Другие науки потеряли то уважение, которым некогда пользовались. Мы даже привыкли к мысли, что они несколько портят человека, уродуют его, а не возвышают. Мы знаем, что занятия науками отвлекают от жизни, порождают доктринеров, мешают живому сочувствию к современности.
Ученость стала для нас подозрительною; кафедра потеряла свое значение, история – свой авторитет. Это обратное движение ума, это самоотвержение мысли совершается с глубокою силою и составляет один из существенных элементов современной умственной жизни.
Чтобы еще указать некоторые его характеристические черты, приведем здесь места из романа, поразившие нас необыкновенною проницательностью, с которою Тургенев понял дух базаровского направления.
« – Мы ломаем, потому что мы сила, – заметил Аркадий.
Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.
– Да, сила, так и не дает отчета, – проговорил Аркадий и выпрямился.
– Несчастный! – возопил Павел Петрович, – хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией... Но вас – раздавят!
– Коли раздавят, туда и дорога! – промолвил Базаров, – только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете».
Это прямое и чистое признание силы за право есть не что иное, как прямое и чистое признание действительности; не оправдание, не объяснение или вывод ее, – все это здесь лишнее, – а именно простое признание, которое так крепко само по себе, что не требует никаких посторонних поддержек. Отречение от мысли, как от чего-то совершенно ненужного, здесь вполне ясно. Рассуждения ничего не могут прибавить к этому признанию.
«Наш народ, – говорит в другом месте Базаров, – русский, а разве я сам не русский?» «Мой дед землю пахал». «Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы ратуете?»
Такова эта простая логика, сильная именно тем, что не рассуждает там, где рассуждения не нужны. Базаровы, как скоро они стали действительно Базаровыми, не имеют никакой нужды оправдывать себя. Они не фантасмагория, не мираж: они суть нечто крепкое и действительное; им нет нужды доказывать свои права на существование, потому что они уже действительно существуют. Оправдание нужно только явлениям, которые подозреваются в фальши или которые еще не достигли действительности. «Я пою, как птица поет», – говорил в свое оправдание поэт. «Я, Базаров, точно так, как липа есть липа, а береза – береза», – мог бы сказать Базаров. Зачем ему подчиняться истории и народному духу, или как-нибудь сообразоваться с ними, или даже просто думать о них, когда он сам и есть история, сам и есть проявление народного духа?
Веруя таким образом в себя, Базаров несомненно уверен в тех силах, которых часть он составляет. «Нас не так мало, как вы полагаете».
Из такого понимания себя последовательно вытекает еще одна важная черта в настроении и деятельности истинных Базаровых. Два раза горячий Павел Петрович приступает к своему противнику с сильнейшим своим возражением и получает одинаковый многознаменательный ответ.
« – Материализм, – говорит Павел Петрович, – который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и не раз оказывался несостоятельным...
– Опять иностранное слово! – перебил Базаров. – Во-первых, мы ничего не проповедуем: это не в наших привычках...»
Через несколько времени Павел Петрович попадает на эту же тему.
« – За что же, – говорит он, – вы других-то, хоть бы тех же обличителей честите? Не так же ли вы болтаете, как и все.
– Чем другим, а этим грехом не грешны, – произнес сквозь зубы Базаров».
Чтобы быть вполне и до конца последовательным, Базаров отказывается от проповедования, как от праздной болтовни. И в самом деле, проповедь ведь была бы не чем иным, как признанием прав мысли, силы идей. Проповедь была бы тем оправданием, которое, как мы видели, для Базарова излишне. Придавать важность проповеди значило бы признать умственную деятельность, признать, что людьми управляют не ощущения и нужды, а также мысль и облекающее ее слово. Пуститься проповедовать – значит пуститься в отвлеченности, значит призвать в помощь логику и историю, значит сделать себе дело из того, что уже признано пустяками в самой своей сущности. Вот почему Базаров не охотник до споров и разглагольствий и не придает им большой цены. Он видит, что логикой много взять нельзя; он старается больше действовать личным примером и уверен, что Базаровы сами собою народятся в изобилии, как рождаются известные растения там, где есть их семена. Прекрасно понимает этот взгляд г. Писарев. Например, он говорит: «Негодование против глупости и подлости вообще понятно, но, впрочем, оно так же плодотворно, как негодование против осенней сырости или зимнего холода». Точно так же он судит и о направлении Базарова: «Если базаровщина болезнь, то она болезнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какие паллиативы и ампутации. Относитесь к базаровщине как угодно – это ваше дело, а остановить не остановите; это та же холера».
Отсюда понятно, что все Базаровы-болтуны, Базаровы-проповедники, Базаровы, занятые не делом, а только своею базаровщиною, – идут по ложному пути, который приводит их к беспрерывным противоречиям и нелепостям, что они гораздо непоследовательнее и стоят гораздо ниже настоящего Базарова.
Вот какое строгое настроение ума, какой твердый склад мыслей воплотил Тургенев в своем Базарове. Он одел этот ум плотью и кровью и исполнил эту задачу с удивительным мастерством. Базаров вышел человеком простым, чуждым всякой изломанности, и вместе крепким, могучим душою и телом. Все в нем необыкновенно идет к его сильной натуре. Весьма замечательно, что он, так сказать, более русский, чем все остальные лица романа. Его речь отличается простотою, меткостью, насмешливостью и совершенно русским складом. Точно так же между лицами романа он всех легче сближается с народом, всех лучше умеет держать себя с ним.
Все это, как нельзя лучше, соответствует простоте и прямоте того взгляда, который исповедуется Базаровым. Человек, глубоко проникнутый известными убеждениями, составляющий их полное воплощение, необходимо должен выйти и естественным, следовательно, близким к своей народности, и вместе человеком сильным. Вот почему Тургенев, создававший до сих пор, так сказать, раздвоенные лица, например Гамлета Щигровского уезда, Рудина, Лаврецкого, достиг, наконец, в Базарове до типа цельного человека. Базаров есть первое сильное лицо, первый цельный характер, явившийся в русской литературе из среды так называемого образованного общества. Кто этого не ценит, кто не понимает всей важности такого явления, тот пусть лучше не судит о нашей литературе. Даже г. Антонович это заметил, как можно судить по следующей странной фразе: «По-видимому, г. Тургенев хотел изобразить в своем герое, как говорится, демоническую или байроническую натуру, что-то вроде Гамлета«. Гамлет – демоническая натура! Это указывает на смутные понятия о Байроне и Шекспире. Но действительно, у Тургенева вышло что-то в роде демонического, то есть натура богатая силою, хотя эта сила и не чистая.
В чем же состоит действие романа?
Базаров вместе с своим приятелем Аркадием Кирсановым, оба студенты, только что окончившие курс, – один в медицинской академии, другой в университете, – приезжают из Петербурга в провинцию. Базаров, впрочем, человек уже не первой молодости; он уже составил себе некоторую известность, успел заявить свой образ мыслей. Аркадий же – совершенный юноша. Все действие романа происходит в одни каникулы, может быть, для обоих первые каникулы после окончания курса. Приятели гостят большею частью вместе, то в семействе Кирсановых, то в семействе Базарова, то в губернском городе, то в деревне вдовы Одинцовой. Они встречаются со множеством лиц, с которыми или видятся только в первый раз, или давно уже не видались; именно, Базаров не ездил домой целых три года. Таким образом, происходит разнообразное столкновение их новых воззрений, вывезенных из Петербурга, с воззрениями этих лиц. В этом столкновении заключается весь интерес романа. Событий и действий в нем очень мало. Под конец каникул Базаров почти случайно умирает, заразившись от гнойного трупа, а Кирсанов женится, влюбившись в сестру Одинцовой. Тем и кончается весь роман.
Базаров является при этом истинным героем, несмотря на то что в нем нет, по-видимому, ничего блестящего и поражающего. С первого его шагу к нему приковывается внимание читателя, и все другие лица начинают вращаться около него, как около главного центра тяжести. Он всего меньше заинтересован другими лицами; зато другие лица тем больше им интересуются. Он никому не навязывается и не напрашивается и, однако же, везде, где появляется, возбуждает самое сильное внимание, составляет главный предмет чувств и размышлений, любви и ненависти.
Отправляясь гостить у родных и приятелей, Базаров не имел в виду никакой особенной цели; он ничего не ищет, ничего не ждет от этой поездки; ему просто хотелось отдохнуть, проездиться; много-много, что он желает иногда посмотреть людей. Но при том превосходстве, которое он имеет над окружающими его лицами, и вследствие того, что все они чувствуют его силу, сами эти лица напрашиваются на более тесные отношения к нему и запутывают его в драму, которой он вовсе не хотел и даже не предвидел.
Едва он явился в семействе Кирсановых, как он тотчас возбуждает в Павле Петровиче раздражение и ненависть, в Николае Петровиче уважение, смешанное со страхом, расположение Фенички, Дуняши, дворовых мальчишек, даже грудного ребенка Мити, и презрение Прокофьича. Впоследствии дело доходит до того, что он сам на минуту увлекается и целует Феничку, а Павел Петрович вызывает его на дуэль. «Экая глупость! экая глупость!» – повторяет Базаров, никак не ожидавший таких событий.
Поездка в город, имевшая целью смотреть народ, также не обходится ему даром. Около него начинают вертеться разные лица. За ним ухаживают Ситников и Кукшина, мастерски изображенные лица фальшивого прогрессиста и фальшивой эмансипированной женщины. Они, конечно, не смущают Базарова; он относится к ним с презрением, и они служат только контрастом, от которого еще резче и рельефнее выступают его ум и сила, его полная неподдельность. Но тут же встречается и камень преткновения – Анна Сергеевна Одинцова. Несмотря на все свое хладнокровие, Базаров начинает колебаться. К величайшему удивлению своего поклонника Аркадия, он раз даже сконфузился, а другой раз покраснел. Не подозревая, однако же, никакой опасности, твердо надеясь на себя, Базаров едет гостить к Одинцовой в Никольское. И действительно, он владеет собою превосходно. И Одинцова, как и все другие лица, заинтересовывается им так, как, вероятно, никем не интересовалась во всю свою жизнь. Дело оканчивается, однако же, плохо. В Базарове загорается слишком сильная страсть, а увлечение Одинцовой не достигает до настоящей любви. Базаров уезжает почти отвергнутый совершенно и опять начинает дивиться себе и бранить себя: «Черт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит, бездна под ним ежеминутно разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь».
Но, несмотря на эти мудрые рассуждения, Базаров все-таки продолжает невольно портить свою жизнь. Уже после этого урока, уже во время вторичного посещения Кирсановых он увлекается Феничкою и принужден выйти на дуэль с Павлом Петровичем.
Очевидно, Базаров вовсе не желает и не ждет романа; но роман совершается помимо его железной воли; жизнь, над которою он думал стоять властелином, захватывает его своею широкою волною.
Под конец рассказа, когда Базаров гостит у своих отца и матери, он, очевидно, несколько потерялся после всех вынесенных потрясений. Не настолько он потерялся, чтобы не мог поправиться, не мог через короткое время воскреснуть в полной силе; но все-таки тень тоски, которая и в самом начале лежала на этом железном человеке, под конец становится гуще. Он теряет охоту заниматься, худеет, начинает трунить над мужиками уже не дружелюбно, а желчно. От этого и выходит, что на этот раз он и мужик оказываются не понимающими друг друга, тогда как прежде взаимное понимание было до известной степени возможно. Наконец, Базаров несколько оправляется и увлекается медицинскою практикой. Заражение, от которого он умирает, все-таки как будто свидетельствует о недостатке внимания и ловкости, о случайном отвлечении душевных сил.
Смерть – такова последняя проба жизни, последняя случайность, которой не ожидал Базаров. Он умирает, но и до последнего мгновения остается чуждым этой жизни, с которою так странно столкнулся, которая встревожила его такими пустяками, заставила его наделать таких глупостей и, наконец, погубила его вследствие такой ничтожной причины.
Базаров умирает совершенным героем, и его смерть производит потрясающее впечатление. До самого конца, до последней вспышки сознания, он не изменяет себе ни единым словом, ни единым признаком малодушия. Он сломлен, но не побежден.
Таким образом, несмотря на короткий срок действия романа и несмотря на быструю смерть Базарова, он успел высказаться вполне, вполне показать свою силу. Жизнь не погубила его, – этого заключения никак нельзя вывести из романа, – а пока только дала ему поводы обнаружить свою энергию. В глазах читателей Базаров выходит из искушения победителем. Всякий скажет, что такие люди, как Базаров, способны много сделать, что при этих силах от них можно многого ожидать.
Базаров, собственно говоря, показан только в узкой рамке, а не во всю ширину человеческой жизни. Автор ничего почти не говорит о том, как развился его герой, каким образом могло сложиться такое лицо. Точно так же быстрое окончание романа оставляет совершенною загадкою вопрос: остался ли бы Базаров тем же Базаровым, или вообще, – какое развитие суждено ему впереди? И, однако же, то и другое умолчание имеет, как нам кажется, свою причину, свое существенное основание. Если не показано постепенное развитие героя, то, без сомнения, потому, что Базаров образовался не медленным накоплением влияний, а, напротив, быстрым, крутым переломом. Базаров три года не был дома. Эти три года он учился, и вот он вдруг является нам напитанным всем тем, чему он успел выучиться. На другое утро после приезда он уже отправляется за лягушками, и вообще он продолжает учебную жизнь при каждом удобном случае. Он – человек теории, и его создала теория, создала незаметно, без событий, без всего такого, что можно бы было рассказать, создала одним умственным переворотом.
Базаров скоро умирает. Это нужно было художнику для простоты и ясности картины. В своем теперешнем, напряженном настроении Базаров остановиться надолго не может. Рано или поздно он должен измениться, должен перестать быть Базаровым. Мы не имеем права сетовать на художника за то, что он не взял более широкой задачи и ограничился более узкою. Он решился остановиться только на одной ступени в развитии своего героя. Тем не менее на этой ступени развития, как вообще бывает в развитии, перед нами явился весь человек, а не отрывочные его черты. В отношении к полноте лица задача художника исполнена превосходно.
Живой, цельный человек схвачен автором в каждом действии, в каждом движении Базарова. Вот великое достоинство романа, которое содержит в себе главный его смысл и которого не заметили наши поспешные нравоучители. Базаров – теоретик; он человек странный, односторонне-резкий; он проповедует необыкновенные вещи; он поступает эксцентрически; он школьник, в котором вместе с глубокою искренностью соединяется самое грубое ломанье; как мы сказали – он человек, чуждый жизни, то есть он сам чуждается жизни. Но под всеми этими внешними формами льется теплая струя жизни; при всей резкости и деланности своих проявлений – Базаров человек вполне живой, не фантом, не выдумка, а настоящая плоть и кровь. Он отрицается от жизни, а между тем живет глубоко и сильно.
После одной из самых удивительных сцен романа, именно после разговора, в котором Павел Петрович вызывает Базарова на дуэль и тот принимает его предложение и условливается с ним, Базаров, изумленный неожиданным поворотом дела и странностью разговора, восклицает: «Фу-ты черт! Как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапках танцуют!» Мудрено сделать более ядовитое замечание; и однако же, читатель романа чувствует, что разговор, который так характеризуется Базаровым, в сущности весьма живой и серьезный разговор; что, несмотря на всю уродливость и фальшивость его форм, в нем отчетливо выразилось столкновение двух энергических характеров.
То же самое с необыкновенною ясностью указывает нам поэт в целом своем создании. Беспрестанно может показаться, что действующие лица, и особенно Базаров, комедию ломают, что они, как ученые собаки, танцуют на задних лапках; а между тем из-под этой видимости, как из-под прозрачного покрывала, читателю отчетливо видно, что чувства и действия, лежащие в основании, совсем не собачьи, а чисто и глубоко человеческие.
Вот с какой точки зрения всего вернее можно оценить действия и события романа. Из-за всех шероховатостей, уродливостей, фальшивых и напускных форм слышна глубокая жизненность всех явлений и лиц, выводимых на сцену. Если, например, Базаров овладевает вниманием и сочувствием читателя, то вовсе не потому, что каждое его слово свято и каждое действие справедливо, но именно потому, что в сущности все эти слова и действия вытекают из живой души. По-видимому, Базаров человек гордый, страшно самолюбивый и оскорбляющий других своим самолюбием; но читатель примиряется с этой гордостью, потому что в то же время в Базарове нет никакого самодовольства, самоуслаждения; гордость не приносит ему никакого счастия. Базаров пренебрежительно и сухо обходится со своими родителями; но никто ни в каком случае не заподозрит его в услаждении чувством собственного превосходства или чувством своей власти над ними; еще менее его можно упрекнуть в злоупотреблении этим превосходством и этою властью. Он просто отказывается от нежных отношений к родителям, да и отказывается не вполне. Выходит что-то странное: он неразговорчив с отцом, подсмеивается над ним, резко уличает его либо в невежестве, либо в нежничанье; а между тем отец не только не оскорбляется, а рад и доволен. «Насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича; они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем более злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы, его осчастливленный отец». Таковы чудеса любви. Никогда мягкий и добродушный Аркадий не мог так осчастливить своего отца, как Базаров осчастливил своего. Базаров, конечно, сам очень хорошо чувствует и понимает это. Зачем же ему было еще нежничать с отцом и изменять своей непреклонной последовательности!
Базаров вовсе не такой сухой человек, как можно бы думать по его внешним поступкам и по складу его мыслей. В жизни, в отношениях к людям Базаров не последователен себе; но в этом самом и обнаруживается его жизненность. Он любит людей. «Странное существо человек, – говорит он, заметив в себе присутствие этой любви, – хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними». Базаров не есть отвлеченный теоретик, порешивший все вопросы и совершенно успокоившийся на этом решении. В таком случае он был бы уродливым явлением, карикатурою, а не человеком. Вот почему, несмотря на всю свою твердость и последовательность в словах и действиях, Базаров легко волнуется, все его задевает, все на него действует. Эти волнения не изменяют ни в чем его взгляда и его намерений, большею частью они только возбуждают его желчь, озлобляют его. Однажды он держит своему другу Аркадию такую речь: «Вот ты сегодня сказал, проходя мимо избы вашего старосты Филиппа – она такая славная, белая – вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо. Ну будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?» Не правда ли, какие ужасные, возмутительные речи?
Через несколько минут после них Базаров делает еще хуже: он обнаруживает поползновение задушить своего нежного приятеля, Аркадия, задушить так, ни с того ни с сего, и в виде приятной пробы уже растопыривает свои длинные и жесткие пальцы...
Отчего же все это нимало не вооружает читателя против Базарова? Казалось бы, чего хуже? А между тем впечатление, производимое этими случаями, служит не во вред Базарову, до того не во вред, что сам г. Антонович (разительное доказательство!), который для того, чтобы доказать коварное намерение Тургенева очернить Базарова, с чрезмерным усердием перетолковывает в нем все в дурную сторону, – совершенно упустил из виду эти случаи!
Что же это значит? Очевидно, Базаров, столь легко сходящийся с людьми, столь живо интересующийся ими и столь легко начинающий питать к ним злобу, сам страдает от этой злобы более, чем те, к кому она относится. Эта злоба не есть выражение нарушенного эгоизма или оскорбленного себялюбия, она есть выражение страдания, томление, производимое отсутствием любви. Несмотря на все свои взгляды, Базаров жаждет любви к людям. Если эта жажда проявляется злобою, то такая злоба составляет только оборотную сторону любви. Холодным, отвлеченным человеком Базаров быть не мог; его сердце требовало полноты, требовало чувств; и вот он злится на других, но чувствует, что ему еще больше следует злиться на себя.
Изо всего этого видно по крайней мере, какую трудную задачу взял и, как мы думаем, выполнил в своем последнем романе Тургенев. Он изобразил жизнь под мертвящим влиянием теории; он дал нам живого человека, хотя этот человек, по-видимому, сам себя без остатка воплотил в отвлеченную формулу. От этого роман, если его судить поверхностно, мало понятен, представляет мало симпатического и как будто весь состоит из неясного логического построения; но в сущности, на самом деле, – он великолепно ясен, необыкновенно увлекателен и трепещет самою теплою жизнью.
Почти нет нужды объяснять, почему Базаров вышел и должен был выйти теоретиком. Всем известно, что наши живые представители, что «носители дум» наших поколений уже с давнего времени отказываются быть практиками, что деятельное участие в окружающей их жизни для них издавна было невозможно. В этом смысле Базаров есть прямой, непосредственный продолжатель Онегиных, Печориных, Рудиных, Лаврецких. Точно так, как они, он живет пока в умственной сфере и на нее тратит душевные силы. Но в нем жажда деятельности уже дошла до последней, крайней степени; его теория вся состоит в прямом требовании дела; его настроение таково, что он неизбежно схватится за это дело при первом удобном случае.
Лица, окружающие Базарова, бессознательно чувствуют в нем живого человека, вот почему к нему обращено столько привязанностей, сколько не сосредоточивает на себе ни одно из действующих лиц романа. Не только отец и мать вспоминают и молятся о нем с бесконечной и невыразимой нежностью; воспоминание о Базарове, без сомнения, и у других лиц соединено с любовью; в минуту счастья Катя и Аркадий чокаются «в память Базарова».
Таков образ Базарова и для нас. Он не есть существо ненавистное, отталкивающее своими недостатками; напротив, его мрачная фигура величава и привлекательна.
Какой же смысл романа? – спросят любители голых и точных выводов. Составляет ли, по-вашему, Базаров предмет для подражания? Или же, скорее, его неудачи и шероховатости должны научить Базаровых не впадать в ошибки и крайности настоящего Базарова? Одним словом, написан ли роман за молодое поколение или против него? Прогрессивный он или ретроградный?
Если уж дело так настоятельно идет о намерениях автора, о том, чему он хотел научить и от чего отучить, то на эти вопросы следует, как кажется, отвечать так: действительно, Тургенев хочет быть поучительным, но при этом он выбирает задачи, которые гораздо выше и труднее, чем вы думаете. Написать роман с прогрессивным или ретроградным направлением еще вещь нетрудная. Тургенев же имел притязания и дерзость создать роман, имеющий всевозможные направления; поклонник вечной истины, вечной красоты, он имел гордую цель во временном указать на вечное и написал роман не прогрессивный и не ретроградный, а, так сказать, всегдашний. В этом случае его можно сравнить с математиком, старающимся найти какую-нибудь важную теорему. Положим, что он нашел, наконец, эту теорему; не правда ли, что он должен быть сильно удивлен и озадачен, если бы к нему вдруг приступили с вопросами: да какая твоя теорема – прогрессивная или ретроградная? Сообразна ли она с новым духом или же угождает старому?
На такие речи он мог бы отвечать только так: ваши вопросы не имеют никакого смысла, никакого отношения к моему делу: моя теорема есть вечная истина.
Увы! на жизненных браздах, По тайной воле провиденья, Мгновенной жатвой – поколенья Восходят, зреют и падут; Другие им во след идут...Смена поколений – вот наружная тема романа. Если Тургенев изобразил не всех отцов и детей или не тех отцов и детей, каких хотелось бы другим, то вообще отцов и вообще детей, и отношение между этими двумя поколениями он изобразил превосходно. Может быть, разница между поколениями никогда не была так велика, как в настоящее время, а потому и отношение их обнаружилось особенно резко. Как бы то ни было, для того, чтобы измерять разницу между двумя предметами, нужно употреблять одну и ту же мерку для обоих; чтобы рисовать картину, нужно взять изображаемые предметы с одной точки зрения, общей для всех их.
Эта одинаковая мера, эта общая точка зрения у Тургенева есть жизнь человеческая, в самом широком и полном ее значении. Читатель его романа чувствует, что за миражем внешних действий и сцен льется такой глубокий, такой неистощимый поток жизни, что все эти действия и сцены, все лица и события ничтожны перед этим потоком.
Если мы так поймем роман Тургенева, то, может быть, перед нами всего яснее обнаружится и то нравоучение, которого мы добиваемся. Нравоучение есть, и даже весьма важное, потому что истина и поэзия всегда поучительны.
Глядя на картину романа спокойнее и в некотором отдалении, мы легко заметим, что, хотя Базаров головою выше всех других лиц, хотя он величественно проходит по сцене, торжествующий, поклоняемый, уважаемый, любимый и оплакиваемый, есть, однако же, что-то, что в целом стоит выше Базарова. Что же это такое? Всматриваясь внимательнее, мы найдем, что это высшее – не какие-нибудь лица, а та жизнь, которая их воодушевляет. Выше Базарова – тот страх, та любовь, те слезы, которые он внушает. Выше Базарова – та сцена, по которой он проходит. Обаяние природы, прелесть искусства, женская любовь, любовь семейная, любовь родительская; даже религия, все это – живое, полное, могущественное, – составляет фон, на котором рисуется Базаров. Этот фон так ярок, так сверкает, что огромная фигура Базарова вырезывается на нем отчетливо, но, вместе с тем, мрачно. Те, которые думают, что ради умышленного осуждения Базарова автор противопоставляет ему какое-нибудь из своих лиц, например Павла Петровича, или Аркадия, или Одинцову, – странно ошибаются. Все эти лица ничтожны в сравнении с Базаровым. И, однако же, жизнь их, человеческий элемент их чувств – не ничтожны.
Не будем говорить здесь об описании природы, той русской природы, которую так трудно описывать и на описание которой Тургенев такой мастер. В новом романе он таков же, как и прежде. Небо, воздух, поля, деревья, даже лошади, даже цыплята – все схвачено живописно и точно.
Возьмем прямо людей. Что может быть слабее и незначительнее юного приятеля Базарова, Аркадия? Он, по-видимому, подчиняется каждому встречному влиянию; он – обыкновеннейший из смертных. Между тем он мил чрезвычайно. Великодушное волнение его молодых чувств, его благородство и чистота подмечены автором с большою тонкостью и обрисованы отчетливо. Николай Петрович, как и следует, – настоящий отец своего сына. В нем нет ни единой яркой черты и хорошего только одно, что он человек, хотя и простейший человек. Далее, что может быть пустее Фенички. «Прелестно было, – говорит автор, – выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья, да посмеивалась ласково и немножко глупо». Сам Павел Петрович называет ее пустым существом. И, однако же, эта глупенькая Феничка набирает чуть ли не больше поклонников, чем умница Одинцова. Ее не только любит Николай Петрович, но в нее, отчасти, влюбляется и Павел Петрович, и сам Базаров. И, однако же, эта любовь и эта влюбленность суть истинные и дорогие человеческие чувства. Наконец, что такое Павел Петрович, щеголь, франт с седыми волосами, весь погруженный в заботы о туалете? Но и в нем, несмотря на видимую извращенность, есть живые и даже энергически звучащие сердечные струны.
Чем дальше мы идем в романе, чем ближе к концу драма, тем мрачнее и напряженнее становится фигура Базарова, но вместе с тем все ярче и ярче фон картины. Создание таких лиц, как отец и мать Базарова, есть истинное торжество таланта. По-видимому, что может быть ничтожнее и негоднее этих людей, отживших свой век и со всеми предрассудками старины уродливо дряхлеющих среди новой жизни? А между тем какое богатство простых человеческих чувств! Какая глубина и ширина душевных явлений – среди обыденнейшей жизни, не подымающейся и на волос выше самого низменного уровня!
Когда Базаров заболевает, когда он заживо гниет и непреклонно выдерживает жестокую борьбу с болезнью, жизнь, его окружающая, становится тем напряженнее и ярче, чем мрачнее сам Базаров. Одинцова приезжает проститься с Базаровым; вероятно, ничего великодушнее она не сделала и не сделает во всю жизнь. Что же касается до отца и матери, то трудно найти что-нибудь более трогательное. Их любовь вспыхивает какими-то молниями, мгновенно потрясающими читателя; из их простых сердец как будто вырываются бесконечно жалобные гимны, какие-то беспредельно глубокие и нежные вопли, неотразимо хватающие за душу.
Среди этого света и этой теплоты умирает Базаров. На минуту в душе его отца закипает буря, страшнее которой ничего быть не может. Но она быстро затихает, и снова все становится светло. Самая могила Базарова озарена светом и миром. Над нею поют птицы, и на нее льются слезы...
Итак, вот оно, вот то таинственное нравоучение, которое вложил Тургенев в свое произведение. Базаров отворачивается от природы; не корит его за это Тургенев, а только рисует природу во всей красоте. Базаров не дорожит дружбою и отрекается от романтической любви; не порочит его за это автор, а только изображает дружбу Аркадия к самому Базарову и его счастливую любовь к Кате. Базаров отрицает тесные связи между родителями и детьми; не упрекает его за это автор, а только развертывает перед нами картину родительской любви. Базаров чуждается жизни; не выставляет его автор за это злодеем, а только показывает нам жизнь во всей ее красоте. Базаров отвергает поэзию; Тургенев не делает его за это дураком, а только изображает его самого со всею роскошью и проницательностью поэзии.
Одним словом, Тургенев стоит за вечные начала человеческой жизни, за те основные элементы, которые могут бесконечно изменять свои формы, но в сущности всегда остаются неизменными. Что же мы сказали? Выходит, что Тургенев стоит за то же, за что стоят все поэты, за что необходимо стоит каждый истинный поэт. И следовательно, Тургенев в настоящем случае поставил себя выше всякого упрека в задней мысли; каковы бы ни были частные явления, которые он выбрал для своего произведения, он рассматривает их с самой общей и самой высокой точки зрения.
Общие силы жизни – вот на что устремлено все его внимание. Он показал нам, как воплощаются эти силы в Базарове, в том самом Базарове, который их отрицает; он показал нам, если не более могущественное, то более открытое, более явственное воплощение их в тех простых людях, которые окружают Базарова. Базаров – это титан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с матернею силою.
Как бы то ни было, Базаров все-таки побежден; побежден не лицами и не случайностями жизни, но самою идеею этой жизни. Такая идеальная победа над ним возможна была только при условии, чтобы ему была отдана всевозможная справедливость, чтобы он был возвеличен настолько, насколько ему свойственно величие. Иначе в самой победе не было бы силы и значения.
Гоголь об своем «Ревизоре» говорил, что в нем есть одно честное лицо – смех; так точно об «Отцах и детях» можно сказать, что в них есть лицо, стоящее выше всех лиц и даже выше Базарова – жизнь. Эта жизнь, подымающаяся выше Базарова, очевидно, была бы тем мельче и низменнее, чем мельче и низменнее был бы Базаров – главное лицо романа. Перейдем теперь от поэзии к прозе: нужно всегда строго различать эти две области. Мы видели, что, как поэт, Тургенев на этот раз является нам безукоризненным. Его новое произведение есть истинно поэтическое дело и, следовательно, носит в себе самом свое полное оправдание. Все суждения будут фальшивы, если они основываются на чем-нибудь другом, кроме самого творения поэта. Между тем поводов к таким фальшивым суждениям в настоящем случае скопилось много. И до выхода, и после выхода романа делались более или менее явственные намеки, что Тургенев писал его с заднею мыслью, что он недоволен новым поколением и хочет покарать его. Публичным же представителем нового поколения, судя по этим указаниям, служил для него «Современник». Так что роман представляет будто бы не что иное, как открытую битву с «Современником».
Все это, по-видимому, похоже на дело. Конечно, Тургенев ничем не обнаружил ничего похожего на полемику; самый роман так хорош, что на первый план победоносно выступает чистая поэзия, а не посторонние мысли. Но зато тем явственнее обнаружился в этом случае «Современник». Вот уже полтора года, как он враждует с Тургеневым и преследует его выходками, или прямыми, или даже незаметными для читателей. Наконец, статья г. Антоновича об «Отцах и детях» есть уже не просто разрыв, а полная баталия, данная Тургеневу «Современником».
Положим, что «Современник» имеет в себе много базаровского, что он может принять на свой счет то, что относится к Базарову. Если даже так, если даже принять, что весь роман написан только в пику «Современнику», то и в таком превратном и недостойном поэта смысле все-таки победа остается на стороне Тургенева. В самом деле, если в чем могла существовать вражда между Тургеневым и «Современником», то, конечно, в некоторых идеях, во взаимном непонимании и несогласии мыслей. Положим (все это, просим заметить, одни предположения), что разногласие произошло в рассуждении искусства и заключалось в том, что Тургенев ценил искусство гораздо выше, чем это допускали основные стремления «Современника». От этого «Современник» и начал, положим, преследовать Тургенева. Что же сделал Тургенев? Он создал Базарова, то есть он показал, что понимает идеи «Современника», и притом он постарался блеском поэзии, глубокими отзывами на течение жизни подняться на более светлую и высокую точку зрения.
Очевидно, победа на стороне Тургенева. Трудно ведь справиться с поэтом! Вы отвергаете поэзию? Это возможно только в теории, в отвлечении, на бумаге. Нет, попробуйте отвергнуть ее в действительности, когда она вас самих схватит, живьем воплотит вас в свои образы и покажет вас всем в своем неотразимом свете! Вы думаете, что поэт отстал, что он дурно понимает ваши высокие мысли? Попробуйте же сказать это тогда, когда поэт изобразит вас не только в ваших мыслях, но и во всех движениях вашего сердца, во всех тайнах вашего существа, которых вы сами не замечали!
Все это, как мы уже говорили, одни чистые предположения. В самом деле, мы не имеем причины обижать Тургенева, предполагая в его романе задние мысли и посторонние цели. Эти мысли и эти цели до тех пор недостойны поэта, пока они не просветлеют, не проникнутся поэзиею, не потеряют своего чисто временного и частного характера. Если бы этого не было, то не было бы и никакой поэзии.
Н. К. Михайловский (1842—1904)
Родился в г. Мещовске Калужской губернии в семье чиновника. Учился в Петербургском институте горных инженеров, откуда был исключен за участие в студенческом движении.
Вместе с М. А. Бакуниным и П. Л. Лавровым Михайловский виднейший представитель направления русского народничества, автор самостоятельной теории мирового прогресса, в которой утверждал приоритет человеческих ценностей над механическим развитием цивилизации.
Вместе с В. Г. Короленко Михайловский возглавлял крупнейший литературно-публицистический журнал конца ХIX – начала ХХ века «Русское богатство», в котором печатались лучшие писатели того времени А. П. Чехов, Максим Горький, Леонид Андреев, И. А. Бунин и другие. Михайловский одним из первых отметил талант М. Горького, посвятив его раннему творчеству две пространные статьи.
Еще о г. Максиме Горьком и его героях
Рассказы г. Максима Горького обратили на себя общее внимание. О них говорят, пишут и, кажется, все более или менее признают за автором и дарование, и оригинальность тем. Однако «более или менее», и если одни, например, восторгаясь писаниями г. Горького вообще, подчеркивают господствующий будто бы в них художественный такт, то другие – и, надо признаться, с гораздо большим правом – утверждают, что именно художественного такта ему и не хватает.
Интересен отзыв литературного обозревателя «Русских ведомостей» г. И – т. От почтенного критика не укрылась часто впадающая в фальшь идеализация г. Горьким его излюбленных персонажей. Но мне кажется, что представленная критиком общая схема этой идеализации не совсем верна. Лермонтовская царица Тамара была «прекрасна, как ангел небесный, как демон – коварна и зла». Такой же контраст между внешностью и внутренним содержанием представляют собою, по мнению критика, и персонажи г. Горького, «только с обратным математическим знаком». Там, где у Тамары стоит плюс, у босяков г. Горького – минус, и обратно. Внешний облик и, так сказать, внешняя сторона поведения босяков – безобразны: они грязны, пьяны, грубы, неряшливы, но зато коварство и злоба Тамары заменены у чандалов г. Горького «стремлением к добру, к истинной нравственности, к большей справедливости, к заботе об уничтожении зла». В этом-то контрасте а là Тамара навыворот и заключается главный интерес действующих лиц рассказов г. Горького. Чтобы вполне понять мысль критика, надо обратить внимание на его сопоставление босяков г. Горького с героем драмы Жана Ришпена «Le chemineau»[53]. Герой этот есть «прежде всего рыцарь свободы». Оковы общества, семьи, каких бы то ни было привязанностей к месту, домашнему очагу, одним и тем же впечатлениям, одной и той же страсти – ненавистны ему. Из всех сильных чувств у него постоянно живет только одно – любовь к передвижениям, к воле, «к простору полей, больших дорог, беспредельных пространств и постоянных изменений». Не сила обстоятельств создала из него блуждающего оборванца, сегодня отдающегося одному занятию, завтра остающегося без дела, полуголодного и бесприютного; но собственной волей он «взял свою судьбу» и сделал из себя бродягу по принципу («Русские ведомости», № 170). Эту черту мы знаем и в чандалах г. Горького; и им, как мы видели в прошлый раз, не «силою обстоятельств» – по крайней мере эти обстоятельства остаются в тумане, – а каким-то внутренним голосом предписано, как Агасферу: ходи, ходи, ходи! Но, судя по изложению г. И – т, герой драмы Ришпена (мне она, к сожалению, неизвестна) совершенно чужд другой стороне их быта и психологии – той стороне, которая ставит их в тесное соприкосновение с «тюрьмами, кабаками и домами терпимости». По словам критика, le chemineau – не загнанный бродяга, к которому подозрительно относятся лица, вступающие с ним в сношение, не нищий, получающий подаяние и злобою отвечающий на презрение других. Как истинный рыцарь, он благороден, смел и откровенен; двери каждого дома открыты для него, потому что его ум, таланты, выдающиеся достоинства делают из него превосходного работника, общего благодетеля, устранителя зол и надежного покровителя слабых. Не таковы, как мы видели, пьяные, циничные, всеми презираемые герои г. Горького. В связи с этим находится и другое различие: le chemineau гуляет по белому свету бодрый и жизнерадостный, а в босяках г. Горького это настроение «заменяется постоянным беспокойством, затаенной тоской, скрытой заботой, находящей исход в пьянстве». В конце концов г. И – т, возвращаясь к контрасту между безобразной внешностью и красивым внутренним миром, говорит, что в отношении этого внутреннего мира герои г. Горького распадаются на три разновидности: в одних преобладает искание истины и невозможность найти ее, в других – деятельное стремление к водворению справедливости на земле, в третьих – разъедающий скептицизм. Все это, вместе взятое, лишает их жизненности и правдивости, хотя и не в такой мере, в какой лишен этих качеств chemineau Ришпена. Таков окончательный вывод г. И – т.
При всем остроумии и соблазнительной законченности этой критики я не могу с ней вполне согласиться. Герои г. Горького много философствуют, слишком много, и в этих их философствованиях, часто превращающих их из живых, от себя говорящих людей в какие-то фонографы, механически воспроизводящие то, что в них вложено, – в этих философствованиях можно действительно иногда усмотреть намеки на указанные три категории. Но большинство их, да и общий их характер никак в эти категории не затиснешь. Да и самая противоположность между внешностью и внутренним миром едва ли может быть в данном случае установлена с такою ясностью и определенностью, как в лермонтовской Тамаре. Там дело действительно ясно и просто: прекрасна телом, коварна и зла душой, и отсюда вытекает все остальное, со включением эстетического эффекта. В данном случае свет и тени, располагающиеся, по мнению критика, просто в обратном порядке, на самом деле гораздо сложнее. Прежде всего речь здесь не о теле идет и вообще не о наружности в буквальном смысле слова. Герои г. Горького не Квазимодо какие-нибудь. Если, например, Сережка довольно-таки безобразен, то Коновалов чуть не красавец, и, читая описание его наружности, я невольно вспомнил фразу из какого-то французского романа: «он обнажил свою руку, мускулистую, как рука кузнеца, и белую, как рука герцогини». Или Кузька Косяк: «он стоял в свободно сильной позе; из-под расстегнутой красной рубахи видна была широкая, смуглая грудь, дышавшая глубоко и ровно, рыжие усы насмешливо пошевеливались, белые частые зубы сверкали из-под усов, синие, большие глаза хитро прищурились» (I, 90). Это, конечно, не пара Тамаре, не «ангел небесный», но в своем роде очень все-таки красиво. Старуха Изергиль и сама когда-то была красавицей, и очень ценит красоту. Она уверена даже, что «только красавцы могут хорошо петь» (II, 306) и что «красивые всегда смелы» (317). Безобразна внешняя обстановка босяков, но и то не совсем верно, потому что г. Горький часто помещает их на море и в степи и вместе с ними восторгается красотою открывающихся при этом горизонтов. А кабаки, публичные дома, ночлежки, конечно, безобразны, равно как и лохмотья, в которые облечены босяки вместо «парчи и жемчуга» царицы Тамары, но ведь иначе они и не были бы босяками. А во всем остальном слишком трудно провести пограничную линию между внешностью и внутренним миром. Кабаки, тюрьмы, дома терпимости – бесспорно, внешность, но почему внешность то, что к ним приводит и в них совершается? Почему внешность – пьянство, цинизм, злоба, драки? Правда, из-за всего этого у г. Горького часто выглядывает нечто иное, что приподнимает босяков; но с какой точки зрения можно отнести ну хоть, например, ограбление и убийство «студентом» прохожего столяра («В степи») – к «исканию истины», или к «стремлению водворить справедливость на земле», или к «разъедающему скептицизму»? Дело в том, что взгляды босяков г. Горького на нравственность и справедливость не имеют ничего общего со взглядами, исповедуемыми огромным большинством современников. Недаром Аристид Кувалда говорит, что он должен «смарать в себе все чувства и мысли», воспитанные прежнею жизнью, и что «нам нужно что-то другое, другие воззрения нa жизнь, другие чувства, нужно что-то такое новое». Эти люди стоят на точке «переоценки всех ценностей» и jenseits von gut und böse[54], как сказал бы Ницше.
Столь обаятельная личность, какою Ришпен изобразил своего chemineau, естественно притягивает к себе женские сердца, и он не отказывается от радостей любви. Но, повинуясь инстинкту бродяги, он оставляет одну за другою осчастливленных им женщин, хотя и «с болью в сердце». Под старость, утомленный терниями жизни, он попадает в то место, где двадцать с лишним лет тому назад он любил одну девушку и был любим. Плод этой любви, до сих пор не изжитой, стал уже взрослым парнем, и бродягу манит перспектива отдыха в кругу семьи, у постоянного очага. Но после некоторого колебания он «с рыданиями» уходит куда глаза глядят, и драма оканчивается словами: va, chemineau, chemine![55] Этим мелодраматическим концом, в сущности просто комическим, подчеркивается присутствие в бродяге того внутреннего, почти мистически властного голоса, который обрекает его на существование Агасфера. Босяки г. Горького хотя и не обладают достоинствами chemineau, но тоже очень счастливы в любви. Правда, по показанию автора, они на эту тему много врут, хвастают, и скверно хвастают, но, например, Коновалову он безусловно верит. А у того «их», то есть женщин, «много было разных». И оставлял он их не потому, чтобы узы любви сами собою обрывались с той или другой стороны, и не потому, чтобы манила новая любовь, а в силу того же мистического внутреннего приказа, какой и chemineau не давал усесться. Разница, однако, в том, что герои г. Горького порывают узы любви без колебаний и без sanglots[56]. Самый чувствительный из них, Коновалов, только впадает при расставании в некоторую грусть и меланхолию, но и то потому, что ему, при его чувствительности, жалко покидаемую, жалко ее горя и слез, а сам он нимало не колеблется в выборе между домашним очагом и бродяжничеством. Был у Коновалова роман с богатой купчихой Верой Михайловной, прекраснейшей женщиной; все шло прекрасно, шло бы и дальше так же хорошо, «кабы не планета моя», говорит Коновалов, «все-таки ушел от нее – потому тоска! тянет меня куда-то». В другой раз Коновалов, по той же чувствительности своего сердца, помог одной проститутке выбраться из публичного дома. Но когда девушка поняла это в таком смысле, что он возьмет ее жить с ним «вроде жены», то, при всем своем к ней расположении, Коновалов даже испугался: «я есть бродяга и не могу на одном месте жить». Но Коновалов все-таки хоть грустит при расставании. А вот как утешает свою возлюбленную Кузька Косяк, уходя – без какой-нибудь особенной надобности – на Кубань: «Э, Мотря! Многие меня уже любили, со всеми я распрощался, и ничего себе – повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь – своим глазам веры нет! Да разве это они – те самые, которых я целовал да миловал? Ну-ну! Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю... На одном месте скучно мне». Случайно подслушавший этот разговор хозяин Кузьмы, мельник Тихон Павлович, о котором у нас еще будет речь, говорит ему, что нехорошо он с девками поступает: «ежели, к примеру, ребенок? бывало ведь, а?» – «Чай, бывало; кто их знает», – отвечает Кузьма и на дальнейшие замечания мельника о «грехе» возражает: «Да ведь ребята-то, поди-ка, одним порядком родятся, что от мужа, что от прохожего». Мельник напоминает о разнице в данном случае между положением мужчины и положением женщины, и Кузьма на это уже не дает прямого ответа, а «серьезно и сухо» говорит: «Коли покрепче подумать, так выходит, что как ни живи, все грешно! И так грешно, и вот этак грешно. Сказал – грешно, промолчал – грешно, сделал – грешно и не сделал – грешно. Рази тут разберешь? В монастырь, что ли, идти? Чай, неохота». – «Легкая, веселая твоя жизнь», – замечает с некоторою смесью зависти и уважения мельник...
Такую же легкую и веселую жизнь ведут и некоторые героини г. Горького. Старуха Изергиль рассказывает, «как она любила». Ей было пятнадцать лет, когда она сошлась с каким-то черноусым «рыбаком с Прута», но он ей скоро надоел и она ушла с рыжим бродягой гуцулом; гуцула повесили (за что Изергиль сожгла хутор доносчика); она полюбила немолодого уже турка и жила у него в гареме, из которого убежала с сыном турка; затем следовали поляк, венгерец, опять поляк, еще поляк, молдаванин... Мальва, героиня рассказа, озаглавленного ее именем, живет с рыбаком Василием, заигрывает и кокетничает с его сыном Яковом и наконец, перессорив отца с сыном, сходится с удалым забулдыгой Сережкой, с которым, судя по некоторым признакам, и раньше была одно время близка...
Мальва – фигура чрезвычайно любопытная, и нам тем более надо на ней остановиться, что едва ли не во всех женщинах г. Горького есть так или иначе немножко Мальвы. Это тот самый женский тип, который мелькал перед Достоевским в течение чуть не всей его жизни: сложный тип, тоже находящийся jenseits von gut und bцse, так как к нему решительно неприменимы обычные понятия о добром и злом – одна из вариаций на сочетание двух знаменитых тезисов Достоевского: «человек деспот от природы и любит быть мучителем», «человек до страсти любит страдание». Мужские вариации на эту тему, как бы ни были они исключительны и болезненны, часто поражают у Достоевского своею яркостью и силой, но женские – в «Игроке», в «Идиоте», в «Братьях Карамазовых» – решительно ему не удавались. Все эти Полины, Грушеньки, Настасьи Филипповны и проч. оставляют вас в каком-то недоумении, хотя Достоевский сводит иногда даже по две представительницы этого загадочного типа (Настасья Филипповна и княжна Аглая в «Идиоте», Грушенька и Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых»). Вы только чувствуете, что у автора был какой-то сложный замысел, с которым, однако, не справился его жестокий талант. И недаром наша критика, много занимавшаяся женскими типами Тургенева, Гончарова, Толстого, Островского, обходила молчанием женщин Достоевского: это в художественном смысле наименее интересный пункт его мрачного творчества. Мальва г. Горького принадлежит к этому же типу, но она яснее, понятнее загадочных женщин Достоевского. Я, конечно, далек от мысли сравнивать изобразительную силу г. Горького с мощью одного из истинно великих художников, и дело здесь не в силе г. Горького, а в той грубой и сравнительно простой среде, в которой выросла и живет его Мальва и благодаря которой ее психология элементарнее, яснее, сохраняя, однако, те же типические черты, которые тщетно старался уловить Достоевский.
Один русский философ разделял женщин на «змеистых» и «коровистых». В этой не лишенной остроумия юмористической классификации Мальве нет места (как, впрочем, и многим другим женским типам). О сходстве с коровой не может быть и речи: для этого Мальва слишком жива, гибка и изворотлива, да и нет на ней той всегдашней печати материнства, которая лежит на корове. Со змеей же мы привыкли соединять представление о чем-то красивом и вместе с тем неизменно злобном. А Мальва вовсе не неизменно злобная женщина, да и вообще в ней нет ничего неизменного. Вся она состоит из переливов одного настроения или чувства в другое, часто противоположное, но быстро переходящее, причем сама она не могла бы не только определить причины этих переливов, но даже указать их границы, моменты перехода одного настроения или чувства в другое. И если нужно искать для нее зоологической параллели, которая бы выпуклее представила ее основные черты, я сказал бы, что она, как и загадочные героини Достоевского, напоминает собой кошку. Та же привлекательность, объясняющаяся сочетанием силы и мягкости (собственно Мальва, циничная и грязная, привлекательна только для героев г. Горького и в людях с более тонкими требованиями вызвала бы, конечно, совсем иные чувства; но я говорю о типе, оставляя пока в стороне специально босяцкие черты); та же лукавая изворотливость и ловкость, та же самостоятельность и всегдашняя готовность к самозащите иногда бегством, но иногда открытым и упорным сопротивлением, переходящим и в наступление; та же игривая ласковость и нежность, незаметно переливающаяся в озлобление, с которым кошка, играючи, придерживает ласкающую ее руку передними лапами, а задними царапает и зубами грызет: ради этой смеси ощущений, она, как и кошка, сама вызывает известную примесь жестокости, и даже до боли, в ласке...
Я вспоминаю, что Гейне поставил в преддверии своей «Книги песен» женского сфинкса – существо с женской головой и грудью и с львиным туловищем и львиными, то есть преувеличенными кошачьими, когтями. И этот сфинкс в одно и то же время счастливит и мучит поэта, ласкает и терзает когтями:
Umschlang sie mich, meinen armen Leib Mit den Löwentatzen zerfleischend. Entzückende Marter und wonniges Weh, Der Schmerz wie die Lust unermesslich! Die weilen des Mundes Kuss mich beglückt, Verwunden die Tatzen mich grässlich...[57]Читатель, который, может быть, только что возмутился не только вышеприведенным юмористическим разделением женщин на змеистых и коровистых, но и моим уподоблением известного человеческого типа кошке, теперь, пожалуй, подумает: с какой стати подниматься в высоты гейневской поэзии по поводу какой-то отверженной, грубой Мальвы? Не слишком ли это много чести для нее? Может ли она сама ощущать и в других возбуждать те тонкие оттенки сложных душевных движений, которые описаны Гейне? Я думаю, однако, что читатель не сказал бы этого, если бы у нас шла речь о Грушеньке «Братьев Карамазовых» или Настасье Филипповне «Идиота», а между тем фактически ведь это продажные женщины, хотя им и доступны высшие колебания и тяготения. Но всякому своя слеза солона. Да и, наконец, повторяю, не о Мальве собственно в эту минуту и речь. Несмотря на грязь, в которой она купается, в ней живут некоторые черты душевной жизни, которыми занимались люди высокого ума и сильного художественного дарования, но которые доселе мало изучены и недостаточно ясны. Черты эти сводятся главным образом к неопределенности границ между наслаждением и страданием, которые мы привыкли резко противопоставлять одно другому, вследствие чего вкладываем слишком абсолютный смысл в ходячее положение: человек ищет наслаждения и бежит страдания. Мрачный гений Достоевского стремился вывернуть этот афоризм на изнанку, придавая ему в этом вывороченном виде столь же безусловный смысл. Это ему не удалось, конечно, но и многими своими образами и картинами, и своим собственным примером, характером своего творчества он дал блестящие иллюстрации той entzьckende Marter и того wonniges Weh, той смеси страдания и наслаждения, которая несомненно существует. Вопрос этот слишком обширный и сложный, чтобы трактовать его в заметках об очерках и рассказах г. Максима Горького, и мы подойдем теперь прямо к Мальве. В таланте г. Горького нет ни силы, ни жестокости, ни бесстрашия Достоевского, но зато он вводит нас в среду, где не стесняются в словах и жестах, поют откровенные песни, ругаются крепкими словами, походя дерутся и где поэтому известные душевные движения получают осязательное, почти животное выражение.
Мальва живет с рыбаком Василием. Василий – пожилой мужик, покинувший для заработков пять лет тому назад деревню, где у него остались жена и дети. Живет он с Мальвой весело, но внезапно является к ним его сын, Яков, взрослый уже парень, с которым Мальва тотчас же начинает заигрывать. Делает она это, не только не стесняясь присутствием своего любовника, но еще поддразнивая его, и разговор кончается тем, что Василий ее жестоко бьет.
«Она, не ахнув, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ее зеленые глаза смотрели на него из-под ресниц и горели холодной грозной ненавистью. Но он, отдуваясь от возбуждения и приятно удовлетворенный исходом своей злобы, не видал ее взгляда, а когда с торжеством и презрением взглянул на нее – она тихонько улыбалась. Сначала чуть-чуть дрогнули ее полные губы, потом вспыхнули глаза, на щеках ее явились ямки, и она засмеялась». Затем Мальва ластится к Василию, уверяет его, что она довольна его побоями, а что дразнила его – «так ведь это я нарочно... пытала тебя, – и, успокоительно усмехнувшись, она прижалась к нему плечом. А он покосился в сторону шалаша (где оставался сын) и обнял ее. – Эх ты... пытала! Чего пытать? Вот и допыталась. – Ничего, – уверенно сказала Мальва, щуря глаза. – Я не сержусь... ведь любя побил? А я тебе за это заплачу... – Она в упор посмотрела на него, вздрогнула и, понизив голос, повторила: ах, как заплачу!»
Простодушный Василий видит в этом обещании нечто для себя приятное, но читатель может догадываться, что Мальва затаила злобу и месть. Мальва и действительно делает большую неприятность Василию: ссорит его с сыном и доводит дело до того, что он уходит домой, в деревню. Но план этот она задумывает уже позже, по совету забулдыги Сережки, а перед тем у нее происходит с этим Сережкой такой разговор. Она сообщила Сережке, что ее прибил Василий; Сережка подивился – как это она далась. «Кабы захотела, не далась бы, – возразила она с сердцем. – Так что же ты? – Не захотела. – Крепко, значит, любишь седого кота? – насмешливо сказал Сережка и обдал ее дымом своей папиросы. – Ну дела! а я было думал, что ты не из таких. – Никого я вас не люблю, – снова уже равнодушно говорила она, отмахиваясь рукой от дыма. – Врешь, поди-ка? – Для чего мне врать? – спросила она, и по ее голосу Сережка понял, что врать ей действительно не для чего. – А ежели ты его не любишь, как же ты ему позволяешь бить тебя? – серьезно спросил он. – Да разве я знаю? Чего ты пристаешь?»
Герои г. Горького вообще много дерутся, часто и баб своих бьют. Самые умеренные из них в этом отношении советуют: «никогда не следует бить беременных женщин по животу, по груди, и бокам... бей по шее или возьми веревку и по мягким местам» (II, 219). И бабы не всегда протестуют против этих правил. Жена Орлова говорит мужу: «очень уж ты по животу и по бокам больно бьешь... хотя бы ногами-то не бил» (I, 265). Бывает, однако, и так, что прекрасный пол переходит в наступление. В числе «бывших людей» есть старик Симцов, необыкновенно счастливый на амурные похождения: он «всегда имел двух-трех любовниц из проституток, содержавших его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стоически – сильно избить его они почему-то не могли – может быть, жалеючи» (II, 235). Но кто бы кого ни бил у г. Горького – мужчина женщину или женщина мужчину, – а эти физические упражнения и сопровождающие их озлобление, обида, страдание, боль так или иначе оказываются в какой-то связи с лаской, любовью, наслаждением. И, читая описания этих битв, поневоле вспомнишь героя «Записок из подполья» Достоевского и его изречения. «Иная сама, чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает: так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй...» «Знаешь ли, что из любви нарочно человека мучить можно». Или: «Любовь-то и состоит в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать». Оттого-то «Игрок» и Полина, как и многие другие пары Достоевского, никак не могут разобраться – любят они друг друга или ненавидят, как не знает и Мальва, любит она или ненавидит Василия. Но у Достоевского люди «тиранствуют» и «мучат» друг друга утонченно, при помощи разных кусательных слов, мучительного давления на воображение и проч., а здесь, у г. Горького, просто дерутся. Эта грубая форма не только, однако, не мешает проявлениям того же переплета наслаждения со страданием, но даже особенно ярко подчеркивает его. Не одна Мальва додразнивает мужа или любовника до драки, за которою следуют нежные ласки. Вот и Матрена, жена Орлова («Супруги Орловы»): «Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу, и она, вместо того чтобы двумя словами угасить его ревность, еще более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо странными улыбками. Он бесился и бил ее, беспощадно бил». А потом, когда злоба, достаточно насыщенная, утихала в нем и его брало раскаяние, он пробовал заговаривать с женой и допытываться, зачем она его дразнила. «Она молчала, но она знала зачем, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидают его ласки, страстные и нежные ласки примирения. За это она готова была ежедневно платить болью в избитых боках. И она плакала уже от одной только радости ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней» (I, 267).
Сюда же относятся следующие, например, случаи. Когда Коновалов объявил своей любовнице, Вере Михайловне, что он больше с ней жить не может, потому что его «тянет куда-то», она сначала стала кричать, ругаться, потом примирилась с его решением, а на прощанье – рассказывает Коновалов – «обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал. Так целый кусок и выхватила почти... недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел» (II, 13). Старуха Изергиль рассказывает про одного из своих многочисленных любовников: «Был он такой печальный, ласковый иногда, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо. А я, как кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее» (II, 304).
Старуха Изергиль называет свою жизнь «жадной жизнью» (II, 312). Буквально то же самое говорит в рассказе «На плотах» одно из действующих лиц про Марью: «жадна жить» (I, 63). Так же характеризуется и Мальва и др. Но таковы не только женщины г. Горького. И у Челкаша «натура жадная на впечатления» (I, 19), и Кузька Косяк учит: «жить надо и так, и эдак – вовсю чтобы» (I, 88). И т. д. Этим объясняется многое. Этим прежде всего снимается мистический покров с внутреннего голоса, предписывающего неустанное бродяжество. В условиях жизни героев г. Горького везде «тесно», везде «яма», как они беспрестанно, даже несколько надоедливо-однообразно повторяют. Является желание если не расширить и углубить сферу впечатлений, то менять их в пространстве, и даже до того, что хоть хуже, да иначе. А если и это почему-нибудь невозможно, то оказывается необходимость искусственного возбуждения. Дается оно, конечно, пьянством, но не одним пьянством. Достойна внимания отметка г. Горького о чувствах избиваемой жены Орлова: «побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу«. Вся душа Матрены Орловой требует работы, хотя бы и мучительной, лишь бы жить „вовсю“. Эта потребность всесторонней душевной деятельности, покупаемой ценою примеси страдания к наслаждению, интересно иллюстрируется рассказом „Тоска“. Это – „страничка из жизни одного мельника“.
Мельник Тихон Павлович не босяк какой-нибудь. Он богат, пользуется уважением и почетом и наслаждается «ощущением своей сытости и здоровья». Но вдруг он с чего-то загрустил: тоска обуяла, скука, совесть за разные кулацкие успехи начала угнетать. И Тихон Павлович стал вспоминать, с какого это времени на него нашло. Был он в городе и наткнулся на похороны, в которых его поразила смесь бедности с торжественностью: много венков, много провожатых. Оказалось, что хоронят писателя, и на могиле его один из провожавших сказал речь, которая растревожила Тихона Павлыча. Оратор, воздавая хвалу почившему, говорил, что он был не понят при жизни, потому что «засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души» и т. д. Красноречие ли оратора, особенности ли обстановки похорон или еще что-нибудь повлияло, но с этих пор Тихона Павлыча засосала тоска, тяжелое раздумье о своей «засыпанной хламом повседневных забот душе». Затем Тихон Павлыч нечаянно подслушал вышеприведенный разговор своего работника Кузьки Косяка с девушкой Мотрей и сам имел с Кузькой беседу, в которой старался сохранять вид «нравоучительный и чинный», но в душе завидовал «легкой жизни» веселого собеседника. Заговорил было Тихон Павлыч с женой на тему о душе, заваленной хламом; та посоветовала в церковь что-нибудь пожертвовать, сироту в дом взять, за доктором послать, но все это не удовлетворяло мельника. Он решил ехать в соседнее село Ямки к школьному учителю, который еще недавно обличил в газете одну его кулацкую каверзу. Кузька советует ему иное: «вы бы, хозяин, поехали до города, да и кутнули там вовсю; вот вам и помогло бы». Однако мельник даже несколько обижается этим советом и едет к учителю. Но тот, больной и желчный, не может вникнуть в состояние души обличенного им кулака и понять его бессвязные речи. Мельник едет в город, бессознательно исполняя совет босяка Кузьки, и там, в городе, закучивает. Все подробности этой оргии для нас неинтересны, но некоторые из них надо припомнить.
Грязный трактир. Разные пьяные, пропащие люди. Собираются петь, музыка есть – гармоника. И вот как один из компании учит гармониста: «Нужно начинать с грусти, чтобы привести душу в порядок, заставить ее прислушаться... Она чувствительна к грусти... Понимаете? Вот вы ей сейчас и закиньте удочку – „Лучинушкой“, к примеру, или „Заходило солнце красное“ – она и приостановится, замрет. А тут вы ее хватите сразу „Чоботами“ или „Во лузях“, да с дробью, с пламенем, с плясом, чтобы ожгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все в действие. Тут уж начнется прямо бешенство: чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость – так все и заиграет радугой...» Запели... Описание собственно этого пения (I, 128—133) принадлежит к числу лучших страниц в обоих томах рассказов г. Горького. Здесь нет и тени той фальши и тех досадных нарушений меры вещей, которые слишком часто оскорбляют и эстетическое чувство читателей, и их требование правды. Из знакомых мне изображений эффекта пения с этими страницами можно поставить рядом «Певцов» Тургенева, и за г. Горького не стыдно будет от этого сравнения. И вы понимаете, что пьяный трактир действительно затих при звуках этой песни и что мельник действительно «давно уже неподвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. Они снова будили в нем тоску, но теперь к ней примешивалось что-то едко-сладкое, щекочущее сердце... Было что-то жгучее и щиплющее во всех этих ощущениях – оно было в каждом из них и, соединяясь, образовало в душе мельника странную сладкую боль, точно большая, давившая его сердце льдина таяла, распадаясь на куски, и они кололи его там, внутри».
«Сладкая боль»! – ведь это буквально гейневские entzьckende Marter и wonniges Weh («сладкая мука, блаженная боль» в переводе М. Л. Михайлова). Она одновременно счастливит и мучит мельника, и это состояние он старается выразить отрывистыми восклицаниями: «Братцы! Больше не могу! Христа ради, больше не могу!», «Душу мою пронзили! Будет – тоска моя! Тронули вы меня за больное сердце, то есть часу у меня такого не было еще в жизни!», «Тронули вы мне душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя – ах, как! В огонь бы полез».
После четырех дней безобразного кутежа Тихон Павлович возвращается домой мрачный, недовольный. Автор в эту именно минуту покидает его, не сообщая ничего о его дальнейшей судьбе, но можно догадываться, что, вернувшись домой, он вернулся и к прежнему образу жизни, лишь изредка вспоминая мгновенья мучительно-сладких ощущений, пережитых им по рецепту босяка Кузьки...
Таковы окольные пути, которыми «жадные жить» герои г. Горького добывают нужные им полноту и разнообразие впечатлений. Пути эти, очевидно, должны быть поставлены отдельно от пьянства, хотя и соприкасаются с ним, – Матрена Орлова не в пьяном виде додразнивает своего мужа до взаимного озлобления, в котором находит, однако, источник некоторой «сладкой боли». Но и самое пьянство этих людей, помимо его скотски-грубых проявлений, может получить то объяснение, которое Тургенев влагает в уста Веретьеву в «Затишье»: «Посмотрите-ка вон на эту ласточку... Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом, куда хочет, туда и бросит! Вон взвилась, вон ударилась книзу, даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, – чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка. Швыряй себя куда хочешь, несись куда вздумается...»
Пойдем дальше. Чтобы «швырять себя куда хочешь и нестись куда вздумается» в пьяном виде, то есть мысленно облетать миры фантазии и действительности, требуется только водка. Но чтобы реально шагать с места на место по всей земле, как этого хотят герои г. Горького, нужна свобода. Не свобода передвижения только, засвидетельствованная законным документом, подлежащими властями выданным, а свобода от всяких постоянных обязанностей, от всяких уз, налагаемых существующими общественными отношениями, происхождением, принадлежностью к известной группе, законами, обычаями, предрассудками, правилами общепринятой морали и т. д. Мы и видим, что герои г. Горького все отличаются свободолюбием в этом широчайшем, безграничном смысле. Макар Чудра объявляет рабом всякого, кто не бродит по земле куда глаза глядят, а усаживается на месте и так или иначе пускает корни: такой человек «раб, как только родился и во всю жизнь раб». Для «жадного на впечатления» Челкаша Гаврила есть «жадный раб», и Челкашу обидно, что этот раб смеет по-своему «любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна». Значит, есть жадность и жадность. Жадный Гаврила, набрав денег, зароется в свою деревенскую «яму», а жадный Челкаш сейчас же разменяет эти деньги на острые и разнообразные впечатления севера и юга, востока и запада. На всякого рода границы, как географические, так и моральные, реальные и идеальные, эти отверженные или, вернее, как я уже говорил, отвергнувшие смотрят сверху вниз, с высоты своего «жадного жить» я, как на нечто, урезывающее это я до непереносимости. Правда, некоторые из них иногда с грустью и даже с умилением вспоминают о своем прошлом, когда они еще входили в состав того или другого определенного общественного целого и сознательно или бессознательно подчинялись его распорядкам, но это настроение посещает их редко и ненадолго, и вернуться к прошлому они все равно не хотят и не могут. В настоящем их ничто не объединяет в какое-нибудь прочное, постоянное целое. «Народ... он огромный, но я ему чужой и он мне чужой... Вот в чем трагедия моей жизни», – говорит «учитель» в «Бывших людях» (II, 205). Образцы отношений к другим общественным узам мы уже в прошлый раз видели и дальше опять встретим. Для одних из этого проистекает трагедия, для других комедия или даже водевиль, как для Кузьки Косяка, но это дело темперамента, и суть отношений от этого не изменяется.
Иные из героев г. Горького временами как будто «грядущего града взыскуют», но это только разговоры, одна словесность, притом нисколько для них не характерная. Гораздо более свойственные им идеалы и мечты сводятся, как мы видели, к полному отчуждению от людей, полному отсутствию «града», в смысле какого бы то ни было общежития, или к совершенно особому виду отношений, о котором сейчас поговорим подробнее, или же, наконец, к планам всеобщего разрушения. Замечательно однообразие, с которым (как и многое другое) высказывают эти планы люди г. Горького, в других отношениях, казалось бы, очень различные. Так, мы видели, Мальва «избила бы весь народ и потом себя страшною смертью». Так, Орлов мечтает «отличиться на чем-нибудь», хотя бы даже «раздробить всю землю в пыль», «вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всех людей и плюнуть на них с высоты и потом вниз тормашками – и вдребезги!» А вот еще Аристид Кувалда: «Мне, – говорит он, – было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги. Лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других» (II, 234). Погибнуть, совершив нечто большое, огромное, грозное, не справляясь с существующей моральной оценкой или даже вопреки ей, – такова мечта.
Но, кроме жития на манер Робинзона (причем и Пятницы не надо, и его можно за ненадобностью убить) и планов всеобщего разрушения, у героев г. Горького есть и еще одна мечта, быть может, самая интересная. Они «жадны жить», для чего им нужна безграничная свобода и никому и ничему они не согласны подчиняться. Но из этого не следует, чтобы каждый из них в отдельности не хотел и других подчинять. Напротив, в подчинении и порабощении других они находят особое наслаждение. Челкаш «наслаждался, чувствуя себя господином другого» – Гаврилы. Он «наслаждался страхом парня и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек». Он «наслаждался своей силой, которой он поработил этого молодого, свежего парня». Оттого-то и Орлов мечтает «встать выше всех людей» и сделать им всем огромную пакость. Но встать выше людей можно не только пакостью, а и благодеянием. И тот же Орлов одно время был одолеваем «жаждой бескорыстного подвига» – вот по каким мотивам: «Он чувствовал себя человеком особых свойств. И в нем забилось желание сделать что-то такое, что обратило бы на него внимание всех, всех поразило бы и заставило убедиться в его праве на самочувствие» (I, 303). Поневоле опять и опять вспомнишь Достоевского с его Ставрогиным, который не знал разницы между величайшим подвигом самоотвержения и каким-нибудь зверским делом, и с его многочисленными иллюстрациями наслаждения властью, мучительством, тиранством. Жажда благородного подвига сказалась в Орлове, когда он вместе с Матреной поступил на службу в холерную больницу. Но и там ему скоро показалось «тесно», и это место болезни, печали и воздыхания, поманившее его радостью любовного труда, оказалось «ямой». В кратковременный же период увлечения мечтой о подвиге он рассуждал, например, так: «То есть если бы эта холера да преобразилась в человека... в богатыря... хоть в самого Илью Муромца, – сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! Ты сила, и я, Гришка Орлов, сила, – ну, кто кого? И придушил бы я ее и сам бы лег... Крест надо мной в поле и надпись: „Григорий Андреев Орлов. Спас Россию от холеры“. Больше ничего не надо». Но когда ему показалось «тесно», он опять принялся за Матрену, постоянно переходя от страстных ласк к жестокой драке. Однажды, например, он было «поддался» жене – покорно выслушал ее упреки и признал, что нехорошо делает, что дерется. Но на другой же день раскаялся в этом душевном движении и «пришел с определенным намерением победить жену. Вчера, во время столкновения, она была сильнее его, он это чувствовал, и это унижало его в своих глазах. Непременно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему: он не понимал почему, но твердо знал – нужно».
Подобные же черты читатель найдет и в других героях и героинях г. Горького. И, как бы проникаясь этим настроением своих созданий, сам автор от себя кладет в одном месте следующую психологическую резолюцию: «Как бы низко ни пал человек, он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, хотя бы даже сытее своего ближнего» (II, 211).
Я написал: «как бы проникаясь настроением своих созданий». В действительности может быть совершенно наоборот: не автор, увлеченный самым процессом творчества, проникается настроением своих персонажей, а, напротив, автор творит людей по своему образу и подобию, вкладывая в них нечто свое, задушевное. Во всяком случае, только что приведенная авторская резолюция показывает, что, как бы мы тщательно ни всматривались в босяков г. Горького, мы их не поймем и, в частности, не оценим степени их подлинности, пока не приглядимся к самому г. Горькому.
До сих пор мы видели босяков, может быть и подкрашенных, но, во всяком случае, реальных. Но в собрании очерков и рассказов г. Горького есть и такие, в которых изображаются босяки, так сказать, отвлеченные, очищенные или даже иносказательные, аллегории и символы босячества. Таковы в первом томе «Песня о Соколе» и то, что Макар Чудра рассказывает про Лойка Зобара и Радду, а во втором – рассказ «О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины» и то, что старуха Изергиль рассказывает про Данко. Герои этих рассказов – существа фантастические или полуфантастические – столь же вольнолюбивы и жадны жить, как и заправские босяки в освещении г. Горького, но совершенно чужды другой стороны реальной босяцкой жизни – мира тюрем, кабаков и домов терпимости. Понятно, какой интерес представляют эти отвлеченные, фантастические существа для уразумения точки зрения автора. Та скорбь и то отвращение, которые он часто не может сдержать при описании пьянства, грубости, цинизма, драк реальных босяков, при этом, естественно, отпадают, и мы можем рассчитывать получить в чистом виде то, что поднимает отверженцев над общим уровнем, как в их собственных глазах, так и в глазах автора.
Начнем с рассказа Макара Чудры про Лойка Зобара и Радду. Это рассказывает старый цыган о молодых цыгане и цыганке, и рассказ его блещет роскошью восточных красок, гиперболических сравнений, сказочных подробностей, но я должен признаться, что он производит на меня впечатление неудачной подделки. Дело, впрочем, теперь не в этом. Зобар – красавец писаный, притом смел, умен, силен, вдобавок поэт и играет на скрипке так, что когда в таборе, к которому принадлежала Радда, в первый раз услыхали, еще издали, его музыку, то произошло следующее: «Всем нам, – рассказывает Чудра, – мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего и жить уж не нужно было или, коли жить, так царями над всей землей«. Характерно уже это „или – или“: или ничто, небытие, или вершина вершин. Но Макар Чудра может испытывать это настроение во всей полноте только в минуты экстаза, вызванного чудодейственною музыкой. Другое дело Зобар. И Радда ему под пару: она тоже писаная красавица, тоже умна, сильна, смела. Естественное дело, что, когда судьба сталкивает молодого человека и молодую девушку таких исключительных и многоразличных достоинств, между ними возгорается любовь со всем радужным блеском страсти и нежности. Зобар и Радда действительно полюбили друг друга, но, как и у реальных босяков г. Горького, любовь их до боли колюча – даже до смерти. Радда – та же Мальва, только поднятая на некоторую поэтическую высоту. Отношения начинаются с того, что Зобар, привыкший „играть с девушками, как кречет с утками“, получает от Радды жесткий и язвительный отпор. Она зло издевается над ним, но он или провидит под этим издевательством нечто иное, или уж очень в себе уверен, а только, при всем честном народе, обращается к ней с такой речью: „Много я вашей сестры видел, эге много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну, что же? Чему быть, так то будет, и нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно бы было. Беру тебя в жены перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь, я все-таки свободный человек и буду жить так, как я хочу!“ И с этими словами подошел к Радде, „стиснув зубы и сверкая глазами“. Но Радда вместо ответа свалила его наземь, ловко захлестнув ему за ногу ременное кнутовище, а сама смеется. Зобар, пристыженный и огорченный, ушел в степь и там замер в мрачном раздумье. Через несколько времени к нему подошла Радда. Он схватился было за нож, но она пригрозила разбить ему голову пистолетной пулей и затем объяснилась в любви; однако, говорит, „волю-то я, Лойко, люблю больше тебя; а без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня; так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой, и телом“. „Все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею“, – продолжает она и требует, чтобы он завтра же „покорился“ и выразил эту покорность внешними знаками: публично, перед всем табором поклонился бы ей в ноги и поцеловал ей руку. Зобар на другой день является и держит перед табором речь, в которой объясняет, что Радда любит свою волю больше, чем его, а он, напротив, любит Радду больше, чем волю, и потому согласен на поставленные ею условия, но, говорит, „остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала“. С этими словами он вонзает нож в сердце Радды, и она умирает, „улыбаясь и говоря громко и внятно: «Прощай, богатырь Лойко Зобар! Я знала, что ты так сделаешь“. Выходит затем отец Радды и убивает Зобара, но убивает, так сказать, почтительно, как уплачивают долг уважаемому кредитору.
Такова любовь в тех фантастических, так сказать, надземных сферах, где герои г. Горького являются очищенными от всего, чем грязнит их мир кабаков, домов терпимости и тюрем. Пролита кровь, но не в какой-нибудь пьяной драке и не из корыстных видов: г. Горький так обставил дело, что кровь Радды проливается с ее согласия и она умирает «улыбаясь» и воздавая хвалу убийце, а ее отец и Зобар просто – один отдает, а другой получает долг. Зобар и Радда жадны жить. Как в короле Лире «каждый вершок – король», так и в них каждый вершок жить хочет. Поэтому они хотят быть совершенно свободными, а любовь, они чувствуют, уже урезывает эту свободу: «смотрел я, – говорит Зобар, – этой ночью в свое сердце и не нашел места в нем старой вольной жизни моей». Если любовь с их точки зрения и не совсем совпадает с определением героя Достоевского («добровольно дарованное от любимого предмета право над ним тиранствовать»), то, во всяком случае, элемент господства, преобладания, власти играет в ней существенную роль. А так как Зобар и Радда равноценны, то задача покорения оказывается невозможною, и они на этой невозможности погибают. Но они не уклоняются от этой погибели и не жалеют о ней.
Не жалеет о своей погибели и сокол в «Песне о Соколе». Он расшибся, падая с высоты на камень (а потом в море), но на вопрос ужа презрительно и гордо отвечает: «Да, умираю!.. Я славно пожил... Я много прожил... Я храбро бился... И видел небо. Ты не увидишь его так близко... Эх ты, бедняга!» Заинтересованный этими словами, уж в меру своих сил тоже попробовал было подняться к небу, но «рожденный ползать – летать не может», и уж рассуждает: «Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она – в паденьи... Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу». И т. д. Однако песня или сказка («Песня о Соколе» есть будто бы народная крымско-татарская песня-сказка) не согласна с ужом и поет хвалу жадному жить, свободному соколу: «О, смелый сокол! Ты, живший в небе, бескрайном небе, любимец солнца! О, смелый сокол, нашедший в море, безмерном море, себе могилу! Пускай ты умер! Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь призывом громким к свободе, к свету!»
Чиж («О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины»), чиж – не сокол. Он птица маленькая и слабокрылая. Однако у него хватило силы и смелости смутить на некоторое время птиц своей рощи песнями о свободе, просторе, призывами «вперед». Но ученый дятел скоро отвратил от него общественное мнение, доказав птицам, что путь, предлагаемый чижом, полон опасностей и ни к чему хорошему привести не может. Бедный чиж, оставленный всеми, горько задумался: «Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо! Я же только и хотел пробудить веру и надежду – и вот почему я солгал... Он, дятел, может быть и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья и не позволяет высоко взлетать на небеса?» Чиж предпринял ни больше ни меньше как возбудить в птицах уверенность, что «мы не должны уставать и должны всегда бороться и все победить, чтобы оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее – это мы, а не слепая сила стихий». Он был тоже жаден жить, этот маленький чиж. Дятел же отстаивал противоположный тезис: «все мы – не более как только крошечные факты, подтверждающие грандиозный факт мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, как дети подчиняются матери». Чиж был жаден жить, но слаб и не сумел парировать аргументы дятла, и толпа отхлынула от него и оставила его в мрачном одиночестве, а автор резюмирует всю историю так: «Чиж благороден, но не имеет веры и поэтому нищ духом; дятел благоразумен, но пошл, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они в сущности черствы сердцем и мелки, мелки, позорно мелки...»
Черствы сердцем и мелки, позорно мелки не только птицы той рощи, которую было взбудоражил чиж и утихомирил дятел. Старуха Изергиль рассказывает такую легенду. Где-то, когда-то жили какие-то люди. Нахлынуло на них чужое племя и оттеснило в глухой, дремучий, болотистый лес. Плохо пришлось людям: назад идти нельзя – там сильные и злые враги, а впереди лес все дремучее, болота все непроходимее. Стали люди болеть, умирать. «Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар себя и волю свою, и никто уж, испуганный смертью, не боялся рабской жизни». Но среди этой запуганной толпы был Данко. Изергиль особенно напирает на его красоту и смелость – должно быть, он был похож на Лойко Зобара. Данко взялся вести своих товарищей по несчастию. Не то чтобы он знал какие-нибудь безопасные или удобные дороги – нет, единственно, на что он сослался, это то, что должен же быть у этого страшного леса где-нибудь конец, потому что ведь всему на свете бывает конец. Но он заявил это с такой уверенностью, что в сердцах слушателей заиграла надежда и они пошли за Данко. Но лес становился все гуще, мрачнее, люди стали роптать и, наконец, даже грозить Данко смертью. Негодование и жалость к этим презренным людям овладели Данко, «и вот его сердце вспыхнуло ярким огнем желания спасти их и вывести на легкий путь... И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно же пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота». Руководимые этим факелом люди прошли сквозь лес в степь, но тут Данко, «кинув радостный взор на развернувшуюся перед ним свободную землю», умер. «Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»
Данко совершает подвиг самопожертвования, причем оказывается одиноким сначала впереди смущенной толпы, потом одиноким перед разъяренной толпой, потом опять одиноким впереди толпы обнадеженной, спасенной и неблагодарной. Ларра (это имя, по объяснению старухи Изергиль, значит «отверженный, выкинутый вон») тоже одинок в толпе соплеменников, но он не совершает подвига самопожертвования. Напротив... Ларра – сын орла и похищенной им женщины. Орел умер («когда он стал слаб, то поднялся в последний раз высоко на небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы гор»), его невольная жена вернулась к своему племени с двадцатилетним сыном, сильным, гордым и смелым красавцем, опять-таки вроде Зобара или Данко. Он сразу встал в дурные отношения к старейшинам племени, отказавшись им повиноваться и объявив, что «таких, как он, нет больше». Затем он подошел к одной красивой девушке и обнял ее; она его оттолкнула, а он «ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, встал так, что из ее уст кровь брызнула к небу и она вздохнула тяжко, извилась змеей и умерла». Его связали и хотели казнить, но сначала попытались добиться, зачем он убил девушку. Он отказался отвечать связанный, а когда его развязали, сказал следующее: «Я, может быть, сам не верно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, что меня оттолкнула она; а мне было нужно ее». Из дальнейшего разговора выяснилось, что «он считает себя первым на земле и что, кроме себя, он не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни подвигов, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого». И когда поняли это, то мудрейший из старейшин племени придумал ему страшное наказание: «Наказание ему в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание». Юноша весело ушел и стал жить «свободный, как отец его; но его отец не был человеком, а этот был человек». Он был ловок, силен, хищен, жесток; он приходил время от времени к людям и брал все, что ему нужно было. В него стреляли, но стрелы «не могли пронизать его тела, обвитого невидимым человеку покрывалом высшей кары». Многие, многие годы жил он так, но наконец это ему надоело. «Нельзя всегда наслаждаться – потеряешь цену наслаждению и захочется страдать». Он и пошел к людям с этой целью, но они не тронули его, он покушался убить себя, но смерть не брала его. «В глазах его было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. И так с той поры остался он один, свободный и ищущий смерти. И вот он ходит, ходит, повсюду...»
Лойко Зобар, Радда, Сокол, Чиж, Данко, Ларра – вот вся портретная галерея идеальных, очищенных от грязи босяков г. Горького. Что это именно они – преображенные Челкаши, Мальвы, Кувалды, Косяки и проч., – в этом едва ли кто-нибудь усомнится. Мы видим в них ту же «жадность жить»; то же стремление к ничем не ограниченной свободе; то же фатальное одиночество и отверженность, причем не легко установить – отверженные они или отвергнувшие; ту же высокую самооценку и желание первенствовать, покорять, находящие себе оправдание в выраженном или молчаливом признании окружающих; то же тяготение к чему-нибудь чрезвычайному, пусть даже невозможному, за чем должна последовать гибель; ту же жажду наслаждения, соединенную с готовностью как причинить страдание, так и принять его; ту же неуловимость границы между наслаждением и страданием.
Но это не трафареты, а варианты, иногда, в отдельных чертах, даже слишком близкие между собою, иногда расходящиеся довольно далеко, но, во всяком случае, так сказать, вращающиеся около одной оси. Если, например, Орлов сегодня мечтает о спасении России от холеры ценою собственной жизни, а завтра об избиении «всех до единого жидов» или даже о раздроблении всей земли в пыль, то в коллекции очищенных босяков подвиг самопожертвования предоставлен Данко, а злодейские подвиги – Ларре; но, несмотря на эту разницу, и тот и другой являются нам в некотором ореоле гордой силы и красоты. Если Чиж слабокрыл и вообще слаб сам, то он все же зовет других к свободе, простору и по крайней мере на некоторое время покоряет сердца призывом птиц к великому делу. Если Коновалов находит ненужным присутствие даже Пятницы на острове Робинзона, а Ларре одиночество досталось в виде страшной кары, то с течением времени Коновалов, надо думать, пожалел бы, что убил «дикого», хотя бы уже потому, что оказался бы в «яме»; а Мальве, тоже мечтающей об одиночестве, люди, наверное, понадобились бы, чтобы «вертеть» ими. С другой стороны, Ларра далеко не сразу почувствовал боль и скорбь одиночества: он наслаждался им «не один десяток длинных годов», и вернулся он к людям потому, что его потянуло к страданию. В целом получается нечто смутное, загадочное, как бы еще только прорезывающееся и, по-видимому, оправдывающее претензию Аристида Кувалды... мы новость в истории, нам нужны новые воззрения на жизнь...
Появлению таких ли, сяких ли «новых людей», не в виде одиноких ласточек, которые весны не делают, а в виде целого «класса», как это утверждает относительно своих босяков г. Горький, должно соответствовать известное изменение общественных условий. Но после всего сказанного едва ли есть какая-нибудь надобность доказывать, что герои г. Горького «класса» не составляют, как в силу неопределенности их положения, так и в особенности в силу проникающего все их существо индивидуализма, исключающего возможность прочной группировки. Это, однако, еще ничего не говорит против их «новости». Но мы видели, что г. Горький даже не коснулся тех внешних, объективных условий, которые действительно только в наше время создают босяков; что, вследствие этого, его «новые» босяки по происхождению ничем не отличаются от старых гулящих людей и голи кабацкой и даже напоминают собою времена кочевого быта. Это подтверждается еще и тем обстоятельством, что в рядах героев г. Горького есть настоящие кочевники, ничем, собственно, из них резко не выделяясь. Зобар, Радда, Данко, Ларра – существа фантастические или по крайней мере легендарные; поэтому их, пожалуй, и нельзя брать в счет, хотя и то уже достойно внимания, что эти создания фантазии помещены в условия кочевого быта. Но Изергиль, Макар Чудра – цыгане, из тех, которые «шумною толпой по Бессарабии кочуют», то есть настоящие, живые кочевники, насколько они удержались в условиях современной европейской жизни. А между тем их мысли, чувства, поступки в общем совершенно те же, что у Мальвы, Гришки, Кузьки Косяка и проч. Значит, какая же это «новость»? Это, напротив, нечто очень старое, давно пережитое историей, лишь кое-где сохранившееся в урезанном виде и не имеющее никакой связи со вступительной картиной рассказа «Челкаш», где «гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди – все дышит мощными звуками бешено-страстного гимна Меркурию».
Если, однако, «новость» героев г. Горького ни единою чертою не оправдана с точки зрения их происхождения, порождающего их исторического процесса, то, как я уже говорил, в их психологии есть нечто действительно новое. Но в таком случае можно ожидать, что в психологию кочевников – Изергили, Макара Чудры и их отражений в мире фантазии и легенды, то есть Зобара, Ларры и проч. – автор ввел некоторые произвольные, не соответствующие действительности черты. Так оно и есть.
Слово «чандалы», подвернувшееся мне для обозначения наших босяков и европейского Lumpenproletariat'a[58], наводит на некоторые любопытные сближения. Существует мнение, что цыгане суть потомки индийских чандалов, когда-то выселившихся или выселенных из родины. Чандалы же индийские суть отверженцы разных каст, цементированные национальным элементом туземного, доарийского населения и затем строгими постановлениями суровых индусских законов и обычаев. Действительно ли цыгане их потомки или нет, но они, во всяком случае, представляют собою отверженное (или отвергнувшее) племя, распадающееся, как и все кочевники, не непосредственно на индивидуальные атомы, а на орды, таборы, роды, семьи. Сообразно этому, свобода и свободолюбие кочевого человека представляют собою нечто очень относительное: он с трудом переносит ограничения, налагаемые условиями цивилизованной жизни, но вместе с тем крепко стиснут теми общественными единицами, в состав которых входит. Об цыганской вольной жизни мы имеем совершенно фантастические представления, основанные главным образом на разных «цыганских романсах». В действительности, цыган и особенно цыганка находятся в полной власти своего табора, что сохранилось даже в тех цыганских «хорах», которые дают нам свои концерты; и не только находятся во власти, но и не тяготятся этими узами, доколе остаются настоящими, типическими цыганами. Кочевник любит свободу, но совсем не так и не такую, как современный босяк, и обратно – какой-нибудь Кузька Косяк, или Сережка, или Коновалов, при всей своей склонности к бродяжеству, почувствовали бы себя очень плохо в таборе, в котором так хорошо уживается Макар Чудра, тоже исповедующий принцип вечного бродяжества. Кочевник бродяжит целой ордой, табором, стадом, с которым связан самыми тесными узами, а Сережка и Кузька бродяжат в одиночку и никаких уз не знают или не хотят знать. В этом и состоит их «новость», но не только в этом.
Слово «чандалы» наводит еще на одну справку. Выше были указаны некоторые точки соприкосновения г. Горького с Достоевским. А в 1894 году, излагая на этих же страницах с некоторою подробностью учение Фр. Ницше, я отметил подобные же точки соприкосновения с Достоевским несчастного немецкого мыслителя. Указывал я и на необыкновенное уважение, с которым Ницше относился к нашему художнику, знакомому ему, по-видимому, только по «Запискам из Мертвого дома». В одном из своих сочинений («Gotzen Dдmmerung»), восторгаясь силою психологического анализа, с которою Достоевский проникает в душу обитателей Мертвого дома, Ницше говорит о «чувстве чандала», чувстве «ненависти, мести и восстания против всего существующего», каковое чувство, дескать, живет в душе каждого сильного человека, не нашедшего себе места в современном «покорном, посредственном, кастрированном обществе».
Думаю, что читатель не затруднится усмотреть это чувство в героях г. Горького. Но соблазнительная возможность сближения с идеями Ницше идет гораздо дальше. Предупреждаю, что я отнюдь не думаю доказывать, что свое освещение жизни г. Горький заимствовал у Ницше, – он нигде о нем не упоминает (хотя нашел же случай упомянуть, например, о Шопенгауэре) и, может быть, совсем не знаком с ним. Но тем интереснее совпадение, свидетельствующее о том, что известные идеи носятся в воздухе, не только кристаллизуясь в виде все растущего множества поклонников Ницше в Европе, но вот и у нас прорезывающихся самостоятельно, не говоря о людях, прямо заимствующих свой свет от Ницше. Во всяком случае, Ницше со всем своим нравственно-политическим учением не был бы чужим среди философствующих босяков г. Горького.
Начать с того, что одиночество играет в соображениях Ницше не меньшую роль, чем в мечтах и в жизни босяков г. Горького. Ницше слагает настоящие гимны одиночеству и даже предлагает установить новую научную дисциплину: рядом с наукой об обществе, Gesellschaftslehre, – науку об одиночестве, Einsamkeitslehre. Но одиночество не только драгоценно и как таковое составляет законный предмет мечтаний – оно неизбежно для всякого сильного человека, так как любая общественная форма требует от него уступок хоть какой-нибудь части его я, а он на подобные уступки согласиться по самой своей природе не может[59].
Но, кроме сильных, существуют и слабые, охотно подчиняющиеся многоразличным ограничениям свободы, да и для сильных Einsamkeitslehre не исключает надобности в Gesellschaftslehre – не потому, чтобы одиночество было невозможно: Ницше не знает ничего лучшего, как «погибнуть на великом и невозможном»; и не потому, чтобы одиночество доставляло страдания: Ницше готов принять страдание, и высшее наслаждение для него состоит в борьбе со всеми ее положительными и отрицательными шансами; но главным образом потому, что в сильных живет Wille zur Macht, «воля к власти», как у нас буквально переводят. Эта жажда власти, могущества есть, по мнению Ницше, главный двигатель истории и тесно связана с одним из коренных свойств человеческой природы – жестокостью: «вид страдания доставляет удовольствие, причинение страдания доставляет еще большее удовольствие; таков жестокий, но старый и могущественный закон» (Genealogie der Moral). Аскетическая практика самоистязания в ее свирепых формах имеет тот же источник: за отсутствием или недосягаемостью других индийский фанатик и т. п. терзает свое собственное тело и при том наслаждается своим превосходством над теми, кто не в силах это делать. Слабость, трусость, лицемерие часто заслоняют эти коренные свойства человеческой природы, и в настоящее время у цивилизованных народов создали «мораль рабов» в противоположность «морали господ», которую некогда исповедовали сильные, жизнерадостные, жестокие, чувственные, властные люди – «великолепные, жаждущие победы и добычи животные». То было время торжества красоты, силы, время здоровых инстинктов, не изъеденных рассудочным анализом и мертвящей рефлексией[60]. Ныне торжествует «мораль рабов», в основании которой лежит кротость, смирение, покорность, умеренность и аккуратность, не воздействие на обстоятельства, а подчинение им. Но временами прокидываются экземпляры прирожденных «господ», которым принадлежит будущее. Они суть прообразы «сверхчеловека», имеющего наследовать землю. В настоящее же время они суть чандалы, отверженные или отвергнувшие носители чувств мести и ненависти ко всему существующему, не уживающиеся в тех, если угодно, «ямах», которые им предлагаются существующими условиями, и населяющие Мертвый дом Достоевского. Но этот исход не единственный, это только случай победы прирожденного «господина» рабским обществом; возможен и противоположный исход, когда чандал, преступивший все законы и всю мораль рабского общества, становится его действительным господином: таков был Наполеон. (Напомню, что и для Раскольникова в «Преступлении и наказании», считавшего себя необыкновенным, из ряда вон выходящим человеком, имеющим право «преступить», Наполеон был идеалом.)
Я не думаю, конечно, излагать здесь все взгляды Ницше и оставляю в стороне многое, очень многое, в том числе подробности о «сверхчеловеке», о проповеди «любви к дальнему» взамен «любви к ближнему» и т. п. Все это не имеет своей параллели в произведениях г. Горького. Для нас интересна здесь только психология чандалов. И, полагаю, никто не усомнится признать разительное сходство ее с психологией героев г. Горького. Кто, как не ницшевские прирожденные господа этот Челкаш в противоположность рабу Гавриле, Сокол в противоположность Ужу, Кузька Косяк в противоположность мельнику, Данко в противоположность всему табору, удалец Сережка в противоположность разной деревенщине, даже отчасти Чиж в противоположность Дятлу или Макар Чудра, который учит автора: «Что ж, он родился затем, что ли, чтобы поковырять землю да и умереть, не успев даже могилы себе выковырять? Ведома ему воля? Жизнь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Эге! Он раб, как только родился, и во всю жизнь раб».
Отмечу некоторые любопытные детали. Ницше рекомендовал (в «Morgenrцthe») всем, кому тесно в Европе и кто, конечно, чувствует себя «господином», удаляться в дикие места и там основывать новые государства, становясь во главе их. Ницше, как сообщают его биографы, и сам одно время мечтал о подобной роли. Не напоминает ли это читателю мысленное переселение Коновалова на остров Робинзона? Хотя Коновалов устранял оттуда даже Пятницу, но, как я уже говорил, по всей вероятности, скоро пожалел бы об этом. По крайней мере Мальва мечтает или жить далеко в море в полном одиночестве и, следовательно, никому не подчиняться, или «завертеть бы каждого человека, да и пустить волчком вокруг себя», то есть себе подчинить.
Мы видели, что босяки г. Горького не особенно мягко относятся к своим дамам и бьют их. А Ларра, осужденный на одиночество, приходил брать у своих соплеменников силком «скот, девушек, все, что хотел». Значит, присутствие женщин не нарушало его одиночества, женщина в счет не идет. Для Ницше женщина «изящная и опасная игрушка», высшею мечтою которой должна быть надежда родить сверхчеловека. А мудрая старушка советует Заратустре: «если ты идешь к женщине, не забудь захватить кнут». Нo, конечно, и мудрая старушка, и сам Заратустра сделали бы исключение, например, для Радды, которая, будучи прирожденной «госпожой», столь же мало способна подчиниться Зобару, как и он ей.
Еще одно – и последнее – мелкое замечание, оправдать которое предоставляю самому читателю: кто читал статью Ницше «Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben»[61], тот может принять рассказ г. Горького о Чиже и Дятле чуть не за художественный комментарий к этой статье...
Что из всего этого следует? Прежде всего то, что больной немецкий мыслитель-художник, произведения которого переполнены странностями, противоречиями, произвольными положениями и выводами, но тем не менее высокообразованный и высокодаровитый, а некоторые утверждают – даже гениальный, что этот мыслитель-художник может занять место среди русских Челкашей, Сережек, Кузек и прочих грубых, пьяных, преступных, невежественных героев г. Горького. Это не так странно, как может показаться с первого взгляда. С одной стороны, сам Ницше различает чандалов – обитателей Мертвого дома и чандалов – Наполеонов, причем различие это устанавливает не по существу, а по случайностям судьбы тех и других; с другой стороны, и в коллекции г. Горького есть не только Сережки и Кузьки, а и облитые поэтическим ореолом Зобары, Данки, Соколы, Ларры. Наконец, мы имеем еще промежуточное звено в лице многих героев Достоевского, каковы не только обитатели Мертвого дома, приближающиеся к Сережкам и Челкашам, а и Ставрогины, Раскольниковы и проч., приближающиеся к Зобарам, Ларрам, Наполеонам.
Повторяю, я отнюдь не утверждаю, что на г. Горького имел влияние Ницше, и склонен, напротив, думать, что это именно совпадение, а не сознательное усвоение или бессознательное подражание. Влияние Достоевского может быть достовернее. Но, во всяком случае, мы имеем трех писателей, весьма различных, по-видимому, и по совокупности образа мыслей, и по степени таланта, и по форме работы, но сосредоточивших свое внимание на одних и тех же явлениях душевной жизни, весьма мало изученных. И, по-видимому, эти явления становятся все ярче, заметнее, потому что вот по крайней мере в Европе они нашли себе теоретическое обоснование и апологию в учении Ницше.
Надо, однако, заметить, что физиономия Ницше представляет собою нечто чрезвычайно сложное и противоречивое, ввиду чего в Европе, несомненно переживающей ныне некоторый духовный кризис, им интересуются, желают опереться на него или причислить его к своим люди чрезвычайно различных направлений. Не говорю о тех, кто гонится за всякой новинкой, какова бы она ни была, лишь бы это было хронологически «последнее слово», и кого ни к чему не обязывает это последнее слово, из которого они, впрочем, и корысти никакой не извлекают, а так себе, как перо на шляпе носят. Но вот, например, нравственно распущенные люди, люди sans foi ni loi[62] пожелали опереться на «имморализм» Ницше; и совершенно напрасно, потому что хотя он и сам называл себя «имморалистом», но, в сущности, он настоящий моралист, притом очень строгий, только его мораль резко отличается от ныне общепризнанной. В Европе все растет разочарование в общественных формах, выработанных ее историей, и не только реальных, но и в тех грядущих формах, которые вырабатываются различными социалистическими системами. Одним из плодов этого разочарования является анархизм. Некоторые из исповедующих анархизм и приветствовали Ницше. Они имели для этого некоторое основание в той части его учения, которая беспощадно разрушает все, как реальные, так и идеальные общественные формы, дескать, стесняющие и урезывающие личность, а также и еще кое в чем. Но, узнав об этом, Ницше вложил в уста своему Заратустре такие слова: «Есть люди, проповедующие мое учение о жизни; и в то же время это проповедники равенства и тарантулы. Я не хочу, чтобы меня смешивали с этими проповедниками равенства». И действительно, трудно найти большего ненавистника идеи равенства, чем Ницше. Его учение – аристократическое durch und durch[63], как говорят немцы. О рабочих он выражается так: «побрал бы их черт и статистика»; к толпе, партии, большинству, множеству, массам, народу он относится с величайшим презрением, не примыкая, однако, ни к одному из существующих аристократических течений и, напротив, громя наличные аристократии рода и капитала. Однако и в этом отношении есть в европейской литературе явления, которые можно поставить в связь с учением Ницше. Это, во-первых, некоторые отроги дарвинизма (как читатель мог видеть хотя бы из недавней нашей беседы о книге «Von Darwin bis Nietzsche»[64]). Это, во-вторых, ряд если не прямо аристократических, то, во всяком случае, антидемократических толкований вопроса о «героях и толпе»[65]. Наконец, и некоторые декаденты не без основания признают Ницше своим, хотя должны бы это делать с большими оговорками.
Все это я говорю как вообще ввиду растущего у нас интереса к учению Ницше[66], так, в частности, для убеждения читателя в том, что усвоение той или другой стороны этого учения, а тем более совпадение с одной из них, отнюдь не обязательно ведет к принятию всего Ницше. В данном случае у нас речь идет главным образом о некоторых темных явлениях душевной жизни, которые в нашей литературе разрабатывались Достоевским совершенно самостоятельно и раньше Ницше; причем общее мировоззрение Достоевского резко отличается от мировоззрения Ницше и во многих отношениях даже прямо противоположно: если бы Ницше знал всего Достоевского, то, конечно, не отзывался бы о нем с такой восторженностью, как теперь.
Что касается г. Максима Горького, то он еще слишком молод (разумею, конечно, литературную молодость) и недостаточно определился, чтобы можно было судить как о его общем мировоззрении, так и о его дальнейшей литературной карьере. Его талантливость, наблюдательность и оригинальность не подлежат сомнению. Но все это может в будущем и расцвесть пышным цветком и если не иссякнуть, то затеряться в погоне за психологическими тонкостями, в своего рода психологической гастрономии, презирающей здоровое и питательное и ищущей острого, пряного, редкого и исключительного. Конечно, и редкое вполне достойно нашего внимания, тем более что оно часто оттеняет собою и, следовательно, уясняет общие душевные процессы. Но психологические гастрономы, к числу которых Достоевский принадлежал, склонны, во-первых, придавать исключительному слишком общее значение, а во-вторых, искусственно и произвольно составлять разные пикантные комбинации.
«Декаденты – тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы, они глубоко вонзаются в неизвестное». Это говорит у г. Горького один из героев рассказа «Ошибка» (II, 350). Я до сих пор не касался этого странного рассказа, стоящего особняком в двух томиках г. Горького, но ясно указывающего, мне кажется, на те опасности, которые грозят автору на его дальнейшем литературном пути. Декаденты (конечно, искренние, потому что есть и просто ломающиеся, ради интересной позы) желали бы быть подобны тонким и острым иглам, глубоко вонзающимся в неизвестное, но в действительности закутывают туманом и извращают вычурностью часто даже вполне известное. И вот этот-то туман и эта вычурность вместо искомой тончайшей правды грозит и г. Горькому. Он может считать себя неответственным за приведенную хвалу декадентам, потому что высказывает ее психически больной Кирилл Иванович Ярославцев. Но вместе с тем как Ярославцеву, так и другому действующему лицу, тоже психически больному, Марку Даниловичу Кравцову, приписаны мысли и настроения, общие всем босякам г. Горького (хотя и Ярославцев, и Кравцов не босяки) и, очевидно, очень занимающие автора. Тут и «человек, к жизни не причастный и от нее отторгнутый», и жажда подвига, и афоризм: «жалость и жестокость! да ведь это два совершенно однородные слова»; и желание «вывести вон из жизни всех тех людей, которые, несмотря на свои пятна, все-таки самые светлые люди жизни», и предложение «выйти за границы жизни в песчаные необитаемые пустыни», и т. д. Сомневаясь, чтобы специалист-психиатр нашел картины болезни Ярославцева и Кравцова соответствующими действительности, думаю, что это совершенно произвольная психиатрия. А вместе с тем не выясняются и так занимающие г. Горького мысли и настроения, потому что двое сумасшедших, конечно, могут только запутать дело.
Остановимся хоть на одном пункте. «Жалость и жестокость – два совершенно однородные слова», и Ярославцеву «удивительно, как это до сей поры никто не замечал, что это синонимы по смыслу». Это одна из вариаций на тему о границах наслаждения и страдания. Но вот как иллюстрирует свой афоризм Ярославцев. Однажды в деревне он был свидетелем следующей сцены: телка упала в овраг и сломала себе передние ноги; собралась толпа; она «стояла вокруг телки и больше с любопытством, чем с состраданием, наблюдала за ее движениями и слушала ее стоны»; подошел кузнец Матвей и, обругав «дурачьем» «любующихся» на страдания телки, ударил ее по голове железной полосой и тем прекратил страдания. Ярославцев заключает: «Вот он как жалел, этот Матвей! Может быть, он так же бы поступил и с человеком безнадежно больным. Морально это или не морально? Во всяком случае, это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо. Я люблю хорошее, и это морально; я слаб и, значит, я хорош! Вот как!» Я уже не говорю о полной бессмыслице последних слов, тут даже и разобрать ничего нельзя. Но возьмем самый факт, иллюстрирующий положение о тождественности жалости и жестокости. Ясно, что жестока была толпа, если она «любовалась» зрелищем страданий телки, и тут можно подозревать загадочную смесь жестокости и сострадания, но кузнец Матвей, очевидно, не годится для иллюстрации тождества жалости и жестокости. Жестокость причиняет страдание или любуется на него, а кузнец обругал любующихся и прекратил страдание. Нет, значит, никакого повода делать из этого простого и ясного факта что-то загадочное, таинственное, для проникновения в которое требуются тонкие и острые иглы декадентства.
Интереснее изречение Ярославцева: «это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Это говорит психически больной человек, и, следовательно, опять-таки автор за эти слова не ответствен. Но то, что поднимает над окружающими всех босяков г. Горького – очищенных и неочищенных, реальных и легендарных или символических, – есть сила, и именно «прежде всего сила». Куда она направится – на величайший ли подвиг самоотвержения или на величайшее, даже фантастическое злодейство, – это вопрос второй и даже, может быть, безразличный: «это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Так склонны смотреть все босяки г. Горького, стирая общепризнанные, по крайней мере на словах, границы между добром и злом и требуя, устами философствующего отставного ротмистра Аристида Кувалды, «новых» критериев морали. Смелость и откровенность, с которыми отверженцы ставят и даже практически разрешают этот вопрос, импонируют окружающим, а босяков очищенных, легендарных даже окружают блеском поэтического ореола. Очевидно, однако, что, признав вместе с ними «прежде всего силу» верховным критерием морали, мы оказались бы во власти целой сети недоразумений, из которых остановимся на одном. Герои г. Горького «жадны жить», ищут «возбуждения всей души». Формы, в которых проявляется эта жадность, обусловливаются обстоятельствами времени и места; если бы, например, жизнь предлагала героям г. Горького не «ямы», а достаточное «возбуждение всей души» на месте, то им незачем было бы бродяжить. Как бы мы ни относились, однако, ко всем этим частностям, нельзя не остановиться на том, что из разнообразных отношений к людям, какие могут «возбуждать душу», они выше всего ставят мотивы властного, повелительного воздействия, которое способны доводить до жестокости и мучительства, и, следовательно, роют другим возмутительнейшие «ямы»; а нет почему-нибудь поприща для такого воздействия – так и совсем не надо людей, можно и в одиночку прожить, или же – смерть (вместе со всем человечеством, как в мечтах Кувалды и Орлова, или вместе с непокоряющимся субъектом, как в случае Зобара и Радды). «Жадность жить», требующая «возбуждения всей души», есть явление законное и желательное, действительно способное образовать собою психологический фундамент высокой морали. Жалки люди, не знающие этой жадности и соглашающиеся быть инструментами с оборванными струнами; но если и признать, что Wille zur Macht – жажда власти, превосходства есть необходимая струна человеческой души, то все же она лишь одна из струн и при «возбуждении всей души» ее звуки должны гармонически умеряться иными звуками. Раз мы это признаем, мы тотчас увидим несостоятельность тезиса: «Это прежде всего сильно и потому морально и хорошо»; увидим и разницу между действиями Данко, с одной стороны, и Ларры – с другой, между мечтой Орлова спасти Россию от холеры и его же мечтой перебить всех жидов или раздробить землю в пыль. Пусть Данко руководился жаждою первенства и власти, когда шел впереди своих людей из лесу, освещая им путь своим горящим сердцем, но он вместе с тем сострадал этим людям, переживал их жизнь; следовательно, в его душе звенела по крайней мере одна лишняя струна по сравнению с Ларрой, который оказался не способным переживать чужую жизнь и только желал «быть первым». Пусть честолюбие было одним из мотивов Орлова, когда он хотел насмерть схватиться с холерой, но он вместе с тем переживал жизнь виденных им в холерной больнице страдальцев; следовательно, его жизнь была в этот момент полнее, богаче, чем тогда, когда он, именно от пустоты жизни, мечтал об избиении жидов и раздроблении земли. Разница, кажется, достаточно ясная для того, чтобы мы могли, именно с точки зрения «жадности», отвергнуть положение: «это прежде всего сильно, а потому морально и хорошо». «Учитель» в «Бывших людях» не забыл римской истории и знает, что «гольтепа создала Рим». Согласился ли бы он с приведенным положением, если бы его ему иллюстрировали так: Нерон сжег Рим, распинал и отдавал на съедение зверям разную «гольтепу», не отказывая себе, впрочем, в удовольствии казнить и знатных, и богатых, – это было сильно, а потому морально и хорошо; Спартак сплотил разную «гольтепу» и три года держал миродержавный Рим в страхе – это было сильно, а потому морально и хорошо. Боюсь, что, по пристрастию к «гольтепе», довольно, впрочем, в его положении естественному, «учитель» нашел бы, что никакие декадентские иглы, как бы они ни были остры и тонки, не сошьют эти два явления в однородное целое.
Мне кажется, что г. Горького одолевает некоторая не совсем для него самого ясная идея; именно одолевает, несмотря на свою неясность, а может быть, благодаря этой неясности. И только когда он от ее гнета так или иначе освободится – совсем ли ее отбросит или вполне овладеет ею, – мы получим возможность окончательно судить о размерах и значении приобретения, сделанного в его лице нашей литературой. Как ни несомненно его знакомство с изображаемым им миром, но слишком подозрительна эта частая повторяемость одних и тех же (очень, впрочем, интересных) мотивов, даже одних и тех же выражений, слов; тем более подозрительна, что эти мотивы и выражения г. Горький предоставляет и не босякам: существам фантастическим и аллегорическим, а также двум сумасшедшим. Это свидетельствует, я думаю, что к своим наблюдениям г. Горький прибавляет кое-что им не наблюдавшееся, но его самого очень занимающее. Это бы еще не беда, но – да простится мне грубоватое и, может быть, не совсем удачное слово – г. Горький еще не переварил того, что его так занимает, не усвоил настолько, чтобы претворять в образы и картины. Идея, занимающая автора, не сливается в одно органическое целое с его наблюдениями, автор ее подсовывает своим действующим лицам. Отсюда многие художественные бестактности, о которых я уже упоминал и распространяться о которых мне не хочется.
К сожалению, г. Горькому грозит в будущем нечто гораздо худшее, чем эти досадные бестактности, а именно – «тонкие и острые иглы декадентства», которые в действительности не только не тонки и не остры, а, напротив, очень грубы и тупы.
Но в двух томиках г. Горького есть и совсем иного рода задатки. Босяки занимают в этих двух томиках столько места и автор такими усиленными эффектами привлекает к ним внимание читателей, что неудивительно, если критика просто даже не заметила двух рассказов или очерков, не имеющих к босякам никакого отношения, ни прямого, ни косвенного, ни реального, ни аллегорического. Это, во-первых, «Ярмарка в Голтве» – маленький очерк, написанный без претензий на какую-нибудь глубину или «проникновение», безделка, но вся пропитанная каким-то мягким, светлым юмором, производящим тем большее впечатление, что этого элемента совсем нет в других произведениях г. Горького. Это, во-вторых, рассказ «Скуки ради», гораздо более серьезный и значительный по замыслу и истинно превосходный по исполнению. Самое чуткое ухо не услышит здесь ни одной фальшивой ноты, самая строгая рука не вычеркнет и не прибавит ни одного слова. И хотя тут нет ни одного босяка и никто не жалуется на «яму», но читатель и без авторского подсказывания сам скажет: какая яма! какая ужасная яма эта жизнь, в которой «скуки ради» проделывается возмутительнейшее издевательство над людьми! Проделывается не злобно, а именно только скуки ради, как суррогат настоящей жизни. И сами эти жестокие забавники, творящие издевательство, но не ведающие, что творят, вызывают, несмотря на свою отупелость, едва ли даже не больше сожаления, чем их жертвы; ибо и они, эти жестокие забавники, – жертвы «ямы»... Рассказ этот так целен и в цельности своей хорош, что я не стану передавать его содержание или приводить отрывки из него – и то и другое может только ослабить впечатление.
Если к этим двум задаткам, очень разной цены, но одинаково цельным и законченным, прибавить отдельные страницы вроде вышеупомянутой сцены пения в «Тоске» и превосходные пейзажи, рассыпанные в произведениях г. Горького, то станет ясно, что мы имеем дело с большой художественной силой. И неужели же этой силе суждено не заглохнуть в какой-нибудь нашей «яме» или уверовать в тонкость и остроту декадентских игол?
Кое-что о г. Чехове
Ходят слухи о предстоящем в более или менее близком будущем издании г. Марксом Полного собрания сочинений А. П. Чехова. В ожидании г. Маркс издал чрезвычайно интересный сборник под заглавием «Антон Чехов. Рассказы». Книга интересна не сама по себе: г. Чехов не новичок в литературе и не один раз давал сборники рассказов гораздо более значительных и ярких в смысле талантливости («Юмористические рассказы», «В сумерках», «Пестрые рассказы», «Хмурые люди»). Новый сборник интересен именно тем, что вошедшие в него рассказы не только не новы, а, по всем видимостям, относятся к самым ранним произведениям г. Чехова. Книга появилась без всяких объяснений, без предисловия, без хронологических дат, но на ней лежит несомненная печать того, что можно назвать «первой манерой» г. Чехова. Это дает возможность восстановить не бог знает какое далекое – лет, примерно, за пятнадцать, – но все-таки прошлое даровитого и плодовитого писателя, которое так и заглохло бы, погребенное в разных мелких периодических изданиях, где г. Чехов начал свою деятельность под псевдонимом «Чехонте». А первые шаги писателя, занявшего впоследствии одно из самых видных мест в литературе, представляют, конечно, большой интерес. Отсутствие хронологических дат не представляет в данном случае большой беды. Может быть, кое-что в последующих сборниках рассказов г. Чехова относится к тому же времени, что и рассказы, вошедшие в книгу, изданную ныне г. Марксом; но это значит только, что автор сам их выделил как более удовлетворяющие его позднейшим требованиям и только теперь, задумав Полное собрание своих сочинений, решился переиздать все свои ранние произведения. Во всяком случае, те с лишком семьдесят рассказов, которые изданы ныне, почти все написаны одним и тем же стилем и, несмотря на чрезвычайное разнообразие сюжетов, в сущности, на одну и ту же тему. Не то чтобы молодой автор задал себе эту тему и упорно искал ее проявлений в жизни. Нет, автор, напротив, очень неразборчив и торопливо набрасывает на бумагу решительно все, что ему подскажут наблюдение, память и воображение. Но общая тема сама постоянно подвертывается ему, сама, если так можно выразиться, лезет на удочку его темперамента и таланта, а он беспечно сидит на берегу житейского моря, вытаскивая из него штуку за штукой, одна другой забавнее. Забавность эту, однако, очень трудно передать своими словами – в переизложении она теряет весь свой аромат, потому что в самих фактах, рассказываемых г. Чеховым, обыкновенно нет ничего забавного, и только именно особенности таланта и темперамента автора заставляют вас то улыбаться, то рассмеяться. Г-н Чехов «первой манеры» отнюдь не мог бы сказать о себе: «мерещится мне всюду драма», хотя сюжеты его сплошь и рядом глубоко драматичны.
Возьмем несколько рассказов из супружеской жизни.
«Длинный язык». Молодая дама, вернувшись из Ялты, рассказывает о своих тамошних впечатлениях, о дороговизне, о красоте гор и проч. Муж спрашивает о проводниках-татарах: недавно он читал где-то про них какие-то «мерзости», говорят, они большие «донжуаны». Жена с презрением отзывается о проводниках, говоря, что видела их «издалека мельком»: «указывали мне на них, но я не обратила внимания». Но, благодаря своему «длинному языку», она в увлечении сообщает такие подробности, из которых ясно видно, что она отнюдь не мельком и не издали видела и Маметкула, и Сулеймана. Это не мешает ей сердиться, когда муж указывает на противоречия и высказывает подозрения. «Всегда у тебя такие гадкие мысли! – заключает она. – Не стану же я тебе ничего рассказывать. Не стану!»
«Месть». Некоторый обыватель Турманов случайно подслушивает разговор своей жены с другим обывателем Дегтяревым. Оказывается, что Турманов обманут (и не в первый раз уже): его жена и Дегтярев находятся в амурной связи, его, Турманова, величают индюком, Собакевичем и пузаном и изобретают новый способ переписки: завтра к шести часам вечера госпожа Турманова положит в мраморную вазу возле виноградной беседки в городском саду записку, а Дегтярев, проходя через городской сад, вынет ее. Оскорбленный супруг придумывает план мести и после разных предположений останавливается на следующем: он пишет богатому купцу Дулинову анонимное письмо, в котором предлагает ему положить в мраморную вазу к шести часам двести рублей; в противном случае он будет убит. На следующий день он в шесть часов садится в городском саду за куст и с злорадным нетерпением ждет последствий своей выдумки. Конечно, Дулинов дал знать полиции, и Дегтярев, засовывая руку в мраморную вазу, будет накрыт... Оказывается, однако, что Дулинов испугался угрозы и положил в вазу двести рублей, которые Дегтярев и взял.
«В почтовом отделении». Умерла двадцатилетняя жена шестидесятилетнего почтмейстера Сладкоперцева. На поминках вдовец рассказывает, каким образом он оградил супружескую верность покойницы. Он распространил по городу «нехороший слух», будто жена его живет с полицмейстером Залихватским. «Ни один человек не осмеливался ухаживать за Аленой, ибо боялся полицмейстерского гнева. Как, бывало, увидят ее, так и бегут прочь, чтобы Залихватский чего не подумал». Слушатели изумлены и обижены – они в самом деле верили слуху...
«Муж». В уездном городишке остановился на ночевку кавалерийский полк. По этому случаю местные дамы потребовали бала, и бал состоялся. Дамы, увлеченные мимолетным знакомством с офицерами, весело танцевали, совершенно забывая о «своих штатских». В числе последних находился акцизный Шаликов, «существо пьяное, узкое и злое с большой стриженой головой и с жирными, отвислыми губами. Когда-то он был в университете, читал Писарева и Добролюбова, пел песни, а теперь он говорил про себя, что он коллежский асессор и больше ничего». Шаликов стоял, прислонившись к косяку, и не спускал глаз с жены, Анны Павловны, немолодой, некрасивой, но затянутой, напудренной и танцевавшей с увлечением. Он смотрел на блаженство, разлитое по лицу и по всей фигуре жены; смотрел и злился. Наконец «ему захотелось насмеяться над этим блаженством, дать почувствовать Анне Павловне, что она забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей теперь кажется в упоении... Мелкие чувства зависти, досады, оскорбленного самолюбия, маленького уездного человеконенавистничества, того самого, которое заводится в маленьких чиновниках от водки и от сидячей жизни, закопошились в нем, как мыши». Анна Павловна весело разговаривала после мазурки с своим кавалером («губы у нее были сложены сердечком, и произносила она так: „у нас в Пютюрбюрге“), обмахивалась веером и кокетливо щурила глаза. Шаликов подошел к ней и вслух, грубо и решительно потребовал, чтобы она шла с ним домой, иначе – прибавил он в ответ на протесты и просьбы жены – он „сделает скандал“... „Выйдя из клуба, супруги до самого дома шли молча. Акцизный шел сзади жены и, глядя на ее согнувшуюся, убитую горем и униженную фигурку, припоминал блаженство, которое так раздражало его в клубе, и сознание, что блаженства уже нет, наполняло его душу победным чувством. Он был рад и доволен, и в то же время ему недоставало чего-то и хотелось вернуться в клуб и сделать так, чтобы всем стало скучно и горько и чтобы все почувствовали, как ничтожна, плоска эта жизнь, когда вот идешь в потемках по улице и слышишь, как под ногами всхлипывает грязь, и когда знаешь, что проснешься завтра утром – и опять ничего, кроме водки и кроме карт! О, как это ужасно! А Анна Павловна едва шла... Она была все еще под впечатлением танцев, музыки, разговоров, блеска, шума; она шла и спрашивала себя: за что ее покарал так господь бог? Было ей горько, обидно и душно от ненависти, с которой она прислушивалась к тяжелым шагам мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самое бранное, едкое и ядовитое слово, чтобы пустить его мужу, и в то же время сознавала, что ее акцизного не проймешь никакими словами. Что ему слова? Беспомощнее состояния не мог бы придумать и злейший враг“...
Не довольно ли сцен из супружеской жизни? Остановимся на минутку.
Последний из переданных рассказов представляет собою нечто довольно исключительное в сборнике г. Чехова – исключительное не по сюжету, а по тону, каким говорит автор. Про ялтинскую даму, только издали видевшую проводников-татар, про неудачную месть Турманова, про удачную хитрость почтмейстера г. Чехов рассказывает весело, заражая своим весельем и читателя, который смеется или по крайней мере улыбается, не останавливаясь на кое-каких несообразностях в деталях. И таких рассказов огромное большинство. Иное дело «Муж». Тут автор и сам не смеется, и не желает возбуждать смех в читателе. Вам даже жутко становится, когда вы с ясностью представляете себе эту шлепающую по грязи из клуба домой супружескую пару, до краев переполненную злобными чувствами. Сколько, в самом деле, дрянной, мелкой злобы! И эти люди связаны на всю жизнь, ведь это настоящий ад, на мгновение раскрывшийся перед нами по случаю прибытия в город кавалерийского полка... И какая гнусная скотина этот Шаликов... Однако таково мастерство художника, набросившего ровную тень на все видимое пространство, что, дочитав рассказ до конца (а в нем и всего-то пять страничек), вы ясно понимаете, что дело не в этом грубом и злобном животном, а в чем-то гораздо более общем и важном. Не говоря о том, что и «пютюрбюргская» дама не вызывает сама по себе большого сочувствия, читатель узнает, что Шаликов не всегда был гнусной скотиной, что и сейчас он, обросший мохом и плесенью, может быть, выше многих и многих из окружающих. Он зол, груб и вообще скверен, но ведь он прав, когда думает, что «жизнь вовсе не так прекрасна, как Анне Павловне кажется теперь в упоении», что «ничтожна, плоска эта жизнь». Он, этот злодей – потому что его поступок хоть и мелкий, но действительно злодейский, – есть жертва... чего?
Беспробудная пошлость жизни, всех и все покрывающая плесенью, – такова общая тема старых рассказов г. Чехова, вошедших в состав нового сборника. И эта ялтинская дама с своим «длинным языком», и «мститель» Турманов, и купец Дулинов, и счастливый любовник Дегтярев, и остроумный почтмейстер Сладкоперцев, и все слушатели его рассказа – все это продукты той же житейской пошлости, которая выработала грубое животное Шаликова. Но разница в отношениях к ним автора. К Шаликову он относится с очень сложным чувством, берет его со всеми корнями и ветвями, тогда как действующие лица первых трех рассказов ему просто смешны, и рассказывает он про них именно на смех. Эта разница и на художественной стороне рассказов отражается.
Рассказ «Муж», несмотря на свой крошечный размер, есть настоящий перл в художественном отношении. Вот, например, описание кавалера Анны Павловны в мазурке. Это был «черный офицер с выпученными глазами и с татарскими скулами. Он работал ногами серьезно и с чувством, делая строгое лицо, и так выворачивал колени, что походил на игрушечного паяца, которого дергают за ниточку». Всего четыре, пять строк, а между тем это законченный портрет. Такие же несколько строк понадобились автору, чтобы изобразить, как Анна Павловна умаливала мужа шепотом, «с улыбкой, чтобы публика не подумала, что у нее с мужем недоразумение». Эти маленькие подробности – этот робкий шепот, эта напряженная, фальшивая улыбка – мастерски оттеняют душевное состояние Анны Павловны... Этой тонкости отделки нет и в помине в трех других вышеупомянутых рассказах. Талант, конечно, сказывается и здесь, но это какой-то уж очень юный талант, брызжущий слишком беспечно и небрежно, слишком, я сказал бы, веселый, ничего, кроме смеха, не имеющий в виду и не заботящийся даже о правдоподобии, лишь бы смешно вышло. Я думаю, что это видно уже по моему изложению тех трех рассказов. Но, для разнообразия, возьмем несколько других.
«В бане». Соль рассказа в том, что цирюльник Михайло принял в бане дьякона за человека вредного образа мыслей – длинные волосы у него и разговаривает о литературе. Михайло вознегодовал и уже послал было за каким-то Назаром Захарычем – «протокол составить», но недоразумение разъяснилось вовремя, и Михайло стал просить у дьякона прощения, кланяясь ему в ноги. «За что такое?» – спрашивает удивленный дьякон. – «За то, что я подумал, что у вас в голове есть идеи!» Это так грубо и явно на смех выдумано, что «комментарии излишни», как пишут в газетах.
Но всего в этом роде смешного не переберешь в сборнике г. Чехова, и я приведу еще только один рассказ, но зато целиком. Выбираю один из лучших в этом роде, то есть действительно очень забавных. Называется он «Неудача».
«Илья Сергеевич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали. За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, объяснение в любви, объяснялись их дочь Настенька и учитель уездного училища Щупкин.
– Клюет! – шептал Пеплов, дрожа от нетерпения и потирая руки. – Смотри же, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять... Накроем... Благословение образом свято и нерушимо... Не отвертится тогда, пусть хоть в суд подает.
А за дверью происходил такой разговор:
– Оставьте ваш характер! – говорил Щупкин, зажигая спичку о свои клетчатые брюки. – Вовсе я не писал вам писем!
– Ну да! Будто я не знаю вашего почерка! – хохотала девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало. – Я сразу узнала! И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы! Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?
– Гм!.. Это ничего не значит-с. В чистописании главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого на колени... Да что почерк! Пустое дело! Некрасов писатель был, а совестно глядеть, как он писал. В Собрании сочинений показан его почерк.
– То Некрасов, а то вы... (вздох). Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал!
– Стихи и я могу написать вам, ежели желаете.
– О чем же вы писать можете?
– О любви... о чувствах... о ваших глазах... Прочтете – очумеете. Слеза прошибет! А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать?
– Велика важность! Да хоть сейчас целуйте!
Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнувшей яичным мылом ручке.
– Снимай образ! – заторопился Пеплов, толкнув локтем свою жену, бледнея и застегиваясь. – Идем! Ну!
И, не медля ни секунды, Пеплов распахнул дверь.
– Дети... – забормотал он, воздевая руки и слезливо мигая глазами. – Господь вас благословит, дети мои... Живите... плодитесь... размножайтесь...
– И... и я благословляю... – проговорила мамаша, плача от счастья. – Будьте счастливы, дорогие! О, вы отнимаете у меня единственное сокровище! – обратилась она к Щупкину. – Любите же мою дочь, жалейте ее...
Щупкин разинул рот от изумления и испуга. Приступ родителей был так внезапен и смел, что он не мог выговорить ни одного слова.
«Попался! Окрутили! – подумал он, млея от ужаса. – Крышка тебе теперь, брат! Не выскочишь!»
И он покорно подставил свою голову, как бы желая сказать: «берите, я побежден!»
– Бла... благословляю... – продолжал папаша и тоже заплакал. – Настенька, дочь моя, становись рядом... Петровна, давай образ...
Но тут родитель вдруг перестал плакать и лицо у него перекосило от гнева.
– Тумба! – сердито сказал он жене. – Голова твоя глупая! Да нешто это образ?
– Ах, батюшки-свет!
Что случилось? Учитель чистописания несмело поднял глаза и увидел, что он спасен: мамаша впопыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна, с портретом в руках, стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал».
Сотни раз в наших юмористических газетах фигурировали родители, «накрывающие» таким способом жениха (способ этот эксплуатировался отчасти и гр. Толстым в «Войне и мире»: этим способом князь Василий Курагин преодолевает нерешительность Пьера Безухова). Но г. Чехов ввел в эту избитую тему новый, оригинальный, смехотворный эффект: портрет Лажечникова вместо образа. Эффект совершенно неправдоподобный, хотя бы уже потому, что образа у нас вешаются совсем не там, где может висеть портрет Лажечникова; но эта маленькая несообразность не только не мешает читателю смеяться, а еще подбавляет веселого настроения...
В подзаголовке предполагаемой статьи написано: «кое-что о г. Чехове». Я не думаю исчерпать всего г. Чехова – для этого подождем Полного собрания его сочинений. Мне хочется лишь напомнить некоторые моменты его развития.
Прежде всего любопытно заметить, что у г. Чехова нет сколько-нибудь ярких литературных ровесников: все сколько-нибудь ценное в литературе или гораздо старше его, или развернулось значительно позже. Порывшись в юмористических листках 80-х годов, мы нашли бы, может быть, не одного писателя, начинавшего такими же талантливыми забавностями, как г. Чехов, да и в серьезной литературе того времени найдется, может быть, немало равноценных задатков. Но все эти задатки или навсегда заглохли, не успевши расцвесть, или если расцвели, то много позже. Дело в том, что г. Чехов начал свою литературную деятельность в необыкновенно трудное для начинающего писателя время. Разумею не внешние, а внутренние затруднения, ту надломленность недавних идеалов и верований, которая овладела обществом без замены их какими бы то ни было иными идеалами и верованиями, ту странную и страшную серость и плоскость, которая так или иначе должна была отразиться на литературе вообще, на начинающем писателе в особенности. Таланты, вероятно, рождались – почему бы им не рождаться? – но они быстро глохли, затеривались, задыхались в этой серой плоскости, как чахнут и сохнут растения при недостатке света и влаги. Г-н Чехов уцелел, хотя долго расплачивался за грехи общества. Человек высокодаровитый, с огромным запасом свежего молодого юмора, он начал с того, что именно сел у житейского моря и... не ждал погоды, даже не думал о ней, а беззаботно выуживал из моря что попадется, расцвечивая выуженное блестками веселой фантазии. И что ни выудит – то пошлость. Цельного, большого зеркала, в котором отразилась бы вся жизнь целиком или хоть значительная доля ее, в его распоряжении не было; но у него были бесчисленные зеркальные осколки, комически отражающие столь же бесчисленное множество отдельных эпизодов житейской пошлости. И то хорошо, конечно, и то свидетельствует, кроме таланта, о здоровом инстинкте, по крайней мере не возводящем пошлость в перл создания, – потому что ведь и такое бывало. Но, во-первых, обратите внимание на пределы кругозора молодого Чехова: цирюльник, мелкий чиновник, сапожник, заскорузлый провинциальный купец, учитель уездного училища и т. д. – вот герои его смешных рассказов. И невольно приходит в голову вопрос: да неужели же мрак пошлости клином сошелся на том мелком люде? А во-вторых, прислушайтесь к этому смеху. Какой это беззаботно веселый, благодушный, поверхностный и, если угодно, примирительный смех... Временами, очень редко, на автора находит более глубокое настроение, и он пишет что-нибудь вроде «Мужа», достигая вместе с тем и высокой степени истинно художественного творчества. Но это настроение быстро проходит, и он опять с беззаботным весельем обзирает окружающую его пошлость. Ах, отчего не посмеяться, и в особенности молодому-то человеку! Но, быть может, нотка не скажу гнева, а какой-нибудь из многочисленных форм недовольства не помешала бы делу художественного изображения пошлости, как не только не помешала, а еще помогла она в «Муже». Можно ведь и не исключительно с смешной стороны посмотреть, например, на этого цирюльника, приглашающего компетентное лицо для составления протокола по случаю разговора длинноволосого человека о литературе. Фраза цирюльника: «виноват, о дьякон, я думал, что у вас в голове есть идеи», – режет ухо своею выдуманностью, но она содержит в себе намек на целое течение в русской жизни, течение слишком мрачное, чтобы быть только смешным.
Время шло. Г-н Чехов продолжал предъявлять изумительную изобретательность по части смехотворных эффектов (трудно даже вспомнить без улыбки, например, «Винт» или «Драму»), но с течением времени рядом с ними становились и отнюдь не комические сюжеты. Смех г. Чехова, несмотря на яркость отдельных проявлений, в общем мало-помалу затихал. Читатель знает, что он наконец и совсем затих: прежний, веселый, смешливый и смешащий Чехов исчез, за последнее время из-под его пера выходят картины одна другой мрачнее. И не по существу своему только они мрачны – прежний Чехов сумел бы и их передать смешно и весело, быть может, даже затруднился бы передать их иначе, – а по настроению автора. Перемена состоит не только в этом, и не вдруг она совершилась. Началось с того, что на удочку г. Чехова стала попадаться не одна пошлость, и первое время он не знал, как отнестись к этому новому непривычному материалу: смеяться не позывало, а сочувствовать, сожалеть, восторгаться, скорбеть, грустить, негодовать... для всего этого еще не пришло время г. Чехову, еще не звенели соответственные струны в его душе, да и в окружающей серой атмосфере не веяло ветра, который заставлял бы эти струны звенеть. И, продолжая вытаскивать из безграничного житейского моря что попадется, г. Чехов безучастно, «объективно» описывал свою добычу, не различая ее по степени важности с какой бы то ни было точки зрения. У него не было такой общей, руководящей, расценивающей явления жизни точки зрения; и в числе странностей того странного времени, к которому относится этот момент развития г. Чехова, была и такая, что это отсутствие руководящей точки зрения ставилось ему в заслугу. Праздноболтающие литературные гамены, вытягивающие из себя слова, слова, слова без всякого смысла и связи, и доселе стоят в этой позиции, хотя сам г. Чехов уже давно совсем не тот. Под каким соусом ныне подается это оправдание или даже возвеличение безразличного отношения к темным и светлым явлениям жизни – это даже не интересно. А в свое время дело поставлено так: «Для нового поколения осталась только действительность, в которой ему суждено жить и которую оно потому и признало. Оно приняло свою судьбу спокойно и безропотно, оно прониклось сознанием, что все в жизни вытекает из одного и того же источника – природы, все являет собою одну и ту же тайну бытия и возвращается к пантеистическому миросозерцанию».
Это, конечно, очень спокойно. Но талант редко уживается со спокойствием, в большинстве случаев он есть нечто беспокойное, требовательное. А г. Чехов настоящий, большой талант, и неудивительно поэтому, что он не остался при безразличном отношении к свету и мраку, хотя они и «являют собою одну и ту же тайну бытия» и «вытекают из одного и того же источника – природы». «Идеалы отцов и дедов над нами бессильны», – говорили теоретики «пантеистического» миросозерцания. Пусть так – наживайте свои, новые... Нажил ли их г. Чехов, я не знаю, но он затосковал; понял, что «пантеизм», которому он послужил «без борьбы, без думы роковой», есть, собственно говоря, атеизм, и затосковал, или по крайней мере превосходно изобразил эту тоску. Всякий раз, как мне приходится писать или думать о г. Чехове, я вспоминаю слова, вложенные им в уста Николая Степановича в «Скучной истории»: «Сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывал мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, очень важного... Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках, и во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего...»
Когда мне пришлось в первый раз цитировать эти проникнутые грустью строки, я выразил пожелание, чтобы г. Чехов, если уж для него бессильны идеалы отцов и дедов, а своей собственной «общей идеи или бога живого человека» он выработать не может, стал певцом тоски по этом боге... Мое пожелание исполнилось, по крайней мере в том смысле, что действительность, когда-то настраивавшая г. Чехова на благодушно-веселый лад, а потом ставшая предметом безразличного воспроизведения в бесчисленных зеркальных осколках, вызывает в нем ныне несравненно более сложные и несравненно более определенные чувства.
Чрезвычайно любопытны две художественные экскурсии г. Чехова в область психиатрии: «Палата № 6» (1882) и «Черный монах» (1894), хотя собственно психиатрия тут, с позволения сказать, с боку припека или, пожалуй, рамка, в которую автор вставил нечто, не имеющее никакого отношения к психиатрии. В «Палате № 6» мы имеем превосходное описание больничных порядков, в «Черном монахе» – картинное изображение галлюцинации героя рассказа, но и эти больничные порядки, и эта галлюцинация представляют собою не более как обстановку, которая могла бы быть и иною, и дело, очевидно, не в них.
В «Палате № 6» решается вопрос о том, как следует (или как не следует) относиться в действительности. Представителями двух резко различных на этот счет мнений г. Чехов выбирает психически больного, содержащегося в лечебнице Ивана Дмитрича Громова, с одной стороны, а с другой – доктора Андрея Ефимовича Рагина, который, однако, тоже кончает сумасшествием. Они, впрочем, могли бы с самого начала поменяться местами, эти два главные действующие лица рассказа... Рагин, как это ни странно в устах практикующего врача, исповедует и проповедует полное невмешательство в ход событий. Он находит, что «не следует мешать людям сходить с ума». Он спрашивает: «к чему мешать людям умирать, если смерть есть законный и нормальный конец каждого?» и «зачем облегчать страдания?». Он, пожалуй, «пантеист», если позволительно разуметь под пантеизмом примирение с действительностью, какова бы она ни была, только потому, что она – действительность. Для него все в жизни, подлежащее сравнению, безразлично и равноценно. Он, например, говорит: «все вздор и суета, и разницы между лучшею венской клиникой и моей больницей, в сущности, нет никакой», хотя очень хорошо знает, что его больница есть просто скверность. И точно так же «между теплым, уютным кабинетом и этой палатой нет никакой разницы – покой и довольство человека не вне его, а в нем самом». Так рассуждает доктор Рагин. Сумасшедший Громов не согласен с такой «реабилитацией действительности». Он горячо возражает: «Я знаю только, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость – негодованием, на мерзость – отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность».
Трудно сказать, почему рассуждающий так Громов есть сумасшедший и почему доктор Рагин призван его лечить. Последний объясняет дело так: «Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, – вот и все. В том, что я доктор, а вы душевный больной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность». Это, конечно, мало объясняет дело, и решение становится еще более затруднительным, когда самого доктора сажают в палату № 6 и он отказывается от своей теории безразличия и реабилитации действительности. Попав в больницу уже в качестве больного, а не врача, Рагин сначала пробует философствовать на свой старый образец. Но когда сторож Никита, согласно принятым в больнице порядкам, прибил его —»от боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его среди хаоса ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день, эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят». На другой день доктор Рагин умер от апоплексического удара...
Ясно, кажется, что психиатрия ни при чем во всей этой истории: Громов слишком здравомыслящий человек для сумасшедшего, и если Рагин склоняется к его образу мыслей и отказывается от реабилитации действительности, только уже сам сидя в сумасшедшем доме, так ведь это просияние он мог бы получить и вне его, и гораздо раньше – стоило ему только испытать какую-нибудь серьезную «боль». И, однако, г. Чехов счел почему-то нужным вручить защиту мысли о естественной реакции «органической ткани на всякое раздражение» двум сумасшедшим... а может быть, и не сумасшедшим, а только по какой-то «случайности» сидящим в доме умалишенных...
Перейдем к «Черному монаху».
Молодой ученый Коврин переутомился на работе и, по совету врача, уехал на весну и лето в деревню. Но и в деревне он продолжал вести «такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе»: много читал, мало спал, много говорил, пил вино, временами до изнеможения слушал музыку. Между прочим, ему вспомнилась где-то, когда-то слышанная или читанная им легенда о черном монахе. Монах этот есть мираж или даже мираж миража, который через тысячу лет после первого своего появления на земле, постранствовав в междупланетном пространстве, должен вновь попасть в земную атмосферу и показаться людям. Коврин жил у своего бывшего опекуна и воспитателя Высоцкого, у которого была дочь, Таня. Коврин рассказал ей как-то занимавшую его легенду о черном монахе и в тот же вечер, гуляя в поле, увидел монаха. «Не стараясь объяснить себе странное явление, довольный одним тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть не только черную одежду, но даже лицо и глаза, приятно взволнованный, он вернулся домой. В парке и в саду покойно ходили люди, в доме играли – значит, только он один видел монаха. Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане и Егору Семеновичу (Высоцкому), но он сообразил, что они, наверное, сочтут его слова за бред и это испугает их; лучше промолчать. Он громко смеялся, пел, плясал мазурку, ему было весело, и все – часто и Таня – находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное и что он очень интересен». Ложась в этот день спать, Коврин было омрачился на некоторое время, сообразив, что он, должно быть, болен и дошел до галлюцинаций, но скоро утешился: «ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного». И, успокоившись на этой мысли, он почувствовал «непонятную радость, наполнявшую все его существо». Принялся было за работу, но она не удовлетворяла его: «ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего». Он заснул только после нескольких рюмок вина. Скоро он опять увидел черного монаха, который с ним даже в разговор вступил. Он сказал Коврину много лестного и приятного: что он «один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками божиими»; что его мысли, намерения, его «удивительная наука» и вся его жизнь «носят на себе божественную, небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно»; что человечеству предстоит блестящая будущность, приближение которой на тысячи лет ускоряется такими людьми, как Коврин, и т. д. Все это было очень приятно слушать, но Коврина брало сомнение: ведь монах – призрак, галлюцинации, значит, он, Коврин, психически болен, ненормален? На это черный монах возразил: «Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее, и близко время, когда ты отдашь ей самую жизнь. Чего лучше? Это то, к чему стремятся все вообще озаренные свыше, благородные натуры... Почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди... Повышенное настроение, возбуждение, экстаз, все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью... если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо». Эти речи черного монаха привели Коврина в восторженное и умиленное состояние, и он, тотчас после приведенной беседы, объяснился Тане в любви и сделал ей предложение. И Таня, и ее отец, давно ждавшие этого, были в восторге.
Коврин женился. Переехали в город. Однажды ночью Коврину не спалось, и вдруг он увидел на кресле возле постели черного монаха. Они стали беседовать о славе, о счастьи, о радости. Таня проснулась и с ужасом увидела, что муж, жестикулируя и смеясь, разговаривает с пустым креслом. Решено было лечить Коврина, чему он и не противился. «Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутливым тоном: „поздравьте, я, кажется, схожу с ума“, – но пошевелил только губами и горько улыбнулся».
Опять наступило лето, и опять доктор отправил Коврина в деревню. Он уже выздоровел, черный монах ему больше не являлся, и дело шло только об укреплении физических сил. Жена и тесть заботливо держали его на строгом гигиеническом режиме: он мало работал, совсем не пил вина, не курил, пил много молока. Но, поправляясь физически, он затосковал и стал раздражителен. Однажды после прогулки по тем местам, где он в первый раз видел черного монаха, он наговорил Тане и тестю неприятностей за их заботы о нем. «Зачем, зачем вы меня лечили? – говорил он. – Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг, все это в конце концов доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был всегда бодр и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все, я – посредственность, мне скучно жить... О, как вы жестоко поступили со мной!» И еще: «Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет».
Семейная жизнь стала невозможною, и через два года мы видим Коврина уже с другой женщиной, в Севастополе, по дороге в Ялту. Он болен физически: слаб, кровь горлом идет, но психически, по-видимому, здоров. Он «теперь ясно сознавал, что он посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть». Но вот под влиянием злого, раздраженного письма Тани, с проклятием извещающей о смерти отца, Коврин горько задумывается, и черный монах является ему опять со словами: «Отчего ты не поверил мне? Если бы ты тогда поверил мне, что ты гений, то эти два года ты провел бы не так печально и скудно». Коврин тотчас же поверил, но кровь хлынула у него горлом, и он умер под нашептывание черного монаха, «что он гений и что он умирает только потому, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения».
Я с подробностью передал содержание рассказа, поскольку оно касается «черного монаха» и Коврина, оставив совсем в стороне прекрасно нарисованные фигуры жены и тестя героя. Это вполне обыкновенные люди со своими слабостями и достоинствами. На Коврина они смотрят как на гения, человека необыкновенного, и в этом, собственно, и состоит их главная роль в рассказе. Но что значит самый рассказ? Каков его смысл? Есть ли это иллюстрация к поговорке: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», и не следует мешать людям с ума сходить, как говорит доктор Рагин в «Палате № 6»? Пусть, дескать, по крайней мере те больные, которые страдают манией величия, продолжают величаться – в этом счастье, ведь они собой довольны и не знают скорбей и уколов жизни... Или это указание на фатальную мелкость, серость, скудость действительности, которую надо брать так, как она есть, и приспособляться к ней, ибо всякая попытка подняться над нею грозит сумасшествием? Есть ли «черный монах» добрый гений, успокаивающий утомленных людей мечтами и грезами о роли «избранников божиих», благодетелей человечества, или, напротив, злой гений, коварной лестью увлекающий людей в мир болезни, несчастия и горя для окружающих близких и, наконец, смерти? Я не знаю. Но думаю, что как «Палата № 6», так и «Черный монах» знаменуют собою момент некоторого перелома в г. Чехове как писателе, перелома в его отношениях к действительности...
Тем временем теория «реабилитации действительности» в своем простейшем, первоначальном виде – выдохлась. Случилось это чрезвычайно быстро (разумею, конечно, литературу). И это не удивительно. Потребность идеала, мечты, чего-нибудь отличающегося от действительности и возвышающегося над ней слишком сильна в людях, чтобы по крайней мере те, кто призван поучать других, могли долго оставаться в пределах двух измерений, то есть на плоскости. Нужно, необходимо нужно и третье измерение, нужна линия вверх, к небесам, как бы кто эти небеса ни понимал и ни представлял себе. Нужна эта линия вверх хотя бы уже для того, чтобы можно было видеть что-нибудь дальше своего носа, окинуть глазом с некоторой высоты сколько-нибудь значительную часть действительности. Нужна она не только для руководства в практической жизни, а и для теоретического понимания действительности и даже для реабилитации ее. И вот началась работа. Но строители нового здания о трех измерениях, все эти открыватели «новых мозговых линий», творцы «новых слов», «созидатели новой красоты» – разбрелись розно. Единодушны они были только в отрицании идеалов отцов и дедов. А затем, не говоря о юродствующих вроде г. Розанова, пляшущих в словесную присядку вроде г. Евгения Соловьева и т. п., из которых каждый сам по себе и никакого течения не знаменует, мы видим, во-первых, людей, взобравшихся по ступеням новой красоты, может быть, и очень высоко, но в таком случае столь высоко, что оттуда действительности совсем не видно. Да они и не хотят ее знать: «люблю я себя как Бога», пишу глупые стихи, поклоняюсь мэонам, то есть не существующим, «хочу быть развратным», созерцаю «тень несозданных созданий», прислушиваюсь к «громкозвучной тишине», пишу «то мягким гусиным пером, то развязным, размашистым языком» взвинченную прозу и проч., и проч., – а на то, что делается на земле, в действительности, мне «вполне и исключительно наплевать», как говорит одно из действующих лиц Гл. Успенского. Отдельные ручейки, образовавшие это течение, иногда очень противоречили друг другу, так что, например, гг. Мережковский и Волынский принуждены были весьма непочтительно отзываться один о другом; но в общем течение может быть названо эстетическим, что ясно отпечаталось не только на художественных произведениях, а и на философии г. Минского, и на критике гг. Волынского и Мережковского. Свое отношение к действительности гг. Минский и Волынский очень определенно выразили в 1893 году во французском журнальчике «l'Ermitage». «Грязь и кровь годятся для публицистов и политиков, а поэту тут не место», – гордо писал один из них; и не менее гордо другой: «художник живет внутреннею творческою жизнью, которая выше всех форм жизни внешней, общественной». До какой бессмыслицы по содержанию и безобразия по форме может доходить это ломанье – свидетельством тому могут служить две литературные новинки, только что вышедшие: сборник стихотворений гг. Бальмонта, Брюсова, Дурнова и Коневского под заглавием «Книга (82 странички маленького формата!) раздумий» и «трагедия» в прозе г. Минского «Альма»...
Г-н Чехов – художник слишком умный и по самой натуре своей не склонный к ломанью, чтобы хотя на одну минуту увлечься всем этим взвинченным вздором. Это течение миновало его.
Другое течение было соблазнительнее. Оно, если угодно, было своего рода реабилитацией действительности, но не в той простодушной форме, в какой эта реабилитация явилась впервые. Оно не отрицало наличности тяжелых и мрачных сторон жизни, но оно напирало на то, что эти стороны с такою же необходимостью выступают из недр истории, как и добро и свет, и верило, что они опять же необходимо превратятся в процессе истории в свою противоположность, и даже очень скоро. Между прочим, в состав этого учения входило убеждение в «идиотизме деревенской жизни» и в превосходстве «городской культуры» над деревенскою. Г-н Чехов нечаянно угодил этому течению рассказом «Мужики». Рассказ этот, далеко не из лучших, был сверх всякой меры расхвален именно за тенденцию, которую в ней увидели. Г-н Чехов очень оригинально ответил на эти похвалы: он издал «Мужиков» отдельной книжкой вместе с другим рассказом, «Моя жизнь», в котором «городская культура» изображалась в своем роде еще более мрачными красками, чем деревенская (или, вернее, отсутствие культуры) в «Мужиках»...
Таким образом, ни одно из современных наших модных течений не захватило г. Чехова. Он остался сам по себе. Но он далеко еще не сказал своего окончательного слова, далеко не вполне выяснился ни в смысле силы таланта, все еще развертывающегося, ни в смысле отношений к действительности. Иногда она ему представляется в виде ряда разрозненных анекдотов, над которыми доктор Рагин поставил бы эпиграфом слова: «здесь нет ни нравственности, ни логики, а одна случайность». Такие же анекдоты писал г. Чехов в первую пору своей деятельности, но какая разница и в выборе тем, и в их обработке, и в том тоне, который делает музыку! Теперь уже далеко не одна пошлость занимает г. Чехова, а истинно трудные, драматические положения, истинное горе и страдание. Анекдоты уже не разрешаются такими эффектами, как портрет Лажечникова вместо иконы или 200 рублей, вынутые из мраморной вазы вместо любовной записки. И уже не возбуждают они добродушного веселого смеха, напротив, возбуждают грустное раздумье или чувство досады на нескладицу жизни, в которой нет «ни нравственности, ни логики». Нет прежнего беззаботно-веселого Чехова, но едва ли кто-нибудь пожалеет об этой перемене, потому что и как художник г. Чехов вырос почти до неузнаваемости. И перемена произошла, можно сказать, на наших глазах, в каких-нибудь несколько лет...
Очень характерен рассказ «О любви» (1898). Некий Алехин рассказывает в собравшемся у него в деревне маленьком обществе один эпизод из своей жизни. Характерен уже самый приступ Алехина к рассказу: «До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что „тайна сия велика есть“, все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, а самое лучшее, по-моему, – это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай».
В последних словах слышится как бы теоретическое оправдание или обоснование всей литературной деятельности г. Чехова – этой рассыпанной храмины бесчисленных житейских явлений, в которой, как говорит Николай Степанович в «Скучной истории», «даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека». Но это уже почти пройденная ступень для автора рассказов «В бане» на одном конце лестницы и «В овраге» – на другом. Алехин тут же, еще во вступлении, предъявляет своим слушателям некоторую общую идею, обнимающую далеко не один только тот случай, который он собирается рассказать. Он говорит: «Мы, русские порядочные люди... когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее... Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает – это я знаю». Как видите, Алехин высказывается с колебанием. Оно и неудивительно, потому что общей формулы для всех бесчисленных комбинаций и вариаций любовных отношений, конечно, быть не может. И тем более понятна осторожность Алехина, что, может быть, ни под каким флагом не совершается столько грязных подлостей, как под флагом любви. Однако не так же уж торчком стоят отдельные относящиеся сюда случаи, чтобы было невозможно хоть какое-нибудь частичное обобщение. И Алехин дает его.
Алехин любил некую Анну Алексеевну Луганович, молодую, умную, красивую, обаятельную женщину. У нее был муж, почти старик, «неинтересный человек, добряк, простак, который рассуждал с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держался около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верил, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей». И Алехин «все старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка». Доктор Рагин из «Палаты № 6» объяснил бы дело очень просто: тут нет ни нравственности, ни логики, а только одна случайность. И он был бы прав, но от этого не легче тем, кого случайность бьет по сердцу. Анна Алексеевна, с своей стороны, тоже любила Алехина. И он это знал, вернее, чувствовал, потому что они не обменялись даже ни одним словом на эту страшную для них тему. А страшна она для них была вот почему. «Я любил нежно, глубоко, – рассказывает Алехин, – но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она бы пошла за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье?» Подобные сомнения и колебания одолевали и Анну Алексеевну. Они молча любили друг друга, от самих себя пряча свою тайну. И тяжело им было. «Минутами мне становилась тяжела до слез эта роль благородного существа», – говорит Алехин. Тяжело было и ей. Она стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; на нее часто находило дурное настроение, она лечилась от расстройства нервов. Кончилось тем, что Лугановича перевели на службу в другой город, а перед тем Анна Алексеевна уехала, по совету врачей, в Крым. Провожая ее, Алехин уже незадолго до третьего звонка вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну забытую ею корзинку. «Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, – рассказывает Алехин, – душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и обманчиво было все то, что мешало нам любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить с высшего и более важного, чем счастье и несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе...»
О, конечно, это рецепт не для всех, но Алехин и указывает, для кого он годится и для кого не годится: нужно, чтобы налицо было то «высшее», то «более важное», с высоты которого равно приемлемы счастье и несчастье. Алехин первый осудил бы применение своего рецепта без этого условия. В действительности бывает, обыкновенно, как раз наоборот: Алехины и Анны Алексеевны ломают свою жизнь, а люди, за душой у которых ничего «высшего» нет, которые с наслаждением купаются в грязи, свободно применяют алехинский рецепт. Такова действительность, и ясно кажется, как дорога стала г. Чехову вертикальная линия к небесам, то третье измерение, которое поднимает людей над плоской действительностью; как далеко ушел он от «пантеистического» (читай: атеистического) миросозерцания, все принимающего как должное и разве только как смешное...
А бывают и такие случаи («Дама с собачкой», 1899). Господин Гуров и госпожа фон Дидериц (она и есть «дама с собачкой») случайно встретились в Ялте. Он женат, но жены не любит, да она и не стоит любви; она замужем, но, по ее словам, ее муж, «быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей!». Гуров уже давно и постоянно изменял жене и о женщинах отзывается презрительно: «низшая раса». Но жить без этой низшей расы не мог. «В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним». К Анне Сергеевне (так звали даму с собачкой) он отнесся так же, как и к другим женщинам: сошелся с ней без настоящей любви, а так, по привычке брать женщин. Она, молодая, легкомысленная, наивная, не знавшая жизни, отдалась тоже так, но потом полюбила его, не настолько, однако, чтобы захотеть соединить с ним свою судьбу, хотя и называла его «необыкновенным, возвышенным» и горько плакала при расставанье. Разъехались в разные стороны – он в Москву, она в С. Так как в действительности в Гурове не было ничего «необыкновенного и возвышенного», то он зажил в Москве своею обычною пустою жизнью и думал, что через какой-нибудь месяц Анна Сергеевна уйдет из его памяти, не оставив по себе никакого следа. Случилось, однако, иначе: Анна Сергеевна все назойливее и назойливее поднималась в его памяти, и он наконец не выдержал, уехал в С., а потом она, тоже не забывшая его, стала приезжать к нему в Москву. Они виделись тайно и сравнительно редко. Это их мучило. «Только теперь, когда голова у него стала седой, он полюбил по-настоящему, как следует – первый раз в жизни. Они любили друг друга, как очень близкие люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем, – это было чудовищно; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках! Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих...»
В обширном житейском море судьба столкнула Алехина и Анну Алексеевну, Гурова и Анну Сергеевну. Вот две случайности, которые могли бы дать людям счастье и полноту жизни. Но в случайностях нет ни нравственности, ни логики: обе пары встретились слишком поздно. Автор и они сами горько задумываются над этой бессмыслицей действительности, «реабилитировать» которую, конечно, мудрено. Но бесполезно также и задумываться над вопросом: зачем это так оскорбительно и мучительно все вышло? Слепая судьба – или как бы мы ее ни называли: необходимая причинная связь всех явлений, естественный ход вещей – не знает этого вопроса. Она дает ответ только на вопрос «почему?». Судьба не друг и не враг людей, не злодейка и не благодетельница и ни за что не ответственна. И только сами люди, вторгаясь в причинную связь явлений со своими целями, берут на себя ответственность, связанную с вопросом «зачем?». Страшная это бывает ответственность, и все здесь зависит от достоинства целей, ради которых делается тот или другой шаг. Одно дело ялтинская дама, приятно проводившая время с Маметкулом и Сулейманом, и другое дело – Алехин и Анна Алексеевна; одно дело Гуров в начале знакомства с Анной Сергеевной, и другое дело – он же в конце рассказа. Имеют ли он и Анна Сергеевна право пользоваться алехинским рецептом, есть ли у них такое «высшее», во имя которого можно и должно принять счастье и несчастье, свое и чужое, – это дело их совести. Нас занимает здесь г. Чехов, и, я думаю, нет надобности распространяться о том, какая произошла в нем перемена и какие новые стороны жизни ему открылись, как расширилось его понимание действительности и как усложнилось его отношение к ней.
Старая тема г. Чехова – житейская пошлость продолжает и теперь интересовать его. Но она уже не смешна для него, по крайней мере не только смешна, а и страшна, и ненавистна. «Человек в футляре» (1898), учитель греческого языка Беликов – ходячая, воплощенная пошлость. И, однако, это ничтожнейшее существо, бессознательно наглое и вместе трусливое, пятнадцать лет держало гимназию и весь город в страхе. «Мыслящие, порядочные читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть». Это «то-то вот оно и есть» символически выражает недоумение перед силой пошлости: никакого объяснения люди не находят и только руками разводят. Когда почтмейстер Сладкоперцев распустил ложный слух, что его жена состоит в любовной связи с полицмейстером Залихватским, он знал, что делал, знал нравы своего города: полицмейстера побоятся, он – власть. Но Беликов даже и не власть, он просто мрачный и тупой пошляк. И достаточно было одного смелого человека, который грубо обругал его и буквально спустил с лестницы, чтобы Беликов просто-напросто заболел от огорчения и умер. Но этот смелый человек явился в город только после пятнадцати лет тиранического господства Беликова. Его «с большим удовольствием» похоронили, радуясь «свободе». «Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет! „То-то вот оно и есть“, – сказал Иван Иваныч и закурил трубку. „Сколько их еще будет!“ – повторил Буркин».
Так кончает писатель, начавший свою деятельность с того, что каждым своим рассказцем говорил: весело жить на свете, господа! Какое уж тут веселье, когда смелый человек, готовый спустить с лестницы ничтожного пошляка, является в пятнадцать лет раз! Да и то еще остаются «человеки в футлярах», и люди только руками разводят: то-то вот оно и есть!
Я сказал: «так кончает» г. Чехов. Следовало бы сказать: так продолжает. Конца г. Чехову еще далеко не видно. За рассказами «О любви», «Крыжовник», «Человек в футляре», «Случай из практики» он дал широко задуманный и превосходно выполненный рассказ «В овраге». И это новый шаг вперед. Я не буду передавать содержание «В овраге», потому что эта вещь еще у всех в памяти. Не буду теперь вообще говорить о ней, как ничего не говорил о драматических произведениях г. Чехова. Я пока хотел сказать лишь «кое-что» о нем.
И. Ф. Анненский (1855—1909)
Родился в Омске в семье крупного чиновника, начальника отдела Главного управления Западной Сибири. Учился в Петербургском университете. В литературу вошел в качестве поэта и переводчика (Еврипид, французские поэты). С 1896 года служил директором гимназии в Царском селе (в котором и был похоронен), где учился, например, поэт Н. С. Гумилев.
Анненский считается одним из родоначальников поэзии русского символизма и в то же время одним из глубоких его теоретиков. Статья о пьесе М. Горького «На дне» входила в собрание статей Анненского «Книги отражений».
Драма на дне
Я не видел пьесы Горького. Вероятно, ее играли превосходно. Я готов поверить, что реалистичность, тонкость и нервность ее исполнения заполнят новую страницу в истории русской сцены, но для моей сегодняшней цели, может быть, лучше даже, что я могу пользоваться текстом Горького без театрального комментария, без навязанных и ярких, но деспотически ограничивающих концепцию поэта сценических иллюзий.
Я думаю, что в наши дни вообще коллизия между поэзией и сценой все чаще становится неизбежной. На сцене вместе с развитием реалистичности растет и объективность изображения.
Театр дает все более простора творческой индивидуальности каждого артиста, и при этом школа и традиция, которые раньше условно объединяли и ограничивали эти индивидуальности, уходят куда-то все далее от наших подмостков. Между тем поэзия становится все индивидуальнее и сосредоточеннее. Поэт в наши дни проявляется свободно и полно, но проявления его личности становятся чересчур прихотливыми, особенно ввиду того, что усложнилась не только его натура, но и жизнь вокруг нее. Границы между реальным и фантастическим для поэта не только утоньшились, но местами стали вовсе призрачными. Истина и желания нередко сливают для него свои цвета. Жизнь кажется мистической и декорация живой.
И вот сцена вместо одной сложной индивидуальности поэта дает в лучшем случае целую гамму их, и эти индивидуальности, ограничивая друг друга, сводят свободную игру творческой мысли к иллюзорной реальности.
Если слово как внушающий символ всегда резко отличалось от слова как интонации и жеста и поэзия как высшее и нераздельное проявление индивидуальности от поэзии отраженной, комбинаторной и лицедействующей, то в наши дни это различие стало приобретать иногда почти болезненный оттенок.
Мне лично мешали бы, я знаю, вглядываться в интересную ткань поэтической концепции Горького: весь этот нестройный гул жизни, недоговоренные реплики, хлопанье дверей, мельканье мокрых подолов, свист напилка, плач ребенка, – словом, все, что неизбежно в жизни и что, может быть, составляет торжество сценического искусства, но что мешает думать и в театре, как в действительности.
А между тем, чтоб оценить пьесу Горького и ею наслаждаться, над ней надо пристально думать, потому что создавшая ее индивидуальность сложна и проявляется очень прихотливо.
Непосредственного впечатления пьеса не дает; пока уяснишь себе ее внутреннюю идейную стройность, которая то на минуту осветится, то снова гаснет, – читателю все время кажется, то будто он блуждает по лабиринту, то будто он никак не выпутается из цепких противоречий.
После Достоевского Горький, по-моему, самый резко выраженный русский символист. Его реалистичность совсем не та, что была у Гончарова, Писемского или Островского. Глядя на его картины, вспоминаешь слова автора «Подростка», который говорил когда-то, что в иные минуты самая будничная обстановка кажется ему сном или иллюзией. Он испытывал это, например, гнилым, желтым, осенним утром на петербургских улицах.
Один театральный критик, по-моему, очень хорошо сказал о персонажах Горького, что они похожи на чертей. Я понимаю, конечно, под этой метафорой не пресловутую демоничность новых литературных героев: речь может идти только о загадочности и своеобычности тех масок, за которыми мелькает душа поэта, о той дразнящей неуловимости контуров, которую как-то странно рядить в типические шаблоны театра.
Шулер, побитый за нечистую игру и одурманенный водкой, страстно, хотя и с надрывом, говорит об истинах, которые волнуют лучшие умы человечества. Старик, которого в жизни только мяли, выносит из своих тисков незлобивость и свежесть. Двадцатилетняя девушка, которая не видела в жизни ничего, кроме грязи и ужаса, сберегает сердце каким-то лилейно чистым и детски свободным. А Пепел, этот профессиональный вор, дитя острога и в то же время такой нервный, как женщина, стыдливый и даже мечтательный? Это внутреннее несоответствие людей их положению, эта жизнь, мыслимая поэтом как грязный налет на свободной человеческой душе, придает реализму Горького особо фантастический, а с другой стороны, удивительно русский колорит. Недаром в наших старых сказках носителем силы и удали нежданно-негаданно является какой-нибудь хроменький Потанюшка, а алмаз царевны отыскивают на осмеянном дураке, где-то на черной печке, завернутым в грязные тряпицы. Но Горький уже не Достоевский, для которого алмаз был бог, а человек мог быть случайным и скудельным сосудом божества; у Горького, по крайней мере для вида, – все для человека и все в человеке, там и царевнин алмаз. И если для Достоевского девизом было – смирись и дай говорить богу, то для Горького он звучит гордым: борись, и ты одолеешь мертвую стихию, если умеешь желать.
Перечитывая пьесу Горького, я убедился, что этот менее всего имел в виду дразнить душу своего читателя реальным изображением нищеты, падения и надрыва.
Вообще он не относится к тем бытописателям, которые стараются сблизить читателя с обстановкой изображаемых им лиц. Рисовать он, кажется, и никогда не любил, да и фантазия едва ли дает ему такие яркие отображения действительности, какими страдал, например, во время творчества Гончаров. Романы Горького скорее идейные эскизы, связанные настоятельностью проблемы, чем искусно скомпонованные истории человеческих сердец. Горький как-то странно расстается со своими героями – он то убивает их, то бросает совсем молодыми, когда бы еще впору было затеять роман. Его, кажется, не особенно интересуют «типические особи человека или занимательные эпизоды». К изображению его подводит не цепкая наблюдательность и не интерес к проблемам индивидуальной психологии, а идейные запросы его чуткой артистической природы.
Когда я читаю в двадцатый раз о гончаровском Захаре, или Флобер рассказывает мне о Пекюше или Шарле Бовари, или Теккерей методически, не торопясь, развертывает передо мной летопись жизни Ребекки Шарп, я не спрашиваю зачем? Меня занимает прежде всего конкретный человек: мне хочется представить его себе до мелочей одежды, до звука голоса, я ищу вокруг ему подобных, мне даже кажется иногда, что я встречал и терял его в толпе или был с ним знаком. Когда я оставлю книгу, мне некоторое время скучно без нарисованного друга, хотя бы беллетрист рассказывал мне о самом неинтересном человеке в мире. Связь наша с миром Захаров и Шарлей Бовари или Пиквиков уходит куда-то глубоко, на самое дно бессознательной души, и, отличаясь большой прочностью, порою выжимает даже слезы.
Но возьмите, с другой стороны, какого-нибудь Степана Петровича Верховенского из «Бесов» Достоевского, когда этот старик осанисто козыряет с червей, когда он объясняется в любви, или фрондирует, или кается. Его французская речь и припадки холерины, его наивность, легкомыслие, – все это так прекрасно написано и так художественно скомпоновано, но не чувствуете ли вы, что есть нечто, мешающее вам отнестись к герою Достоевского, как к Обломову или Калиновичу?
За Верховенским, как за Левиным, Познышевым, Иваном Карамазовым, вслед за появлением каждого из этих лиц вырастает нечто новое, что выше и значительнее их. За Верховенским, например, вы чувствуете душевную тревогу Достоевского, которая мало-помалу обращается для нас в суровый и скорбный суд над тем милым прошлым, от которого родился в настоящем такой ужас, как убийство Шатова.
Горький принадлежит именно к тому типу писателей, у которых при появлении нового лица ждешь не подробностей, хочешь знать не что, а зачем? Читая его, думаешь не о действительности и прошлом, а об этике и будущем.
«На дне» – настоящая драма, только не совсем обычная, и Горький более скромно, чем правильно, назвал пьесу свою сценами. Перед нами развертывается нечто цельное и строго объединенное мыслью и настроением поэта.
В ночлежку, где скучилась подневольно сплоченная и странная семья, приходит человек из другого мира. Его совершенно особая обаятельность вносит в медленное умирание «бывших людей» будто бы и живительную струю, но оглядываться на себя обитателям подполья опасно.
В результате приход Луки только на минуту ускоряет пульс замирающей жизни, но ни спасти, ни поднять он никого не может. Поддонное царство нагло торжествует: взамен двух убитых людей оно берет себе двух новых: Татарина и Клеща, которые дотоле еще крепились, не порывая связи с прошлым. Драма Горького имеет чисто социальный характер, – романическая история Пепла с Наташей только эпизод, искусно включенный автором в общую цепь.
Если хотите, любовь Василия к Наташе почти ни при чем даже в убийстве Костылева. Причина этого события лежит в Луке, который взбаламутил болотную стоячую воду. Нервный Пепел – это только тот шальной камень, который метнуло вверх из нового водоворота, а Костылев – та жаба, которая думала до конца дней своих спокойно купаться в тинистых водах, внезапно забурливших и грозных, хотя бы на минуту и для одной только старой жабы.
Самое Дно Горького, как элемент трагедии, не представляет никакой новости. Это старинная судьба, та eimarmenh, которая когда-то вырвала глаза Эдипу и задушила Дездемону, – только теперь она оказывается довольно начитанной художницей du nouveau genre[67], и на ее палитре мелькают не виданные дотоле краски вырождения, порочной наследственности и железных законов рынка.
Опустившись на дно, конечно, в безопасном колоколе, – дама эта оказалась гораздо речистее, чем была она, живя над нашими головами, когда она лишь на минуту являла миру свои тяжкие и красные когти.
Прежде судьба выбирала себе царственные жертвы: ей нужны были то седина Лира, то лилии Корделии. Теперь она разглядела, что игра может быть не лишена пикантности и с экземплярами менее редкими, и ей стало довольно и каких-нибудь Клещей или Сатиных. Теперь она не брезгает для своего маленького дела даже самой будничной обстановкой, но зато теперь, совершенно оставив романтические эффекты и мир сверхчеловеческих страстей, она умеет прекрасно пользоваться для своих целей данными психопатологии и уголовной статистики.
Вместе с этой переменой в личине судьбы и самая драма потеряла у нас свой индивидуально-психологический характер. Подобно роману, она ищет почвы социальной. Драма должна была измениться уже по одному тому, что душа современного зрителя и читателя восприняла в себя более и научных идей, и общественных интересов, а главное, стала более чуткой к этическим вопросам и вообще более боязливой. Пришлось обновить и драматургические приемы.
Так, драгоценный остаток мифического периода – герой, человек божественной природы, избранник, любимая жертва рока, заменяется теперь типической группой, классовой разновидностью.
Интрига просто перестала нас интересовать, потому что стала банальной. Жизнь, которою мы обречены заменять драматизированный миф, тоже вносит в строение драмы большие поправки.
Эта жизнь теперь и пестра, и сложна, а главное, она стала не терпеть ни перегородок, ни правильных нарастаний и падений изолированного действия, ни грубо ощутимой гармонии.
Цельность новой драмы устанавливается исключительно идеею автора, поэтически настроенная индивидуальность – вот единственное объединение пестрых жизненных впечатлений, вот та единственная власть, которую не может не признавать над собою драматизируемая поэтом жизнь.
Драматургия пьесы «На дне» имеет несколько характерных черт. В пьесе три главных элемента: 1) сила судьбы, 2) душа бывшего человека и 3) человек иного порядка, который своим появлением вызывает болезненное для бывших людей столкновение двух первых стихий и сильную реакцию со стороны судьбы. Центр действия не остается все время один и тот же, как в старых драмах, а постоянно перемещается: точнее, внимание наше последовательно захватывается минутным героем: сначала это Анна и Клещ, потом Лука, Пепел, Василиса, Настя, Барон, Наташа, Сатин, Бубнов и наконец Актер. Личные драмы то тлеют, то вспыхивают из-под пепла, а по временам огни их очень затейливо сплетаются друг с другом.
Строго говоря, в драме Горького нет ни обычного начала, ни традиционной развязки. Пьеса похожа на степную реку, которая незаметно рождается где-то в болоте, чтобы замереть в песке. Но вчитайтесь внимательнее в начальную и последнюю сцену, и вы увидите, что «На дне» вовсе не какая-то серая полоса с блестками, которую бог знает зачем выкроили из действительности и расцветили, а что это настоящее художественное произведение.
Начало – это пробуждение ночлежки. Только что сейчас вот этот старик с длинной косматой бородой poivre et sel[68] был, как все, как мы с вами, потому что он спал. Но проснулся и сразу становится бывшим человеком.
Вся ночлежка точно родится в момент поднятия занавеса. Ночь давала ее обитателям непререкаемую иллюзию, ночью, во время сна, самое существование этого ада являлось будто химерой.
Вот и Актер. В полусне он носится со своим алкоголизмом, как с патентом на общественное внимание, это для него последние актерские лавры: да, и он как все, он даже важнее других, хотя и потерял имя, он важнее прочих, потому что у него организм отравлен алкоголем, а все эти бродяги даже не понимают, что это такое значит. У Насти, может быть, горела всю ночь керосинка, и она упивалась «Роковой любовью». С другой стороны, в Анне с рассветом пробуждается надежда еще пожить: она теперь не одна, ей не дадут умереть. Словом, что может быть естественнее и драматичнее начала новой трагедии судьбы? Конец в пьесе тоже удивительный. Если хотите, это примирение души бывшего человека с судьбой. Судьба берет, конечно, свое: мстя бывшему человеку за бунт, она приобщает к своим жертвам три новеньких: во-первых, Клеща, который с этого дня не будет уже говорить о честном труде и откажется от своей спеси, привыкая к чарочке и жуликам; во-вторых, Татарина, который сегодня должен получить из когтей этой судьбы пламенное крещение в алкоголе, чтобы мало-помалу забыть и Коран, и далекую татарку, «которая закон помнит». Третья жертва – комическая, это развенчанный властитель – Медведев, который сменил сегодня свисток будочника на женину кофту, становясь таким образом тоже бывшим человеком.
Примирение взбунтовавшейся души с судьбой скрепляется и своеобразной тризной: погибает в петле самый слабый, самый доверчивый и самый бестолковый из бывших людей – Актер. Над гладкой зыбью успокоившейся заводи остается только поэзия, эта живучая тварь, которая не разбирает ни стойла, ни пойла, ни старых, ни малых, ни крестин, ни похорон. Формы ее бесконечно разнообразны. Теперь она повисла над мертвой зыбью желтым туманом острожной песни. Чем же не занавес для финала современной пьесы?
Я говорил выше о несколько мистическом характере судьбы, которая делает людей бывшими; Горький хорошо показал, что он об этом думает, в одном из своих последних рассказов[69].
Речь идет о некоем податном инспекторе Гончарове, которому как-то под праздник стало особенно скучно и моторно в своей семейке и обстановочке, и о том, как этого барина, в шубе и с деньжонками, без всякой видимой причины потянуло к босякам. Отыскав подходящую парочку людей, которые показались ему достаточно оборванными и жуликоватыми, Гончаров начинает, как ему, верно, кажется, ницшеанствовать и говорит бродягам о своем душевном томлении. Вот часть этого разговора:
– Вы, впрочем, жулики, и вам это не понятно.
– Я понимаю, в чем дело! – сказал я инспектору.
– Ты? Ты кто? – спросил он меня.
– Я тоже бывший порядочный человек, – сказал я. – Я тоже испытал прелести безмятежного и мирного жития. И меня выжимали из жизни ее мелочи. Они выжали, вытеснили меня и душу, и все, что в ней было... Я тосковал, как вы теперь, и запил, и спился... имею честь представиться!
Инспектор вытаращил на меня глаза и долго в угрюмом молчании любовался мною. Его толстые красные губы, я видел, брезгливо вздрагивали под пушистыми усами, и нос сморщился совсем не лестно для меня.
– Подай мне шубу.
Вот все, что имел еще духу крикнуть злополучный романтик босячества. Но не без трагического злорадства Горький пишет далее:
Посмотрел я на его вытянувшееся лицо и ничего более не сказал. Каждому скоту уготован судьбой хлев по природе его, и сколько бы скот ни лягался, – на месте, уготованном ему, он будет... «хе-хе-хе»!
Впрочем, фатум босяков вовсе не написан на их лицах, как у героев Марлинского. Все дело в том, что Горький умеет, заглянув даже в нашу филистерскую душу, открыть в ней порою черты босячьей психологии.
Но зачем же, однако, написал Максим Горький свое «На дне»? Неужто чтобы пугать Гончаровых? Или, может быть, чтоб банкиры в смокингах смотрели на баронов и думали из своих лож: «Боже, благодарю тебя за то, что я не как этот мытарь»? Неужто наконец нас, вскормленных пером Достоевского, надо еще учить жалеть людей? Или Горький хотел усилить в людях чувство отдаленной и общей ответственности, как превосходно сделал это недавно в своем очерке «Не страшное» В. Г. Короленко? Нет и нет. Горький – Горький. Он не моралист, как Короленко, и не будет он бездушными перстами, как кто-нибудь из его собратьев, подвинчивать в наших сердцах струны и канифолить смычок, чтобы потом играть на этих струнах шопеновские ноктюрны.
Индивидуальность Горького представляет интереснейшую комбинацию чувства красоты с глубоким скептицизмом.
При этом чувство красоты вовсе не ограничивается у него тем, что он умеет описывать море, степь и песню, – оно составляет часть его природы, брызжет из-под его пера; Горький сам не знает, может быть, как он любит красоту; а между тем ему доступна высшая форма этого чувства, та, когда человек понимает и любит красоту мысли. Это она, эта способность, делает у Горького высокоэстетическими отпечатки таких ужасов, как история жестокого лакея из дома терпимости, и делает глубокими такие, кажется, неумелые, детские вещи, как «Варенька Олесова».
Скептицизм у Горького тоже особенный. Это не есть мрачное отчаяние и не болезнь печени или позвоночника. Это скептицизм бодрый, вечно ищущий и жадный, а при этом в нем две характерных черты. Во-первых, Горький, кажется, никогда не любит, во-вторых, он ничего не боится. Если художники-моралисты, как нежные матери, склонны подчас прибаловать в неприглядном ребенке выразителя и наследника своей идеи, свою мечту, – то у Горького нет, по-моему, решительно ничего заветного и святого, особенно в том смысле, чтобы людей не допускать до созерцания этого предмета. Горький на все смотрит открытыми глазами. Конечно, как знать, что будет дальше? Но покуда до его простой смелости не доскакаться никаким Андреевым с их «безднами» и «стенами». Нас хотели уверить, будто Нил из «Мещан» для Горького нормальный человек. Но ведь это совершенно произвольное утверждение. Может быть, да даже наверно, Нил не был бы тогда у Горького таким тупицей. По-моему, всех этих Артемов, Нилов и Гордеевых надо брать, как они даются, cum grano salis[70]. Глядя на них, мы думаем: вот сильные и по-своему красивые человеческие особи; но разве можно винить их за то, что они не берут от нас наших канцелярских рецептов, слепленных из обрывков философии и религии, да еще и написанных по-латыни? Они становятся пьяницами или кулаками вовсе не потому, чтобы водка и кулачество были для Горького нормальными разрядниками для энергии его сильных людей, а потому, что водка и власть дают хоть суррогат жизни, а мы можем дать только ее отрицание, предлагая людям на выбор или канитель, или мораль рабов. Можно ли винить силача мельника за то, что надорванный и чахоточный учитель ему в конце концов только моторен?
Среди персонажей «Дна» самый красивый и интересный экземпляр, конечно, Василий Пепел. Он отчасти подходит к Гордеевым и мельникам, но как дальнейшее развитие этого типа-ключа. Пепел – сложная натура. Вор по ремеслу и наследственности, он не носит на себе никакого отпечатка подневольного работника с его злобой и тупым чванством. Специальность выучила его рассуждать, и, кроме того, она дает ему досуг для размышления. Она же развила в Пепле особую чуткость и даже странную нервность. Он боится мертвых, боится слов, напоминаний и одиночества; в натуре Пепла есть что-то женственное, с Гордеевым и торговцем из романа «Трое» его сближает какое-то целомудрие чувства. Василиса делается противна ему, когда он вспомнит, что она его развратила.
Может быть, в этом инстинктивном протесте молодой натуры против дурмана похотливой бабьей страсти Горький приоткрывает нам завесу совсем нового миропорядка – будущего безлюбия людей, то есть их истинной свободы и чистой идейности.
Рядом с Пеплом возникает образ Наташи; с каким-то грустным юмором в этой намеченной заранее грязным пальцем судьбы жертве Горький очертил нам силуэт «современной души».
Наташа – это гордая и стыдливая девственность, которую даже ругань и побои пугают менее, чем жаркое дыханье непонятной и оскорбительной для нее страсти. Молодая душа Наташи вся – ожидание... вся – вопрос... вся – будущее; ей не надо дурмана Насти, потому что она живет своей молчаливой чуткостью.
Наташа. Выдумываю... Выдумываю и – жду...
Барон. Чего?
Наташа. Так вот, думаю, завтра... приедет кто-то, кто-нибудь... особенный... Или случится что-нибудь... тоже небывалое... Подолгу жду... всегда жду... А так... на самом деле... чего можно ждать?
Если бы Горький на фоне своего «Дна» выделил одну только эту, пастелью написанную Наташу, то и тогда он остался бы среди «пророков во Израиле». Трудно для современной русской души выдумать символ более трепетный и более жуткий, чем Наташа, сестра Василисы Костылевой. Совершенно как она, и мы все с какой-то трагической наивностью все ждем.
«Вот случится что-нибудь... тоже небывалое, приедет кто-то... кто-нибудь особенный...»
И, как она, в то же время отлично знаем, что ничего у нас в будущем нет.
Все основы буржуазного строя и счастья сведены на дне к такой элементарности, что нельзя сомневаться в том, как автор драмы к ним относится.
Вот семья – ее эмблема, конечно, Василиса Костылева... Вот религия – это лампада ее мужа и средства для ее наполнения... и наконец, вот правительство... бутарь Медведев в его буколических отношениях к обывателям... Но есть среди этих, им намеченных основ буржуазного благополучия одна, с которой не так легко сладить на словах, потому что она давно и красиво идеализирована нашим сознанием, это – труд. Я читал как-то в книге одного немецкого филолога, что трагедия Федры могла дорасти до такого ужаса лишь благодаря среде, где не знали благословенного труда. Среда Горького тоже не знает благословенного труда, потому что она знает ненавистный и проклятый труд, и едва ли надо винить ее поэта, если он, сделав отвлечение от утопии своего великого учителя, выбивает из рук филистеров их якобы благословенное Толстым оружие...
Работник Клещ – самый злой человек во всей ночлежке. Даже Костылеву сорок грехов простятся за его Василису. Да и что такое Костылев? Слабый, гнилой и лицемерный старикашка, он куда же легче Клеща. Костылев болтун, он заправляет лампадки и отводит душу Иудушкиными пустяками, а в сущности, ведь он всех боится... Не таков Клещ... замучив жену, он жалеет только, что ее похороны унесли его инструмент. Клещ чванится своей честностью. Тунеядцев он презирает, а когда пришло<<сь>> совсем плохо, с надрывом кричит о том, что никакой-де правды нет, потому что с мозолями на руках он, честный, помирает с голоду, а жулики пьяны!
Бубнов – бывший работник и предприниматель. Когда-то он был скорняком, и руки у него не отмывались от желтой краски, в которую надо было макать собачьи шкуры. Среди этого благословенного труда, накопления и крашеных куниц Бубнов чуть-чуть не стал убийцей. Но он вовремя спохватился и бросил сколоченное трудом счастье, и жену, и желтых собак; теперь это циник, мелкий шулер, минутами какой-то вдохновенный, почти экстатический пьяница, – но он уже никого не убьет и никогда ничего не скопит, потому что он навсегда отказался от обстановочки, накоплений и семейных прав, оставив их своему сопернику, вместе с женой и краской «под куницу».
Работа не задалась и честному Татарину: ему о благословенный труд раздробило руку, и на наших глазах он идет ко дну.
Я уже не вспоминаю об Анне. Древние эллины хорошо называли таких людей, как она, кекмзкьфет, что значит зараз и мертвые и отстрадавшие. Среди персонажей Горького есть два, которым труд чужд органически. Одно[71] это – Настя. Господи, как далеко ушли мы в поэзии от Сонечки Мармеладовой, от ее косой желтой комнаты у портного Капернаумова, от воскрешения Лазаря и романтической эмблемы человеческого страдания! Вот она, наша теперешняя Сонечка Мармеладова, – существо почти фантастическое. Она живет проституцией и романами. У нее ничего в прошлом... ничего в будущем... ее жизнь химера... невозможность.
Ее сутенер – Барон, бывший человек, картавый и, должно быть, с прозрачными голубыми глазами, дошел до дна после ряда эпизодов сумбурной жизни, бессмысленной женитьбы, кутежей, растрат, подлогов. Он еще импонирует ночлежке остатками барства, осанкой и широкими плечами. Снаружи это человек привычно, по-светски равнодушный, а минутами обрывисто заносчивый, но в душе его уже гнездится какая-то чадная тревога.
«Ты рассуждаешь, – говорит он Сатину, – это хорошо, это, должно быть, греет сердце... У меня нет этого... я – не умею! Я, брат, боюсь... иногда... Понимаешь... Трушу... Потому – что же дальше?» Это бароновское чадное Что же дальше? опять-таки не чуждо и нашей психологии.
Но у труда есть на дне не только полусознательные, инстинктивные, наследственные и, так сказать, стихийные противники. Сатин его принципиальный враг.
Сатин. Эй, вдовец! Чего нюхалку повесил? Чего хочешь вынюхать?
Клещ. Думаю... чего делать буду. Инструмента нет... все похороны съели!
Сатин. Я тебе дам совет: ничего не делай! Просто обременяй землю!
Клещ. Ладно... Говори... Я стыд имею пред людьми.
Сатин. Брось! Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живется... Подумай – ты не станешь работать, я не стану... еще сотни... тысячи... все!.. понимаешь? Все бросают работать! Никто ничего не хочет делать – что тогда будет?
или
Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? (хохочет). Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, барон! Не в этом дело! Человек выше! Человек выше сытости!
Сатину, этому субъективнейшему из персонажей Горького, неприятна мысль о работе, но не потому, что он пьяница, сбившийся с толку бывший человек, который боится говорить о прошлом, а потому что его нравственной природе противен труд: во-первых, как потуга буржуазного счастья, а во-вторых, как клеймо рабства. Труда как совести, по его словам, всякий требует только от соседа. Труд не уравнивает, а разобщает людей, деля их на Клещей и Костылевых. Он во многом прав. Признаться, я не совсем понимаю, что значит благословенный труд. Неужто гимнастика Левина или мое писанье, но ведь оно для нас жизнь и наслажденье, а никакой не труд...
В труде, действительно, не мало и подлого, и тупого, чаще всего даже бесцельного. Но только как же быть? Философия Сатина заключает в себе волнующий вопрос, но она не подвигает нас ни на шаг в разрешении мучительной проблемы совести.
Лука – бегун. Он провел жизнь, полную всего: его мяли до того, что сделали мягким, трепался он по всем краям, где только говорят по-русски, работал, вероятно, вроде того, как мел ночлежку, невзначай, пил, когда люди подносили, гулял с бабами, укрывался, утешал, подтрунивал, жалел, а больше всего врал приятно, сказки рассказывал.
Для него все люди в конце концов стали хороши, но это тот же Горький; он никого не любит и не полюбит. Он безлюбый. Даже не самые люди его и интересуют. С их личными делами он долго не возится, потому что он сторона, как Сократ в Афинах. Да и зачем возиться долго с одним и тем же людом, если земля широка и всякого человека на ней много.
Лука любит не людей, а то, что таится за людьми, любит загадки жизни, фокусы приспособлений, фантастические секты, причудливые комбинации существований. Ему Сатин нравится.
«Веселый ты, Костянтин... приятный...» Людям Лука, как толстовский работник, любит говорить приятные вещи, только делает он это вовсе не из особой душевной деликатности или прекраснодушия. Скептик и созерцатель, Лука заметил, что на навозе похвалы всякая душа распускается и больше себя показывает. Для того же он и хвалит, для чего расспрашивает, приглядывается и для чего без устали мерит землю стариковскими ногами. Старикашка он вообще хитрый, но человека любит открытого, широкого и смелого: такого он называет веселым. Узкие люди ему не по вкусу, вроде Клеща. «Работы, кричит, нету... Ничего нет». Лука привык врать, да без этого в его деле и нельзя. А в том мире, где его носит, без лжи, как без водки, люди не могли бы, пожалуй, и водиться. Лука утешает и врет, но он нисколько не филантроп и не моралист. Кроме горя и жертвы, у Горького «На дне» Лука ничего за собой и не оставил... Но что же из этого следует? Во-первых, дно все-таки лучше по временам баламутить, что бы там из этого ни выходило, а во-вторых... во-вторых, чем бы, скажите, и была наша жизнь, жизнь самых мирных филистеров, если бы время от времени разные Луки не врали нам про праведную землю и не будоражили нас вопросами, пускай самыми безнадежными.
Я думаю, однако, что через несколько минут смело могу дать звонок и выбраться со дна в туман, более пристойный для той породы млекопитающих, к которым я имею честь покуда принадлежать. Послушайте еще раз: вот Сатин славит свободу и от шулерской прибыли Бубнова пьет за человека.
Когда я пьян... мне все нравится. Н-да... Он молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить... Это его дело! Человек свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам, и потому он свободен! Человек – вот правда! Что такое человек? Это не ты, не я, не они... Нет! Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет в одном! Понимаешь? Это огромно. В этом все начала и концы. Все в человеке, все для человека! Существует только человек – все же остальное дело его рук и мозга! Человек! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо!.. и т. д.
Слушаю я Горького-Сатина и говорю себе: да, все это, и в самом деле, великолепно звучит. Идея одного человека, вместившего в себя всех, человека-бога (не фетиша ли?) очень красива. Но отчего же, скажите, сейчас из этих самых волн перегара, из клеток надорванных грудей полетит и взовьется куда-то выше, на сверхчеловеческий простор дикая острожная песня? Ох, гляди, Сатин-Горький, не страшно ли уж будет человеку-то, а главное, не безмерно ли скучно ему будет сознавать, что он – все, и что все для него и только для него?..
В. С. Соловьев (1853—1900)
Родился в Москве в семье знаменитого историка С. М. Соловьева. Великий русский религиозный философ, автор фундаментальных работ «Оправдание добра», «Русская идея», «Три разговора» и других. Первый теоретик и практик (как поэт) русского символизма, оказавший громадное влияние на всех символистов – А. А. Блока, Андрея Белого, Федора Сологуба и др. Литературно-критические статьи В. С. Соловьева отличаются философско-религиозной направленностью.
Судьба Пушкина
I
Есть предметы, о которых можно иметь неверное или недостаточное понятие – без прямого ущерба для жизни. Интерес истины относительно этих предметов есть только умственный, научно-теоретический, хотя сами они могут иметь большое реальное и практическое значение. До конца XVII столетия все люди, даже ученые, имели неверное понятие о воде, – ее считали простым телом, однородным элементом или стихией, пока знаменитый Лавуазье не разложил ее состава на два элементарные газа: кислород и водород. То, что сделал Лавуазье, имело большую теоретическую важность, – недаром от него ведется начало настоящей научной химии; и этим его открытие оказывало, конечно, косвенное влияние и на практическую жизнь со стороны ее материальных интересов, которым хорошая химия может служить более успешно, чем плохая. Но прямого воздействия на практическое житейское значение собственно воды анализ Лавуазье не мог иметь. Чтобы умываться, или поить животных, или вертеть мельничные колеса, или даже двигать паровоз, нужна только сама вода, а не знание ее состава или ее химической формулы. Точно так же мы пользуемся светом и теплотою совершенно независимо от наших правильных или неправильных понятий, от нашего знания или незнания в области астрономии и физики. Во всех подобных случаях для житейского употребления предмета достаточно опытных житейских сведений о его внешних свойствах, совершенно независимо от точного теоретического познания его природы, и самый великий ученый не имеет здесь никакого преимущества пред дикарем и невеждою.
Но есть предметы порядка духовного, которых жизненное значение для нас прямо определяется, кроме их собственных реальных свойств, еще и тем понятием, которое мы о них имеем. Одного из таких предметов касается настоящий очерк.
Есть нечто, называемое судьбой, – предмет хотя не материальный, но тем не менее вполне действительный. Я разумею пока под судьбою тот факт, что ход и исход нашей жизни зависит от чего-то, кроме нас самих, от какой-то превозмогающей необходимости, которой мы волей-неволей должны подчиниться. Как факт, это бесспорно; существование судьбы в этом смысле признается всеми мыслящими людьми, независимо от различия взглядов и степеней образования. Слишком очевидно, что власть человека, хотя бы самого упорного и энергичного, над ходом и исходом его жизни имеет очень тесные пределы. Но вместе с тем легко усмотреть, что власть судьбы над человеком при всей своей несокрушимой извне силе обусловлена, однако, изнутри деятельным и личным соучастием самого человека. Так как мы обладаем внутренними задерживающими деятелями, разумом и волей, то определяющая наше существование сила, которую мы называем судьбою, хотя и независима от нас по существу, однако может действовать в нашей жизни только через нас, только под условием того или иного отношения к ней со стороны нашего сознания и воли. В составе той необходимости, которою управляются наши жизненные происшествия, необходимо заключается и наше собственное личное отношение к этой необходимости; а это отношение, в свою очередь, необходимо связано с тем, как мы понимаем господствующую в нашей жизни силу, так что понятие наше о судьбе есть также одно из условий ее действия чрез нас. Вот почему иметь верное понятие о судьбе важнее для нас, нежели знать химический состав воды или физические законы тепла и света.
Столь важное для всех людей истинное понятие судьбы издревле дано и всем доступно. Но при особом развитии если не ума, то умственных требований, каким нынешнее время отличается от прежних эпох, самые верные понятия никем не принимаются на веру; они должны вывести свою достоверность посредством рассуждений из данного опыта.
Для полного и методического оправдания того верного понятия о судьбе, которое мы находим в универсальной вере человечества, потребовалась бы целая метафизическая система, подтвержденная сложными историческими и социологическими исследованиями. В настоящем кратком очерке я хотел только ослабить некоторые ложные ходячие мнения об этом важном предмете и с помощью одного яркого и особенно для нас, русских, близкого исторического примера намекнуть на истинный характер того, что называется судьбою.
II
В житейских разговорах и в текущей литературе слово судьба сопровождается обыкновенно эпитетами более или менее порицательными: «враждебная» судьба, «слепая», «беспощадная», «жестокая» и т. д. Менее резко, но все-таки с некоторым неодобрением говорят о «насмешках» и об «иронии» судьбы. Все эти выражения предполагают, что наша жизнь зависит от какой-то силы, иногда равнодушной, или безразличной, а иногда и прямо неприязненной и злобной. В первом случае понятие судьбы сливается с ходячим понятием о природе, для которой равнодушие служит обычным эпитетом:
И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть, И равнодушная природа Красою вечною сиять.Когда в понятии судьбы подчеркивается это свойство – равнодушие, то под судьбою разумеется собственно не более как закон физического мира.
Во втором случае, – когда говорится о судьбе как враждебной силе, – понятие судьбы сближается с понятием демонического, адского начала в мире, представляется ли оно в виде злого духа религиозных систем или в виде безумной мировой воли, как у Шопенгауэра.
Конечно, есть в действительности и то, и другое; есть и закон равнодушной природы, есть и злое, сатанинское начало в мироздании, и нам приходится иметь дело и с тем, и с другим. Но от этих ли сил мы зависим окончательно, они ли определяют общий ход нашей жизни и решают ее исход, – они ли образуют нашу судьбу?
Сила, господствующая в жизни лиц и управляющая ходом событий, конечно, действует с равною необходимостью везде и всегда; все мы одинаково подчинены судьбе. Но есть люди и события, на которых действие судьбы особенно явно и ощутительно; их прямо и называют роковыми или фатальными, и, конечно, на них нам всего легче рассмотреть настоящую сущность этой превозмогающей силы.
Хотя вообще мне давно было ясно, что решающая роль в нашем существовании не принадлежит ни «равнодушной природе», ни духовной силе зла, хотя я был твердо убежден в истинности третьего взгляда, но применить его к некоторым особым роковым событиям я долго не умел. Я был уверен, что и они непременно как-нибудь объясняются с истинной точки зрения, но я не видел этого объяснения и не мог примириться в душе с непонятными фактами. В них ощущалась какая-то смертельная обида, как будто прямое действие какой-то враждебной, злой и злорадной силы.
Острее всего такое впечатление производила смерть Пушкина. Я не помню времени, когда бы культ его поэзии был мне чужд. Не умея читать, я уже много знал из него наизусть, и с годами этот культ только возрастал. Немудрено поэтому, что роковая смерть Пушкина, в расцвете его творческих сил, казалась мне вопиющею неправдою, нестерпимою обидою и что действовавший здесь рок не вязался с представлением о доброй силе.
Между тем, постоянно возвращаясь мыслью к этому мучительному предмету, останавливаясь на давно известных фактах и узнавая новые подробности, благодаря обнародованным после 1880 и особенно после 1887 года документам, я должен был, наконец, прийти к печальному утешению:
Жизнь его не враг отъял, — Он своею силой пал, Жертва гибельного гнева, —своею силой или, лучше сказать, своим отказом от той нравственной силы, которая была ему доступна и пользование которою было ему всячески облегчено.Ни эстетический культ пушкинской поэзии, ни сердечное восхищение лучшими чертами в образе самого поэта не уменьшаются от того, что мы признаем ту истину, что он сообразно своей собственной воле окончил свое земное поприще. Ведь противоположный взгляд, помимо своей исторической неосновательности, был бы унизителен для самого Пушкина. Разве не унизительно для великого гения быть пустою игрушкою чуждых внешних воздействий, и притом идущих от таких людей, для которых у самого этого гения и у его поклонников не находится достаточно презрительных выражений?
Главная ошибка здесь в том, что гений принимается только за какое-то чудо природы, и забывается, что дело идет о гениальном человеке. Он по природе своей выше обыкновенных людей, – это бесспорно, – но ведь и обыкновенные люди также по природе выше многих других существ, например животных, и если эта сравнительная высота обязывает всякого обыкновенного человека соблюдать свое человеческое достоинство и тем оправдывать свое природное преимущество перед животными, то высший дар гения тем более обязывает к охранению этого высшего, если хотите – сверхчеловеческого, достоинства. Но не настаивая слишком на этой градации, которая осложняется обстоятельствами другого рода, во всяком случае должно сказать, что гениальный человек обязан по крайней мере к сохранению известной, хотя бы наименьшей, минимальной, степени нравственного человеческого достоинства, подобно тому, как от самого обыкновенного человека мы требуем по крайней мере тех добродетелей, к которым способны и животные, как, например, родительская любовь, благодарность, верность.
Утверждать, что гениальность совсем ни к чему не обязывает, что гению все позволено, что он может без вреда для своего высшего призвания всю жизнь оставаться в болоте низменных страстей, это – грубое идолопоклонство, фетишизм, который ничего не объясняет, и сам объясняется лишь духовною немощью своих проповедников. Нет! если гений есть благородство по преимуществу или высшая степень благородства, то он по преимуществу и в высшей степени обязывает. Noblesse oblige[72]. С точки зрения этой нравственной аксиомы взглянем на жизнь и судьбу Пушкина.
III
Менее всего желал бы я, чтобы этот мой взгляд был понят в смысле прописной морали, обвиняющей поэта за его нравственную распущенность и готовой утверждать, что он погиб в наказание за свои грехи против «добродетели», в тесном значении этого слова.
Сильная чувственность есть материал гения. Как механическое движение переходит в теплоту, а теплота – в свет, так духовная энергия творчества в своем действительном явлении (в порядке времени или процесса) есть превращение низших энергий чувственной души. И как для произведения сильного света необходимо сильное развитие теплоты, так и высокая степень духовного творчества (по закону здешней, земной жизни) предполагает сильное развитие чувственных страстей. Высшее проявление гения требует не всегдашнего бесстрастия, а окончательного преодоления могучей страстности, торжества над нею в решительные моменты.
Естественные условия для такого торжества были и у Пушкина. С необузданною чувственною натурой у него соединялся ясный и прямой ум. Пушкин вовсе не был мыслителем в области умозрения, как не был и практическим мудрецом; но здравым пониманием насущных нравственных истин, смыслом правды он обладал в высокой степени. Ум его был уравновешенный, чуждый всяких болезненных уклонений. Среди самой пламенной страсти он мог сохранять ясность и отчетливость сознания, и если его можно в чем упрекнуть с этой стороны, то разве только в излишней трезвости и прямолинейности взгляда, в отсутствии всякого практического или житейского идеализма. Вся высшая идейная энергия исчерпывалась у него поэтическими образами и звуками, гениальным перерождением жизни в поэзию, а для самой текущей жизни, для житейской практики оставалась только проза, здравый смысл и остроумие с веселым смехом.
Такое раздвоение между поэзией, то есть жизнью творчески просветленною и жизнью действительною или практическою, иногда бывает поразительно у Пушкина. Люди, незнакомые прежде с биографическими подробностями о нем, нашли, конечно, много неожиданного в новейших изданиях его переписки.
Одно из лучших и самых популярных стихотворений нашего поэта говорит о женщине, которая в «чудное мгновение» первого знакомства поразила его «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты»; затем время разлуки с нею было для него томительным рядом пустых и темных дней, и лишь с новым свиданием воскресли для души «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Давно было известно лицо, к которому относилось это стихотворение, и читатель Пушкина имел прежде полное основание представлять себе если не эту даму, то, во всяком случае, отношение к ней поэта, в самом возвышенном, идеальном освещении. Но теперь, после появления в печати некоторых писем о ней, оказывается, что ее образ в стихотворении «Я помню чудное мгновенье» есть даже не то, что в гегельянской эстетике называется Schein der Idee[73], а скорее подходит к тому, что на юридическом языке обозначается как «сообщение заведомо неверных сведений». В одном интимном письме, писанном приблизительно в то же время, как и стихотворение, Пушкин откровенно говорит об этой самой даме, но тут уже вместо гения чистой красоты, пробуждающего душу и воскрешающего в ней божество, является «наша вавилонская блудница, Анна Петровна».
Спешу предупредить возможное недоразумение. Никому нет дела до того, какова была в действительности дама, прославленная Пушкиным. Хотя я совершенно уверен, что он сильно преувеличивал и что апокалиптический образ нисколько не характеристичен для этой доброй женщины, но дело не в этом. Если бы оказалось, что действительное чудовище безнравственности было искренно принято каким-нибудь поэтом за гения чистой красоты и воспето в таком смысле, то от этого поэтическое произведение ничего не потеряло бы не только с точки зрения поэзии, но и с точки зрения личного и жизненного достоинства самого поэта. Ошибка в фальшь не ставится. Но в настоящем случае нельзя не видеть именно некоторой фальши, хотя, конечно, не в грубом смысле этого слова. Представляя обыкновенную женщину как высшее неземное существо, Пушкин сейчас сам ясно замечал и резко высказывал, что это неправда, и даже преувеличивал свою неправду. Знакомая поэта, конечно, не была ни гением чистой красоты, ни вавилонскою блудницею, а была «просто приятною дамою» или даже, может быть, «дамою приятною во всех отношениях». Но замечательно, что в преувеличенном ее порицании у Пушкина не слышится никакой горечи разочарования, которая говорила бы за жизненную искренность и цельность предыдущего увлечения, – откровенный отзыв высказан в тоне веселого балагурства, в полном контрасте с тоном стихотворения.
Более похоже на действительность другое стихотворение Пушкина, обращенное к тому же лицу, но и оно находится в противоречии с тоном и выражениями его писем.
Когда твои младые лета Позорит шумная молва, И ты, по приговору света, На честь утратила права; Один среди толпы холодной, Твои страданья я делю И за тебя мольбой бесплодной Кумир бесчувственный молю. Но свет... Жестоких осуждений Не изменяет он своих: Он не карает заблуждений, Но тайны требует для них. Достойны равного презренья Его тщеславная любовь И лицемерные гоненья — К забвенью сердце приготовь; Не пей мучительной отравы; Оставь блестящий душный круг, Оставь безумные забавы: Тебе один остался друг.Нельзя, в самом деле, не пожалеть о глубоком несчастии этой женщины: у нее остался только один друг и заступник от «жестоких осуждений», – да и тот называл ее вавилонскою блудницей! Каковы же были осуждения!
IV
Если не признавать вдохновения как самостоятельного источника поэзии, то, сопоставляя стихотворение «Я помню чудное мгновенье» с прозаическим отзывом Пушкина, можно сделать только одно заключение, что стихи просто выдуманы, что их автор никогда не видел того образа и никогда не испытал тех чувств, которые там выражены. Но, отрицая поэтическое вдохновение, лучше вовсе не говорить о поэтах. А для признающих вдохновение и чувствующих его силу в этом произведении должно быть ясно, что в минуту творчества Пушкин действительно испытал то, что сказалось в этих стихах; действительно видел гения чистой красоты, действительно чувствовал возрождение в себе божества. Но эта идеальная действительность существовала для него только в минуту творчества. Возвращаясь к жизни, он сейчас же переставал верить в пережитое озарение, сейчас же признавал в нем только обман воображения – «нас возвышающий обман», но все-таки обман и ничего более. Те видения и чувства, которые возникали в нем по поводу известных лиц или событий и составляли содержание его поэзии, обыкновенно вовсе не связывались с этими лицами и событиями в его текущей жизни, и он нисколько не тяготился такою бессвязностью, такою непроходимою пропастью между поэзией и житейской практикой.
Действительность, данная в житейском опыте, несомненно находится в глубоком противоречии с тем идеалом жизни, который открывается вере, философскому умозрению и творческому вдохновению. Из этого противоречия возможны три определенные исхода. Можно прямо отречься от идеала как от пустого вымысла и обмана и признать факт, противоречащий идеальным требованиям как окончательную и единственную действительность. Это есть исход нравственного скептицизма и мизантропии – взгляд, который может быть почтенным, когда искренен, как, например, у Шекспирова Тимона Афинского, но который не выдерживает логической критики. В самом деле, если бы дурная действительность была единственною настоящею, то как возможно было бы для человека тяготиться этою единственною своею действительностью, порицать и отрицать ее? Ведь такая оценка предполагает сравнение с другим. Существо, находящееся в однородной среде, – например, человек в надземной атмосфере или рыба в воде, – не чувствует давления этой среды. Когда истинный мизантроп действительно страдает от нравственной негодности человеческой среды, то он тем самым свидетельствует о подлинной силе идеала, живущего в нем, – его страдание есть уже начало другой, лучшей действительности.
Второй исход из противоречия между идеалом и дурною действительностью есть донкихотство, при котором идеальные представления до такой степени овладевают человеком, что он совершенно искренно или не видит противоречащих им фактов, или считает эти факты за обман и призрак. При всем благородстве такого идеализма его несостоятельность не требует пояснений после сатиры Сервантеса.
Третий и, очевидно, нормальный исход, который можно назвать практическим идеализмом, состоит в том, чтобы, не закрывая глаз на дурную сторону действительности, но и не возводя ее в принцип, во что-то безусловное и бесповоротное, замечать в том, что есть, настоящие зачатки или задатки того, что должно быть, и, опираясь на эти хотя недостаточные и неполные, но тем не менее действительные проявления добра, как уже существующего, данного, помогать сохранению, росту и торжеству этих добрых начал и через то все более и более сближать действительность с идеалом и в фактах низшей жизни воплощать откровения высшей. Такой практический идеализм одинаково применим и обязателен как для общественных, так и для частных, и даже самых интимных отношений. Если бы вместо того, чтобы тешиться преувеличенным контрастом между «гением чистой красоты» и «вавилонскою блудницею», поэт остановился на тех действительных зачатках высшего достоинства, которые должны же были заключаться в существе, внушившем ему хоть бы на одно мгновение такие чистые образы и чувства, если бы он не отрекся в повседневной жизни от того, что видел и ощущал в минуту вдохновения, а решился сохранить и умножить эти залоги лучшего и на них основать свои отношения к этой женщине, тогда, конечно, вышло бы совсем другое и для него, и для нее, и вдохновенное его стихотворение имело бы не поэтическое только, но и жизненное значение. А теперь, хотя художественная красота этих стихов остается при них, но нельзя, однако, находить совершенно безразличным при их оценке то обстоятельство, что в реальном историческом смысле они, с точки зрения самого Пушкина, дают только лишнее подтверждение Аристотелевых слов, что «поэты и лгут много».
Все возможные исходы из противоречия между поэтическим идеалом и житейскою действительностью остались одинаково чуждыми Пушкину. Он не был, к счастью, ни мизантропом, ни Дон-Кихотом и, к несчастью, не умел или не хотел стать практическим идеалистом, действительным служителем добра и исправителем действительности. Он с полною ясностью отмечал противоречие, но как-то легко с ним мирился: указывая на него как на факт и прекрасно его характеризуя (например, в стихотворении «Пока не требует поэта»), он даже не подозревал – до своих последних, зрелых лет, – что в этом факте есть задача, требующая решения. Резкий разлад между творческими и житейскими мотивами казался ему чем-то окончательным и бесповоротным, не оскорблял нравственного слуха, который, очевидно, был менее чутким, нежели слух поэтический.
Отношения к женщинам занимают очень большое место и в жизни, и в поэзии Пушкина; и хотя не во всех случаях эти отношения давали ему повод к апокалиптическим уподоблениям, но везде выступает непримиренная двойственность между идеализмом творчества и крайним реализмом житейских взглядов. В обширной переписке с женою мы не отыщем и намека на то «богомольное благоговение перед святыней красоты», о котором говорится в стихотворении к Наталии Николаевне Гончаровой.
V
В Пушкине, по его собственному свидетельству, были два различные и не связные между собою существа: вдохновенный жрец Аполлона и ничтожнейший из ничтожных детей мира. Высшее существо выступило в нем не сразу, его поэтический гений обнаруживался постепенно. В ранних его произведениях мы видим игру остроумия и формального стихотворческого дарования, легкие отражения житейских и литературных впечатлений. Сам он характеризует такое творчество как «изнеженные звуки безумства, лени и страстей». Но в легкомысленном юноше быстро вырастал великий поэт, и скоро он стал теснить «ничтожное дитя мира». Под тридцать лет решительно обозначается у Пушкина «смутное влеченье чего-то жаждущей души», – неудовлетворенность игрою темных страстей и ее светлыми отражениями в легких образах и нежных звуках. – «Познал он глас иных желаний, познал он новую печаль». Он понял, что «служенье муз не терпит суеты», что «прекрасное должно быть величаво», то есть что красота, прежде чем быть приятною, должна быть достойною, что красота есть только ощутительная форма добра и истины.
Если бы Пушкин жил в средние века, то, достигнув этого понимания, он мог бы пойти в монастырь, чтобы связать свое художническое призвание с прямым культом того, что абсолютно достойно. Ему легко было бы удалиться от мира, в исправление и перерождение которого он, как мы знаем, не верил. В тех условиях, в которых находился русский поэт XIX века, ему удобнее и безопаснее было избрать другой род аскетизма: он женился и стал отцом семейства. С этим благополучно прошел для него период необузданных чувственных увлечений, которые могли бы задавить неокрепший творческий дар, вместо того, чтобы питать его. Это искушение оказалось недостаточно сильным, чтобы одолеть его гений, он сумел вовремя положить предел безмерности своих низших инстинктов, ввести в русло свою материальную жизнь. «Познал он глас иных желаний, познал он новую печаль».
Но, становясь отцом семейства, Пушкин по необходимости теснее прежнего связывал себя с жизнью социальною, с тою общественною средою, к которой он принадлежал, и тут его ждало новое, более тонкое и опасное искушение.
Достигши зрелого возраста, Пушкин ясно сознал, что задача его жизни есть то служение, «которое не терпит суеты», служение тому прекрасному, которое «должно быть величавым». Так как он оставался в обществе, то его служение красоте неизбежно принимало характер общественного служения, и ему нужно было установить свое должное отношение к обществу.
Но тут Пушкин, вообще слишком даже разделявший поэзию с житейскими отношениями, не захотел отделить законное сознание о своем высшем поэтическом призвании и о том внутреннем преимуществе перед другими, которое давал ему его гений, – не захотел он отделить это законное чувство своего достоинства как великого поэта, от личной мелкой страсти самолюбия и самомнения. Если своим гением Пушкин стоял выше других и был прав, сознавая эту высоту, то в своем самолюбивом раздражении на других он падал с своей высоты, становился против других, то есть на одну доску с ними, а чрез это терял и всякое оправдание для своего раздражения, – оно оказывалось уже только дурною страстью вражды и злобы.
VI
Самолюбие и самомнение есть свойство всех людей, и полное его истребление не только невозможно, но, пожалуй, и нежелательно. Этим отнимался бы важный возбудитель человеческой деятельности; это было бы опасно, пока человечество должно жить и действовать на земле.
В отеческих писаниях, – кажется, в Лимонарии св. Софрония, патриарха иерусалимского, – я читал такой рассказ. К знаменитому подвижнику пришел начинающий монах, прося указать ему путь совершенства. «Этою ночью, – сказал старец, – ступай на кладбище и до утра восхваляй погребенных там покойников, а потом приди и скажи мне, как они примут твои хвалы». На другой день монах возвращается с кладбища: «Исполнил я твое приказание, отче! Всю ночь громким голосом восхвалял я этих покойников, величал их святыми, преблаженными отцами, великими праведниками и угодниками божиими, светильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли; приписал им все добродетели, о каких только читал в священном писании и эллинских книгах». – «Ну, что же? Как выразили они тебе свое удовольствие?» – «Никак, отче: все время хранили молчание, ни единого слова я от них не услыхал». – «Это весьма удивительно, – сказал старец, – но вот что ты сделай: этой ночью ступай туда опять и ругай их до утра, как только можешь сильнее; тут уж они наверно заговорят». На следующий день монах опять возвратился с отчетом: «Всячески поносил я их и позорил, называл псами нечистыми, сосудами дьявольскими, богоотступниками; приравнивал их ко всем злодеям из Ветхого и Нового завета от Каина-братоубийцы до Иуды-предателя, от Гивеонитов неистовых и до Анании и Сапфиры – богообманщиков, укорял их во всех ересях от Симоновой и Валентиновой до новоявленной монофелитской». – «Ну что же? Как же ты спасся от их гнева?» – «Никак, отче! они все время безмолвствовали. Я даже ухо прикладывал к могилам, но никто и не пошевельнулся». – «Вот видишь, – сказал старец, – ты поднялся на первую ступень ангельского жития, которая есть послушание; вершины же этого жития на земле достигнешь лишь тогда, когда будешь так же равнодушен и к похвалам, и к обидам, как эти мертвецы».
Хотя для Пушкина также идеал совершенства предполагал полное умерщвление самолюбия и самомнения:
Хвалу и клевету приемли равнодушно, —но требовать или ждать от него действительного осуществления такого идеала было бы, конечно, несправедливо. Оставшись в миру, он отказался от практики сверхмирского совершенства, и было бы даже жалко, если бы поэт светлой жизни погнался за совершенством покойников. Но можно и должно было требовать и ожидать от Пушкина того, что по праву ожидается и требуется нами от всякого разумного человеческого достоинства, – можно и должно было ждать и требовать от него, чтобы, оставаясь при своем самолюбии и даже давая ему, при случае, то или другое выражение, он не придавал ему существенного значения, не принимал его как мотив важных решений и поступков, чтобы о страсти самолюбия он всегда мог сказать как и о всякой другой страсти: я имею ее, а не она меня имеет. К этому, по меньшей мере, обязывал Пушкина его гений, его служение величавой красоте, обязывали, наконец, его собственные слова, когда, с укором обращаясь к своему герою, он говорит, что тот
Был должен оказать себя Не мячиком предрассуждений, Не пылким мальчиком, бойцом, Но мужем с честью и умом.Этой, наименьшей, обязанности Пушкин не исполнил.
VII
Допустив над своею душою власть самолюбия, Пушкин старался оправдать ее чувством высшего призвания. Это фальшивое оправдание недостойной страсти неизбежно ставило его в неправильное отношение к обществу, вызывало и поддерживало в нем презрение к другим, затем отчуждение от них, наконец, вражду и злобу против них.
Уже в сонете «Поэту» высота самосознания смешивается с высокомерием и требование бесстрастия – с обиженным и обидным выражением отчуждения.
Ты – царь, живи один!Это взято, кажется, из Байрона: the solitude of kings[74]. Но ведь одиночество царей состоит не в том, что они живут одни, – чего, собственно, и не бывает, – а в том, что они среди других имеют единственное положение. Это есть одиночество горных вершин.
Монблан – монарх соседних гор: Они его венчали. («Манфред» Байрона).В этом смысле одинок и гений, и этого одиночества никто отнять не может, как нельзя отнять у Монблана его 14 000 футов высоты. Такое одиночество гения само собою разумеется, не нужно на него указывать или подчеркивать его. Но разве оно есть причина для презрения и отчуждения? И солнце одно на небе, но оно живет во всем, что оно живит, и никто не увидит в нем символ высокомерного обособления.
Не подобало такое высокомерие и солнцу нашей поэзии. К иным чувствам и взглядам призывало его не только сознание своей гениальности, но и сознание религиозное, которое с наступлением зрелого возраста пробудилось и выяснилось в нем. Прежнее его неверие было более легкомыслием, чем убеждением, и оно прошло вместе с другими легкомысленными увлечениями. То, что он говорил про Байрона, еще более применяется к нему самому: «скептицизм сей был только временным своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему, вере душевной».
В сознании своего гения и в христианской вере поэт имел двойную опору, слишком достаточную, чтобы держаться в жизни на известной высоте, недосягаемой для мелкой вражды, клеветы и сплетни, – на высоте, одинаково далекой от нехристианского презрения к ближним и от недостойного уподобления толпе. Но мы видим, что Пушкин постоянно колеблется между высокомерным пренебрежением к окружающему его обществу и мелочным раздражением против него, выражающимся в язвительных личных выходках и эпиграммах. В его отношении к неприязненным лицам не было ничего ни гениального, ни христианского, и здесь – настоящий ключ к пониманию катастрофы 1837 года.
VIII
По мнению самого Пушкина, повторяемому большинством критиков и историков литературы, «свет» был к нему враждебен и преследовал его. Та злая судьба, от которой будто бы погиб поэт, воплощается здесь в «обществе», «свете», «толпе», – вообще в той пресловутой среде, роковое предназначение которой только в том, кажется, и состоит, чтобы «заедать» людей.
При всей своей распространенности это мнение, если его разобрать, оказывается до крайности неосновательным. Над Пушкиным все еще тяготеет критика Писарева, только без ясности и последовательности этого замечательного писателя. Люди, казалось бы, прямо противоположного ему направления и относящиеся к нему и ко всему движению шестидесятых годов с «убийственным» пренебрежением, на самом деле применяют к своему кумиру – Пушкину – прием писаревской критики, только с другого конца и гораздо более нелепым образом. Писарев отрицал Пушкина потому, что тот не был социальным и политическим реформатором. Требование было неосновательно, но факт совершенно верен. Пушкин действительно не был таким реформатором. Теперешние обожатели Пушкина, не покидая дурного критического метода – произвольных требований и случайных критериев, рассуждают так: Пушкин – великий человек, а так как наш критерий истинного величия дан в философии Ницше и требует от великого человека быть учителем жизнерадостной мудрости язычества и провозвестником нового или обновленного культа героев, то Пушкин и был таким учителем мудрости и таким провозвестником нового культа, за что и пострадал от косной и низменной толпы. Хотя требования здесь другие, чем у Писарева, но дурная манера предъявлять великому поэту свои личные или партийные требования – в существе та же самая. Критика Писарева может быть сведена к такому силлогизму: Maj[75].: Великий поэт должен быть провозвестником радикальных идей; Min[76].: Пушкин не был таким провозвестником; С.: ergo[77] – Пушкин был никуда не годным пошляком. Здесь в заключении высказывается субъективная оценка, грубо неверная, но логически вытекающая из приложения к действительному Пушкину произвольного мерила, взятого критиком, указывающим фактически верно, хотя совершенно некстати, на то, чего в самом деле не было у нашего поэта.
Суждения новейших пушкиноманов могут быть, в свою очередь, выражены в таком силлогизме: Maj.: Великий поэт должен быть воплощением ницшеанских идей; Min.: Пушкин был великий поэт; С.: ergo – Пушкин был воплощением ницшеанских идей. Формально этот силлогизм так же правилен, как и писаревский, но вы видите существенную разницу в пользу покойного критика: там в заключении выражалась только ложная оценка, здесь же утверждается ложный факт. Ведь Пушкин в действительности так же мало воплощал ницшеанскую теорию, как и практический радикализм. Но Писарев, подводя Пушкина под мерку радикальных тенденций, ясно видел и откровенно объявлял, что он под нее не подходит, тогда как новейшие панегиристы пушкинской поэзии, прикидывая к этому здоровому, широкому и вольному творчеству ломаный аршин ницшеанского психопатизма, настолько слепы, что уверяют себя и других в полной успешности такого измерения.
Дело не в собственных взглядах того или другого критика. И писаревская, и ницшеанская точка зрения могут иметь свою относительную законность. Но дело в том, что в настоящем историческом Пушкине обе эти точки зрения не имеют для себя никакого действительного приложения, и потому обусловленные ими суждения о поэте просто бессмысленны. Мы можем преклоняться перед трудолюбием и искусством муравьев или восхищаться красотою павлиньего хвоста, но нельзя на этом основании бранить жаворонка за то, что он не строит муравейника, и еще менее позволительно с восторгом восклицать: какой великолепный павлиний хвост у этого жаворонка!
К фальшивой оценке Пушкина как учителя древней мудрости и пророка новой или обновленной античной красоты привязывается (довольно искусственно и нескладно) давнишний взгляд на его гибель как на роковое следствие его столкновения с враждебною общественною средой. Но общественная среда враждует обыкновенно с теми людьми, которые хотят ее исправлять и перерождать. У Пушкина такого желания не было; он решительно отклонял от себя всякую преобразовательную задачу, которая, действительно, вовсе не шла бы к нему. При всем различии натур и характеров, Пушкин все-таки был более похож на Гете, чем на Сократа, и отношение к нему официальной и общественной русской среды было более похоже на отношение Германии к веймарскому олимпийцу, нежели на отношение афинской демократии к Сократу, – да и Сократ мог свободно прожить среди этой демократии до семидесятилетнего возраста.
Вообще, столкновение лица с обществом должно быть слишком принципиально глубоким, чтобы делать кровавую развязку безусловно необходимою, объективно неизбежною. Во всей истории человечества это случилось, кажется, не более одного раза, да и спор шел, собственно, не между лицом и обществом, а между богом и «князем мира сего». Впрочем, насколько мне известно, даже самые ярые панегиристы Пушкина не вспоминали о Голгофе по поводу его дуэли; и действительно, несчастный поэт был менее всего близок к Христу тогда, когда стрелял в своего противника.
Пушкина будто бы не признавали и преследовали! Но что же, собственно, не признавалось в нем, что было предметом вражды и гонений? Его художественное творчество? Едва ли, однако, во всемирной литературе найдется другой пример великого писателя, который так рано, как Пушкин, стал общепризнанным и популярным в своей стране. А говорить о гонениях, которым будто бы подвергался наш поэт, можно только для красоты слога.
Если несколько лет невольного, но привольного житья в Кишиневе, Одессе и собственном Михайловском – есть гонение и бедствие, то как же мы назовем бессрочное изгнание Данте из родины, тюрьму Камоэнса, объявленное сумасшествие Тасса, нищету Шиллера, остракизм Байрона, каторгу Достоевского и т. д.? Единственное бедствие, от которого серьезно страдал Пушкин, была тогдашняя цензура; но, во-первых, это была общая судьба русской литературы, а во-вторых, этот «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат», и, следовательно, для великих писателей менее страшен, чем для прочих. Внешние условия Пушкина, несмотря на цензуру, были исключительно счастливыми. Во всяком случае, можно быть уверенным, что в тогдашней Англии ему за его ранние «вольности» досталось бы от общества гораздо больше, чем в России от правительства, как это ясно видно на примере Байрона. Когда говорят о вражде светской и литературной среды к Пушкину, забывают о его многочисленных и верных друзьях в этой самой среде. Но почему же «свет» более представлялся тогда Уваровым или Бенкендорфом, чем Карамзиными, Виельгурскими, Вяземскими и т. д.? И кто были представители русской литературы: Жуковский, Гоголь, Баратынский, Плетнев или же Булгарин? Едва ли был когда-нибудь в России писатель, окруженный таким блестящим и плотным кругом людей понимающих и сочувствующих.
IX
Как поэт, Пушкин мог быть вполне доволен своим общественным положением: он был всероссийскою знаменитостью еще при жизни. Конечно, между его современниками в России были и такие, которые отрицали его художественное значение или недостаточно его понимали. Но это были вообще люди, эстетически до него не доросшие, что было так же неизбежно, как и то, что люди совсем неграмотные не читали его сочинений. Обижаться и негодовать в одном случае было бы так же странно, как и в другом. И на самом деле, Пушкин обижался и негодовал на общество не за это, не за эстетическую тупость людей малообразованных, а за холодность и неприязненность к нему многих лиц из тех двух кругов, к которым он принадлежал, светского и литературного. Но эта неприязненность, доходившая иногда до прямой враждебности, относилась, главным образом, не к поэту, не к жрецу Аполлона, а лишь к тому, кто иногда, по собственному признанию, между детей ничтожных мира бывал, может быть, всех ничтожнее. В общественной среде Пушкина были, конечно, как и во всякой другой среде, злостные глупцы и негодяи, для которых превосходство ума и дарования нестерпимо само по себе. Вражда этих людей, возбуждаемая силою Пушкина, могла, однако, держаться и действовать только чрез его слабости. Он сам давал ей пищу и толкал в лагерь своих врагов и таких людей, которые не были злостными глупцами и негодяями.
Главная беда Пушкина были эпиграммы. Между ними есть, правда, высшие образцы этого невысокого, хотя законного рода словесности, есть настоящие золотые блестки добродушной игривости и веселого остроумия; но многие другие ниже поэтического достоинства Пушкина, а некоторые ниже человеческого достоинства вообще и столько же постыдны для автора, сколько оскорбительны для его сюжетов. Когда, например, почтенный ученый, оставивший заметный след в истории своей науки и ничего худого не сделавший, характеризуется так:
Клеветник без дарованья, Палок ищет он чутьем И дневного пропитанья Ежемесячным враньем, —то едва ли самый пламенный поклонник Пушкина увидит здесь ту «священную жертву», к которой «требует поэта Аполлон». Ясно, что тут приносилось в жертву только личное достоинство человека, что требовал этой жертвы не Музагэт, а демон гнева, и что нельзя было ожидать, чтобы жертва чувствовала при этом благоговение к своему словесному палачу.Таких недостойных личных выходок, иногда, как в приведенном примере, вовсе чуждых поэтического вдохновения, а иногда представлявших злоупотребление поэзией, у Пушкина, к несчастью, было слишком много даже и в последние его годы. Одна из них создала скрытую причину враждебного действия, приведшего поэта к окончательной катастрофе. Это – известное стихотворение «На выздоровление Лукулла», очень яркое и сильное по форме, но по смыслу представлявшее лишь грубое личное злословие насчет тогдашнего министра народного просвещения Уварова.
По свидетельству большинства современников, личный характер Уварова не мог вызывать сочувствия. Но обличение чьих-нибудь личных недостатков не есть задача поэзии, хотя бы сатирической. А в публичной своей деятельности Уваров имел большие заслуги: из всех русских министров народного просвещения он был, без сомнения, самый просвещенный и даровитый, и деятельность его – самая плодотворная. Для серьезной сатиры, внушаемой интересом общественным, Уваров не давал повода, и, в самом деле, Пушкин обличает только частный характер министра, и его обличение представляет скорее пасквиль, нежели сатиру. Но и правильная сатира, нападающая на общее и публичное зло, не подобала уже тому поэту, который ранее торжественно объявил, что ему нет дела до общественной пользы, и что борьба с публичным злом есть дело полиции, а не поэзии:
В градах ваших с улиц шумных Сметают сор, – полезный труд! Но, позабыв свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у вас метлу берут?Если ради внешней красоты стихов «На выздоровление Лукулла» можно извинить их написание и сообщение близким друзьям, то обнародование их чрез напечатание в журнале не имеет никакого оправдания.
Между тем такому влиятельному и не очень разборчивому в средствах человеку, как Уваров, легко было стать скрытым руководителем и вдохновителем множества других лиц, оскорбленных поэтом, и устроить против него деятельный заговор злоречия, сплетни и интриги. Цель была – непрерывно раздражать и дразнить его и этим довести до поступков, которые сделали бы его положение в петербургском обществе невозможным. Но разве не в его власти было помешать достижению этой цели, рассчитанной только на его нравственную слабость?
Х
Дурное дело обиды, для которого Пушкин злоупотреблял своим талантом и унижал свой гений, было так естественно и потому легко для его врагов. Они были тут в своей сфере, исполняли свою роль; для них не было падения, – падение было только для Пушкина. На низменной почве личной злобы и вражды все выгоды были на их стороне, их победа была здесь необходима. Но разве необходимо было Пушкину оставаться до конца на этой ему несвойственной, мучительной и невыгодной почве, на которой всякий шаг был для него падением? Враги Пушкина не имеют оправдания; но тем более его вина в том, что он спустился до их уровня, стал открытым для их низких замыслов. Глухая борьба тянулась два года, и сколько было за это время моментов, когда он мог одним решением воли разорвать всю эту паутину, поднявшись на ту доступную ему высоту, где неуязвимость гения сливалась с незлобием христианина.
Нет такого житейского положения, хотя бы возникшего по нашей собственной вине, из которого нельзя бы было при доброй воле выйти достойным образом. Светлый ум Пушкина хорошо понимал, чего от него требовали его высшее призвание и христианские убеждения; он знал, что должно делать, но он все более и более отдавался страсти оскорбленного самолюбия с ее ложным стыдом и злобною мстительностью.
Потерявши внутреннее самообладание, он мог еще быть спасен постороннею помощью. После первой несостоявшейся дуэли его с Геккерном император Николай Павлович взял с него слово, что в случае нового столкновения он предупредит государя. Пушкин дал слово, но не исполнил его. Ошибочно уверившись, что непристойное анонимное письмо писано тем же Геккерном, он послал ему (через его отца) свой второй вызов в таком изысканно оскорбительном письме, которое делало кровавый исход неизбежным. Между тем при крайней степени своего раздражения Пушкин не дошел все-таки до того состояния, в котором прекращается вменяемость поступков и в котором данное им слово могло быть просто забыто. После дуэли у него найдено было письмо к графу Бенкендорфу с изложением его нового столкновения, очевидно для передачи государю. Он написал это письмо, но не захотел отправить его. Он думал, что чей-то пошлый и грязный анонимный пасквиль может уронить его честь, а им самим сознательно нарушаемое слово – не может. Если он был тут «невольником», то не «невольником чести», как назвал его Лермонтов, а только невольником той страсти гнева и мщения, которой он весь отдался.
Не говоря уже об истинной чести, требующей только соблюдения внутреннего нравственного достоинства, недоступного ни для какого внешнего посягательства, – даже принимая честь в условном значении согласно светским понятиям и обычаям, анонимный пасквиль ничьей чести вредить не мог, кроме чести писавшего его. Если бы ошибочное предположение было верно и автором письма был действительно Геккерн, то он тем самым лишал себя права быть вызванным на дуэль, как человек, поставивший себя своим поступком вне законов чести; а если письмо писал не он, то для вторичного вызова не было никакого основания. Следовательно, эта несчастная дуэль произошла не в силу какой-нибудь внешней для Пушкина необходимости, а единственно потому, что он решил покончить с ненавистным врагом.
Но и тут еще не все было потеряно. Во время самой дуэли раненный противником очень опасно, но не безусловно смертельно, Пушкин еще был господином своей участи. Во всяком случае, мнимая честь была удовлетворена опасною раною. Продолжение дуэли могло быть делом только злой страсти. Когда секунданты подошли к раненому, он поднялся и с гневными словами: «Attendez, je me sens assez de force pour tirer mon coup!»[78] – недрожащею рукою выстрелил в своего противника и слегка ранил его. Это крайнее душевное напряжение, этот отчаянный порыв страсти окончательно сломил силы Пушкина и действительно решил его земную участь. Пушкин убит не пулею Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна.
XI
Последний взрыв злой страсти, окончательно подорвавший физическое существование поэта, оставил ему, однако, возможность и время для нравственного перерождения. Трехдневный смертельный недуг, разрывая связь его с житейской злобой и суетой, но не лишая его ясности и живости сознания, освободил его нравственные силы и позволил ему внутренним актом воли перерешить для себя жизненный вопрос в истинном смысле. Что перед смертью в нем действительно совершилось духовное возрождение, это сейчас же было замечено близкими людьми.
«Особенно замечательно то, – пишет Жуковский, – что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной: буря, которая за несколько часов волновала его душу неодолимою страстью, исчезла, не оставив в ней следа; ни слова, ни воспоминания о случившемся». Но это не было потерею памяти, а внутренним повышением и очищением нравственного сознания и его действительным освобождением из плена страсти. Когда его товарищ и секундант Данзас, – рассказывает кн. Вяземский, – желая выведать, в каких чувствах умирает он к Геккерну, спросил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти касательно Геккерна. «Требую, – отвечал он, – чтобы ты не мстил за мою смерть; прощаю ему и хочу умереть христианином».
Описывая первые минуты после смерти, Жуковский пишет: «Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти... Что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это не было ни сон, ни покой; не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выражение поэтическое. Нет! какая-то важная, удивительная мысль на нем разливалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубоко удовлетворяющее знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть?»
Хотя нельзя угадать, какие слова сказал бы своему другу возродившийся через смерть великий поэт, но можно наверное отвечать за то, чего бы он не сказал. Он не сказал бы того, что твердят его неразумные поклонники, делающие из великого человека своего маленького идола. Он не сказал бы, что погиб от злой враждебной судьбы, не сказал бы, что его смерть была бессмысленною и бесцельною, не стал бы жаловаться на свет, на общественную среду, на своих врагов; в его словах не было бы укора, ропота и негодования. И эта несомненная уверенность в том, чего бы он не сказал, – уверенность, которая не нуждается ни в каких доказательствах, потому что она прямо дается простым фактическим описанием его последних часов, – эта уверенность есть последнее благодеяние, за которое мы должны быть признательны великому человеку. Окончательное торжество духа в нем и его примирение с богом и с миром примиряют нас с его смертью: эта смерть не была безвременною.
– Как? – скажут, – а те дивные художественные создания, которые он еще носил в своей душе и не успел дать нам, а те сокровища мысли и творчества, которыми бы он мог обогатить нашу словесность в свои зрелые и старческие годы?
Какой внешний, механический взгляд! Никаких новых художественных созданий Пушкин нам не мог дать и никакими сокровищами не мог больше обогатить нашу словесность.
XII
Мы знаем, что дуэль Пушкина была не внешнею случайностью, от него не зависевшею, а прямым следствием той внутренней бури, которая его охватила и которой он отдался сознательно, несмотря ни на какие провиденциальные препятствия и предостережения. Он сознательно принял свою личную страсть за основание своих действий, сознательно решил довести свою вражду до конца, до дна исчерпать свой гнев. Один из его ближайших друзей, князь Вяземский, в том самом письме, в котором он описывает его христианскую кончину, обращаясь назад, к истории дуэли, замечает: «Ему нужен был кровавый исход». Мы не можем говорить о тайных состояниях его души; но два явные факта достаточно доказывают, что его личная воля бесповоротно определилась в этом отношении и уже не была доступна никаким житейским воздействиям, – я разумею: нарушенное слово императору и последний выстрел в противника.
В том внутреннем состоянии, о котором мы вправе заключать из этих двух фактов, даже рана его самого или Геккерна не могла бы укротить его душевную бурю и переменить его решимость довести дело до конца. При такой решимости, которая была несомненна и для друзей, дуэль могла иметь только два исхода: или смерть самого Пушкина, или смерть его противника. Для иных поклонников поэта второй исход представлялся бы справедливым и желательным. Зачем убит гений, а ничтожный человек остался в живых? Как же это, однако? Неужели с этою «успешною» дуэлью на душе Пушкин мог бы спокойно творить новые художественные произведения, озаренные высшим светом христианского сознания, до которого он уже раньше достиг?
Делать предположения, забывая о действительной природе и собственных взглядах человека, составляющего их предмет, есть ребяческая забава. Пусть эстетическое идолопоклонство ставит себя выше различия между добром и злом, но какое же это имеет отношение к действительному Пушкину, который никогда на эту точку зрения не становился, а под конец пришел к положительным христианским убеждениям, прямо не допускающим такого безразличия? Если Пушкин в зрелом возрасте стал уже тяготиться противоречием между требованиями поэзии и требованиями житейской суеты, то каким же образом мог бы он примириться с гораздо более глубоким противоречием между служением высшей красоте, священной и величавой, и фактом убийства из-за личной злобы?
Мы не создаем Пушкина по своему образу и подобию, а берем действительно Пушкина с его действительным характером и с теми убеждениями и взглядами, которые действительно сложились у него к этому времени. Уже в шестой главе «Евгения Онегина» есть ясное указание на то, как далеко был бы поэт от безразличия, если бы ему пришлось убить на дуэли хотя бы ненавистного и презренного врага:
Приятно дерзкой эпиграммой Взбесить оплошного врага... – И т. д. Но отослать его к отцам Едва ль приятно будет вaм.Так говорил еще не перегоревший в юных страстях автор «Евгения Онегина»; что бы сказал возмужалый автор «Пророка» и «Отцы пустынники и жены непорочны»? Добровольно отдавшись злой буре, которая его увлекала, Пушкин мог и хотел убить человека, но с действительною смертью противника вся эта буря прошла бы мгновенно и осталось бы только сознание о бесповоротно совершившемся злом и безумном деле. У кого с именем Пушкина соединяется действительный духовный образ поэта в его зрелые годы, тот согласится, что конец этой добровольной с его стороны, им самим вызванной, дуэли – смертью противника – был бы для Пушкина во всяком случае жизненною катастрофою. Не мог бы он с такою тяжестью на душе по-прежнему привольно подниматься на вершины вдохновения для «звуков сладких и молитв»; не мог бы он с кровью нечистой человеческой жертвы на руках приносить священную жертву светлому божеству поэзии; для нарушителя нравственного закона нельзя уже было чувствовать себя царем над толпою и для невольника страсти – свободным пророческим глаголом жечь сердца людей. При той высоте духа, которая была ему доступна и которую так явно открыли его последние мгновения, легких и дешевых расчетов с совестью не бывает.
Для примирения с собою Пушкин мог отречься от мира, пойти куда-нибудь на Афон, или он мог избрать более трудный путь невидимого смирения, чтобы искупить свой грех в той же среде, в которой его совершил и против которой был виноват своею нравственною немощью, своим недостойным уподоблением ничтожной толпе. Но так или иначе, – под видом ли духовного или светского подвижника, – во всяком случае Пушкин после катастрофы жил бы только для дела личного душеспасения, а не для прежнего служения чистой поэзии. Прежде в простой и открытой душе поэта полнота жизненных впечатлений кристаллизовалась в прозрачную «объективную» призму, где сходивший на него в минуты вдохновения белый луч творческого озарения становился живою радугою. Но такой лучезарный, торжествующий характер поэзии имел неизбежно соответствующее ему основание в душевном строе поэта – ту непосредственную созвучность с всемирным благим смыслом бытия, ту жизнерадостную и добродушную ясность, все те свойства, которыми отличался Пушкин до катастрофы и которых он не мог сохранить после нее. При том исходе дуэли, которого бы желали иные поклонники Пушкина, поэзия ничего бы не выиграла, а поэт потерял бы очень много: вместо трехдневных физических страданий ему пришлось бы многолетнею нравственною агонией достигать той же окончательной цели: своего духовного возрождения. Поэзия сама по себе не есть ни добро, ни зло: она есть цветение и сияние духовных сил – добрых или злых. У ада есть свой мимолетный цвет и свое обманчивое сияние. Поэзия Пушкина не была и не могла быть таким цветом и сиянием ада, а сохранить и возвести на новую высоту добрый смысл своей поэзии он уже не мог бы, так как ему пришлось бы всю душу свою положить на внутреннее нравственное примирение с потерянным в кровавом деле добром. Не то чтобы дело дуэли само по себе было таким ужасным злом. Оно может быть извинительно для многих, оно могло быть извинительно для самого Пушкина в пору ранней юности. Но для Пушкина 1837 г., для автора «Пророка», убийство личного врага, хотя бы на дуэли, было бы нравственною катастрофою, последствия которой не могли бы быть исправлены «между прочим», в свободное от литературных занятий время, – для восстановления духовного равновесия потребовалась бы вся жизнь.
Все многообразные пути, которыми люди, призванные к духовному возрождению, действительно приходят к нему, в сущности, сводятся к двум: или путь внутреннего перелома, внутреннего решения лучшей воли, побеждающей низшие влечения и приводящей человека к истинному самообладанию; или путь жизненной катастрофы, освобождающей дух от непосильного ему бремени одолевших его страстей. Беззаветно отдавшись своему гневу, Пушкин отказался от первого пути и тем самым избрал второй, – и неужели мы будем печалиться о том, что этот путь не был отягощен для него виною чужой смерти и что духовное очищение могло совершиться в три дня?
Вот вся судьба Пушкина. Эту судьбу мы по совести должны признать, во-первых, доброю, потому что она вела человека к наилучшей цели – к духовному возрождению, к высшему и единственно достойному его благу; а во-вторых, мы должны признать ее разумною, потому что этой наилучшей цели она достигла простейшим и легчайшим в данном положении, то есть наилучшим способом. Судьба не есть произвол человека, но она не может управлять человеческою жизнью без участия собственной воли человека, а при данном состоянии воли этого человека то, что с ним произошло, должно было произойти и есть самое лучшее из того, что вообще могло бы с ним произойти, то есть кажется возможным.
Природа судьбы вообще и, следовательно, судьба всякого человеческого существа не объясняется вполне тем, что мы видим в судьбе такого особенного человека, как Пушкин: нельзя химический анализ Нарзана принимать всецело за анализ всякой воды. Как в Нарзане есть то, чего нет ни в какой другой воде, так, с другой стороны, для полного отчета о составе нашей невской воды приходится принимать во внимание такие осложнения, каких не найдется ни в Нарзане, ни в каком-либо другом целебном источнике. Но все-таки мы, наверно, найдем и в Неве, и в Нарзане, и во всякой другой воде основные вещества – водород и кислород, – без них никакой воды не бывает. При всей своей особенности судьба Пушкина показывает нам – лишь с большею яркостью – те основные черты, которые мы отыщем, если захотим и сумеем искать, во всякой человеческой судьбе, как бы она ни была осложнена или, напротив, упрощена. Судьба вообще не есть простая стихия, она разлагается на два элемента: высшее добро и высший разум, и присущая ей необходимость есть преодолевающая сила разумно-нравственного порядка, независимого от нас по существу, но воплощающегося в нашей жизни только чрез нашу собственную волю. А если так, то я думаю, что темное слово «судьба» лучше нам будет заменить ясным и определенным выражением – провидение божие.
Лермонтов
Произведения Лермонтова, так тесно связанные с его личной судьбой, кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того духовного настроения и того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости можно назвать «ницшеанством» – по имени писателя, всех отчетливее и громче выразившего это настроение, всех ярче обозначившего это направление.
Как черты зародыша понятны только благодаря тому определившемуся и развитому виду, какой он получил в организме взрослом, так и окончательное значение тех главных порывов, которые владели поэзией Лермонтова, – отчасти еще в смешанном состоянии с иными формами, – стало для нас вполне прозрачным с тех пор, как они приняли в уме Ницше отчетливо раздельный образ.
Кажется, все уже согласны, что всякое заблуждение, – по крайней мере всякое заблуждение, о котором стоит говорить, – содержит в себе несомненную истину, которой оно есть лишь более или менее глубокое искажение, – этою истиною оно держится, ею привлекает, ею опасно, и через нее же только может оно быть как следует обличено и опровергнуто. Поэтому первое дело разумной критики относительно какого-нибудь заблуждения – найти ту истину, которою оно держится и которую оно извращает.
Презрение к человеку, присвоение себе заранее какого-то исключительного и сверхчеловеческого значения – себе, или как одному я, или Я и К°, – и требование, чтобы это присвоенное, но ничем еще не оправданное величие было признано другими, стало нормою действительности, – вот сущность того направления, о котором я говорю, и, конечно, это большое заблуждение.
В чем же та истина, которою оно держится и привлекает умы?
Человек – единственное из земных существ, которое может относиться к самому себе критически, подвергать внутренней оценке не отдельные свои положения и действия (что возможно и для животных), а самый способ своего бытия в целом. Он себя судит, а при суде разумном и беспристрастном – и осуждает. Разум свидетельствует человеку о факте его несовершенства во всех отношениях, а совесть говорит ему, что этот факт не есть для него только внешняя необходимость, а зависит также и от него самого.
Человеку естественно хотеть быть больше и лучше, чем он есть в действительности. Если он взаправду этого хочет, то и может, а если может, то и должен. Но не есть ли бессмыслица – быть лучше, выше или больше своей действительности? Да, это есть бессмыслица для животного, так как для него действительность есть то, что его делает, но человек, хотя и есть также произведение уже существующей, данной действительности, но вместе с тем эта его действительность есть, так или иначе, в той или другой мере, – то, что он сам делает – делает более заметно и очевидно в качестве существа собирательного, менее заметно, но столь же несомненно и в качестве существа личного.
Можно спорить о метафизическом вопросе безусловной свободы выбора, но самодеятельность человека, то есть его способность действовать по внутреннему побуждению, – окончательно по сознанию долга или по совести, – есть не метафизический вопрос, а факт опыта. Вся история состоит в том, что человек делается лучше и больше самого себя, перерастает свою наличную действительность, отодвигая ее в прошедшее, а в настоящее вдвигая то, что еще недавно было противоположным действительности, – мечтою, субъективным идеализмом, утопией.
Внутренний, духовный, самодеятельный рост есть такой же бесспорный факт, как и рост внешний, физический, пассивный, с которым он связан как с своим предположением.
Теперь спрашивается, в каком же направлении, с какой стороны жизни должно совершаться изменение данного человечества в лучшее и высшее – в «сверхчеловечество»?
Если человек недоволен собою и хочет быть сверхчеловеком, то ведь тут дело идет, конечно, не о внешней (а также и не о внутренней) форме человеческого существа, а только о плохом функционировании этого существа в этой его форме, что от самой формы не зависит. Мы, например, можем быть недовольны не тем, что у нас два глаза, а лишь тем, что мы ими плохо видим. А чтобы лучше видеть, нет никакой надобности человеку изменять морфологический тип зрительного органа, например, вместо двух иметь множество глаз, потому что при тех же двух глазах могут раскрыться у него «вещие зеницы, – как у испуганной орлицы». При тех же двух глазах можно стать сверхчеловеком, а при сотне глаз можно оставаться только мухой.
Точно так же и весь прочий организм человеческий ни в какой нормальной черте своего морфологического строения не препятствует нам возвышаться над нашей дурной действительностью и становиться относительно ее сверхчеловеком. Другое дело – сторона функциональная, и притом не только в единичных и частных уклонениях патологических, но и в таких явлениях, которых обычность заставляет многих считать их нормальными. Таково прежде всего и более всего явление смерти и разложения организма. Если чем мы естественно тяготимся, если чем основательно недовольны в своей данной действительности, то, конечно, – этим заключительным явлением нашего видимого существования, этим его наглядным итогом, сводящимся на нет. Человек, думающий только о себе, не может примириться с мыслью о своей смерти; человек, думающий о других, не может примириться со смертью других; значит, и эгоист, и альтруист, – а все люди принадлежат в разных степенях чистоты и смешанности к тому или другому роду, – и эгоист, и альтруист одинаково должны чувствовать смерть как нестерпимое противоречие, то есть одинаково не могут внутренне принимать этот видимый итог человеческого существования за окончательный. И вот куда должны бы, по логике, с особенным вниманием смотреть люди, желающие подняться выше данной действительности, – желающие стать сверхчеловеками. Потому что, чем же в особенности отличается то человечество, над которым они хотят подняться, как не тем именно, что оно смертно? Человек и смертный синонимы. Уже у Гомера мы находим, что два главные разряда существ – боги и люди – постоянно характеризуются тем, что одни подвержены смерти, а другие нет, – Theoi te Brotoite. – Хотя и все прочие животные умирают, но никому не придет в голову характеризовать их как смертных, – для человека же этот признак не только принимается как характерный, но и чувствуется еще в выражении «смертный» какой-то грустный упрек себе. Чувствуется, что человек, сознавая неизбежность смерти, как центральной особенности своего действительного состояния, решительно не хочет с нею мириться, нисколько не успокаивается на этом сознании ее неизбежности в данных условиях. И в этом, конечно, он прав, потому что, если смерть совершенно необходима в этих наличных условиях, то кто же сказал, что эти условия неизменны и неприкосновенны? Теперь ясно, что ежели человек есть прежде всего и в особенности смертный, то есть подлежащий смерти, побеждаемый, преодолеваемый ею, то сверхчеловек должен быть прежде всего и в особенности победителем смерти, то есть освобожденным (освободившимся?) от существенных условий, делающих смерть необходимою, и, следовательно, исполнить те условия, при которых возможно или вовсе не умирать, или, умерши, воскреснуть. Положим, такая победа над смертью не может быть достигнута сразу, что совершенно несомненно. Положим также, – а это уже сомнительно, потому что не может быть доказано, – что такая победа, при теперешнем состоянии человека, не может быть достигнута вообще в пределах единичного существования, – пусть так, но путь-то, к ней ведущий, приближение к ней по этому пути, совершенствующееся, хотя бы и далекое от совершенства, исполнение тех условий, полнота которых требуется для достижения цели, для победы и одоления над смертью, – это-то ведь возможно и существует. Условия, при которых смерть забирает над нами силу и побеждает нас, достаточно хорошо нам известны; так должны быть известны и противоположные условия, при которых мы забираем силу над смертью и, в конце концов, можем победить ее. Хотя бы и не было перед нами настоящего сверхчеловека, но есть сверхчеловеческий путь, которым шли, идут и будут идти многие, на благо всех, и, конечно, важнейший наш интерес в том, чтобы побольше людей на него наступали, прямее и дальше по нем проходили.
И вот настоящий критерий для оценки всех дел и явлений жизни человеческой, а в особенности справедливо и полезно прилагать этот критерий в тех случаях, когда люди, сверх общего уровня одаренные, чувствующие истинную цель и смысл нашего существования, способные, а следовательно, и призванные, то есть обязанные более прочих к ней приблизиться и других приблизить, превращают эту общую цель в личное и бесплодное притязание, заранее отвергая необходимое условие для ее достижения.
Лермонтов, несомненно, был гений, то есть человек, уже от рождения близкий к сверхчеловеку, получивший задатки для великого дела, способный, а следовательно, обязанный его исполнить.
В чем заключалась особенность его гения?
Как он на него смотрел?
Что с ним сделал? – Вот три основные вопроса, которыми мы теперь займемся.
Относительно Лермонтова мы имеем то преимущество, что глубочайший смысл и характер его деятельности освещается с двух сторон – писаниями его ближайшего преемника Ницше и фигурою его отдаленного предка.
В пограничном с Англиею краю Шотландии, вблизи монастырского города Мельроза, стоял в XIII веке замок Эрсильдон, где жил знаменитый в свое время и еще более прославившийся впоследствии рыцарь Томас Лермонт. Славился он как ведун и прозорливец, смолоду находившийся в каких-то загадочных отношениях к царству фей и потом собиравший любопытных людей вокруг огромного старого дерева на холме Эрсильдон, где он прорицательствовал и между прочим предсказал шотландскому королю Альфреду III его неожиданную и случайную смерть. Вместе с тем эрсильдонский владелец был знаменит как поэт, и за ним осталось прозвище стихотворца, или, по-тогдашнему, рифмача – Thomas the Rhymer; конец его был загадочен: он пропал без вести, уйдя вслед за двумя белыми оленями, присланными за ним, как говорили, из царства фей. Через несколько веков одного из прямых потомков этого фантастического героя, певца и прорицателя, исчезнувшего в поэтическом царстве фей, судьба занесла в прозаическое царство московское. Около 1620 года «пришел с Литвы в город Белый из Шкотской земли выходец именитый человек Юрий Андреевич Лермонт и просился на службу великого государя, и в Москве своею охотою крещен из кальвинской веры в благочестивую. И пожаловал его государь царь Михаил Федорович восемью деревнями и пустошами Галицкого уезда, Заблоцкой волости. И по указу великого государя договаривался с ним боярин князь И. Б. Черкасский, и приставлен он, Юрий, обучать рейтарскому строю новокрещеных немцев старого и нового выезда, равно и татар». От этого ротмистра Лермонта в восьмом поколении происходит наш поэт, связанный и с рейтарским строем, подобно этому своему предку XVII в., но гораздо более близкий по духу к древнему своему предку, вещему и демоническому Фоме Рифмачу, с его любовными песнями, мрачными предсказаниями, загадочным двойственным существованием и роковым концом.
Первая и основная особенность лермонтовского гения – страшная напряженность и сосредоточенность мысли на себе, на своем я, страшная сила личного чувства. Не ищите у Лермонтова той прямой открытости всему задушевному, которая так чарует в поэзии Пушкина. Пушкин когда и о себе говорит, то как будто о другом; Лермонтов когда и о другом говорит, то чувствуется, что его мысль и из бесконечной дали стремится вернуться к себе, в глубине занята собою, обращается на себя. Нет надобности приводить этому примеры из произведений Лермонтова, потому что из них немного можно было бы найти таких, где бы этого не было. Ни у одного из русских поэтов нет такой силы личного сочувствия, как у Лермонтова. На Западе это не было бы отличительною чертою. Там не меньшую силу субъективности можно найти у Байрона, пожалуй, у Гейне, у Мюссэ. У наших же, где эта черта особенно ярко выражена, она есть подражание. Отличие же Лермонтова здесь в том, что он не был подражателем Байрона, а его младшим братом, и не из книг, а разве из общего происхождения получил это западное наследие, с которым ему тесно было в безличной русской среде. И не одною позой или праздной фантазией были чувства, выраженные им в раннем юношеском стихотворении —»Зачем я не птица, не ворон степной»:
На запад, на запад помчался бы я, Где цветут моих предков поля, Где в замке пустом на туманных горах Их забвенный покоится прах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Меж мной и холмами отчизны моей Расстилаются волны морей. Последний потомок отважных бойцов Увядает средь чуждых снегов.Сильнейшее развитие личного начала есть условие для наибольшей сознательности жизненного содержания, но этим не дается само это содержание жизни, и при его отсутствии сильное я остается пустым. Оставаться совершенно пустым колоссальное я Лермонтова не могло, потому что он был поэт божией милостью, и, следовательно, все им переживаемое превращалось в создания поэзии, давая новую пищу его я. А самым главным в этом жизненном материале лермонтовской поэзии, без сомнения, была личная любовь. Но любовные мотивы, решительно преобладавшие в произведениях Лермонтова, как видно из них же самих, лишь отчасти занимали личное самочувствие поэта, притупляя остроту его эгоизма, смягчая его жестокость, но не наполняя всецело и не покрывая его я. Во всех любовных темах Лермонтова главный интерес принадлежит не любви и не любимому, а любящему я, – во всех его любовных произведениях остается нерастворенный осадок торжествующего, хотя бы и бессознательного, эгоизма. Я не говорю о тех только произведениях, где, как в «Демоне» и «Герое нашего времени», окончательное торжество эгоизма над неудачною попыткой любви есть намеренная тема. Но это торжество эгоизма чувствуется и там, где оно не имеется в виду, – чувствуется, что настоящая важность принадлежит здесь не любви и не тому, что она делает из поэта, а тому, что он из нее делает, как он к ней относится. Когда огромный глетчер освещается солнцем, то является, говорят, зрелище восхитительное.
Новая эта красота происходит не оттого, чтобы солнце делало что-нибудь новое из глетчера, – оно ведь его и растопить не может, – а только оттого, что глетчер, оставаясь неизменно самим собою, делает из солнечных лучей, различным образом отражая и преломляя их своею поверхностью. Такова же и особенная прелесть лермонтовских любовных стихов, – прелесть оптическая, прелесть миража. Заметьте, что в этих произведениях почти никогда не выражается любовь в настоящем, в тот момент, когда она захватывает душу и наполняет жизнь. У Лермонтова она уже прошла, не владеет сердцем, и мы видим только чарующую игру воспоминания и воображения.
Расстались мы, но твой портрет Я на груди моей храню; Как бледный призрак лучших лет Он душу радует мою.Или другое:
Нет, не тебя так пылко я люблю, Не для меня красы твоей блистанье, — Люблю в тебе лишь прошлое страданье И молодость погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, В твои глаза вникая долгим взором, Таинственным я занят разговором, Но не с тобой – я с сердцем говорю. Я говорю с подругой юных дней, В твоих чертах ищу черты другие, В устах живых уста давно немые, В глазах – огонь угаснувших очей.И там, где глагол любить является в настоящем времени, он служит только поводом для меланхолической рефлексии:
Мне грустно потому, что я тебя люблю, И знаю, молодость цветущую твою... – И т. д.В одном чудесном стихотворении воображение поэта, обыкновенно занятое памятью прошлого, играет с возможностью будущей любви:
Из-под таинственной, холодной полумаски Звучал мне голос твой отрадный, как мечта, Светили мне твои пленительные глазки, И улыбалися лукавые уста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И создал я тогда в моем воображеньи По легким признакам красавицу мою, И с той поры бесплодное виденье Ношу в душе моей, ласкаю и люблю.Любовь уже потому не могла быть для Лермонтова началом жизненного наполнения, что он любил главным образом лишь собственное любовное состояние, и понятно, что такая формальная любовь могла быть лишь рамкой, а не содержанием его я, которое оставалось одиноким и пустым. Это одиночество и пустынность напряженной и в себе сосредоточенной личной силы, не находящей себе достаточного удовлетворяющего ее применения, есть первая основная черта лермонтовской поэзии и жизни.
Вторая, тоже от западных его родичей унаследованная черта, – быть может, видоизмененный остаток шотландского двойного зрения – способность переступать в чувстве и созерцании через границы обычного порядка явлений и схватывать запредельную сторону жизни и жизненных отношений.
Эта вторая особенность Лермонтова была во внутренней зависимости от первой. Необычная сосредоточенность Лермонтова в себе давала его взгляду остроту и силу, чтобы иногда разрывать сеть внешней причинности и проникать в другую, более глубокую связь существующего, – это была способность пророческая; и если Лермонтов не был ни пророком в настоящем смысле этого слова, ни таким прорицателем, как его предок Фома Рифмач, то лишь потому, что он не давал этой своей способности никакого объективного применения. Он не был занят ни мировыми историческими судьбами своего отечества, ни судьбою своих ближних, а единственно только своею собственной судьбой, – и тут он, конечно, был более пророк, чем кто-либо из поэтов. Далее я приведу несколько примеров того, как ясна была для Лермонтова его судьба, а теперь укажу лишь на одно удивительное стихотворение, в котором особенно ярко выступает своеобразная способность Лермонтова ко второму зрению, а именно знаменитое стихотворение «Сон». В нем необходимо, конечно, различать действительный факт, его вызвавший, и то, что прибавлено поэтом при передаче этого факта в стройной стихотворной форме, причем Лермонтов обыкновенно обнаруживал излишнюю уступчивость требованиям рифмы, но главное в этом стихотворении не могло быть придумано, так как оно оказывается «с подлинным верно». За несколько месяцев до роковой дуэли Лермонтов видел себя неподвижно лежащим на песке среди скал в горах Кавказа, с глубокою раной от пули в груди, и видящим в сонном видении близкую его сердцу, но отделенную тысячами верст женщину, видящую в сомнамбулическом состоянии его труп в той долине. – Тут из одного сна выходит, по крайней мере, три: 1) сон здорового Лермонтова, который видел себя самого смертельно раненным, – дело сравнительно обыкновенное, хотя, во всяком случае, это был сон в существенных чертах своих вещий, потому что через несколько месяцев после того, как это стихотворение было записано в тетради Лермонтова, поэт был действительно глубоко ранен пулею в грудь, действительно лежал на песке с открытою раной, и действительно уступы скал теснилися кругом. 2) Но, видя умирающего Лермонтова, здоровый Лермонтов видел вместе с тем и то, что снится умирающему Лермонтову:
И снился мне сияющий огнями Вечерний пир в родимой стороне... Меж юных жен, увенчанных цветами, Шел разговор веселый обо мне.Это уже достойно удивления. Я думаю, немногим из вас случалось, видя кого-нибудь во сне, видеть вместе с тем и тот сон, который видится этому вашему сонному видению. Но таким сном (2) дело не оканчивается, а является сон (3):
Но, в разговор веселый не вступая, Сидела там задумчива одна, И в грустный сон душа ее младая Бог знает чем была погружена. И снилась ей долина Дагестана, Знакомый труп лежал в долине той, В его груди, дымясь, чернела рана, И кровь лилась хладеющей струей.Лермонтов видел, значит, не только сон своего сна, но и тот сон, который снился сну его сна – сновидение в кубе.
Во всяком случае остается факт, что Лермонтов не только предчувствовал свою роковую смерть, но и прямо видел ее заранее. А та удивительная фантасмагория, которою увековечено это видение в стихотворении «Сон», не имеет ничего подобного во всемирной поэзии и, я думаю, могла быть созданием только потомка вещего чародея и прорицателя, исчезнувшего в царстве фей. Одного этого стихотворения, конечно, достаточно, чтобы признать за Лермонтовым врожденный, через голову многих поколений переданный ему гений. Теперь нам остается посмотреть, как сам Лермонтов принял этот задаток великой судьбы и что он из него сделал.
В отроческих и ранних юношеских произведениях Лермонтова (которых сохранилось гораздо больше, чем зрелых), почти во всех или прямо высказывается или просвечивает решительное сознание, что он существо избранное и сильное, назначенное совершить что-то великое. В чем будет состоять и к чему относиться это великое, он еще не может и намекнуть. Но что он призван совершить его – несомненно. На семнадцатом году он говорит:
Я рожден, чтоб целый мир был зритель Торжества иль гибели моей.Подобных этому заявлений у начинающего поэта не оберешься, и было бы слишком долго их приводить. Мы могли бы смеяться над самоуверенной заносчивостью мальчика, если бы он действительно не обнаружил несколько лет спустя чрезвычайных сил ума, воли и творчества. А так как он их обнаружил, то в этих ранних заявлениях о своем будущем величии мы должны признать не пустую претензию и не начало мании, а лишь верное самочувствие, или инстинкт самооценки, который дается всем избранным людям. Отличие Лермонтова здесь в том, что эта высокая самооценка уже от ранних лет связана у него с слишком низкой оценкой других, – всего света, оценкой, заранее составленной, выражающей черту характера, а не результат какого-нибудь действительного опыта. В том же стихотворении, где достойным зрителем своей великой судьбы он признает только целый мир, сейчас же затем следует:
Что хвала иль гордый смех людей? Души их певца не постигали, Не могли души его любить, Не могли понять его печали И его восторгов разделить.А в другом, также раннем, стихотворении сообщается, что жизнь научила поэта встречать невольно и повсюду «под гордой важностью лица – в мужчине глупого льстеца и в каждой женщине Иуду». Более замечательна другая черта. Так же часто, как заявления о своем величии и о своем презрении к человечеству, в ранних (а затем также и в позднейших) стихотворениях Лермонтова выражается его явственное предчувствие неизбежной и преждевременной гибели. Некоторая ходульность в обозначении этой гибели могла бы тоже, по крайней мере в ранних стихотворениях, вызвать улыбку, но и охота и право смеяться совершенно исчезают при мысли, что ведь поэт и в самом деле преждевременно погиб. Ясно, что эти две черты лермонтовского самочувствия прямо вытекают из тех особенностей его гения, о которых я раньше говорил, то есть его мизантропия – из сосредоточенности и напряженности в нем личного начала, а его постоянное и верное предчувствие гибели – из его второго зрения.
С ранних лет ощутив в себе силу гения, Лермонтов принял ее только как право, а не как обязанность, как привилегию, а не как службу. Он думал, что его гениальность уполномочила его требовать от людей и от бога всего, что ему хочется, не обязывая его относительно их ни к чему. Но пусть бог и люди великодушно не настаивают на обязанности гениального человека. Ведь богу ничего не нужно, а люди должны быть благодарны и за те искры, которые летят с костра, на котором сжигает себя гениальный человек. Пусть бог на небе и люди на земле отпустят ему его медленное самоубийство. Но разве легче от этого третьему обиженному, – самому гению, который попусту сжег и закопал в прах и тлен то, что было ему дано для великого подъема, как могучему вождю людей, на пути к сверхчеловечеству? Но как же он мог кого-нибудь поднимать, когда сам не поднялся? А поднимается человек только по трупам – по трупам убитых им врагов, то есть злых личных страстей. Можно ли этого требовать? Не от всякого и требуется. Судьба или высший разум ставят дилемму: если ты считаешь за собою сверхчеловеческое призвание, исполни необходимое для него условие, подними действительность, поборовши в себе то злое начало, которое тянет тебя вниз. А если ты чувствуешь, что оно настолько сильнее тебя, что ты даже бороться с ним отказываешься, то признай свое бессилие, признай себя простым смертным, хотя и гениально одаренным. Вот, кажется, безусловно разумная и справедливая дилемма: или стань действительно выше других, или будь скромным. А кто не желает принять этой дилеммы и безумно восстает против таких азбучных требований разума, как против какой-то обиды, – кто не может подняться и не хочет смириться, – тот сам себя обрекает на неизбежную гибель.
Сознавая в себе от ранних лет гениальную натуру, задаток сверхчеловека, Лермонтов также рано сознавал и то злое начало, с которым он должен бороться, но которому скоро удалось, вместо борьбы, вызвать поэта лишь на идеализацию его.
Четырнадцатилетний Лермонтов еще не умеет, как то следует, идеализировать своего демона и дает ему такое простое и точное описание:
Он недоверчивость вселяет, Он презрел чистую любовь, Он все моленья отвергает, Он равнодушно видит кровь. И звук высоких ощущений Он давит голосом страстей, И муза кротких вдохновений Сграшится неземных очей.Через год Лермонтов говорит о том же:
Две жизни в нас до гроба есть. Есть грозный дух: он чужд ему; Любовь, надежда, скорбь и месть — Все, все подвержено ему. Он основал жилище там, Где можем память сохранять, И предвещает гибель нам, Когда уж поздно избежать. Терзать и мучить любит он; В его речах нередко ложь... Он точит жизнь, как скорпион. Ему поверил я...Еще через год Лермонтов, уже юноша, опять возвращается к характеристике своего демона:
К ничтожным, хладным толкам света Привык прислушиваться он, Ему смешны слова привета, И всякий верящий смешон. Он чужд любви и сожаленья, Живет он пищею земной, Глотает жадно дым сраженья И пар от крови пролитой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И гордый демон не отстанет, Пока живу я, от меня, И ум мой озарять он станет Лучом небесного огня. Покажет образ совершенства И вдруг отнимет навсегда, И, дав предчувствие блаженства, Не даст мне счастья никогда.Все эти описания лермонтовского демона можно бы принять за пустые фантазии талантливого мальчика, если бы не было известно из биографии поэта, что уже с детства, рядом с самыми симпатичными проявлениями души чувствительной и нежной, обнаруживались у него резкие черты злобы, прямо демонической. Один из панегиристов Лермонтова, более всех, кажется, им занимавшийся, сообщает, что «склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу». Было бы, конечно, нелепо ставить все это в вину балованному мальчику. Я бы и не упомянул даже об этой черте, если бы мы не знали из собственного интимного письма поэта, что взрослый Лермонтов совершенно так же вел себя относительно человеческого существования, особенно женского, как Лермонтов-ребенок – относительно цветов, мух и куриц. И тут опять значительно не то, что Лермонтов разрушал спокойствие и честь светских барынь, – это может происходить и нечаянно, – а то, что он находил особенное наслаждение и радость в этом совершенно негодном деле, так же как он ребенком с истинным удовольствием давил мух и радовался зашибленной камнем курице.
Кто из больших и малых не делает волей и неволей всякого зла и цветам, и мухам, и курицам, и людям? Но все, я думаю, согласны, что услаждаться деланием зла есть уже черта нечеловеческая. Это демоническое сладострастие не оставляло Лермонтова до горького конца; ведь и последняя трагедия произошла оттого, что удовольствие Лермонтова терзать слабые создания встретило, вместо барышни, бравого майора Мартынова, как роковое орудие кары для человека, который должен и мог бы быть солью земли, но стал солью, так жалко и постыдно обуявшею. Осталось от Лермонтова несколько истинных жемчужин его поэзии, попирать которые могут только известные животные; осталось, к несчастью, и в произведениях его слишком много сродного этим самым животным, а главное, осталась обуявшая соль его гения, которая, по слову Евангелия, дана на попрание людям. Могут и должны люди попирать обуявшую соль этого демонизма с презрением и враждою, конечно, не к погибшему гению, а к погубившему его началу человекоубийственной лжи. Скоро это злое начало приняло в жизни Лермонтова еще другое направление. С годами демон кровожадности слабеет, отдавая большую часть своей силы своему брату – демону нечистоты. Слишком рано и слишком беспрепятственно овладел этот второй демон душою несчастного поэта и слишком много следов оставил в его произведениях. И когда, в одну из минут просветления, он говорит о «пороках юности преступной», то это выражение – увы! – слишком близко к действительности. Я умолчу о биографических фактах, – скажу лишь несколько слов о стихотворных произведениях, внушенных этим демоном нечистоты. Во-первых, их слишком много, во-вторых, они слишком длинны: самое невозможное из них есть большая (хотя и неоконченная) поэма, писанная автором уже совершеннолетним, и, в-третьих, и главное – характер этих писаний производит какое-то удручающее впечатление полным отсутствием той легкой игривости и грации, какими отличаются, например, подлинные произведения Пушкина в этой области. Так как я совершенно не могу подтвердить здесь свое суждение цитатами, то поясню его сравнением. В один пасмурный день в деревне я видел ласточку, летающую над большой болотной лужей. Что-то ее привлекало к этой темной влаге, она совсем опускалась к ней, и казалось, вот-вот погрузится в нее или хоть зачерпнет крылом. Но ничуть не бывало: каждый раз, не коснувшись поверхности, ласточка вдруг поднималась вверх и щебетала что-то невинное. Вот вам впечатление, производимое этими шутками у Пушкина: видишь тинистую лужу, видишь ласточку и видишь, что прочной связи нет между ними, – тогда как порнографическая муза Лермонтова – словно лягушка, погрузившаяся и прочно засевшая в тине.
Или, – чтобы сказать ближе к делу, – Пушкина в этом случае вдохновлял какой-то игривый бесенок, какой-то шутник-гном, тогда как пером Лермонтова водил настоящий демон нечистоты.
Сознавал ли Лермонтов, что пути, на которые толкали его эти демоны, были путями ложными и пагубными? И в стихах, и в письмах его много раз высказывалось это сознание. Но сделать действительное усилие, чтобы высвободиться из-под власти двух первых демонов, мешал третий и самый могучий – демон гордости; он нашептывал: «Да, это дурно, да, это низко, но ты гений, ты выше простых смертных, тебе все позволено, ты имеешь от рождения привилегию оставаться высоким и в низости...» Глубоко и искренно тяготился Лермонтов своим падением и порывался к добру и чистоте. Но мы не найдем ни одного указания, чтобы он когда-нибудь тяготился взаправду своею гордостью и обращался к смирению. И демон гордости, как всегда хозяин его внутреннего дома, мешал ему действительно побороть и изгнать двух младших демонов, и когда хотел – снова и снова отворял им дверь...
Говоря о гордости и смирении, я разумею нечто вполне реальное и утилитарное. Гордость потому есть коренное зло или главный из смертных грехов, по богословской терминологии, что это есть такое состояние души, которое делает всякое совершенствование или возвышение невозможным, потому что гордость ведь в том и заключается, чтобы считать себя ни в чем не нуждающимся, чем исключается всякая мысль о совершенствовании и подъеме. Смирение потому и есть основная для человека добродетель, что признание своей недостаточности прямо обусловливает потребность и усилие совершенствования. Другими словами, гордость для человека есть первое условие, чтобы никогда не сделаться сверхчеловеком, и смирение есть первое условие, чтобы сделаться сверхчеловеком; поэтому сказать, что гениальность обязывает к смирению, – значит только сказать, что гениальность обязывает становиться сверхчеловеком. Лермонтову тем легче было исполнить эту обязанность, что он, при всем своем демонизме, всегда верил в то, что выше и лучше его самого, а в иные светлые минуты даже ощущал над собою это лучшее:
И в небесах я вижу бога...Это религиозное чувство, часто засыпавшее в Лермонтове, никогда в нем не умирало и, когда пробуждалось, – боролось с его демонизмом. Оно не исчезло и тогда, когда он дал победу злому началу, но приняло странную форму. Уже во многих ранних своих произведениях Лермонтов говорит о высшей воле с какою-то личною обидою. Он как будто считает ее виноватою против него, глубоко его оскорбившею.
В этих ранних произведениях тяжба поэта с богом имеет, конечно, ребяческий характер. Лермонтов упрекает творца за то, что он сделал его некрасивым; за то, что люди и особенно кузины и другие барышни не понимают и не ценят его, и т. п. Но когда, в более зрелом возрасте, после нескольких бесплодных порывов к возрождению, – бесплодных потому, что с детских лет заведенное в его душе демоническое хозяйство не могло быть разрушено несколькими субъективными усилиями, а требовало сложного и долгого подвига, на который Лермонтов не был согласен, – итак, когда, после нескольких бесплодных попыток переменить жизненный путь, Лермонтов перестает бороться против демонических сил и находит окончательное решение жизненного вопроса в фатализме («Герой нашего времени» и «Валерик»), – он вместе с тем дает новую, ухищренную форму своему прежнему, детскому чувству обиды против провидения, – именно в последней обработке поэмы «Демон». Герой этой поэмы есть тот же главный демон самого Лермонтова – демон гордости, которого мы видели в ранних стихотворениях. Но в поэме он ужасно идеализирован (особенно в последней ее обработке), хотя, несмотря на эту идеализацию, образ его действий, если судить беспристрастно, скорее приличествует юному гусарскому корнету, нежели особе такого высокого чина и таких древних лет. Несмотря на великолепие стихов и на значительность замысла, говорить с полной серьезностью о содержании поэмы «Демон» для меня так же невозможно, как вернуться в пятый или шестой класс гимназии. Но сказать о нем все-таки нужно. Итак, – идеализированный демон вовсе уж не тот дух зла, который такими правдивыми чертами был описан в прежних стихотворениях гениального отрока. Демон поэмы не только прекрасен, он до чрезвычайности благороден и, в сущности, вовсе не зол. Когда-то у него произошло какое-то загадочное недоразумение с всевышним, но он тяготится этой размолвкою и желает примирения. Случай к этому представляется, когда демон видит прекрасную грузинскую княжну Тамару, пляшущую и поющую на кровле родительского дома. По Библии и по здравой логике, – что одно и то же, – увлечение сынов божиих красотою дочерей человеческих есть падение, но для демонизма это есть начало возрождения. Однако возрождения не происходит. После смерти жениха и удаления Тамары в монастырь демон входит к ней, готовый к добру, но, видя ангела, охраняющего ее невинность, воспламеняется ревностью, соблазняет ее, убивает и, не успевши завладеть ее душою, объявляет, что он хотел стать на другой путь, но что ему не дали, и с сознанием своего полного права становится уже настоящим демоном.
Такое решение вопроса находится в слишком явном противоречии с логикою, чтобы стоило его опровергать.
Итак, натянутое и ухищренное оправдание демонизма в теории, а для практики принцип фатализма, – вот к чему пришел Лермонтов перед своим трагическим концом. Фатализм сам по себе, конечно, не дурен. Если, например, человек воображает, что он роковым образом должен быть добрым, и делает добро, и неуклонно следует этому року, то чего же лучше? К несчастию, фатализм Лермонтова покрывал только его дурные пути.
Образ его действий за последнее время я рассказывать не стану: скажу только, что он был не лучше прежнего. Между тем полного убеждения в истине фатализма у Лермонтова не было, и он, кажется, захотел убедиться в нем на опыте. Все подробности его поведения, приведшего к последней дуэли, и во время самой этой дуэли, носят черты фаталистического эксперимента.
На дуэли Лермонтов вел себя с благородством, – он не стрелял в своего противника, – но по существу это был безумный вызов высшим силам, который во всяком случае не мог иметь хорошего исхода. В страшную грозу, при блеске молнии и раскатах грома, перешла эта бурная душа в иную область бытия.
Конец Лермонтова и им самим и нами называется гибелью. Выражаясь так, мы не представляем себе, конечно, этой гибели ни как театрального провала в какую-то преисподнюю, где пляшут черти, ни как совершенного прекращения бытия. О природе загробного существования мы ничего достоверного не знаем, а потому и говорить об этом не будем. Но есть нравственный закон, столь же непреложный, как закон математический, и он не допускает, чтобы человек испытывал после смерти превращения произвольные, не обоснованные его предыдущим нравственным подвигом. Если жизненный путь продолжается и за гробом, то, очевидно, он может продолжаться только в той степени, на которой остановился. А мы знаем, что как высока была степень прирожденной гениальности Лермонтова, так же низка была его степень нравственного усовершенствования. Лермонтов ушел с бременем неисполненного долга – развить тот задаток великолепный и божественный, который он получил даром. Он был призван сообщить нам, своим потомкам, могучее движение вперед и вверх к истинному сверхчеловечеству, – но этого мы от него не получили. Мы можем об этом скорбеть, но то, что Лермонтов не исполнил своей обязанности к нам, – конечно, не снимает с нас нашей обязанности к нему. Прежде чем быть обязанным относительно наших современников – братьев по человечеству и относительно потомства – наших детей по человечеству, мы имеем обязанность к отшедшим – нашим отцам в человечестве, – и, конечно, Лермонтов принадлежит к таким отцам для современного поколения. Так не требует ли от нас обязанность сыновней любви и почтения восхвалять Лермонтова за все то многое в нем, что достойно хвалы, и молчать о другом? Я не так понимаю сыновнюю любовь и ее обязанность. Представьте себе, что видим живого отца, исполненного заслуг и высоких дарований, но в настоящую минуту обремененного какой-нибудь тяжестью душевною или физическою, все равно. Обязанность сыновней любви к такому отцу, конечно, потребует от нас не того, чтобы мы восхваляли его заслуги и дарования, а того, чтобы мы помогли ему снять с себя или, по крайней мере, облегчили удручающее его бремя. Разве не то же и относительно отцов умерших? Облегчить бремя их души – вот наша обязанность. И у Лермонтова с бременем неисполненного призвания связано еще другое тяжкое бремя, облегчить которое мы можем и должны. Облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает еще их привлекательными для неопытных, и если хоть один из малых сих вовлечен им на ложный путь, то сознание этого, теперь уже невольного и ясного для него, греха должно тяжелым камнем лежать на душе его. Обличая ложь воспетого им демонизма, только останавливающего людей на пути к их истинной сверхчеловеческой цели, мы во всяком случае подрываем эту ложь и уменьшаем хоть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой душе. Вы мне поверите, что прежде чем говорить публично о Лермонтове, я подумал, чего требует от меня любовь к умершему, какой взгляд должен я высказать на его земную судьбу, – и я знаю, что тут, как и везде, один только взгляд, основанный на вечной правде, в самом деле нужен и современным, и будущим поколениям, а прежде всего – самому отшедшему.
Д. С. Мережковский (1865—1941)
Родился в Петербурге в семье действительного тайного советника, столоначальника при императорском дворе. Учился в Петербургском университете. Поэт, прозаик, критик, религиозный философ. Крупнейший представитель русского символизма. Муж знаменитой русской поэтессы Зинаиды Гиппиус. После Октябрьской революции – виднейший эмигрант. Статья Мережковского «Грядущий хам» пророчески обозначила трагические пути развития мировой цивилизации.
Грядущий хам
I
«Мещанство победит и должно победить, – пишет Герцен в 1864 г. в статье „Концы и начала“. – Да, любезный друг, пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что мещанство – окончательная форма западной цивилизации«.
Трудно заподозрить Герцена в нелюбви к Европе. Ведь это именно один из тех русских людей, у которых, по выражению Достоевского, «две родины: наша Русь и Европа». Может быть, он сам не знал, кого любит больше – Россию или Европу. Подобно другу своему Бакунину, он был убежден, что последнее освобождение есть дело не какого-либо одного народа, а всех народов вместе, всего человечества, и что народ может освободиться окончательно, только отрекаясь от своей национальной обособленности и входя в круг всечеловеческой жизни. «Всечеловечество», которое у Пушкина было эстетическим созерцанием, у Герцена первого из русских людей становится жизненным действием, подвигом. Он пожертвовал не отвлеченно, а реально своей любви к Европе своей любовью к России. Для Европы сделался вечным изгнанником, жил для нее и готов был умереть за нее. В минуты уныния и разочарования жалел, что не взял ружья, которое предлагал ему один работник во время революции 1848 года в Париже, и не умер на баррикадах.
Ежели такой человек усомнился в Европе, то не потому, что мало, а потому, что слишком верил в нее. И когда он произносит свой приговор: «Я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего», когда утверждает, что в дверях старого мира «не Катилина, а смерть» и на лбу его цицероновское «vixerunt!»[79], то можно не принимать этого приговора – я лично его не принимаю, – но нельзя не признать, что в устах Герцена он имеет страшный вес.
В подтверждение своих мыслей о неминуемой победе мещанства в Европе Герцен ссылается на одного из благороднейших представителей европейской культуры, на одного из ее «рыцарей без страха и упрека», на Дж. Ст. Милля.
«Мещанство, – говорит Герцен, – это та самодержавная толпа сплоченной посредственности (conglomerated mediocrity) Ст. Милля, которая всем владеет, – толпа без невежества, но и без образования... Милль видит, что все около него пошлеет, мельчает; с отчаянием смотрит на подавляющие массы какой-то паюсной икры, сжатой из мириад мещанской мелкоты... Он вовсе не преувеличивал, говоря о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния. Милль прямо говорит, что по этому пути Англия сделается Китаем, – мы к этому прибавим: и не одна Англия«.
«Может, какой-нибудь кризис и спасет от китайского маразма. Но откуда он придет, как? – этого я не знаю, да и Милль не знает». «Где та могучая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, довести душу до судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений и твердым шагом идет на плаху, на костер? Посмотрите кругом – что в состоянии поднять народы?»
«Христианство обмелело и успокоилось в покойной и каменистой гавани реформации; обмелела и революция в покойной и песчаной гавани либерализма... С такой снисходительной церковью, с такой ручной революцией – западный мир стал отстаиваться, уравновешиваться».
«Везде, где людские муравейники и ульи достигали относительного удовлетворения и уравновешивания, – достижение вперед делалось тише и тише, пока, наконец, не наступала последняя тишина Китая».
По следам «азиатских народов, вышедших из истории», вся Европа «тихим, невозмущаемым шагом» идет к этой последней тишине благополучного муравейника, к «мещанской кристаллизации» – китаизации.
Герцен соглашается с Миллем: «Если в Европе не произойдет какой-нибудь неожиданный переворот, который возродит человеческую личность и даст ей силу победить мещанство, то, несмотря на свои благородные антецеденты и свое христианство, Европа сделается Китаем».
«Подумай, – заключает Герцен письмо неизвестному русскому – кажется, всему русскому народу, – подумай, и у тебя волос станет дыбом».
Ни Милль, ни Герцен не видели последней причины этого духовного мещанства. «Мы вовсе не врачи! мы – боль», – предупреждает Герцен. И действительно, во всех этих пророчествах – не только для Милля, но отчасти и для Герцена пророчествах на собственную голову – нет никакого вывода, знания, а есть лишь крик неизвестной боли, неизвестного ужаса. Причины мещанства Герцен и Милль не могли видеть, как человек не может видеть лицо свое без зеркала. То, чем они страдают и чего боятся в других, находится не только в других, но и в них самих, в последних непереступаемых и даже невидимых для них пределах их собственного религиозного, вернее, антирелигиозного сознания.
Последний предел всей современной европейской культуры – позитивизм, или, по терминологии Герцена, «научный реализм», как метод не только частного научного, но и общего философского и даже религиозного мышления. Родившись в науке и философии, позитивизм вырос из научного и философского сознания в бессознательную религию, которая стремится упразднить и заменить собою все бывшие религии. Позитивизм в этом широком смысле есть утверждение мира, открытого чувственному опыту, как единственно реального, и отрицание мира сверхчувственного; отрицание конца и начала мира в Боге и утверждение бесконечного и безначального продолжения мира в явлениях, бесконечной и безначальной, непроницаемой для человека среды явлений, середины, посредственности, той абсолютной, совершенно плотной, как Китайская Стена, «сплоченной посредственности», conglomerated mediocrity, того абсолютного мещанства, о которых говорят Милль и Герцен, сами не разумея последней метафизической глубины того, что говорят.
В Европе позитивизм только делается – в Китае он уже сделался религией. Духовная основа Китая, учение Лао-Дзы и Конфуция, – совершенный позитивизм, религия без Бога, «религия земная, безнебесная», как выражается Герцен о европейском научном реализме. Никаких тайн, никаких углублений и порываний к «мирам иным». Все просто, все плоско. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность. Есть то, что есть, и ничего больше нет, ничего больше не надо. Здешний мир – все, и нет иного мира, кроме здешнего. Земля – все, и нет ничего, кроме земли. Небо – не начало и конец, а безначальное и бесконечное продолжение земли. Земля и небо не будут едино, как утверждает христианство, а суть едино. Величайшая империя земли и есть Небесная империя, земное небо. Серединное царство – царство вечной середины, вечной посредственности, абсолютного мещанства – «царство не Божие, а человеческое», как определяет опять-таки Герцен общественный идеал позитивизма. Китайскому поклонению предкам, золотому веку в прошлом соответствует европейское поклонение потомкам, золотой век в будущем. Ежели не мы, то потомки наши увидят рай земной, земное небо, утверждает религия прогресса. И в поклонение предкам, и в поклонение потомкам одинаково приносится в жертву единственное человеческое лицо, личность, безличному, бесчисленному роду, народу, человечеству – «паюсной икре, сжатой из мириад мещанской мелкоты», грядущему вселенскому полипняку и муравейнику. Отрекаясь от Бога, от абсолютной Божественной Личности, человек неминуемо отрекается от своей собственной человеческой личности. Отказываясь, ради чечевичной похлебки умеренной сытости, от своего божественного голода и божественного первородства, человек неминуемо впадает в абсолютное мещанство.
Китайцы – совершенные желтолицые позитивисты; европейцы – пока еще несовершенные белолицые китайцы. В этом смысле американцы совершеннее европейцев. Тут крайний Запад сходится с крайним Востоком.
Для Герцена и Милля то столкновение Китая с Европою, которое начинается, но, вероятно, не кончится на наших глазах, имело бы особенно вещий, грозный смысл. Китай довел до совершенства позитивное созерцание, но позитивного действия, всей прикладной технической стороны положительного знания недоставало Китаю. Япония, не только военный, но и культурный авангард Востока, взяла у европейцев эту техническую сторону цивилизации и сразу сделалась для них непобедимой. Пока Европа противопоставляла скверным китайским пушкам свои лучшие, она побеждала, и эта победа казалась торжеством культуры над варварством. Но когда сравнялись пушки, то и культуры сравнялись. Оказалось, что у Европы ничего и не было, кроме пушек, чем бы она могла показать свое культурное превосходство над варварами. Христианство? Но «христианство обмелело»; оно еще имеет некоторое – довольно, впрочем, сомнительное – значение для внутренней европейской политики; но когда современному христианству, переезжая за границу Европы, приходится обменивать свои кредитные билеты на чистое золото, то за них никто ничего не дает. Да и в самой Европе бесстыднейшие стыдятся говорить о христианстве по поводу таких серьезных вещей, как война. Некогда источник великой силы, христианство сделалось теперь источником великой немощи, самоубийственной непоследовательности, противоречивости всей западноевропейской культуры. Христианство – эти старые семитические дрожжи в арийской крови – и есть именно то, что не дает ей устояться окончательно, мешает последней «кристаллизации», китаизации Европы. Кажется, позитивизм белой расы навеки попорчен, «подмочен» «метафизическим и теологическим периодом». Позитивизм желтой расы вообще и японской в частности – это свеженькое яичко, только что снесенное желтою монгольскою курочкой от белого арийского петушка, – ничем не попорчен: каким он был за два, за три тысячелетия, таким и остался, таким навсегда останется. Позитивизм европейский все еще слишком умственный, то есть поверхностный, так сказать, накожный; желтые люди – позитивисты до мозга костей. И культурное наследие веков – китайская метафизика, теология – не ослабляет, а усиливает этот естественный физиологический дар.
Кто верен своей физиологии, тот и последователен, кто последователен, тот и силен, а кто силен, тот и побеждает. Япония победила Россию. Китай победит Европу, если только в ней самой не совершится великий духовный переворот, который опрокинет вверх дном последние метафизические основы ее культуры и позволит противопоставить пушкам позитивного Востока не одни пушки позитивного Запада, а кое-что реальное, более истинное.
Вот где главная «желтая опасность» – не извне, а внутри; не в том, что Китай идет в Европу, а в том, что Европа идет в Китай. Лица у нас еще белые; но под белою кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а все более жидкая, «желтая» кровь, похожая на монгольскую сукровицу; разрез наших глаз прямой, но взор начинает косить, суживаться. И прямой белый свет европейского дня становится косым «желтым» светом китайского заходящего или японского восходящего солнца. В настоящее время японцы кажутся переодетыми обезьянами европейцев; кто знает, может быть, со временем европейцы и даже американцы будут казаться переодетыми обезьянами японцев и китайцев, неисправимыми идеалистами, романтиками старого мира, которые только притворяются господами нового мира, позитивистами. Может быть, война желтой расы с белою – только недоразумение: свои своих не узнали. Когда же узнают, то война окончится миром, и это будет уже «мир всего мира», последняя тишина и покой небесный, Небесная империя, Серединное царство по всей земле от Востока до Запада, окончательная «кристаллизация», всечеловеческий улей и муравейник, сплошная, облепляющая шар земной «паюсная икра» мещанства, и даже не мещанства, а хамства, потому что достигшее своих пределов и воцарившееся мещанство есть хамство.
«Подумай, – можно заключить эти мысли, так же как некогда заключил Герцен, – подумай, и у тебя волос станет дыбом».
У Герцена были две надежды на спасение Европы от Китая.
Первая, более слабая – на социальный переворот. Герцен ставил дилемму так:
«Если народ сломится – новый Китай неминуем. Но если народ сломит – неминуем социальный переворот«.
Спрашивается: чем же и во имя чего народ, сломивший социальный гнет, сломит и внутреннее духовное начало мещанской культуры? Какою новою верою, источником нового благородства? Каким вулканическим взрывом человеческой личности против безличного муравейника?
Сам Герцен утверждает:
«За большинством, теперь господствующим (то есть за большинством капиталистического мещанства), стоит еще большее большинство кандидатов на него (то есть пролетариата), для которых нравы, понятия, образ жизни мещанства – единственная цель стремлений; их хватит на десять перемен. Мир безземельный, мир городского пролетариата не имеет другого пути спасения и весь пройдет мещанством, которое в наших глазах отстало, а в глазах полевого населения и пролетариев представляет образованность и развитие».
Но если народ «весь пройдет мещанством», то, спрашивается, куда же он выйдет? Или из настоящего несовершенного мещанства – в будущее совершенное, из неблагополучного капиталистического муравейника – в благополучный социалистический, из черного железного века Европы – в «желтый» золотой век и вечность Китая? У голодного пролетария и у сытого мещанина разные экономические выгоды, но метафизика и религия одинаковые – метафизика умеренного здравого смысла, религия умеренной мещанской сытости. Война четвертого сословия с третьим, экономически реальная, столь же нереальна метафизически и религиозно, как война желтой расы с белою; и там и здесь сила против силы, а не Бог против Бога. В обоих случаях одно и то же недоразумение: за внешнею, временною войною – внутренний вечный мир.
Итак, на вопрос, чем народ победит мещанство, у Герцена нет никакого ответа. Правда, он мог бы позаимствовать ответ у своего друга, анархиста Бакунина, мог бы перейти от социализма к анархизму. Социализм желает заменить один общественный порядок другим, власть меньшинства – властью большинства; анархизм отрицает всякий общественный порядок, всякую внешнюю власть во имя абсолютной свободы, абсолютной личности – этого начала всех начал и конца всех концов. Мещанство, непобедимое для социализма, кажется (хотя только до поры до времени, до новых, еще более крайних выводов, которых, впрочем, ни Герцен, ни Бакунин не предвидели) победимым для анархизма. Сила и слабость социализма как религии в том, что он предопределяет будущее социальное творчество и тем самым невольно включает в себя дух вечной середины, мещанства, неизбежное метафизическое следствие позитивизма как религии, на котором и сам он, социализм, построен. Сила и слабость анархизма в том, что он не предопределяет никакого социального творчества, не связывает себя никакой ответственностью за будущее перед прошлым и с исторической мели мещанства выплывает в открытое море неизведанных исторических глубин, где предстоит ему или окончательное крушение, или открытие нового неба и новой земли. «Мы должны разрушать, только разрушать, не думая о творчестве, – творить не наше дело», – проповедует Бакунин. Но тут уже кончается сознательный позитивизм и начинается скрытая, бессознательная мистика, пусть безбожная, противобожная, но все же мистика. Когда Бакунин в «Dieu et l'etat» полагает свой «антитеологизм», вернее, антитеизм теоретической основой безвластия, он касается слишком опасных пределов отрицания, где минус на минус, отрицание на отрицание легко дает неожиданный плюс, нечаянное утверждение какой-то обратной, бессознательной религии. Бакунинский «абсолютно свободный человек» слишком похож на фантастического «сверхчеловека», не-человека, чтобы со спокойным сердцем мог его принять Герцен, который боится всякой мистики больше всего, даже больше самого мещанства, не сознавая, что этот суеверный страх мистики уже имеет в себе нечто мистическое. Как бы то ни было, правоверный социалист Герцен отшатнулся от впавшего в ересь анархиста Бакунина.
В конце жизни Герцен потерял или почти потерял надежду на социальный переворот в Европе, кажется, впрочем, потому, что перестал верить не столько в его возможность, сколько в спасительность.
Тогда-то загорелся последний свет в надвигавшейся тьме, последняя надежда в наступавшем отчаянии – надежда на Россию, на русскую сельскую общину, которая будто бы спасет Европу.
II
Ежели Герцен был Мефистофелем Бакунина в разоблачении бессознательной мистики анархического «подполья», то Бакунин, в свою очередь, оказался Мефистофелем Герцена в разоблачении столь же бессознательной мистики русской общины как спасительницы Европы.
«Вы все готовы простить, – писал Бакунин Огареву и Герцену с Исхии в 1866 году, – пожалуй, готовы поддерживать все, если не прямо, так косвенно, лишь бы оставалось неприкосновенным ваше мистическое святая святых – великорусская община, от которой мистически, не рассердитесь за обидное, но верное слово, вы ждете спасения не только для великорусского народа, но и всех славянских земель, для Европы, для мира. А кстати, скажите, отчего вы не соблаговолили отвечать серьезно и ясно на серьезный упрек, сделанный вам: вы запнулись за русскую избу, которая сама запнулась, да и стоит века в китайской неподвижности со своим правом на землю. Почему эта община, от которой вы ожидаете таких чудес в будущем, в продолжение десяти веков прошедшего существования не произвела из себя ничего, кроме самого гнусного рабства? Гнусная гнилость и совершенное бесправие патриархальных обычаев, бесправие лица перед миром и всеподавляющая тягость этого мира, убивающая всякую возможность индивидуальной инициативы, отсутствие права не только юридического, по простой справедливости в решениях того же мира и жестокая бесцеремонность его отношений к каждому бессильному и небогатому члену, его систематичная притеснительность к тем членам, в которых проявляются притязания на малейшую самостоятельность, и готовность продать всякое право и всякую правду за ведро водки – вот во всецелости ее настоящего характера великорусская крестьянская община».
Что мог бы правоверный Герцен ответить еретику Бакунину на эту анафему? Ничего позитивного, а разве только мистическое: credo, quia absurdum[80], так же, впрочем, как и Бакунин ничего не мог бы ответить Герцену по вопросу об «антитеологическом», но все-таки слишком теологическом основании анархизма, этого непонятного с точки зрения позитивной, то есть относительной, абсолютного освобождения абсолютной личности. В том-то и дело, что у обоих, у Герцена и Бакунина, были такие предельные выводы, дойдя до которых они должны были, глядя друг другу в глаза, рассмеяться, как авгуры. Но они хотели быть не авгурами, жрецами старых богов, а пророками новых и потому избегали смотреть друг другу в глаза. Каждый, чтобы не смеяться над самим собою, смеялся над своим противником; но во время этого взаимного смеха царапали кошки на сердце обоих.
Почему, в самом деле, общинное владение муравейником должно избавить муравьев от муравьиной участи? И чем дикое рабство лучше культурного хамства?
Когда Герцен бежал из России в Европу, он попал из одного рабства в другое, из материального – в духовное. А когда захотел обратно бежать из Европы в Россию, то попал из европейского движения к новому Китаю – в старую «китайскую неподвижность» России. В обоих случаях – из огня да в полымя. Какой из двух Китаев лучше, старый или новый? Оба хуже, как отвечают дети. Герцен это знал, но не хотел знать. И когда бегал из одного Китая в другой, то от себя самого бегал, метался в последнем ужасе последнего сознания, что уже не во что верить ни в Европе, ни в России.
«Помилуйте, к чему же после этого вся история? – спрашивает он себя в одном из своих безнадежных гамлетовских монологов. – Да и все на свете к чему? Что касается до истории, я не делаю ее и потому за нее не отвечаю».
Но ведь это Каинов ответ. Ведь это байроновская Darkness, последняя «тьма», предел отчаяния, на какое только способна душа человеческая. Ведь ежели вся история – бессмыслица, то не из-за чего было и огород городить – бороться с мещанством, деспотизмом, реакцией: будь что будет, все равно весь мир – «дьяволов водевиль»; и, обращаясь ко всему миру, остается воскликнуть, как в 1849 году, после революции, восклицает Герцен, обращаясь к старой Европе:
«Да здравствует разрушение и хаос! Да здравствует смерть!»
Или – что еще хуже: да здравствует мещанство!
«Христианство обмелело», – утверждает Герцен. Если обмелело, значит, когда-то было глубоким. Почему же не исследует он эту глубину христианства? Не потому ли, что позитивный лот, пригодный для мели христианства, не хватает до дна в глубоких местах?
Вместе с христианством, добавляет Герцен, «обмелела и революция». Если они обмелели вместе, не значит ли это, что мель у них общая и общая глубина. Мель – позитивная – абсолютное мещанство человека без Бога; глубина – религиозная – абсолютное благородство человека в Боге. Сам Герцен признает связь революционных идей с религиозными, понимает, что «декларация прав человеческих» не могла бы явиться до и без христианства.
«Революция, – говорит он, – так же как реформация, стоит на церковном погосте. Вольтер, благословивший Франклинова внука „во имя Бога и свободы“, такой же богослов, как Василий Великий и Григорий Назианзин[81], только разных толков. Лунный холодный отсвет католицизма (то есть одной из величайших попыток вселенского христианства) прошел всеми судьбами революции. Последнее слово католицизма сказано реформацией и революцией; они обнаружили его тайну; мистическое искупление разрешено политическим освобождением. Символ веры Никейского собора выразился признанием прав каждого человека в символе последнего вселенского собора, то есть конвента 1792 года. Нравственность евангелиста Матфея – та же самая, которую проповедует деист Ж.-Ж. Руссо: «Вера, любовь и надежда – при входе; свобода, братство и равенство – при выходе».
Если так, то, казалось бы, прежде чем произносить смертный приговор европейской культуре и бежать от нее к русскому варварству в отчаянии последнего безверия, следовало подумать, нельзя ли эти два обмелевшие начала всемирной культуры – религию и общественность – как-нибудь сдвинуть с их общей позитивной мели в их общую религиозную глубину. Почему же Герцен об этом не думает? Кажется, все потому же: религиозных глубин боится он еще больше, чем позитивных мелей; ему мерещится в глубине всякой мистики свирепое чудовище реакции, своего рода апокалипсический зверь, выходящий из бездны.
За осторожного Герцена подумал и ответил неосторожный Бакунин, который свел социологическую дилемму Герцена к дилемме теологической или «антитеологической»:
«Dieu est donc l'homme et esclave. L'homme est libre, donc il n'y a point de Dieu. – Je defie qui que ce soit de sortir de ce cercle et maintenant choisissons».
«Бог есть, значит, человек – раб. Человек свободен, значит, нет Бога. Я утверждаю, что никто не выйдет из этого круга, а теперь выберем».
«Религия человечества, – заключает Бакунин, – должна быть основана на развалинах религии Божества».
Вольтер утверждал: если нет Бога, надо его изобрести. Бакунин утверждает как раз противоположное: если есть Бог, надо Его упразднить. Это напоминает слова черта Ивану Карамазову: «Надо разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело. Раз человечество отречется поголовно от Бога, то наступит все новое».
В 1869 году на Бернском конгрессе лиги Мира и Свободы Бакунин предложил принять в основу социалистической программы отрицание всех религий и признание, что «бытие Бога несогласно со счастием, достоинством, разумом, нравственностью и свободой людей».
Когда большинство отвергло эту резолюцию, Бакунин с некоторыми членами из меньшинства образовал новый союз, Alliance Socialiste, первый параграф коего гласил: «Союз объявляет себя безбожным» (athee).
Этот яростный «антитеологизм» есть уже не только отрицание религии, но и религия отрицания, какая-то новая религия без Бога, полная не менее фанатическою ревностью, чем старые религии с Богом. Тургенев удивился, услышав о выходке Бакунина на Бернском конгрессе. «Что с ним случилось? – спрашивал у всех Тургенев. – Ведь он всегда был верующим, даже Герцена бранил за атеизм. Что же с ним случилось?»
Понятно, для чего нужно черту уничтожить в людях идею о Боге: на то он и черт, чтобы ненавидеть Бога. Но М. А. Бакунин, несмотря на всю свою антитеологическую ярость, не черт, а простой человек, да к тому же еще религиозный. Что же с ним, в самом деле, случилось? Отчего он вдруг возненавидел имя Божие и, как одержимый, начал богохульствовать?
«Если есть Бог, то человек – раб», – утверждает Бакунин. Почему? Потому что «свобода есть отрицание всякой власти, а Бог есть власть». Это положение Бакунин считает аксиомой. И действительно, это было бы аксиомой, если бы не было Христа. Христос открыл людям, что Бог – не власть, а любовь, не внешняя сила власти, а внутренняя сила любви. Любящий не желает рабства любимому. Между любящим и любимым нет иной власти, кроме любви; власть любви уже не власть, а свобода.
Совершенная любовь – совершенная свобода. Бог – совершенная любовь и, следовательно, совершенная свобода. Когда Сын говорит Отцу: не Моя, а Твоя да будет воля, – это не послушание рабства, а свобода любви. Нарушить волю Отца Сын не потому не хочет, что не может, а потому не может, что не хочет.
Дилемме Бакунина, утверждающей Бога ненависти и рабства, то есть, в сущности, не Бога, а дьявола, можно противопоставить другую дилемму, утверждающую истинного Бога, Бога любви и свободы:
«Бог есть – значит, человек свободен; человек – раб, значит, нет Бога. Я утверждаю, что никто не выйдет из этого круга, а теперь выберем».
Все верующие в Бога всегда были рабами, согласился бы Герцен с Бакуниным. Но идею о Боге, идею высшего метафизического порядка нельзя подчинять опыту низшего исторического порядка. Да и полно, все ли верующие в Бога были рабами? А Иаков, боровшийся с Богом, а Иов, роптавший на Бога, а израильские пророки, а христианские мученики?
Бакунин и Герцен, желая бороться с метафизической идеей о Боге, на самом деле борются только с историческими призраками, искажающими преломлениями этой идеи в туманах политических низин; борются не с именем Божиим, а с теми богохульствами, которыми «князь мира сего», вечный политик, старается закрыть от людей самое святое и страшное для него, дьявола, из всех имен Божиих: Свобода.
Конечно, величайшее преступление истории, как бы второе распятие, уже не Богочеловека, а богочеловечества, заключается в том, что на кресте, знамении божественной свободы, распяли свободу человеческую. Но неужели Бакунин и Герцен решились бы утверждать, что в этом преступлении участвовал сам Распятый, что Христос желал людям рабства? Неужели Бакунин и Герцен никогда не думали о том, что значит ответ Христа дьяволу, который предлагает Ему власть над всеми царствами мира сего: ибо она принадлежит мне, – говорит дьявол, – и я кому хочу, даю ее. Ежели Тот, Кто сказал: «Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе«, – отверг всякую государственную власть как принадлежащую дьяволу, то не значит ли это, что между истинною внутреннею властью любви, свободой Христовой, и внешнею ложною властью, рабством, – такая же разница, как между царством Божиим и царством дьявола? Неужели Бакунин и Герцен никогда не думали о том, что значит и это слово Христа: Я научу вас истине, и истина сделает вас свободными. Ежели для них это не сдержанное, то, может быть, на самом деле это только не понятое, не вмещенное слово: Вы теперь не можете вместить; когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. И на ту последнюю истину любви, которая сделает людей свободными.
В первом царстве – Отца, Ветхом завете, открылась власть Божия как истина; во втором царстве – Сына, Новом завете, открывается истина как любовь; в третьем и последнем царстве – Духа, в Грядущем завете, откроется любовь как свобода. И в этом последнем царстве произнесено и услышано будет последнее, никем еще не произнесенное и не услышанное имя Господа Грядущего: Освободитель.
Но здесь мы уже сходим не только с этого берега, на котором стоит европейская культура, со своим мещанством прошлого и настоящего, но и с того берега, на котором стоит Герцен перед мещанством будущего; мы выплываем в открытый океан, в котором исчезают все берега, в океан грядущего христианства, как одного из трех откровений всеединого Откровения Троицы.
Трагедия Герцена – в раздвоении: сознанием своим он отвергал – бессознательно искал Бога. Сознанием своим так же, как в бакунинской дилемме, из принятой посылки: человек свободен – делал вывод: значит, нет Бога; бессознательно чувствовал неотразимость обратной дилеммы: если нет Бога, то нет и свободы. Но сказать: нет свободы, – для Герцена было все равно что сказать: нет смысла в жизни, не для чего жить, не за что умереть. И действительно, он жил для того и умер за то, во что уже почти не верил.
Это – не первый пророк и мученик нового, а последний боец, умирающий гладиатор старого мира, старого Рима.
Ликует буйный Рим... торжественно гремит Рукоплесканьями широкая арена, — А он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена[82].Зверь, с которым борется этот гладиатор, – мещанство будущего. Подобно своим предкам, северным варварам, он вышел на борьбу голый, без щита и оружия. А другой зверь, «тысячеголовая гидра, паюсная икра» мещанства прошлого и настоящего, глядит на юного скифа со ступеней древнего амфитеатра.
И кровь его течет – последние мгновенья Мелькают – близок час... Вот луч воображенья Сверкнул в его душе...Предсмертное видение Герцена – Россия как «свободной жизни край» и русская крестьянская община как спасение мира. Старую любовь свою он принял за новую веру, но, кажется, в последнюю минуту понял, что и эта последняя вера – обман. Если, впрочем, обманула вера, то любовь не обманула; в любви его к России было какое-то истинное прозрение: не крестьянская община, а христианская общественность, может быть, в самом деле будет новою верою, которую принесут юные варвары старому Риму.
А пока умирающий все-таки умирает – без всякой веры:
...Прости, развратный Рим! Прости, о, край родной!В судьбе Герцена, этого величайшего русского интеллигента, предсказан вопрос, от которого зависит судьба всей русской интеллигенции: поймет ли она, что лишь в грядущем христианстве заключена сила, способная победить мещанство и хамство грядущее? Если поймет, то будет первым исповедником и мучеником нового мира; а если нет, то, подобно Герцену, – только последним бойцом старого мира, умирающим гладиатором.
III
Когда будут говорить: мир, мир, – тогда внезапно нападет на них пагуба. Это пророчество никогда не казалось ближе к исполнению, чем в наши дни.
В то самое время, когда Запад в лице России заключает мир с Востоком[83] и все народы повторяют: мир, мир, – происходит воинственное свидание в Свинемюнде[84]. Два просвещеннейшие народа сошлись только для того, чтобы показать друг другу бронированные кулаки. Точно два хищных зверя подкрались друг к другу, сдвинули морды, рыча и скаля зубы, обнюхались, ощетинились, готовые броситься, чтобы растерзать друг друга, и, пятясь, молча разошлись.
Это не реальное событие, а идеальное знамение современной европейской культуры. Внешняя политика только циническое обнажение внутренней. «По плодам узнаете их». Плод внутреннего, духовного мещанства – внешнее международное зверство – милитаризм, шовинизм.
И у древней римской волчицы были острые зубы, была кровожадная хищность в политике. Но когда дело доходило до некоторых общих идей – до Pax romana, идеи вселенского мира и Вечного Града, воплощения вечного разума, – Рим останавливался и благоговейно склонял свои fasces, значки легионов с победоносными орлами, перед этими нерушимыми святынями. И в самую глухую ночь средневекового варварства, среди феодальной междоусобицы, народы прекращали войны и слагали оружие по мановению кроткого старца, римского первосвященника, который напоминал им завет Христа: да будет един пастырь и едино стадо.
Теперь уже – ни римской веси, ни римской церкви. Никакой общей идеи, никакой общей святыни. Над «христианскими» государствами, этими старыми готическими лавочками, все еще возвышается кое-где полусгнивший деревянный протестантский или ржавый медный католический крест; но никто уже не обращает на них внимания. Религия современной Европы – не христианство, а мещанство. От благоразумного сытого мещанства до безумного голодного зверства один шаг. Не только человек человеку, но и народ народу – волк. От взаимного пожирания удерживает только взаимный страх, узда слишком слабая для рассвирепевших зверей. Не сегодня, так завтра они бросятся друг на друга и начнется небывалая бойня.
У одного французского писателя, Вилье де Лиль-Адана, есть фантастический рассказ о двух соседних городах, населенных честными добрыми мещанами и лавочниками: поссорившись из-за какого-то вздора, город идет войною на город, и, несмотря на трусость и вследствие этой трусости, лавочники истребляют лавочников так, что от всей благополучной мещанской культуры остаются лишь рожки да ножки.
Международная политика современной Европы напоминает политику этих трусливых и свирепых лавочников.
Когда вглядываешься в лица тех, от кого зависят ныне судьбы Европы, вспоминаются предсказания Милля и Герцена о неминуемой победе духовного Китая. Прежде бывали в истории изверги, Тамерланы, Аттилы, Борджиа. Теперь уже не изверги, а люди как люди. Вместо скипетра – аршин, вместо Библии – счетная книга, вместо алтаря – прилавок. Какая самодовольная пошлость и плоскость в выражении лиц! Смотришь и «дивишься удивлением великим», как сказано в Апокалипсисе: откуда взялись эти коронованные лакеи Смердяковы, эти торжествующие Хамы?
Да, со времени Герцена и Милля мещанство сделало в Европе страшные успехи.
Все благородство культуры, уйдя из области общественной, сосредоточилось в уединенных личностях, в таких великих отшельниках, как Ницше, Ибсен, Флобер и все еще самый юный из юных – старец Гёте. Среди плоской равнины мещанства эти бездонные артезианские колодцы человеческого духа свидетельствуют о том, что под выжженной землею еще хранятся живые воды. Но нужен геологический переворот, землетрясение, чтобы подземные воды могли вырваться наружу и затопить равнину, снести муравьиные кучи, опрокинуть старые лавочки мещанской Европы. А пока – мертвая засуха.
И даже великие отшельники европейского гения, только что, выходя из круга личной культуры, касаются общественности, теряют свое благородство, пошлеют, мелеют, истощаются, как степные реки в песках.
Когда Гёте говорит о Французской революции, он вдруг никнет к земле, точно по какому-то злому волшебству великан сплющивается, сморщивается в карлика, из эллинского полубога становится немецким бюргером и – да простит мне тень Олимпийца – немецким филистером, «господином фон Гёте», тайным советником веймарского герцога и честным сыном честного франкфуртского лавочника. Когда Флобер утверждает: la politique est faite pour la canaille[85], – с грустью вспоминаешь салон принцессы Матильды и другие раззолоченные хлевы второй империи, где метал этот Симеон-столпник эстетики жемчуг перед свиньями, проповедуя свою новую олигархию из «ученых мандаринов». Когда Ницше делает глазки не только Бисмарку, но и русскому самодержцу, как величайшим проявлениям «воли к могуществу», Wille zur Macht, среди современной европейской немощи, то и на бледном челе «распятого Диониса» выступает то же черное пятно мещанской заразы. Всех благороднее, потому что откровеннее всех, кажется Ибсен, который свое отношение к общественности выразил двумя словами: враг народа.
А друзья народа, такие гениальные вожди демократии, как Лассаль, Энгельс, Маркс, проповедуя социализм, не только не предупреждают практически, но и теоретически не предвидят той опасности «нового Китая», «духовного мещанства», которых так боялись Герцен и Милль.
И в ответ социалистам звучит страшная песня новых троглодитов:
Vive le son, vive le son De 1'explosion![86]Анархизм – последняя судорога уже не общественного, а личного бунта против нестерпимого гнета государственного мещанства.
Некогда всю глубину мировой скорби, связанной с этим провалом европейской общественности, измеряли такие певцы одинокого отчаяния, как Леопарди и Байрон. Теперь уже ничей взор не измерит этой глубины: она оказалась бездонной. Молча обходят ее зрячие, слепые в нее молча падают.
Но тут невольно, с последним отчаянием или с последней надеждою, наш взор, так же как предсмертный взор «сраженного гладиатора», Герцена, обращается от одной из «двух наших родин» к другой, от Европы к России, от мрачного Запада к Востоку, еще более мрачному, хотя уже окровавленному не то зарей, не то заревом. Для Герцена этот «свет с Востока» было возрождение «крестьянской общины», для нас это – возрождение христианской общественности. И тут опять возникает в начале XX века вопрос, поставленный в середине XIX: мещанство, не побежденное Европою, победит ли Россия?
IV
«Русская интеллигенция – лучшая в мире», – объявил недавно Горький.
Я этого не скажу, не потому, чтобы я этого не желал и не думал, а просто потому, что совестно хвалить себя. Ведь и я и Горький, оба мы – русские интеллигенты. И следовательно, не нам утверждать, что русский интеллигент наилучший из всех возможных интеллигентов в наилучшем из всех возможных миров. Такой оптимизм опасен, особенно по нынешним временам в России, когда всяк кулик свое болото хвалит. Нет, уж лучше по другой пословице: кого люблю, того и бью. Оно больнее, зато здоровее. Итак, я не берусь решить, что такое русская интеллигенция, чудо ли она или чудовище, я только знаю, что это в самом деле нечто единственное в современной европейской культуре.
Мещанство захватило в Европе общественность; от него спасаются отдельные личности в благородство высшей культуры. В России – наоборот: отдельных личностей не ограждает от мещанства низкий уровень нашей культуры; зато наша общественность вся насквозь благородна.
«В нашей жизни в самом деле есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, ничего мещанского«.
Ежели прибавить: не в нашей личной, а в нашей общественной жизни, – то эти слова Герцена, сказанные полвека назад, и поныне останутся верными.
Русская общественность – вся насквозь благородна, потому что вся насквозь трагична. Существо трагедии противоположно существу идиллии. Источник всякого мещанства – идиллическое благополучие, хотя бы и дурного вкуса, «сон золотой», хотя бы и сусального китайского золота. Трагедия, подлинное железо гвоздей распинающих – источник всякого благородства, той алой крови, которая всех этой крови причащающихся делает «родом царственным». Жизнь русской интеллигенции – сплошное неблагополучие, сплошная трагедия.
Кажется, нет в мире положения более безвыходного, чем то, в котором очутилась русская интеллигенция, – положение между двумя гнетами: гнетом сверху, самодержавного строя, и гнетом снизу, темной народной стихии, не столько ненавидящей, сколько не понимающей, – но иногда непонимание хуже всякой ненависти. Между этими двумя страшными гнетами русская общественность мелется, как чистая пшеница Господня, – даст Бог, перемелется, мука будет, мука для того хлеба, которым, наконец, утолится великий голод народный: а пока все-таки участь русского интеллигента, участь зерна пшеничного – быть раздавленным, размолотым – участь трагическая. Тут уж не до мещанства, не до жиру, быть бы живу!
Вглядитесь: какое на самом деле ни на что не похожее общество, какие странные лица.
Вот молодой человек, «бедно одетый, с тонкими чертами лица», убийца старухи-процентщицы, подражатель Наполеона, недоучившийся студент, Родион Раскольников. Вот студент медицины, который потрошит своим скальпелем и скепсисом живых лягушек, мертвых философов, проповедует Stoff und Kraft[87] с такою же разбойничьей удалью, как ребята Стеньки Разина покрикивали некогда: сарынь на кичку! – нигилист Базаров. Вот опростившийся барин-философ, пашущий землю, Константин Левин. Вот стыдливый, как девушка, послушник, «краснощекий реалист», «ранний человеколюбец», Алеша Карамазов. И брат его Иван – ранний человеконенавистник, Иван – «глубокая совесть». И, наконец, самый необычайный из всех, «человек из подполья», с губами, искривленными как будто вечною судорогою злости, с глазами, полными любви новой, еще неведомой миру, «Иоанновой», с тяжелым взором эпилептика, бывший петрашевец и каторжник, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, полусвятой, Федор Михайлович Достоевский.
За ними другие, безымянные, – лица еще более строгого классического благородства, точно из мрамора изваянные, образы новых Гармодиев и Аристогитонов[88], Сен-Жюстов и Камиль Демуленов[89], гневные херувимы народных бурь. И девушки – как чистые весталки, как новые Юдифи, идущие в стан Олоферна, с молитвою в сердце и с мечом в руках.
А в самой темной глубине, среди громов и молний нашего Синая, 14 декабря – уже почти нечеловеческие облики первых пророков и праотцов русской свободы, – изваяния уже не из мрамора, а из гранита, не того ли самого, чью глыбу попирает Медный Всадник?
Это все что угодно, только не мещане. Пусть бы осмелился Флобер утверждать в их присутствии: la politique est faite pour la canaille. Он скорее бы сделался сам, чем сделал бы их чернью. Для них политика – страсть, хмель, «огонь поядающий», на котором воля, как сталь, раскаляется добела. Это ни в каких народных легендах не прославленные герои, ни в каких церковных святцах не записанные мученики – но подлинные герои, подлинные мученики.
От ликующих, праздно болтающих, Обагряющих руки в крови, Уведи меня в стан погибающих За великое дело любви[90].Когда совершится «великое дело любви», когда закончится освободительное движение, которое они начали и продолжают, только тогда Россия поймет, что эти люди сделали и чего они стоили.
Что же это за небывалое, единственное в мире общество, или сословие, или каста, или вера, или заговор? Это не каста, не вера, не заговор, это все вместе в одном, это – русская интеллигенция.
Откуда она явилась? Кто ее создал? Тот же, кто создал или, вернее, родил новую Россию, – Петр.
Я уже раз говорил и вновь повторяю и настаиваю: первый русский интеллигент – Петр. Он отпечатлел, отчеканил, как на бронзе монеты, лицо свое на крови и плоти русской интеллигенции. Единственные законные наследники, дети Петровы – все мы, русские интеллигенты. Он – в нас, мы – в нем. Кто любит Петра, тот и нас любит; кто его ненавидит, тот ненавидит и нас.
Что такое Петр? Чудо или чудовище? Я опять-таки решать не берусь. Он слишком родной мне, слишком часть меня самого, чтобы я мог судить о нем беспристрастно. Я только знаю – другого Петра не будет, он у России один; и русская интеллигенция у нее одна, другой не будет. И пока в России жив Петр Великий, жива и великая русская интеллигенция.
Мы каждый день погибаем. У нас много врагов, мало друзей. Велика опасность, грозящая нам, но велика и надежда наша: с нами Петр.
V
Среди всех печальных и страшных явлений, которые за последнее время приходится переживать русскому обществу, самое печальное и страшное – та дикая травля русской интеллигенции, которая происходит, к счастью, пока только в темных и глухих подпольях русской печати.
Нужна ли для России русская интеллигенция? – вопрос так нелеп, что, кажется иногда, отвечать не стоит. Кто же сами вопрошающие, как не интеллигенты? Сомневаясь в праве русской интеллигенции на существование, они сомневаются в своем собственном праве на существование, – может быть, впрочем, и хорошо делают, потому что слишком ничтожна степень их «интеллигентности». Поистине есть в этой травле что-то самоубийственное, граничащее с буйным помешательством, для которого нужны не доводы разума, а смирительная рубашка. Бывают, впрочем, такие минуты, когда самому разуму ничего не остается делать, как надевать эту смирительную рубашку на буйство безумных.
Среди нечленораздельных воплей и ругательств можно разобрать одно только обвинение, имеющее некоторое слабое подобие разумности, – обвинение русской интеллигенции в «беспочвенности», оторванности от знаменитых «трех основ», трех китов народной жизни.
Тут, пожалуй, не только «беспочвенность», готовы мы согласиться, тут бездна, та самая «бездна», над которою Медный Всадник Россию «вздернул на дыбы» – всю Россию, а не одну лишь русскую интеллигенцию. Пусть же ее обвинители скажут прямо: Петр – не русский человек. Но в таком случае мы, «беспочвенные» интеллигенты, предпочтем остаться с Петром и Пушкиным, который любил Петра как самого родного из родных, нежели с теми, для кого Петр и Пушкин чужие.
«Страшно свободен духом русский человек», – говорит Достоевский, указывая на Петра. В этой-то страшной свободе духа, в этой способности внезапно отрываться от почвы, от быта, истории, сжигать все свои корабли, ломать все свое прошлое во имя неизвестного будущего, – в этой произвольной беспочвенности и заключается одна из глубочайших особенностей русского духа. Нас очень трудно сдвинуть; но раз мы сдвинулись, мы доходим во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до крайности. «Все мы, русские, любим по краям и пропастям блуждать», – еще в XVII веке жаловался наш первый славянофил, Крижанич[91]. Особенность, может быть, очень опасная, но что же делать? Быть самими собою не всегда безопасно. Отречься от нее значит сделаться не только «беспочвенным», но и безличным, бездарным. Это похоже на парадокс, но иногда кажется, что наши «почвенники», самобытники, националисты гораздо менее русские люди, чем наши нигилисты, отрицатели, наши интеллигентные «бегуны» и «нетовцы». Самоотрицание, самосожжение – нечто, нигде, кроме России, невообразимое, невозможное. Между протопопом Аввакумом, готовым сжечься и жечь других за старую веру, и анархистом Бакуниным, предлагавшим во время дрезденской революции выставить на стенах осажденного города «Сикстинскую мадонну» для защиты от прусских бомб – пруссаки-де народ образованный, стрелять по Рафаэлю не посмеют, – между этими двумя русскими крайностями – гораздо больше сходного, чем это кажется с первого взгляда.
Пушкин сравнивал Петра с Робеспьером и в петровском преобразовании видел «революцию сверху», «белый террор». В самом деле, Петр не только первый русский интеллигент, но и первый русский нигилист. Когда «протодиакон всешутейшего собора» кощунствует над величайшими народными святынями, это нигилизм гораздо более смелый и опасный, чем нигилизм Писарева, когда он разносит Пушкина.
Русские крестьяне-духоборы, очутившиеся где-то на краю света, в Канаде, распустившие домашний скот и сами запрягшиеся в плуги из милосердия к животным, – это ли не «беспочвенность»? И вместе с тем это ли не русские люди? «Духоборчество», чрезмерная духовность, отвлеченность, рационализм, доходящий до своих предельных выводов, до края «бездны», сказавшийся в нашем простонародном сектантстве, сказывается и в нашей интеллигенции. Нигилист Базаров говорит: «Умру, лопух вырастет». Нил Сорский завещает не хоронить себя, а бросить где-нибудь в поле, как «мертвого пса»: в обоих случаях, несмотря на разницу в выводах, одна и та же бессознательная метафизика – аскетическое презрение духа к плоти. Интеллигентная «беспочвенность», отвлеченный идеализм есть один из последних, но очень жизненных отпрысков народного аскетизма.
Беда русской интеллигенции не в том, что она недостаточно, а скорее в том, что она слишком русская, только русская. Когда Достоевский в глубине русского искал «всечеловеческого», всемирного, он чуял и хотел предупредить эту опасность.
«Беспочвенность» – черта подлинно русская, но, разумеется, тут еще не вся Россия. Это только одна из противоположных крайностей, которые так удивительно совмещаются в России. Рядом с интеллигентами и народными рационалистами-духоборами есть интеллигентные и народные хлысты-мистики.
Рядом с чересчур трезвыми есть чересчур пьяные. Кроме равнинной, вширь идущей, несколько унылой и серой, дневной России Писарева и Чернышевского:
Эти бедные селенья, Эта скудная природа, – [92]есть вершинная и подземная, ввысь и вглубь идущая, тайная, звездная, ночная Россия Достоевского и Лермонтова:
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит...Какая из этих двух Россий подлинная? Обе одинаково подлинные.
Их разъединение дошло в настоящем до последних пределов. Как соединить их – вот великий вопрос будущего.
VI
Второе обвинение, связанное с обвинением в «беспочвенности», – «безбожие» русской интеллигенции.
Едва ли простая случайность то, что это обвинение в безбожии исходит почти всегда от людей, о которых сказано: устами чтут Меня, но сердце их далече отстоит от Меня.
О русской интеллигенции иногда хочется сказать обратное: устами не чтут Меня, но сердце их недалече отстоит от Меня.
Вера и сознание веры не одно и то же. Не все, кто думает верить, – верят; не все, кто думает не верить, – не верят. У русской интеллигенции нет еще религиозного сознания, исповедания, но есть уже великая и всевозрастающая религиозная жажда. Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся.
Существуют многие противоположные, не только положительные, но и отрицательные, пути к Богу. Богоборчество Иакова, ропот Иова, неверие Фомы – все это подлинные пути к Богу.
Пусть русские интеллигенты – «мытари и грешники», последние из последних. «Мытари и грешники идут в царствие Божие впереди» тех фарисеев и книжников, которые «взяли ключ разумения, сами не входят и других не пускают». «Последние будут первыми».
Иногда кажется, что самый атеизм русской интеллигенции – какой-то особенный, мистический атеизм. Тут у нее такое же, как у Бакунина, отрицание религии, переходящее в религию отрицания; такое же, как у Герцена, трагическое раздвоение ума и сердца: ум отвергает, сердце ищет Бога.
Для великого наполнения нужна великая пустота. «Безбожие» русской интеллигенции не есть ли это пустота глубокого сосуда, который ждет наполнения?
«Было же тут шесть каменных водоносов. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, тогда зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе».
Надежда наша в том, что наша Кана Галилейская впереди: водоносы наши стоят еще пустые; мы пьем вино худшее, а хорошее Архитриклион сберег доселе.
Достоевский, вспомнив как-то лет через тридцать один из своих разговоров с Белинским, восклицает с таким негодованием, как будто разговор происходил только вчера: «Этот человек ругал при мне Христа».
И делает неистовый вывод:
«Белинский – самое тупое и смрадное явление русской жизни». Тут какое-то страшное недоразумение. Страшно то, что Белинский мог ругать Христа. Но, может быть, еще страшнее то, что на основании этих ругательств Достоевский через тридцать лет мог произнести такой приговор над Белинским, не поняв, что если этот человек, как свеча сгоревший перед Кем-то, Кого так и не узнал, не сумел назвать по имени и не был со Христом, то Христос был с ним. Всякая хула на Сына Человеческого простится людям. Когда Белинский восстал на Гоголя за то, что в «переписке с друзьями» Гоголь пытался освятить рабство именем Христовым, то Белинский, Христа «ругавший», был, конечно, ближе к Нему, нежели Гоголь, Христа исповедавший.
О русской интеллигенции иногда можно сказать то же, что о Белинском: она еще не со Христом, но уже с нею Христос.
Не следует, конечно, на этом успокаиваться: Он стоит у дверей и стучит; но если мы не услышим и не отворим – Он уйдет к другим.
VII
«Безбожие» русской интеллигенции зависит от религиозного недостатка не во всем ее существе, а только в некоторой части его, – не в чувстве, совести, воле, а в сознании, в уме, intellectus'e, то есть именно в том, что интеллигенцию и делает интеллигенцией.
Может быть, самое слово это не совсем точно совпадает с объемом понятия. Сила русской интеллигенции – не в intellectus'e, не в уме, а в сердце и совести. Сердце и совесть ее почти всегда на правом пути; ум часто блуждает. Сердце и совесть свободны, ум связан. Сердце и совесть бесстрашны и «радикальны», ум робок и в самом радикализме консервативен, подражателен. При избытке общественных чувств – недостаток общих идей. Все эти русские нигилисты, материалисты, марксисты, идеалисты, реалисты – только волны мертвой зыби, идущей с Немецкого моря в Балтийское.
Что ему книга последняя скажет, То ему на душу сверху и ляжет[93].Взять хотя бы наших марксистов. Нет никакого сомнения, что это – превосходнейшие люди. И народ любят они, конечно, не меньше народников. Но когда говорят о «железном законе экономической необходимости», то кажутся свирепыми жрецами Маркса-Молоха, которому готовы принести в жертву весь русский народ. И договорились до чертиков. Не только другим, но и сами себе опротивели. И, наконец, взяв своего Маркса, своего боженьку за ноженьку – да и об пол бряк. Или по другой пословице: плохого бога и телята лижут – берштейновские телята оплошавшего Маркса лижут.
Тянулась, тянулась канитель марксистская, а потом потянула босяцкая.
Сначала мы думали, что босяки-то уж, по крайней мере, самобытное явление. Но когда пригляделись и прислушались, то оказалось, что так же точно, как русские марксисты повторяли немца Маркса, и русские босяки повторяли немца Ницше. Одну половину Ницше взяли босяки, другую наши декаденты – оргиасты. Не успел еще скрыться Пляши-Нога, как поклонники нового Диониса запели: «Выше поднимайте ваши дифирамбические ноги!» (Вяч. Иванов, «Религия Диониса» в «Вопросах жизни»). Одного немца пополам разрезали, и хватило на два русских «новых слова».
Глядя на все эти невинные умственные игры рядом с глубочайшей нравственной и общественной трагедией, иногда хочется воскликнуть с невольною досадою: золотые сердца, глиняные головы!
А эстетика деревянная. «Сапоги выше Шекспира» – этого, конечно, теперь уже никто не скажет словом, но это застряло где-то в извилинах нашей физиологии и нет-нет да и скажется «дурным глазом» относительно всякой внешней эстетической формы, как бесполезной роскоши. Не то чтобы мы утверждали прямо: красивое безнравственно, но мы слишком привыкли к тому, что нравственное некрасиво; слишком легко примиряемся с этим противоречием. Если наша этика – «Шекспир», то эстетика наша иногда действительно немногим выше «сапогов». Во всяком случае, писаревское «разрушение эстетики», к сожалению, глубоко национально. Это – в русской, великорусской природе: серенькое небо, серенькие будни —
Ельник, сосны да песок.И здесь, в уме, intellectus'e интеллигенции нашей, как в сердце и воле, тот же народный уклон к аскетизму, к духоборчеству, монашеский страх плоти и крови, страх всякой наготы и красоты, как соблазна бесовского. Отсюда – при отношении истинно религиозном к свободе внешней, общественной – неуважение ко внутренней, личной свободе, отсюда же у радикальнейших из наших радикалов – нетерпимость раскольников, уставщиков, взаимное подглядывание, как бы кто не оскоромился, не осквернился мирскою скверною. И беспоповцы-реалисты, и поповцы-реалисты, и федосеевцы-марксисты, и молокане-народники – каждое согласие, каждый толк ест из собственной чашки, пьет из особого «лампадного стаканчика», не сообщаясь с еретиками. И у всех – одинаковый пост, отвлеченное рационалистическое сухоядение. «Мяса не вкушаем, вина не пьем».
Говорят, преподобный Серафим Саровский питался долгие годы какою-то болотною травою сниткою. Все эти реализмы, идеализмы, монизмы, плюрализмы, эмпириокритицизмы и другие засушенные «измы», которыми доныне питается русская интеллигенция, напоминают траву снитку.
От умственного голода лица стали унылы, унылы, и бледны, и постны. Все чеховские «хмурые люди». В сердцах уже солнце восходит, а в мыслях все еще «сумерки»; в сердцах огонь пламенеющий, а в мыслях стынущая теплота, тепленькая водица, подогретая немецкая Hafersuppe[94]; в сердцах буйная молодость, а в мыслях смиренное старчество.
Иногда, глядя на этих молодых стариков, интеллигентных аскетов и постников, хочется воскликнуть:
– Милые русские юноши! Вы благородны, честны, искренни. Вы – надежда наша, вы – спасение и будущность России. Отчего же лица ваши так печальны, взоры потуплены долу? Развеселитесь, усмехнитесь, поднимите ваши головы, посмотрите черту прямо в глаза. Не бойтесь глупого старого черта политической реакции, который все еще мерещится вам то в языческой эстетике, то в христианской мистике. Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможна и первая. Одного бойтесь – рабства и худшего из всех рабств – мещанства и худшего из всех мещанств – хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт – уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, – грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам.
VIII
«Наша борьба не против крови и плоти, а против властей и начальств, против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных«.
Мироправитель тьмы века сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам.
У этого Хама в России – три лица.
Первое, настоящее – над нами, лицо самодержавия, мертвый позитивизм казенщины, Китайская стена табели о рангах, отделяющая русский народ от русской интеллигенции и русской церкви.
Второе лицо прошлое – рядом с нами, лицо православия, воздающего кесарю Божие, той церкви, о которой Достоевский сказал, что она «в параличе». «Архиереи наши так взнузданы, что куда хошь поведи», – жаловался один русский архипастырь XVIII века, и то же самое с еще большим правом могли бы сказать современные архипастыри. Духовное рабство – в самом источнике всякой свободы; духовное мещанство – в самом источнике всякого благородства. Мертвый позитивизм православной казенщины, служащий позитивизму казенщины самодержавной.
Третье лицо будущее – под нами, лицо хамства, идущего снизу – хулиганства, босячества, черной сотни – самое страшное из всех трех лиц.
Эти три начала духовного мещанства соединились против трех начал духовного благородства: против земли, народа – живой плоти, против церкви – живой души, против интеллигенции – живого духа России.
Для того чтобы, в свою очередь, три начала духовного благородства и свободы могли соединиться против трех начал духовного рабства и хамства – нужна общая идея, которая соединила бы интеллигенцию, церковь и народ; а такую общую идею может дать только возрождение религиозное вместе с возрождением общественным. Ни религия без общественности, ни общественность без религии, а только религиозная общественность спасет Россию.
И прежде всего должно пробудиться религиозно-общественное сознание там, где есть уже сознательная общественность и бессознательная религиозность, – в русской интеллигенции, которая не только по имени, но и по существу своему должна сделаться интеллигенцией, то есть воплощением intellectus'a, разума, сознанием России. Разум, доведенный до конца своего, приходит к идее о Боге. Интеллигенция, доведенная до конца своего, придет к религии.
Это кажется невероятным. Но недаром освободительное движение России началось в религии. Недаром такие люди, как Новиков, Карамзин, Чаадаев, как масоны, мартинисты и другие мистики конца XVIII – начала XIX века находятся в самой тесной внутренней связи с декабристами. Это было и это будет. Религиозным огнем крестилась русская общественность в младенчестве своем, и тот же огонь сойдет на нее в пору ее возмужалости, вспыхнет на челе ее, как бы «разделяющийся язык огненный» в новом сошествии Духа Св. на живой дух России, на русскую интеллигенцию. Потому-то, может быть, и оказалась она в полной темноте религиозного сознания, в своем «безбожии», что совершила полный круговой оборот от света к свету, от солнца закатного к солнцу восходному, от Первого Пришествия ко Второму. Это ведь и есть путь не только русской интеллигенции, но и всей России от Христа Пришедшего ко Христу Грядущему.
И когда это совершится, тогда русская интеллигенция уже перестанет быть интеллигенцией, только интеллигенцией, человеческим, только человеческим разумом, тогда она сделается Разумом Богочеловеческим, Логосом России как члена вселенского тела Христова, новой истинной Церкви – уже не временной, поместной, греко-российской, а вечной, вселенской Церкви Грядущего Господа, Церкви св. Софии, Премудрости Божией, Церкви Троицы нераздельной и неслиянной, – царства не только Отца и Сына, но Отца, Сына и Духа Св.
«Сие и буди, буди!»
А для того чтобы это было, надо разорвать кощунственный союз религии с реакцией, надо, чтобы люди наконец поняли, что значит это слово Слова, ставшего Плотью:
Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Иоанна XIII, 36).
Не против Христа, а со Христом – к свободе. Христос освободит мир – и никто, кроме Христа. Со Христом – против рабства, мещанства и хамства.
Хама Грядущего победит лишь Грядущий Христос.
1906
М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества
I
Почему приблизился к нам Лермонтов? Почему вдруг захотелось о нем говорить?
Рассказывают, будто бы у Лермонтова был такой «тяжелый взгляд», что на кого он смотрел пристально, тот невольно оборачивался. Не так ли мы сейчас к нему обернулись невольно?
Стихи его для нас как заученные с детства молитвы. Мы до того привыкли к ним, что уже почти не понимаем. Слова действуют помимо смысла.
Помню, когда мне было лет 7—8, я учил наизусть «Ангела» из старенькой хрестоматии с истрепанным зеленым корешком. Я твердил: «По небу полуночи», не понимая, что «полуночи» родительный падеж от «полночь»; мне казалось, что это два слова: «по» и «луночь». Я видел картину, изображавшую ангела, который летит по темно-синему, лунному небу: это и была для меня «луночь». Потом узнал, в чем дело; но до сих пор читаю: «По небу, по луночи», бессмысленно, как детскую молитву.
Есть сила благодатная В созвучье слов живых, И дышит непонятная, Святая прелесть в них.Я также узнал, что нельзя сказать: «Из пламя и света», а надо: из пламени. Но мне нравилась эта грамматическая ошибка: она приближала ко мне Лермонтова.
Потом, в 12 – 13 лет, я уже для собственного удовольствия учил его наизусть. Переписывал «Мцыри» тщательно, в золотообрезную тетрадку, и мне казалось, что эти стихи я сам сочинил.
Пушкина я тогда не любил: он был для меня взрослый; Лермонтов такой же ребенок, как я.
В то утро был небесный свод Так чист, что ангела полет Прилежный взор следить бы мог.Вот чего Пушкин не сказал бы ни за что. Взор его был слишком трезв, точен и верен действительности. Он говорит просто:
Последняя туча рассеянной бури, Одна ты несешься по ясной лазури.Но эта пушкинская «ясная лазурь», по сравнению с бездонно-глубоким лермонтовским небом, казалась мне плоской, как голубая эмаль.
С годами я полюбил Пушкина, понял, что он велик, больше, чем Лермонтов. Пушкин оттеснил, умалил и как-то обидел во мне Лермонтова: так иногда взрослые нечаянно обижают детей. Но где-то в самой глубине души остался уголок, не утоленный Пушкиным.
Я буду любить Пушкина, пока я жив; но когда придет смерть, боюсь, что это примирение:
И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть, И равнодушная природа Красою вечною сиять, —покажется мне холодным, жестоким, ничего не примиряющим – и я вспомню тогда детские молитвы, вспомню Лермонтова.Не потому ли уже и теперь сквозь вечереющий пушкинский день таинственно мерцает Лермонтов, как первая звезда.
Пушкин – дневное, Лермонтов – ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами – созерцанием и действием.
Голос Божий пророку:
Глаголом жги сердца людей, —услыхал Пушкин, но не последовал ему, не сделался пророком, идущим к людям, а предпочел остаться жрецом, от людей уходящим:
Подите прочь! Какое дело Поэту мирному до вас?Поэт – жрец, а жертва Богу – жизнь людей. Толпа не зажигается огнем пророка, а «плюет на алтарь», где горит огонь жреца.
В жизни Пушкин весь на людях, но в творчестве один.
Ты – царь; живи один.Лермонтов обратно: в жизни – один, в творчестве идет к людям; пусть не доходит, но идет, пусть ненавидит, но не бесстрастен.
Не для битв Мы рождены, —говорит Пушкин.
Бывало, мерный звук твоих могучих слов Воспламенял бойца для битвы, —говорит Лермонтов. Поэт – кинжал, «спутник героя».
Не по одной груди провел он страшный след И не одну порвал кольчугу.Созерцание, отречение от действия для Пушкина – спасение, для Лермонтова – гибель поэта, ржавчина клинка.
Игрушкой золотой он блещет на стене, Увы, бесславный и безвредный... Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк, Иль никогда на голос мщенья Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, Покрытый ржавчиной презренья?У Пушкина жизнь стремится к поэзии, действие к созерцанию; у Лермонтова поэзия стремится к жизни, созерцание – к действию.
На первый взгляд может показаться, что русская литература пошла не за Пушкиным, а за Лермонтовым, захотела быть не только эстетическим созерцанием, но и пророческим действием – «глаголом жечь сердца людей».
Стоит, однако, вглядеться пристальнее, чтобы увидеть, как пушкинская чара усыпляет буйную стихию Лермонтова.
И на бунтующие волны Льет усмирительный елей.В начале – буря, а в конце – тишь да гладь. Тишь да гладь – в созерцательном аскетизме Гоголя, в созерцательном эстетизме Тургенева, в православной реакции Достоевского, в буддийском неделании Л. Толстого. Лермонтовская действенность вечно борется с пушкинской созерцательностью, вечно ею побеждается и сейчас побеждена как будто окончательно, раздавлена.Вот одна из причин того, что о Пушкине говорили много и кое-что сказали, о Лермонтове говорили мало и ничего не сказали; одна из причин того, что пушкинское влияние в русской литературе кажется почти всем, лермонтовское – почти ничем.
Другая причина того же указана в статье Вл. Соловьева о Лермонтове, недаром предсмертной – как бы духовном завещании учителя ученикам.
II
«Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий (тут упоминание о действенности чрезвычайно важно), которое для краткости можно назвать «ницщеанством». Глубочайший смысл деятельности Лермонтова освещается писаниями его ближайшего преемника Ницше».
Сверхчеловечество, по мнению Вл. Соловьева, есть не что иное, как ложно понятое, превратное богочеловечество. Лермонтов не понял своего призвания «быть могучим вождем людей на пути к сверхчеловечеству» истинному, то есть к богочеловечеству, к христианству, и потому погиб. Христианства же не понял, потому что не захотел смириться. А «кто не может подняться и не хочет смириться, тот сам себя обрекает на неизбежную гибель».
В 1840 году в черновом отпуске полковой канцелярии при штабе генерал-адъютанта Граббе, отправленном в Петербург, на запрос военного министра о поручике Лермонтове, сказано: «...служит исправно, ведет жизнь трезвую и ни в каких злокачественных поступках не замечен».
Полковой писарь оказался милосерднее христианского философа. В посмертном отпуске Вл. Соловьева вся жизнь Лермонтова – непрерывная цепь «злокачественных поступков».
«С детства обнаружились в нем черты злобы прямо демонической. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, осыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу. Взрослый Лермонтов совершенно так же вел себя относительно человеческого существования, особенно женского. И это демоническое сладострастие не оставляло его до горького конца. Но с годами демон кровожадности слабеет, отдавая большую часть своей силы своему брату, демону нечистоты», – того, что Вл. Соловьев называет «свинством». Эротическую музу Пушкина сравнивает он с ласточкой, которая, пролетая над грязною лужей, не задевает ее крылом и «щебечет что-то невинное»; «порнографическую» музу Лермонтова – с «лягушкою, прочно засевшею в тине». Здесь любопытно это общепринятое побивание Лермонтова Пушкиным: одному все прощается, другому каждое лыко в строку.
Наконец, к первым двум демонам присоединился главнейший и сильнейший демон гордости, так что в душе его «завелось целое демоническое хозяйство». Все доброе, но слишком слабое, что у него еще было – несколько «субъективных усилий» в борьбе с демонизмом, – заглохло окончательно, и он безвозвратно устремился к погибели.
Дуэль с Мартыновым – «этот безумный вызов высшим силам» – была последним и самым «злокачественным поступком» Лермонтова. «Бравый майор Мартынов», как называет его Вл. Соловьев, или попросту «Мартышка», как называл его Лермонтов (это в самом деле «мартышка», обезьяна Лермонтова, то же для него, что Грушницкий для Печорина, Смердяков для Ив. Карамазова), оказался орудием небесной кары за бесовскую «кровожадность», бесовское «сладострастие» и бесовскую «гордыню» Лермонтова. И небесное знамение подтвердило праведную месть: «В страшную грозу, при блеске молнии и раскатах грома перешла эта бурная душа в иную область бытия».
Конец Лермонтова у Вл. Соловьева напоминает конец Фауста. Потомок шотландского чернокнижника Фомы Лермонта и предок немецкого антихриста Ницше не мог иметь иного конца.
«Конец Лермонтова и им самим и нами называется гибелью, – заключает Вл. Соловьев. – Выражаясь так, мы не представляем себе, конечно, театрального провала в какую-то преисподнюю, где пляшут красные черти». Оговорка дела не меняет: какого бы цвета ни были черти, нет сомнения, что Вл. Соловьев Лермонтова отправил к чертям. Он дает понять, что конец его не только временная, но и вечная гибель.
Над поэтом произносится такой же беспощадный приговор, как над человеком.
«Осталось от Лермонтова несколько истинных жемчужин поэзии», затерянных в навозной куче «свинства», в «обуявшей соли демонизма, данной на попрание людям, по слову Евангелия; могут и должны люди попирать эту обуявшую соль с презрением и враждою, конечно, не к погибшему гению, а к погубившему его началу человекоубийственной лжи».
Спасти Лермонтова от вечной погибели нельзя; но, чтобы «хоть сколько-нибудь уменьшить ужас», на который он обречен и который неизмеримо ужаснее «пляшущих красных чертей», мы должны «обличать ложь воспетого им демонизма», то есть ложь всей лермонтовской поэзии, чья сущность, по мнению Вл. Соловьева, и есть не что иное, как демонизм, превратное сверхчеловечество.
О. Матфей советовал Гоголю сжечь свои писания; Вл. Соловьев почти то же советует нам сделать с писаниями Лермонтова.
В этом приговоре нашла себе последнее выражение та глухая ненависть, которая преследовала его всю жизнь.
Добрейший старичок Плетнев, друг Пушкина, называл Лермонтова «фокусником, который своими гримасами напоминал толпе Пушкина и Байрона». Современный присяжный поверенный Спасович утверждает, что Лермонтову «можно удивляться, но любить его нельзя». Достоевский, так много сказавший о Пушкине, ни слова не говорит о Лермонтове, которому в мистике своей обязан едва ли не более, чем Пушкину, а единственный раз, когда вспомнил о Лермонтове, сравнил его с «бесноватым Ставрогиным» по силе «демонической злобы»: «...в злобе выходил прогресс даже против Лермонтова». Пятигорские враги поэта, натравливая на него Мартынова, говорили, что пора «проучить ядовитую гадину». Одна «высокопоставленная особа», едва ли не император Николай I, узнав о смерти Лермонтова, вздохнула будто бы с облегчением и заметила: «Туда ему и дорога!» – а по другому, не психологически, а лишь исторически недостоверному преданию, воскликнула: «Собаке собачья смерть!»
Таким образом Вл. Соловьев нанес Лермонтову только последний, так называемый «милосердный удар», coup de grвce. Мартынов начал, Вл. Соловьев кончил; один казнил временной, другой – вечною казнью, которую предчувствовал Лермонтов:
И как преступник перед казнью, Ищу кругом души родной.Казнь совершилась, раздавлена «ядовитая гадина», лучезарному Аполлону-Пушкину принесен в жертву дионисовский черный козел – козел отпущения всей русской литературы – Лермонтов.
Откуда же такая ненависть?
III
«Смирись, гордый человек!» – воскликнул Достоевский в своей пушкинской речи. Но с полною ясностью не сумел определить, чем истинное Христово смирение сынов Божиих отличается от мнимо-христианского рабьего смирения. Кажется, чего другого, а смирения всяческого – и доброго и злого – в России довольно.
Смирению учила нас русская природа – холод и голод – русская история: византийские монахи и татарские ханы, московские цари и петербургские императоры. Смирял нас Петр, смирял Бирон, смирял Аракчеев, смирял Николай I; ныне смиряют карательные экспедиции и ежедневные смертные казни. Смиряет вся русская литература.
Если кто-нибудь из русских писателей начинал бунтовать, то разве только для того, чтобы тотчас же покаяться и еще глубже смириться. Забунтовал Пушкин, написал оду Вольности и смирился – написал оду Николаю I, благословил казнь своих друзей декабристов:
В надежде славы и добра Гляжу вперед я без боязни: Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни.Забунтовал Гоголь – написал первую часть «Мертвых душ» и смирился – сжег вторую, благословил крепостное право. Забунтовал Достоевский, пошел на каторгу – и вернулся проповедником смирения. Забунтовал Л. Толстой, начал с анархической синицы, собиравшейся море зажечь, и смирился – кончил непротивлением злу, проклятием русской революции.
Где же, где, наконец, в России тот «гордый человек», которому надо смириться? Хочется иногда ответить на этот вечный призыв к смирению: докуда же еще смиряться?
И вот один-единственный человек в русской литературе, до конца не смирившийся, – Лермонтов.
Потому ли, что не успел смириться? Едва ли.
Источник лермонтовского бунта – не эмпирический, а метафизический. Если бы продолжить этот бунт в бесконечность, он, может быть, привел бы к иному, более глубокому, истинному смирению, но, во всяком случае, не к тому, которого требовал Достоевский и которое смешивает свободу сынов Божиих с человеческим рабством. Ведь уже из того, как Лермонтов начал свой бунт, видно, что есть в нем какая-то религиозная святыня, от которой не отречется бунтующий, даже под угрозой вечной погибели, той «преисподней, где пляшут красные черти».
Этой-то метафизически и религиозно утверждающей себя несмиренности, несмиримости и не могла простить Лермонтову русская литература. Все простила бы, только не это – не «хулу на Духа», на своего смиренного духа.
Смотрите: вот пример для вас! Он горд был, не ужился с нами. Глупец! хотел уверить нас, Что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, Как он угрюм, и худ, и бледен, Смотрите, как он наг и беден, Как презирают все его!Вот за что обречен был Лермонтов на страшную казнь в сем веке и будущем.
Вл. Соловьев уверяет, будто бы любит Лермонтова. «Вы мне поверите, что, прежде чем говорить о Лермонтове, я подумал, чего требует от меня любовь к умершему». Но уж если любовь такова, что вбивает, так сказать, осиновый кол в горло покойнику, то какова же ненависть?
Любовь или ненависть, во всяком случае, такая страсть в этой борьбе, которая возможна только тогда, когда враг врагу чересчур близок. Вл. Соловьев и Лермонтов – родные братья, Авель и Каин русской литературы; но здесь совершается обратное убийство: Авель убивает Каина.
Борьба многих смиренных с одним «гордым человеком» происходила до сих пор в темноте, как бы ощупью: слышно было только, что кого-то ловили, давили, душили и никак не могли задушить окончательно. Но кого именно, не было видно. Никто не смел заглянуть в лицо избиваемой нечисти, словно упырю или оборотню. Вл. Соловьев первый осмелился, не опустил глаз перед невыносимо тяжелым взором Лермонтова и, глядя ему прямо в глаза, произнес: «Сверхчеловек». И слово это, как свеча, вдруг поднесенная к лицу оборотня, осветило его. Верно это или неверно, во всяком случае, дело тут идет именно об этом.
Борьба сверхчеловечества с богочеловечеством для нас не только настоящее, но и будущее, наша вечная злоба дня. Вот почему мы должны были обернуться в ту сторону, откуда уставились на нас эти тяжелые глаза; вот почему незапамятно давний, почти забытый, детский Лермонтов так внезапно вырос и так неотступно приблизился к нам.
IV
«Подходя к дверям поручика Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и гремевшим шпорами молоденьким гусарским офицером. Он имел очень веселый вид человека, который сию минуту слышал или сделал что-то пресмешное. Он слегка задел меня капюшоном своей распахнувшейся шинели и, засмеявшись звонко на всю лестницу, сказал:
– Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном.
Лицо у него было бледное, несколько скуластое, как у татар, с крохотными тоненькими усиками и с коротким, чуть-чуть приподнятым носом, именно таким, какой французы называют nez а là cousine[95]. Развеселый этот офицерик не произвел на меня никакого особенного впечатления, кроме только того, что взгляд его мне показался каким-то тяжелым, сосредоточенным...»
А вот отзыв самого благонравного поручика Синицына:
«Я, вы знаете, люблю, чтобы у меня все было в порядке... А тут вдруг, откуда ни возьмись, влетает к вам товарищ по школе, курит, сыплет пепел везде где попало, тогда как я ему указываю на пепельницу, и вдобавок швыряет окурки своих проклятых пахитос в мои цветочные горшки и при всем этом без милосердия болтает, лепечет, рассказывает всякие грязные истории о петербургских продажных красавицах, декламирует самые скверные французские стишонки... Небось не допросишься, чтоб что-нибудь свое прочел, ленив, пострел, ленив страшно, и что ни напишет, все или прячет куда-то, или жжет на раскурку трубок своих же сорвиголов-гусаров...»
Таково первое впечатление от Лермонтова: самый обыкновенный гусарский офицерик.
Однажды с пьяной компанией на тройках в два часа ночи въезжая в Петербург, на заставе у шлагбаума, где требовали расписки от въезжающих, Лермонтов расписался: «Российский дворянин Скот Чурбанов».
Я никогда не забуду, как в 80-х годах, во время моего собственного юношеского увлечения Лермонтовым, отец мой передал мне отзыв о нем гр. Адлерберга, министра двора при Александре II, старика, который лично был знаком с Лермонтовым: «Вы представить себе не можете, какой это был грязный человек!» Для гр. Адлерберга Лермонтов был именно «Скот Чурбанов».
Вл. Соловьев не преувеличил, а скорее приуменьшил пошлость, «свинство» Лермонтова.
Чтобы в этом убедиться, стоит прочесть «Записки» Екатерины Александровны Хвостовой.
Лермонтов ухаживал за ней долго и упорно, довел ее до признания в любви, произнося кощунственно такие слова:
– Полюби меня, и я буду верить в Бога... Ты одна можешь спасти мою душу...
«Он поработил меня совершенно, – признается Катенька. – Мне стало страшно за себя. Я как будто чувствовала бездну под своими ногами.
Он уговаривал меня на побег и тайный брак». Когда же убедился, что она готова на все, написал ей анонимное письмо, в котором говорил о себе самом: «Поверьте, он недостоин вас. Для него нет ничего святого, он никого не любит. Я ничего не имею против него, кроме презрения, которое он вполне заслуживает».
Письмо перехватили родственники. В доме наступил ад. «Удивительно, как в ту ночь я не выплакала все сердце и осталась в своем уме, – пишет Хвостова. – Он убил во мне душу».
Но разлюбить его она не могла. «Куда девалась моя гордость!.. Я готова была стать перед ним на колени, лишь бы он ласково взглянул на меня».
Они встречались на балах. «Он все не смотрел на меня; не было возможности заговорить с ним. Наконец я спросила его:
– Ради Бога, скажите, за что вы сердитесь?
– Я вас больше не люблю, да кажется, и никогда не любил, – ответил Лермонтов».
«Теперь я не пишу романов – я их переживаю», – записал он в дневнике. «Я на деле заготовляю материалы для моих сочинений», – сказал он однажды самой жертве.
Есть человеческие мерзости, которых нельзя простить ни за какое величие. Читая признания бедной Катеньки, хочется иногда воскликнуть: подлец, вовсе не какой-нибудь великий злодей, а средней руки подлец, настоящий хулиган!
«Какой великий и могучий дух!» – воскликнул Белинский после долгой беседы наедине с Лермонтовым. Белинский редко ошибался в людях. Да и было же что-то в Лермонтове, из чего родилась его поэзия – эти единственные на земле «звуки небес», что и Вл. Соловьева заставило увидеть в нем призвание «быть могучим вождем людей на пути к сверхчеловечеству».
Как же это соединялось с пошлостью? Скот Чурбанов с «великим и могучим духом»? Хулиган с ангелом?
«В Лермонтове было два человека», – говорит близко знавшее его лицо. «Во мне два человека, – говорит Печорин. – Я сделался нравственным калекою: одна половина души моей высохла, умерла, я ее отрезал и бросил; тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины».
Главная ошибка, кажется, впрочем, не самого Лермонтова, а Печорина, заключается в том, что он считает отрезанную половину окончательно погибшею, тогда как обе половины одинаково живы метафизически и лишь эмпирически одна половина подавила другую.
Откуда же это раздвоение?
V
Произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против Дракона; и Дракон и ангелы его воевали против них; но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий Дракон.
Существует древняя, вероятно, гностического происхождения легенда, упоминаемая Данте в «Божественной комедии», об отношении земного мира к этой небесной войне. Ангелам, сделавшим окончательный выбор между двумя станами, не надо рождаться, потому что время не может изменить их вечного решения; но колеблющихся, нерешительных между светом и тьмою благость Божия посылает в мир, чтобы могли они сделать во времени выбор, не сделанный в вечности. Эти ангелы – души людей рождающихся. Та же благость скрывает от них прошлую вечность, для того чтобы раздвоение, колебание воли в вечности прошлой не предвещало того уклона воли во времени, от которого зависит спасение или погибель их в вечности будущей. Вот почему так естественно мы думаем о том, что будет с нами после смерти, и не умеем, не можем, не хотим думать о том, что было до рождения. Нам надо забыть откуда – для того, чтобы яснее помнить куда.
Таков общий закон мистического опыта. Исключения из него редки, редки те души, для которых поднялся угол страшной завесы, скрывающей тайну премирную. Одна из таких душ – Лермонтов.
«Я счет своих лет потерял», – говорит пятнадцатилетний мальчик. Это можно бы принять за шутку, если бы это сказал кто-нибудь другой. Но Лермонтов никогда не шутит в признаниях о себе самом.
Чувство незапамятной давности, древности – «веков бесплодных ряд унылый», – воспоминание земного прошлого сливается у него с воспоминанием прошлой вечности, таинственные сумерки детства с еще более таинственным всполохом иного бытия, того, что было до рождения.
И я счет своих лет потерял И крылья забвенья ловлю. Как я сердце унесть бы им дал, Как бы вечность им бросил мою!Так же просто, как другие люди говорят: моя жизнь, – Лермонтов говорит: моя вечность.
Воспоминание, забвение – таковы две главные стихии в творчестве Лермонтова.
О, когда я мог забыть, Что не забвенно!.. —говорит пятнадцатилетний мальчик и впоследствии повторяет почти теми же словами от лица Демона:
Забыть? Забвенья не дал Бог. Да он и не взял бы забвенья.На дне всех эмпирических мук его – эта метафизическая мука – неутолимая жажда забвения:
Спастись от думы неизбежной И незабвенное забыть!..«Незабвенное» – прошлое – вечное.Печорин признается: «...нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую же власть, как надо мною. Всякое напоминание – болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я ничего не забываю, ничего».
К тому, что было до рождения, дети ближе, чем взрослые. Вот почему обладает Лермонтов никогда не изменяющей ему способностью возвращаться в детство, то есть в какую-то прошлую вечную правду.
Накануне смерти, со смертью в душе, он «предается таким шалостям, которые могут прийти в голову разве только пятнадцатилетнему мальчику». «Бегали в горелки, играли в кошку-мышку, в серсо», – рассказывает Эмилия Александровна, та самая барышня, из-за которой Лермонтов был убит Мартыновым.
«Тяжелый взор странно не согласовался с выражением детски нежных и выдававшихся губ», – вспоминает о нем И. С. Тургенев. «В его улыбке было что-то детское», – говорит Лермонтов о Печорине. Детское и женское. «Он очень походил на мать свою, – сказал однажды Краевский, указывая на ее портрет, – если вы к этому лицу приделаете усы, измените прическу да накинете гусарский ментик – так вот вам Лермонтов».
«Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал; ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если бы услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать». Песня матери – песня ангела:
И голос той песни в душе молодой Остался без слов, но живой...Вся поэзия Лермонтова – воспоминание об этой песне, услышанной в прошлой вечности.
Постоянно и упорно, безотвязно, почти до скуки, повторяются одни и те же образы в одних и тех же сочетаниях слов, как будто хочет он припомнить что-то и не может и опять припоминает все яснее, яснее, пока не вспомнит окончательно, неотразимо, «незабвенно». Ничего не творит, не сочиняет нового, будущего, а только повторяет, вспоминает прошлое, вечное. Другие художники, глядя на свое создание, чувствуют: это прекрасно, потому что этого еще никогда не было. Лермонтов чувствует: это прекрасно, потому что это всегда было.
Весь жизненный опыт ничтожен перед опытом вечности. По сравнению с блаженством
Тех дней, когда в жилищах света Блистал он, чистый херувим, —все земные радости – «скучные песни»:
И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли.Маленький мальчик, который вчера играл в лошадки или солдатики, сегодня решает:
Пора уснуть последним сном; Довольно в мире пожил я, Обманут в жизни был во всем И ненавидя, и любя.Едва взглянув на мир, произносит свой безгневный и беспощадный приговор: «Жалок мир».Тут, конечно, и отзвук Байрона; но Байрон только вскрывает в нем то, что всегда было как данное, вечное.
Что говорит ребенок – повторяет взрослый:
...жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, Такая пустая и глупая шутка.Никаких особенных разочарований или утрат не произошло в жизни его между тем первым ребяческим лепетом и этим последним воплем отчаяния, в котором как бы зияет уже «тьма кромешная»; ничего нового не узнал, только вспомнил старое:
...им в жизни нет уроков, Их чувствам повторяться не дано, —говорит он о себе подобных.Знает все, что будет во времени, потому что знает все, что было в вечности.
...много было взору моему Доступно и понятно потому, Что узами земными я не связан И вечностью и знанием наказан.«Наказан» в жизни за преступление до жизни.
Как другие вспоминают прошлое, так он предчувствует или, вернее, тоже вспоминает будущее – словно снимает с него покровы, один за другим, – и оно просвечивает сквозь них, как пламя сквозь ткань. Кажется, во всемирной поэзии нечто единственное – это воспоминание будущего.
На шестнадцатом году жизни – первое видение смерти:
На месте казни, гордый, хоть презренный, Я кончу жизнь мою.Через год:
Я предузнал мой жребий, мой конец. Кровавая меня могила ждет.Через шесть лет:
Я знал, что голова, любимая тобою, С твоей груди на плаху перейдет.И наконец, в 1841 году, в самый год смерти – «Сон» – видение такой ужасающей ясности, что секундант Лермонтова, кн. Васильчиков, описывая дуэль через 30 лет, употребляет те же слова, как Лермонтов. «В правом боку дымилась рана, а в левом сочилась кровь», – говорит кн. Васильчиков.
Глубокая еще дымилась рана, По капле кровь сочилася моя, —говорит Лермонтов.Это «воплощение будущего», воспоминание прошлой вечности кидает на всю его жизнь чудесный и страшный отблеск: так иногда последний луч заката из-под нависших туч освещает вдруг небо и землю неестественным заревом.
VI
Христианское «не от мира сего» хотя и подобно, но лишь в противоположности своей подобно лермонтовскому:
Они не созданы для мира. И мир был создан не для них.В христианстве – движение от «сего мира» к тому, отсюда туда; у Лермонтова обратное движение – оттуда сюда.
Это сказывается не только во внутреннем духовном существе, но и во внешнем телесном облике.
«В наружности Лермонтова, – вспоминает И. С. Тургенев, – было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых плечах, возбуждала ощущение неприятное». «Почему-то внимание каждого и не знавшего его невольно на нем останавливалось». «Все от него отшатнулись, – рассказывает университетский товарищ Лермонтова, – а между тем что-то непонятное, таинственное влекло к нему». «Разговор его похож на то, как будто кто-нибудь скребет по стеклу».
«– Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете?
Он оторвался от чтения; как удар молнии, сверкнули его глаза – трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий взгляд.
– Для чего вам знать?.. Содержание книги вас не может интересовать.
Как бы ужаленный, я бросился от него».
Одна светская женщина уверяет, что глаза Лермонтова «имели магнетическое влияние». Иногда те, на кого он смотрел пристально, должны были выходить в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этот взгляд.
Если бы довести до конца это первое бессознательное впечатление, то пришлось бы его выразить так: в человеческом облике не совсем человек; существо иного порядка, иного измерения; точно метеор, заброшенный к нам из каких-то неведомых пространств.
Как метеор, игрой судьбы случайной Он пролетел грозою между нас.Кажется, он сам если не осознавал ясно, то более или менее смутно чувствовал в себе это «не совсем человеческое», чудесное или чудовищное, что надо скрывать от людей, потому что этого люди никогда не прощают.
Отсюда – бесконечная замкнутость, отчужденность от людей, то, что кажется «гордыней» и «злобою». Он мстит миру за то, что сам не от мира сего; мстит людям за то, что сам «не совсем человек». «И никого-то он не любит», – жаловались на него бабушке. Бесконечная сила отталкивания: «Как бы ужаленный, я бросился от него». Точно заряженная лейденская банка: кто ни прикоснется, отскакивает.
Отсюда и то, что кажется «лживостью». «Лермонтов всегда и со всеми лжет». Лжет, чтобы не узнали о нем страшную истину.
Звери слышат человеческий запах. Так люди слышат в Лермонтове запах иной породы. Одни, особенно женщины, по первобытному греху любопытства, влекутся к нему, видят в нем «демона», как тогда говорили, или, как теперь говорят, «сверхчеловека»; другие отходят от него с отвращением и ужасом: «ядовитая гадина», «антихрист»; или накидываются с яростью, чтобы загрызть, как собаки загрызают волка за то, что от него несобачий запах.
Отсюда, наконец, и то, что кажется в нем «пошлостью». Обыкновенного тщеславия, желания быть не как все, у Лермонтова не было, потому что в этом смысле ему и желать было нечего; скорее могло у него быть обратное тщеславие – желание быть как все.
«Ведь я страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм, – говорит черт Ивану Карамазову. – Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения... Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить... люблю с попами и купцами париться... Моя мечта это – воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху».
Все пошлости Лермонтова – разврат «Маешки» в школе гвардейских подпрапорщиков, «свинство», хулиганство с женщинами – не что иное, как бегство от «фантастического», от «неопределенных уравнений», безумное желание «воплотиться окончательно в семипудовую купчиху».
И когда люди, наконец, решают: «Да это вовсе не великий, а самый обыкновенный человек», – он рад, этого-то ему и нужно: слава Богу, поверили, что как все, точь-в-точь как все! Удалось-таки втиснуть четвертое измерение в третье, «забыть незабвенное», «попариться» и согреться хоть чуточку в «торговой бане» от леденящего холода междупланетных пространств!
Это извращение, может быть, гораздо худшее зло, чем обыкновенная человеческая пошлость; но не надо забывать, что зло это иного порядка, не следует смешивать эти два порядка, как делает Вл. Соловьев в своем суде над Лермонтовым.
До какой степени «пошлость» его только болезненный выверт, безумный надрыв, видно из того, с какой легкостью он сбрасывает ее, когда хочет.
Кажется, пропал человек, залез по уши в грязь, засел в ней «прочно, как лягушка в тине», так что и не выбраться. Но вот, после двух лет разврата и пошлости, стоило только приехать близкому человеку, другу любимой женщины, – и «двух страшных лет как не бывало».
С души как бремя скатится, Сомненья далеко, И верится, и плачется, И так легко, легко...Такое же мгновенное освобождение от пошлости происходит с ним после дуэли Пушкина. У Лермонтова явилась мысль вызвать убийцу. Когда лучший друг Лермонтова, Столыпин, заметил шутя, что у него «слишком раздражены нервы», Лермонтов набросился на Столыпина чуть не с кулаками и закричал, чтоб он сию же минуту убирался, иначе он за себя не отвечает. «Mais il est fou а lier!»[96] – воскликнул Столыпин уходя.
Стихотворение «На смерть Пушкина» признано было в придворных кругах за «воззвание к революции». Это, конечно, вздор: далеко было Лермонтову до революции. Но недаром сравнивает его Достоевский с декабристом Мих. Луниным: при других обстоятельствах и Лермонтов мог бы кончить так же, как Лунин.
В детстве он напускался на бабушку, когда она бранила крепостных, выходил из себя, когда вели кого-нибудь наказывать, и бросался на отдавших приказание с палкою, с ножом – что под руку попало.
Однажды в Пятигорске, незадолго до смерти, обидел неосторожным словом жену какого-то маленького чиновника и потом бегал к ней, извинялся перед мужем, так что эти люди не только простили его, но и полюбили, как родного.
Бабушка Лермонтова после смерти внука оплакивала его так, что веки на глазах ослабели и она не могла их поднять. Кое-что знала она о «ядовитой гадине», чего не знал Вл. Соловьев и Достоевский.
Однажды, после долгих лет разлуки с любимой женщиной, которая вышла замуж за другого, увидел он дочь ее, маленькую девочку. Долго ласкал ребенка, наконец, горько заплакал и вышел в другую комнату. Тогда же написал стихотворение «Ребенку»:
О грезах юности томим воспоминаньем, С отрадой тайною и тайным содроганьем, Прекрасное дитя, я на тебя смотрю. О если б знало ты, как я тебя люблю!..Должно быть, в эту минуту лицо его было особенно похоже на лицо его матери: исчез разлад между слишком умным, тяжелым взором и «детски нежным выражением губ»; в глазах была небесная мудрость, а в губах земная скорбь любви. И если бы тогда увидели его Вл. Соловьев и Достоевский, то, может быть, поняли бы, что не разгадали чего-то самого главного в этой «душе печальной, незнакомой счастью, но нежной, как любовь».
«Какая нежная душа в нем!» – воскликнул Белинский. И тот же университетский товарищ, который, заговорив с Лермонтовым, отскочил, «как ужаленный», заключает свой рассказ: «...он имел душу добрую, я в этом убежден». «Недоброю силою веяло от него», – говорит Тургенев.
Что же, наконец, добрый или недобрый?
И то, и другое. Ни то, ни другое.
Самое тяжелое, «роковое» в судьбе Лермонтова – не окончательное торжество зла над добром, как думает Вл. Соловьев, а бесконечное раздвоение, колебание воли, смешение добра и зла, света и тьмы.
Он был похож на вечер ясный, Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.Это и есть премирное состояние человеческих душ, тех нерешительных ангелов, которые в борьбе Бога с дьяволом не примкнули ни к той, ни к другой стороне. Для того чтобы преодолеть ложь раздвоения, надо смотреть не назад, в прошлую вечность, где борьба эта началась, а вперед, в будущую, где она окончится с участием нашей собственной воли. Лермонтов слишком ясно видел прошлую и недостаточно ясно будущую вечность: вот почему так трудно, почти невозможно ему было преодолеть ложь раздвоения.
«Верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные», – говорит Печорин. Но это – «необъятная сила» в пустоте, сила метеора, неудержимо летящего, чтобы разбиться о землю. Воля без действия, потому что без точки опоры. Все может и ничего не хочет. Помнит, откуда, но забыл, куда.
«Зачем я жил? – спрашивает себя Печорин, – для какой цели я родился?» Категория цели, свободы открывается в будущей вечности; категория причины, необходимости – в прошлой.
Вот почему у Лермонтова так поразительно сильно чувство вечной необходимости, чувство рока – «фатализм». Все, что было во времени, будет в вечности; нет опасного, потому что нет случайного.
Кто близ небес, тот не сражен земным.Отсюда – бесстрашие Лермонтова, игра его со смертью.
«Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, – сказано в донесении одного кавказского генерала, – во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действием передовой штурмовой колонны, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот исполнил возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».
За экспедицию в Большую Чечню представили его к золотой сабле.
Игра со смертью для него почти то же, что в юнкерской школе игра с железными шомполами, которые он гнул в руках и вязал в узлы, как веревки.
«Никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице его перед дулом пистолета, уже направленного на него», – рассказывает кн. Васильчиков о последних минутах Лермонтова.
Не совсем человек – это сказывается и в его отношении к смерти. Положительно религиозного смысла, может быть, и не имеет его бесстрашие, но оно все-таки кладет на личность его неизгладимую печать подлинности: хорош или дурен, он, во всяком случае, не казался, а был тем, чем был. Никто не смотрел в глаза смерти так прямо, потому что никто не чувствовал так ясно, что смерти нет.
Кто близ небес, тот не сражен земным.Когда я сомневаюсь, есть ли что-нибудь, кроме здешней жизни, мне стоит вспомнить Лермонтова, чтобы убедиться, что есть. Иначе в жизни и в творчестве его все непонятно – почему, зачем, куда, откуда, главное – куда?
VII
Лермонтов первый в русской литературе поднял религиозный вопрос о зле.
Пушкин почти не касался этого вопроса. Трагедия разрешалась для него примирением эстетическим. Когда же случилось ему однажды откликнуться и на вопрос о зле, как на все откликался он, подобно «эху»:
Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты нам дана? —то вместо религиозного ответа удовольствовался он плоскими стишками известного сочинителя православного катехизиса, митрополита Филарета, которому написал свое знаменитое послание:
И внемлет арфе серафима В священном ужасе поэт.А. И. Тургенев описывает, минута за минутой, предсмертные страдания Пушкина: «...ночью он кричал ужасно, почти упал на пол в конвульсии страдания. Теперь (в полдень) я опять входил к нему; он страдает, повторяя: „Боже мой, Боже мой! что это?..“ И сжимает кулаки в конвульсии».
Вот в эти-то страшные минуты не утолило бы Пушкина примирение эстетическое; православная же казенщина митрополита Филарета показалась бы ему не «арфою серафима», а шарманкою, вдруг заигравшею под окном во время агонии.
«Боже мой, Боже мой! что это?..» – с этим вопросом, который явился у Пушкина только в минуту смерти, Лермонтов прожил всю жизнь.
«Почему, зачем, откуда зло?» Если есть Бог, то как может быть зло? Если есть зло, то как может быть Бог?
Вопрос о зле связан с глубочайшим вопросом теодицеи, оправдания Бога человеком, состязания человека с Богом.
«О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со мною борешься?»
Богоборчество Иова повторяется в том, что Вл. Соловьев справедливо называет у Лермонтова «тяжбою с Богом»; «Лермонтов, – замечает Вл. Соловьев, – говорит о Высшей воле с какою-то личною обидою».
Эту человеческую обиженность, оскорбленность Богом выразил один из современных русских поэтов:
Я – это Ты, о Неведомый, Ты, в моем сердце обиженный[97].Никто никогда не говорил о Боге с такой личною обидою, как Лермонтов:
Зачем так горько прекословил Надеждам юности моей?Никто никогда не обращался к Богу с таким спокойным вызовом:
И пусть меня накажет Тот, Кто изобрел мои мученья.Никто никогда не благодарил Бога с такой горькою усмешкою:
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне Недолго я еще благодарил.Вл. Соловьев осудил Лермонтова за богоборчество. Но кто знает, не скажет ли Бог судьям Лермонтова, как друзьям Иова: «...горит гнев Мой за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов», – раб Мой Лермонтов.
В книге Бытия говорится о борьбе Иакова с Богом:
«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолевает его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, доколе не благословишь меня».
Вот что окончательно забыто в христианстве – святое богоборчество. Бог не говорит Иакову: «Смирись, гордый человек!» – а радуется буйной силе его, любит и благословляет за то, что не смирился он до конца, до того, что говорит Богу: «Не отпущу Тебя». Нашему христианскому смирению это кажется пределом кощунства. Но это святое кощунство, святое богоборчество положено в основу Первого Завета, так же как борение Сына до кровавого пота – в основу Второго Завета: «...тосковал и был в борении до кровавого пота», – сказано о Сыне Человеческом.
Я – это Ты, о Неведомый, Ты, в моем сердце обиженный.Тут какая-то страшная тайна, какой-то «секрет», как выражается черт Ивана Карамазова, – секрет, который нам «не хотят открыть, потому что тогда исчезнет необходимый минус, и наступит конец всему». Мы только знаем, что от богоборчества есть два пути, одинаково возможные – к богоотступничеству и к богосыновству.
Нет никакого сомнения в том, что Лермонтов идет от богоборчества, но куда – к богоотступничеству или к богосыновству – вот вопрос.
Вл. Соловьев не только не ответил, но и не понял, что тут вообще есть вопрос. А между тем ответом на него решается все в религиозных судьбах Лермонтова.
Как царь немой и гордый, он сиял Такой волшебно-сладкой красотою, Что было страшно, —говорит Лермонтов о своем Демоне.«Он не сатана, он просто черт, – говорит Ив. Карамазов о своем черте, – раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки».
Вся русская литература есть до некоторой степени борьба с демоническим соблазном, попытка раздеть лермонтовского Демона и отыскать у него «длинный, гладкий хвост, как у датской собаки». Никто, однако, не полюбопытствовал, действительно ли Демон есть дьявол, непримиримый враг Божий.
Хочу я с небом примириться, Хочу любить, хочу молиться, Хочу я веровать добру.Никто этому не поверил: но что это не ложь или, по крайней мере, не совсем ложь, видно из того, что Демон вообще лгать не умеет: он лишен этого главного свойства дьявола, «отца лжи», так же как и другого – смеха. Никогда не лжет, никогда не смеется. И в этой правдивой важности есть что-то детское, невинное. Кажется иногда, что у него, так же как у самого Лермонтова, «тяжелый взор странно согласуется с выражением почти детски нежных губ».Сам поэт знает, что Демон его не дьявол или, по крайней мере, не только дьявол:
То не был ада дух ужасный, Порочный мученик, о нет! Он был похож на вечер ясный, Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.Почти то же говорит Лермонтов о себе самом:
Я к состоянью этому привык; Но ясно б выразить его не мог Ни демонский, ни ангельский язык.Но если Демон не демон и не ангел, то кто же?
Не одно ли из тех двойственных существ, которые в борьбе дьявола с Богом не примкнули ни к той, ни к другой стороне? – не душа ли человеческая до рождения? – не душа ли самого Лермонтова в той прошлой вечности, которую он так ясно чувствовал?
Если так, то трагедия Демона есть исполинская проекция в вечности жизненной трагедии самого поэта и признание Демона:
Хочу я с небом примириться, —есть признание самого Лермонтова, первый намек на богосыновство в богоборчестве.«В конце концов я помирюсь», – говорит черт Ивану Карамазову.
Ориген[98] утверждал, что в конце концов дьявол примирится с Богом. Христианством отвергнуто Оригеново учение, действительно выходящее за пределы христианства. Тут какое-то новое, пока еще едва мерцающее откровение, которое соединяет прошлую вечность с будущей: в прошлой – завязалась, в будущей – разрешится трагедия зла.
Но кто же примирит Бога с дьяволом? На этот вопрос и отвечает лермонтовский Демон: любовь как влюбленность, Вечная Женственность:
Меня добру и небесам Ты возвратить могла бы словом. Твоей любви святым покровом Одетый, я предстал бы там, Как новый ангел в блеске новом.И этот ответ – не отвлеченная метафизика, а реальное, личное переживание самого Лермонтова: он это не выдумал, а выстрадал.
VIII
«Кто мне поверит, что я знал любовь, имея 10 лет от роду? К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет... Один раз я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя и ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так... Надо мной смеялись и дразнили... Я плакал... потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату; я не хотел говорить о ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда. И поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или подумают, что брежу, не поверят в ее существование – это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз... И так рано, в 10 лет. О, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!..»
Десятилетний мальчик Лермонтов мог бы сказать своей девятилетней возлюбленной, как Демон Тамаре:
В душе моей с начала мира Твой образ был напечатлен.Это – воспоминание о том, что было до рождения, видение прошлой вечности —
Тех дней, когда в жилище света Блистал он, чистый херувим...Всю жизнь преследует его это видение —
С глазами, полными лазурного огня, С улыбкой розовой, как молодого дня За рощей первое сиянье.«1830. Мне 15 лет. Я однажды, три года назад, украл у одной девушки, которой было 17 лет и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий шнурок. Он и теперь у меня хранится. Как я был глуп!»
Наконец, в последний раз мечта воплотилась или только забрезжила сквозь плоть.
«Будучи студентом, – рассказывает очевидец, – Лермонтов был страстно влюблен в Варвару Александровну Лопухину. Как сейчас помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку: ей было 15 – 16 лет, мы же были дети и сильно дразнили ее: у нее над бровью чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: „У Вареньки родинка, Варенька уродинка!“ Но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей».
Родные выдали Вареньку за богатого и ничтожного человека, Бахметева. Может быть, она любила мужа, была верною женою, доброй матерью, но никогда не могла забыть Лермонтова и втайне страдала, так же как он, хотя, по всей вероятности, не сознавала ясно, отчего страдает.
Они любили друг друга так долго и нежно... Но как враги избегали признанья и встречи, И были пусты и хладны их краткие речи.Он пишет ей через много лет разлуки:
Душою мы друг другу чужды, Да вряд ли есть родство души.И вот сквозь тысячи измен, сквозь неимоверную пошлость, «свинство», хулиганство с женщинами – он верен ей одной, любит ее одну:
И я твержу один, один, Люблю, люблю одну...Говорит ей просто:
...вас Забыть мне было невозможно. И к этой мысли я привык; Мой крест несу я без роптанья.Любовь – «крест», великий и смиренный подвиг. Тут конец бунта, начало смиренья, хотя, может быть, и не того, которого требует Вл. Соловьев.
«От нее осталось мне только одно имя, которое в минуты тоски привык я произносить, как молитву».
Не кончив молитвы, На звук тот отвечу; И брошусь из битвы Ему я навстречу.Святая любовь, но святая не христианскою святостью; во всяком случае, не бесплотная и бескровная любовь «бедного рыцаря» к Прекрасной Даме – Lumen Coeli, Sancta Rosa.
Там, в христианской святости, – движение от земли к небу, отсюда туда; здесь, у Лермонтова, – от неба к земле, оттуда сюда.
...небо не сравняю Я с этою землей, где жизнь влачу мою: Пускай на ней блаженства я не знаю, — По крайней мере, я люблю.«Я страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм». Видение бедного рыцаря – тоже «фантастическое», тоже «неопределенное уравнение». Но вот пляска Тамары – тут все определено, «все очерчено – тут формула, тут геометрия». И вот еще родимое пятнышко над бровью Вареньки. «Душою мы друг другу чужды» – но родинка роднее души.
Чудесные рассказываю тайны...«А Варвара Александровна будет зевать за пяльцами и, наконец, уснет от моего рассказа», – пишет Лермонтов.
Зевающая Беатриче немыслима. А вот зевающая Варенька – ничего, и даже лучше, что она так просто зевает. Чем более она простая, земная, реальная, тем более страсть его становится нездешнею.
Люблю тебя нездешней страстью, Как полюбить не можешь ты, — Всем упоением, всею властью Бессмертной мысли и мечты.Для христианства «нездешнее» значит «бесстрастное», «бесплотное»; для Лермонтова наоборот: самое нездешнее – самое страстное; огненный предел земной страсти, огненный источник плоти и крови – не здесь, а там.
Я перенес земные страсти Туда с собой.И любовь его – оттуда сюда. Не жертвенный огонь, а молния.
Посылая Вареньке список «Демона», Лермонтов в посвящении поэмы с негодованием несколько раз перечеркнул букву Б. – Бахметевой и поставил Л. – Лопухиной. С негодованием зачеркнул христианский брак: лучше бы она вышла на улицу и продала себя первому встречному, чем это прелюбодеяние, прикрытое христианским таинством.
Но почему же Лермонтов не женился на Вареньке?
Моя воля надеждам противна моим: Я люблю и страшусь быть взаимно любим.«Как бы страстно я ни любил женщину, – говорит Печорин, – если она даст мне только почувствовать, что я должен на ней жениться, – прости любовь! Мое сердце превращается в камень... Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь мою, даже честь поставлю на карту, но свободы моей не продам. Это какой-то врожденный страх – необъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей».
В этом омерзении к христианскому браку, разумеется, преувеличение – та мстительная злоба, с которою перечеркнул он букву «Б» в посвящении «Демона». Но тут есть и более глубокое, метафизическое отвращение, отталкивание одного порядка от другого: ведь предельная святость христианская вовсе не брак, а безбрачие, бесстрастие; предельная святость у Лермонтова – «нездешняя страсть» и, может быть, какой-то иной, нездешний брак. Вот почему любовь его в христианский брак не вмещается, как четвертое измерение в третье. Христианский брак – эту сомнительную сделку с недостижимою святостью безбрачия – можно сравнить с Евклидовой геометрией трех измерений, а любовь Лермонтова с геометрией Лобачевского, «геометрией четвертого измерения».
Превращение Вареньки в законную супругу Лермонтова все равно что превращение Тамары в «семипудовую купчиху», о которой может мечтать не Демон, а только черт с «хвостом датской собаки».
Тамару от Демона отделяет стена монастырская, в сущности та же стена христианства, которая отделила Вареньку от Лермонтова. Когда после смерти Тамары Демон требует ее души у Ангела, тот отвечает:
Она страдала и любила, И рай открылся для любви.Но если рай открылся для нее, то почему же и не для Демона? Он ведь так же любил, так же страдал. Вся разница в том, что Демон останется верен, а Тамара изменит любви своей. В метафизике ангельской явный подлог: не любовь, а измена любви, ложь любви награждается христианским раем.
Этой-то измены и не хочет Лермонтов и потому не принимает христианского рая.
Я видел прелесть бестелесных И тосковал, Что образ твой в чертах небесных Не узнавал.Не узнавал маленького родимого пятнышка над бровью Вареньки.
Христианской «бестелесности», бесплотности не принимает потому, что предчувствует какую-то высшую святыню плоти.
«Я, может быть, скоро умру, и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни – я думаю только о тебе», – пишет Вера – Варенька Печорину – Лермонтову. И он отвечает ей из того мира в этот, оттуда сюда:
Любви безумного томленья, Жилец могил, В стране покоя и забвенья, Я не забыл.Есть ужас, который для него ужаснее христианского ада:
Смерть пришла, наступило за гробом свиданье, Но в мире новом друг друга они не узнали.Вот чего он не может простить христианству.
Покоя, мира и забвенья Не надо мне!Не надо будущей вечности без прошлой, правды небесной без правды земной.
Что мне сиянье Божьей власти И рай святой! Я перенес земные страсти Туда с собой.Смутно, но неотразимо чувствует он, что в его непокорности, бунте против Бога есть какой-то божественный смысл.
Когда б в покорности незнанья Нас жить Создатель осудил, Неисполнимые желанья Он в нашу душу б не вложил. Он не позволил бы стремиться К тому, что не должно свершиться.Должно свершиться соединение правды небесной с правдой земной, и, может быть, в этом соединении окажется, что есть другой, настоящий рай:
На небе иль в другой пустыне Такое место, где любовь Предстанет нам, как ангел нежный, И где тоски ее мятежной Душа узнать не может вновь.Недаром же и в самом христианстве некогда был не только небесный идеализм, но и земной реализм, не только умерщвление, но и воскресение плоти.
Ежели плоть Христа воскресшего – иная, «прославленная», и вместе с тем точно такая же, как при жизни, – даже до крестных язв, по которым узнали Его ученики, – то, может быть, и Варенька воскреснет иною, более прекрасною, и вместе с тем точно такою же, даже до маленького родимого пятнышка над бровью, по которому ее узнает Лермонтов. Может быть, и там, как здесь, какие-то веселые дети будут играть с нею и петь: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка!» И со «звуками небес» сольются эти не «скучные песни земли». И, может быть, Лермонтов примет этот настоящий рай. А если примет, то конец бунту в любви, конец богоборчеству в богосыновстве.
Но для того чтобы этого достигнуть, надо принять, исполнить до конца и преодолеть христианство. Трагедия Лермонтова в том, что он христианства преодолеть не мог, потому что не принял и не исполнил его до конца.
Он борется с христианством не только в любви к женщине, но и в любви к природе, и в этой последней борьбе трагедия личная расширяется до вселенской, из глубины сердечной восходит до звездных глубин.
IX
«Когда я его видел в Сулаке, – рассказывает один из кавказских товарищей Лермонтова, – он был мне противен необычайною своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука. Гарцевал на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. Собрал какую-то шайку грязных головорезов. Совершенно входя в их образ жизни, спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все трудности похода».
«Я находился в беспрерывном странствии, – пишет Лермонтов Раевскому. – Одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское... Для меня горный воздух – бальзам: хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит, ничего не надо в эту минуту».
Опрощением Лермонтова предсказано опрощение Л. Толстого, солдатскою рубахою Лермонтова – мужичий полушубок Л. Толстого; на Кавказе Лермонтов кончил, Л. Толстой начал.
Как из лермонтовского демонизма, богоборчества вышел Достоевский – христианский бунт Ив. Карамазова, так из лермонтовской природы вышел Л. Толстой – языческое смирение дяди Ерошки. Можно бы проследить глубокое, хотя скрытое, влияние Лермонтова на Л. Толстого в гораздо большей степени, чем Пушкина.
«Валерик» – первое во всемирной литературе явление того особенного русского взгляда на войну, который так бесконечно углубил Л. Толстой. Из этого горчичного зерна выросло исполинское дерево «Войны и мира».
Я думал: жалкий человек! Чего он хочет? Небо ясно, Под небом места много всем; Но беспрестанно и напрасно Один враждует он. Зачем?Противоположение культурного и естественного состояния как «войны и мира» – вот метафизическая ось, на которой вращается вся звездная система толстовского творчества. «Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, – говорит Лермонтов, – мы невольно становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и, верно, будет когда-нибудь опять».
Была и будет. Была в прошлой – будет в будущей вечности.
...верь мне: помощи людской Я не желал, я был чужой Для них навек, как зверь степной.Дядя Ерошка мог бы повторить это признание Мцыри.
Мцыри значит монастырский послушник. Та же стена монастырская, стена христианства отделяет его от природы, как Лермонтова от Вареньки, Демона от Тамары.
И вспомнил я ваш темный храм И вдоль по треснувшим стенам Изображения святых... ...как взоры их Следили медленно за мной С угрозой мрачной и немой...Христианская святость – неземная угроза, неземная ненависть; а у Мцыри неземная любовь к земле. Вот почему не принимает и он, как Демон, как сам Лермонтов, христианского рая:
...за несколько минут Между крутых и диких скал, Где я в ребячестве играл, Я б рай и вечность променял.И здесь, в любви к природе, как там, в любви к женщине, то же кощунство, за которым, может быть, начало какой-то новой святыни.
И с этой мыслью я засну И никого не прокляну.Неземная любовь к земле – особенность Лермонтова, едва ли не единственная во всемирной поэзии.
Если умершие продолжают любить землю, то они, должно быть, любят ее именно с таким чувством невозвратимой утраты, как он. Это – обратная христианской земной тоске по небесной родине – небесная тоска по родине земной.
Кажется иногда, что и он, подобно своему шотландскому предку колдуну Лермонту, «похищен был в царство фей» и побывал у родников созданья.
«Где был ты, когда Я полагал основания земли?» На этот вопрос никто из людей с таким правом, как Лермонтов, не мог бы ответить Богу: я был с Тобою.
Вот почему природа у него кажется первозданною, только что вышедшею из рук Творца, пустынною, как рай до Адама.
И все природы голоса Сливались тут; не раздался В торжественный хваленья час Лишь человека гордый глас.Никто так не чувствует, как Лермонтов, человеческого отпадения от божеского единства природы:
Тем я несчастлив, добрые люди, Что звезды и небо – звезды и небо, А я – человек...Никто так не завидует холоду вольных стихий:
Вечно холодные, вечно свободные, Нет у вас родины, нет вам изгнания.Он больше чем любит, он влюблен в природу, как десятилетний мальчик в девятилетнюю девочку «с глазами, полными лазурного огня». «Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде голубого неба».
Для того чтобы почувствовать чужое тело как продолжение своего, надо быть влюбленным. Лермонтов чувствует природу, как тело возлюбленной.
Ему больно за камни:
И железная лопата В каменную грудь, Добывая медь и злато, Врежет страшный путь.Больно за растения:
Изрублены были тела их потом, И медленно жгли их до утра огнем.Больно за воду – Морскую Царевну:
Очи одела смертельная мгла... Бледные руки хватают песок, Шепчут уста непонятный упрек, —упрек всех невинных стихий человеку, своему убийце и осквернителю.Последняя тайна природы – тайна влюбленности.
Влюбленный утес-великан плачет о тучке золотой. Одинокая сосна грустит о прекрасной пальме. И разделенные потоком скалы хотят обнять друг друга:
Но дни бегут, бегут года, Им не сойтися никогда.И волны речные – русалки поют:
Расчесывать кольца шелковых кудрей Мы любим во мраке ночей, И в чело, и в уста мы красавца не раз Целовали в полуденный час.И желание смерти – желание любви:
Чтоб весь день, всю ночь, мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел.В предсмертном бреду Мцыри песня маленькой рыбки-русалочки:
О милый мой! не утаю, Что я тебя люблю, Люблю! как вольную струю, Люблю, как жизнь мою, —эта песня возлюбленной напоминает песню матери: «...когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал. Ее певала мне покойная мать».Вечное Материнство и Вечная Женственность, то, что было до рождения, и то, что будет после смерти, сливаются в одно.
«В Столярном переулке у Кукушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер 27...
Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями; дома казались грязны и темны; лица прохожих были зелены; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет... Вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс: Лугин слушал, слушал, ему стало ужасно грустно».
Это начало неоконченной повести Лермонтова – тоже предсмертного бреда, есть начало всего Достоевского с его Петербургом, «самым фантастическим и будничным из всех городов». Тут все знакомое: и мокрый, как будто «теплый» снег, и «шарманка, играющая немецкий вальс», от которого и Раскольникову, как Лугину, станет «ужасно грустно», и полусумасшедший герой из «подполья», и, наконец, это привидение, «самое обыкновенное привидение», как выражается Свидригайлов.
«Показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок.
– Не угодно ли, я вам промечу штосс?»
Кто этот старичок? Он вышел из поясного портрета, изображающего человека лет сорока, у которого «в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно».
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет... Я к состоянью этому привык, Хоть ясно б выразить его не мог Ни демонский, ни ангельский язык.Да уж полно, не старый ли это наш знакомый? Не тот ли, который некогда «сиял такой волшебно-сладкой красотою»? Не демон ли?
Но если это он, то как постарел, одряхлел он, съежился, сморщился, сделался пустым, прозрачным и призрачным, словно старая кожа змеи, из которой она выползла. Оказался самым обыкновенным чертом с «хвостом датской собаки».
Любил и я в былые годы В невинности души моей И бури шумные природы, И бури тайные страстей. Но красоты их безобразной Я скоро таинство постиг, И мне наскучил их несвязный И оглушающий язык.Наскучил «демонизм». Печорин-Демон все время зевает от скуки. «Печорин принадлежал к толпе», – говорит Лермонтов: к толпе, то есть к пошлости. «Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения... Болезнь указана», – заключает Лермонтов. «Я иногда себя презираю», – признается сам Печорин. «Жальче его никто никогда не был», – замечает Максим Максимыч.
В Демоне был еще остаток дьявола. Его-то Лермонтов и преодолевает, от него-то и освобождается, как змея от старой кожи. А Вл. Соловьев эту пустую кожу принял за змею.
Так вот кто старичок-привидение: воплощение древнего хаоса в серенькой петербургской слякоти, воплощение природы, как бездушной механики, бездушной материи, у которой в плену душа вселенной, Вечная Женственность. Для того чтобы освободить ее из плена, человек собственную душу свою ставит на карту.
« – У меня в банке вот это, – говорит старичок.
– Это? Что это?
Лугин обернул голову... минутного взгляда было бы довольно, чтобы проиграть душу. То было чудное и божественное видение».
Видение Вечной Женственности.
«С этой минуты Лугин решился играть, пока не выиграет; эта цель сделалась целью его жизни... Она – не знаю, как назвать ее, – она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика, и всякий раз, когда карта Лугина была бита, она с грустным взором оборачивала к нему глаза». Как та девятилетняя девочка – «с глазами, полными лазурного огня».
«Глаза говорили: подожди, я буду твоею – я тебя люблю».
«То было одно из тех божественных созданий молодой души, когда она, в избытке сил, творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована», – заключает Лермонтов.
Знайте же, Вечная Женственность ныне В теле нетленном на землю идет... Все, чем красна Афродита мирская, Радость домов, и лесов, и морей, — Все совместит красота неземная. Чище, сильней, и живей, и полней, —говорит Вл. Соловьев. «Новая природа – полнее той, к которой душа прикована», – говорит Лермонтов.Тут вечные враги – Каин и Авель русской литературы – неожиданно встретились и обменялись, как братья-близнецы.
Но недаром близнецы враждуют. У Вл. Соловьева Вечная Женственность хотя и «сходит на землю», но сомнительно, чтобы дошла до земли: она все еще слишком неземная, потому что слишком христианская; у Лермонтова она столь же земная, как и небесная, может быть, даже более земная, чем небесная; она и Варенька с родимым пятнышком, и девочка, играющая в куклы, и покойная мать, напевающая колыбельную песню, и «мать сыра земля», та самая, на которую Мцыри, беглец из христианства, упал
И в исступленьи зарыдал... И слезы, слезы потекли В нее горючею росой.«Мать сыра земля» – «земля Божья» – Матерь Божия.
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою Пред твоим образом, ярким сиянием, Не о спасении, не перед битвою, Не с благодарностью иль покаянием, Не за свою молю душу пустынную, За душу странника в мире безродного, Но поручить хочу душу невинную Теплой Заступнице мира холодного.В записной книжке Лермонтова найдены выписки из Посланий Апостольских. Тут же заметка кн. А. Одоевского: «...эти выписки имели отношение к религиозным спорам между мною и Лермонтовым».
Замечательно, что во всей его поэзии, которая есть не что иное, как вечный спор с христианством, нет вовсе имени Христа.
От матери он принял «образок святой»:
Дам тебе я на дорогу Образок святой.Но этот образок – не Сына, а Матери. К Матери пришел он помимо Сына. Непокорный Сыну, покорился Матери.
И вот кажется, если суд «мира холодного», суд Вл. Соловьева над Лермонтовым исполнится, если отвергнет его Сын, то не отвергнет Мать.
Религия Вечной Женственности, Вечного Материнства уходит корнями своими в «мать сырую землю» – в стихию народную.
Что такое Матерь Божия в народном всемирном христианстве? Не предчувствие ли в нем того, что за ним?
Христианство отделило прошлую вечность Отца от будущей вечности Сына, правду земную от правды небесной. Не соединит ли их то, что за христианством, откровение Духа – Вечной Женственности, Вечного Материнства? Отца и Сына не примирит ли Мать?
Всего этого Лермонтов, конечно, не видел в себе, но мы это видим в нем. Тут не только приближается, подходит он к нам, но и входит в нас.
Это, впрочем, наше неизмеримо далекое будущее, а Лермонтов входит и в наше настоящее, в нашу сегодняшнюю злобу дня: ведь спор с христианством – наш сегодняшний неоконченный спор.
X
«Смирись, гордый человек!» Ну вот и смирились. Во внешней политике – до Цусимы, а во внутренней – до того, о чем и говорить непристойно, до Ната Пинкертона. Начать Пушкиным и кончить Натом Пинкертоном, – что бы сказал Достоевский о таком смирении?
Нельзя, конечно, обвинить ни Пушкина, ни Достоевского за то, что сейчас происходит в русской литературе и в русской действительности. Но должна же существовать какая-нибудь связь между последним полвеком нашей литературы и нашей действительности, между величием нашего созерцания и ничтожеством нашего действия. Кажется иногда, что русская литература истощила до конца русскую действительность: как исполинский единственный цветок Victoria Regia, русская действительность дала русскую литературу и ничего уже больше дать не может. Во сне мы были как боги, а наяву людьми еще не стали.
Однажды было спящий великан проснулся, рванулся к действию, но и действие оказалось продолжением сна – и снова рухнул великан на свой тысячелетний одр.
Что, если он уже больше никогда не проснется, если это последний смертный сон?
И баюкает его колыбельная песня всей русской литературы:
Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв, — Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв.Правда, в последнее время эти «сладкие звуки» перешли как-то незаметно в уныло-веселую песенку чеховского героя, в «тарара-бумбию». Но глубочайшая метафизическая сущность русской литературы, русской действительности и в этой песенке – все та же: созерцательная бездейственность, «беспорывность нашей природы», которую прославил в Пушкине сначала Гоголь, а затем Достоевский: «Смирись, гордый человек!»
Это пушкинское начало, кажется, именно сейчас достигло своего предела, победило окончательно и, победив, изнемогло. Пушкинское солнце закатилось в кровавую бурю. Когда же и буря прошла, наступила слякоть, серые петербургские сумерки —
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.И рыщет в этих сумерках единственный деятель среди всеобщего созерцания – Нат Пинкертон, вечный Провокатор, «самый обыкновенный черт с хвостом датской собаки».
Как лунатики, мы шли во сне и очнулись на краю бездны.
Что же привело нас к ней?
Созерцание без действия, молитва без подвига, великая литература без великой истории – это никакому народу не прощается – не простилось и нам.
На этой-то страшной мертвой точке, на которой мы сейчас находимся, не пора ли вспомнить, что в русской литературе, русской действительности, кроме услышанного призыва: смирись, гордый человек, – есть и другой, неуслышанный: восстань, униженный человек, – кроме последнего смирения есть и последний бунт, кроме Пушкина есть и Лермонтов?
Противоположение пушкинского, созерцательного, и лермонтовского, действенного, начала – не эмпирическое, а метафизическое. Никакого действия нет и у Лермонтова, так же как у Пушкина: вся разница в том, что один спасается, другой погибает в бездействии.
Пушкин кажется более народным, чем Лермонтов. Но если русскому народу религиозная стихия – родная, то Лермонтов не менее, а может быть, и более народен, чем Пушкин.
Дам тебе я на дорогу Образок святой, Ты его, моляся Богу, Ставь перед собой.Не от «благословенного» Пушкина, а от «проклятого» Лермонтова мы получили этот «образок святой» – завет матери, завет родины. От народа к нам идет Пушкин; от нас – к народу Лермонтов; пусть не дошел, он все-таки шел к нему. И если мы когда-нибудь дойдем до народа в предстоящем религиозном движении от небесного идеализма к земному реализму, от старого неба к новой земле – «Земле Божией», «Матери Божией», то не от Пушкина, а от Лермонтова начнется это будущее религиозное народничество.Скрытою борьбою с Лермонтовым была доныне вся русская литература; не предстоит ли нам борьба с Пушкиным?
С вечною истиной бороться нельзя. Пушкин – такая же вечная истина, как Лермонтов, или, вернее, одна из двух половин этой истины. Нельзя бороться с Пушкиным как с одним из двух, но можно как с единственным.
Вопрос не в том, как Пушкина победить Лермонтовым, – вопрос, от которого зависит наше спасение или погибель: как соединить себя с народом, наше созерцание с нашим действием, Пушкина с Лермонтовым?
1908—1909
Примечания
1
«Пиюша», повесть г. Ушакова, в «Библиотеке для чтения».
(обратно)2
Так как подробные выписки были бы длиннее самой статьи, которая и без того длинна, то я позволил себе делать пропуски и, для связи, некоторые перемены в словах.
(обратно)3
«Да умрет он!» (фр.). – Ред.
(обратно)4
«Я!» (фр.). – Ред.
(обратно)5
остроты (фр.). – Ред.
(обратно)6
параллель (фр.). – Ред.
(обратно)7
господин (лат.). – Ред.
(обратно)8
Впрочем, я не ставлю в слишком большую заслугу г. Гоголю этого «слышу» и не думаю, подобно некоторым, что если бы г. Гоголь и не изобрел ничего другого, кроме этого славного «слышу», то одним им мог бы заставить молчать злонамеренность критики; ибо, во-первых, злонамеренность критики нельзя обезоружить изящными созданиями, чему примером может служить этот же самый г. Гоголь, некоторыми благонамеренными критиками пожалованный в Поль де Коки; потом, это славное «слышу» не имело бы никакого смысла, без отношения к целой повести и без связи с нею; и, наконец, теперь уже прошло то время, когда в пример высокого представляли: «Qu'il mourût!», «Moi!», «Ах, я Эдип», «Я росс» и т. п.; зачем же обогащать педантов новым примером высокого в выражении?
(обратно)9
«Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, – следствие чувства превосходства, быть может, мнимого» (фр.). – Ред.
(обратно)10
когда-то (фр.). – Ред.
(обратно)11
в русском стиле (фр.). – Ред.
(обратно)12
«Отечественные записки», 1840, т. VIII.
(обратно)13
так! (лат.). – Ред.
(обратно)14
навязчивой идее (фр.). – Ред.
(обратно)15
я! (фр.). – Ред.
(обратно)16
пусть он умрет! (фр.). – Ред.
(обратно)17
Мы не вдаемся в подробности, не упоминаем о произведениях, в которых есть достоинство и мелькают части или бледные оттенки эпического созерцания, но это только отрывки: само же эпическое созерцание с своей целостью, столь важным условием, ибо сама целость его есть вместе ручательство за него, было потеряно и унижено, – романы и повести имеют свое значение, свое место в истории искусства поэзии; но пределы нашей статьи не позволяют нам распространиться об этом предмете и объяснить их необходимое явление и вместе их смысл и степень их достоинства в области поэзии, при ее историческом развитии.
(обратно)18
Кто знает, впрочем, как раскроется содержание «Мертвых душ».
(обратно)19
Нам скажут, может быть, что есть повести, в которых нет почти содержания. Точно, такие есть: зато в них одни описания; это только показывает, что они, при отсутствии эпической силы, не имеют и анекдотического интереса.
(обратно)20
Такие тесные пределы не позволяют нам сказать о многом, развить многое и дать заранее полные объяснения на недоумения и вопросы, могущие возникнуть при чтении нашей статьи. Но надеемся, что они разрешатся сами собою.
(обратно)21
Меблированная комната (от фр. chambre garnie).
(обратно)22
Так проходит слава мира (лат.).
(обратно)23
Я не так глуп (фр.).
(обратно)24
Черт меня возьми (фр.).
(обратно)25
Святилище (лат.). – Ред.
(обратно)26
Они священны, ибо никто их не трогает (фр.). – Ред.
(обратно)27
«Собор Парижской богоматери» (фр.). – Ред.
(обратно)28
В скобках (фр.). – Ред.
(обратно)29
Праздность, ничегонеделанье (итал.). – Ред.
(обратно)30
«И царского величества здоровье сказано было от посланников Флоренскому князю Фердинандусу в городе Пизе. И князь у посланников принял государеву грамоту и поцеловал ее и начал плакать, а нам говорил чрез толмача по-италийски: «за что меня, холопа своего, ваш пресловутый во всех государствах и ордах великий князь Алексей Михайлович... поискал и любительную свою грамоту и поминки прислал. А он великий государь, что небо от земли отстоит, то и он великий государь» и т. д.
(обратно)31
Судьба (лат.). – Ред.
(обратно)32
Замечательно, что Марлинский, этот огромный талант допотопной формации, оканчивает свою повесть «Страшное гаданье» мыслию – что призрачный мир, если только он глубоко воспринят душой, оставляет в ней такой же след, как и мир действительный.
(обратно)33
«Куцым» назвал Пигасов Рудина (роман Тургенева «Рудин»).
(обратно)34
Худо ли, хорошо ли (фр.). – Ред.
(обратно)35
От века правда пребывала И лучших всех соединяла, Наполни правдой старой грудь! (обратно)36
Провинциальной сущности (нем.). – Ред.
(обратно)37
Господа (нем.).
(обратно)38
»Лучше свободно развивайтесь людьми – это в ваших возможностях!» (нем.).
(обратно)39
Букв.: доска спасения (фр.).
(обратно)40
Правильно: embryo – в зачаточном состоянии, в зародыше (англ.).
(обратно)41
Мезальянс, неравный брак (фр.).
(обратно)42
Не вмешивайтесь в чужие дела (фр.).
(обратно)43
Свидание (фр.). – Ред.
(обратно)44
Сэр (англ.). – Ред.
(обратно)45
Господин (фр.). – Ред.
(обратно)46
Провинциальность (нем.). – Ред.
(обратно)47
Плохо воспитанного и дурного тона (фр.). – Ред.
(обратно)48
Курсив Д. И. Писарева. – Ред.
(обратно)49
С птичьего полета (фр.). – Ред.
(обратно)50
И всякие прочие (итал.). – Ред.
(обратно)51
По произношению Павла Петровича.
(обратно)52
Фейербах.
(обратно)53
«Бродяга» (фр.). – Ред.
(обратно)54
По ту сторону добра и зла (нем.). – Ред.
(обратно)55
Иди, бродяга, бродяжничай! (фр.) – Ред.
(обратно)56
Рыданий (фр.). – Ред.
(обратно)57
В переводе М. Л. Михайлова:
Вот замерла – и меня обняла, Когти мне в тело вонзая. Сладкая мука! блаженная боль! Нега и скорбь без предела! Райским блаженством поит поцелуй, Когти терзают мне тело. (обратно)58
Люмпенпролетариат (нем.). – Ред.
(обратно)59
Когда Ларру спросили, зачем он убил девушку (см. выше), он отвечал: «она оттолкнула меня, а мне было нужно ее». «Но ведь она не твоя?» – сказали ему. – «Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет своего только речь, руки и ноги, а владеет он животными, женщинами, землей и многим еще». – Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой – своим умом и силой, своей свободой и жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым» (Горький, II, 297—298).
(обратно)60
Г-н Горький в одном месте раздумывается «о великом горящем сердце Данко (а почему бы и не о Зобаре и Ларре? – Н. М.) и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд, о старине, в которой были герои и подвиги, и о печальном времени, бедном сильными людьми и крупными событиями, богатом холодным недоверием, смеющимся надо всем, – жалким временем мизерных людей с мертворожденными сердцами» (II, 322).
(обратно)61
«О пользе и вреде истории для жизни» (нем.). – Ред.
(обратно)62
Без чести и совести (фр.). – Ред.
(обратно)63
Насквозь (нем.). – Ред.
(обратно)64
«От Дарвина к Ницше» (нем.). – Ред.
(обратно)65
Вопрос этот очень занимает европейскую литературу. Не говоря об известных и русским читателям сочинениях Тарда, Сигеле, Лебона, то и дело появляются на эту тему новые книги и журнальные статьи.
(обратно)66
В самое последнее время, кроме журнальных статей, появились Алоиз Риль и Г. Зиммель. «Фридрих Ницше» (очерк Риля появился и раньше, в другом издании); Герман Тюрк. «Философия эгоизма» (сокращенный и довольно произвольный перевод отрывка из книги «Der geniale Mensch»); «Граф Л. Н. Толстой и Фридрих Ницше. Очерк философско-нравственного их мировоззрения» проф. В. Г. Щеглова.
(обратно)67
В новом роде (фр.).
(обратно)68
С проседью (фр.).
(обратно)69
«В сочельник», – в книге рассказов и стихов, изд. Куркина, в Москве, с. 29 сл.
(обратно)70
С умом, с иронией (лат.).
(обратно)71
Пo-видимому, опечатка; м. б.: один. (Прим. сост.)
(обратно)72
Положение обязывает (фр.). – Ред.
(обратно)73
Видимость идеи (нем.). – Ред.
(обратно)74
Одиночество короля (англ.). – Ред.
(обратно)75
Максимум (лат.). – Ред.
(обратно)76
Минимум (лат.). – Ред.
(обратно)77
Следовательно (лат.). – Ред.
(обратно)78
Подождите, у меня хватит силы на выстрел! (фр.) – Ред.
(обратно)79
«Отжили!» (лат.) – этим словом Цицерон (106—43 гг. до н. э.) объявил, что с участниками заговора Катилины (63 г. до н. э.) покончено.
(обратно)80
Верю, потому что невероятно (лат.). Предполагаемый источник выражения – трактат одного из ранних деятелей христианской церкви Тертуллиана (ок. 155—220).
(обратно)81
Василий Великий (Кесарийский) (ок. 330—379) – теолог, философ-платоник, один из трех «вселенских учителей» восточной церкви. Был архиепископом Кесарии (М. Азия). Григорий Назианзин (Богослов) (ок. 330 – ок. 390) – греческий поэт и мыслитель, сподвижник Василия Великого; был епископом Назианза (М. Азия).
(обратно)82
Лермонтов М. Ю. «Умирающий гладиатор», 1836.
(обратно)83
Портсмутский мирный договор, положивший конец русско-японской войне 1904—1905 гг.
(обратно)84
Одна из политических встреч, предваривших подписание Бьёркского договора между Россией и Германией в июле 1905 г.
(обратно)85
Политика – занятие для черни (фр.).
(обратно)86
Парафраз «Карманьолы», французской революционной народной песни-пляски.
(обратно)87
Книга немецкого врача и философа, вульгарного материалиста Л. Бюхнера (1824—1899) «Материя и сила».
(обратно)88
Гармодий и Аристогитон – греческие юноши из рода Гефиреев, убийцы афинского тирана Гиппарха (514 г. до н. э.).
(обратно)89
Сен-Жюст Луи (1767—1794) – видный деятель Великой французской революции, сторонник М. Робеспьера. Казнен после контрреволюционного переворота 9 Термидора. Демулен Камиль (1760—1794) – журналист, деятель Великой французской революции, единомышленник Ж. Дантона, вместе с ним казнен.
(обратно)90
Некрасов Н. А. «Рыцарь на час», 1860—1862.
(обратно)91
Крижанич Юрий (ок. 1618—1683), по нац. хорват, сторонник идеи «славянского единства», главную роль в осуществлении которого отводил русскому государству. Жил в России с 1659 по 1676 год.
(обратно)92
Тютчев Ф. И. «Эти бедные селенья...», 1855.
(обратно)93
Некрасов Н. А. «Саша», 1854—1855.
(обратно)94
Овсяный суп (нем.).
(обратно)95
Вздернутым носом (фр.).
(обратно)96
Но ведь он просто бешеный! (фр.)
(обратно)97
Гиппиус З. Н. «Молитва», 1897.
(обратно)98
Ориген (ок. 185—253/254) – христианский теолог, философ, жил в Александрии. Соединяя платонизм с христианским учением, отклонялся от ортодоксального церковного предания, за что уже после смерти, в 543 г. был осужден как еретик.
(обратно)
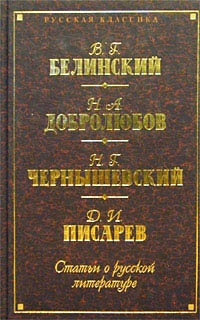


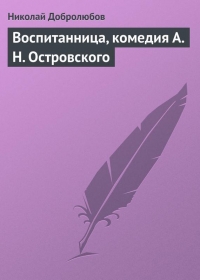


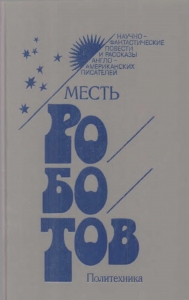
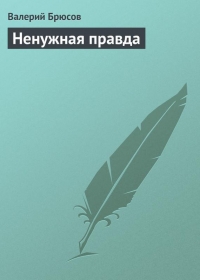

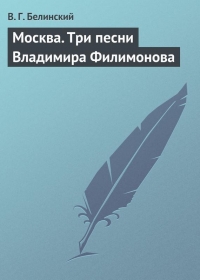
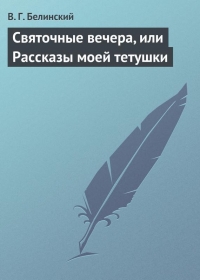
Комментарии к книге «Статьи о русской литературе», Николай Александрович Добролюбов
Всего 0 комментариев