I
Когда, год тому назад, умер Крамской, газеты наши поспешили потолковать о нем с публикой. Кто мог, рассказывал в печати жизнь Крамского, кто не мог — рассказывал хоть его смерть, обогащая свое повествование приличными сожалениями и надеждою на скорую выставку всех картин Крамского, по поводу которой «мы подробно поговорим об авторе». Прошло девять месяцев, открылась выставка, да к тому же времени появилась в печати и целая масса извлечений из обширной переписки Крамского (приготовляемой тогда к выпуску в свет особым томом). Казалось, всяческого материала было довольно для того, чтобы «подробно поговорить», как обещано было. Но осуществление вышло совершенно мизерное. Почти никто не сдержал своего слова, а кто и сдержал, то единственно только для того, чтобы напасть на Крамского и доказывать великую его несостоятельность и как художника, и как мыслителя. Безгранично чтимый, высокопрославляемый так еще недавно, Крамской вдруг потерял бог знает сколько процентов. И именно когда же? Тогда, когда были налицо все материалы для того, чтобы ему просиять в самом настоящем своем блеске. Наши художественные критики взапуски старались теперь отречься от прежних высоких мнений о Крамском, старались поскорее доказать его малозначительность для нашего искусства. Большинство этих знатоков фельетонных провозглашало, что портреты Крамского хотя и «отличаются сходством, верно схваченным выражением», но что многие между ними «блещут отсутствием, так сказать, выразительности изображения…»; что Крамской «отвоевал себе имя талантливейшего портретиста» и на выставке есть chefs d'oeuvre'ы его кисти, но в некоторых «мало жизненности и отсутствие рельефности». Одним словом, наши художественные писатели опять отличались тою жалкою «художественно-техническою» фразеологией, над которою всегда так насмехался Крамской, читая вещания нашей художественной критики.
Странное ли дело все эти зловещие «но», которые теперь вдруг появились в оценках Крамского. Еще так недавно все у него было для публики и критики так высоко и превосходно. И вдруг такое превращение!
Но еще гораздо удивительнее было то, что теперь стали нападать не только на произведения Крамского, но и на самую сущность того дела, которому была посвящена вся его жизнь.
Хорошенько надумавшись, наши критики вдруг заявили, что и вообще-то писание портретов — дело не особенно важное и что тут еще не заключается настоящего искусства. Писали, что «многие отличные портреты Крамского невольно заставляют пожалеть, что такая крупная артистическая сила растрачена на произведения, наименее благодарные для художника». Один писал: «Глубина воззрений Крамского на искусство заставила его перейти от портретов к жанру». Другой писал: «Избрав портрет своим главным занятием, Крамской, без сомнения, заключил свое дарование в неблагодарную и узкую область искусства, сосредоточился на деятельности, наименее способной влиять заметным образом на поступательное движение живописи». Третий писал: «Какое грустное, мизерное впечатление производит эта бесспорно талантливая, богатая сила (Крамской) в целокупности всей своей художественной производительности за двадцать пять с лишком лет! Идут десятки, сотни полотен, мастерских по силе и сочности кисти, по технике письма, и — нет ни одной почти Картины! Поразительная скудость фантазии, идеи и творчества, без которых искусство, что птица без крыльев, что цветы без красок и аромата! Талант, может быть, и могучий, но обратившийся в подчиненную роль „исполнителя заказов“, разменявшийся на „модного портретиста“, угодника вкусов и прихотей суетной толпы — что может быть плачевнее?..» Наконец, резюмируя свои высокие соображения, иные критики наши кончали свои мысли о выставке Крамского так: «Какие же были у Крамского поиски за идеалами, за красотой и типичностью образов, когда силы уходили на вынужденное, „по заказам“, воспроизведение и увековечение ординарных, пошлых физиономий каких-то „господина NN“ и „госпожи XX“, их дорогих мехов, парюров, кружев, бархата и шелка!»
Вот какие обвинения раздались теперь над Крамским… Не изумительно ли все это? Крамской стал виноват в том, что портреты ему заказывали, а не он сам ходил и писал кого хотел. Да это разве возможно для художника, не свободного как птица небесная, но живущего своим трудом и потому нуждающегося в заказах? Почему Крамской, принимавший заказ на портрет, стал вдруг более преступен, чем вся Европа, чем все тысячи ее живописцев, в течение трехсот-четырехсот лет принимавших заказы, да еще не на портреты, а на образа для церквей, на картины для роскошных зал и музеев, с разверстыми небесами или выдуманными пейзажами, с ангелами и святыми, с баталиями, апофеозами, прославлениями, со всяческими мещанскими и аристократическими событиями? Неужели заказ заказу рознь? Либо долой все заказы, и художник делай только то, что ему самому угодно и приятно, либо все заказы равны как товарищи, и из-за одного нельзя корить больше, чем из-за другого. Необходимость подчиняться чужому вкусу и прихоти — да разве она сидит злым кошмаром только у одного портретиста на шее? Разве она не тиранила всегда точь-в-точь столько же каждого художника, когда он должен был расписывать картины на полотне или стенах в десять сажен шириной, с сотнями фигур и с самыми глубокомысленнейшими в мире сюжетами? Невинные «нападатели», не нуждающиеся ни в каких сведениях из действительной жизни, того и знать не желают, что для большинства художников — а именно для всех необеспеченных — писание картины по своему выбору — редкий праздник. Читайте биографии художников, читайте письма их, и вы узнаете, один ли Крамской должен быть в ответе за то, что писал по чужим заказам.
И потом, отчего такое презрение к «каким-то» господам NN-ам и ХХ-ам? Неужели художник должен писать портреты только с тех, кто чудо ума, красоты, душевной силы? Нет, действительность и история дают совсем другой ответ. Подите, просмотрите музеи и галереи всего света, вы там увидите тысячи портретов, конечно, то хороших, то дурных, то талантливых, то бездарных, но в большинстве, случаев все представляющих «каких-то» NN и XX, потому что задача портрета — не красоты и идеальности отыскивать, а представлять существующее, жизнь и природу, каковы они ни есть, со всей их правдой и глубиной. Чем же итальянские, голландские, французские и немецкие NN и XX больше стоили быть написанными, чем наши, и отчего тамошние живописцы смели не бояться «ординарных и пошлых физиономий», а наши живописцы должны не сметь и обязаны бояться?
И, что всего главнее, это, что на Крамского клевещут. Когда же он слушался капризов своих заказчиков, когда он был угодником вкусов и прихотей суетной толпы? На него возводят нелепую напраслину. Никто не был непреклоннее его, никто упорнее его не стоял за свою мысль, намерение, взгляд в деле художественного своего произведения. Это можно проследить сквозь всю его жизнь. Если б какой-то заказчик вдруг вздумал им командовать и помыкать, он посмотрел бы на него с гордостью и не шевельнул бы для него кистью. Самостоятельнее трудно было бы найти человека и художника.
Вдобавок же ко всему, посмотрите, какое карикатурное понятие, что портрет — низменный и подчиненный род живописи, такой, где не присутствует ни творчества, ни вдохновения! Надо какое-то особенное, несокрушимое идолопоклонство перед «картиной», какая бы она ни была, только была бы вообще «картина», для того, чтобы исповедывать такой изумительный образ мыслей. Хороший, настоящий художник не иначе пишет портрет, как вкладывая туда все, что только может, своего вдохновения и творческой силы, ума, наблюдательности, жара, огня. Кто способен приступать к художественным произведениям без традиционных приемов мысли, без всего принятого из цеховой школы и учебников, невольно говорит себе, проходя по музейным залам, что огромное большинство этих бесчисленных холстов, развешанных перед ним, — слишком мало стоят вне виртуозности и большего или меньшего мастерства исполнения. Когда смотреть на эти картины в самой сущности их, почти всегда все в них условно и выдумано, все тут идеальная фальшь и притворство, художественная риторика и «общее место». Даже такие гениальные художники, как Рембрандт и Веласкес, самые высокие из высоких, велики для мира и бесценны для человечества не своими «картинами», не тем, какой в них сюжет и сцена, а тем, как они изобразили тут живого человека, живую существующую природу, с его внешним и внутренним обликом, с его телом и душой, с его характером, настроением, понятием. Во всех этих высоких холстах нам важен только портрет и этюд с натуры. «Картины» вовсе нет. То что мы имеем тут под названием «картин» — вовсе не может считаться действительными картинами. Во множестве из числа их нет того творчества, которое взяло бы сюжет, и в самом деле воплотило бы его, его сцену, момент, событие, действие. Их картины из библии, историк, мифологии способны казаться нынче только странными, условными. Тем более мы встречаемся с этим же самым фактом у Рубенса, ван Дейка и еще бесчисленного множества других талантливых живописцев Италии, Германии и других стран. Их портреты гораздо важнее их «картин». Большинство этих картин, с их праздными выдумками, с их сценами и личностями, ничего не имеющими общего с тем, что должны бы в самом деле представлять, с их исторической или жизненной небывальщиной, с их тощими и сухими аллегориями, с их школьными греками и римлянами, с их академическими святыми и ангелами, списанными с натурщика, с их Ангелинами и Медорами, с их лжесатирами и вакханками, с их бумажными сражениями и кукольными видениями — все это выдумка и клевета на историю, на жизнь, на все то, что в самом деле было. Многие из самых знаменитых «картин» надо извинять из-за виртуозности их исполнения, иногда из-за лирического личного чувства самого художника (впрочем, не всегда не сходящегося с требованием исторического сюжета), из-за внешней красивости или эффектности. Надо ссылаться на «время», на «эпоху», на «необразованность» или «неразвитость» художника, надо сквозь пальцы смотреть на множество смешных непростительных или оскорбительных подробностей. Конечно, в продолжение нескольких сот лет существования живопись выражала иногда и истинную жизнь, но до сих пор выразила ее, сравнительно говоря, слишком мало, потому что слишком много думала об «исполнении» и слишком мало о «содержании». Сама «картина» всего менее интересовала и художника, и его публику. Живопись на тысячу верст отстала от литературы и поэзии. Там уже сотни лет существуют такие создания, где соединяется истина содержания с высокой талантливостью выполнения. В живописи лишь с недавнего, сравнительно, времени возникло понятие о том, чем должна быть картина, какая истинная правда, без выдумок и «отсебятины», должна присутствовать в ней; лишь с недавнего времени живопись начинает стремиться к такой задаче. Это я постараюсь подробно изложить в особом труде. В настоящую минуту я касаюсь этого вопроса лишь вскользь. Напротив, портреты с натуры, этюды с живых лиц — это самая важная и самая значительная, для всех будущих времен, доля того, что сделано до сих пор искусством. Не говоря о высоких талантах, даже посредственные живописцы становились всегда интересны, когда вместо нелепостей и глупостей, с большим серьезном водружаемых на холсте, они принимались за портреты и, помимо всяких «сцен», представляли тех и то, что перед ними существовало. Художественная критика только теперь начинает это понимать и оценять по достоинству те жалкие маскарады и переряживания, которые под именем «картин» наполняют все музеи.
Крамской принадлежит к числу художников, мало способных к сочинению и писанию «картин» (и слава богу!), но зато он отличный и правдивый портретист, и потому сделанное им хорошо и никогда не будет малозначительно, никогда не будет низменно. Картины Крамского, при многих крупных достоинствах своих, никогда не могут равняться с его портретами. Серьезность направления, ум, выразительность, до известной степени типичность изображаемых личностей, группировка, а главное все то, что дается умом, мыслью, соображением — все это представляет много замечательного и ставящего картины Крамского на высоту чего-то очень значительного в нашей школе. Но чувствителен тут же и недостаток той творческой силы, которая, если наполняет художника, то сообщается и зрителю. Поэтому-то именно создавание картин являлось в продолжение всей жизни Крамского чем-то вроде тяжких потуг. Он всегда это сам чувствовал. В портретах Крамского — совсем другое. Он способен был глубоко вникать в человеческую натуру, он долго и пристально изучал человеческую голову, выражение характеров, лиц, он обладал значительным талантом художественного исполнения, который он еще развил прилежным самовоспитанием — и оттого-то, среди громадной массы написанных им портретов, лучшие, удачнейшие образуют несравненное собрание словно живых людей. Это галерея современников Крамского, выраженных со всею особенностью их натуры, характера типа. Тут и злые, тут и ничтожные люди, тут и высокие таланты, тут и дикие звери, тут и кроткие добряки, тут и глубокие умы, тут и пустые болтуны, тут и тупые вертопрахи — целая их масса тут очутилась и осталась правдиво вылепленною на веки веков. Это галерея, которою может гордиться наше искусство.
Какая близорукость — не видеть и не понимать этого! Какая темнота в голове у тех критиков, которые способны были восклицать перед этими великолепными созданиями: «Чем тут восхищаться, с чего славословить и трезвонить о великости таланта Крамского, о гениальности его произведений, всех этих постылых господ NN и госпож ZZ… Крамской далеко не выполнил своего призвания и задачи».
Это все люди, еще не ведающие, что говорят!
Но другая сторона Крамского еще выше творческо-художественной стороны его. Бывали на свете портретисты не только равные Крамскому, бывали и выше его. Но где никто его не превзошел, где он выполняет истинное свое назначение, — это в художественной критике, в оценке художников и художественных созданий.
Уже по натуре своей он родился с умом обширным и глубоким, с способностью понимания и анализирования истинно поразительною, н в продолжение жизни своей он много прибавил к своему первоначальному капиталу. Он много читал, он постоянно был в общении с интеллигентнейшими людьми своей эпохи. Но самое великое для него счастье было то, что молодость его пришлась на тот период нашего века, когда после векового гнета поднялись все силы народные, задавленные до тех пор, и расцвели в чудесном блеске. Молодость, правдивость, красота и сила стремлений были тогда несравненны. Крамского несла тогдашняя волна. Он — истинный человек конца 50-х и всех 60-х годов. Он не верил ни в какие предания и смело глядел всякому делу, всего более своему художественному, прямо в глаза. Он смело шел на разрушение того, что ему казалось неразумным, беззаконным, условным, требующим уничтожения; но вместе клал камни нового здания, того, которому принадлежит будущее в деле искусства. Еще на школьной скамейке он уже стал проповедником самосознания, самовоспитания и смелой анализирующей мысли. Он этой роли никогда не покинул, и был всю свою жизнь столько же, как и в сильные юношеские годы, пропагандистом нового, светлого, правдивого искусства. Путешествия по Европе не только не расслабили, не поработили его мысль перед великими, а часто и напрасными славами предыдущих периодов, как это иногда случается с художниками, но закалили ее еще крепче прежнего. В продолжение многих лет жизни Крамской был учителем, руководителем, направителем нового поколения русских художников. С ним они все советовались, с ним вели длинные беседы об искусстве вообще, о художниках и картинах прежнего времени и о такой-то новой своей картине в частности. Его разговоры были для них сущие университетские лекции. Конечно, несправедливо было бы сказать, чтобы хотя которая бы то ни было современная ему русская картина была писана под его диктовку, однако во многих его влияние было очень действительно. Его собственные письма, воспоминания его товарищей или близких знакомых дают о том полное понятие. И что же, теперь, когда больше, чем когда-нибудь прежде, можно и должно ценить такую высокую, историческую личность, наложившую свою печать на целое поколение художников, на целый период нашего искусства, у нас раздаются почти все только слова порицания Крамскому, высказывается одно только то, что доказывает непонимание его великой роли, значения. Всего более говорят о Крамском, как о живописце, как о творце «Христа в пустыне» и «Христа на дворе у Пилата», тогда как здесь Крамской гораздо менее, сравнительно говоря, имеет значения. Даже там, где речь идет о письмах его, уверяют, что наиболее интереса представляют те из них, где Крамской говорит о своих картинах и передает их истории. Какое изумительное непонимание самой сущности дела!
Но мало того. Теперь, когда есть налицо так много исторических и биографических документов о Крамском, наши критики, вместо того, чтобы уразуметь все его значение и величие, только о том и стараются, как бы умалить его значение. Я приведу в доказательство всего два примера, но очень крупных и характерных.
Один из критиков заявляет нынче, что, «при несомненной и страстной любви Крамского к искусству, при глубокой вере его в будущность русского искусства, он не был, однакож, его руководителем, он не был таким учителем для художников, каким был Белинский. При жизни он был, действительно, борцом за русское искусство и за русских художников и сделал на этом пути многое. Но в его произведениях (опять „произведениях“!) наши художники найдут немного положительных указаний и не найдут той настоящей художественной критики, в которой чувствуется у нас большой недостаток» («Русская мысль», 1888, январь). Конечно, если говорить собственно про только блестящую внешнюю технику, то в картинах Крамского художники не найдут для себя много указаний, потому что никогда их там и не искали: при всей даровитости своей Крамской не был для того достаточно виртуозом живописного дела; но портреты его полны той внутренней правды, того постижения человеческой природы, типа, характера, которые всего драгоценнее истинному художнику, и потому он всегда будет обращаться к лучшим созданиям Крамского как к одному из истинных источников изучения, как к верному и надежному образцу. Но отвечать за художников, что они не найдут в мыслях Крамского той настоящей художественной критики, в которой настоит надобность, тогда как они в течение целой почти четверти столетия находили ее там, жили ею — вот что поразительно, вот что превосходит всякое понятие. Которая же это та художественная критика, которая «настоящая»? Где она, у кого она проявилась? Где та критика, которая способна была удовлетворить до сих пор, где та, которая шла вровень с нынешнею мыслью и стремлением? Пускай нам укажут, мы будем благодарны. Большинство художественных критиков — рабы преданий и школьной рутины, старых предрассудков и переданного по наследству фетишизма; у них всегда бывали целые его горы, и художники всегда отвертываются от этой критики, как от пустых риторических упражнений, не способных питать ни их мысли, ни художественного чувства. Исключений еще очень мало. Немногое правдивое, что мы находим в прошлом столетии у таких высоких умов и талантов, как Дидро или Лессинг, относится лишь к прежним периодам, к прежнему складу искусства и притом сильно устарело. Лишь в последнее полустолетие понеслась по Европе новая струя художественной критики, у Фишера, у Прудона, у Тэна, у Курбе, у Верона, у Леклерка, у Тэйлора, у нескольких новейших французов, бельгийцев, немцев, англичан, но и у этих корифеев, при всей их талантливости и светлости головы, сколько еще уцелело традиций, веры в унаследованные идолы, скованности и несмелости мысли! Нас, русских, не держит в когтях никакая преемственность, никакое преувеличенное почтение к установленным когда-то вехам; русские смеют, в деле художества, свое собственное суждение иметь. Это одна из самых крупных черт нового нашего времени и один из вернейших задатков самостоятельного национального развития. Первыми пролагателями новых и светлых взглядов на искусство явились сначала живописец Иванов, вторым — автор «Эстетических отношений искусства к действительности», третьим и самым высшим, самым сильным — Крамской. Крамской играл в истории начинающего художественного нашего развития громадную роль, он один из самых крупных водворителей новых идей, нового направления. И вдруг его критику мы будем называть «не настоящею»! Да это не во имя ли той, прежней, «настоящей», против которой он всю свою жизнь шел войной?
Вот какова эта, самая «настоящая»-то критика, и что такое теперь желательно для многих еще, и почему художественно-критическая деятельность Крамского долго еще должна встречать у нас вместо симпатий сопротивления, — это недавно взялся пояснить публике другой писатель, на страницах «Московских ведомостей» (1887, № 336 и 341). этот писатель обвиняет Крамского в недостатке образовательной подготовки в юности, в слабости теоретического обучения в Академии художеств и в беспорядочном чтении творений писателей 60-х годов (которых он, насмехаясь, обзывает «титанами»). Другими словами, «этот писатель обвиняет Крамского во всем том, что составляет самую большую его заслугу. Лжеобразовательная подготовка, теоретическое учение в Академии художеств — да не это ли все давно дает у нас самые печальные плоды, не это ли самое народило у нас тучи никуда негодных или перепорченных художников, целые массы произведений, а которые более ничего, как только досадно и больно смотреть? это ли все и есть то самое зло, против чего Крамской всю жизнь вооружался и от чего он стремился избавить русское искусство и русских художников? Во имя искореняемой болезни и немощи нападать на врача, пришедшего помогать! Понятно, что для таких людей, как критик „Московских ведомостей“, которым мило старое художественное болото, всегда покажется зловредною всякая струя чистого, свежего воздуха, и они будут стараться поскорее законопатить противное им окно. Про каждую новую мысль они всегда скажут, что это — мысль старая, давно известная. Например, он уверяет, что эта старая-престарая мысль (всегдашний могучий тезис Крамского), что высокой, истинной, художественной технике нельзя научиться — как обыкновенно все это думают, и что она есть результат самостоятельного стремления художника выразить сумму своих впечатлений. Но если бы это была мысль старая и давно всеми признанная, то академии давно перестали бы учить тому и так, как они это делают в продолжение столетий! Так и со всем остальным. Для писателя „Московских ведомостей“ Крамской — недоучка, распространитель вредных или банальных мыслей, так что даже по собственным письмам нельзя себе выяснить, против чего именно Крамской боролся». Какое замечательное непонимание! Но публика и художники всегда очень; хорошо разумели я видели, какие чудные результаты приносит новое направление русского искусства, вступившего на свой настоящий рельс. Но ретрограду «Московских ведомостей» мало было обвинять Крамского в том, что он невежда и недоучка (повторение слово в слово обвинений университетских педантов против Белинского-юноши, что он и писать-то грамотно не умеет, что весь его художественный символ веры есть «сумбур сектантских учений»; ему понадобилось еще доказывать, что вся жизнь и художественно-критическая деятельность Крамского была не что иное, как чистое недоразумение. Крамской был, дескать, собственно говоря, в глубине души «правоверный», но обитый с толку своим временем, людьми и обстоятельствами художник, и когда представилась ему возможность вернуться к настоящей своей натуре, он это и готов был сделать с радостью. «Он не был так ограничен, — говорят „Московские ведомости“, — чтобы не чувствовать художественного бессмыслия отрицательного искусства. Не материальные выгоды закабалили его в производство портретов, а нравственная невозможность установить идеал, без которого немыслима творческая деятельность. Когда же кризис миновался, и в душе его начиналось просветление — дни его были сочтены». Все это фантазия и выдумки писателя «Московских ведомостей». Никакого нового «просветления» в деле искусства у Крамского в конце его жизни не начиналось. До самого конца жизни его художественный символ веры оставался точь-в-точь таким, каким был со дней его юношества: ни отступления, ни ретроградства, ласкающего вкусы консерваторов, у Крамского никогда не было. Уверения, будто «эстетическое чувство Крамского возмущалось перед картиной Репина „Иван Грозный и его сын“, и у него только недостало силы правдиво и прямо осудить деяние Репина, кружковщина возобладала над правдой» — все это непозволительнейшая неправда, выдумка и клевета. Крамской глубоко и чистосердечно восхищался этой картиной Репина, был потрясен до корней души ее мыслью и художественным исполнением, и всем близким людям по целым дням рассказывал про свой восторг и удивление. Это свидетельствовали и тогдашние многочисленные письма и бесконечные разговоры со всеми друзьями и знакомыми. Письма теперь уже напечатаны и сами за себя свидетельствуют, а кто слышал тогдашние восторженные разговоры Крамского, все еще живы, все налицо и могут засвидетельствовать, если понадобится, «возмущался» ли когда-нибудь Крамской картиной Репина.
Так-то всегда ненавистны консерваторам свет, правда, сила, свежесть проповедуемых вновь истин. Вся Силоамская купель карликов, слепых, глухих, немых, всяческих калек и неизлечимых уродов поднимается на ноги, жалостно вопит и ополчается на войну. Так всегда дело идет на свете, и это самое испытала на себе проповедь Крамского — к счастью, после того, как он сам зарыт уже был в могилу.
Но те, к кому раньше всех в продолжение всей жизни Крамского адресовалась эта проповедь, — русские художники, — совершенно понимали и оценяли эту проповедь. Они были с Крамским в постоянном общении, они постоянно черпали великое поучение из его устных бесед. Что он говорил, во что веровал, чему учил их — неизгладимый след того остался в письмах и статьях Крамского. Через несколько времени вымрет, конечно, то поколение живых людей, с кем Крамской виделся, разговаривал, беседовал, спорил, кого учил, кого образовывал и возвышал. Но в печати все останется. В статьях и письмах Крамской только повторял в сотый и тысячный раз, в сконцентрированном виде, то, что рассыпал кругом себя целый день, от утра и до вечера, товарищам и приятелям, в продолжение долгих годов.
II
К чему более всего направлялась проповедь Крамского? К формированию и взращению личности художника. Поэтому-то он всего более ненавидел машинное воспитание школы и желал для художника возможности воспитания самобытного, личного, индивидуального. Всего за полгода до смерти, он мне писал 16 июля 1886 года: «Если припомните, я писал вам еще когда-то из Парижа, ровно 10 лет тому назад, писал о том, что все внимание должно быть обращено на то, чтоб свалить старую систему образования художника, что академическая система есть главное зло. Прошло 10 лет, и теперь, как и тогда, главный враг — воспитание молодых художников — остается во всей силе и стоит прочно и непоколебимо…» В пятой статье своей: «Судьбы русского искусства» (оставшейся ненапечатанного в 1882 году и напечатанной лишь теперь, в полном собрании его писем и статей) он говорил: «О если бы мне удалось доказать, что государство выиграет именно тогда, когда оно не будет поддерживать Академию, а создаст только условия для процветания искусства. Более 100 лет, гак Академия прилагает заботы о насаждении „высокого“ искусства, все, что выходило из ее стен лучшего, не шло далее подражательного рода и не могло возвысить нацию в глазах тех народов, которые не имеют свое собственное искусство. Все, что было действительно высокого в искусстве, в национальном искусстве, выходило не из Академии, и не теми путями, какие она рекомендует, а именно вопреки ее советам и попечениям… Чему можно научить другого в искусстве? Ничему решительно. Чему может юноша научиться: в искусстве от художника, которого он изберет себе в учителя? Всему тому, что знает и умеет учитель… Можно усвоить размеры, пропорции, механику движений, и то до известной степени, но нельзя ни научить, ни научиться чувствовать форму, т. е. то, что составляет душу рисунка… С художественным чувством художник прямо родится. У кого есть это чувство, тому дайте только условия: натуру, свет и тишину, и он без учителя найдет дорогу — при хорошем мастере своего дела скорее, а при его отсутствии медленнее, но и в том, и в другом, случае, все равно — поймет и сделает. Чему можно научить в живописи, как уменью передавать краски натуры! Весьма немногому: например, некоторым манипуляциям, имеющим второстепенное значение, способу наложения красок и способу управления их кистью, но ни сочетанию красок, ни пропорциям смешений, ничему, что называют колоритом. Это совершенно субъективная способность, данная опять-таки природою, вместе с физиологическим составом. Надо удивляться тому, отчего так долго плохо рисуют и плохо пишут те, кто учится в Академии. Говорю не обинуясь: оттого, что их слишком много учат, но не тому, чему нужно, и много учителей разом одному и тому же. В Академии нарушен самый элементарный закон всяческого обучения. Нигде и никогда, ни в одном предмете образования и ни в одном мастерстве не бывает учителей много или несколько: один, и непременно только один… И, что удивительнее всего, все академии, как будто с самым злым намерением искалечить художника, усердно стараются сделать наперекор здравому смыслу, в то время, когда юноша требует особой осторожности, терпения и одновременно режима для укрепления, его подвергают всяческим экспериментам; в это время у него особенно много учителей по одному и тому же классу или по одному и тому же предмету; а когда он, хотя и искривленный и попорченный, благополучно проплывает все академические заставы и получит то, что называют пенсионерством, ему рекомендуют или он сам избирает одного какого-либо мастера и старается пристроиться к нему. Следует же поступать обратно. Как бы ни был плох профессор, но он один, это все же лучше, чем многие, которые говорят разно… Там, где искусство вырастало из почвы, где оно было свое и натуральное, всегда были мастерские, т. е. около мастера ученики. И в настоящее время, в странах, где существует более живое и сердечное отношение общества к искусству, несмотря на академии (сохраняемые как почтенные руины), возникла опять древняя форма мастерских с учениками…» В 1876 году Крамской писал мне: «Завещание мое будет в двух словах: уничтожить институт и все его прерогативы, чтобы спасти искусство. Надобно художников оставить на произвол общества, как сапожников и мастеровых, пусть их кормятся, как знают…»
И ко всему этому прибавлялось требование, чтобы художник не ждал и не желал служебных прерогатив, наград, отличий и поощрений: всего этого ведь нет же у литераторов, значит, легко и даже, более того, необходимо быть свободными и художникам.
Ничего подобного наши художники раньше не слыхали ни от кого. Напротив, их всегда воспитывали во всех тех понятиях, которые принижают личность, делают ее не свободною, не гордою, не самостоятельною и обесцвечивают ее жестоко. Об их обязанностях им уже давно и много было говорено, еще с прошлого столетия; об их правах — пошла речь только теперь. И никто так глубоко и смело не трогал вопроса о личности художника, о том, что он может допускать делать с собою и чего он ни под каким видом не должен. Еще в 1863 году его проповедь привела самым действительным образом к протесту и образованию Артели художников.
Вторая из главных основ его проповеди была — национальность. «Вне национальности нет искусства», не переставал он твердить в разговорах и письмах. «Искусство не наука, — пишет он Репину (20 августа 1875 года). — Оно только тогда сильно, когда национально. Вы скажете, а общечеловеческое? Да, но ведь это общечеловеческое пробивается в искусстве только сквозь национальную форму, а если есть космополитические, международные мотивы, то они все лежат далеко в древности, от которой все народы одинаково далеко отстоят…» В своей статье «Судьбы русского искусства» (отделение 4-е, 1880) он говорит: «Прежде всего объявлю, за какое искусство я сам. Я стою за национальное искусство и думаю, что искусство и не может быть никаким иным, как национальным. Нигде и никогда другого искусства не было, а если существует так называемое общечеловеческое искусство, то только в силу того, что оно выразилось нацией, стоящей впереди общечеловеческого развития. И если когда-нибудь, в отдаленном будущем, России суждено занять такое положение между народами, то и русское искусство, будучи глубоко национальным, станет общечеловеческим… Искусство может быть только национально, непременно национально. Чтобы быть в искусстве национальным, об этом заботиться не нужно — необходимо только предоставить полную свободу творчеству. При полной свободе творчества национальность, как стихийная сила, естественно (как вода по уклону) будет насквозь пропитывать все произведения художников данного племени, хотя бы художники, по личным своим симпатиям, и были далеки от чисто народных мотивов. Скажут иные: „Можно ли давать полную свободу творчеству? В настоящее время, время всеобщей анархии?“ Необходимо и обязательно, потому что только одна полная свобода в этой сфере и излечивает уродливость».
Да это славянофил в искусстве, да это сектант! конечно, готовы возопить очень многие, все консерваторы и ретрограды, любящие в искусстве именно все только космополитическое, идеальное, лгущее, выдумывающее, и возопят потому, что ничего нет приятнее и полезнее как поскорее навязать беспокоящему врагу кличку — а потом уже стоит только повторять кличку и ни во что не входить, ничего не рассматривать. Но Крамской и сам предвидел возражение. В письме к Репину от 10 сентября 1875 года он говорит: «Я не святоша, самодовольное невежество мне не знакомо… Вы видите, я принадлежу к партии славянофилов, блаженной памяти; но это не беда. До сих пор это не мешало мне смотреть в оба. На одного мысли эти действуют усыпляющим образом, на другого — обратно: он становится еще внимательнее, еще строже работает и думает…»
Еще Крамской постоянно учил своих товарищей по искусству: не думать вечно все только об одной технике, да технике, как это всегда бывает почти у всех художников, не останавливаться на одних пустяках, вместо дельной задачи для картины, как это практикуется в ужасающих размерах на Западе, и выше всего заботиться о содержании, настроении, чувстве своего художественного создания. Но вся русская школа, появившаяся на свет около 50-х годов нашего столетия, уже и сама была наклонна серьезно относиться к искусству, к воспроизведению им жизни — и Крамской еще более старался упрочить это направление и отвратить наших художников от того поверхностного отношения к «сюжету», какое существует нынче у большинства живописцев французов, немцев, итальянцев. «Задов повторять очевидно уже не приходится, — писал мне Крамской 19 июля 1876 года, — потому что ни одна манера старых мастеров не подходит к новым задачам. Можно только с завистью смотреть на них, а самому разыскивать новые. С новыми понятиями должны народиться новые слова. Говорят: „Поеду, поучусь технике!“ Господи, твоя воля! Они думают, что техника висит где-то, у кого-то, на гвоздике в шкапу, и стоит только подсмотреть, где ключик, чтобы раздобыться техникой. А того не поймут, что великие таланты меньше всего об этом думали, что муку их составляло вечное желание только передать ту сумму впечатлений, которая у каждого была своя особенная. И когда это удавалось, техника выходила сама собой…»
Репину он писал 23 февраля 1874 года: «Оскудевает содержание, понижается и достоинство исполнения. Однакоже, что это значит? Зачем на Западе дело идет как будто навыворот?..»
Этому всему русского художника еще никто не учил; никто не поддерживал его в таком образе мыслей, столько расходящемся с тем, что везде общепринято!
«Тенденция» — кошмар нынешней публики и критиков. Ее больше всего боятся, ею поминутно друг друга корят, за нее преследуют и казнят, всего больше в деле искусства. Кто оказался виноват в «тенденциозности», тот погиб безвозвратно со своею картиной, о нем не стоит прибавлять ни одного слова более. А все почему так? Потому, что каждый (почти) у нас привык с пеленок думать, что искусство должно ласкать и нравиться, щекотать на тот или другой манер, но боже сохрани — трогать глубину правды, обнажать всю ту мерзость, безумие, из которых складывается жизнь миллионов людей. Вот все это и обзывают «тенденцией». Боже сохрани! Не сметь всего этого трогать! Вот я тебя, разбойника!
И что же? Крамской принялся учить прямо наоборот, прямо наперекор общепринятой банальной рутине. Он доказывал, что «тенденция» законна, что она в порядке вещей, что она есть у нас в корню и быть должна всегда и повсюду. «Все наши большие писатели тенденциозны, и все художники тоже, — писал Крамской А. С. Суворину 12 февраля 1885 года, а спустя несколько дней, 26 февраля, прибавлял:- Я говорю, что русское искусство тенденциозно; при этом я разумею следующее отношение художника к действительности. Художник принадлежит к известному времени, непременно что-нибудь любит и что-нибудь ненавидит. Предполагается, что любит то, что достойно, и ненавидит то, что того заслуживает. Русский художник, когда ему приходится формулировать свою любовь или ненависть, не лжет на форму: он всегда умел быть объективным в этой области. Если же форма иногда не удовлетворяет, то вовсе не из тенденциозности, а потому просто, что художник не сладил, и только. Мне не совсем нравится, что вы взяли слово „отдохновение“, говоря о роли искусства среди каторжной современной жизни. Искусство имеет самостоятельную роль, и какова бы ни была современная жизнь, каторжная или нет, задачи искусства могут и не совпадать с успокоением. Искусство греков было тенденциозно, по-моему. И когда оно было тенденциозно, оно шло в гору; когда же оно перестало руководиться высокими мотивами религии, оно, сохраняя высокую форму еще некоторое время, быстро выродилось в забаву, роскошное украшение, а затем не замедлило сделаться манерным и умереть. Точь-в-точь то же повторилось и во время Возрождения в Италии, и, позднее, в Нидерландах…» Эта мысль, что всякое высокое искусство непременно бывало «тенденциозно»; именно потому и не приходила в голову массе, что была проста и глубоко справедлива. Но коль скоро так было с греками (с самими греками!), а потом во время «великого» Ренессанса XVI века, да потом, на придачу, в Нидерландах, ну, после этого дело могло бы считаться выигранным, и Крамской мог бы не опасаться никаких более возражений. Но по поводу нападок публики и критиков на «Ивана Грозного с сыном» Репина, Крамской должен был писать А. С. Суворину: «Говорят: „Все-таки тенденция!“ Прекрасно, пусть тенденция: а почему же никому в голову не приходит волноваться, когда сталкиваются с действительной тенденцией. На выставке картина Неврева „Суд над патриархом Никоном“. Царь Алексей, при несомненном добродушии, изображен таким смешным! И ничего, никто не обращает внимания! Потом: того же Неврева была картина, два года тому назад „Иван Грозный убил боярина Гвоздева“. Иван Грозный, при многих свидетелях, убил, убитого тащат, а грозный царь зверски смеется! Это ли еще не тенденция?! А между тем, ничего, все видели, никто не возмущался тенденцией. Но вот является картина, в которой, кроме жизни настоящей, всесторонне и беспристрастно решается труднейший психологический мотив, от которой зритель отходит то просто страшно пораженным сценою убийства, то глубоко тронутым чем-то больше чем кровь… Гвалт! Неужто приходится выводить одно: не смей быть талантливым. Это уже очень печально!..»
При этих словах невольно вспоминаются слова Крамского из 4-го отдела его статьи «Судьбы русского искусства»: «Образование художников не дело Академии, а дело жизни, а между тем Академия старается совершенно бесплодно, механически, вложить в душу художника содержание, не подозревая, что там, в душе каждого мальчика, оно уже лежит и положено самой природой; оно уже есть, неведомое, неизвестное, оригинальное, как индивид, и интересное, как одна из сторон истины. Какая необходимость в повторении того содержания, которое уже было когда-то высказано горячо, с талантом и по убеждению? Что за слепота, что за ограниченность — враждовать с тем, что еще неизвестно и не родилось, а только имеет родиться? Перенеситесь мысленно в другую сферу, где это не практикуется, и всем станут ясны жестокость и невежество…» Но если так, если ужасно нападать на мальчика, во имя того, что ему считается необходимым, с одной стороны, запретить, а с другой — приказать, то на сколько же становится еще ужаснее та жестокость, которая что-то запрещает и что-то навязывает художнику уже выросшему, полному, расцветшему и это под предлогом «тенденции», в которую в сущности никто не верит и с которою всякий мирно уживается, с утра до вечера, во всех делах жизни своей, во все дни живота своего!
В разных местах своих писем Крамской нападал на неудовлетворительность новых русских художников со стороны технической, недостаток их письма, колорита; он иногда называл русское искусство «младенческим», Федотова, Перова и других — еще несовершенными со стороны техники художниками, а только «носителями идей» и т. д… Но это не мешало ему видеть и крупные достоинства нашей новой художественной школы и ее самостоятельное направление. «Я думаю, что русские внесут некоторую долю в общее достояние и что теперь очередь за нами, — говорил и писал он. — Русский художник есть нечто неизвестное и неведомое, т. е. будущее… Русский художник видит не так, как художники других племен. Ему нет другого выхода, как создать свой собственный язык»… «Легко взять готовое, открытое добытое уже человечеством, — писал Крамской А. С. Суворину 4 марта 1884 года, — тем более, что такие люди, как Тициан, Рибейра, Веласкес, Мурилью, Рубенс, ван Дейк, Рембрандт и другие показали, как надо писать. Да, они показали, и я не менее вас понимаю, что они писать умели, да только… ни одно слово, ни один оборот речи их, ни один прием мне не пригоден. Для русского, истинного и искреннего художника тут смысл огромный и мучительный. Скажите откровенно и подумавши: реален ли Мурильо, Тициан? Так ли оно в натуре, так ли вы видите живое тело, когда вы на него смотрите! Или Рембрандт?.. Когда вы смотрите на живое человеческое лицо, вспоминаете ли вы Тициана, Рубенса, Рембрандта? Я за вас отвечаю весьма храбро и развязно: нет! Вы видите нечто, нигде вами не встречаемое…; Русского художника никто не учит, и ему учиться не у кого… Человеческое лицо, как мы его видим теперь в городах и всюду, где есть газеты и вопросы, требует других приемов для выражения. И никакие справки с Эрмитажем не помогают. И потом 200–300 лет прошли, с тех пор не даром. Мозг и восприимчивость художника иные, даже краски уже не те. То есть световые впечатления теперешнего художника разнятся от прежних…»
Тут речь идет покуда только о внешнем впечатлении, об исполнении, о письме, о красках. Что касается до самого содержания, Крамской также указывал на то, что наши задачи другие, чем у наших предшественников, и что наши художники уже понимают это и идут к той цели, которая выпала на их долю. «Ведь у нас нельзя, — писал он Репину, — как в Париже, тянуть одну ноту вечно, нельзя Петра и Вавилу писать одними красками; нам такой художник скоро надоест. Мы хотим, чтобы художник писал одного так, другого иначе, третьего опять иначе…» Это значительное уже отличие от европейского всеобщего направления, тут уже свой взгляд, своя программа. Но Крамской отмечал, в числе особенностей русского художника, и ту, что у него «мысли направляются все в сторону мрака, печали, всяческих отрицаний». Обыкновенно все видят в этом порок, великий недостаток, нечто такое, от чего бы русской школе надо было отделаться, Крамской — напротив. Он видел в этом направлении лишь то, что «юноша? ищет только правды, желает добра и улучшения…» «Самая великая? сила Владимира Маковского, — пишет Крамской А. С. Суворину 12 февраля 1885 года, — лежит в бытовых картинах. Смело можно сказать, что в Европе такого художника нет, да если все сказать, что думается, то и быть не может. Русская живопись так же существенно отличается от европейской, как и литература…» Сравнивая задачи современного русского художника с задачами иностранного, Крамской говорит Репину: «Посмотрели бы вы, что за скандал произошел бы, если бы идея вашей картины („Кафе на парижском бульваре“) была реализована чистым парижанином (если бы таковой был: способен, впрочем, до того подняться), если бы эта картина могла беспощадно, неумолимо поднять в буржуазии представление о действительной мерзости, в которой общество начинает полоскаться… все заорало бы: „Разбой! Это не дело искусства! Куда оно суется! Это чорт знает что такое!“ словом, скандал благородный!..» (письмо 10 сентября 1875 года). Крамской очень хорошо знал, что и в нашем обществе есть значительная доля людей, которые желали бы не допускать искусство ни до какой серьезной роли и страстно хотели бы задержать его на писании приятных и милых пустяков или же таких событий, которые никого и ничего не шевелят. Он сам был сто раз свидетелем, как у нас кричат «разбой» про каждую картину, в самом деле и правдиво затрагивающую нашу действительность. Но ему не было дело до худых вкусов, неразумия или коварного непонимания масс; и он, не переставая, указывал русским художникам их путь, поддерживал их на настоящей дороге, когда они иной раз скользили.: Он упорно ратовал против прежнего, общераспространенного академиями понятия, что живописец должен уметь все писать, что ни попало: все сюжеты доступны тому, кто только умеет рисовать и писать, (понятие Брюлловых, Бруни, Васиных и всех остальных прежних; питомцев и профессоров Академии) Еще юношей 26 лет, он в октябре 1863 года, в письменном прошении от лица своих товарищей, прочел Академии целую лекцию о том, что характеры и наклонности у каждого человека разные, один сангвиник, другой холерик и т. д., значит каждый способен трактовать только сюжеты ему свойственные, а на всех остальных окажется негодным и провалится. Несколько лет спустя, он читал своим товарищам другую лекцию, уже о другом деле, еще более широком, о том, что и для народа, как для отдельного лица, не все темы пригодны, и не все их, безразлично, оно способно трактовать посредством своего искусства. Надо уметь от многих отказываться, надо уметь выбирать: народ, как отдельный человек, не все одинаково властен схватывать глубоко и верно, не все властен одинаково хорошо выражать, а лишь только то, что до корней знает. «Я не понимаю, как могло случиться, что вы это писали („Парижское кафе“), — говорит Крамской Репину в письме 20 августа 1875 года. — Не правда ли нахальный приступ? Ничего, чем больше уважаешь и любишь человека, тем обязательнее сказать правду. Я думал, что У вас сидит совершенно окрепшее убеждение относительно главных положений искусства, его средств, и специально народная струна… Я не скажу, чтобы это не был сюжет. Еще какой! Только не для нас. Надо быть для него французом. Искусство до того заключается в форме, что только от этой формы зависит и идея… Французская буржуазия не так глупа, чтобы не распознать иностранца, у которого акцент не может быть совершенно чист, и это ей дает право пройти мимо, не обратив внимания. Случись же такая ошибка, скажу больше, скандал с их кровным художником — послушали бы вы, чем такого художника угостила бы печать, состоящая на откупку у буржуазии… Итак, написать плохо вы не могли, но написать так, как нужно, вы тоже не могли. Вы провинциал, попавший в столицу, — вы видите, что дело не ладно, одно вас оскорбляет, другое отвратительно, а между тем цинически лезет напоказ. Но вы еще не умеете говорить тем языком, каким все говорят, и потому вы не можете обратить внимание французов на свои мысли, а только на свой язык, выражения и манеры…» Какое глубокое уподобление языка с искусством! Раньше Крамского никто его не выразил, не только на Западе, но и у нас. На Западе — там еще существует слишком слабый запрос на национальное искусство, такого запроса почти даже вовсе нет, и потому навряд ли найдете там кого-нибудь, кто стоял бы на той точке зрения, на которой стоял Крамской, а с ним и лучшие наши люди, художники и не художники. У них там, точь-в-точь в прежние времена, при Льве X, в XVI веке, при Людовике XIV, в XVII веке, воображают, что какой ни возьми сюжет, задачу, тому так и быть, то так и хорошо. Всякий может приниматься за что угодно, дело безразличное. Тогда смотрели только на исполнение, на виртуозность — и дело было в шляпе. «Критика сюжетов», «критика задач» тогда еще не существовала; все радовались уж и на то только, что художники вон как чудесно водят кистями, вон какие у них чудесные краски, клер-обскюры, тоны, складки лица, идеальные, иногда и взаправду прекрасные душевные выражения! Национальности в искусстве не существовало. Но многие, большинство, целые нации, даже и до сих пор закисают на той устарелой точке зрения. И у нас точно так же как у других. Многих ничем на свете не убедишь, что это худо, что это не так, что этого не должно быть. Но Крамской, нападая на товарищей (не на одного Репина, а и на многих других), вздумал, однажды, взять для сравнения — язык. Ничто не могло быть более метко, более верно. Взгляните на иных наших баричей, воспитанных посредством английских и немецких нянюшек, гувернеров и гувернанток. Малосмысленные папаши и мамаши прежнего времени воображали, что это très comme il faut, что это не только не ничего, но даже превосходно, и что из этого совершенно особенный прок получается. Но каким же языком говорили их детки? Какое у них было даже самое «произношение»? И язык, и произношение (иногда самые мысли) — все было французское с нижегородским, и этого ничем уже впоследствии нельзя было исправить. Точно так же и в искусстве. Художник должен учиться с самых молодых лет не на чем-то безразличном небывалом и идеальном, а на том, что существует действительно и, притом, что близкое, свое выражает, на том, что в один тон и шаг идет со всею остальною жизнью и складом, нас окружающим во весь наш век. Форма должна быть «своя», как и содержание. Еще в 1874 году Крамской писал Репину: «Я говорю художнику: чувствуй, пой как птица небесная, только, ради бога, своим голосом». Вот этого, своего голоса, всего меньше и есть в искусстве. Но подумайте: даже и тот, что есть, стараются убавить! Русское искусство, точно барич, навыворот воспитанный: оно всего более было дрессировано так, чтоб говорить и на один манер, и на другой, как угодно, только бы не по-своему, не своим языком и голосом. Да еще этим же и гордиться! Крамской учил совершенно другому. Он глубоко чтил и уважал все то иноземное, что было действительно высоко и талантливо, но раньше всего указывал на свою собственную национальность, как на первый и главный источник всякой силы, правды и выразительности. И об этом первом деле он никогда не прекращал своей проповеди. Уступок он никогда не делал.
Поэтому в продолжение долгих лет Крамской был самым преданным и верным помощником П. М, Третьякова, лет 25–30 тому назад решившего создать русскую картинную галерею, собрать туда все, что лучшего и знаменитого создала русская школа живописи. Идея национальности в искусстве — идея новая, и, кажется, нигде она не пустила таких крепких корней, как у нас. П. М. Третьяков употребил сотни тысяч на то, чтоб создать свою галерею, не жалел ни средств, ни трудов, и еще при жизни великодушно завещал ее своему отечеству. И Крамской был его помощником в течение целых почти 20 лет. Его переписка с П. М. Третьяковым наполнена бесчисленными указаниями на все талантливейшее, что у нас в Петербурге вновь появлялось в художестве. Он жадно желал, чтоб все наилучшее могло войти в состав великой отечественной галереи. В 1878 году он писал самому П. М. Третьякову, говоря про людей, желающих добра русскому искусству: «Русского общества вообще еще нет, а если и есть несколько десятков человек во всей России, то они так разбросаны и места их жительства так мало известны, что единственный адрес, мне, да и всем мало-мальски думающим русским художникам, известный один — это: Лаврушенский переулок, приход Николы» (в Москве, где помещается Третьяковская галерея). Однажды один наш писатель, г. Аверкиев, столько же по незнанию, сколько и по крайнему недоброжелательству к новой русской школе и ко всему, что до нее близко касалось, вздумал было (в 1885 году, в своем «Дневнике писателя») пояснять русской публике, что, мол, Третьяков играет только роль мецената у себя там, в Москве, а в сущности он мало смыслит в той самой русской живописи, которой произведения собирает, и что им руководят другие, которые и учат его, что ему приобретать. Конечно, под этим таинственным руководителем разумелся Крамской. Как тогда обрушился на бедного невежду Крамской! («Письмо в редакцию», напечатанное им в «Новом времени» 1885 года, № 3254). Как он его поставил на свое место, как он доказал ему публично, перед всеми, печатно, все его выдумки и всю полную самостоятельность Третьякова. При этом он ссылался и на Перова, в продолжение долгих лет бывшего свидетелем чудесной, истинно исторической деятельности Третьякова на пользу нашему искусству и нашей родине. В одном письме к пейзажисту Васильеву, еще от 28 марта 1873 года, он говорит; «Картину вашу („Крымский берег“) берет Третьяков. Он признает, что она лучше прошлогодней. Еще бы! Я должен сознаться, что это человек с каким-то, должно быть, дьявольским чутьем…» Что касается самого Крамского, то вся масса писем его к П. М. Третьякову показывает, что он только как друг, как товарищ спешил сообщать своему приятелю все художественные факты, которые имел возможность узнавать раньше Третьякова, и только — но никогда не имел решающего голоса во всем том, что касалось пополнения Третьяковской галереи. Перед глазами его совершалось накопление художественных документов, талантливых созданий, свидетельствовавших о росте и расширении дорогой ему русской школы. И он радовался тому, точно будто бы самому бесценному личному своему счастью.
III
Мудрено в немногих страницах изложить все то, что Крамской в течение четверти столетия высказывал в своих письмах и статьях о наших художниках и их произведениях. Для этого понадобился бы, пожалуй, целый том. Я принужден буду ограничиться одними главнейшими характеристичнейшими чертами.
Раньше всех его поразил наш живописец Иванов, тогда еще, когда сам Крамской сидел и учился в маленьком классе Академии. Но впечатление было громадное, и никогда не изгладилось в продолжение всей жизни Крамского. Первая статья, которую он написал, юношей 21 года (но которая осталась ненапечатанной до сих пор) — была посвящена именно Иванову. Заглавие ее: «Взгляд на историческую живопись». И что ж мы здесь видим? Ни с кем не посоветовавшись, ни от кого ничего не слышавши, Крамской, один, сам с собою, вдруг написал те слова, которые и до сих пор составляют настоящее определение Иванова: «Твое позднее появление в мире не случайное, а составляющее рубежи и связь с будущими историческими художниками, которые будут трудится на пути, тобой указанном, проявляя то же в других образах. Твоя картина будет школой, в которой окрепнут иные детали, и она же укажет многим из молодого поколения их назначение…» И тут же, сейчас, Крамской глубоко верной чертой намечал образ и задачу будущего исторического живописца, идущего по тропе, намеченной Ивановым, но ведущей не к исполнению одних религиозных сюжетов, но вообще задач, взятых из истории и жизни народов. «Час старой исторической живописи пробил, — говорил Крамской; — хотя и жаль, и грустно расстаться с образцами древних, но художник должен пожертвовать своею любовью для любви к людям. Он должен расстаться с ними и потому, что вечная красота, которой поклонялись древние художники, неведома между людьми…»
Впоследствии, двенадцать лет позже, Крамской написал большую статью об Иванове (1880), где разбирал его натуру реформатора, его значение, составные части его таланта, рассматривал то, что внес Иванов в русское искусство нового: внутреннюю необходимость художественного создания — вместо прежнего произвола, глубокое изучение и передачу характеров — вместо прежнего легкомысленного игнорирования их; наконец, рассматривал причины неуспеха Иванова перед нашей публикой и ее полнейшего равнодушия к нему. Это последнее он объяснял «недостатком очаровательной внешности» в создании Иванова. Но, к удивлению, он не обратил здесь внимания на то, что публика могла оставаться недовольной Ивановым также и по другим причинам, начиная хоть с той, что его громадный, оригинальный талант стоял чересчур выше ее требований и пониманий, а также, что у Иванова существовали действительно некоторые художественные недочеты; как-то: известная доля «классичности» в композиции, неприятная барельефность, условная скученность действующих лиц, слишком неудовлетворительные краски и т. д.
Но когда, год спустя, начали появляться первые тетради «Рисунков Иванова к Ветхому и Новому завету», Крамской еще новый раз высказался о своем любимце. В предисловии к изданию Иванова, германский Археологический институт, заведывавший изданием в свет этих рисунков, по завещанию брата Иванова, Сергея, говорил, что рисунки Иванова «проникнуты духом совершенно самобытным, не имеющим ничего общего с произведениями немецких, французских и итальянских художников. Дух этот, мы полагаем, — прибавлял институт, — можно назвать „чисто русским“. „Надобно поверить в этом немцам, — замечал на это Крамской, — потому что какой же им интерес скрывать правду? Не скажут они — скажут французы, скажут, англичане, турки, наконец! Все знают нас в лицо, одни мы никогда себя не видали. Посмотрим же, что заключается в эскизах Иванова, столь полных, как говорят, „чисто русского духа“. И для нас, пока как и для иностранцев, это столь же ново и исключительно оригинально. Мы все подражали, и до такой степени к этому привыкли, что нам странно видеть что-либо хорошее и, в то же время, ни на что европейское не похожее. Перед нами, действительно, что-то невиданное; вы в недоумении — какому народу приписать создание этих эскизов? Со своей стороны, мы готовы предположить, что эти рисунки современны библии и евангелию, потому что в каждом из них до такой степени наивно, просто изображены сцены, фигуры до того типичны, бытовая обстановка при своей целесообразности кажется до такой степени древнею, что это решительно рисунки с натуры того времени. Всего же больше нас убеждает в том, что перед нами 2000-летняя древность, это — смесь изображений сверхъестественных с действительными: ангелы и видения такие странные, какие только и могли присниться и привидеться такому простому старцу, как Иосиф, или такому верующему, как первосвященник Захария. Эти ангелы, при реальности форм, и прозрачны, и сияют на манер изображений солнца у египтян или ассирийских божеств, знакомых нам по уцелевшим памятникам. В то же время сверхъестественные явления до такой степени перемешаны с действительными, что, глядя на рисунки, чувствуешь себя современником далекого детства человечества — полного мистического ночного страха и чудес, и реализма сверкающего солнечного дня. Современный взрослый человек решительно не может вообразить себе ничего подобного. Только хороший рисунок, сделанный опытной рукой, и заставляет нас предполагать, что это действительно современная подделка; но в таком случае — это гениально.“ Таких речей об Иванове русская публика ни от кого более не слыхала. И не мудрено. Иванов провел слишком глубокую черту в жизни Крамского. Вторым глубочайшим любимцем Крамского был — пейзажист Васильев. В моих статьях „Крамской по его статьям и письмам“ („Вестник Европы“, 1887 год) я довольно подробно рассказал личные сердечные отношения Крамского к этому 20-летнему юноше. Он беспредельно любил его как человека, но, вдобавок, считал его гениальным художником и глубоко перед ним преклонялся, даже считал, что многим обязан ему в своем техническом развитии. „Вы мне открыли, как писать надо, — говорил Крамской в письме к Васильеву, незадолго до его смерти, по поводу последней его картины „Крымский берег“. — Это что-то до такой степени самобытное и изолированное от всяких влияний, стоящее вне всего теперешнего движения искусства, что я могу сказать только одно: это еще не хорошо, т. е. не вполне хорошо, даже местами плохо, но это — гениально… Ваша картина меня раздавила окончательно. Я увидал, как надо писать. Это такая страшная и изумительная техника на горах и на небе, на соснах и кое-где ближе, что я стыжусь того, что мне иногда нравилось. Красок нет в картине. Передо мной величественный вид природы; я вижу леса, деревья, вижу облака, вижу камни, да еще не просто, а по ним ходит поэзия света, какая-то торжественная тишина, что-то глубоко задуманное, таинственное…“ „Развивался Васильев чрезвычайно быстро, — пишет Крамской Н. А. Александрову 11 августа 1877 года, — сначала в полной гармонии с Шишкиным, который имел на него влияние в то время (1868); но уже через год резко обозначились пункты разногласия относительно взгляда на натуру. И действительно, трудно найти две более исключающие друг друга натуры. Один, трезвый до материализма художник, лишенный даже признака какого-либо мистицизма, музыкальности в искусстве (как и все почти племя великоруссов), художник, которому недостает только макового зерна, чтобы стать вполне объективным; другой, весь субъективный, субъективный до того, что вначале не мог даже этюда сделать без того, чтобы не вложить какого-либо собственного чувства в изображение вещей совершенно неподвижных и мертвых. Понятно, что они скоро разошлись, не переставая, впрочем, наносить друг другу огорчения, не материального, разумеется, характера. К чести обоих надобно, однако, сказать, что действительное уважение друг к другу скоро опять восстановилось…“
И что же! Несмотря на такую высокую оценку Васильева, несмотря на то, что считал себя как бы учеником его, Крамской, рядом с похвалами, никогда не задумывался относиться к нему с самой строгой критикой порицания, на счет техники, когда находил то справедливым. Он ничуть не боялся неприятно оскорбить его самолюбие — ему это и в голову не приходило. Так, например, про одну из последних его картин, „Болото“, он пишет ему 22 февраля 1872 года: „Первый взгляд был не в пользу силы. Она показалась мне чуть-чуть легка, и не то чтобы акварельна, а как будто перекопчена. Но это был один момент. Я о нем упоминаю к сведению, но во всем остальном она сразу до такой степени говорит ясно, что вы думали и чувствовали, что, я думаю, и самый момент в природе не сказал бы ничего больше. Эта от первого плана убегающая тень, этот ветерок, побежавший по воде, эти деревца, еще поливаемые последними каплями дождя, это русло, начинающее зарастать, наконец, небо, т. е. тучи, туда уходящие, со всею массою воды, обмытая зелень, весенняя зелень, яркая, одноцветная, невозможная, варварская для задачи художника, и, как символ, несмотря на то, что кажется буря прошла, монограмма взята все-таки безнадежная — все это вы… Покончивши с впечатлениями, обратимся к рассуждениям. Прошу не забывать, что мы понимаем задачи искусства несколько больше того, чем довольствуются обыкновенно, и требуем, чтобы уровень подымался, а не то, чтобы была вещь только лучшая из того, что всеми делается. Итак, ваша картина, в тонах на земле — безукоризненна, только вода чуть-чуть светла, и небо тоже хорошо исключая самого верхнего облака большого пятна света: в нем я не вижу той страшной округлости, которая быть здесь должна. По вашей же затее, у горизонта налево особенно небо хорошо. Пригорок левый тоже, деревья мокрые, действительно и несомненно мокрые. Но что даже из ряду вон — это свет на первом плане. Просто страшно. И потом, эта деликатность и удивительная оконченность, мне кажется, тут именно идет, хотя она везде идет. Но, несмотря на это, желательно бы, чтобы градация между светом и полутонами, особенно направо и налево от воды, была бы для глаза чувствительнее. Это прямое следствие условий, при которых вы писали. Отодвинуть далеко, вероятно, было нельзя. В общем вещь, несмотря на все мною сказанное, пожалуй, лучше „Зимы“, даже решительно лучше… Но, что нужно непременно удержать в будущих ваших работах — это окончательность, которая в этой вещи есть, т. е. окончательность, которая без сухости дает возможность не только узнавать предмет безошибочно, но и наслаждаться красотой предмета. Эта трава на первом плане и эта тень — такого рода, что я не знаю ни одного произведения русской школы, где бы так обворожительно это было сработано. И потом, счастливый какой-то фантастический свет, совершенно особенный, и в то же время такой натуральный, что я не могу ото: рвать глаза. Замечаете ли вы, как я стараюсь добросовестно исполнить вашу просьбу, определить недостатки вашей картины, и свожу всякий раз на хвалебный гимн! Если уже вам непременно хочется отыскать в своей картине недостатки крупные, то вообразите, что вам об них говорит человек к вам пристрастный и любящий. Но прошу не забывать, что настоящее сочувствие не бывает слепо…“
Третья крупная художественная личность, глубоко пленившая Крамского, — был Верещагин. Уже в 1869 году, во время туркестанской выставки в доме министерства государственных имуществ, Крамской был сильно поражен его первыми двадцатью картинами: „Опиумоеды“, „До победы“, „После победы“, „Хор дуванов“ и другими. „Выставку эту я помню слишком хорошо, — писал он 16 лет спустя, в статье своей по поводу выставки картин Верещагина на сюжеты из евангелия, в 1885 году, — я был на ней много раз, и все с большим удивлением и удовольствием любовался его картинами, сознавая, какая великая сила заключена в неизвестном тогда имени. Недостатки его и тогда были для меня очевидны: рыжевато-черный колорит и некоторая деревянность черт и формы. Оба недостатка можно было отнести к неопытности и, так сказать, молодости; и, действительно, от рыжевато-черного колорита он очень скоро и блистательно освободился. Второй же недостаток: недостаточно тонкое и недостаточно гибкое чутье формы, заставлял тревожно и с сомнением смотреть на будущее, потому что этот недостаток очень серьезный. Но как бы то ни было, а только на той выставке была картина „Опиумоеды“, самая великая и замечательная вещь, когда-либо написанная Верещагиным…“ заметим, однако, что „тревожность и сомнение“ едва ли не присочинены тут задним числом в такое время, когда Крамской уже совершенно иначе стал относиться к Верещагину. В 1869 году, да и долго позже, никто из знакомых Крамского не слыхал от него ничего про эти „тревогу и опасение“. Писем же этого времени не сохранилось.
Но когда в 1874 году открылась в Петербурге громадная выставка туркестанских картин Верещагина, Крамской так был ею поражен, что писал мне (15 марта); „Теперь о Верещагине: предваряю, я не могу говорить хладнокровно. По моему мнению, это: событие. Это — завоевание России, гораздо большее, чем завоевание Кауфмана. Теперь вопрос: будет ли правительство и общество на высоте задачи? Я слышал, что будто бы Верещагин принужден коллекцию распродать в разные руки желающим. Мне сдается, что этого допустить не следовало бы; уж если суждено нам не понять и не оценить явления, то пусть лучше он увезет в Лондон и продает там. Что ж, в свое время, когда русские художники поймут важность картин из русской истории, тогда по крайней мере они будут ездить в Англию и видеть все вместе, только чтобы не допустить раздробления… По-моему, это нечто невероятное. Эта идея, пронизывающая невидимо (но осязательно для ума и чувства) всю выставку, эта неослабная энергия, этот высокий уровень исполнения (исключая „С гор на долину“ — самая большая и самая слабая), этот, наконец, прием, невероятно новый и художественный в исполнении вторых и последних планов в картине — заставляет биться мое сердце гордостью, что Верещагин русский, вполне русский“. А когда некто академик Тютрюмов, человек теперь давно умерший, но тогда вдруг ставший очень известным, напечатал статью против Верещагина, доказывая, что все его картины — подлог, Крамской встал на защиту Верещагина. В статье, оставшейся до сих пор ненапечатанного: „Вечер между художниками“, он набросал живую картину прений и даже перебранок, происходивших в обществе художников, его товарищей, по поводу Верещагина. Сам себя он изобразил под видом того художника, который много раз во время вечера возвышает „голос из угла“ и настойчиво держит сторону Верещагина. Скоро потом Крамской самым деятельным образом участвовал в печатном протесте наших художников против Тютрюмова, а вместе с необычайною горячностью следил за осуществлением проекта П. М. Третьякова: купить всю туркестанскую коллекцию Верещагина для его национального музея. Самому П. М. Третьякову Крамской писал тогда, однакоже, что-то, отчасти иное: „Форма Верещагина так объективна, сочинение так безискусственно и невыдуманно, что кажется фотографическими снимками с действительно происходивших сцен. Но так как мы знаем, что этого нет и быть не могло, то в сочинении и композиции его картин участвовал, стало быть, талант и ум. Его живопись (собственно письмо) такого высокого качества, которое стоит в уровень с тем, что мы знаем в Европе. Его колорит вообще поразителен. Его рисунок, не внешний, контурный, который очень хорош, а внутренний, что иногда называют лепкой, слабее других его способностей, и он-то, этот рисунок, главным образом, заставляет меня отзываться о нем, как о человеке, неспособном на выражение внутренних, глубоких сердечных движений. Все это я увидел с первого же раза; но уровень его художественных достоинств, его энергия, постоянно находящаяся на страшной высоте и напряжении, не ослабевая ни на минуту (исключая „С гор на долину“), наконец, вся коллекция, где Средняя Азия действительно перед нами, со всех мало-мальски доступных европейцу сторон, производит такое впечатление, что хочется удержать ее, во что бы то ни стало, в полном ее составе… Коллекция эта ничем не затронет нашего сердечного, психологического и умственного мира. Исключая политического, она не раздвинет наш теперешний горизонт и не откроет нового… Ни одной черты, родной нам по духу, исключая патриотической, нет в этой коллекции, да и быть не могло. И все-таки это — колоссальное явление, и все-таки эта коллекция драгоценна, она слишком серьезна…“ (Письмо от 12 марта 1874 года). Не могу не заметить, что Крамской не был тут вполне прав. Такие черты, как беспредельное самоотречение русского солдата, его покорность злой судьбе, его готовность, в XIX веке, „лечь костьми“ и „не посрамить. земли русской“, точь-в-точь 900 лет тому назад, при Святославе, его добродушие, его незлобивость, и рядом, холодное зверство и варварство — это все черты глубоко народные, глубоко исторические, глубоко психологические. Но, что еще больше того, все они, прямо наперекор словам Крамского, „глубоко затрагивают наш сердечный, психологический и умственный мир“, наше историческое самосознание, никак не меньше „Опиумоедов“. Здесь, не взирая на всю талантливость исполнения, самый сюжет был на сто раз ниже тех сюжетов, какие присутствуют в прочих, истинно исторических картинах Верещагина. Питье опиума — только сцена этнографическая, бои русских в Средней Азии — трагедии исторические. В последних картинах являлось осуществление всего того постоянно „исторического направления“, о котором мечтал Крамской еще в 1858 году, глядя на картину Иванова и возвещая, что „час старой исторической живописи пробил“. Каким чудом все исторические, народные и психологические черты картин Верещагина могли не „затрагивать“ Крамского как человека и как художника-вот что истинно непостижимо!
Крамской как-то странно колебался то направо, то налево и впоследствии относительно Верещагина. Один раз он писал П. М. Третьякову то, что мы выше видели; другой раз, Репину (7 мая 1874 года): „Верещагин — явление, высоко поднимающее дух русского человека. Это человек оригинальный и вполне самобытный, несмотря на то, что он много времени пробыл за границей и усвоил себе все технические приемы западного искусства, только с некоторой поправкой, ему одному принадлежащей. Через это видеть его — истинное наслаждение…“ Мне, по поводу картин из болгарской войны, он писал 28 сентября 1878 года: „Радуюсь, что вы нашли у Верещагина все то, о чем пишете, особенно из последней войны, и я верю, что все несомненно так, как вы написали. Да, Верещагин один — я уже давно смекнул, что натура его гениальная“. Потом, по поводу фотографического издания картин болгарской войны, он писал в „Художественном журнале“ (1881 год, январь): „Верещагин слишком живой человек, чтобы нам рассуждать о нем хладнокровно. В нем есть нечто, кроме художника; его произведения, помимо живописных достоинств, заключают мысли, с которыми мы не привыкли встречаться в картинах. Каждое его произведение заключает в себе идею, достойную картины; каждая идея высказана твердо, коротко и ясно, но исполнена так, что хотя и виден великий мастер, но картина одна, без поддержки целой серии картин, не имеет настоящего самостоятельного значения: только все картины вместе и поучительны, и интересны, и дороги. Это тоже черта новая… Целая серия составляет живой организм, очень симпатичный, часто глубокий… Об этом человеке иностранцы отозвались, как имеющем какие-то особенности, незнакомые им у себя дома. Какая-то русская оригинальность сказалась и тут“. — П. М. Третьякову (в конце зимы 1882 года) он также писал: „Новая ташкентская картина Верещагина не более как этюд двух фигур, но так изумительно написанный, что, мне кажется, он превосходит по технике все, что я у Верещагина видел…“ Но что же! После всего этого, вдруг он писал (12 декабря 1885 года) А. С. Суворину, что „Верещагину довольно долго удавалось отвертеться от предъявления чисто художественных документов“, что „он отводил глаза наивным, поражая их или сюжетом, или отделкой архитектуры“. Точно будто Верещагин не удовлетворял чисто художественным требованиям, когда писал все те вещи, за которые Крамской прежде называл его „гениальным“, точно будто сюжеты с правдивыми изображениями ужасов, бессмыслия и варварств войны — сюжеты, заслуживающие порицания и нелепой клички „тенденциозные“! Все это непонятно и странно. Почему у Крамского, при всей его честности, правдивости, справедливости и беспристрастии, происходило такое необъяснимое колебание, в продолжение всей его жизни, относительно одного только Верещагина — навряд ли кто объяснит! Под конец жизни в этом отношении Крамской даже так далеко заходил, что, нападая на картины Верещагина, на религиозные сюжеты, действительно неудачные и промахнувшиеся, он вдруг уверял, что Верещагин „упустил ту высокую художественную роль, которая у него была вначале в руках“. Куда девалась вдруг вся та „гениальность Верещагина“, про которую прежде так много говорил и писал сам Крамской, талантливость техники, оригинальность, национальность! Точно будто из-за нескольких неудачных картин, и еще на сюжеты, несвойственные Верещагину, совершенно чуждые ему, надо забыть все, что им сделано в продолжение всей его жизни! Все мы, вместе с Крамским, должны разом забыть все прежде сделанное художником, все существующее налицо! Такие странные отношения к Верещагину — одно из пятен Крамского, особливо при конце его жизни. Причина их, конечно, только удручающая болезнь, одно время (хотя не надолго) изменившая мысли и взгляды Крамского во многом, касавшемся художества и художников. И все-таки нельзя забыть прежнего горячего отношения Крамского к Верещагину, всего того правдивого и глубокого, что он о нем высказывал вначале.
Репина Крамской стал знать очень молодым, когда тот, еще учеником Академии художеств, ходил рисовать в рисовальную школу Общества поощрения художников, познакомился с Крамским и долго пользовался его советами. Крамской скоро понял, какого талантливого художника он видит перед собой; он тотчас же вступил с ним в такие сердечные отношения наставника, советника и друга, в каких ни с кем не был во всю свою жизнь, кроме одного пейзажиста Васильева. Позже он писал, что многому от Репина научился в живописи. Переписка его с ним — верх интереса и серьезной работы мысли. Первую, теперь давно знаменитую, картину Репина, „Бурлаки“, Крамской принял еще с довольно умеренным одобрением. Он писал про нее Васильеву 27 марта 1873 года: „Репин картину свою „Бурлаки“ кончил, и я вам должен сказать, что картина хорошая вполне“. Но, год спустя, он писал Репину, по поводу одного его женского портрета акварелью, находившегося на выставке 1874 года: „Ваш „Монах“ хорош, портрет Стасова — очень хорош, „Барыня“ масляными красками (портрет) имеет несколько черные тени, но акварель — бесподобная. Это такая симпатичная штука, что оказывается чуть ли не лучшим портретом на всей выставке. Вы — реалист, один из самых неумолимых, почти граничащий с материалистом. И вдруг оказываетесь способным брать ноты такие нежные, что мне, примыкающему по своим свойствам к породе тихоструйных, остается только удивляться. Да я уже и удивлялся, как вы помните, в вашей мастерской, когда видел портрет этот в работе…“ Про портрет Репина с Куинджи Крамской писал тоже, самому автору; 18 октября 1877 года: „Сказать вам, что портрет этот хорош — мало, сказать, что удивительный — не совсем верно, так как я, зная вас хорошо, не буду удивлен, что бы вы ни сделали… Это портрет с первого же раза говорит, что он принадлежит к числу далеко поднявшихся за уровень. Глаза удивительно живые; мало того, они произвели во мне впечатление ужаса; они щурятся, шевелятся и страшно, поразительно пронизывают зрителя. Потом рот чудесный, верный, иронизирующий вместе с глазами; лоб написан и вылеплен, как редко вообще, не между нами только. Словом, вся физиономия — живая и похожая. Кроме того, фигура — прелестная: это пальто, эта неуклюжая посадка, все, словом, замечательно передает восточного симпатичного человека. Одно, что необходимо, по-моему, вам посмотреть, это всю нижнюю площадку носа и особенно самый кончик. И потом еще весь цвет волос: он и силен и однообразен. Это еще не все: кресло к нему решительно не идет… В первый раз в жизни я позавидовал живому человеку, той завистью, от которой больно и в то же время радостно; больно — что это не я так сделал, а радостно — что вот же оно существует, сделано, стало быть идеал можно схватить за хвост… Так написать, как написаны глаза и лоб, я только во сне вижу, что делаю, но всякий раз, просыпаясь, убеждаюсь, что нет во мне этого нерва, и не мне, бедному, выпадет на долю удовольствие принадлежать к числу нового живого и свободного искусства…“ В апреле 1878 года, говоря П. М. Третьякову о разных новых предположениях касательно Товарищества передвижных выставок, Крамской просил Третьякова дать его идеям ход, и прежде всего сообщить их Репину. „Я на него готов указывать, как на мессию“, — прибавлял он.
Многие картины и портреты Репина Крамской хвалил с великим энтузиазмом. Но когда явился на выставке 1885 года его „Иван Грозный с сыном“, энтузиазм Крамского не имел пределов. Письма его к П. О. Ковалевскому и А. С. Суворину полны безмерного восторга, и, в продолжение нескольких недель, он, можно сказать, все время проводил в писании писем о Репине и его картине. А. С. Суворину он писал: „Видеть вам эту картину необходимо! Необходимо убедиться лично (так сказать вложить персты), что русское искусство, наконец, созревает. Вы не можете представить себе, какое это отрадное убеждение… и как написано, боже, как написано!.. Вот он зрелый плод…“ в других письмах к А. С. Суворину и к „Неизвестному“ Крамской говорил, что у Репина в картине — шекспировская правда, и по живописи у Репина вообще есть что-то родственное с Рембрандтом. Крамской так много и столько важного написал об этой картине, что трудно делать из его писем выписки. Надо читать его письма целиком.
Как высоко Крамской ценил Владимира Маковского, мы уже видели выше: он ставил его наряду с самыми первостепенными жанристами в Европе, а в деле национальности типов — еще выше, считал его совершенно выходящим из ряду вон.
Еще один из русских художников, сделавший на Крамского глубокое впечатление, был — Куинджи. Вначале он писал Репину 5 апреля
1875 года по поводу картины „Степь“: „Куинджи — это, правда, человек как будто будущий, но если он так начнет шагать, как до сих пор, — признаюсь! Немного насчитаешь таких, молодец! Он тут изобразил одну степь с цветами, — даже Клодт хвалил. А, каков! Можете, стало быть, судить…“ Вслед за тем Крамской писал Репину же, 26 марта
1876 года, что не понимает его „Леса“ и „Заходящего солнца, над избушкой“. „Еще первым я могу восхищаться, — говорил он, — как чем-то горячечным, каким-то страшным сном, но „Заходящее солнце“ решительно выше моего понимания. Я совершенно дурак перед картиной. Я вижу, что самый свет на этой белой избе так верен, так верен, что моему глазу так же утомительно на него смотреть, как на живую действительность: через пять минут у меня в глазу больно, я отворачиваюсь, закрываю глаза и не хочу больше смотреть. Неужели это творчество? Неужели это художественное впечатление?..“ Но когда в 1880 году появилась „Ночь на Днепре“, восторг и изумление Крамского были так велики, что он даже задумал опубликовать „протокол“, где несколько лучших современных художников высказали бы, что именно они видели в картине собственными глазами. „Может быть, — писал он в письме к А. С. Суворину (назначенном для печати), — может быть, краски Куинджи потухнут или изменятся и разложатся до того, что потомки будут пожимать плечами в недоумении: от чего приходили в восторг добродушные зрители? Вот, во избежание такого несправедливого отношения в будущем, я бы не прочь составить „протокол“, что „Ночь на Днепре“ Куинджи вся наполнена действительно светом и воздухом, его река действительно совершает величественно свое течение, и небо — настоящее бездонное и глубокое. Я картину давно знаю, видел при всех моментах дня и во всех освещениях и могу свидетельствовать, что как при первом знакомстве не мог отделаться от физиологического раздражения в глазу, как бы от действительного света, так и во все последующие разы, всякий раз одно и то же чувство возникало во мне при взгляде на картину…“ К сожалению, это любопытная и оригинальная статья осталась в свое время ненапечатанного.
Перечисленные мною до сих пор художники были те из новых русских живописцев, которыми всего более восхищался Крамской и которых считал настоящими краеугольными камнями нового художественного нашего развития. Но самые искренние его симпатии лежали на стороне многих других еще наших художников, которых талант его восхищал, а успех радовал до глубины души.
Но это никогда не мешало ему видеть существующие у них недочеты и высказывать это, как самим авторам, прямо в глаза, в устных беседах и письмах, так и прочим товарищам по искусству.
Федотова и Перова он однажды назвал (в письме ко мне 14 апреля 1884 года) еще „не совершенными художниками, а только носителями идей“; но это было единственный только раз. Конечно, со стороны живописной техники и исполнения, Федотову и Перову многого еще недоставало, и с этой стороны Крамской был довольно прав в своем суровом отзыве; но все-таки он не мог не видеть и великих качеств этих людей, и того, как они двинули русское искусство по пути правды и истинного выражения жизни. Каждое новое произведение Перова радовало его; знаменитые его портреты (Камынина, Погодина, Достоевского, Даля и проч. на выставке 1872 года) — он называл блистательными. Но по поводу его картины „Выгрузка извести“ он ему писал: „Картина, несмотря на неудовлетворительный рисунок и местами даже дурной, — делает чрезвычайно сильное впечатление сочинением, содержанием и общим тоном картины. Мне остается только сожалеть, что такая страшная мысль, такое драматическое содержание, быть может, самое серьезное из всех, вами взятых сюжетов, стоит по исполнению фигур не на том уровне, какой я уже привык у вас видеть. Вы требовали от меня отчета — я вам сказал“. Когда Перов стал болезненно изменяться, и физически и морально, Крамской один из первых указал на печальную перемену, говорил, что „Перов стал писать как-то развязно и трубно“, что он, „кажется, почувствовал себя великим человеком“. Крамской называл его „московским папой“, и долго старался беседами и письмами возвратить его на прежний высокий его пост. К его горести, ничто не помогло. Незадолго до окончательной катастрофы Крамской все еще душевно радовался на те немногие чудесные народные типы, которые Перов (в виде исключения) успел вставить в свою неудачную картину „Никита Пустосвят“.
Другой товарищ, друг и предмет обожания Крамского был — Ге. Они сблизились с самого возвращения Ге из-за границы, с его тотчас же прославившейся „Тайной вечерей“; они вместе работали над устройством и организацией Товарищества передвижных выставок (идею которого первый высказал, впрочем, Мясоедов) и долгие годы отстаивали потом самое его существование. Это общее дело долго связывало их вместе. Что касается собственно художественного дела, то, правда, в 1874 году Крамской писал Репину, что Ге „погиб, т. е. поздно оказывается учиться (да он и не учился никогда)“, но картина Ге „Петр I с сыном, царевичем Алексеем Петровичем“ приводила его в неописанный восторг, он придавал ей громадное значение и говорил, что на выставке 1873 года она производила впечатление „опрашивающее“.
Художник, всегда близкий душе Крамского, — это пейзажист Шишкин. Разбору или упоминанию его картин посвящено много места в его переписке; конечно, в устных беседах Шишкин был у него всегда еще более на сцене. В 1885 году Крамской писал А. С. Суворину: „До Шишкина в России были пейзажи выдуманные, такие, каких нигде и никогда не существовало (исключая Щедрина и Лебедева); этого мало: Шишкин остается единственным и до сих пор, как знаток и рисовальщик дерева вообще, и хвойного леса в особенности. Когда Шишкина не будет, тогда только поймут, что преемник ему сыщется не скоро“. Конечно, в Шишкине Крамской всегда видел также все его недостатки, иногда „недостаток поэзии“ (как он выражался), недостаток собственно „письма“, и никогда не скрывал этих своих мнений о нем, но очень многие его картины все-таки не мог не признавать „характеристическим явлением русской живописи“ (его картина „Лес“, 1872), картинами „превосходными“ (картина „Сосновый лес“, „Туманное утро“, 1885), а самого его — истинным учителем наших пейзажистов, в том числе и рано погибшего громадно-талантливого Федора Васильева.
Картины Айвазовского Крамской не раз порицал на своем веку за их слишком поспешное писание, за поверхностное отношение к задаче, за их насилование колорита. Но однажды, почти под самый конец жизни, он первый вздумал, что надо чествовать 50-летний юбилей его деятельности и добился того (хотя сам оставаясь за кулисами), что этот юбилей осуществился. В 1885 году он писал А. С. Суворину: „Кто бы и что бы ни говорил, Айвазовский есть звезда первой величины во всяком случае, и не только у нас, айв истории искусства вообщ'е. Между 3–4 тысячами нумеров, выпущенных Айвазовским в свет, есть вещи феноменальные, и навсегда таковыми они останутся, например, „Море“ у Третьякова, написанное, когда ему было уже более 70 лет. На картине этой ничего нет, кроме неба и воды, но вода — это океан беспредельный, суровый, бесконечный, а небо, если можно, еще бесконечнее. Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю. К ней именно приложимо выражение библейское: „Дух божий носяшася над бездною…“
Я привел здесь впечатления, полученные Крамским от главнейших созданий нового русского искусства, и, единственно по недостатку места, принужден промолчать о множестве других произведений нашей школы, вызывавших симпатии Крамского. Мне невозможно было бы привести здесь все его отзывы о Мясоедове, Савицком, Максимове, М. П. Клодте, Ковалевском, Ярошенко, Васнецове, Лемохе, Саврасове, Волкове, М. К. Клодте и многих других. Но и немногие приведенные у меня примеры дадут понятие о требованиях Крамского от молодого еще нашего искусства, о его надеждах и ожиданиях, о его восторгах при каждом новом успехе обожаемой им русской школы, дорогих для него русских художников, — но вместе дадут понятие и о том, как ему было чуждо потакание товарищам тогда, когда они были неправы. Он никогда не останавливался со своими суровыми и прямыми, неумолимыми атаками. [1]
Иногда он падал духом, начиная бояться за будущее русской художественной школы; это бывало тогда, когда он видел эгоизм, бездушие, апатию иных вновь выступавших вперед художников, их искание наживы, наград, блестящего внешнего успеха. Тогда он начинал иной раз тревожиться, мучиться опасениями, говорил и писал (как, например, в письме ко мне от 8 августа 1886 года): „Я думаю даже, что благодаря «атаке по всей линии», как вы картинно выразились, национальное наше искусство вступает в полосу гонения сознательного. Прежде, при Федотове и на заре Перова и молодой плеяды, гонение было спорадическое, бессознательное, припадками, а теперь наступает время систематического вытравливания. Молодежь, которая наполняет всегда кадры, не на стороне национального искусства, а это указывает на наступающее затишье — и надолго. Кто этого не видит, благо тому, пусть ликует, что русское искусство точно слон. [2] Об всех таких напастях я своевременно бил в набат, говорил, а кончил тем, что вижу: мне надо сидеть смирно и не вмешиваться… Другой раз, 21 июля 1886 года, он мне писал: «Лет через 30 или больше, конечно, возникнет вновь народное движение, а до тех пор — спите и почивайте, соратники! Теперь же иные времена и иные песни! Неужели вы не видите, что род живописи Бакаловича, Семирадского и прочих — теперь самый желательный. Его наиболее всего склонна признать и печать…»
Но это были только минутные вспышки наболевшего сердца. При малейшем новом успехе Товарищества, при каждом новом талантливом создании школы, Крамской снова ободрялся, получал прежние силы несокрушимого духа и веровал в торжество русского истинного искусства, русской национальной школы. «Есть еще порох в пороховницах! — писал он однажды Репину словами Гоголя из „Тараса Бульбы“. — Еще не иссякла казацкая сила! Смею вас уверить. Конечно, теперь центр тяжести передвинулся с тем, что было несколько лет тому назад. Тогда надежды были на Ге, Перова, Мясоедова и других, а теперь, где они? Ну что ж, слава богу, что так! Именно спросишь друг друга: „А есть ли еще порох в пороховницах?“ И хорошо, что такие вопросы раздаются! Спасибо вам за него, это был хороший вопрос! Коли такие вопросы существуют, значит еще казацкая сила цела!..» Мне Крамской писал в 1886 году, всего за полгода до смерти: «За все русское искусство я спокоен, и знаю, что оно себе рано или поздно, а завоюет уважение, и уважение широкое, начиная даже с правящих и заправляющих его судьбами и кончая улицей. Искусство национальное (каково только и имеет настоящую цену) должно быть уважено и должно пользоваться подобающей честью…»
Таковы были надежды, упования и крепкая вера, которыми Крамской жил даже в самые последние дни своей жизни.
1888 г.
КОММЕНТАРИИ
«КРАМСКОЙ И РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ». Статья впервые была опубликована в 1888 году («Северный вестник», май).
Глубоко уважая Крамского как художника, как выдающегося организатора и руководителя, «трибуна, советника, наставителя» Товарищества и русских художников вообще, Стасов после смерти Крамского пишет о нем ряд статей: «И. Н. Крамской» («Исторический вестник», 1887, май), «Крамской по его письмам и статьям» («Вестник Европы», 1887, т. XI–XII) и др. Комментируемая статья была написана через год после смерти художника.
Как подлинно передовой и инициативный деятель русского искусства, Стасов, после смерти Крамского, счел необходимым поставить его художественное и литературное наследие на дальнейшую службу русскому искусству. С этой целью он задумывает во что бы то ни стало издать переписку и литературно-критические статьи художника. Не имея средств на издание, Стасов, хотя и находился в обостренных отношениях с издателем «Нового времени», не счел невозможным обратиться к Суворину с предложением об издании писем Крамского. «Невзирая на мою коренную вражду с этим последним, — писал Стасов Третьякову 17 августа 1887 года, — невзирая на мою ненависть к „Новому времени“, я все-таки прямо, дерзко и смело адресовался к Суворину» (Архив ГТГ). Благодаря большим стараниям Стасова материалы были собраны, и книга «Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи, 1837–1887» (С.-Петербург), с предисловием Стасова, вышла в свет в 1888 году. Своеобразное «сотрудничество» Стасова с Сувориным, вызванное необходимостью, вовсе не означало примирения враждующих лагерей. Стасов и в дальнейшем выступал резко против нововременцев. Так, в 1888 году, когда на страницах «Нового времени» Буренин попытался извратить подлинное представление о Крамском («Новое время», 1888, 6 и 13 мая), Стасов в ответ напечатал две статьи: «Непростительная фальшь» и «Увертки г. Буренина» («Новости и биржевая газета», 1888, 11 и 14 мая).
В предисловии к переписке Крамского Стасов писал, что, по его убеждению, Крамской не только большой художник, но и «великий писатель об искусстве».
«Я давно знал Крамского и глубоко уважал его, но никогда он не представал мне такою крупною историческою личностью, какою я увидал его с тех пор, как у меня собралась вся громадная масса его писем и все критические статьи его. Только тогда мне стало ясно, что Крамской… это — величайший художественный критик нашего века» (указанное издание, стр. XIII, XIV). Крамской — «беспощадный анатом молодого русского нарастающего искусства», — заявил Стасов. — «Указывая… великие, неоцененные, свежие качества» этого искусства, он «не боится разбирать и осуждать все его худые, незрелые или далеко еще не совершенные стороны, — и все это с такою беспощадною строгостью, правдивостью, но вместе и любовью, каких до сих пор не выказывал в отношении к искусству своей страны ни один европейский критик». П. М. Третьякову Стасов заявил: «Для меня Крамской и Ал. Андр. Иванов — это такие два самостоятельные, оригинальные, смелые, новые в деле художественной критики ума, что вся Европа должна нам завидовать» (III, 337).
После смерти Крамского консервативная и реакционная печать, борясь против идейного реалистического искусства, стремится обезвредить и исказить значение наследия большого мастера-художника и критика, организатора Товарищества.«…Все продолжают твердить, что все это у Крамского еще не настоящая художественная критика, какая должна быть, — писал по этому поводу Стасов Репину. — О, пачкуны, идиоты, ни крестом, ни пестом никто и ничто их не проймет» (III, 124).
Стасов отстаивает наследие Крамского с передовых позиций. Его комментируемая статья имеет большое значение для правильного осмысления и определения места Крамского в истории русского искусства. Особенно следует подчеркнуть, что всю силу Крамского Стасов прямо объясняет эпохой 60-х годов, тем новым, что принесли в общественную жизнь Чернышевский и Добролюбов. С неменьшим вниманием следует отнестись и к тому, что Стасов, высоко оценивая критическую мысль Крамского, подчеркивает приоритет русского искусства и русской критической мысли XIX века, которая шла впереди мысли западноевропейских знаменитостей в области науки об искусстве.
После смерти Крамского воспоминания о нем опубликовал Репин («Иван Николаевич Крамской. Памяти учителя». «Русская старина», т. VIII, 1888), в которых дан живой, светлый образ большого мастера, идейного вдохновителя и учителя русских художников-реалистов, всю жизнь горевшего пламенной любовью к искусству своей страны. «Мир праху твоему, могучий человек… — заканчивал свои воспоминания Репин, — ты с гигантской энергией создаешь одну за другой две художественные ассоциации, опрокидываешь навсегда отжившие классические авторитеты и заставляешь уважать и признать национальное русское творчество!.. Достоин ты национального монумента, русский гражданин-художник!» (И. Е. Репин. «Далекое — близкое». «Искусство», 1937, стр. 246). Эти воспоминания Репина Стасов назвал «гимном Крамскому».
Примечания
1
Я не привожу здесь суждений Крамского о скульптурах Антокольского и об архитектуре Гартмана. Обоих художников и их произведения Крамской ценил очень высоко, но о некоторых из этих произведений высказал несколько приговоров мало состоятельных: о Гартмане — вероятно потому, что, по собственным словам, «ничего не смыслил в архитектуре» (письмо ко мне 4 мая 1876 года), а о «монументальных» созданиях и Гартмана и Антокольского вообще, потому, конечно, что мало и неудовлетворительно высказывался всегда о всем «монументальном» в искусстве. Впрочем, о его критике Гартмана и Антокольского я надеюсь говорить подробнее при другом случае. — В. С.
(обратно)2
Намек на стих Крылова, часто повторявшийся мною, в беседах с Крамским, относительно неуязвимости нового русского искусства: «А он себе идет и лая твоего (т. е. враждебной критики и публики) совсем не примечает…»- В. С.
(обратно)


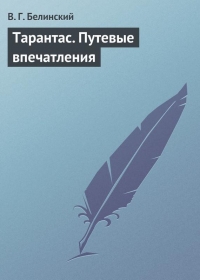
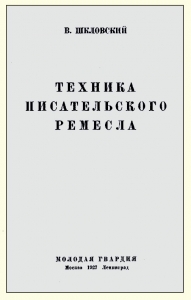


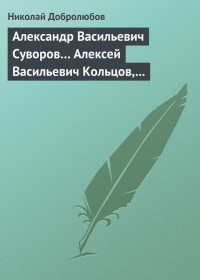
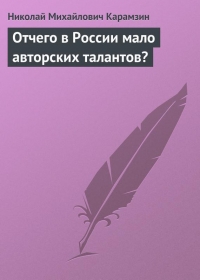
Комментарии к книге «Крамской и русские художники», Владимир Васильевич Стасов
Всего 0 комментариев