Статья первая
Наш первый итог на всемирной выставке — я говорю, конечно, только про одно русское искусство — тот, что нам надавали множество наград. Тут были и кресты Почетного легиона, и медали 1-го класса, и медали 2-го и 3-го класса, и почетные отзывы — всего этого было много. Кто самолюбив и сильно занимается по части так называемой патриотической гордости, имел все право остаться вполне доволен. Чего еще?
Однако, признаюсь, как это, может быть, ни странно сначала покажется, эти отличия и аттестаты мало меня радуют, и я покачал головой и пожал плечами еще в Париже, когда только что пронесся при мне слух о присуждениях. И мои соображения кажутся мне настолько справедливыми, что я надеюсь, со мною согласятся многие.
Награда тогда только имеет значение, когда она дана кому надо, а главное — за что следует. Когда же награды начнут присуждаться навыворот и вверх ногами, тогда уже они ровно ничего не значат и становятся пустейшею побрякушкой. А что сказать, когда вдруг увидишь, что «отлички и петлички» (как говорит Грибоедов) и 1-го, и 2-го, и 3-го, и какого угодно класса раздаются не то что уже просто не знаючи, просто бестолково, а точь-в-точь будто бы с умышленною неправдой в основании, с преднамеренною слепотой, с систематическим игнорированием того, что видеть и понимать надо. Что тут сказать? Только то и скажешь, что, дескать, ни в грош не ставлю я все ваши награды, и пускай ими утешается кто хочет, а я пойду поищу правды в другом месте.
Я обвиняю судей, судивших наше искусство на всемирной выставке, в том, что они присудили свои награды только тем художественным произведениям нашим, где не было никакой не только русской, но вообще какой бы то ни было национальности. Всякое наше создание, где была хоть тень национальности, отбрасывалось тотчас в сторону и тщательно задвигалось могильной плитой; его знать не хотели в числе конкурентов.
Нравятся вам такие судьи и такие присуждения? Мне — нет.
Не то чтобы я хотел сказать, будто иностранные присяжные присудили нынче свои награды все только каким-то ничтожным и дрянным русским произведениям. Ничуть не бывало, у меня этого не было и в голове. Напротив, в числе награжденные художников и произведений есть несколько очень даровитых, есть даже между ними несколько художников и произведений с дарованием самым высоким. Вот возьмите, например, хоть «Христа» г. Антокольского или портреты г. Харламова; «Светочи Нерона» г. Семирадского или мозаики нашего мозаического отделения; «Христа» г. Крамского или гравюру г. Редлиха с картины Матейки, и т. д., и т. д.: все это вещи прекрасные, с очень значительными, а частью и очень крупными достоинствами, и было бы очень худо не признавать их достойными наград (коль скоро дело уже идет о наградах). Но ведь это все только одна половина русского контингента. Где же другая-то? И куда ее, в какую глушь и темноту, затолкали?
Наши бытовые и исторические картины, наши пейзажи и портреты на сюжеты прямо русские, с чисто русскою, самобытною окраской и значением — те куда все подевались? Или их вовсе не было на выставке? Или господа судьи, бог их знает по какому соображению, проходили мимо них сто раз и не видели их или же нарочно закрывались от них щитком.
Я спрашиваю: не то ли же это самое, что взять да завязать платком пол-лица у красивой женщины, а потом рассуждать: хороша ли она или дурна?
Впрочем, чему же тут удивляться? Разве можно было ждать чего-нибудь иного от людей, вовсе не приготовленных к делу, за которое их засадили? Неужели достаточно быть вообще «хорошим» живописцем или скульптором для того, чтобы оценять все, что ни появится по части живописи или скульптуры?
В искусстве теперь у нас пошла та самая история, что в литературе. Дарования разнообразны, одни могучее, другие слабее, одни важнее и полновеснее, другие ничтожнее — это само собою разумеется, но каждый из этих писателей, каждый из этих художников только тогда что-нибудь значит, когда изображает не прежние выдумки и идеальности, не прежнюю небывальщину и фантазию, а ту правду и жизненность, которая у него перед глазами, которую он твердо знает и чувствует. Отнимите у лучших современных художников, особенно у русских, эту нынешнюю, новую почву, и почти все они становятся какими-то праздными, пустыми, ощипанными, ни на что не нужными баловниками, размазывателями праздных, пустых, ощипанных и ни на что не нужных тем. В изображении действительно знаемого и существующего вся сила и смысл нынешнего художника, особенно русского, — так его уже сложили и устроили его обстоятельства и история. Значит, и обсуждать русское современное художество можно, только твердо зная его смысл и направление, только разумея, куда оно идет и чего хочет.
А тут вдруг являются господа, которые о России и стремлениях ее искусства меньше знают, чем мы о внутренности Африки, и принимаются нас судить со стороны того, что им, иностранцам, нужно и нравится, со стороны того, что им известно и к чему они только и привыкли. Вообразите себе, что за чепуха должна выйти! Тот разве аршин тут взят, каким надо было мерить?
Все эти Бонна, и Мейсонье, и Роберт-Флери, и Жеромы, и как бы их там ни звали и сколько бы их там ни было, не могут не очутиться, словно «рак некий на мели», повстречавшись вдруг со взводом русских нынешних картин. Они все, или по крайней мере многие между ними, — люди талантливые и умелые, может быть иногда даже образованные и умные, но нисколько не пригодные к делу оценки нашего художества и наших художников. Пошлите французских романистов, драматургов, поэтов оценивать русские романы и повести, драмы и комедии, стихи и поэмы — что из этого выйдет? Вообразите себе, что за чепуху и путаницу мы там прочитаем. У них Гоголь и Островский, Лев Толстой и Достоевский появятся совершенно в ином виде, чем мы их знаем и понимаем; их перемешают с нашими посредственностями, все самое лучшее и важное они пропустят мимо глаз и ушей и постоянно будут сравнивать, для примера и наставления, изредка для поощрения, с теми своими собственными писателями, которых мы и знать-то не хотим, потому что они и мизинца одного не стоят на ноге у гениальных или высокоталантливых художников русского слова. Представьте же себе, что будет, когда дело пойдет о русских живописцах, которые оригинальны и сильно даровиты, но которым далеко до Гоголя или Льва Толстого, как до звезды небесной? Что будет, когда этих художников будут обсуждать живописцы, скульпторы и граверы, еще в сто раз меньше образованные и развитые (хотя и талантливые), чем иностранные романисты, драматурги и поэты?
Нет, эти судьи, эти присяжные для нас не годятся. Мы, пожалуй, можем принять к сведению, что они говорят и думают, — авось где-нибудь в частях у них будет и дельное, и толковое, в общем же — нам лучше будет жить и решать своим собственным мозгом.
Поверхностное и легковесное отношение к русской школе простирается в настоящую минуту так далеко, что иностранные судьи-жюри иной раз просили русских делегатов просто написать им на бумажке, кто из русских получше, кого надо бы баллотировать, кому приблизительно присуждать что-нибудь, а уж там они, на основании этих бумажек, столько облегчающих дело, посмотрят, как чему быть. Совершенно как на общих собраниях акционерных обществ! Ты мне сделай вот это, а я тебе — вот то.
Нет, нет, подальше от таких судей и наград. Но этого мало. Мнения международного жюри начинают весить на наших весах еще меньше, когда мы видим, что это вовсе не общеевропейское мнение о нас, тут еще не присутствует Европа, вся как есть целиком, со всей своей головой, симпатией и понятием. Есть другая половина людей, половина, огромная по составу, значительная по интеллигенции, которая совсем иное думает про наше художество и наших художников. Эта половина — публика и ее выразительница — художественная критика. Разлад между обеими половинами существует на нашем веку больше, чем когда-нибудь. Мы это поминутно видим даже у себя дома. Нет больше, и уже давно, прежнего единодушия и согласия между художниками-ценителями, с одной стороны, и разнообразными публиками и критикой, с другой стороны. Между теми и другими — война постоянная и непримиримая, и только в немногих случаях лучшие из художников близко сходятся в понятиях и оценках своих с лучшими из публики.
Теперь взглянем на минуту, что и как решало иностранное жюри из художников, что и как находила иностранная публика и критика.
Один из значительнейших французских критиков, Мариюс Вашон, писал в газете «France» (24 июня): «Для большинства посетителей выставки русский художественный отдел — сущее откровение, полное приятных неожиданностей. Конечно, никак не ожидали встретить тут такое огромное количество оригинальных созданий, с таким неоспоримым значением и представляющих это редкое качество — резко обозначенный характер индивидуальности… Русские охотно учатся везде понемногу, кто во Франции, кто в Германии, некоторые также и в Италии. Дюссельдорф привлекает многих. Но несмотря на это, только что воротившись к себе домой, они в одну минуту снова становятся русскими, и если даже остаются следы чужестранных влияний — иначе и быть не может — трудно обвинять их в повторении того или другого своего учителя. Мы обвиняли (в своем обозрении всемирной выставки) швейцарцев, американцев, итальянцев и даже испанцев в том, что они систематически избегают брать задачами для своих картин сюжеты из национальной истории и рассказов, местные нравы и виды своей страны. Подобный упрек был бы совершенно несправедлив в отношении к русским художникам. Национальный характер — вот что всего более поразило нас во время наших посещений этого отдела. Из 154 картин почти все, за немногими исключениями, относятся к России…»
Другой французский критик, еще более значительный, Поль Манц, писал в «Temps» (2 октября): «Еще Теофиль Готье, после своего путешествия в Россию, говорил, что в этой стране существуют все элементы художественной школы, но что эта школа создастся и сделается интересна только тогда, когда перестанет нести на себе бремя иностранных влияний. Выставки 1862 и 1867 года, а также и нынешняя, доказывают, что Россия все еще не решается храбро держаться одной только своей национальности. Наше обозрение выставки доказывает, что все еще недостаточно многочисленны русские художники, осмеливающиеся говорить самостоятельным языком. По крайней мере, русская скульптура еще не вышла на свободу; она немножко держится прежних форм… Их искусство не имеет ни малейшего местного характера. Напротив, гений, специально свойственный русскому племени, встречается у нескольких живописцев, и, признаемся откровенно, на русской выставке эти своеобразники (ces particularistes) только одни нас и интересуют…»
Известный французский писатель по части художества, Дюранти, пишет в «Gazette des beaux-arts» (1 августа): «В последние годы в России образовалась, вне Академии художеств, независимая группа художников, перевозящая свои выставки из одних городов в другие. Богатый московский негоциант, Павел Третьяков, сильно поощряет эту группу, покупает у ее художников картины и составил галерею, которую он намерен завещать своему родному городу, для дарового посещения публикой. Вот именно среди этих живописцев (которых я на минуту назову „Третьяковскою школой“), живописцев национального быта и нравов, вероятно, и образуется русское искусство, важное и значительное… Русские живописцы должны связать свою будущность не с лицами старых бритых римлян (как у г. Семирадского), а с густыми бородами своих мужиков, и я твердо верю в живописную будущность России».
Художественный критик английского журнала «Athenaeum» идет даже еще дальше: он находит нашу самостоятельность и своеобразность столь драгоценными, что советует нам именно ее ставить на первое место, о ее сохранении прилагать все главное попечение, а успехи техники (которые всего более и всего ранее интересуют художников-жюри) придут мало-помалу сами собою. В нумере от 22 июня мы читаем: «Всего интереснее в русском художестве то, что оно обещает быть национальным, что оно стремится выбирать свои задачи из национальной и современной истории, в свои пейзажи берет виды отечественной страны. Если оно попытается верно делать это, можно смело предоставить исполнение самому себе; что есть важного в исполнении — есть результат прирожденного дарования, оно может усовершенствоваться в течение долгой жизни, посредством изучения со стороны отдельного художника, а также вследствие накопления традиции в школе. Что исполнение имеет важное значение — о том не может быть и спора; тем не менее, самое капельное обнаружение оригинальности стоит никак не менее, чем какие угодно сокровища блеска, приобретенные при подражании чужому складу».
И это говорит англичанин, т. е. урожденный консерватор, страж существующих привычек и охранитель преданий!
Правда, в противоположность приведенным мнениям, можно было бы привести несколько критических отзывов французских и немецких, где прямо, наоборот, не признается у наших художников никакой самостоятельности, никакой оригинальности, и только все одна подражательность. Так, например, известный немецкий художественный критик, Пехт, говорит в своей книге «Kunst und Kunstindustrie auf der Pariser Weltausstellung 1878»: «У русских художников легкости усвоения чужих образцов гораздо больше, чем духовного содержания; им все равно, кому ни подражать, немцам ли, французам ли; чего-нибудь оригинального, какого-нибудь самобытного мира формы или чувства не найдешь у них никогда или по крайней мере редко». Но такие люди немного для нас значат: почти всегда они — сами бывшие художники, очень оригинальные по дарованию и понятию (таков, между прочим, сам этот Пехт) — значит, они входят в разряд тех же художников-жюри, про которых говорено выше. Притом подобные люди уверяют, что у русских ничего своего и ждать нельзя, когда у них художники все с иностранными фамилиями: Ге, Коцебу, Бахман, Гун, Леман — точно будто у нас только и есть художников, что вот эти с иностранными фамилиями, или точно будто это и есть самые лучшие и оригинальные наши живописцы.
Однакоже пойдем дальше.
Иностранные художники, наши судьи, не удостоили на выставке своего внимания и великодушного поощрения ни одной бытовой нашей картины, словно их тут вовсе и не было или словно они все повально ничего не стоят. Куда, дескать, им против голландских Израэльсов и Верверов, бельгийских Стевенсов и Виллемсов, итальянских Яковаччи или Манчини, немецких Курцбауеров, Картеров, Рифшталей, Пробстов и т. д. Вот те, дескать, настоящие европейские художники, а вы что — так, пшик некоторый, ступайте спать. Но европейская публика и критика совсем другое находили.
Вашон писал («France», 27 июня): «В бытовых русских картинах есть простонародные типы, с суровою и дикою физиономией, которые — сущее диво исполнения и изобретения (des merveilles d'exИcution et d'invention). Там есть и чувство, и трогательность, а в некоторых картинах встречаешь ум, да еще самый тонкий и естественный; какой интересный нравственный этюд можно было бы создать на основании „Бурлаков“ г. Репина! У всех этих несчастных, тяжко вытягивающих лямку под раскаленным небом, сушащим их грудь, — изумительное разнообразие физиономий. Их загорелые лица, их черты, обезображенные усталью и лишениями, выражают всю гамму нравственных и физических мучений. Одни со страдальческою покорностью несут свое нищенское ярмо; другие гордо поднимают голову и смотрят на небо с яростью и проклятиями во взгляде, а не то просят себе смерти, чтобы покончить со своим страшным существованием. Пустынный пейзаж, небо, льющее на землю огненные потоки, много прибавляют к печальному величию этой потрясающей сцены».
Поль Манц говорит: «Кисть г. Репина не имеет никакой претензии на утонченность. Он написал своих „Бурлаков“, нисколько не льстя им, быть может даже немножко с умышленною некрасивостью. Прудон, приходивший в умиление перед „Каменоломщиками“ Курбе, нашел бы здесь еще большую оказию для своего одушевления… Г-н Репин пишет немного шершаво (peint un peu gras), но он тщательно выражает и высказывает характер».
Другой француз, Жюль Клареси, выражается с еще гораздо большим одушевлением. Он говорит в «JndИpendance Belge» 13 июля: «Что есть русского, очень русского, самого русского на нынешней выставке? Это картина г. Репина „Бурлаки“. Несчастные создания, идущие в лямках, потеют и истощаются в своей работе. Азиатская жарища пожгла их. Старые и молодые, все они страшные, их примешь, пожалуй, за всклокоченных и свирепых зверей в человечьем образе. Тут сошлись вместе все ужасающие худобы, все лютые дикости. Это картина поразительная, она в самом деле раскрывает горизонты на русский народ».
И вот этакую-то картину жюри всемирной выставки вовсе и не заметило. Точно будто ее вовсе и не привозили в Париж!
Впрочем, у интернационального жюри был по этой части и товарищ, свой брат художник.
В 1873 году Пехт писал, что на всей всемирной венской выставке не было ни единой картины, которой бы то ни было нации, где было бы больше солнца, чем в «Бурлаках» Репина. Нынче он ни слова не сказал про эту самую картину. Кажется, он ее даже не видел. Отчего такая странность — я скажу о том ниже мое предположение. Целый отдел русских картин был так прекрасно помещен и развешан, что не только Пехту, но даже нам, русским, видавшим эти самые картины, мудрено было не то что узнать, но и увидать их. Об этом еще будет говорено ниже.
Вашон заявляет, что вообще «Бурлаки», вместе с картинами гг. Перова, Максимова, Янсона и Бекера, «смело могут быть сравниваемы с лучшими созданиями дюссельдорфской школы и даже с картинами Кнауса».
Про картины г. Перова Манц говорит, что письмо в них, конечно, суховатое и жестковатое, но у этого художника «истинная сила выражения и чувство комизма». Сверх того, прибавляет он, г. Перов никакой идеальной примесью не обезображивает резкую подлинность своих типов. Невозможно быть более русским.
Про г. Владимира Маковского «Athenaeum» говорит, что его картинки прелестны по своему национальному типу, а в иных случаях и по художественности исполнения. «Кисть его иногда напоминает юмор и наблюдательность Диккенса» (каков аттестат в устах англичанина!). «Колдун» г. Максимова, — продолжает тот же писатель, — дает капитальное изображение русской жизни… Разнообразные выражения невесты и гостей великолепно задуманы, характеры прекрасно сняты с натуры, освещение очень художественно, а письмо солидно и эффектно. «Чтение манифеста» г. Мясоедова также замечательно по своему серьезному настроению и выражению, верному освещению; письмо просто, но доказывает верную наблюдательность природы.
«Выполнение картины г. Савицкого „Ремонт на железной дороге“, — говорит Манц, — совершенно лишено мастерства, даже местами наивно, но головы этих землекопов истинно изумительны».
Про «Исповедь» г. Корзухина Пехт говорит, что тут представлено, как матери приготавливают к церковному таинству маленьких детей и что «их характеры здесь уже очень рано высказываются». Манц тоже хвалит эту картину и называет ее «любопытной», и тут же с похвалой отзывается о «Поминках» г. Журавлева.
Те же Пехт и Манц хвалят обе картины г. Константина Маковского; из них первый говорит, что они доказывают мастерство кисти, но, к сожалению, «больше таланта, чем чувства». Манц, напротив, заявляет, что «Перенесение Магометова ковра» — прекрасная страница живописи, а «Болгарские мученицы» — потрясающая сцена, отлично выполненная и прекрасно написанная.
Жюри не заметило у нас ни одного портрета, кроме двух портретов г. Харламова; художественная же пресса перечислила с симпатией и одобрением все, что у нас было по этой части лучшего: сильно хвалила портрет г-жи Виардо работы г. Харламова (чего действительно этот превосходный портрет и заслуживал во всех отношениях), но при этом критики замечали, что у г. Харламова нет никакой самостоятельности, и пока одни видели в его работе отблеск изучения Рембрандта и Франца Гальса, другие указывали на сильное влияние Бонна и иных французов, третьи уже прямо называли г. Харламова французом (Клареси). Но рядом с г. Харламовым художественные критики указывали на талантливость еще и других значительных наших портретистов: Манц говорил, что портреты г. Крамского (с графа Льва Толстого, Григоровича, Шишкина), Перова (с Достоевского) и т. д. «отличаются своей фактурой и особенно оригинальностью; ни один не выполнен ординарно». Клареси хвалит портрет Достоевского. Английский критик в «Athenaeum» заявляет, что портрет Шишкина, работы Крамского, — «очень замечателен, и здесь солнечное освещение, растительность и фон столько же превосходны, как и самая фигура». Дюранти говорит: «Г-н Крамской в тоне тяжеловесном, но с твердою выразительностью передал славянский тип в портрете знаменитого русского писателя графа Льва Толстого». Манц в свою очередь замечает, что сила г. Крамского — в портрете (он особенно указывает на портрет Шишкина) и гораздо менее достоинств в его композиции (жюри находило противное и присудило медаль г. Крамскому, судя по прикрепленному билету, за его «Христа», но не за портреты).
Точно так же как портреты, и еще более бытовые картины, не дошли до глаз и внимания жюри и наши пейзажи. Международные судьи тщательно игнорировали их, а между тем, публика и художественная пресса оказались зрячее.
Вашон говорит: «Тот род, где русские, на наши глаза, выказывают истинное превосходство и неоспоримое совершенство, — это пейзаж. У них существует теперь такая школа пейзажистов, которую можно поставить в параллель со школами всех других народов и которой нечего бояться сравнения, даже, может быть, с французской школой. Мы находим в их произведениях живое чувство красот природы, много поэзии, форму умеренную и строгую, без сухости и холода. Простота сюжета и способов исполнения, кажется, составляют особенность их манеры». Манц провозглашает, что «истинно любопытное встречается на русской выставке у пейзажистов», и вслед за тем он распространяется про поэтичность и оригинальность «Украинской ночи» г. Куинджи, глубокое скорбное чувство, разлитое в его «Чумаках», про превосходное золотистое освещение в «Сенокосе» г. Орловского, про «Вид на Нижний-Новгород» г. Боголюбова и проч. Вашон из пейзажей г. Шишкина особенно восхищается «Лесной чащей», где колорит называет «великолепным» (superbe). Он же очень хвалит «Сенокос» г. Орловского, «Дорогу» г. Добровольского и «Полдень» г. Клодта. Клареси говорит с восхищением про «необыкновенную поэтичность и величавость» главной картины г. Куинджи «Украинская ночь»; Дюранти объявляет даже, что «г. Куинджи, бесспорно, самый любопытный, самый интересный между молодыми русскими живописцами. Оригинальная национальность чувствуется у него еще более, чем у других». «Лесистая даль» барона Клодта, — продолжает он, — обнаруживает деликатное чувство и тонкую наблюдательность. Г-н Шишкин не очень-то чувствителен к тонким и изящным тонам, но у него есть в картинах удивительное впечатление безмолвия и тоскливости лесной. «Athenaeum» сильно любуется на «Солнечный закат» г. Клодта и находит здесь всего лучше освещение неба, а в пейзаже поверх леса — искреннюю симпатию к натуре. Несколько других отзывов такого же рода и столько же сочувственных я пропускаю единственно по недостатку места.
Все это примеры по части того, как иностранная художественная критика высоко ценит в русском искусстве то, что ровно ничего не стоит в глазах иностранных художников-жюри. Теперь приведу пару примеров обратного отношения, т. е. примеров того, что иностранная критика довольно единодушно не признает самого высокого художественного значения там, где международное жюри присуждало самые высокие награды.
Г-н Семирадский, как известно, получил самую высокую награду за своих «Светочей христианства». Иностранная критика произнесла об этой картине приговор почти слово в слово одинакий с тем, что высказывала у нас здесь русская критика. Все признали у г. Семирадского много блеска и виртуозности в исполнении, особливо в изображении мрамора, бронзы, материй и других второстепенных подробностей. Но что касается до типов и выражений, общей концепции и настроения, все в один голос находят все это у г. Семирадского неудовлетворительным и слабоватым. Много эффекта и внешнего блеска, говорят они, и мало настоящего дела. Я не привожу много отдельных мнений только потому, что это взяло бы слишком много места, а они повторяют почти все одно и то же. «Эта картина, — говорит „Gazettes des beaux-arts“, — чуть было не сделалась, в первую минуту появления, капитальным, монументальным произведением на выставке, но когда прошло первое удивление от размеров, все остались изумлены, отчего эта картина не оставляет впечатления, равняющегося своему объему». Манц просто-напросто восклицает, что достоинств в картине немало, но до того, чтоб быть ей chef d'oeuvr'oм, далеко, а из сюжета можно было и следовало бы извлечь несравненно побольше. — «Картина г. Семирадского, — говорит также Мариюс Вашон, — еще менее картины Макарта „Въезд Карла V“ выдерживает серьезную критику. Сочинение лишено простоты и величия. Все представленные личности отличаются преувеличенными позами и мало имеют отношения к тому, что тут делается. Они все вроде театральных фигурантов».
Что касается «Христа» г. Антокольского, достоинств в нем художественная критика признает немало, но при этом тут же обвиняет его в итальянизме концепции и исполнения. Наше собственное мнение об этом произведении мы выскажем ниже.
Итак: что ни подумало, что ни сказало, что ни сделало иностранное художественное жюри относительно нашего художественного материала на всемирной выставке — не может иметь для нас никакого значения. На наши глаза, все это равняется нулю. Жюри с самого первого шага само же подорвало весь свой кредит для нас. На него нам полагать свое упование и веру не приходится. Иностранная художественная критика уже в сто раз подходит ближе к делу, но при всей своей симпатии я доброжелательности все-таки многого не могла отличить или определить со всею ясностью.
Что же нам остается? Одно только. Попробуем взглянуть собственными глазами, попробуем понять собственным умом, какая именно была наша роль на выставке среди прочих, там сошедшихся, национальностей.
Статья вторая
Любите вы людей могучих, энергических, крепких, непобедимых, которые всегда и везде за себя постоят да на которых и другие могут понадеяться как на каменную гору? Любите вы людей, которых ничто на свете не сдвинет с их линии и точки, на которых не подействует ни буря, ни вёдро, ни угроза, ни ласка и которые, ни на что не обращая внимания, ни на секунду не рассеиваясь по сторонам, идут к своей цели, к намеченному идеалу как герои, как уверенные в своей будущей победе могучие витязи?
Я — я люблю таких людей до страсти, я завидую им, я им поклоняюсь низенько до земли, я готов им петь молебны и возлагать венцы на главу. Это люди несомненного будущего, люди, от которых бог знает чего можно ожидать, какого развития, какого роста, какой силы, каких результатов!
И представьте себе, нынешняя парижская всемирная выставка дала мне такое наслаждение, какое редко выпадает на долю слабого смертного, — она дала мне полюбоваться на то, что мне драгоценно, что мне всего дороже, да еще не на отдельные какие-нибудь примеры, исключительные частные случаи, а на целые массы, целые категории милого моей душе материала. И, что всего было превосходнее и завиднее — это, что великое, несравненное явление исходило из недр нашего отечества, возросло на его почве и из его глубочайших, самобытнейших корней. Какое блестящее поражение тем, кто твердит на все лады, что мы все тряпицы, что мы все бабы, что энергии нет у нас нигде и в помине и что мы каждую минуту распускаемся и расплываемся, как лед весной.
Да, да, нынешняя всемирная выставка была великим торжеством для целой массы людей, часто у нас вовсе не замеченных, разбросанных, остающихся в тени. Тут, напротив, их деятельность слилась в одном центре, блеснула зараз одним светлым, могучим лучом. Пью за их здоровье, высоко поднимаю бокал за их процветание и благоденствие, да здравствуют, да здравствуют навеки и да поучаются у них сыновья и внуки!
На первое место между ними я поставлю устроителей и распорядителей нашего отдела на всемирной выставке, не только художественного, но и всяческого. Это люди прочные, надежные, люди-кремни: их не сдвинешь с места, и хоть бы свод небесный обрушился (не то что уже свод железный выставки), они никого и ничего знать не хотят и, заткнув уши и глаза, мерным шагом идут — куда им надо. Более четверти века прошло со времени первого дня всемирных выставок, но годы, пронесшиеся с 1851 года, как будто для них и не существовали. Они их даже не заметили. Какую ноту они тогда взяли своим прочным, надежным голосом, ту самую они и теперь повторяют, легко, свободно, без изъяну, без малейшей натуги в груди, без малейшего беспокойства в глазах. Эта нота — бестолковщина, грубое незнание и полнейший беспорядок. И эту-то ноту, как некий трофей и камень самоцветный, они пронесли смело, бодро и спокойно сквозь все волны и смуты мира богатырскою рукою. На каждой из всемирных выставок, что бывали в Европе с 1851 года, они всегда появлялись еще и еще, одни из первых, и возбуждали улыбку — конечно, сочувствия и энтузиазма. А, вон они, вон они, наши-то чудаки-неряхи, говорили все, и с любопытством приглядывались к тому, как те с чистою совестью, твердым шагом выступали павлинами по выставке. Они спокойно предоставляли другим, кому ни на есть (а эти другие — вся Европа) хлопотать, трудиться, действовать своим умом, совершенствоваться, одним словом, делать, что и как угодно, все это до них не касалось, потому что они очень хорошо разумели, что у них за душой нет никакой другой обязанности по выставке, как принять ящики за нумерами и велеть своим подчиненным, Трифону или Сидору, расставить и разложить русские вещи в русском отделении. Чего еще? Разве им время есть заниматься какими-то другими еще пустяками и вздорами? Им пора в гости или театр, на обед или представления, на бульвар или в спальню, наконец просто надо хорошие сигары курить или калякать с приятелями, — вот еще, неужели какими-то расстановками, развешиваниями и устройствами заниматься? «Да за кого вы нас принимаете, — сказал бы, конечно, каждый из них (и совершенно» был бы прав). — Неужто нам взять в руки гвозди и молоток, клубок, веревок или кумач и сукно и пойти возиться со всею этой дрянью? Как бы не так! Пусть этим занимаются вон эти все иностранцы, лавочники и фабриканты, заводчики и ремесленники, весь этот мелкий и ничтожный люд! А ведь мы — чиновники! Нам-то какое дело до всех, этих мелочей! На то есть обойщики и мастеровые.
И я скажу, нельзя им не быть правыми во всем этом. С какой беды этим господам приняться вдруг болеть сердцем о каких-то ситцах, коврах, стеклянных, бронзовых, деревянных и иных вещах, когда в продолжение всей жизни они до них никакого касательства не имели (кроме разве как по имени, в счетах и «отношениях»). Что же им — переродиться, что ли, потому что какие-то глупые люди выдумали какие-то глупые вещи под названием: всемирные выставки! Сами-то они люди предобрые, прекрасные, славные отцы семейства, изумительнейшие братья. И вдруг приходит такая оказия: за границу надо кому-нибудь ехать, в Париж, Вену или Лондон — всемирная выставка. Отчего же не съездить? Города хорошие, прогулка прекрасная. Ну, и едут. Иной раз посмотрят, издали, с галереи: еще партия ящиков пришла, вон их распаковывают, а вон там что-то прибивают, таскают, развешивают: отчего и не посмотреть иной раз! А что до безалаберщины, до Апраксина двора в лицах, до бестолочи и безобразия устройства, так что словно ходишь по пожарищу после страшной катастрофы, и узлы и груды стоят как ни попало, мерзко, тесно и душно, так что еле-еле продерешься сквозь этот Вавилон, — так что ж такое? «Ведь все уж давно ко всему этому привыкли, и твердили, и твердили сто тысяч раз, так что просто даже надоели — удивительное дело, как это им самим не наскучит, как это у них язык не отсохнет! Да и на что все эти глупые их затеи? Тот палату какую-то строит из своих продуктов, тот зеркалища какие-то воздвигает вместо стекол в шкафах, кто пирамиды какие-то и столпотворения выдумывает, но я вас спрашиваю: на что это, все эти лаки и красоты, и что за глупые затеи, что за мотанье денег беспутное; да, наконец, разве дадут на выставке за это, разве присудят что-нибудь лишнее? Не совершенно ли все равно, как именно вещи расставлены и развешаны на выставке, так или иначе?»
Правда, правда, господа! Вы тысячу раз правы, ничего вам не дадут на выставке ни за ум, ни за заботу и художественное чувство, ничего с вас тоже не взыщут за тупость. Заслуги ваши несомненны, постигающие вас награды и поощрения очень велики, а все России продолжают отводить какое-то просто ничтожное место на всемирных выставках! Неужели у вас не защемит сердце, когда нам всякий раз представится тот тощий и узенький сегмент, который нам отрезан, словно маленький клинушек в том громадном пироге, на котором отмечено по такому крупному кусищу каждому из других больших народов. Нам каждый раз скажут миллион комплиментов и все-таки еще новый раз урежут траву прямо под ступней и с превеликими учтивостями сошлют сидеть на маленьком стульчике, как детей за обедом взрослых. И мы после этого всякий раз — ничего! Только встряхнемся и самодовольно охорашиваемся.
— Позвольте, позвольте, — отвечают чиновные распорядители, — что мы семидесятимиллионный народ — это правда, что мы даровитый народ — тоже правда, но вы при этом забываете еще одну безделицу, что мы вдобавок — народ примерной лени и беспечности, народ с таким отсутствием инициативы, что ищи-ищи и не найдешь такого другого. Да знаете ли вы, что вот даже то немногое, что было тут на выставке в Париже собрано, накоплено и свезено ценою громадных усилий. Попробуйте-ка иметь дело с нашими купцами, производителями и коммерсантами. Да это сущее несчастье. Никто из них ничего не хочет, этих пудовиков с места не сдвинешь; они сидят себе да продают, а все остальное — хоть трава не расти. Понукай их, проси, умоляй, стращай, деликатно доказывай — ничто не действует, как стене горох. Еще в первые две-три выставки дело было внове, они как будто чего-то надеялись, как будто пробовали что-то. А теперь — теперь они давно уже рукой махнули, уперлись на своих местах, и что ты тут хочешь. Да легче воз во сто пудов сдвинуть с места, чем этих наших молодцов пробрать. Это все такое мужичье, такая грубая неотесанность и косное узкое себялюбие, что ни с чем его не сравнишь. Подите-ка, попробуйте! На поверку, значит, выходит, что если что хорошего и есть с русской стороны на всемирной выставке, то этим вы нам обязаны, единственно нам, и заслуживаем мы не вашей брани, а благодарности…
Что вы это такое рассказываете, побойтесь вы бога, хотел бы я отвечать на подобные речи. Да если правда, что вы говорите про наших торговцев и производителей (помните, если только это правда!), то кто же виноват, что они такие, а не иные? Не сами же они сделали то, что вышли такие противные. Не сами они над собою учинили тот мороз, что их губит, а история. Чем они хуже остального народа нашего? А народ наш, всему свету известно, полон таланта, благодушия, стремительности, порыва: мороз над ним — какой-то чужой, пришлый. И не вы ли, или, по крайней мере, не ваша ли братия поминутно хлопочет о том, чтобы тут щипнуть, там давнуть всякого, кто в ваш капкан попадет, — ну, что ж мудреного, что под конец и совсем съежишься и сожмешься и даже на такое светлое, общее дело, как всемирная выставка, начнешь смотреть, тупо и гадко, чуть не как на врага. Кто портил этих людей, тот и чини, — коль скоро вы сами уже жалуетесь, что вот какие они нынче стали. А между тем, пока леченье не совершится, ступайте и не плачьтесь на тягость вашей работы, ступайте и кланяйтесь, просите, умоляйте, обещайтесь, грозите — хоть кувыркайтесь и приседайте, это уж ваше дело, и на то вы существуете, и за то вам дорогие деньги платят, великие награды расточают, только сделайте так, чтобы никто не спрятался и не отлынил и чтобы на всеобщей перекличке, той, что зовется «всемирной выставкой», ни одно из созданий, какими живет и славится Россия, какие могут ей в честь пойти на выставке, не утаились и не засели во мраке. Но вот беда: надо для этого мозгами ворочать, надо умом действовать, надо разуметь, что важно и значительно, что драгоценно и что нет в народном промышленном творчестве, а куда как это все тошно! Ай, какое беспокойство и скука, ай, сколько труда и хлопот! — Может быть. Но ведь в пословице сказано: «Назвался груздем, полезай в кузов!»
Посмотрите, что между тем на выставках на всемирных происходит, в отделе нашего отечества. Право, каждый вообразит, что у нас, кроме графов да князей, да аристократии самой миллионной, ровно ничего и никого нет. Куда ни посмотрите, все только предметы роскоши и богатства самого безграничного: все только драгоценные песцы и лисицы чернобурые, медведи, которым цена — многие сотни рублей; все только золото и серебро, малахиты и ляпис-лазури, эмали и мозаики, атлас и бархат, драгоценнейшее дерево и кость, золоченая бронза и паркеты, великолепные бильярды и рояли, тысячные кареты и сани. Все это, должно быть, из волшебных чертогов каких-то, из стеклянных дворцов прилетело, где люди жареными райскими птицами питаются, жар-птичьими перьями одеваются. И это-то и есть наша настоящая Россия, какую мы знаем и видим?
Да даже и в этом-то во всем какая фальшь и неправда! Неужели наши серебреники и золотых дел мастера весь свой век только и знают, что лить да чеканить кубки, чарки, ковши, ендовы и кувшины, да вдобавок ложечки и вилочки, сухарницы с накинутою салфеткою, футляры для колоды карт с эмалевыми очками и фигурами? Иной, право, подумает, что серебреникам нашим (истинно превосходным по работе, каковы Сазиков, Хлебников, Овчинников и другие) только и работы, что для вечных пьяниц и обжор, для безустанной стуколки и преферанса, для подарков сильфидам-дамам и безголовым шалопаям. Два-три, кажется, переплета для евангелия, один или, может быть, два креста церковных, пара чаш для св. даров — вот все, что явилось на всемирной выставке по части религиозной от наших мастеров. Но где же есть тут одна тысячная доля того, чем мы могли бы похвастаться и погордиться перед всеми? Вспомните бесконечные благочестивые приношения в церковь, вспомните гражданские поднесения, кабинеты, про которые у нас прочитаешь каждую минуту. Где все это, куда скрылось? Иностранец, немец, француз или англичанин, привык нести на всемирную выставку что только у него совершается и создается самого талантливого, красивого и значительного, привык, чтобы у него тут столы и витрины ломились под сотнями предметов, назначенных для прославления каждого общественного и исторического подвига, тут вы встретите целые ряды высокохудожественных ваз со скульптурой и барельефами, щитов и кубков, разных архитектурных монументов, с фигурами и деревцами, выделанных из серебра и эмали, изобретенных даровитыми художниками и выполненных такими же даровитыми мастерами-серебрениками, все это как дань признательности от общества художнику, государственному человеку, оратору, проповеднику, полководцу, ученому, путешественнику, пионеру в далеких землях — где все это у нас, в русском отделе? Повертывайтесь, куда хотите, все только везде чарки да чарочки, сухарницы ца колоды карт. Неужели нет у нас и взаправду важных и всеми оцененных общественных деятелей, а если и есть, то неужели никакие депутации никогда к ним не ходили и ничего им поднести не пробовали?
Да хоть бы знаменитую «чернильницу» M. H. Каткова в Париж послали! Ведь это так недавно все было!
Я ходил и смотрел нынче на всемирной выставке: во французском отделе стояло удивительное произведение, созданное руками многих соединившихся вместе художников. Это была, как гласило заглавие:
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, НАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВАТИКАНА
Состояла эта библиотека из двух длинных рядов лежачих витрин, на высоких ножках, разделенных продольною вертикальною стенкой, покрытой живописью с обеих сторон, и с серебряною литою статуею богоматери в самом центре всего сооружения, над разделяющей стенкой. Знаете, для чего назначена эта мебель? Для того, чтобы хранить в ней все шестьдесят переводов, на разные языки, знаменитой буллы «О беспорочном зачатии». Один парижский духовный аббат, Сир, счел за особое счастье посвятить пятнадцать лет своей жизни на то, чтобы собрать эту коллекцию и приготовить деньги для поднесения ее в самой роскошной обстановке Пию IX. Ему удалось захватить последние дни обожаемого им духовного владыки, «главы всего христианства», и 11 февраля 1877 года библиотека эта, хотя еще не вполне доконченная, была поднесена папе. Она стоила много тысяч франков. Материалами на нее пошли: разное драгоценное дерево, золото, серебро, эмаль, живопись, чеканка, резьба по металлам. Целая толпа талантливых художников давала рисунки. Денег не жалели, потому что они были собраны со всего католичества, работы же происходили в мастерских знаменитого фабриканта Кристофля, фанатика-архикатолика, как большинство значительнейших и богатейших фабрикантов французских. Это произведение полно таланта в подробностях формы и производства и очень безобразно по общим контурам своим, безвкусным и вычурным, — должно быть, не молодой горячий француз настоящего времени сочинял эту библиотеку, а почтенный старик, возросший на академических преданиях. Но я про себя думал: вот вещь безобразная по первоначальному замыслу и по художественному проекту. Выживший из ума папа, дикая булла со средневековыми угрозами и проклятиями — и этакие вещи могут еще воодушевлять тысячи людей и разгорячать их сердца, способны разверзать карманы и казны, водить рукою художников и даровитейших мастеровых. И все-таки я рад был, что эта библиотека карикатурных «60 толковников» очутилась на всемирной выставке. Тут история в лицах, тут уголок нашей современности. Чем дышат и живут, о чем вздыхают и томятся толпы народные, то должно, непременно должно очутиться на всемирной выставке. Боже сохрани обойти здесь такую библиотеку. Портрет нынешнего мира был бы неполон, был бы просто урезан без нее. Пусть себе ревностные католики, злые или кроткие, со сложенными набожно руками, или мечущие свирепый огонь взором, берут и ставят на выставку эту свою библиотеку, как меч, как палицу, как плеть развращенному и совратившемуся человечеству — нужды нет, пускай думают и мечтают что хотят, но строгая фигура истории глядит из-за всей этой бронзы и эмали, золота и слоновой кости, тут уже не о чарочках и колодах карт идет дело, тут смертями и экстазами пахнет, свирепыми или серафическими восторгами, тут сверкают следы лисьего хвоста и волчьего зуба. Как далеко до всего этого грациозным складкам наших серебряных салфеток с бахромой, фальшиво-элегантным головкам в кокошниках русских баб на конце ручек у ложек и вилок.
А потом, посмотрите на эту громадную массу серебряных, золотых и бронзовых богослужебных предметов у всех католиков и протестантов целой Европы, на эти взводы дарохранительниц и чаш, громадных крестов воздвизальных, церковных люстр и канделябров, священных опахал, митр, риз, жезлов пастырских, целых престолов из металла, сионов и сеней — вот где опять-таки современность, задыхающееся католичество или бодрящееся протестантство: они поднимают все свои усилия разом, они считают святым долгом выдвинуть напоказ всему миру, во что веруют, на что тратят всю свою энергию и все свои средства. Вот люди, проникнутые своей темой и не пропускающие оказии, чтобы она громко прозвучала перед всеми ушами. Как бедна и тоща была тут, среди всего этого волнения и страсти, благочестивая семидесятимиллионная Россия со своим безучастием и стеклянным апатичным взглядом!
Мне, пожалуй, заметят: а разве худы были затканные золотом, и серебром, и шелками чудесных византийских узоров церковные материи наших Сапожниковых? Неужели они хоть в одной черточке уступают мастерству и совершенству серебряных и золотых вещей работы Овчинниковых, Хлебниковых или Сазиковых? Ничуть. Но кто же понял из заграничных людей, что это за материи и на что они: ведь, пожалуй, многие подумали, что это для мебели или «боярских одежд» — бог знает, как еще на Западе представляют себе нашу жизнь и подробности быта. Нет, надо было из этих великолепных материй сшить несколько риз священнических, даже полные облачения архиерейские, устроить несколько престолов в их чудной одежде, золотой и серебряной, и тогда всякий смотрел бы во все глаза, и толпы не насмотрелись бы на витрины и не отходили бы равнодушно от скучных полос материи, висящих словно для просушки. Вот вам и вся наша эстетика, чиновничья и купецкая!
Уже если так бедно и несчастно было с лучшим и оригинальнейшим в художественном отношении, что у нас только есть на выставке ремесленных производств, то легко посудить, каково было с другими частями.
Шведы и венгерцы, шотландцы и американцы, итальянца и датчане выставили целые груды браслетов, крестов, цепей, колец и перстней, диадем и ожерелий, брошек и поясов, в характерном национальном стиле — самом дорогом и всего более ценимом везде в теперешнюю минуту; орнаментистика древних скандинавов и североамериканских дикарей, средневековых шотландцев или полуазиатов-венгерцев сияла во всей оригинальности на сотнях чудесных предметов; талантливый нью-йоркский золотых дел мастер Тиффани даже воздвигнул целый завод прелестнейших предметов в стиле древних женских украшений, открытых на острове Кипре, а знаменитый римский золотых дел мастер Кастеллани наполнил целую витрину великолепными, изумительно воспроизведенными золотыми предметами в стиле этрусском и даже в стиле; наших керченских древностей. Только одни русские ничего ровно не представили сколько-нибудь примечательного по этой части — они, у которых столько удивительных национальных музеев под рукой, Эрмитажи и Грановитые палаты, и десятки частных коллекций. Лень страшная на первом месте, ни до чего дела нет, никто под бок не толкает, никто ничего не спрашивает, художников на помощь и совет никому не надо — ну вот и наполнены наши шкафы и шкафики (вдобавок очень малочисленные) серьгами и брошками, где камней и золота много, но художества, вкуса и творчества — ни единой капли. Только они и пробавляются пошлыми рыночными французскими образцами.
Где были наши кружева и вышивки национальные, красивости и значения которых мы так долго и не подозревали, вплоть до той самой минуты, когда приезжие француженки и англичанки увидали их, мигом оценили и нашпилили их себе на юбки, рукава и платья. О, тогда и для бедных русских кружев пришла мода. Но мода, глубоко бестолковая и ничего не понимающая: нынче в Париже можно было рассматривать целый шкаф, набитый русскими кружевами и вышивками, только такими, где было столько же русского, как в каком-нибудь несчастном романсе: «Тройка» или «Красный сарафан». Тут все было фальшь, и безвкусие, и новейшая подделка — вышитые какие-то криворожие мужички, снимающие шляпу с головы, какие-то гуси и обезьяны, какие-то противные кусты и цветы из стриженых дачных садов. И все это не помешало (а может быть, и помогло) тому, что которая-то русская богачиха, конечно, из патриотизма, купила гуртом всю эту дрянь, — вероятно, за дорогие деньги. Ни одного настоящего русского шитья, красными нитками или шелками, золотом и серебром, ни одного настоящего русского кружева, простого или золотого и серебряного — тут не было. Верно все это еще слишком грубо было и не галантерейно. А жаль. Сколько «хороших», дельных иностранцев порадовались бы на настоящие национальные характерные наши произведения и, может быть, втолковали бы нам, что это за чудесные вещи и как много они весят на весах истинного художественного чувства.
Вон итальянцы, у тех совсем другое дело. У них на одном из островов в соседстве Венеции, Бурано, в 1871 году устроилась целая школа национального венецианского кружева, столько знаменитого в прежнее время. Почетной президентшей там — сама королева итальянская, патронессами — аристократки из высшей итальянской знати, и там не выдумывают никакой безвкусной новейшей гадости, а стараются только восстановить и продолжать прежние великолепные образцы: им несть числа. А наше кружево — наверное не уступит никакому венецианскому. Очередь ему придет, вероятно, когда-нибудь впоследствии. Президентш и патронесс ему никаких не надо. Не смотрели бы только на него с презрением — оно и само пойдет неиссякаемой полосой из крестьянских рук.
Бесчисленные бронзовые и терракотовые изделия на тысячу ладов, начиная от громадных статуй и канделябров и до маленьких вазочек, бесчисленных сосудов и ламп, кованые железные решетки из великолепных вьющихся узоров, горы стекла и хрусталя, в тончайших или колоссальных произведениях, от изумительного по художеству и краскам богемского стекла и кончая целыми храмами, статуями, люстрами и торжественными креслами из хрусталя, мозаика из дерева или из крепких камней, целые палаты и стены, увешанные коврами, фарфоровые и фаянсовые изделия, которых даже все роды и виды, все способы употребления и назначенье не скоро теперь перечислишь, все эти бесконечные вереницы художественно вылепленных и раскрашенных блюд, ваз, чаш, фигур и всяческих сосудов — все это такие вещи, которых целые массы присутствуют во всех западных отделах и которых тщетно вы бы стали искать в нашем. Но самая-то обида в том и состоит, что иные из этих предметов давно уже у нас производятся, и с честью — да только какая-то дьявольская лень, равнодушие или робость мешают нашим «хозяевам» и производителям посылать их на всемирные выставки. А устроители выставок своей деревянной безвкусицей и рыночною антихудожественностью лишают то, что прислано, всего лучшего их вида и значения.
Особенно чувствительно было отсутствие наших восточных производств, полных всегда такой художественности. Ничего кавказского, крымского и туркестанского не было в Париже, а как бы тут богато и великолепно заблистали все эти формы и краски, золото и серебро, ковры и кинжалы, шитые подушки и галуны, материи, пояса и кальяны, резное дерево и точеная кость! Но никто об них не просил, никто не задавал шпор в бок, ну натурально и дремали без просыпу те, кто мог бы и должен был бы посылать их на всемирную выставку.
А что такое, при нашем богатстве в материале и при нашей даровитости, могло бы оказаться хорошего и превосходного тоже и у нас, дотронься только до всего этого ум и художественность! Просто воображение разгорается и кипит. Я постараюсь доказать это, когда стану говорить про наших архитекторов (молодых) и про их участие на всемирной выставке.
Несколькими капитальными произведениями украсился наш отдел только потому, что они выполнены по рисункам настоящих художников. Вот что могло бы случиться тоже и со всем остальным нашим отделом. Но этого не случилось.
Виват же, виват дорогим, бесценным русским распорядителям!
Статья третья
Новый мой пейзаж — наши архитекторы. Угодно знать, чем всего больше отличились на нынешней всемирной выставке наши архитекторы? Своим отсутствием. Не хотим, мол, да и только.
Уже пять лет тому назад, когда речь пошла о венской всемирной выставке, значительная масса наших архитекторов взяла да устроила нечто вроде стачки. Однако же стачка не состоялась. Чье ли отдельное старание и энергичные хлопоты подействовали, или просто приказ вышел, но только на всемирной выставке русский архитектурный отдел оказался и был интересен и занимателен. Были тут соборы и дачи, станции железнодорожные и дома частные, ратуши и рынки, надгробные памятники и иконостасы, тюрьмы и академии, наконец, даже были образцы орнаментального искусства: рисунки переплетов, изразцов и чайных сервизов. Только члены стачки все-таки настояли, хоть капельку, на своем. Большинство из них все-таки не послало подлинных рисунков в карандаше, пером или красками, а послало — фотографии. Ну, что делать! Из-за богатства, талантливости или красоты содержания можно было, пожалуй, простить этот странный каприз. Притом в числе немногих архитектурных подлинных рисунков было несколько чудесных акварелей покойного Гартмана.
Но то, что нынче произошло, то хуже всякого каприза. Стачка на этот раз окончательно одолела. Архитекторы наши уже ровно ничего не послали, и что же? Вы думаете, им было потом стыдно, неловко, когда они слышали, читали или собственными глазами видели, как действовали прочие европейские архитекторы? Ничуть не бывало. Они и усом не повели. Верно, некогда было.
Устройство русского архитектурного отдела было поручено сначала нашему Архитектурному обществу. Оно должно было вести все переговоры, войти в сношение с главными и лучшими нашими художниками, достойными представителями строительного искусства в нашем отечестве. Что может быть резоннее, что дельнее? Где же и ожидать большего успеха и солидности? Однако же никакой солидности и успеха в результате не оказалось. А оказались, вместо того, те самые слова, что твердо произнесены были уже пять лет тому назад: никаких у нас рисунков нет, а новых делать не станем. — Да где же они, куда все подевались? — Где они! Там, сям, в разных руках, в канцеляриях и кабинетах, в присутственных местах и частных папках или письменных столах. — Ну так что ж! Подите, достаньте их. — Как же! Пойдем мы искать. Это с какой беды? Нет, не будем. А вот если рисовать новые, чистые рисунки, то по исчислению надо отпустить 10 000 рублей на это. Достаньте деньги, будут рисунки. А нет — нет. — Но как же иностранцы-то делают; отчего у них есть чистые рисунки, есть хорошие рисунки, есть рисунки, украшающие выставку, есть время, есть охота, есть богатые архитектурные отделы, а у нас все только нет да нет, и ничего больше не добьешься?
А ведь нельзя сказать, чтобы у нас ничего не строилось гг. архитекторами.
Однако, позвольте, вот еще что. В каталоге выставки стоит несколько архитектурных рисунков. Да, есть. Но чьи они: финляндских архитекторов! Тут увидишь рисунки и церквей, и разных частных построек, и орнаментов архитектурных, одним словом, всего того же самого, что строят и делают все остальные русские архитекторы. Отчего же у финляндских архитекторов есть свои рисунки, и им можно их выставлять в Париже, а русским — нет? Отчего же финляндцы не требуют никаких десяти тысяч, а русские требуют? Разъясните мне все это на милость.
Фу, какие срамники!!
Должно быть, от стыда и безлюдья составители каталога напечатали тут же, на странице с финляндскими именами, будто на выставке находится рисунок г. Ропетта, представляющий «типический фасад» русской выставки; но этого вовсе не бывало, и никакого рисунка г. Ропетта на выставке и не находилось. Вот уже до чего дело дошло, вот уже к чему понадобилось прибегать!
А между тем, как легко было бы устроить прекрасный, даже больше того — превосходный русский архитектурный отдел. Сколько у нас теперь талантливых художников есть (разумеется, между молодыми, еще не проводящими полсуток за вистом или стуколкой), сколько оригинальности, новизны во всем предпринимаемом ими. Но приходит выставка, и всего этого как не бывало. Тщательно попрятано и утаено все важное, все самое лучшее. Точь-в-точь как у купцов и фабрикантов. Видно, одного поля ягода; видно, один и тот же архиблагородный, архипремудрый образ мыслей присутствует в голове. Но, конечно, не у всех, а только у главных, от кого остальные зависят, кого должно слушаться, чьего примера не должно нарушать. Как старшие положат, так и всем остальным быть.
Но если такое непобедимое равнодушие овладело запевалами, то хоть бы озаботились по крайней мере эти господа, чтобы архитектурные издания, такие, как «Зодчий» и «Мотивы русской архитектуры», были на выставке всемирной и заняли место тех рисунков и акварелей, которых без 10 000 рублей невозможно выслать из России. Что же! Оба эти прекрасные (действительно прекрасные, в высшей степени интересные и важные) издания были посланы в Париж, даже благополучно доехали от Васильевского острова до Марсова поля, но… но все томы обоих изданий пролежали в канцелярии распорядителей выставки, и никто их не видал. Ведь стоило бы благородных распорядителей и устроителей за это да к ответу. Но вы думаете, это кто-нибудь сделает? Никто и никогда!
Но если наши художники сами своих интересов не знают и не понимают, попробуем хоть мы за них на одну секунду вступиться. «Зачем вы, милостивые государи, не выставили на выставке ни „Зодчего“, ни „Мотивов русской архитектуры“? Оба издания сделали бы нашему искусству, нашему народу великую честь, они показали бы, что такое наша новая архитектура и что такое наши новые архитекторы». Знаете, что эти господа нам отвечают: «Да как же нам было выставлять эти книги, когда места не было?» — «А зачем места не было?» — «Затем, что больше не дали». — «А зачем больше не дали?» — «Затем, что больше и не спрашивали». — «А зачем не спрашивали?» — Тут наступает молчание.
Другие просят, требуют, отнимают с боя себе место побольше, у нас — никогда. У нас готовы даже и то, что дадут, наполовину урезать и уступить кому ни попало. Наконец, приходит последний день перед открытием выставки: Ай, то не так, ай, то не этак! Ай, места нет; ай, некуда девать привезенное! Другие, в подобном случае, не сели бы на мель и знали бы, что сделать, если уже такой грех пришел, что прозевали и опростоволосились. Давай скорее новое пристраивать, прилаживать; изворотятся, вывернутся, еще лучше прежнего выйдет. Но у нас все за нумером, в регистре и в рапорте. Как засядут на мель, так на ней и киснут.
Я себе иной раз думаю: что бы это такое было, если бы как-нибудь у нас вздумали устроить всемирную выставку. Вот растеряли бы все голову, вот была бы чепуха, беспорядок и неряшество! Но чему же и быть, когда тут на каждом месте сидит и распоряжается именно тот, кто этого дела вовсе и не знает и отроду об нем и не задумывался, — тот, кто специально и торжественно к нему неспособен.
Но что у нас часто бывает, то и нынче случилось: один человек выручает целые тысячи, один за всех ответствует, да как ответствует! Что словно ярким лучом осветит, и все вдруг покажется хорошо. Эдакие светлые поляны после 30 верст глухого леса и болота — у нас не диво.
На нынешний раз благородная эта роль выпала на долю одного молодого русского художника, одного из самых талантливых, если только не самого талантливого нашего архитектора. Имя его — Ропетт.
Не было в печати европейской такой статьи об архитектуре на выставке, где бы не было высказано, что русская постройка — оригинальна, талантлива, делает честь России, составляет украшение выставки. В одном из лучших изданий, специально посвященных выставке, «L'Album de l'exposition» Глюка, с превосходными гелиогравюрами, было даже прямо сказано: «Одна из самых интересных построек улицы Наций та, что между всеми пользуется наибольшею любовью публики и всего дольше останавливает перед собою удивленных зрителей, это бесспорно — живописный фасад, выстроенный из дерева Россией». Знаменитый художественный критик Шарль Блан (родной брат еще более знаменитого Луи Блана) пишет в «Temps» (20 июня): «Переходя от построек Австро-Венгрии к русским постройкам, я чувствую, что покидаю цивилизацию, уже постаревшую, и приближаюсь к народу, быть может, немного еще дикому, но могучему, сильному, полному жизненности. Их деревянное дело выказывает силу, расточительную орнаментистику, роскошь узоров. И в том нет ничего мудреного, потому что чувство меры принадлежит только тем эпохам истории и цивилизации, когда искусства достигли полной зрелости. Русский строитель проявил в своем здании силу даже несколько преувеличенную (une force exubИrante)…»
Заметим мимоходом, что эта «преувеличенность» состоит в употреблении целых, а не распиленных по длине бревен. Для иностранцев, бедных лесом, такое употребление дерева кажется «злоупотреблением»!
Потом еще солидные, ученые авторы прекрасного издания «Les curiositИs de l'exposition», Ипполит Гетье и Андриен Депре, также с величайшей похвалой отзываются о наших постройках в улице Наций: «Русский фасад, — говорят они, — издали бросается в глаза своею величавою массой многоэтажного вырезного, орнаментированного во всех направлениях дерева, своими высокими кровлями, крытыми в шахмат, своими удивительно обрамленными окнами. Оба крыла состоят из сквозных галерей, упирающихся в высокие и тяжелые башни, похожие на крепостные постройки: здесь царствует какое-то мрачное и суровое настроение, отзывающееся эпохой первых царей. Все вместе производит величавое впечатление».
Подобных отзывов можно было перечесть немало.
Правда, рядом со всем этим, рядом со всеми своими похвалами и иностранные писатели иной раз высказывали удивительные вещи, например, что русский фасад — соединение «боярской палаты, царского дворца и мужицкой избы»; впрочем, иные французы не согласны были на присутствие зараз и дворца и избы в русской постройке и объявили, что это просто «терема», в каких всегда живут у нас «бояре», и газета «XIX век» преважно и пресерьезно объявляла (24 мая): «Г-н Бутовский, председатель русского отдела, барон Нолькен, генеральный комиссар, г. Таль, вице-председатель, смело могут воображать себе, заседая в канцелярии своего отдела, что находятся на несколько минут в своих теремах».
Что такое все эти комические пустячки в сравнении с теми тяжеловесными, мрачными глупостями, какие отпускали насчет русского фасада очень многие из наших собственных писателей-корреспондентов: кто жаловался на напрасную цветистость, кто на непомерную обидную грубость, кто на что. Известно, им надо европейцами показаться, им надо тонкое понимание, деликатный вкус проявить. Вот они и шатаются из стороны в сторону, хают и бранят во все концы, и иностранная, ничтожнейшая кукушка всегда покажется им лучше самого прелестнейшего домашнего соловья: какой-нибудь бездарнейший фасад весь из колонн, завитков и фронтонов всегда будет стоять в их глазах неизмеримо выше самого даровитого, что будет создано русским даровитым художником. Иностранцам, как они ни путали, что ни фантазировали в своих статьях, можно многое, можно все простить уже за одну ту симпатию, какую они выказывали к нашей архитектуре, за то искреннее любопытство, с каким они к ней обращались! К несчастью, у нас самих поминутно нет ни того, ни другого.
Один из лучших знатоков современной художественной промышленности Юлиус Лессинг, директор художественно-промышленного музея в Берлине, жалуясь в «National Zeitung» на бедность промышленного русского отдела парижской всемирной выставки, говорит: «От этого-то и трудно составить себе понятие о дороге, на которую стала последнее время русская художественная промышленность. А жаль: Россия именно та страна, которая всех решительнее приступила к созданию собственной национальной художественной промышленности и представила на венской всемирной выставке 1873 года не только отдельные тому примеры, но даже совершенно развитые создания в этом роде. Вопрос только в том теперь состоит: как далеко простирается, для каждого отдельного народа, возможность повести, по части художественной промышленности, совершенно отдельную самостоятельную жизнь, независимо от общего модного настроения, особливо идущего из Франции, на основании только одних своих собственных, национальных элементов. Это один из важнейших современных вопросов, и оттого-то имеет для нас особенную важность успех усилий и проб, предпринимаемых русскими».
Не странное ли дело, это требование от нас, более чем от кого бы то ни было другого в Европе, элемента национальности во всем, что мы делаем и производим? Нашу национальность не всегда хорошо и верно уразумевают иностранцы, часто растолковывают ее как-то совершенно произвольно, наизнанку, но при всем этом верно то, что мы в глазах Европы какая-то самая национальная национальность. Мы точно подрядились, точно по контракту обязались перед Европой ни с чем другим не выходить на экзамен, как с национальностью в руках и за пазухой. Ни от французской, ни от немецкой, ни от английской, ни от итальянской живописи и скульптуры вовсе не требовалось того, что от нас требовалось. С тех спрашивается что-то совершенно иное, точно мы какой-то особенный, исключительный народ. Но что ж, пусть так. Роль, нам отведенная, не из худых, и на нее нам жаловаться нечего. Но только, кажется, мы сами ее уразумели собственными средствами, не дожидаясь иностранной догадки, и проделали мало-помалу дорогу по новому направлению, раньше чем кто-нибудь нам его растолковал. А это очень приятно.
Наша архитектура решительно идет вперед, дружным шагом с живописью и музыкой. Все три искусства смело и решительно покончили с недавними еще иностранными привычками и раболепством и делают, каждое, свое особенное, национальное дело. Как далеко наша архитектура подвинулась вперед, тому блестящим доказательством служит нынешняя всемирная выставка. Русские постройки на выставках: парижской 1867 года и венской 1873 года, остались далеко позади нынешней. В те оба раза сочиняли наши фасады люди ординарные, не одаренные никаким особенным знанием и творчеством и потому неспособные создать что-то действительно художественное, талантливое. В 1867 году все дело состояло только в непрерывном ряде аркад, покоящихся на низеньких, ярко раскрашенных столбах-кубышках, наверху возвышалось по русскому фронтону с орлом — вот и все. В 1873 году та каменная постройка, вроде маленького дворца, что стояла отдельно, среди Пратера, уже и вовсе была обыкновенна, даже ординарна по всем своим формам, и представляла нечто замечательное лишь в истинно талантливой меблировке внутренних апартаментов (столовой и спальной), меблировке, сочиненной в русском стиле и полной фантазии и вкуса. Но ведь это была только меблировка, а не сама архитектура здания. Что касается конюшен и изб в русском же стиле, выстроенных г. Громовым для великолепных русских лошадей, привезенных на обе те выставки, и для их конюхов, то их архитектура была от одного конца до другого сплошная ложь и выдумка. Конюшни это были не конюшни, изба — не изба, дворец — не дворец, а что-то придуманное, сочиненное, вылакированное и пейзанское, как все; что иностранец способен сотворить в совершенно чуждом ему, понюханном лишь издалека, национальном стиле и складе. Те конюшни и избы именно были строены каким-то иностранцем. Но во всех этих постройках 1867 и 1873 годов формы русской народной архитектуры сколько ни слабые, сколько ни искаженные на этот раз, а проявлялись, и новизна их была так велика, что иностранцы тотчас же подняли громкий радостный крик и до сих пор не могут забыть этих построек, вспоминают их при каждом случае.
Но что было бы, если бы в этих торжественных случаях, на этих всемирных выставках действовали и создавали настоящие наши художники? Самый талантливый между ними, Гартман, был в 1867 году в Париже, предлагал свою работу, свой талант на устройство русского отдела — даром. Его предложение не приняли. Его отвергли. Есть уже, дескать, и так опытный, достойный художник в виду. Еще бы! У Гартмана не было еще прочной репутации, а судить не по имени, а по таланту — какой же распорядитель к этому способен? Однако прошло несколько лет, наступил 1873 год и венская всемирная выставка. Тот же Гартман, успевший уже прославиться своею архитектурою Всероссийской выставки 1870 года в Петербурге и Политехнической выставки 1872 года в Москве, опять предложил свои услуги — опять отказ. Его оригинальный талант был не нужен для выставки. Его, человека истинного, глубокого таланта, заменили людьми самыми посредственными, самыми обыкновенными. Его, измученного, усталого, скоро совсем заморили, и он умер, но оставил глубокие следы на современном русском искусстве.
Не всегда, однако, такая ужасная участь тяготеет над людьми талантливыми! Иногда случается чудо, и я не знал, радоваться мне или удивляться, когда И. П. Ропетту, товарищу, приятелю, единомышленнику, можно сказать, родному брату Гартмана по таланту, оригинальности и творческой силе, вдруг поручили сочинить проект русского фасада, а потом даже дали ему выполнить его проект почти без перемен. Только тут да там лишь кое-что урезали да выщипнули вон, кое-что посократили и удешевили. Фасад Ропетта столько же прелестная вещь, как построенный им в 1872 году, на Московской политехнической выставке, «Ботанический павильон» с галереями оранжерей, как множество других созданий его в русском стиле, украшающих многие томы изданий: «Мотивы русской архитектуры» и «Зодчий». И нынешний русский его фасад тоже уже превосходно издан в настоящем, первоначальном своем виде, в красках, в одном из последних нумеров «Мотивов русской архитектуры».
Взгляните, какая чудесная стройная масса воздвигнулась посредине, этот бревенчатый цветной дом, с высокою кровлею, увенчанною резным князьком, с заостренным широким громадным кокошником вверху, с маленькой открытой галереей над широким входом, завешенным русскими полотняными завесами в русских узорах. И по сторонам центрального здания, направо и налево, целый маленький городок из разных построек: тут и башни, и длинные, вдвинутые назад, крытые переходы, и сквозные галерейки, и всходы, и лестницы, и бесконечное разнообразие окон, пилястр, резных орнаментов, фантастических птиц, стоящих в ряд и держащих в лапе веточку, и разнообразных кокошников и кровель, наконец, повсюду богатая цветная резьба из узоров и цветов, широкие прелестные резные карнизы, висящие из-под кровель, словно богатые поднизи из бус на лбу у русской крестьянки, и полотенца, вывесившиеся из окон, словно передники сарафана. Ничто не повторяется, рядом стоят все разнообразные части и члены, полные несимметричной, но изящной красоты выражения и стройности.
В этом несимметричном, но изящном роде сочиняют теперь свою национальную архитектуру и многие другие талантливые товарищи Ропетта, и кому охота пришла бы полюбопытствовать и хорошенько узнать, что и как творит новое поколение русских архитекторов, тот пусть просмотрит за последние 4–5 лет томы «Зодчего» и «Мотивов русской архитектуры» — особливо последнее издание. И пусть молодое племя талантливых наших архитекторов, таких, как гг. Гун, Шретер, Богомолов, Кузьмин, Вальберг и многие другие, только смело и энергично продолжают свое дело вместе с г. Ропеттом, — и будущее нашей архитектуры, свежее, оригинальное и самостоятельное, будет упрочено.
Главная сила нашей архитектуры до сих пор — в деревянных постройках, и именно к этой категории относятся не только один «русский фасад» г. Ропетта, но еще две другие его постройки в русском стиле, тоже как и «фасад», покрытые чудесными орнаментами и резьбой и в одном месте представляющие громадных расписанных красками сирен, держащих в лапе по флагу (по первоначальному проекту это были громадные опахала на длинных шестах).
Но, кроме того, на русской выставке была еще одна деревянная постройка, очень талантливая, но засаженная в такой дальней глуши и тесноте, что, пожалуй, большинство посетителей всемирной выставки ее и не видало. Это был построенный талантливым А. Л. Гуном длинный ряд витрин для семян, зерен и круп, выставленных нашим сельскохозяйственным отделом. Гун придал своим витринам вид двух непрерывно тянущихся русских хоромин, со спускающимися от верху резными полотенцами, сквозными князьками и отверстиями напереди, вроде окон. Линии, формы и массы этих двух построек очень красивы; орнаментистика вся из соломы, изящно расположенной. В промежутке же между обоими зданиями стоят, словно канделябры, четыре высокие шеста, загибающиеся на верхнем конце волютой, как епископский жезл, и сюда-то привешено по сквозному экрану, плетенному из соломы, с соломенными же кисточками и бахромой внизу; все они перевиты, в узор, красными и синими суконными покромками. Это преоригинальные и прекрасивые маленькие монументы в национальном стиле: говорят, во многих русских местах крестьяне отмечают этими рядами соломенных кисточек число лошадей, стоящих на постое в деревне. Прежние архитекторы не знали и не замечали ничего оригинального и красивого за пределами городского шлагбаума. Зато сколько осталось добычи их молодым наследникам!
Архитектура в Европе делает, в настоящее время, громадные успехи и идет к коренному своему обновлению. Железо, стекло и цветной фаянс выступили вперед как новые элементы, требующие новых форм и созданий. Лондон, Париж, Вена и Берлин начинают наполняться такими зданиями, каких прежде не бывало. Англия, по оригинальности замысла, по новизне создания, идет впереди всех, и такими гигантскими шагами, что никто не может ее не только обогнать, но даже догнать. И это ярко выказалось на нынешней всемирной выставке: все, что представляют постройки на Марсовом поле и Трокадеро, как они ни остроумны или даровиты, все-таки за сотни верст стоят от изумительных железных и стеклянных зданий, воздвигнутых в Лондоне и других краях Англии в течение последних 25 лет. Остальная Европа, хотя и на втором месте, но сильно и быстро двигается также со своей архитектурой. Будет ли когда-нибудь и Россия участвовать в общем новом движении — кто это скажет? Но что верно, это что теперь у нее есть свое собственное движение вперед, свое собственное развитие самостоятельных элементов архитектуры, и эта работа так могуча и так оригинальна, что наверное зачтется ей историей, и та ей отведет почетную страницу при исчислении крупных художественных движений нашего века. Раньше чем догонять чужое развитие, нам надо справить свое собственное важное дело: сбросить посторонние кандалы, создать свои собственные формы художества. Остальное, общеевропейское, придет потом, если это уже непременно нужно.
Что теперь еще важно, это что архитекторов начинают призывать у нас для совета и руководства во всем главном, что совершает теперь наша художественная промышленность. Что только есть интересного по национальным формам и цветным узорам в разнообразной мебели нашего отдела (стулья с шелковыми затканными материями и сундук г. Левитта; буфет и стулья г. Зибрехта; буфет г. Фламандского, — всех троих в Москве; стол, стулья и висячий шкафик г. Грюнберга; бильярд г. Бриггена — обоих в С.-Петербурге; буфет г. Мерклина — в Одессе), все это делано по рисункам хороших художников, твердо изучивших национальный наш стиль. Некоторые шелковые материи г. Сапожникова (не для церковного употребления), затканные русскими узорами, чудесная кафельная печь г. Бонафеде, некоторые из лучших серебряных вещей московских и петербургских фабрикантов — все это сочинено хорошими нашими архитекторами и рисовальщиками. Пусть это поймут все наши фабриканты, все наши распорядители, и тогда дело пойдет у нас совсем иначе. Больше ни за что не будет нам стыдно.
Статья четвертая
Одиннадцать лет тому назад, на всемирной выставке 1867 года, нас очень мало похвалили за нашу скульптуру. Статья в «Gazette des beauxarts», Поля Манца, выражает вполне тогдашнее европейское мнение. Он говорит: «У русских скульпторов нет и тени оригинальности. Г-н Бродзкий ловко владеет мраморной работой, но у него мрамор неспособен что-нибудь высказать; я замечаю только академическую условность, холодное мастерство, приятно-банальную грацию в его группе „Первый шопот любви“; „Психея“ проф. фон Бока — классическая и замерзлая штука. Эти господа на тридцать лет отстали от современного движения. Два единственные русские скульптора, дозволяющие себе собственное, личное усилие, — это г. Либерих, робко вылепливающий бронзовых животных, и молодой человек, г. Каменский, имеющий только самые неполные понятия о скульптуре, но который, если будет продолжать свое учение во Флоренции, может быть, и вырастет. Он не совершенно систематический академист; он верует в новые сюжеты, и есть намек на чувство в его гипсовой группе „Вдова“: это бедная женщина с ребенком на коленях, которого она с нежностью укутывает в плохой шерстяной платок.
Мы отмечаем это произведение не из-за его мастерства, а из чувства, которое оно пробует выразить. Эта нынешняя нота не часто встречается у русских художников».
С 1867 года много воды утекло. Правда, гг. Бродзкий и фон Бок остались точь-в-точь такими, какими их описывал Поль Манц; правда, г. Либерих давно сошел со сцены, правда, г. Каменский ничему новому не научился ни во Флоренции, ни в других местах и, бросив все, коротает где-то, говорят, в Америке, свой век — явление, зачастую повторяющееся у русских: начнут хорошо, много пообещают, а там вдруг, смотришь, швырнут все в сторону, и больше уже ни до чего не дотрагиваются до последнего дня какой-нибудь печальной, заглохлой или безобразной жизни, — правда все это, и, однакоже, с нашею скульптурою случилось великое превращение. Нынче не только никто нас более не упрекает в отсталости на тридцать лет, но, кажется, нас признают, напротив, забежавшими вперед лет на тридцать против всех. Это, кажется, мы имеем право подумать, видя, что одному из наших скульпторов, г. Антокольскому, дали самую первую награду за скульптуру, по всей выставке; сверх того, этого художника тотчас же, во время выставки, сделали членом Парижской Академии художеств, наконец дали ему даже и орден Почетного легиона.
Все это я привожу, конечно, только для того, чтобы показать, как высоко оценили на всемирной выставке лучшего нашего скульптора. Русскому вдруг дают первую награду, признают его, единогласно, выше всех скульпторов французских, итальянских, немецких и иных, вроде того, как бы первым скульптором Европы! Когда же было слыхано что-нибудь подобное, да еще со стороны французов, привыкших считать себя во всем первыми. Заметим вдобавок, что в настоящую минуту и сами французы, и иностранцы из всех искусств выше всего ставят у них — именно скульптуру. Шарль Блан говорит в своей книжке: «Les beauxarts Ю l'exposition universelle de 1878» (это перепечатка статей, напечатанных первоначально в газете «Temps»): «Надо откровенно признаться: живопись вовсе у нас не туземное искусство, как в Италии. Это чужестранное растение, нуждающееся в защите, попечении и вспомогательном тепле.
Французы всегда были более скульпторы и архитекторы, чем живописцы и музыканты. Настоящие плоды французского гения — литература и драматическое искусство. Между нашими замечательными живописцами нет ни одного, чьи картины не были бы произведениями из вторых рук». В свою очередь, немец Пехт, не взирая на весь свой ярый классицизм и еще более ярый квасной патриотизм, принужден признаться, что французская скульптура стоит так высоко, так высоко, что не только превосходит всю немецкую (что ужасно для истинного немецкого сердца), но просто равняется, по своему мастерству, — античной.
И вот этакую-то скульптуру заткнул за пояс, по единогласному признанию всего международного жюри, наш художник. Торжество для нас немаловажное. Про нас больше не скажут, что у нас нет и тени оригинальности!
Однако полно приводить все только чужие мнения и награды. Давай посмотрим, что для нас самих значит наша нынешняя скульптура. Но наперед надо сказать пару слов про европейскую скульптуру нашего времени.
Художественные критики и писатели могут говорить что им угодно и превозносить нынешнюю скульптуру превыше тридцати трех облаков ходячих, а все она — что-то такое, что всем в Европе чуждо и далеко. Что может быть доказательнее слов того же самого Шарля Блана, давно уже стоящего на страже «истинного» искусства не только в своей Франции, но и в Европе вообще: «Кто объяснит этот странный феномен! — восклицает он. — Скульптура то искусство, к которому французская школа всего более способна, но к которому французская публика всего более равнодушна! Можно даже сказать, что чем наши художники искуснее в скульптуре, тем наша публика к ней холоднее. И это до такой степени, что комиссарам всемирной выставки могла притти в голову мысль — вовсе не делать специальной скульптурной выставки, а все работы по этой части за последние десять лет рассеять па обоим дворцам Марсова поля и Трокадеро, по садам, по Иенскому мосту, вокруг фонтанов, по углам аллей и улиц, по балюстрадам террасы, наконец везде, где эти статуи могли бы служить дополнением общей декорации. Это предположение не встретило сопротивления, и только вопли скульпторов заставили министра, заведывавшего выставкой, отвести французской скульптуре три залы, сначала назначенные для помещения исторического бытового музея (мебели, фарфора, стекла, материи и т. д.). Надо признаться, никогда ничего подобного не могло случиться у нас с живописью — так велика разница между нашею склонностью к картинам и статуям… Скульптура погибла бы во Франции, если бы ей не покровительствовала та личность, что воплощает в себе общие интересы и называется государством».
Несколькими строками далее, приходя в изумление от того, что, несмотря на все свое невыгодное положение, скульптура может в такой степени процветать во Франции, Шарль Блан спрашивает: отчего такое чудо происходит, какая тут сила действует? и сам же отвечает: «Скульптуру держит так высоко — достоинство мрамора, воспрещающее скульптору воспроизведение всего неизящного, не позволяющее ему изучать то, что изменчиво, незначительно или поверхностно, так что разве только в маленьких статуэтках для этажерки и камина ему остается возможным передавать этнографию костюмов, домашнее убранство, мимолетные выражения, все, что удаляется от неизменности форм, чувств и мыслей».
Можно ли быть глуше и слепее этого! Слушать и не слыхать, — смотреть и не видеть! Да не сам ли Шарль Блан привел все резоны, а потом еще спрашивает: отчего же то и это происходит?
Ясно, что нет более прежнего единства между публикой и художником, и первая не согласна более раболепно подвергаться всем подачкам последнего, всего чаще капризным, безумным или безрассудным, и только на том основании, что художник талантлив и отлично разумеет свое дело. Да, талант талантом, уменье уменьем — «им поделом и честь!», — но зритель не согласен более восхищаться, разинув рот, и итти, куда его ни поведут. Литература и театр, а наконец даже и живопись давным-давно воспитали его, давным-давно увели его вперед, а скульпторы кричат ему вслед: «Постой, постой! Вернись назад!» А нынешний зритель, т. е. художественный потребитель, говорит в ответ на такие умные приказы: «Не хочу! Мне это дело неподходящее, и я не пойду в твои кандалы и колодки. А лучше пойду я да наведаюсь в другое место, вон, например, хоть в живопись, или в роман, или комедию, или драму. Там правду говорят, и она мне нужна; а вы все только лжете да выдумываете».
Неужели это так трудно понять?
Скульптура — самое отсталое искусство нашего времени. Никакой скульптор не смеет окунуться в правду и истину, как, например, это смеют делать и литератор и живописец. Скульпторов одни аллегории и иносказания замучили, от правил скульпторы ни на шаг: у них натура только и есть что в вылепленных ими руках, да ногах, да носах — все остальное выдумки и экивоки какие-то. Но какому же здоровому головой человеку это не надоест и не опротивит? И ходит он между рядами белых как мука групп и статуй, и, сознавая свое «грубое невежество» (о котором ему натолковано в жизни достаточно), ходит он осторожно и, озираючись, приглядывается направо и налево, хвалит, одобряет, сердечно умиляется, а в сущности жестоко скучает.
Результат же — именно то, что говорит Шарль Блан: желание избавиться от всех этих грациозных, милых, прелестных, кротких или же торжественных, парадных, великолепных белых привидений.
Исключения есть, но их было до сих пор слишком мало на свете.
Вот возьмите, для примера, хоть нынешнюю всемирную выставку. Навряд ли кому случалось видеть зараз такую громадную, просто, можно сказать, беспредельную массу скульптуры, как нынче летом в Париже, на Марсовом поле. Это был просто лес статуй, и внутри зданий, да и на чистом воздухе тоже. Чего тут только не было: весь древний и новый мир на ноги подняли, не говоря уже о персонажах фантастических, символах и аллегориях. Талантливых людей между авторами этих произведений было тоже немало. Но никакой технический талант не спасет того, что в существе своем фальшиво. Талант тратится на какие-то шарады, на какие-то ребусы. Посмотрите на главный фасад: что там такое наверху, над громадной истинно великолепной по красоте, стеклянной с железом аркой, поставленной для входа? Какие-то две голые женщины с трубами в руках и крыльями за спиной. Вы только спросите, и вам основательно и пространно растолкуют, что это Славы тут летают. На что они? — Так лучше, так требуется и для достоинства предмета и для красоты линий. Точно будто достоинство может заключаться в явной нелепости, точно будто красивость линий только и может быть достигнута что нелепыми фигурами и крыльями!
Что стоит перед главным входом выставки? Большой четвероугольный камень, на котором сидит некая большая женщина в загнутом наперед колпачке, в некиих неведомых пространных одеждах, с некиим мечом в руке. Опять надо расспрашивать, опять слышать мифологические объяснения в ответ: так надо; так принято. Вдоль всего фасада, у каждого столба железного — по «нации». Спрашиваю, что может быть смешнее нацию ставить «к столбу» или нацию изображать посредством каких-то женщин, которую в короне, которую в куафюре какой-нибудь. Самая безобразная из этих «наций» Россия Лемера: порядочные комиссары должны были бы ее положительно запретить; но наши и не выходили, голубчики, из своих «теремов» выставку посмотреть. Они наверное ничего и до сих пор не знают, что за Россия такая стояла в общем строю! Пойдите еще дальше, и перед вами уже будут части света, олицетворенные слоном, носорогом, быком и лошадью. Взгляните в сторону: женская великанская голова, вроде головы в Руслане, только на манер античной, с греческим носом и драпировками, с лучами, идущими из прически, как высунувшиеся гвозди. Это — «Свобода, освещающая мир», маяк для нью-йоркской гавани. Взгляните еще внутрь здания выставки: там увидите мраморного генерала, протянутого на катафалке, а у колонн, стоящих вокруг, без всякой крышки, сидят прислонившись четыре фигуры: кто-то в римском шлеме и поджав ноги, потом какой-то полунагой старик с толстыми жилами на руках и на шее, потом еще две женщины, из которых одна собирается кормить целую ораву идеальных ребят грудью. Оказывается, что под этими фигурами надо разуметь «Храбрость», «Знание», «Щедрость» и «Веру», точно будто бы и взаправду покойный ханжа и невежда папист Ламорисьер обладал всеми этими прописными качествами, а его прославитель, скульптор, был и взаправду проникнут этою мыслью, и она вдруг вылилась у него в виде всяческих старых и молодых фигур! Взгляните еще на знаменитую нынче во Франции группу: «Gloria victis!» Крылатая женщина несет, высоко на руках, раненого юношу со сломанным мечом, и они-то оба должны блеснуть у нас в голове мыслью о пораженной, но все-таки славной Франции. Что общего между трагическим глубоким чувством патриотической скорби и этим художественным баловством, этими риторическими завитками мысли? И вот этакими-то скульптурными созданиями завалена и заставлена вся выставка, всемирная выставка, и никто не жалуется, никто не краснеет от стыда за такую всемирную чепуху и нелепицу! И речь может серьезно итти о скульптуре! И никто не столкнул всего этого дикого, безобразного хлама в Сену, чтобы его унесло в Атлантический океан и чтобы там его пожрали киты и им бы подавились!
О небеса пресветлые! когда же будет всему этому скульптурному безумию конец?
Кто переучит целый свет? И скоро ли?
Навряд скоро. О нелепости скульптуры начинали говорить уже сто тысяч раз, только проку пока мало. Глупости продолжаются по-прежнему. По крайней мере хоть то утешает, что пока художники, эти твердые столбы и гавани всех старых прогнивших книжек, всем сердцем и душой продолжают веровать в свои мифологии и экивоки, никто из публики уже им за это не благодарен, и все только с тоской и скукой воротят прочь нос.
Конечно, не вся скульптура состоит из одних аллегорий, есть тоже у ней на примете и история и портреты, и тут же должен выходить наружу и рассудок и здравый смысл. Он понемножку у иных и выходит наружу. Но чего ожидать от людей, которые привыкли всю жизнь не отказываться ни от какой задачи и равнодушно порхать от вылепливания какой угодно «Верности», «Красноречия», «Надежды», «Музыки», PietЮ, Бахуса или Венеры — к любому историческому лицу и событию. Способность заниматься пустяками и ни о чем не думать, кроме линий и драпировок, — все затушевывает, все поедает, и оттого-то даже и то, что носит историческое заглавие: «Кромвель», «Клеопатра», «Наполеон I», «Пий IX», все это обман и призрак. Не верьте вы ярлычкам и заглавиям, авторы-скульпторы притворяются и только повторяют итальянских оперных композиторов, которые окрещивают одну пачку своих мелодий кличкой: «Семирамида», другую: «Крестовые походы», третью: «Нынешняя содержанка», — а в сущности это все у них одни и те же несчастные, печальные, жалкие, жиденькие пустячки музыкальные.
Большинство скульпторов недалеко ушло от итальянских композиторов.
Портреты-статуи, бюсты с натуры — вот что всего еще лучше в скульптуре, вот что, при таланте иных художников (а его рассыпано довольно даже в наиглупейших, безумнейших скульптурных созданиях) — вот что еще всего более похоже на дело и что может делать скульптуру терпимою, впредь до нарождения будущей, настоящей скульптуры, той, которая способна будет радовать не одних только художников. Только вот беда: идеальничанье и фальшь нередко пробираются потихоньку у художников и в портреты. Кажется, и камзол, и башмаки, и обшлага, и чулки, и халат — все верно, все сама правда. Ан нет, он вам все это сделает и выполнит действительно как можно ближе к правде, вырисует каждую ниточку, черточку и пряжку, но посмотрите: в том, что гораздо поважнее и посущественнее будет, в позе, движении, а главное в лице, он вам и подбавит своей скульптуры, своего искусства, т. е. всего того, что наследственно у их брата, художника, что составляет для них священную и высокочтимую традицию, а для нас — нестерпимую ложь и неразумие.
Вот с этой точки зрения я, откровенно признаюсь, немножко побаиваюсь за нашего Антокольского. Как он начинал, несколько лет тому назад, от того он теперь уже далек. На мои глаза, Италия ему не помогла, а повредила. Она мало того, что его объевропеила, но, что гораздо хуже, она его объитальянила! Нет сомнения, с тех пор, как он уехал отсюда, он сделал большие успехи собственно в самой скульптуре, в технике своего дела (печально было бы, если б уже и этого не давали ни Европа, ни зрелость лет), но, по-моему, он несколько утратил своеобразного духа, который дышал у него в «Иване Грозном», и в «Инквизиции», и, наконец, в его статуэтках-эскизах «Иван III» и «Ярослав I», оба верхом. Во-первых, он, совершенно по-итальянски, ищет все только великих людей, как задачу для создания. Итальянец (по крайней мере прежний) без риторики ни на шаг, и ему непременно надо если делать статую, то Данта, Христофора Колумба, Фауста, Макиавелли, Ромео и Джульетту, кого ни попало, только бы кого-нибудь с громким именем и готовою фразою. Это все та же опера итальянская. Г-н Антокольский немножко направился по этой же колее. «Высокие» и «героические чувства и помышления» — вот что составляет нынче его задачу, а это путь очень скользкий и опасный. Во-вторых, Италия отучила его от истинной драмы, к которой он направлялся с такою оригинальностью в своем «Иване Грозном» и «Инквизиции».
Но тогда он работал на почве близкой и знакомой ему: ему стоило только оглянуться вокруг себя, оригиналы стояли вокруг него готовые, он их мог видеть, мог дотронуться до них. Теперь он все это бросил, он занялся интересами «общечеловеческими», перенесся в далекие времена, в чуждые народности, где уже надо идеальничать, надо насильно переноситься туда и в то, чего не видал, чего не знаешь, чего никогда не чувствовал, надо быть космополитом. И тут уже, зараз, г. Антокольский потерял тоже и свой бодрый, мужественный взгляд. Он как будто немножко опустил крылья и вкладывает в свои создания какую-то пассивность. Его «Христос» — связан и выставлен на позор, его «Сократ» — отравлен. Обе личности худо кончают у него в создании, между тем обе они драгоценны истории и человечеству не несчастным концом, а могучею жизнью и делом. Вообще надо заметить, изображениям Христа не повезло в России: наши художники, по личному ли характеру своему, недостаточно сильному, или по какой-то художественной традиции, не сумели представить Христа иначе, как меланхоликом и задумчивым мечтателем (вспомните Христов А. Иванова, Ге, Крамского). Что он у них делает? Выходит вечно каким-то нерешительным, несмелым, расплывающимся в безбрежных мыслях каких-то, словно будто в них он запутался. Как далеко тут до той вышины и силы духа, до той энергии, которая связана для всякого с понятием о Христе. Г-н Антокольский сделал, мне кажется, ту же самую ошибку. Его Христос связан, его хотят недостойно унизить, в награду за великость проповеди и дел, и что же? У г. Антокольского он поник головой, он будто в чем-то виноват, уличен, его взор не царит над всем и всеми, у него нет никакой уверенности в самом себе и во всем, им совершенном. Он только что слаб, ничтожен и кроток. А это значит вовсе не понять своей задачи, значит представлять ее бог знает как и зачем, вовсе не с настоящего конца. Точно так и Сократ: что нам в том, что этот человек умер и валяется на своем кресле, с опрокинутой чашей у ног, точно последний ничтожнейший человек, ничем себя не ознаменовавший? Если не сказать, никто даже никогда и не отгадает, что такое хотел представить автор. Один подумает: Сократ спит, другой — Сократ пьян, и навряд один из десяти тысяч догадается, что это — Сократ мертвый. Таких ошибок г. Антокольский прежде не делал. Италия и итальянская скульптура немножко разжидили его мысль и чувство. Что касается его головы «Христа распятого», то она и еще мутнее: тут уж прямо звучит Италия, нечто слабое, болезненное и условно замученное, на манер какого-нибудь Гверчино и Гвидо-Рени.
Кто знает, может быть, не объевропейся г. Антокольский, его в Париже на всемирной выставке и не признали бы тем, чем нынче признали. Сила и решительная оригинальность не всем нравятся.
Однако тот был бы совершенно несправедлив ко мне, кто приписал бы мне нелюбовь и неуважение к г. Антокольскому. Нет, я все-таки считаю его, каков он нынче ни есть, первым из всех русских скульпторов прошедшего и настоящего времени, так что в сравнении с ним все остальные очень мало значат. Те уже окончательно лишены всякой самостоятельности и оригинальности, и если когда-то можно было радоваться на «Вдову» г. Каменского, то единственно потому, что все остальное было неизмеримо ниже. Впрочем, г. Антокольский в ином сохранил все-таки прежнюю свою оригинальность. Так, например, в нынешнем «Христе перед народом» фигура, им созданная, одета до того по-еврейски, что еще никогда ничего подобного не пробовала скульптура, а отчасти даже и живопись. Христос представлен в длинном полосатом хитоне, подпоясанном широким ремнем, и с маленькой шапочкой на голове. Это, в костюмном отношении, большая и смелая новизна. Связанные назади у локтя руки, куда впились туго перетянутые ремни, весь торс, плечи, руки, ноги, наклон головы — все это великолепно, все это выполнено с великим мастерством, полно правды и красоты. Всего слабее — ступни ног, идеализированные немножко по-античному, кисти рук — слишком элегантные (не так бы, может быть, сделал их прежний Антокольский), наконец, лицо — слишком мало выразительное, даже и по программе автора — все это остается позади задачи.
Таковы мои претензии на новейшие создания г. Антокольского, и в этом я расхожусь с мнениями парижского жюри и многочисленных журналов, громко трубивших в честь г. Антокольского.
Но, каков он и теперь есть, г. Антокольский стоит высоко, вероятно пойдет и еще выше, хотя бы даже и вовсе сделался общеевропейцем и потерял бы окончательные следы национальной школы. Трудно его даже и обвинять, когда все вокруг него берет совершенно другую ноту, чем та, какую он вначале брал.
Посмотрите, даже и такой гениальный скульптор, как Гудон, и тот не сладил с самим собой и с окружавшим его художественным миром и делом. Он наполовину остался в прежней условности и только одной половиной своего существа вышел тем могучим, решительным реформатором, каким, кажется, его назначала быть сама его натура.
Значит, нашему Антокольскому и подавно простительно. Будем довольны тою блестящею ролью, какую он доставил русской скульптурной школе на парижской выставке. А что дальше будет с европейской скульптурой, если только будет, — то авось будет и с нашей скульптурой. В дальних, маленьких, мало уважаемых уголках скульптуры начинает новым духом веять. Там мало-помалу накопляется материал и сила для громадного и коренного 'перерождения. Об этом когда-нибудь в другой раз.
Статья пятая
Нынешняя выставка ярко отличилась от всех прежних одним событием, которое привело меня в великое восхищение в первую же минуту и не переставало восхищать всегда и после. Вот что произошло. Вначале Германия отказалась вовсе участвовать на всемирной выставке, уверяя, что это решено по причинам высшей политики, помня еще недавние неприязненные счеты с Францией. Об этом воздержании никто не жалел в Европе: все, что Германия прислала на две последние всемирные выставки, венскую 1873 года и филадельфийскую 1876 года, было так слабо, так несамостоятельно, так бесцветно, а частью даже и так плохо по всем техническим и промышленным производствам, что стыдились сами немцы, по крайней мере лучшие и действительно знающие, т. е. такие, что желают от глубины сердца истинного успеха отечеству, отложивши в сторону квасной патриотизм. Без зазрения совести, целые томы обличений и упреков были напечатаны в Германии, и казалось, в самом деле, выгоднее будет для немцев нынче вовсе остаться дома. Одно их искусство составляло исключение, постоянно и везде блистало талантами и могучим развитием на каждой из всемирных выставок. Его прятать, его скрывать от всех — было просто непростительно. И это многие немцы чувствовали. И что же! Когда недалеко уж было до весны и выставка парижская была уже совсем на носу, заговорили немецкие художники, сначала потихоньку, друг с дружкой, потом все громче и громче, сплотились в одну дружную массу и заговорили так энергично за права и выгоды своего отечества, что высшие дипломатические соображения пришлось спрятать в карман, и художники добились своего: им было наконец всемилостивейше разрешено то, что следует, — участвовать на всемирной выставке. Французы народ хороший и незлопамятный, они с восторгом приняли новое немецкое предложение, несмотря на то, что оно приходилось против всех сроков, и в одну минуту пораздвинулись, потеснились и отдали немцам огромную, отличную залу, на самом конце выставки, противоположном главному входу. Художественный отдел всей выставки тотчас же, разумеется, выиграл очень много.
Но при этом вот что было превосходно. Сами немецкие художники устроили всю свою выставку, сами ею и распоряжались. Сами они выбирали, что посылать, сами сносились друг с другом, сами заведывали устройством художественного отдела, и хотя им не удалось собрать и послать в Париж такую коллекцию, которая явилась бы полным отчетом за всю художественную деятельность Германии последних десяти лет, — на то времени было уже слишком мало, — но все-таки то, что они выставили, было значительно и прекрасно, выставлено же оно было с таким вкусом и мастерством, с такою внимательностью и знанием, что тут они загоняли всех остальных. Ни у одной нации, в том числе и у самих французов, не было такой элегантной, такой красивой, такой аппетитной художественной залы, как у немцев, не только нынче, но даже ни на одной из всех до сих пор всемирных выставок. Две входные двери, с противоположных концов, были обделаны в виде великолепных порталов из черного дерева, с великолепными колоннами-балясинами в стиле ренессанс, покрытыми врезными украшениями из слоновой кости (все это имитация подлинному черному дереву и слоновой кости, но до того превосходная, что обманывала глаз). Фон, по стенам, состоял из темно-малиновых обоев, вперемежку с темными же полосами бархата; в разных местах залы, среди картин, развешанных живописными отделениями, возвышались группы растений, латаний, арумов и пальм, и под их сенью белели скульптурные произведения, статуи и бюсты. Вся середина залы была занята громадным столом, заваленным великолепно изданными, в последние годы, иллюстрациями (рисованными рукою лучших художников) талантливейших созданий немецкой литературы, старой и новой. И все это, превосходно освещенное светом сверху, отлично устроенным и прилаженным. Ни одна картина, ни одна статуя не была принесена в жертву, все громко говорили: нам здесь хорошо, нам здесь отлично! Об нас сами художники позаботились, как добрая мать. И оттого, посмотрите, какие мы все здесь выходим пышные и нарядные!
Глядя на этот чудесный немецкий художественный отдел, поневоле припоминалось то, что недавно говорил один министр. Около времени открытия всемирной выставки в Лондонской Академии художеств происходил обычный годовой акт. Присутствовал тоже и первый министр, лорд Биконсфильд. Разумеется, он говорил речь. И вот какие любопытные вещи он при этом высказал: «Наш брат, министр, просто не знает, как и быть нынче с изящными искусствами. Не знаешь, как взяться, чтобы заставить процветать у себя в отечестве архитектуру, скульптуру и живопись. Поставишь статую умершему замечательному человеку — так уже и знай наперед, что завтра же эту статую выставят в карикатуре. Купишь то или другое произведение великого мастера прежнего времени, надеешься, что оно послужит источником вдохновения для современных живописцев — глядь, ан тебе уже доказывают, что это воображаемое великое произведение не что иное, как копия. Опять, поди-ка не купи, тебя с яростью обвинят, что ты пропустил золотую оказию. Впрочем, — прибавил в заключение лорд Биконсфильд, — как ни обескураживает такое положение, а мы поставим себе долгом покровительствовать художествам и художникам». Вот-то, я думаю, удивился бы английский граф, если бы вдруг один из присутствовавших художников отвечал ему тут же: «А вольно же вашему сиятельству ставить монументы кому не следует и покупать картины только по собственному внушению сердца! Спросили бы наперед других, в одном случае нацию, в другом хороших художников, и не было бы потом карикатур и копий вместо оригиналов. Неужели кто сделался министром, тот сию секунду, по-щучьему велению, так сразу все понял и узнал? Но главное, с чего вы взяли, ваше сиятельство, что непременно нужно ваше покровительство и без него свет вверх дном пойдет? Посмотрите, все успехи английского искусства обошлись без покровительства и вашей милости. Плохо бывало только то, что министры заказывали и чему покровительствовали (например, бесчисленные живописи и скульптуры, наполняющие новый ваш парламент). А вот посмотрите на немцев, на всемирной выставке: там только все сами художники затеяли, предприняли и выполнили — оттого так и прелестно, и сильно, и оригинально все вышло».
Вот что мог бы отвечать своему премьеру который-нибудь из присутствовавших англичан. Но вообразите себе, что было бы, когда изворотливый и ловкий министр в свою очередь нашелся бы и вдруг ответил: «Да, художники, художники! Это прекрасно. Но ведь художник художнику рознь. Вы вот говорите про немцев, а я вам покажу на русских. Не угодно ли взглянуть у этих на художественный отделец? Посмотрите-ка, что они у себя там наделали. Смотреть стыдно и гадко. А ведь тоже художниками зовутся, тоже сами распоряжались! Но чем они лучше тех вон несчастных чиновников русских, что напутали и обезобразили свою промышленную выставку. Та же безалаберщина, та же беспечность, то же неуменье!»
И вот ведь беда: я думаю, не только англичанину, но и нам, русским, отвечать было бы нечего. Действительно, художники наши, устроители нашего художественного отдела, действовали вовсе не таким образом, чтобы следовало их с восторгом хвалить, и граф Биконсфильд был прав, говоря, что нужно покровительство, нужно великодушное вмешательство. Таких художников, как члены Общества передвижных выставок, знающих, заботящихся о своем деле, полных энергии и предприимчивости, еще у нас слишком мало. А прочих надо по-биконсфильдовски на помочах водить. Надо им не поручать что-нибудь, а приказывать и указывать.
Что это за художники такие, что не умеют и сотни картин порядком повесить! Вот, например, нынче: ухитрились целую четверть нашей выставки оставить в полумраке и даже почти в темноте. Из четырех отделов или зал, на которые распадалась наша выставка, в одном, и едва ли не самом важном, распорядители забыли прочистить стекла наверху (по несчастному соображению общей выставочной комиссии они были закрашены белой краской еще до начала выставки), и оттого этот отдел оставался все время каким-то темным и мрачным подвалом, и многие из значительнейших произведений нашей школы сделались не только неузнаваемы, но их просто почти не видать было. Например, великолепные «Бурлаки» г. Репина, например, портрет графа Льва Толстого г. Крамского. Я даже решительно не понимаю, как иные из иностранных критиков в состоянии были заметить их и отличить их достоинства.
Опять-таки такие хорошие картины, как «Петр Великий допрашивает царевича Алексея» г. Ге или «Чтение положения об освобождении крестьян» г. Мясоедова, повешены были на той вышине, где обыкновенно висят картины второстепенные и третьестепенные (из числа картин не очень больших размеров), и там они теряли девяносто сотых своего достоинства, тогда как парадировали на самых первых и выгодных местах картины обыкновенные, ровно ничем не замечательные.
Превосходный портрет г-жи Виардо, работы г. Харламова, неизвестно почему должен был, уже в середине лета, потерять свое настоящее, почетное место и уступить его одной из ординарнейших картин, а сам поместиться очень высоко, точно во втором этаже, и там пропала половина всех его совершенств. Таких переездов с квартир на квартиры, да еще тогда, когда полвремени выставки прошло, наверное не испытала ни одна из иностранных картин, тем паче из превосходных. Что за слабость, что за виляние недостойное!
Наконец, некоторые из замечательнейших наших художественных произведений были сосланы из зал нашего отдела прямо в сени, в те проходы и коридоры, которыми начинался и кончался каждый отдел. И по мастерству техники, и по могучей кисти, и по чудному, блестящему колориту, и по оригинальности воображения, я не видал на всей выставке акварелей выше и лучше акварелей покойного нашего Гартмана: его фигуры и костюмы для постановки «Руслана» и «Вражьей силы», каковы, например, «Волшебные сады Черномора», сам Черномор, злой «Колдун», «Поезд масленицы» и многие другие, принадлежат к числу таких созданий, которые наверное сделали бы нам честь и которыми бы гордилась каждая художественная школа. Эти «картинки» и по силе творчества, и по самостоятельности своей, и по высокому художеству стоят многих из самых уважаемых и высоко ценимых картин.
Точно так же порядочные художники обратили бы наверное большое внимание на ряд акварелей г. Шишкова, представляющих проекты его декораций для многих русских опер и пьес. Как же было не понять, что, помимо их талантливости и живописности, они тоже и значительные создания русского художественного творчества! Ведь у нас сочинить для театра русскую «гридницу», или «терем», или «палату» X, или XIII, или XV века — это совсем не то, что сочинить дворец, собор или дом для Театра французского, немецкого, английского или итальянского: там все материалы есть налицо, там уцелело в городах и на улицах, еще и теперь существующих, множество архитектурных созданий глубокой европейской древности — только бери и копируй! Разве то у нас? Поди-ка сообрази и сочини то, от чего давным-давно и камня на камне нигде не осталось, чему давно и след простыл. И когда найдется такой человек, у которого соединятся знание и талант, который способен перенестись воображением в русскую седую древность и воссоздать ее живьем, так что фантазия зрителя схвачена и унесена в богатырские, или княжеские, или древнецарские времена, — тогда этого человека надо ценить и холить, надо становить его на почетное место, а когда дело дойдет до всемирной выставки, то надо ходить и показывать его произведения всем экспертам, всему жюри поголовно, надо им растолковывать достоинство и значение этих истинно исторических и национальных созданий.
Но куда! Разве что-нибудь подобное у нас бывает, разве что-нибудь подобное у нас возможно? Наши художники (те, что суть власть имущие, распоряжающиеся) и во сне не видывали, что такое важно и что не важно. У них все перепутано в голове, и поминутно вещи ничтожные торжественно торчат у них на первом месте, как бестолковые купцы толстопузые, с богатой мошной, на обеде, а истинно талантливые создания сосланы в переднюю, да еще и там — вбок, за угол, повыше куда-нибудь!
Ах, надобно нам, крепко надобно не одного Биконсфильда, покровителя и указчика, а целую стаю!
Вот это все по части нашего устройства. А что надобно сказать про то, что господа художники даже и по специальному своему делу не отличают аза от буки. Как же они не видели, что тут у них нет налицо многого, что должно бы присутствовать нынче в Париже, нам в честь иностранцам на поученье, насчет того, к чему мы нынче способны, что нынче мы умеем делать. Так, например, еще в 1868 году не посылали в Париж на всемирную выставку «Чиновника с крестом» г. Федотова, в наказание, конечно, за ту провинность, что это было чисто гоголевское создание, по таланту, юмору и силе; в 1873 году не посылали в Вену «Гостиного двора» г. Прянишникова, за то, что это была очень талантливая, сильно рельефная иллюстрация точно самого Островского; наконец, на нынешнюю выставку не послали «Протодиакона» г. Репина. Пускай бы даже сами авторы не хотели посылать своих созданий в Париж: они должны были бы кланяться, просить, уговаривать их, доказывать, например, г. Репину, что такому сильному национальному созданию, как его «Протодиакон», — самое место на всемирной выставке, что там его сразу раскусят и оценят, что там оно произведет крупный эффект и заслужит великое рукоплескание, а путешествовать с передвижною выставкою по России время никогда не уйдет. Куда! Никому из распорядителей этого и в голову не приходило. Им «Протодиакон» показался «непристойностью» и слишком крепкою нотой, как многое самое важное, что пробует сказать наша литература и искусство. Они бы эту ноту, если бы их и принудить, припрятали бы под каким-нибудь кружевцом да блондочкой художественной.
Ах вы, мизерные желудочки, ничего не варящие, кроме ребячьей кашицы да мятных лепешек, ах вы, девы непорочные! То-то были бы выставки хороши на свете, когда бы от вас зависели, то-то было бы искусство на розовой воде, когда бы вы им заправляли.
Вот огромную машинищу г. Семирадского — ту они понимают, та им как масло по сердцу, той они отвели самое первейшее место и воздвигли словно иконостас какой-нибудь драгоценный. Бронза и перламутр, розовые венки и золотые кубки, превосходно написанные красками, — вот в чем тут все искусство, весь талант, вот чему нужно только поклоняться.
Но хоть бы припомнили наши распорядители и хозяева, что нечего тут нам радоваться, и торжествовать, и в ладоши хлопать. Огромные размеры картин нам никогда впрок не шли. Тут, наверное, девять десятых напыщенности, вычур, холодных выдумок и классических потуг. Начните для примера хоть с «Венчания Михаила Федоровича на царство» г. Угрюмова, в прошлом веке, продолжайте «Помпеей», «Осадой: Пскова», «Медным змеем» — в нынешнем, и кончайте выспренними «Светочами» г. Семирадского в настоящую минуту. Все это либо недосол, либо пересол, все это чужими затеями, напрасно к нам перевезенными, пахнет, все это с чужого голоса и примера пето, ничего тут не было своим умом и талантом почувствованного и початого.
Нет, совсем другое нам свойственно: умеренные, средние размеры картин, и в них только проявлялась до сих пор вся наша сила, характерность и значение. В этом мы совершенно сходимся с нациями германского племени, всего более с нидерландцами и англичанами, которых искусство всегда было, есть (а пожалуй, и надолго, если не навсегда, будет) самой близкой родней нашему искусству, Заметьте только, как мало у нас родства с искусствами европейских наций латинского племени — просто на удивление! Сколько наших художников ни посылали, в продолжение целых ста лет, в Италию, сколько ни заставляли их прокисать в виду Ватикана и католических классиков, с их крыльями, венцами и шлемами, разверзтыми небесами и распахнутыми Капитолиями, ничего путного из этого никогда не выходило, точь-в-точь как ничего путного никогда не вышло из всех русских потуг уподобиться разным великим западным писателям латинской расы. Все было втуне, и никогда ничего из этого не произошло. Но только что русское искусство немножко позабыло все эти фольговые великолепия и, усомнившись, поглядело в другую сторону, тотчас другим воздухом потянуло, и сердце его крепко забилось, и руки радостно поднялись к работе. Федотов и его последователи, разросшиеся на нашем веку в такую богатую, великолепную школу, столько же мало подражали старым голландцам или новым немцам (дюссельдорфцам и иным), как мало Гоголь подражал Диккенсу. Два родных брата только рядом шли. Мать была общая: одинакая племенная натура, одинакий взгляд, одинакий талант, одинакая минута.
Маленькие размеры картин, сюжеты, на вид тоже маленькие, но в сущности далеко идущие в сердце и глубь типов и жизни, исполнение, гнушающееся той виртуозности, которая назначена только дурманить глаз, — вот в чем состояли всегда главные внешние признаки нашей школы, с тех пор, как она стала становиться на настоящие свои ноги. И нас хотят уверить, что это-то и есть наш порок, наша слабость и наш недочет! Нас хотели бы уверить, что мы все до сих пор какие-то не настоящие, а поддельные, такие, кому надо переделаться и исправиться, такие, кому следует стыдиться своего малоумия и фальши против «настоящего», великого искусства. Нет, все напрасно, и поворота у нас более не ждите. Хотите, надевайте траур, или так как-нибудь выносите свое горе, но уже русское искусство не сойдет со своего прочного, нынешнего, наконец-то нащупанного рельса. Колеса стоят уже по местам, пары разведены и великий локомотив трогается с места. Назад поздно.
Еще главная наша сила в том, что новое русское искусство так крепко обнялось с русской литературой и творчеством, как, быть может, ни одно другое искусство в Европе. Что общего, например, у Макарта со всей не только австрийской, но даже немецкой литературой? Что общего у Фортуни с испанской, у Жерома, у Бонна или Кабанеля с французской, у Питтиса или Монтеверде с итальянской? Перестановите их из одной школы в другую, никто и не догадается. Напротив, возьмите кого хотите из всех лучших наших художников, и уже не придется спрашивать про их родство с национальной литературой. Оно само кидается в глаза. Наша литература и искусство — это точно двое близнецов неразлучных, врозь не мыслимых. Вспомните Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Островского, Льва Толстого — то же самое настроение и мысль, что и у них, то самое чувство и глубокая национальность, та самая потребность раньше всего схватить и выразить тип и характер, те самые виды и сцены природы лежат в основе и наших новых картин. Хотите, чтобы нынешнее ненавистное и «непристойное», мужицкое и «низкое» художество, с его «отвратительным» и «мелким» направлением кончилось, провалилось сквозь землю? Ничего нет легче: выскоблите только вон всю новую русскую литературу — остальное придет само собой.
Впрочем, надо заметить, что наша литература много имеет авансу перед художеством. Потому ли, что литераторы были образованнее, более приготовлены в интеллектуальном отношении, или просто рождались с талантом более глубоким и многосторонним, дальше проникающим, но только в литературе нашей существуют многие высокосовершенные создания на такие темы, которые нашему художеству пока еще недоступны и неподходящи. Например, задачи исторические. Сколько раз наши живописцы (новые) ни подходили к ним, всякий раз была только — осечка. Сил, видно, все еще не хватает. Русская живопись не может выставить, покуда, еще ничего, не только приближающегося, но даже издали похожего на лучшие сцены из «Бориса Годунова», из «Тараса Бульбы», из «Войны и мира». Возьмите хоть две, едва ли не лучшие до сих пор, исторические наши картины: «Тараканову» г. Флавицкого и «Петра с Алексеем» г. Ге. Обе они — значительный, даже громадный успех против всего прежнего в этом роде. Зато же и рукоплескали им, начиная с первой минуты их появления, — и истинно поделом, за желание быть правдивым, взять только верные, жизненные ноты, пропустить всю неправду, все напускное, лжевысокое. Но, оставя на минуту в стороне их успех и достоинства, все-таки не останешься уже нынче ими доволен, когда подумаешь, чем эти картины могли бы и должны были быть. У Таракановой совершенно «идеальная» голова, костюм и его растерзанность на груди пахнут мелодрамой, академическою замашкой где-нибудь да выгадать голое тельце «для искусства»; Петр I — театрален позой и лицом, словно французский актер, читающий тираду («И ты, сын мой, и ты!!!..»), — притом, как далеко от физиономии этого умеренного джентльмена до того страшного выражения, каким должно было сверкнуть в ту минуту лицо свирепого грозного великана. А если не умеет твоя кисть, если силы духа, если грозы и вьюги у тебя не хватает внутри груди, тогда нечего было и притрагиваться к такому сюжету! Мало ли сколько других есть на свете.
Но, может быть, это положение нашей живописи только временное, случайное, может быть, еще настоящего человека не родилось, и впереди у нас все иное? Может быть. Того я не знаю. Но пока наша вся сила в другом месте лежит, и нам жаловаться на это еще нечего. Наша доля, право, очень-очень недурна. Подумайте только: техническая, собственно виртуозная сторона часто у нас хромает, часто у нас в недочете, колоритом мы тоже пока еще не вышли, и что же? Нам все это готова Европа прощать (до поры, до времени). Ничего, говорят, ничего, вы все это наверстаете, — а вот та оригинальность, та национальность, самобытность и свежесть, которою вы так ярко блестите, вот этого не наверстаешь, вот этого у нас нет, и вот это именно мы всего более и ценим!
Такие отзывы не теперь только начались (я привел некоторые из них в первой своей статье): я встречал их уже и одиннадцать лет тому назад, по поводу нашего художественного отдела на всемирной выставке 1867 года. С тех пор отзывы в нашу пользу, констатирование нашей самобытности постоянно все только усиливается. И это великолепно, это чудесно. Не потому, что нам комплименты нужны, не потому, что они сладки и приятны, а потому, что пока у нас дома почти все новое наше искусство все только хают, да жучат, да не ставят ни во что, другие, те, что от нас за тысячу верст живут, искренно на него радуются и собираются высоко его поставить.
И после этого пускай на всемирной выставке с ума сходят и поднимают выше облака ходячего такие талантливые и блестящие, но во многом фальшивые и пустые вещи, как «Въезд Карла V в Антверпен» Макарта, такие картины-блестки, как создания Фортуни, такие франтовские и ухарские, но лишенные всякой психологии и глубины портреты, как портреты Бонна, — или же пускай недостаточно ценят такие истинно великолепные создания, как «Люблинская уния» Матейки, одну из совершеннейших картин нашего времени, полную истинного исторического смысла и духа, или же «Совет шварцвальдских крестьян» Кнауса, великий chef d'oeuvre простой народной правды, или же «Портрет маршала Прима», гениальный портрет-картину юноши Реньо, — все равно, мы не смутимся ни тем, ни другим и бодро будем смотреть вперед, с крепкой верой в начинающееся развитие, рост и силу нашей школы. Наш полк талантов уже и теперь хорош и немалочислен: гг. Репин и Перов, Максимов, Прянишников и В. Маковский, Крамской и Мясоедов, Шишкин и Клодт, Куинджи, Журавлев, Брюллов и Корзухин, наконец многие другие еще высоко поставили нашу школу в ряду всех остальных на нынешней всемирной выставке, и, кто знает, скоро им и их наследникам придется стать на место многих из числа тех, кто, по собственному признанию, начинает становиться мало оригинален, бесцветен или неинтересен.
Значит, надо еще крепче прежнего работать.
1878 г.
Комментарии
Общие замечания
Все статьи и исследования, написанные Стасовым до 1886 года включительно, даются по его единственному прижизненному «Собранию сочинений» (три тома, 1894, СПб., и четвертый дополнительный том, 1906, СПб.). Работы, опубликованные в период с 1887 по 1906 год, воспроизводятся с последних прижизненных изданий (брошюры, книги) или с первого (газеты, журналы), если оно является единственным. В комментариях к каждой статье указывается, где и когда она была впервые опубликована. Если текст дается с другого издания, сделаны соответствующие оговорки.
Отклонения от точной передачи текста с избранного для публикации прижизненного стасовского издания допущены лишь в целях исправления явных опечаток.
В тех случаях, когда в стасовском тексте при цитировании писем, дневников и прочих материалов, принадлежащих разным лицам, обнаруживалось расхождение с подлинником, то вне зависимости от причин этого (напр., неразборчивость почерка автора цитируемого документа или цитирование стихотворения на память) изменений в текст Стасова не вносилось и в комментариях эти случаи не оговариваются. Унификация различного рода подстрочных примечаний от имени Стасова и редакций его прижизненного «Собрания сочинений» 1894 года и дополнительного IV тома 1906 года осуществлялась на основе следующих принципов:
а) Примечания, данные в прижизненном издании «Собрания сочинений» Стасова с пометкой «В. С.» («Владимир Стасов»), воспроизводятся с таким же обозначением.
б) Из примечаний, данных в «Собрании сочинений» с пометкой «Ред.» («Редакция») и вообще без всяких указаний, выведены и поставлены под знак «В. С.» те, которые идут от первого лица и явно принадлежат Стасову.
в) Все остальные примечания сочтены принадлежащими редакциям изданий 1894 и 1906 годов и даются без каких-либо оговорок.
г) В том случае, когда в прижизненном издании в подстрочном примечании за подписью «В. С.» расшифровываются имена и фамилии, отмеченные в основном тексте инициалами, эта расшифровка включается в основной текст в прямых скобках. В остальных случаях расшифровка остается в подстрочнике и дается с пометкой «В. С.», т. е. как в издании, принятом за основу, или без всякой пометки, что означает принадлежность ее редакции прижизненного издания.
д) Никаких примечаний от редакции нашего издания (издательства «Искусство») в подстрочнике к тексту Стасова не дается.
В комментариях, в целях унификации ссылок на источники, приняты следующие обозначения:
а) Указания на соответствующий том «Собрания сочинений» Стасова 1894 года даются обозначением — «Собр. соч.», с указанием тома римской цифрой (по типу: «Собр. соч.», т. I).
б) Указание на соответствующий том нашего издания дается арабской цифрой (по типу: «см. т. 1»)
в) Для указаний на источники, наиболее часто упоминаемые, приняты следующие условные обозначения:
И. Н. Крамской. Письма, т. II, Изогиз, 1937 — «I»
И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. I, «Искусство», 1948 — «II»
И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. II, «Искусство», 1949 — «III»
И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. III, «Искусство», 1950 — «IV»
Указание на страницы данных изданий дается арабской цифрой по типу: «I, 14».
Наши итоги на всемирной выставке
Эта серия статей была опубликована в конце 1878 и в начале 1879 года («Новое время», 7, 14, 21 и 28 декабря и 4 января).
В публикуемых статьях, со свойственной Стасову принципиальностью и убежденностью, подвергаются резкой критике руководители, которым была доверена организация в Париже русского отдела выставки и ее экспозиции. Экспозицией руководил В. Якоби, один из представителей академического лагеря. Стасов в своих статьях неоднократно указывал на недопустимость непродуманного, халатного отношения к организации выставок. Однако ошибки, допущенные, например, при организации лондонской всемирной выставки в 1862 году (см. статью «После всемирной выставки», т. 1), были повторены и теперь. С неменьшей остротой Стасов разоблачает жюри выставки, исходившего в оценке произведений не с позиций реализма, идейности и самобытности искусства, в чем жюри в достаточной мере смыкалось со взглядами русского академического лагеря. В результате такого подхода к оценке при присуждении медалей художники-передвижники были обойдены. Первую премию здесь получил скульптор Антокольский, а медаль Семирадский. С большой четкостью формулируя специфические особенности русской национальной реалистической школы живописи, опираясь на передовую часть западноевропейских критиков, стоящих на позициях реализма, Стасов убедительно доказывает несостоятельность решений жюри. Вместе с тем, как знаток искусства, вооруженный взглядами передовой русской критики, Стасов смело выступает против космополитизма, бессодержательности, против виртуозности западноевропейских художников и обосновывает совершенно очевидные достижения русского искусства, о которых на Западе не могли уже не говорить. Одной из «главных сил», обеспечивающих успех русскому искусству, Стасов считает то, что оно «так крепко обнялось с русской литературой и творчеством, как, быть может, ни одно другое искусство в Европе». Этим правильным утверждением Стасов вновь подчеркивает идейность как ведущее начало русского передового искусства (см. статью «Друг русского искусства», направленную против статьи Боборыкина «Литературное направление в живописи», т. 1). Вместе с тем, он вновь восстает против таких картин, как «Въезд Карла V в Антверпен» Макарта, типичного произведения, отвечающего вкусам и склонностям морально разлагающейся буржуазии (см. статью «Новая картина Макарта», т. 1). Не случайно великий реалист Репин писал по поводу этой статьи Стасова: «Она дышит такой глубокой правдой неподкупного человека, не пристающего из-за выгод или трусости к этому подлому буржуазному миру формализма и рутины во всех видах». «Мне так и представляется великан, вывернувший огромнейший дуб с корнями и, взмахнувши с пронзительным свистом, хватил по головам эту паршивую чиновную сволочь; а публика стоит и аплодирует» (III, стр. 41).
Следует отметить соображения Стасова по поводу творчества Антокольского, изложенные в комментируемой статье. Положительно оценивая талант скульптора, Стасов старался всегда быть в курсе его творческих замыслов. Заметив, что после таких произведений, как «Иван Грозный» и «Петр I», Антокольский начал переходить к «космополитической», по определению Стасова, тематике, а именно: «Христос перед народом» (1874), «Смерть Сократа» (1876), «Иоанн Креститель» (1878), Стасов начинает подвергать его творчество товарищеской, но резкой критике, стремясь направить деятельность скульптора в русло идейно-демократического искусства. Изменение направления у Антокольского Стасов относил за счет влияния Запада, где скульптор жил длительное время (Рим, Париж). Критикуя Антокольского, Стасов всегда отбивал несправедливые атаки, которым подвергался скульптор, особенно со страниц газеты «Новое время» (по этому вопросу см. статью «Оплеватели Верещагина» и комментарии к ней, т. 2).
П. Т. Щипунов

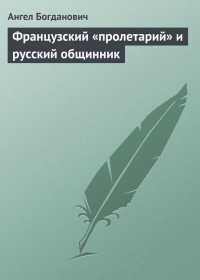

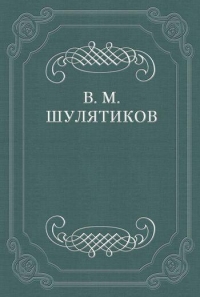

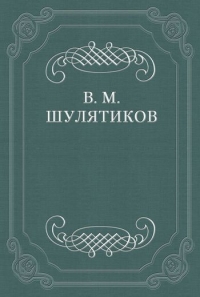

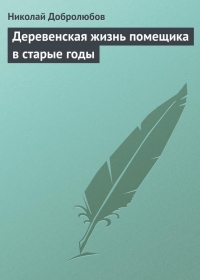


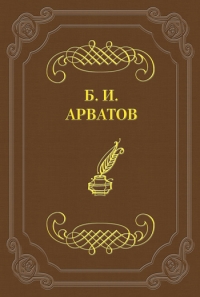
Комментарии к книге «Наши итоги на всемирной выставке», Владимир Васильевич Стасов
Всего 0 комментариев