Перед нами книга, составившая эпоху в истории французской общественной мысли и вошедшая в фонд мировой классической литературы. Пятый век живет она, переходя от поколения к поколению, расширяя круг своих читателей по мере роста культуры и образованности среди народов мира. Не все в ней просто, не все ясно с первого взгляда. Время отдалило от нас ту отжившую и отзвучавшую действительность, которая взрастила великого Рабле и дала ему обильный материал для художественных обобщений. Время затуманило смысл отдельных намеков, тонких и язвительных, много говоривших уму и сердцу его современников. В наши дни нужна иногда осторожная рука реставратора, чтобы смахнуть пыль веков с золотых букв книги. К тому же создатель бессмертного творения, опасаясь преследований со стороны сил реакции, — а время тогда было жестокое, — многие идеи свои запечатал семью печатями, полагаясь на проницательность читателя.
Книга Рабле родилась в народе. Первоначально это было маленькое зернышко. Рабле взрастил его, и оно превратилось в могучее дерево.
Сбросим со счетов времени четыреста тридцать пять лет и окажемся в Лионе. Жизнь здесь бьет ключом. Четыре раза в год устраиваются ярмарки. Со всех концов Европы прибывают купцы. Ткани, меха, ковры, различные виды оружия и лионский шелк — все можно здесь приобрести за деньги. В дни ярмарок в ходу монеты всех стран.
На улицах голландская, немецкая, итальянская, испанская, английская речь. Сюда охотно съезжаются ученые люди всей Европы. Их привлекают типографии. Издательское дело в Лионе поставлено на широкую ногу. В Европе известны имена трех крупнейших лионских издателей — Себастьяна Грифа, Франсуа Жюста, Клода Нури. Эти три дельца печатают, конечно, и ученые сочинения, но прежде всего то, что в дни ярмарок пользуется широким спросом, — гороскопы (к ним средневековье питало особое пристрастив), различные толкователи снов, альманахи назидательных историй, поучений. Шумно и бойко идет торговля книгами.
Уличные торговцы, громко зазывая покупателей, предлагают маленькую книжицу под неотразимым названием:
«Великие и бесподобные хроники огромного великана Гаргантюа, содержащие рассказы о его родословной, величине и силе его тела, также диковинных подвигах, кои совершены за короля Артура, его господина».
Сохранилось каким-то чудом два экземпляра этой книжицы.
Открываем первую страницу. На нас нисходит далекая старина, наивная и легковерная, ищущая сильных ощущений в сказке.
Грангузье, Галемель, Гаргантюа перекочевали из этой нехитрой народной сказки в философский роман Рабле.
В 1532 году в Лионе Рабле начал его печатать. Теперь он уже до самой смерти будет прикован к нему. Это книга всей его жизни, как «Божественная комедия» для Данте, как «Фауст» для Гете.
* * *
Если вы взглянете на фронтиспис некоторых изданий сочинений Рабле, то увидите лицо человека, блаженно улыбающегося, с затуманенным взглядом, с полуоткрытым ртом, будто напевающего какую-то веселую песенку, в состоянии сладостного опьянения, как античный Силен среди виноградных лоз. Таким хотели представить Рабле некоторые его издатели. Весела его книга, — значит, весел он сам, весел и благодушен.
Знаменитый поэт XVI столетия Пьер Ронсар, писавший изысканные стихи, посвятил Рабле, когда тот умер, нижеследующий поэтический некролог:
Воспеты были им умело Кобыла сына Гаргамеллы, Дубина, коей дрался он, Шутник Панург, Эпистемон, Боец и ада посетитель, Брат Жан, лихой зубодробитель, И папоманская страна. О путник, с легкою душою, Закусывая ветчиною, Бочонок доброго вина Над гробом сим распей сполна. (Перевод Ю. Корнеева)Может быть, это была шутка Ронсара в духе самого Рабле. Но скромный пуатевенский врач Пьер Буланже латинскими стихами сказал иное: «Дело потомков допытываться, что это был за человек. Мы же его знали, понимали, и он был нам дорог как никто. Потомки, может быть, подумают, что он был шутом, скоморохом… Напрасно. Он не был ни тем, ни другим. Обладая умом глубоким и редким, он высмеивал род людской, его безрассудные прихоти и тщету его надежд…»
В 1601 году, то есть спустя полвека после смерти Рабле, в Париже вышло собрание «Портретов многих знаменитых людей, живших во Франции с 1500 года по настоящее время». Под номером девяносто девятым помещался портрет Франсуа Рабле в разделе «знаменитых врачей». Этот портрет приписывается Томасу де Ле, известному граверу и рисовальщику, сделавшему множество портретов коронованных особ Франции конца XVI — начала XVII столетия. Томас де Ле никогда Рабле не видел, он родился в 1570 году, то есть уже после смерти писателя. Значит, его гравюра сделана с какого-то неизвестного нам оригинала. С этой гравюры было уже позднее сделано несколько копий.
Худое, несколько скорбное лицо. Прядь седых волос, выбивающихся из-под широкополого мягкого берета, какие носили в то время университетские профессора. Профессорская мантия. Отороченный мехом воротник. Длинная худая шея. Редкая борода, широкий лоб. Большие глаза. В них много света.
Ко в портрете нет того, чего мы ждали, что искали в нем «пантагрюэлизма», того доброго расположения духа, той безудержной, беззаботной веселости, какой полным-полна книга великого Рабле, его всемирно известный, несравненный и бесценный роман «Гаргантюа и Пантагрюэль».
Улыбка Рабле печальна. Перед нами скорее поэт, чем шут и насмешник, натура утонченная, артистическая, а между тем перо этого человека создало галерею королей-великанов, хохочущих во все горло, объедающихся и отправляющих свои естественные надобности с самой благодушной и самой наивной беззастенчивостью у нас на глазах.
Глядя на худое лицо Рабле, невольно думаешь о том, что счастье не очень баловало его, что он никогда не обладал большими материальными благами, и если столы его героев ломились от яств, то сам он нередко довольствовался куском изрядно зачерствевшего хлеба и кружкой дешевого вина.
О жизни Рабле много легенд, забавных анекдотов и ничтожно мало достоверных сведений.
В сборнике эпитафий церкви св. Павла в Париже (сборник составлен в XVIII веке) сказано, что Рабле умер 9 апреля 1553 года в возрасте семидесяти лет и похоронен на кладбище этой церкви. Дата смерти не вызывает сомнений, дата рождения требует подтверждений. Никаких прямых указаний на этот счет нет, а косвенные противоречат церковной записи.
Считают, что Рабле родился в 1494 году и, значит, в момент смерти ему было около шестидесяти лет.
В древних списках сотрудников медицинского факультета университета в Монпелье против его имени обозначено: «Шинонец из Турени». И только.
Действительно, Рабле родился в Турени, самой благодатной, самой цветущей части страны, в долине реки Луары, в маленьком городке Шиноне, который и поныне так же мал, как и во времена Рабле.
Кем был отец Рабле? Легенда говорит разное — содержателем кабачка, аптекарем. Большинство французских ученых сходится на том, что Антуан Рабле, отец писателя, был местным адвокатом, владевшим недалеко от Шинона в Девиньере загородным домиком, в котором и родился автор «Гаргантюа и Пантагрюэля». В книге мы не раз встретимся с наименованием Девиньеры. Хуторок был дорог писателю по детским воспоминаниям.
Известно, что мать его умерла рано. С десятилетнего возраста начались скитания будущего писателя по монастырям. Сначала францисканский монастырь Сейи, потом монастырь де ла Бомет, потом кордельерское аббатство Фонтене-ле-Конт.
В последнем он постригся в монахи в возрасте двадцати пяти лет. Этот акт трудно объяснить. Неукротимый бунтарь, неукротимый жизнелюб, собрат Эпикура и Лукиана одел на себя монашескую сутану в самую цветущую пору своей жизни.
Может быть, на решение Рабле повлияло особое пристрастие к монастырям и монахам? Вот что он пишет в своей книге:
«…в наше время идут в монастырь из женщин одни только кривоглазые, хромые, горбатые, уродливые, нескладные, помешанные, слабоумные, порченые и поврежденные, а из мужчин — сопливые, худородные, придурковатые, лишние рты…»
В главе XL Первой книги о монастырях и монахах он отзывается совсем уж непочтительно: «…Монахи пожирают людские отбросы, то есть грехи, и, как дермоедам, им отводят места уединенные, а именно монастыри и аббатства, так же обособленные от внешнего мира, как отхожие места от жилых помещений».
Нет, писатель явно не питал пристрастия к монастырю и монахам. И все-таки он принял постриг. Очевидно, это была жертва веку, своему времени, — чисто внешняя, формальная уступка. Рабле остался самим собой, нисколько не изменив в угоду церкви ни взглядов своих, ни даже образа жизни. Как бы отвечая на наш вопрос, Рабле лукаво замечает нам: «Вы же сами говорите, что монаха узнают не по одежде, что иной, мол, и одет монахом, а сам-то совсем не монах».
Рабле покинул монастырь в 1527 году. Он распростился с монастырской жизнью навсегда. С котомкой за плечами, с очень скудным запасом денег, бедняк, почти нищий, бродил он по стране, переходя из одного университетского города в другой.
В средние века университеты жили своей особой жизнью. Это были как бы государства в государстве. Местные власти не отваживались вмешиваться во внутренние дела студенческой и профессорской корпораций.
Города были заинтересованы в университетах. Последние составляли их славу, привлекали толпы учащихся со всех концов не только Франции, но и Европы. Студенты переходили из одного университета в другой слушать «знаменитостей». Преподавание велось на международном языке — латыни.
Семнадцатого сентября 1530 года Рабле поставил свое имя в списках слушателей медицинского факультета в Монпелье. Первого ноября того же года получил ученое звание — бакалавра. Для успешной сдачи экзаменов требовалось знание медицинских трактатов древности — сочинений греческих врачей Гиппократа и Галена. Это были непререкаемые авторитеты средневековой медицины. Самостоятельных шагов она еще не делала.
Итак, Рабле — бакалавр. Теперь он покидает Монпелье и отправляется в Лион.
Он приглашен в местный госпиталь в качестве врача.
Городской госпиталь предложил ему оплату мизерную (сорок ливров в год). Условия работы сложные: до двухсот больных в одной палате, иногда по нескольку больных на одной постели. Это средневековье!
И в медицине Рабле революционер. Он публично анатомирует труп повешенного — факт неслыханный и ужасный, по понятиям средневекового человека. Его научная программа достаточно ясно изложена им самим в его книге: «…внимательно перечти книги греческих, арабских и латинских медиков, не пренебрегай и талмудистами и каббалистами и с помощью постоянно производимых вскрытий приобрети совершенное познание мира, именуемого микрокосмом, то есть человека» (из письма Гаргантюа к сыну).
Рабле не только врач-практик, он ученый, распространитель медицинских знаний. В Лионе в 1532 году он публикует «Афоризмы» Гиппократа. Греческий оригинал напечатан параллельно с текстом латинским. Это книга для врачей. Последние в восторге. Наконец-то в их руках подлинный текст великого врача древности, без искажений переводчика, отпечатанный под наблюдением специалиста.
К концу года Рабле печатает в типографии Клода Нури книгу, совсем непохожую на те ученые трактаты, которые готовил к печати до того. Раньше он смело и, пожалуй, не без гордости подписывал свое имя. Теперь он придумывает другое, немножко странное — Алькофрибас Назье. Только пристальный взгляд различит здесь буквы из состава его имени. Это анаграмма.
Книга называлась: «Ужасающие и устрашающие деяния и подвиги знаменитейшего Пантагрюэля».
К августовской ярмарке 1534 года лионский книгоиздатель Франсуа Жюст выпустил вторую книгу Рабле, книгу, «полную пантагрюэлизма», — «Бесценную жизнь великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля».
Но произошло непредвиденное событие. В ночь с семнадцатого на восемнадцатое октября того же года в Париже и других городах Франции на стенах домов появились плакаты против папы и католической церкви. Один такой плакат был приклеен даже к двери спальни короля в амбуазском замке. Король был взбешен и напуган.
Сорбонна организовала покаянную процессию. Во главе ее с непокрытой головой шел сам король. Запылали костры. Сорбонна внесла предложение запретить вообще книгопечатание. Франциск I склонялся к тому, чтобы издать такое постановление. Гийом Бюде — его библиотекарь, секретарь, советник по вопросам культуры — с большим трудом отговорил его от этого рокового шага.
Рабле почел за лучшее скрыться. В течение полугода о нем ничего ае было слышно. В Лионе его не было. Он появился только летом 1535 года, когда через город проезжал епископ Жан дю Белле с миссией в Рим. Рабле присоединился к свите епископа и выехал в Италию. Это было тоже бегство.
Жан дю Белле прибыл в «вечный город» получить кардинальскую шапку. Рабле воспользовался случаем, чтобы кое-что сделать и для себя. Тучи над ним сгущались, надо было быть начеку. Он испросил у папы Павла III отпущения грехов, главный из которых состоял в том, что он покинул монастырь и сбросил монашеское одеяние. Таковое отпущение было ему дано. Папа разрешил ему заниматься врачебной практикой и вернуться в любой бенедиктинский монастырь по собственному усмотрению.
Таким образом, правовое положение «беглого инока» было восстановлено. В тот момент это было для него чрезвычайно важно.
Рабле ничего не печатает, почитая за лучшее пока молчать. 22 мая 1537 года в Монпелье он получил высшее ученое звание — доктора медицины и все соответствующие знаки отличия — золотое кольцо, тисненный золотом кушак, панаму из черного драпа и шапочку из малинового шелка, а также экземпляр сочинения Гиппократа.
В 1546 году Рабле, после двенадцатилетнего перерыва, наконец осмелился опубликовать продолжение своего романа, Третью книгу, напечатав ее в Париже. Но время было неблагоприятное: в августе того же года на площади Мобер зверски казнили гуманиста и издателя Этьена Доле — повесили, а потом сожгли. Этьен Доле был другом Рабле, его издателем. Это все знали, и прежде всего, конечно, Сорбонна.
Рабле бежал в Мец, город, не входивший в состав Франции (в нем жили французы). Вскоре умер Франциск I. Новый король Генрих II очень хотел походить на отца и не трогал тех, к кому благоволил отец. Не трогал он и Рабле и даже дал ему разрешение на печатание его книг. Но человек он был суровый, далекий от каких-либо интеллектуальных и эстетических интересов, к тому же строго религиозный. Сорбонна подняла голову.
В начале 1548 года Жан дю Белле снова едет в Рим по поручению Генриха II и берет с собой Рабле.
Проезжая через Лион, писатель дает местному издателю пролог и одиннадцать глав своей следующей, Четвертой книги. Эта книга — «веселое времяпрепровождение. Она не представляет опасности ни Богу, ни королю и никому другому», — спешит заявить писатель. Интерес к его сочинению так велик, что издатель берет у автора рукопись, которая обрывается на незаконченной фразе.
В сентябре следующего года Рабле возвратился во Францию. Нерадостные вести ждали его. Среди монахов нашелся яростный фанатик, который долгом своей жизни почел преследование писателя. Это был доктор парижского богословского факультета Габриэль де Пюи-Эрбо («бешеный Шотерб», как назвал его Рабле).
За ним последовал поэт-католик Жан де Сен-Март, а потом поднялись и протестанты. Обе борющиеся церковные партии ополчились на него. Сам Кальвин — глава швейцарских протестантов — объявил его «безбожником среди псов и свиней».
После смерти Франциска I покровитель Рабле Жан дю Белле отошел от политики, но позаботился о своем старом друге. Он подыскал ему приход в Медоне в провинции Турень. И автор «Гаргантюа» стал «веселым медонским кюре». Обязанностей священника он, конечно, не исполнял и незадолго до смерти отказался от должности.
Встречи Рабле с папами, — а он встречался с троими, — не внушили ему особого уважения к высшему духовному сану, как и к самой церкви. «Я видел целых трех, но проку мне от этого не было никакого», — заявляет Панург.
Народная молва сохранила немало анекдотов, связанных с пребыванием писателя в Ватикане.
Папа Павел III спросил однажды, что хотел бы получить от него медик французского посла.
— Отлучите меня от церкви, — ответил Рабле.
— Почему?
— Это спасет меня от костра.
Он рассказал при этом, что однажды в Лионе после того, как долго не могли разжечь костер под одним несчастным, какая-то женщина крикнула с досадой: «Да его, наверное, сам папа отлучил от церкви, раз и костер его не берет».
Мы не знаем обстоятельств смерти Рабле. Современники отозвались на его смерть восторженными и насмешливыми, добрыми и язвительными эпитафиями. Иные шутили: «В преисподней теперь весело: Рабле и там насмешит».
Знаменитой стала предсмертная фраза Рабле: «Я иду искать великое „Быть может“. Вряд ли это была чья-то выдумка. Фраза глубока по своему философскому смыслу. Ее мог произнести только Рабле да позднее Монтень.
Вечный искатель истины, Рабле и умер с вопросом, он хотел бы искать и за пределами бытия.
* * *
„То было темное время, тогда еще чувствовалось пагубное и зловредное влияние готов, истреблявших всю изящную словесность“, — писал о своей молодости король-великан добрейший Гаргантюа сыну.
Чтобы понять смысл этой фразы, нужно взглянуть на историю европейских народов от Рабле в глубь веков.
В V веке нашей эры перестал существовать античный мир, точнее, громадная Римская империя.
Падение Римской империи повлекло за собой уничтожение многих культурных богатств, накопленных к тому времени.
„Средневековье развилось на совершенно примитивной основе. Оно стерло с лица земли древнюю цивилизацию, древнюю философию, политику и юриспруденцию, чтобы начать во всем с самого начала. Единственным, что оно заимствовало от погибшего древнего мира, было христианство и несколько полуразрушенных, утративших всю свою прежнюю цивилизацию городов. В результате, как это бывает на всех ранних ступенях развития, монополия на интеллектуальное образование досталась попам, и само образование приняло тем самым преимущественно богословский характер“ {К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 7, стр. 360.}.
Человечество уже в античные времена было на пороге великих открытий. Греческие ученые — Гераклид Понтийский (IV в. до н. э.), Аристарх Самосский (III в. до н. э.) — имели ясное представление о движении земли вокруг солнца. Между тем во времена Рабле, то есть почти двадцать веков спустя, официальная точка зрения была такова, что земля неподвижна и солнце совершает свой рейс вокруг нее.
Коперник сформулировал гелиоцентрическую теорию в XVI столетии. Два тысячелетия отделяют его от Гераклида Понтийского и Аристарха Самосского. Два тысячелетия гениальная догадка древних ждала научного обоснования. Но и после Коперника гелиоцентрическая теория еще не завоевала себе всеобщего признания. Католическая церковь сожгла на костре Джордано Бруно, распространителя идей Коперника. В 1615 году она вызвала Галилея на суд инквизиции и заставила его отречься от собственных открытий и отвергнуть Коперника. Вот оно, „зловредное влияние готов“, о котором говорил Рабле.
Руками античных мастеров были созданы великолепные памятники искусства. Но культурные богатства античности были уничтожены, погребены под землей, забыты, и даже то, что сохранилось, было искажено теми, кто осуществлял тогда, говоря словами Энгельса, „монополию на интеллектуальное образование“.
Сочинения Аристотеля, — а он пользовался в средние века непререкаемым авторитетом, — были обезображены, переиначены, и когда в XV веке итальянец Бруни восстановил подлинный текст греческого философа, попы готовы были его привлечь к суду инквизиции.
Первыми, кто осознал утрату культурных ценностей античности, кто содрогнулся при виде содеянного зла, были гуманисты, — гениальные одиночки, с великим трудом пробившиеся к тому немногому, что чудом сохранилось от античной культуры.
Средневековье! Для гуманиста это мрачная полоса жизни европейских народов которая сменила цивилизацию древних греков и римлян. На обломках уничтоженной, погубленной, поруганной культуры утверждалось темное царство „готики“ — всеобщее одичание, укоренение предрассудков, изуверские пытки над телами и душами людей, над их самым дорогим и чудодейственным достоянием разумом. Гуманисты прокляли это время, и так как самую большую энергию к поддержанию „готического“ порядка вещей проявляла церковь, то они лютой ненавистью воспылали прежде всего к ней.
Себя они считали предвестниками новой эпохи. Они хотели возродить погребенное, варварски уничтоженное, возвратить к жизни то, что имело человечество и что по трагическому стечению обстоятельств утратило.
Поэтому-то их время и назвали „Возрождением“. Это была весна после долгой зимней спячки, весна всего человечества, весна обновляющая, живительная, благодатная.
Рабле был гуманистом. „Теплое дыхание весны человеческого разума коснулось его чела“, — писал обожавший его Анатоль Франс.
Гуманисты полагали, что их миссия сводится к воссозданию утраченной античной культуры. Но исторические задачи, вставшие перед ними, были более значительными.
В обществе возникала новая социальная сила — буржуазия. Для своего развития она нуждалась в иных порядках. Ей мешали областническая разобщенность государства, распри князьков-феодалов, система прикрепления крестьян к земле, что лишало рынок свободных рабочих рук, ей мешала даже пышная, иерархическая, подчиненная Риму и очень обременительная для налогоплательщиков, католическая церковь. Развивающееся производство нуждалось в науке, в практической, трезвой, стоящей на тверди земной философии — материализме. Целый ряд событий в жизни человечества подкрепил эти исторические тенденции. „Изобретение книгопечатания, пороха и компаса оказало такое влияние на человеческие отношения, какого не оказывала ни одна власть, ни одна секта, ни одна звезда“, — писал Фрэнсис Бэкон. Открытие Америки изменило представление средневекового человека о географическом положении земли. Возрождение античной культуры перевернуло представление о человеческой истории и поколебало догматическую систему взглядов богословия.
Возникновение гуманизма было, как видим, подготовлено и порождено назревающей необходимостью социальных преобразований.
Сыны разных народов, гуманисты были братья по духу. Иногда и в личных отношениях друг с другом они были связаны крепкими узами самой трогательной дружбы (Эразм и Томас Мор, французский гуманист Бюде и испанец Вивес). Это была поистине международная семья великих энтузиастов, великих талантов и великих страдальцев науки.
Международные связи ученых не были тогда затруднены. Наука в те дни говорила языком древних римлян. Мертвая латынь служила чудодейственным средством общения умов. Иногда гуманисты переводили свои книги, написанные на родном языке, на международную латынь.
Смелые и энергичные, не терпящие никакого лицемерия и ханжества, гуманисты уважали ум человеческий, ценили знания, накопленные народами, стремились обратить мудрость веков на благо человека. Это были по-настоящему сильные люди, цельные натуры, способные совершать подвиги, не щадившие себя в борьбе за утверждение правильного взгляда на мир, за преобразование норм человеческого общежития.
Главная область деятельности гуманистов — филология. И это закономерно, ибо необходимо было прежде всего восстановить античные тексты. Филология поэтому стала первейшей наукой Возрождения. Гуманисты-филологи, кропотливо собирая и искусно реставрируя подчас по отдельным, чудом сохранившимся фрагментам, фразам, словам памятники античной литературы, начинали работать над созданием новой культуры.
Гуманистическая филология открыла средневековому человеку сокровища античной философии в ее развитии и борьбе идеализма и материализма, что натолкнуло средневекового человека на самостоятельные философские разыскания, заставило определить свое отношение к философским школам древности.
Преодолевая рутину, невежество, средневековую дикость, гуманисты закладывали первые камни в фундамент медицины. Гиппократ, Гален в Авиценна были хорошо ими изучены. Пытливая мысль влекла ученых дальше. Гениальные догадки античных мудрецов подхватывались гуманистами Возрождения, становились предметом упорных изысканий и часто приводили к великим открытиям.
Широкое гуманистическое движение произвело подлинную революцию. Суровый, подавляющий человека дух отрешенности от жизни царил в готике. Светом, солнцем, радостью жизни засветилось новое искусство. Там человек раб, здесь — бог, властелин земли. Там он уродлив, изможден, тщедушен, здесь полон здоровья, силы, здесь он радостен и прекрасен. Италия, открывшая античность с ее сокровищами материальной и духовной культуры, взрастившая под своим благодатным небом великих корифеев гуманизма, щедро и обильно делилась своими культурными богатствами с другими странами европейского континента, в том числе и с Францией. Не всегда, конечно, это было идиллическое культурное общение. Чаще дело обстояло иначе. Орды завоевателей врывались в богатейшие города Италии и безжалостно грабили их. Французские короли Карл VIII, Франциск I совершали походы в Италию и увозили оттуда скульптуры и самих художников. Правда, церковь и Сорбонна неприветливо встречали представителей ренессанского искусства — итальянских мастеров, прямых наследников и продолжателей античных традиций. Произведения, ставшие гордостью человечества, подвергались осуждению. Но попытки задушить новую мысль, в какой бы форме она ни выражалась, — в философском ли трактате, романе, песне, на полотне живописца или в мраморе скульптора, — были тщетны. Вскоре французские художники сами стали ездить в Италию, изучать там мастерство тамошних художников нового времени и мастерство древних по сохранившимся памятникам великого искусства античности. Во Франции создалась крепкая группа национальных художников, архитекторов, скульпторов.
Однако наивысшего развития гуманистическая мысль Франции достигла в области художественной литературы. В первой половине XVI столетия расцвел чудесный поэтический талант Клемана Маро, жизнерадостный, светлый, иногда по-мальчишески озорной. Тогда же, подобно горному потоку, вырвавшемуся из тесных ущелий, полилась широко и свободно, шумливо и бурно могучая проза Рабле.
В первой половине века родились новые жанры, далекие от традиций рыцарского романа, близкие к традициям фабльо — сатирическая философская повесть („Веселые разговоры“ Бонавентуры Деперье, „Гептамерон“ Маргариты Наваррской) и сатирический философский роман.
Рабле запечатлел лучшую пору французского Возрождения, пору величественных дерзаний и дерзостной веры в титанические силы человека. Рабле — истинный сын французского народа, выращенный и вскормленный на французской земле. Гуманист и интернационалист по своим взглядам, он вместе с тем глубоко национален. Он стремился сделать достоянием Франции культуру всего человечества и древних и новых времен.
* * *
Свою книгу Рабле писал более двадцати лет, издавая ее частями. Она отразила эволюцию гуманистической мысли, иллюзии и разочарования благородных поборников просвещения народа, их надежды и мечты, победы и поражения. Перед вами проходит вся история французского гуманизма первой половины века во всей его славе, во всем его величии.
В первых двух книгах (1532–1534 гг.) Рабле молод, как молодо все гуманистическое движение во Франции. Все в них звучит мажорно. Здесь ясны небеса. Здесь короли-великаны легко и свободно расправляются с врагами всего человечества. Здесь над всем доминирует вера в победу разумного и доброго в жизни людей.
В последующих книгах, как увидим, на авансцену выйдет беспокойное сомнение в шутовском наряде Панурговых поисков.
Читая книгу Рабле страницу за страницей, мы ощущаем в себе нарастание какого-то непонятного нам чувства трагизма. Часто нам уже не хочется смеяться. Аллегории становятся мрачными, шутки страшными. В первых двух книгах — мир широк. Солнце лучами своими гонит тьму. Нам весело и вольготно с добрыми великанами. Мы уверенно шагаем вместе с ними по земле и верим, что победим всякое зло. Но это чувство уверенности постепенно исчезает. Возникают сомнения. Мы начинаем уже идти осторожнее, оглядываться по сторонам: не подстерегает ли нас беда. Может быть, изменился сам Рабле, отказался от своих идей, взглядов, идеалов? — Нет. Мир идей его неизменен. Только, пожалуй, тускнела вера в победу, что-то утрачивалось в бьющем через край оптимизме. И не его в том вина.
Около двенадцати лет отделяют год издания Третьей книги романа „Гаргантюа и Пантагрюэль“ (1546) от времени выхода первых. Многое изменилось во Франции за эти годы. В середине тридцатых годов началась жестокая расправа католической церкви с еретиками.
Франциск I, который, как было уже сказано, вначале довольно спокойно отнесся к новым вероучениям, вскоре переменил свою позицию, проявил крайнюю нетерпимость к лютеранству, и не ради какой-то особой духовной приверженности к католицизму, а по чисто политическим соображениям. „Все эти новые секты стремятся гораздо более к разрушению государства, чем к назиданию душ“, — заявлял он. Правительство и церковь с большой жестокостью организовали преследование еретиков. Костры, массовые расправы, заточение в тюрьмы — таковы были методы борьбы короля и церкви за укрепление авторитета католицизма. Даже папа Павел III убоялся широты и размаха репрессивной политики Франциска I по отношению к протестантам и рекомендовал королю несколько поубавить „благочестивый пыл“ в истреблении еретиков.
Расправа над протестантами, дикая и безумная в своей свирепости и фанатизме, произвела неизгладимое впечатление на светлые и благородные умы Франции первой половины XVI столетия — Клемана Маро, Бонавентуру Деперье», Рабле и других — и поколебала их веру в идею просвещенного абсолютизма, которую они развивали прежде с восторженным энтузиазмом.
В последний раз встретились в Париже в 1537 году Гийом Бюде, Рабле, Клеман Маро, Этьен Доле и другие за дружеским столом, за дружеской беседой. А там судьба разметала, разбросала их по разным сторонам. Робер Этьен и Клеман Маро покинули Францию. Доле был казнен. Рабле укрылся от грозы, уехав в Мец на должность врача.
Ряды гуманистов поредели. Одни, не имея сил расстаться с идеалами, столь дорогими для них, противоборствуют реакции и погибают Другие идут на уступки реакции, как это сделала Маргарита Наваррская. Третьи уходят от современности. Античная культура, вдохновлявшая ранее гуманистов на борьбу с дикостью средневековья, теперь превратилась в далекую, отрешенную от современности, прекрасную Аркадию, в которую удалились гуманисты, ища забвения от страшной реальности жизни.
Гуманисты избегают теперь политических и религиозных вопросов, некоторые из них перестают даже говорить на родном языке, предпочитая умершие языки Древней Греции и Древнего Рима, иные проникаются презрением к «невежественному» народу, идущему на поводу у обманщиков и плутов в черных сутанах. Философия Пиррона (TV в. до н. э.) с его принципом невмешательства в дела мира, с его отказом от суждений, от оценки явлений мира становится в кругах гуманистов одним из популярнейших философских учений древности.
Это тоже было протестом, но протестом пассивным.
Свою Третью книгу Рабле посвящает «духу королевы Наваррской». Она написала, вторя Боккаччо, озорную, проникнутую идеями гуманизма книгу «Гептамерон» (книга не была закончена и вышла в свет уже после смерти автора), но, поддавшись настроению уныния и страха, впала в мистицизм и выступила с сочинением «Зерцало грешной души». Рабле иносказательно порицает ее.
В прологе он презрительно бранит церковников. Они скрывают от человечества солнце, свет правды, мудрости жизни: «Вон отсюда, собаки! Пошли прочь, не мозольте мне глаза, капюшонники чертовы!.. А ну проваливайте, святоши! Убирайтесь, ханжи!»
В Третьей книге на авансцену выходит Панург. Он шут и насмешник. Он озорник и, прямо надо сказать, большой негодник. И вместе с тем по-своему он великий мудрец.
Панург, брат Жан, Эпистемон, Понократ и другие лица, окружающие юного принца Пантагрюэля, составляют веселую группу беззаботных гуляк, часто философов, бросающих ненароком, походя остроумные замечания, причудливые фразы, рассчитанные будто на смех, за которыми открываются неоглядные дали мысли. Что-то есть во всей этой компании от «фальстафовского фона», шекспировской комедии. Шекспир вряд ли читал роман Рабле. О каком-либо заимствовании, конечно, не может быть и речи. Но английский принц Генри и французский принц Пантагрюэль с их окружением очень напоминают друг друга. Шекспира от Рабле отделял не только пролив Ла-Манш, но и время — полвека. Однако вскормлены они были одними и теми же идеями.
Рабле нисколько не хочет реабилитировать в глазах читателя своего Панурга. Панург, конечно, умен, образован. Его память — целый арсенал самых разнообразных знаний. Но он и труслив. Он с веселым бахвальством признается, что «не боится ничего, кроме опасности».
В затейливых арабесках анекдотических исканий Панурга, его встречах и беседах с философами, богословами, тутами и колдуньями перед читателем предстают любопытные лики средневековой Франции. В легких, шутливых, остроумных диалогах, анекдотах, иногда заимствованных из фабльо, в бытовых зарисовках раскрывается материальная и духовная жизнь французского общества той поры.
Четвертая книга «Гаргантюа и Пантагрюэля» — последняя книга, вышедшая при жизни автора. Она была опубликована через шесть лет после напечатания третьей.
Рабле умер, не успев закончить и издать Пятую книгу «Гаргантюа п Пантагрюэля». В 1562 году была издана часть ее под названием «Остров Звонкий», содержащая шестнадцать глав, и лишь позднее (в 1564 году) книга была издана полностью. В Парижской национальной библиотеке хранится рукописный текст Пятой книги, относящийся к XVI столетию. Во всех трех названных источниках имеются значительные расхождения. В науке существуют сомнения в том, что Пятая книга полностью принадлежит перу Рабле. Полагают, что по тексту прошлась чья-то посторонняя рука, и, по всей видимости, рука гугенота. Трудно судить, насколько изменена рукопись Рабле, но справедливо писал Анатоль Франс: «Я узнаю местами на ее страницах когти льва».
* * *
Итак, мы имеем четыре книги, бесспорно принадлежащие Рабле, и пятую, которую включаем в роман с некоторым сомнением.
Странное, удивительное произведение этот роман!.. Интерес к нему не ослабевает. Что же в нем особенного? — Сказка. Вымысел. Шутки, прибаутки. И автор — ученейший человек.
Французский историк Мишле восхищался им: «Рабле более велик, чем Аристофан и Вольтер. Так же велик, как Шекспир… Ни один из наших писателей не дал такой полной картины своего временя… Это энциклопедия. Вот почему Рабле превосходит даже Сервантеса».
О Рабле с не меньшим восторгом отзываются писатели, мастера слова, тончайшие художники.
Рабле будто и не предполагал таких похвал. Он даже ждал противоположных мнений и уже заготовил ядовитый ответ своим хулителям: «Если вы мне скажете: „Почтеннейший автор! Должно полагать, вы не весьма умный человек, коль скоро предлагаете нашему вниманию потешные эти враки и нелепицы“, то я вам отвечу, что вы умны как раз настолько, чтобы получать от них удовольствие».
Рабле смеется, потешается над нами. Вот он, кажется, говорит нам: «Вы хотите видеть в моих шутках какие-то серьезные мысли? Полноте! Это же простое балагурство, не более».
Мы смущены. Может быть, и вправду писатель хочет только посмеяться?
Тогда он, приняв потешно таинственную позу, шепчет нам: «… в книге моей вы обнаружите совсем особый дух и некое, доступное лишь избранным учение, которое откроет вам величайшие таинства и страшные тайны, касающиеся нашей религии, равно как политики и домоводства».
Нет, мы не так наивны. Это не смех ради смеха.
Вопросы философии и политики, религии и нравственности — вот что следует здесь искать. Это главное. Рабле был гуманистом, деятелем Возрождения, следовательно, общественным деятелем прежде всего. Его волновала судьба человечества, беды человеческие на протяжении веков и особенно его современности.
Он задумывался о пороках социальных и о том, как исправить мир, как сделать человека счастливым. Все это очень грандиозно. Потому и стала его книга общечеловеческим достоянием.
Мишле назвал ее энциклопедией. Она действительно энциклопедия социальной, политической и культурной жизни Франции XVI столетия. Это, следовательно, исторический документ, по которому мы судим о том, что происходило в стране четыре века назад. Но вместе с тем она и политический, философский, эстетический, нравственный «трактат», который может формировать наш ум, делать нас людьми в высоком значении этого слова. Автор справедливо заверяет нас на первой же странице: «…вы можете быть совершенно уверены, что станете от этого ятения и отважнее и умнее».
И тем не менее книга Рабле не историческая хроника и не философский трактат. Это — произведение искусства, творение художника. Флобер ставит его в один ряд с произведениями Гомера, Шекспира, Гете.
* * *
На острове Жалком живет и царствует странное и страшное существо некий Постник, «великий кротоед», «плешивый полувеликан с двойной тонзурой», «три четверти дня он плачет и никогда не бывает на свадьбах», питается шлемами, кольчугами, касками и шишаками, одевается во все серое и холодное, «спереди ничего нет, и сзади ничего нет, и рукавов нет». Безобразное его лицо, что вьючное седло, под левой бровью у него отметина, формой и величиной напоминающая ночной горшок.
Постник — явление природы небывалое. Умственные способности его, что улитки, воображение, что перезвон колоколов, разум, что барабанчик.
У него все наоборот: купается он — на высоких колокольнях, а сушится в прудах и реках, в воздухе сетью вылавливает морских раков, а в морской пучине — горных козлов. Старых воробьев он проводит на мякине, прыгает выше собственного носа и воюет против столь же загадочных существ — Колбас.
Аллегория Рабле достаточно прозрачна. Перед нами вселенская католическая церковь в своем женоненавистническом, аскетическом, пакостном облике. Все ее установления противоречат здравому смыслу и естеству, все в ней противно человеку и жизни, и тем не менее по какой-то необъяснимой нелепице она существует, владеет душами людей и, кроме того, имеет немалую материальную силу.
«Разнесем этого мерзавца!» — кричит в великом возмущении брат Жан, когда спутник его Ксеноман описал нрав и обычай Постника.
Нет сомнения, что это голос самого автора и негодование его относится к той самой христианской церкви, которая тогда господствовала во Франции, как и во всей Европе. Через двести лет после Рабле вождь просветителей Вольтер снова выбросит тот же лозунг: «Раздавите гадину!»
Сила церкви в XVI столетии была огромна. В феодальной системе Франции она представляла собой особое хозяйственно-политическое учреждение. Она была крупнейшим владельцем земель и других материальных Ценностей. Она имела ряд привилегий, в отличие от светских феодалов, привилегий, которые обеспечили ей постепенное накопление бесчисленных богатств и политического могущества.
Третья часть французских земель принадлежала церкви. Пятнадцать архиепископств, восемьсот аббатств, тысячи приоратов собирали доходы церкви. Ее имущество оценивалось к концу XVI века в семь миллиардов франков. Собрав в своих руках огромные богатства, все время пополняя их, церковь превратилась в гигантский нарост на теле государства, в огромную раковую опухоль, которая, разрастаясь все более и более, проникала во все поры хозяйственной и политической жизни страны. Она конкурировала с королем и сеньорами в эксплуатации народа, и те должны были отдать ей пальму первенства в умении обогащаться!
Обман, стяжательство, разврат духовенства вошли в пословицу. Епископ Жан де Монлюк был вынужден осудить своих собратьев, сказав о них так: «Сановники церкви из-за своей жадности, невежества, распутной жизни сделались предметом ненависти и презрения со стороны народа».
Рабле ополчался на монахов прежде всего за то, что они вели паразитический образ жизни. «Монах не пашет землю, в отличие от крестьянина, не охраняет отечество, в отличие от воина, не лечит больных, в отличие от врача», «монахи только терзают слух окрестных жителей дилимбомканьем своих колоколов».
Говоря об отношении Рабле к церкви, нельзя не сказать о грандиозном народном движении его века, известном в истории под именем реформации, движении за реформу церкви. Оно всколыхнуло громадные людские массы, породило гражданские войны, раскололо целые государства на враждующие лагеря.
Народ в массе своей был тогда глубоко религиозен. Он верил искренне и горячо. Но до его сознания доходила мысль, что жизнь церковников, несущих ему слово божье, разительно отличается от проповедуемого ими идеала. И вот появились люди, знающие латынь, ученые и благочестивые, которые стали говорить, что католическая церковь отклонилась от истинного пути и действует по наущению дьявола. Сначала опасливый шепот разносил слухи о новых проповедниках, потом все громче и громче стали раздаваться протестантские речи, и уже теперь никакие пытки и казни не могли их заглушить.
Протестантское движение вскоре обрело своих вождей: Лютера в Германии, Кальвина в Швейцарии. Оно приобрело даже свои территории и стало огромной политической силой.
Как же отнесся Рабле к реформации, к протестантству? Вот что писал о нем в 1550 году сам женевский владыка новой церкви Жан Кальвин: «Каждому известно, что Агриппа, Вильнев, Доле и им подобные всегда в своей гордыне третировали Евангелие. Другие, как Рабле, Деперье и многие прочие, которых я здесь не называю, первоначально склонявшиеся к признанию Евангелия, впали в подобное же ослепление».
Действительно, первоначально Рабле с некоторой симпатией относился к ранним реформаторам, видя в их протесте против господствующей церкви протест слабых против сильных, угнетенных против угнетателей. Однако потом, когда вышла в свет книга Кальвина «Наставления в христианской вере» (1536), когда протестантская церковь восторжествовала в Женеве и стала столь же яростно преследовать свободную мысль, как и церковь католическая, Рабле с негодованием отвернулся от реформаторов.
Для него католики и протестанты, в сущности, одинаковы. Потому у Постника, «ревностного католика и весьма благочестивого», — «моча что панефига» (папефиги — протестанты).
Словом, Рабле одинаково презирал как тех, так и других, «кучку святош и лжепророков, наводнивших мир своими правилами».
Рабле стоял за терпимость в религиозных вопросах. Пантагрюэль перед битвой с великаном Вурдалаком говорит о том, что человек не должен воевать за бога и принуждать кого-либо к вере. «Ты воспретил нам, — говорит Пантагрюэль, обращаясь с молитвой к богу, — применять в сем случае какое бы то ни было оружие и какие бы то ни было средства обороны, понеже ты всемогущ… ты сам себя защищаешь».
* * *
Лет двадцать тому назад во Франции вышла книга Люсьена Февра, довольно основательно изучившего проблему религиозности французских гуманистов, «Проблема неверия в XVI столетии. Религия Рабле». Февр пришел к выводу, что великие противники церкви были, в сущности, людьми религиозными, что для атеизма в те времена не существовало почвы — не было еще науки.
Если бы такая книга вышла в XVI столетии и ее прочитал сам Рабле, то он был бы немало благодарен автору. Признание себя атеистом было бы равносильно самоубийству. За атеизм казнили. Правда, в высших кругах уже тогда наметился этакий легкий оттенок нигилизма в религиозных вопросах — результат влияния античной мысли — Демокрита, Лукиана, да и Платона, который вслед за Сократом значительно подорвал у греков веру в олимпийских богов.
Этот нигилизм нравился знати как признак аристократизма мысли, выгодно отделяющей ее, знать, от грубой, погрязшей в невежестве толпы.
Рабле рассказывает, что Франциск I не нашел в его книге «ничего предосудительного», правда какой-то «змееглотатель» (Рабле одним словом мог уничтожить своих противников) жаловался на писателя королю, указывая, в частности, на оскорбительную для слуха благочестивого христианина игру слов ame — ane («душа» и «осел»). Рабле оправдывался, что-де это «по недосмотру и небрежению книгоиздателей». Франциск I, очевидно, удовлетворился объяснением автора. Во всяком случае, кары никакой не последовало.
При желании можно было бы легко доказать, что автор книги «Гаргантюа и Пантагрюэль» — благочестивый католик, верный служитель господа бога на земле. Если бы это было недоказуемо, то не миновать бы тогда автору виселицы или костра. Поэтому задача новейшего исследователя Люсьена Февра была не из трудных. Рабле постоянно на страницах своей книги черным по белому писал о своем христианском благочестии.
Однако прямые высказывания автора, поклоны и реверансы в сторону христианского бога отнюдь не доказательство религиозности Рабле, — они рассчитаны на простаков. О взглядах писателя говорит дух самой книги, система намеков, иносказаний. Они-то говорят об обратном, о том, что если автор не отвергал божественного начала в природе вообще, то в существование христианского бога он абсолютно не верил. Это совершенно ясно каждому, кто непредвзято будет читать его книгу.
Спрашивается, какой богобоязненный, искренне набожный человек мог бы сказать, например, следующее: «На тех полях такой урожай, словно сам господь там помочился» или «Эх, вы, шляпа! Сам Христос висел в воздухе» (это в разговоре о виселице).
Нет, Рабле не верил в христианского бога. И о тех, кто верил, он довольно непочтительно говорил: «Было бы корыто, а свиньи найдутся».
Каковы же, однако, философские взгляды писателя? Отвергал ли он вообще идею божества?
В Четвертой книге «Гаргантюа и Пантагрюэля» имеется притча о Физиее (природе) и Антифизисе. В ней содержится ответ на поставленный вопрос. Притчу рассказывает Пантагрюэль. Физис родила Гармонию и Красоту. Антифизис позавидовала ей и родила Недомерка и Нескладу. Она же «произвела на свет изуверов, лицемеров и святош, никчемных маньяков, людоедов и прочих чудищ, уродливых, безобразных и противоестественных». Мысль Рабле ясна: религия порождение тех сил в обществе людей, которые противоборствуют природе. Все, что исходит от природы, прекрасно и гармонично, все, что противоречит ей, уродливо и безобразно. В аллегорической оболочке Антифизиса скрывается религия, породившая одинаково гнусных папистов и протестантов. «Физис, пишет Рабле, — родила Красоту и Гармонию, родила без плотского совокупления, так как она сама по себе в высшей степени плодовита и плодоносна». Не высшее существо, не бог, перстом указующий волю небес, создает материальный мир, а сам этот мир материи в себе самом содержит жизненные силы и способность к созиданию, сам по себе плодовит и плодоносен.
Итак, совершенно очевидно отождествление бога с природой, слияние понятия бога с понятием природы. «По-гречески его (бога. — С. А.) вполне можно назвать Пан, ибо он — наше Все: все, что мы с тобой представляем, чем мы живем», — писал Рабле (рассказ Пантагрюэля о смерти великого Пана).
Рабле не создал философии пантеизма или атеизма, но он внушал мыслящим читателям глубокое сомнение в догматах христианской религии и вообще в идее какой бы то ни было религии. Иначе говоря, он создал философию сомнения в идее божества. Справедливо писал Бальзак: «Наш дорогой Рабле выразил эту философию изречением… „Быть может“, откуда Монтень взял свое „Почем я знаю?“».
* * *
Читая Рабле, невольно замечаешь, что наибольшее число насмешек, сатирических выпадов, уничижительных, обличительных эпитетов выпадает на долю церковников. Автор не забывает их ни на минуту, они у него постоянно под прицелом. Но после них идут судьи, адвокаты, прокуроры, чиновники суда, ябедники, сутяжники. Каких только уморительных сцен не рисует автор, чтобы потешить читателя беспросветной глупостью судей, каких мрачно-убийственных аллегорий не придумывает, чтобы начисто отбить у нас охоту иметь дело с означенным сословием.
Мы на острове Пушистых котов, это и есть аллегорическое изображение царства Суда. «Пушистые коты — животные преотвратительные и преужасные».
Понятно негодование Рабле. Феодальная несобранность Франции XVI столетия проявлялась особенно сильно в том чрезвычайно важном для всякого государства учреждении, каким является суд. Парижский парламент считался главным судебным органом. Однако ему подчинялись лишь старые личные владения короля. Такие же города, как Тулуза, Бордо, Гренобль, Дижон, Руан, имели свои независимые судебные органы. Кроме того, существовали еще суды, непосредственно подчиненные сеньеру.
Помимо государственных судебных чиновников (бальи, сенешалов), существовали сеньериальные судебные чиновники (прево и шателены), которые часто оспаривали у первых право старшинства. Франциск I ограничил в 1536 году сферу действия сеньериальных судов однако эта мера вызвала бурю протеста в среде крупной знати. Церковь также имела свои особые, независимые от общегосударственной судебной системы церковные суды.
Страшным бичом для страны была латинская терминология судопроизводства. Это понимало тогда и правительство. Франциск I в 1539 году издал эдикт о ведении всей юридической документации на французском языке. Но не так-то легко было провести закон в жизнь. Латынь была для судейских чиновников не только средством поддержания авторитета, но и основой их материального благополучия: она обеспечивала им монополию на толкование темного смысла законов, написанных на непонятном народу языке, что открывало широкий простор для всяких злоупотреблений. Шутка Рабле: «Законы наши — что паутина, в нее попадаются мушки да бабочки» — имела глубокий и трагический смысл.
Судейские чиновники были постоянным объектом насмешек народа. Они настолько мерзки, что даже Люцифера затошнило, когда он съел душу одного из них, рассказывает насмешливый писатель.
Рабле создал незабываемый образ судьи-простачка. Имя его стало нарицательным (Бридуа — Простофиля).
Бридуа сорок лет исправно нес службу. За это время он вынес четыре тысячи «окончательных приговоров». Все его решения были признаны в высшей инстанции правильными. А действовал он очень просто: долго и кропотливо собирал документы, касающиеся судебного дела, — просьбы, жалобы, повестки, распоряжения, свидетельские показания, возражения, справки, первичные, вторичные, третичные объяснения сторон и проч. и проч. После этого, не мудрствуя лукаво, бросал кости и в соответствии с выпавшими очками решал дело.
С милым простодушием Бридуа выбалтывает секреты судопроизводства.
Через двести лет раблезианский простачок в судейской мантии предстанет в комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».
* * *
В те времена, когда жили гуманисты, в Европе происходил бурный процесс формирования наций. Шло собирание земель, объединение территорий под эгидой единого правителя. Необходимо было освободиться от областнической разобщенности, от постоянных смут, распрей, междоусобных войн между отдельными князьками.
Что представляла собой Франция в дни Рабле? Страна переживала переломную эпоху: порядки «кулачного права», характеризующие ранний феодализм, уходили в прошлое. Наступила новая фаза французского феодализма, пора консолидации монархического государства, укрепления национального единства. В основном закончился долгий и мучительный процесс «собирания земель». Обособленные, разрозненные, обреченные на экономическое прозябание области, подвергавшиеся постоянным грабительским набегам извне, теперь слились в единую государственную систему.
Еще свежи и болезненны швы, соединившие княжества, герцогства, графства. Еще сохраняют независимость отдельные области.
Пути сообщения из рук вон плохи. С купцов, провозящих товары по дорогам, пересекающим владения сеньеров, взимаются дорожные пошлины. Владельцы земель, прилегающих к берегам рек, устраивают заставы, дабы принудить купцов и здесь платить за проезд. Судоходная Луара имела около ста пятидесяти таких застав. Тщетно короли издают ордонансы, запрещающие взимание подобных пошлин, — никто с ними не считается. Королевская власть еще слаба.
Торговля внутри страны развивалась с трудом, а внешняя торговля была почти немыслима. Чтобы, например, отправить товар из Парижа в Лондон через Руан, нужно было заплатить пошлины в Севре, Недьи, Сен-Дени, Шату, Пекке и многих других пунктах. Многозначительна озорная шутка Гаргантюа, раздосадованного любопытством парижан: «Должно полагать, эти протобестии ждут, чтобы я уплатил им за въезд и за прием».
Словом, крепкого территориального, экономического и политического единства Франции в первой половине XVI столетия еще не было. Его надо было создать. Это была жизненная задача формирующейся французской нации, от решения которой зависело будущее нации, ее прогресс и процветание.
Страшен был Людовик XI (1423–1483), мечом, а чаще коварством и хитростью сколачивавший единство Франции. В ужасе отшатывался простолюдин и уходил в сторону, крестясь и холодея сердцем, завидев мрачный силуэт башни замка Тур де Плесси, где уединенно жил король в последние годы жизни. Но простолюдин знал, что еще хуже разбойничьи набеги, бесчинства конников-рыцарей, прихоть феодала, постоянная смута и беспокойство в стране, мешающие ему трудиться и пользоваться даже теми крохами, какие ему оставались после налогов и поборов. Расточителен и капризен был Франциск I, но он сумел обуздать своевольных сеньеров, а они были обременительнее, нем самый плохой король. Так рассуждал народ. Рабле это знал. Кажется, шутки ради дал он, например, список книг библиотеки св. Виктора, но не так-то прост писатель. Разве не многозначительно одно название некой книги «Намордник для дворянства».
Рабле суров, когда речь заходит о феодалах — князьках, устроителях всяких смут, раздоров, войн. Кажется, что он уже и не смеется, он гневен. Вот их имена: сеньер Плюгав, обершталмейстер Фанфарон, герцог де Грабежи, принц де Парша, виконт де Вши и т. п.
Пикрохол и его окружение олицетворяли для Рабле, для его современников и соотеяественников прежде всего, конечно, феодальную анархию. Не случайно второго зачинщика войны короля Дидсодии он называет Анархом.
Осуждая феодальные междоусобицы в стране, Рабле решительно выступает и против всех завоевательных войн вообще. Здесь он значительно опережает своих современников, для которых слава ганнибалов и цезарей обладала притягательной силой. Рабле низвергает эти кумиры. Он показывает великих завоевателей, имена которых с трепетом и благоговением произносили школьные учителя, в самом смехотворном виде. Эпистемон, побывав «на том свете», узнал, что делали там все эти прославленные авторитеты древности: Сципион Африканский торговал на улице винной гущей, Ганнибал — яйцами, Юлий Цезарь и Помпеи смолили суда.
Вот чем нужно было им заниматься на земле. Большего они не заслуживали.
Все это, конечно, веселая шутка, шутка с намеком, но Рабле позволяет себе и прямое высказывание по поводу означенных исторических лиц и их деятельности. Добрейший Грангузье весьма определенно выражает точку зрения автора: «Что в былые времена у сарацин и варваров именовалось подвигами, то ныне мы зовем злодейством и разбоем».
Положительные идеалы писателя, касающиеся взаимоотношений народов, абсолютно ясны. Нельзя насиловать волю народов, вмешиваться в их дела, порабощать, угнетать их, врываться в их дом, грабить и притеснять. Все это приведет только к бедам с той и с другой стороны. Пусть народы объединятся в добровольные союзы. Никто тогда не посмеет на них напасть, пусть более сильная страна проявит доброжелательство по отношению к более слабой, и последняя сама придет к ней.
Итак, совершенно ясно высказавшись за национальное единство против центробежных устремлений феодальной оппозиции, Рабле ставит важнейшую политическую проблему, а именно, каким должен быть государь, объединитель нации. Для гуманистов это была одна из главнейших проблем, занимавших их ум.
В книге Рабле Грангузье, Гаргантюа, Пантагрюэль являются как бы живыми носителями идеи просвещенной монархии. Грангузье сам малообразован, мужиковат, но наделен крепким умом и практической сметкой. Он нисколько не возвышается по культуре над простолюдинами. Он как бы один из них, совсем такой же, только по воле случая оказался в королевском качестве, писатель символически выразил это через его великаньи размеры. Когда он увидел, что сын его Гаргантюа остается неучем в школе схоласта, он незамедлительно передал его в руки Понократа, гуманиста, человека нового направления. И это делает честь его уму. Он не рутинер, он охотно идет навстречу новому, если это новое разумно и полезно. Грангузье не зарится на чужое, справедлив, лишен какого бы то ни было честолюбия, подчас даже готов поступиться и своим, только бы сохранить мир и благоденствие в стране. Словом, это добрая патриархальная старина, как она мыслилась писателем, несколько невежественная, не хлебосольная, непритязательная, незлобивая. Враги называют Грангузье «мужланом», «пентюхом». Что-то в нем действительно есть от этих кличек: галантности, куртуазности от него ждать нечего. Он будет весело объедаться потрохами, весело любить свою дородную Гаргамеллу, весело и шумно делать все то, что природа предписала делать животным и в том числе человеку, но он разумен. Это истинно мужицкий король. Если в окружении Пикрохола — герцоги, виконты и принцы с колоритными именами де Грабежи, де Парша, де Вши, то рядом с Грангузье нет ни одного титулованного человека. Правитель его канцелярии Ульрих Галле, «человек неглупый и здравомыслящий», но никак не принц иди герцог. Рабле воспользовался именем одного шинонского своего знакомого, адвоката, совершавшего однажды от имени города посольство в Париж.
Грангузье отнюдь не идеальный человек, но у него есть одно бесценное качество для короля: «Подданных своих он любит такою нежною любовью, какой ни один смертный от века еще не любил».
Гаргантюа, сын Грангузье, уже более воспитан и образован. Правда, он какую-то часть своей юности потерял в бесплодных занятиях с учителем-схоластом, но потом под руководством гуманиста Понократа быстро наверстал упущенное, побывал в Париже, приобщился к большой культуре. В его вкусах, привычках, образе жизни многое осталось от быта его родителя. Он также любит сытно покушать, пображничать, иногда и озорно пошутить. Вспомним его проделку с парижскими колоколами. Но, в отличие от отца, он уже может похвастаться образованностью. В письме к сыну он начертал широкую программу освоения наук. Темное время «готов» помешало ему стать в полном смысле королем-философом, но теперь он хочет сделать таким своего сына Пантагрюэля. В остальном он продолжает традиции отца — незлобив, разумен, добросердечен и любит своих подданных.
Гаргантюа однажды заявил, сославшись на Платона: «Государства только тогда будут счастливы, когда цари станут философами или же философы царями».
Вот теория просвещенной монархии. Она была по душе Рабле. Таким принцем-философом представлен Пантагрюэль. Для Рабле это идеал государя, идеал человека. Пантагрюэль — самый любимый его герой. Философией пантагрюэлизма окрашена вся книга. В деде и отце Пантагрюэля автор выставлял напоказ неуемную силу самой жизни, буйное торжество плоти, в Пантагрюэле торжество интеллекта. В книге Рабле имена играют не последнюю роль в характеристике персонажей. Расшифровка имен многое дает для понимания замысла автора. Его герой зовется Пантагрюэлем, то есть Всежаждущим, далее мы расскажем, что это значит.
Рабле персонифицировал народ в образе Жана Зубодробителя. Жан — монах, но монашество его так же сомнительно, как и монашество самого Франсуа Рабле. Он не святоша, не голодранец, он благовоспитан, жизнерадостен, смел, он добрый собутыльник. Он _трудится, пашет землю_, заступается за утесненных, утешает скорбящих, оказывает помощь страждущим, охраняет сады аббатства.
Брат Жан как бы создан для мирного труда. Труд — это его счастье. «За панихидой или же утреней я стою на клиросе и пою, а сам в это время мастерю тетиву для арбалета, оттачиваю стрелы, плету сети и силки для кроликов. Я никогда без дела не сижу». Менее всего думает он о ратных подвигах. Но когда на его родину напали (она для него слилась с садом его аббатства Сейи, того самого аббатства, где провел свое детство Рабле), то он, не размышляя, идет на врага. Он берет в руки перекладину от креста и пошел дробить направо и налево. Силушка у него богатырская. Он же ведь сам народ.
Рабле по духу своему демократ. Он питает глубокое уважение к людям физического труда, к созидателям материальных благ, любуется их моральным обликом, житейской мудростью, стойкостью, гуманным отношением к людям.
Грангузье, мужицкий король, очень трезво рассуждает: «Их трудом я живу, их потом кормлюсь я сам, мои дети и вся моя семья». Это — наставление писателя всему дворянскому сословию. Цените труженика! Имейте уважение к его труду!
Наоборот, стоит Рабле заговорить о дворянах, как все его презрение к ним выливается наружу. Он не в силах сдержаться, не осмеять их, и зло, язвительно. Он дает им соответствующие имена: герцог де Лизоблюд, граф де Приживаль, сеньер де Скупердяй, издевается над их бедностью, — а бедность их — от неуемных претензий, от неумения вести хозяйство, от фанфаронства и глупости. Как бы мимоходом писатель замечает: «Босские дворяне до сего времени закусывают блохой, да еще и похваливают, да еще и облизываются».
Начиная с третьей книги на страницах романа стало появляться слово «тиран». Оно, видимо, все более и более беспокоило автора. То он заметит, что «тираны кормятся потом и кровью подвластных», то вспомнит, что древние греки называли тиранов «демоворами» — пожирателями народа, то, наконец, как бы ненароком сообщит, что «Пантагрюэль никогда не был палачом».
Правда, Рабле по-прежнему именует и Франциска I, и потом его сына Генриха II «мегистами» (греч. — величайший), но это, скорее, лукавая лесть. Трепета перед королями Рабле никак не испытывает, Карла V, испанского короля и одновременно императора Священной Римской империи, он называет «маленьким скрюченным человечком». Однако иных возможностей для устроения счастья на земле, кроме воли короля, он не видит, а потому в прозрачном иносказании поучает королей, осуждает политику репрессий, призывает их к служению народу, говоря, что не самодержавный деспотизм, не жестокие наказания, костры и пытки, а глубокое понимание нужд народных приведет страну к умиротворению и благоденствию.
Гуманисты Возрождения понимали, что разделение людей на сословия несправедливо. Панург при первой встрече с Гаргантюа на искаженном шотландском языке говорит о равенстве людей: «Природа создала всех нас равными, но судьба одних вознесла, других же унизила».
Рабле, как мы видели, с нескрываемым презрением относится к вельможам и всему дворянству вообще и с превеликой симпатией к простому народу, Труженикам, постоянно напоминая читателю о социальной несправедливости. Однако гуманисты вовсе не думали о том, что путь к идеальному социальному устройству лежит через революцию, через какие-либо большие социальные конфликты. Идеальное общество рисовалось их воображению как очень далекая, почти несбыточная мечта.
Вся книга Рабле, веселая и шутовская, умная и парадоксальная, наполненная скабрезностями и самыми возвышенными идеями, говорит нам о главном: плохо устроен человеческий мир, и как же прекрасна могла бы быть жизнь людей, если бы… если бы…
Брату Жану поручает автор создать новое общество, новую идеальную организацию человеческого общежития.
Здесь перед нами раскроется одна из интереснейших страниц истории европейского гуманизма.
Гуманисты были не только критиками пороков средневековья, не только ниспровергателями дутых авторитетов, но и величайшими мечтателями.
Эпоха Возрождения породила не один проект создания идеального общества. Широкой известностью пользовалась среди гуманистов книга Томаса Мора «Утопия».
Все гуманисты мечтали о счастье человеческом, все они ломали голову над тем, почему люди живут плохо, грязно, эгоистично, почему непостижимый хаос царит на земле?
Рабле видел корень зла в насилии над человеком. Человек должен быть свободен. Свободу человека Рабле понимал в широком гуманистическом плане, как возможность располагать собой, не подвергаться принуждению, действовать всегда и везде только сообразно своим желаниям. Он освободил человека от экономической зависимости, дав ему благосостояние, иначе говоря, свободу и в удовлетворении своих экономических нужд.
Брат Жан после окончания войны получил от короля аббатство Телем. В переводе с греческого это значит «желанная». Там он так устроил жизнь людей, что о ней поистине можно говорить как о жизни желанной.
«Вся их жизнь была подчинена не законам, не уставам и не правилам, а их собственной доброй воле и хотению… Их устав состоял только из одного правила: делай что хочешь…»
У читателя, естественно, возникал вопрос: разве не будет тогда анархии, разгула диких страстей, безнаказанности преступлений?
Рабле отвечал, указывая на социальные корни человеческих пороков: «…людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительной силою, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают от порока, и сила эта зовется у них честью. Но когда тех же людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение, они обращают благородный свой пыл, с которым они добровольно устремлялись к добродетели, на то, чтобы сбросить с себя и свергнуть ярмо рабства, ибо нас искони влечет к запретному и мы жаждем того, в нем нам отказано».
Следовательно, задача состоит в том, чтобы избавить человека от принуждения, от рабства. Человек должен быть свободен не только от насилия со стороны человека, но и от того неумолимого палача человеческих желаний, стремлений, крылатой человеческой мечты, имя которому — нужда. Обитатели Телема свободны, равны и обеспечены.
Телемиты счастливы, доброжелательны друг к другу и прекрасны как физически, так и духовно. В этом мире абсолютной свободы распустились удивительные и благоуханные цветы человеческих дарований: телемиты — поэты и музыканты, ученые и одновременно артисты. Их интеллектуальные интересы разносторонни, знания энциклопедичны. Мечта Рабле поистине светла и лучезарна, перед ней блекнут суровые проекты Томаса Мора, в утопическом государстве которого провозглашен принцип умеренности человеческих желаний.
Однако откуда же телемиты черпают материальные блага, откуда берутся прекрасные платья, тонкие вина, вкусные яства?
Оказывается, у них были и «особые гардеробщики», и горничные «умевшие в мгновение ока одеть и убрать даму с головы до ног», и ювелиры, и бархатники, и проч. и проч.
Рабле, как видим, не избег того тупика, в который заходили многие мыслители, мечтавшие о равенстве людей. «Если будут все равны, кто же будет работать?» — спрашивали их. Томас Мор попытался в какой-то мере решить этот вопрос, введя в утопическом государстве обязательный всеобщий труд, однако и он допускал рабство (для работ обременительных и неприятных). Рабле устроил в своем Телеме «чистые и светлые» работные дома.
В Третьей книге, рассказывая о чудесных свойствах травы пантагрюэлиона, возбуждающей в людях жажду знаний, Рабле — поистине гениальный провидец рисует оптимистическую картину грядущей судьбы человечества. Мы многое узнаем в этой картине из того, что в XVI веке казалось невозможным, недостижимым, фантастическим и что стало в наши дни явью, фактом действительности: «…люди доберутся до источников града, до дождевых водоспусков и до кузницы молний, вторгнутся в область Луны, вступят на территорию небесных светил и там обоснуются… и сами станут как боги».
* * *
Однако что же нужно, чтобы люди стали «как боги»?
Возвышаясь на целую голову над своими современниками, гуманисты, и в том числе Рабле, понимали, что человечество стоит у порога познания истины, но переступить этот порог не может, ибо не может свободно распоряжаться чудодейственным даром природы — разумом. Мешает церковь, произвол властей, социальная неустроенность. Люди, вместо того чтобы учиться нужному, полезному, практически необходимому, иссушают свой разум с младенчества глупыми догмами, богословским вздором.
Поэтому необходимо решительно перестроить школу и всю систему воспитания детей.
Рабле осудил средневековую школу, осудил метод схоластической зубрежки, забивающей память далекими от практических нужд «знаниями», — метод, нравственно и интеллектуально калечащий личность. Он отверг и все те науки, которые составляли тогда предмет обучения, всю ту «премудрость», которую вдалбливали в детские головы средневековые школы.
Отвергнув науку и школу средневековья, Рабле раскрыл перед современниками новый, гуманистический метод воспитания человека. Грангузье, увидев, что его любимое надо Гаргантюа, проведя долгие годы в учении у схоласта, только поглупело, пригласил другого наставника, ученого-гуманиста Понократа, и тот в первую очередь заставил своего ученика забыть всю преподанную ему ранее науку (гл. XXIII, XXIV, кн. 1). Ни одного часа в жизни Гаргантюа теперь не проходит даром, все целесообразно использовано. Изучение практических наук и искусств связано с физическими упражнениями, и рост интеллектуальный сопутствует физическому развитию ребенка.
Гаргантюа изучает свойства природы, математику, геометрию, астрономию. Занятия показались ему теперь «такими легкими, приятными и отрадными, что скорее походили на королевские развлечения», — пишет Рабле.
Не только науки, изучаемые Гаргантюа, связаны с жизнью, но и сам процесс обучения детей идет от практики, от жизненных наблюдений, от общения ребенка с реальным миром. Ночью, когда Гаргантюа видит звездное небо, ему рассказывают о вселенной, днем, когда он садится за обеденный стол, ему объясняют происхождение тех продуктов питания, которые он ест. И мир в его связях и единстве, в практике человеческого труда раскрывается ему.
Программа обучения, разработанная Рабле, универсальна, энциклопедична. Человек должен овладеть основами всех наук, мечтал Рабле. О том же мечтали все гуманисты, как во Франции, так и в других странах.
* * *
Книга Рабле — поистине страна чудес. Вы будто на маскараде. Со всех сторон на вас наступают уродливые маски. Они шумят, кривляются, хохочут, издеваются над вами, вы хотите отвернуться, но вот маски сброшены, и перед вами милые лица, причем под маской пьяницы и обжоры сам доктор Рабле, он протягивает вам свою руку, улыбается вам, его глаза искрятся умом, веселой шуткой, и речь его полна мысли, высоких чувств и идеалов.
Да зачем же понадобился этот шутовской наряд, весь этот маскарад? Разве не проще было бы прямо, не прибегая к иносказаниям, передать читателю то, что он, писатель, назвал «мозговой субстанцией», а именно политические, философские и нравственные идеи свои, ради чего, собственно, он и взялся за перо?
Рабле, очевидно, зашифровал свои мысли, чтобы не попасть на костер, как его друг Этьен Доле. Однако неужели секрет его искусства заключается в этой вынужденной тайнописи?
А если бы Рабле писал в другое время, когда не нужно было бы ничего утаивать, скрывать, когда можно было бы писать и говорить обо всем свободно? Что тогда? Неужели мы лишились бы чудесной, так много говорящей уму раблезианской недосказанности, лукавых иносказаний, за которыми угадывается бескрайняя даль мысли? Неужели мы лишились бы веселой иронии, забавного чудачества, когда не знаешь, как отличить правду от шутки, когда чувствуешь, что тебя мило дурачат, потешаются над тобой и в конце концов дают тебе сильную, будоражащую умственную встряску?
Нет, очевидно, вопрос сложнее. Здесь органическое единство формы и содержания. Мысль Рабле, освобожденная от своеобразной формы ее выражения, что-то утратит, чего-то лишится в себе самой. И, с другой стороны, отнимите у раблезианской шутки ее философический, политический, нравственный подтекст, и она рассыплется в прах, как хрупкая оболочка.
Книга Рабле весела. Мы часто смеемся. Как и ее герои. Они смеются громко, раскатисто, от всей души. Они смеются, потому что им весело, потому что нельзя не смеяться, потому что они переполнены здоровью и жизнью. Ояи смеются потому, наконец, что не знают предела своим силам.
И эта сила, это физическое и нравственное здоровье героев книги мощным потоком переливается в наши тела и души. Мы тоже становимся сильными и крепкими. Аристотель когда-то подметил, что в смешном есть частичка уродства. Уродливое может пугать, если оно становится вровень с нами и угрожает нам. Если же мы чувствуем свое превосходство над уродством, мы смеемся над ним. Мы смеемся над монахами, над схоластами-сорбонниками, над королями типа Пикрохола и Анарха, над дворянами, каким-нибудь герцогом де Карапуз или герцогом де Парша, — потому что они уродливы и жалки. Мы смеемся, потому что мы сильнее их. Писатель внушил своему читателю сознание превосходства над темными силами, между тем как реально эти силы были не так уж ничтожны в его времена. Рабле называет монахов «бичами веселья». Это очень знаменательно. Сама философия христианства отвергает земную радость и, следовательно, смех. Откройте Библию, и вы найдете там изречение Экклезиаста: «О смехе сказал я: „глупость!“»
Потому сам смех Рабле есть элемент его жизненной философии. Здесь мы должны поговорить о слове «пантагрюэлизм». Для понимания нравственного кредо писателя оно абсолютно необходимо. Рабле вкладывает в него огромный смысл.
Уже в ХVI веке установился во Франции термин «пантагрюэлизм». Книги Рабле стали называть «пантагрюэлистическими историями». В XXXIV главе Второй книги писатель так определяет значение этого термина: «Жить в мире, в радости, в добром здравии, пить да гулять». В прологе к Четвертой книге Рабле уже даст философское толкование: «Это глубокая и несокрушимая жизнерадостность, перед которой все преходящее бессильно». Что же имеет в виду Рабле под «преходящим»? Все враждебное природе и человеку и потому обреченное, в силу своей никчемности, на исчезновение с лица земли. Сознание временности и случайности дурного в человеческом обществе делало Рабле оптимистом. Красота и Гармония, порожденные природой, будут жить вечно, пакостные дети Антифизиса погибнут. Рабле избегал прямых столкновений с богословами. В 1542 году, в пору свирепствующей реакции, переиздавая первые книги своего романа, он многое зашифровал, смягчил или вовсе удалил из текста. Так, фраза Панурга: «Разве Иисус Христос не повис в воздухе?» — была им опущена. Но книга его оставалась такой же веселой и бодрой, вселяющей веру в человеческие силы. С философским спокойствием он относился к жизненным неудачам, неизбежным печалям. Его последние слова, как гласит легенда, были полны «веселости духа»: «Опустите занавес, фарс окончен!»
Художественное средство, к которому прибег он, создавая свое произведение, было «драгоценное искусство смеяться над врагами», как пишет Анатоль Франс, смеяться «без ненависти и гнева», ибо презрение исключает и ненависть и гнев.
Понятие пантагрюэлизма для Рабле очень объемно. Это его личное философское и нравственное кредо.
В начале Второй книги своего романа Рабле пускается в филологические изыскания для соответствующей интерпретации слова «Пантагрюэль». «Отец дал ему такое имя, ибо _панта_ по-гречески означает „все“, а „грюэль“ на языке агарян означат „жаждущий“… отец в пророческом озарении уже провидел тот день, когда его сын станет владыкою жаждущих».
Агарянами в средние века называли арабов. Слово же «Пантагрюэль» французского происхождения. Оно часто встречается в мистериях XV века, как имя демона, вызывающего у людей неутолимое чувство жажды.
Что это за жажда, которую испытывает Пантагрюэль, а также все те, кто соприкасается с ним, да и сам автор, который не раз сообщит о себе: «Я по натуре своей подвержен жажде»?
В шутовском балагурстве повествования слово «жажда» идет в соседстве с вином и веселой попойкой («пить да гулять»). Путешественники сдут к оракулу Божественной Бутылки, находят Бутылку, и последнее пророчество ее «Тринк» Пей! — как бы завершает общую картину, давшую поэту Ронеару основание изобразить писателя веселым пьянчугой. Но это все — шутовство, за которым скрывается философия жизни. Меньше всего Рабле, конечно, думал о вине и попойках. Это ради смеха. Поймут в буквальном смысле, ну что ж, тем хуже для простаков. Но найдутся среди читателей такие, которые догадаются, к чему клонит автор, о какой «жажде» он говорит. Вот для этих-то читателей, проницательных и догадливых, и старается автор, они и есть его настоящие читатели.
Под буффонной аллегорией оракула Божественной Бутылки скрывается призыв пить из светлого источника знаний, пить мудрость жизни. Не случайно Стендаль говорил: «Каждый философ заново открывал знаменитый завет Рабле, заключенный в глубине его Божественной Бутылки».
Слово «жажда» приобретает, как видим, глубокий смысл. Жажда — вечное искание истины, вечная неуспокоенность, пытливая энергия человеческого ума. «Философы ваши ропщут, что все уже описано древними, а им-де нечего теперь открывать, но это явное заблуждение», — пишет Рабле. И далее: «Философы поймут, что все их знания, равно как и знания их предшественников, составляют лишь ничтожнейшую часть того, что есть и чего еще не знают».
Итак, пейте из источника знаний, пейте из кладезя мудрости, он неисчерпаем, и чем больше у вас жажды к знаниям, тем больше в вас пантагрюэлизма!
Однако вечная неуспокоенность вашего разума, вечная неутомимая жажда знаний, которая мучит вас, не делает вас еще до конца пантагрюэлистами. Нужно еще нечто. Что же это такое? — Олимпийское спокойствие вашего духа. Поднимитесь над суетой сует всех мелких страстей человеческих, станьте выше их, не омрачайте свою жизнь тщеславием, злобой, завистью. Взгляните на ваши волнения, тревоги, заботы с высоты вечности, и они вам покажутся ничтожными. Право, жизнь такая драгоценная и такая уникальная вещь, что портить ее суетой житейских треволнений неразумно.
Потому Рабле весел. Потому он не только осмеивает, но и смеется.
Смех нельзя было изгнать из жизни, его нельзя было изгнать из искусства.
Рабле — оптимист по мировоззрению, по восприятию мира, он оптимист по своему художественному методу, по способу изображать мир. Оружие Рабле смех. Это не только средство уничтожения идейных врагов, но и могучее средство утверждения жизни. Будем же смеяться, ибо смех есть достояние сильных!
Книгу Рабле нельзя назвать романом в современном значении этого слова. В ней нет четкого развития сюжета, многосторонней характеристики образов. Автор менее всего занимается психологией героев. Не в том он видел свою задачу.
Правда, неповторимое своеобразие речи персонажа неожиданно ярко освещает перед читателем живого человека во всей его индивидуальности.
Роман Рабле построен на основе развития не характеров, не жизненных ситуаций, а идей. Развитие идей — вот та внутренняя связь, которая объединяет все элементы книги и делает из нее нечто целое, единое. Рабле облекал идеи в форму художественного шаржа, карикатуры, гротеска и буффонады.
Смешное в шарже вызывает чувство симпатии, смешное в карикатуре презрение.
Короли-великаны (Грангузье, Гаргантюа, Пантагрюэль) — это шарж, имевший народное происхождение. Рабле хотел, чтобы читатель любил его великанов, смеясь добрым смехом. Без веселости не было бы пантагрюэлизма.
Карикатурны образы королей Пикрохола и Анарха, карикатурны образы монахов, судейских чиновников, католиков и протестантов, предстающих перед читателем в облике папоманов и папефигов…
Излюбленный литературный прием Рабле — гротеск. К гротеску относится прежде всего фантастическая несообразность, когда одним предметам даются качества и свойства других предметов (колбасы живут, как люди; гвозди растут, как трава; замерзшие слова; фантастическое существо Гастер и т. п.).
Рабле любил прибегать к точности в деталях, и это тоже становится одним из сатирических приемов. Например, подробный отчет о том, сколько всякого добра пошло на костюм ребенка Гаргантюа, или сообщение о том, как один врач «в несколько часов вылечил девять дворян от болезни святого Франциска» (бедности). Или описание следующей ситуации, где точное установление количества сравниваемых предметов вызывает поистине гомерический хохот: «Между тем сиенец вовремя снял штаны, ибо тут же он наложил такую кучу, какой не наложить девяти быкам и четырнадцати архиепископам, вместе взятым».
Часто писатель обращался к приемам излюбленных в его время ярмарочных представлений — фарса или буффонады. Здесь чисто внешний, зрелищный вид комизма (эпизод с колоколами Собора Парижской богоматери).
Сравнения, метафоры, эпитеты, которые писатель использует, повествуя о жизни и приключениях своих героев, всегда увязаны с основными целями книги. Крепкой, веселой, грубоватой шуткой он уничтожает идейных противников. Рассказав, например, о том, что ненавистные ему сорбонники дали обет не мыться и не утирать себе носы, он сообщает: «Во исполнение данных обетов, они до сих пор пребывают грязными и сопливыми». И люди, прочитавшие книгу, не могли без улыбки глядеть на важных богословов: «Они сопливы!»
Тончайшим средством критики христианских канонических текстов, a следовательно, и самой религии становится в руках Рабле пародия. В первой главе книги перечисляются имена пятидесяти девяти королей, совсем так же, как в Библии имена иудейских патриархов и царей (Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и т. д.). Зачем понадобилось это писателю? Оказывается, затем, чтобы в конце главы задать читателю в самой безобидной форме опасный вопрос: «Не верится вам, что ли?» Вы будете смеяться, разгадав тайный замысел Рабле, он же с притворной строгостью прикрикнет на вас: «Перестаньте же хихикать и помните, что правдивее Евангелия ничего нет на свете». Мы эту фразу взяли из другого места книги, но не нарушили логическую связь мыслей писателя.
Издеваясь над средневековой наукой, над богословскими и юридическими сочинениями, обильно уснащенными цитатами и ссылками на античные авторитеты или Священное писание, Рабле неоднократно пародирует манеру «ученых» рассуждений, однако сами но себе встречающиеся в романе ссылки и цитату (точнее — большая их часть) свидетельствуют о громадной начитанности писателя.
Многочисленные каламбуры, игра слов — все направлено у Рабле к одной цели. Слово gentilhommes — дворяне — он переделывает на gen — pill — hommes, и дворяне уже предстают как грабители (русский переводчик нашел этому остроумную параллель — «д-ВОР-янчики»). Даже имена святых служат на страницах романа Рабле развенчиванию церкви и религии. Такова святая Нитуш (святая Недотрога). Клятвы, ругательства с упоминанием различных святых в устах его героев выглядят также отнюдь не благочестиво. Рабле не лиричен. Чувствительность чужда его таланту. Он бывает серьезен, иногда трогателен, когда рассказывает о «простодушии исполненном облике» своего Гаргантюа, когда говорит о печалях народных, но он спешит отогнать от себя набежавшую грусть и снова веселой шуткой смешит своего читателя. Однако Рабле поэт. Его мысль, его образы достигают порой эпического величия. Проза его иногда приобретает четкий ритм, он использует звуковую окраску слова (см. великолепное описание бури в XVIII главе книги Четвертой).
Рабле часто непристоен. Непристоен нарочито, непристоен из гневного протеста против церковного аскетизма и ставшей фальшивой фикцией в руках средневековых тартюфов морали.
Книгу Рабле нельзя просто прочитать, ее нужно читать, и не один раз, вдумываться, входить в интимный мир автора. Она подобна симфонической музыке. Чем больше ее слушаешь, тем больше она говорит уму и сердцу. Кстати, Рабле, пожалуй, первый из прозаиков Франции обратил внимание на музыкальную сторону слова. Слово его поет. В звуке скрыт особый смысл. Здесь тоже головоломка, загадка. Брат Жан называет свое идеальное «государство» Телем. Пантагрюэль и его спутники отправляются в дальнее плавание на корабле «Таламега». Что это, случайное звуковое сходство? У Рабле все с умыслом. Пораздумайте, читатель, может быть, и нападете на мысль о том, что шутники-то едут искать «желанного», искать счастья, идеального общества, свободного от пороков и зла. И возглавляет этот поход Пантагрюэль («Всежаждущий»), жаждущий знаний (ведь только разум и знания приведут человечество в мир счастья, по идее гуманистов), и Божественная Бутылка скажет: «Тринк» — звукоподражание. Ударьте палочкой по стеклянной посуде, вы услышите этот звук. Но вместе с тем это значит и «пей!». И жрица растолкует: пей знание, мудрость, силу.
С Пантагрюэлем и его спутниками беседует Энтелехия. В переводе с греческого — значит «Совершенство». Кто это? Женщина? — Нет, философский термин. Юная красавица (ей ведь всего только тысяча восемьсот лет, как раз столько, сколько отделяет век Рабле от века Аристотеля) питается антитезами, категориями, абстракциями и ничем другим. Рабле осмеивает увлечение своих современников идеалистическим суемудрием. Но этим не исчерпывается аллегория. Нужен целый трактат, чтобы рассказать современному читателю о всех гранях его многообъемной символики.
Рабле воевал со средневековьем, пользуясь его же оружием. Гротескные символы Рабле напоминают подчас особый вид орнамента со странными диковинными переходами одного вида животных в другой, с причудливым сочетанием несообразностей.
Создатель «Гаргантюа и Пантагрюэля» поистине может почитаться одним из основателей французского литературного языка. Сенеан, автор двухтомного исследования «Язык Рабле», пишет: «Иностранные обороты, классические языки, языки Возрождения, французский язык всех времен и всех провинций — все здесь нашло свое место и свою форму, нигде не производя впечатления какой-либо несвязности или несоответствия. Это всегда язык самого Рабле».
Рабле любил само слово. В нем жил и писатель и лингвист. Иногда он, увлекаясь, забывал о том, что, собственно, хотел сказать. Слово уводило его в сторону, он любовался им. Оно сверкало, звенело, открывалось умственному взору все новыми и новыми сторонами. Анатоль Франс восхищался этой влюбленностью писателя в слово: «Он пишет играючи, словно забавы ради. Он любит, он боготворит слова. До чего же чудесно наблюдать, как он нанизывает их одно на другое! Он не может, не в силах остановиться».
Рабле сыграл огромную роль в истории общественной мысли Франции. Уже современники его видели в нем выдающееся явление своего века. Имя его стало популярным в народе, с ним связывали различные легенды и антиклерикальные анекдоты.
Рабле незримо присутствует во всех значительных произведениях французской литературы последних четырех столетий. «Рабле — наш общий учитель», — признавался Бальзак. В несравненных по мастерству «Озорных рассказах» он шел от своего «достойного соотечественника, вечной славы Турени — Франсуа Рабле».
Грандиозная тень Рабле зрима и в «Острове пингвинов» Анатоля Франса, и в «Кола Брюньоне» Ромена Роллана.
Рабле глубоко национален. Это француз до мозга костей. Он часто подшучивает в своей книге над соотечественниками, но он их любит. Они «по природе своей жизнерадостны, простодушны, приветливы и всеми любимы». И он сам такой же. Может быть, эта его национальная самобытность помогла ему стать писателем общечеловеческого масштаба. Кто же из образованных людей мира не знает сейчас Рабле? Правда, он очень труден для перевода на иностранные языки. Его игра со словом, его умение находить в слове десятки смысловых оттенков, столбцами выписывать эпитеты, строить из них шутовские парады ради озорства гения, которому ничего не стоит переворошить многотысячный лексикон, чтобы мгновенно найти искомое слово, — все это создает трудно преодолимые преграды для переводчика. Надо очень хорошо знать богатства своего родного языка, чтобы найти в нем соответствующие параллели.
Русская переводческая школа совершила поистине чудо. Мы имеем в виду предлагаемый читателю перевод H. M. Любимова. Рабле стал почти русским. И это отрадно, потому что Рабле по духу, по всему миру своих идей близок нам.
В 1532 году в «Пантагрюэлистическом пророчестве» Рабле писал: «Величайшее безумие мира считать, что звезды существуют лишь для королей, пап и больших господ, а не для бедных и страждущих».
Звезды для бедных и страждущих! Это то, во имя чего мы трудимся. Как же мы можем не ценить человека, который из дали веков говорит нам свое «да!», и этот человек к тому же гениальный писатель, создавший бессмертное произведение искусства!

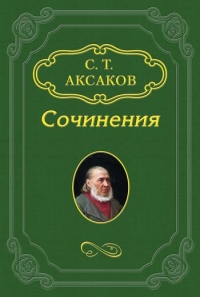


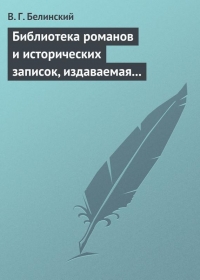


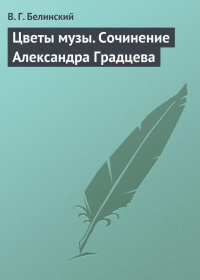
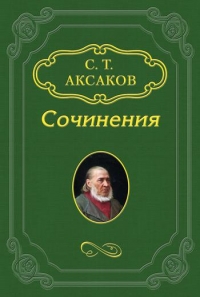

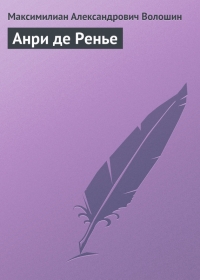
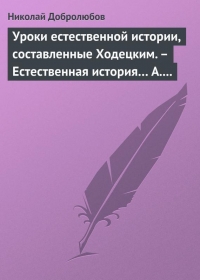
Комментарии к книге «Франсуа Рабле и его роман», С. Артамонов
Всего 0 комментариев