Лев Данилкин Круговые объезды по кишкам нищего
ОРИЕНТИРОВКА
Тучный или скудный? В канун новогодних каникул, когда журналисты тыкают своих клиентов палкой под панцирь, чтобы те выдавили из себя информацию о том, как выглядят итоги сезона по их версии, Ольга Славникова, являющаяся эталоном сложного, но в принципе умопостигаемого автора – так в курсе биологии кишечнополостные гидры представляют многоклеточных существ вообще, – заявила во всеуслышание, что в номинации «антисобытие» у нее победил роман Максима Кантора «Уроки рисования», после чего охарактеризовала его следующим образом: «Два громадных тома про все плохое, что у нас было, есть и будет. Такая текстовая антиматерия». Выдержав паузу, Ольга Александровна позволила себе что-то больше похожее на шутку, чем на что-либо еще: «Действительно антисобытие, и действительно большое».
Писатели нечасто говорят о своих коллегах то, что на самом деле думают, – но случай Кантора, по-видимому, показался романистке настолько вопиющим, что она решилась разрядить свои стрекательные клетки. Кроме того, не возникает сомнений, относительно какого События «Уроки рисования» (пусть даже на самом деле роман называется по-другому) представляют собой Событие со знаком минус. В устах новоявленной обладательницы Букеровской премии это прозвучало как недоумение триумфанта относительно распространенного заблуждения: каким образом кто-либо, мнящий себя экспертом, мог тратить чернила на эту расползшуюся антиматерию в год, когда вышел идеальных размеров томик с аккуратными четырьмя цифрами на обложке? Что это за пятна на солнце, зачем они? Насчет «анти» Ольга Славникова в целом права. Литература становилась все больше «славниковской» – «качественная беллетристика» добралась уже и до самых отдаленных уголков; уж качественнее «2017», кажется, ничего не придумаешь, – и что, скажите на милость, может быть дальше от этого стандарта качества, чем двухтомная эпопея с идеями?
Начетчики имеют полное право щипать «литературу» за нагулянные бока и прицокивать от восхищения – до семи десятков «качественных произведений» за год набирается! Если верить Славниковой и другим дипломированным специалистам, 2006 год был годом ломящихся супермаркетов, сытости и благополучия. Устаканился, ко всеобщему удовлетворению, литературный календарь, и каким же плотным он оказался – осенью нас традиционно ждет «новый Пелевин», к Новому году – «новый Акунин», а до лета наверняка дожмет новый роман старый – «старый добрый», «старый хрен», тут уж, в общем, без разницы – Сорокин. Издательские структуры поработали достаточно эффективно, чтобы все, кому платят за это хоть сколько-нибудь, получили повод огласить свои ритуальные вердикты «литература умерла»/ «литература жива»; еще раз обновились все классические форматы отечественной словесности – «энциклопедия русской жизни», «поэма в прозе», «жеваное папье-маше с поливкой из острой водки», «очень своевременная книга», «полная картина человеческой жизни»; явилось должное количество «новых гоголей»; Австралия массовой литературы еще на несколько сантиметров придвинулась к Антарктиде высокой литературы, а от тамошних льдов в результате глобального потепления откололось еще несколько айсбергов; курицы, гарантированно несущие золотые яйца, исправно обогащали своих хозяев; литературные номенклатурщики опять, активизировав свои навыки в привлечении инвестиций капиталистов и чиновников, азартно выясняли степень актуальности того или иного подведомственного им явления; актуальность же литературы нагляднее всего выразилась в том, что в честь романа С. Минаева была названа коллекция одежды, а фотоизображения писательницы О. Робски, спроектировавшей оригинальную туалетную воду, украсили витрины парфюмерных магазинов.
И надо бы тоже отрапортовать по форме: «год был тучный» и, припав к нагруженной супермаркетной тележке, устремиться к кассе, не слишком быстро, демонстрируя камерам слежения «сдержанный оптимизм», – да только вот тележка отчего-то все заваливается набок. Скверный был 2006 год – если, по крайней мере, считать признаком скверного года количество неудач. Под «неудачей» подразумевается несоответствие результата – замыслу, финала – авансу, проектных требований – реальным показателям. Неудачи – разной степени: от досадных шероховатостей до катастроф – измерялись десятками: «ЖД», «Москва-ква-ква», «Фактор фуры», «2017», «День опричника», «23 000», «Санькя», «ФМ», «Марш экклезиастов», «Негатив положительного героя», «Даниэль Штайн», «Убежище 3/9», «Духless», «Вилла Бель-Летра», «Теплоход „Иосиф Бродский“», «Лохness». Все эти вещи могли быть лучше – а оказались хуже: либо совсем провальные, либо смазанные, растекшиеся, болтливые, поверхностные, неаккуратные. Это был год невыполненных обещаний и обманутых ожиданий. Достиг своего надира – сколько бы премий он ни получил за прошлогодние заслуги – Быков, превратился в клоуна Сорокин, обмишурился Аксенов, сырым оказался порох у Пелевина.
Впрочем, в целом минимальный стандарт качества – и декорум – соблюдался: за счет накопленной в первую половину нулевых энергии. Это был год инерции, душного благоденствия, год обратного хода поршня, год зомбификации. Процветали жанры, чей срок годности – но, по-видимому, не реализации – истек. Сколько уж лет назад, казалось бы, должен был выдохнуться акунинский проект – но нет, наоборот: мы видим цунами эффектных имитаций, стилизаций и пародий на стилизации. Еще две серии «качественных» ретродетективов про конец XIX – начало ХХ века; анекдотическим образом в одном сыщиком выступает юный Ленин, в другом главным злодеем – молодой Сталин. («Еще две» – это потому, что мы не упоминаем здесь о совсем уж макулатуре, штамповке; в принципе, следовало бы написать «двадцать две».) Еще один «оригинальный проект» – серия шпионских романов про средневековый Китай. Еще пара вариаций на тему «Кода да Винчи» – «Код Онегина» и «От/чет». Еще более анекдотически все пять авторов имитаций скрылись за псевдонимами. Такое ощущение, что Акунин гипнотизирует эпигонов целыми коллективами и они буквально повторяют каждое его движение.
Феномен того же рода – интенсивный рост в том секторе массовой литературы, который принято обозначать макаронизмами «гламур» и «антигламур»: жизнь богачей изнутри, описанная с той или иной долей энтузиазма и скепсиса. Еще один роман и сборник рассказов Робски. «Мочалкин блюз» Акулины Парфеновой. «Уволена, блин!» и «Круто, блин!» Наташи Маркович. Во всех перерабытывается тот социальный материал, в котором уже основательно покопались в прошлом году, – и хотя там нет ни малейшего шанса обнаружить что-то новое, спрос рождает предложение. Маша Царева. Татьяна Огородникова. Сергей Минаев. Пелевин. Елена Токарева. Где конец этой шеренги и кого еще можно будет в ней увидеть, не знает никто.
Разумеется, наташа-уволена-блин вызвала не только брезгливость и недоумение; тут же объявились комментаторы, сообщившие, что эти темы были кислородом, оздоровившим систему литературного кровообращения; год прожит не зря. Кроме того – эксперты поднимают бровь и указательный палец – появились блоги. А блоги – это новая, «более свободная», альтернативная официальной пропаганде и корпоративному рабству форма бытования литературы, не говоря уже о новом языке – языке «падонков». Стремясь заранее застолбить потенциально перспективный рынок, издатели всерьез взялись за «обумаживание» сетевых дневников. Поговаривают, что вот-вот появятся блог-«Бесы», роман про интернет-идеологов. Результаты в этой сфере впечатляют больше, чем где-либо еще: все, что оказалось издано на бумаге, было настолько омерзительно, что никогда не войдет ни в один путеводитель – даже если он будет посвящен не современной отечественной литературе, а самым омерзительным вещам на свете. Почему? Ну потому что это слишком омерзительно.
Это был год невыполненных обещаний и обманутых ожиданий.
Может быть, на многие негативные аспекты любопытных текстов следовало закрыть глаза. Может быть; но мы этого не сделаем. Почему? Потому что у литературы в 2006 году была очень высокая планка – и планка эта называется… впрочем, мало кто обратил на эту планку внимание – и уж тем более оглядывался на нее. А надо-то было немного – соответствовать: в своем роде, в своем жанре, в своем масштабе, по своим возможностям, по своему опыту. В этом смысле удачи года – это «Сажайте, и вырастет», «Шайтан-звезда», «День без числа», «Язычник», «Россия: общий вагон», «Бог не звонит по мобильному», «Мочалкин блюз», «Чужая», «Эдип царь», «Божественный яд». Характерно, что большинство вышеназванных текстов было написано раньше и в 2006-м только опубликовано; характерно, что никто из авторов этих текстов не претендовал на то, что обогатил русскую культуру «великим произведением», – ну так зато они честно исполняли обещания и имеют не меньший, чем у всех прочих, шанс в перспективе вырастить нечто вечнозеленое; на всякого мудреца довольно простоты.
Повсеместное очковтирательство. Это был исключительный год в том смысле, что гигантские возможности для фальсификации, предоставляемые сложившейся системой экспертизы, были использованы на полную мощность. Год, когда за литературные события выдавали что-то еще – и, хуже того, «эксперты» делали вид, что так тому и следует быть. Год, когда медиасобытиями становились тексты, которые не заслуживали киловатт, потраченных на их освещение: тексты Салуцкого, Маканина, Аксенова, Прилепина, Минаева – тогда как Кантор, Рубанов, уж не говоря о таких фигурах, как Кузнецов-Тулянин, Волков, Трускиновская, оставались практически в неосвещенной зоне. Обойденным статусными премиями за «Золото бунта» оказался Алексей Иванов. Это был год, когда те, кто манипулирует поступками потенциальных читателей, систематически подменяли литературу разного рода посторонними, маркетинговыми проектами: офисной литературой, «рублевской» литературой, кинолитературой (беллетризованными сценариями или изначально заточенными под экранизации текстами), жж-литературой, ретролитературой, да-винчи-литературой, вампирской литературой, литературой про спецслужбы. Все это многообразие может производить впечатление изобилия, множества возможностей, но на самом деле все это – ложные альтернативы, ложное многообразие, за которым скрыт тот факт, что «высокая литература» по большому счету так и не поймала то, что называется «метафора современности», – и не реализовала ее. В нынешней русской литературе как не было, так и нет писателя-военкора, умеющего вести репортаж с улицы – но при этом прособиравшего материал для каждой своей сцены по несколько лет; автора, который не просто реализовал бы свой опыт в жанровых клише, а написал бы панорамный роман про то, что происходит с людьми (и их душами, если уж на то пошло) здесь и сейчас, и где действие разворачивалось бы не в абсолютной пустоте и не только в ночном клубе, в Интернете и в Кремле, а в «непрестижных» – то есть немедиализованных – сферах жизни. Тем обязательнее, впрочем, зафиксировать попытки написать нечто в этом роде: «Общий вагон», «День без числа», «Язычник».
Литература подменялась какими-то окололитературными явлениями: кража файла с романом Пелевина из издательства за месяц до даты публикации сделалась событием более важным, чем сам роман. Патентованный эксперт, выпустивший справочник о современной русской литературе и столкнувшийся с необходимостью как-то квалифицировать крупное явление в этой самой литературе, не находит ничего лучшего, кроме как сообщить: «Выход полуторатысячестраничного „Учебника рисования“ продемонстрировал все недюжинные возможности российского пиара», и далее отделывается двумя дежурными цитатами из чужих рецензий, низведенных предварительно, заметьте, до статуса пресс-релизов. Что больше волнует этого очковтирателя, подменяющего живой процесс и естественную иерархию своими «понятиями», – литература или «пиар»?
Между текстами и читателями стоит коррумпированная система экспертов, кураторов и литературных лоббистов, в чьи цели часто входит не обеспечение зеленой улицы Большому Роману, а оттирание его как неформат, не соответствующий их представлениям о Романе.
Этим литературоведам, которые больше верят в «пиар», чем в возможности самого романа, выгодно, чтобы литература состояла из управляемых, удобных, прогнозируемых философов, бунтарей и сатириков. Чтобы эталоном бунтаря был Минаев, философа – Сорокин, а сатирика – Робски. Для них выгоднее поддерживать миф о том, что литература лежит на боку, что в ней все – сплошной «Духless», и нет никакого средства для борьбы с этим засильем, кроме как заменить «Духless» на «Карагандинские девятины». «Отрицательная селекция», по исчерпывающему определению критика Топорова.
Духless как предчувствие. Неслучайно точкой отсчета – и, по сути, центральным, вызвавшим в обществе мексиканскую волну сочувствия – текстом года стал роман «Духless» С. Минаева. Многие наблюдатели (Пелевин и тот встроился в чужой кильватер и дал своему роману подзаголовок в пику минаевскому – «Повесть о настоящем сверхчеловеке») всерьез назвали главными коллизиями года «Робски – анти-Робски», «гламур – ан-тигламур». В сущности, это фальшивые, выдвинутые маркетологами издательств, изначально рассчитанные на компромиссное сосуществование, а не на конфликт противопоставления. Реальный конфликт (конечно, классовый), реальный процесс (процесс насильственной социальной стратификации в условиях перманентной войны и влияние этого процесса на сознание/души людей), реальные люди (не имеющие отношения к политтехнологиям, рекламе, глянцевым журналам и интернет-деятельности) – весь этот материал литература предпочитает либо не замечать вовсе, либо скользить по нему походя, в лучшем случае фотографируя «жизнь» мобильным телефоном.
Чем громче ты обличаешь супермаркет, тем удобнее в конечном счете оставаться в бутике.
На деле всеми принятый в качестве нормы диагноз «духлесс» обеспечивает отношение к социальному апокалипсису, к тому, что у Кантора названо «в России скоро будет очень скверно», не как к Катастрофе, а как к норме: раз апокалипсис неизбежен и уже происходит, так будем стоиками и встретим его без суеты, с достоинством, зачем протестовать всерьез, раз все равно ничего уже не сделаешь. «Духлесс» – такая же катастрофа, как терроризм – война; вроде еще не война, но уже и не мир. На самом деле состояние «духлесс» – такая же фикция, как «угроза международного терроризма». К чему она сводится? К постоянным поискам духовности/бен Ладена в тех местах, где ее/его гарантированно нет. Надо все время говорить об отсутствии духовности и угрозе терроризма – с тем чтобы оправдывать вал «антигламурной» макулатуры и полицейское государство, навязывающее «гламурный» капитализм. Чем громче ты обличаешь супермаркет, тем удобнее в конечном счете оставаться в бутике.
Таким образом, еще год назад литература была экраном от катастрофы, площадкой для проигрывания катастрофических сценариев; а теперь, из-за того что реализовалась перманентная катастрофа – «духлесс», все прочие прогнозы чудовищно девальвировались; футурологические сюжеты стали выглядеть пошлостью. «Гламурно-антигламурная литература» – это тот забор, за которым происходит Строительство Капитализма.
Беззубый романтизм. Какая общая тенденция реализовалась в литературе 2006 года по версии этого путеводителя? Литература в массе – всякая, реалистическая и нереалистическая, легкая беллетристика и неповоротливая «толстожурнальная проза» – идентифицировала внешний раздражитель «капитализм» как враждебную среду.
Русской литературе свойственно эсхатологическое сознание, и многие – Старобинец, Славникова, Сорокин, Быков – по инерции продолжали помещать апокалипсис в 2008-2028 годы; однако такого рода прогнозы, быстро превратившись в литературный штамп, перестали вызывать доверие. Главным источником беспокойства стали не угрозы будущего (третий срок и диктатура, взрывы АЭС, гражданская война и проч.), а настоящее, уже-наступившее: неприглядный капитализм. Дело не в неправильной (коррумпированной и потенциально нелегитимной) власти, а в самом типе общественных отношений, которые она представляет; в конце концов, местная власть – представитель более масштабной системы. Капитализм стал восприниматься как уже-свершившаяся катастрофа. Капитализм стало невозможно не замечать как некое попутное по отношению к «свободе» явление. Все главные книги 2006 года были реакцией на это явление: от Кантора до Адольфыча, от Кузнецова до Сенчина, от Маканина до Пепперштейна. Так или иначе, это были тексты про капитализм в целом и его отечественную версию, с особенными сформировавшимися отношениями в семье, культуре, политике, бизнесе.
Капитализм стал вызовом эпохи, и писатели, сканирующие пространство в поисках подходящего материала, ответили на него, предложив определенного рода героев и определенного рода позицию. Характер этой позиции связан с тем, что, как оказалось, традиционные способы противостояния враждебной среде утрачены, скомпрометированы или кажутся слишком радикальными. Когда революция или христианство – это слишком много и слишком мало, героям остается уйти в себя. Наглухо застегнутый и обмотанный вокруг плеч плащ и низко надвинутая шляпа – по сути, именно так выглядят герои Рубанова, Славниковой, Минаева, какими бы далекими друг от друга они ни были.
Капиталистические отношения, разочарование в коммунистической и либеральной идеологиях, непривычное для русских состояние «процветания», повсеместная фальшь, ощущение «будет ничего» – идеальная атмосфера для возникновения романтического героя и развития романтических жанров и мотивов; все это и появилось.
Позицию протеста против текущего положения дел, которую современный литературный герой ощущает как приемлемую, следует назвать романтической. Она может реализоваться как неучастие в проектах власти, открытый нонконформизм, бегство от действительности, дистанцирование, минимизация социальных отношений.
Характеризуя литературу 2006 года как романтическую, мы, разумеется, осознаем, что романтическое направление присутствует в литературе всегда; то, что подпадает под термин «романтизм», можно было обнаружить и за год, и за пять лет до интересующего нас периода. Литература уже не настолько молода, чтобы, как при Белинском, идти в одном направлении всем гуртом. И, разумеется, это не тот романтизм, что при Вордсворте или Лермонтове; другой язык, другие штампы, другое наполнение; романтизм сейчас – это не тип письма, а способ мировосприятия, тип отношений литератора с действительностью. Это все та же тоска по некоему несбыточному идеалу, неприятие (скорее инстинктивное, чем рациональное) капиталистического (часто терминологически определяемого как «гламурный») мира, ужас перед утраченным прошлым и бесперспективным будущим. Это романтическое томление чаще выражается в аморальных, странных поступках героев, чем в какой-то разумной деятельности по улучшению социальной жизни.
Центральными персонажами становятся исключительные характеры в исключительных обстоятельствах: вампиры, особенные «лишние люди», представители странных профессий и т. п. Отсюда возникают такие особенности, которые в литературоведении обозначается словосочетаниями «мятежная страстность», «героическая приподнятость образов»; особенно отчетливо этот тип мировосприятия воспроизводит – и иронически обыгрывает – Пепперштейн в своих «Военных рассказах».
Обстоятельства дали новый тип героя-нашего-времени в литературе – «свободолюбивая личность, противостоящая обществу», не приемлющая капитализм, однако ж не настолько свободолюбивая, чтобы проявлять свою оппозиционность каким-то внешним образом. Проще говоря, это не нацбол и не «мятежный олигарх», а – «духлесс», человек разочарованный, «гамлетизированный», не надеющийся всерьез что-либо изменить; в целом порядочный, но не умеющий ни отказаться от коллаборационизма, ни всю жизнь посвятить борьбе с миропорядком. По существу, он может только констатировать ужас от окружающего мира и затем на всю катушку бунтовать в рамках собственной личности. Разумеется, культ потребления, «гламорама», офисное рабство, корпоративный кодекс – все это существовало и раньше. Однако на протяжении последнего десятилетия продуктивной моделью конфликтного поведения был вариант «американский психопат» («Брат-2» или гаррос-евдокимовский Вадим Аплетаев в отечественном варианте; или прилепинский нацбол). Однако эта модель, внутри которой надо было действовать чересчур всерьез, радикально, оказалась чересчур некомфортной. И тогда для романтических бунтарей была создана оптимизированная модель. Тираж «Духless’а» достиг полумиллиона экземпляров.
Романтический герой такого типа появляется тогда, когда открытого врага как бы нет, когда врагом становится уклад, размеренная жизнь, душная стабильность, филистерство, «здравый смысл потребителя». «Романтическое» возникает в тот момент, когда герой осознает: то, что все принимают за жизнь (доступ к престижной социальной и сексуальной жизни, удовлетворение консьюмеристских амбиций), на самом деле фальшь, а нечто, ощущаемое как «подлинность», утрачено напрочь. И вот он «бежит» – к злу, к природе, к творчеству, к ЖЖ (и прочим «отхожим местам души», по пелевинскому замечанию). Тема разочарования – фальшивости-утраты подлинности – пронизывает всю литературу, от Славниковой до Пепперштейна. Это навязчивая идея – утрата подлинности: персональной, национальной – принимает самые разные формы. «Неподлинность» у Славниковой, ненастоящий человек у Минаева, утрата национальной оригинальности у Пепперштейна, поддельные лекарства у Мамлеева, «почти подлинные Малевичи» у Кантора.
Любопытен феномен «Духless’а»: осознав, что такое капитализм, «менеджеры» стали ощущать себя интеллигентами и забеспокоились о «духовности». Не следует придавать этому слишком большое значение, но факт: капитализм даже для коллаборационистов оказался не строем, воплощающим свободу, а системой чистого насилия сильных над слабыми, тотального страха, прикрытого дискурсом свободы, который и обеспечивала интеллигенция, писательская в том числе. Все, у кого хватило сил вскарабкаться на сколько-нибудь высокий минарет, по пять раз на дню принялись провозглашать наступление царства зла.
Для них выгоднее поддерживать миф о том, что литература лежит на боку, что в ней все – сплошной «Духless».
Обиженно-романтическая позиция оказалась хорошо совместимой со скептической интонацией, позволяющей пусть не преодолеть «трагический разлад с жизнью», но, по крайней мере, существовать в условиях «несоответствия мечты и реальности», с пониманием того, что ни в прошлом, ни в будущем «ничего не было и не будет». Капитализм оказался таким ужасным и одновременно жалким, что потребовал не одного Свифта, чье место вот уже несколько лет занимал в литературе Пелевин, но сразу нескольких. Оттесняемая интеллигенция, чье оправдание идеологии «среднего класса» перестало быть востребованным, принялась скалить зубы – ну или то, что от них осталось. Именно с этим, по-видимому, связан тот факт, что литературу наводнили сатирики (Минаев, Пелевин, Быков, Пепперштейн, Галина, Токарева, Сорокин, Брэйн Даун, Проханов, Козлова, Слаповский, Старобинец), а в самой литературе расцвел сатирический жанр.
Нытики и пересмешники, как по отдельности, так и заключившие между собой союзный договор, по правде сказать, оказались не слишком эффективной оппозицией коммерческим литераторам обоих полов; неудивительно, что после целого года надежд на то, что ренессанс 2005 года продолжится, «обиженно-романтическая позиция» – это единственное, что осталось на долю читателей русской литературы.
Происхождение видов. Если бы в силу каких-то причин М. М. Бахтин получил возможность ознакомиться с основным корпусом «качественной литературы», изданной в 2006-м, то, по-видимому, вынужден был бы признать: жанр – уже не столько память, сколько маразм литературы. Первый шаг в объятия читателя – и самый легкий для писателя способ показаться остроумным – обозначить жанр, а затем обыграть свойственные ему условности, под барабанный бой атаковать консервативные представления о жанровой традиции.
Из-за интенсивно развивающегося процесса слияния «Высокой Литературы» с «Масскультом» формальные, товароведческие классификации не работают, потому что по ним «Золото бунта» должно числиться в фэнтези, «2017» – в приключениях, «ЖД» – в фантастике, «Прогулки в парке» – в триллере, «Вилла Бель-Летра» – в детективе, а «Чужая» – в боевике. Инстинктивно, однако, ясно, что неправильно идентифицировать вспомогательный прием как генеральный метод. Между «Учебником рисования» Кантора и «Негативом» Льва Тимофеева (а и то и другое – «высокая литература») пропасть гораздо большая, чем между «Негативом» и дивовским «Храбром».
Чистого «жанра», беллетристики, преодолевающей порог качества, набирается за год не так уж много: Акунин, Сретенский, Чижъ, Данилин, Еремеев-Высочин, Лазарчук – Успенский, Буркин, Брэйн Даун, Парфенова; да и то при ближайшем рассмотрении часто выясняется, что эта беспримесность – мнимая. Разумеется, можно отделить чистых от нечистых и провести границу между «высокой» и «низкой» литературой; однако сегрегация будет выглядеть чрезвычайно искусственной; фактически принадлежность книги к тому или иному типу литературы стала проблемой маркетинга. В зависимости от дизайна обложки роман А. Старобинец «Убежище 3/9» может «позиционироваться» как «высокая литература» или «городское фэнтези»; «Военные рассказы» Пепперштейна могут угодить в «фантастику», а могут и в «детектив». Кроме того, существует проблема «ложных» жанров, возникающая в таких текстах, как псевдодокументальный роман Улицкой и «сценарий» Адольфыча. Более того, даже разделение по линии «правда» – «вымысел», то есть fiction – non-fiction, и то размывается. Панюшкинская книжка о Ходорковском – это журналистское расследование или сентиментальный роман о кумире автора? Улицкая сочинила биографию – или роман? Рубанов – автобиографию или роман?
На самом деле если вы не товаровед, то вам вряд ли имеет смысл тратить время на распределение книг по тем или иным гетто. «Нет ни „жанров“, ни „высокой/низкой“ литературы» – слишком сильное, явно с натяжкой заявление; но еще большей натяжкой кажется не замечать этого.
Картографу, вздумавшему составить план местности так, чтобы кто-либо, решивший этим планом воспользоваться, мог ориентироваться и в целом, и при поиске отдельных достопримечательностей, остаются менее субъективные и более подвергаемые верификации критерии: возраст автора, его послужной лист и статус в литературной иерархии, степень зарегистрированной медиавостребованности и степень зависимости от читательских ожиданий. На основании этих критериев путеводитель по литературе 2006 года будет разбит на пять секторов: «Юниоры», «Легионеры», «Гвардия», «Номенклатура» и – еще одна категория.
Так, с одной стороны, сохраняется некая инстинктивно ощущаемая иерархия: сколько ни говори, что границ не существует, но Букша и Проханов в одной категории выглядели бы анекдотически. С другой стороны, учитывается и проницаемость иерархии, наличие в ней, помимо лестниц, лифтов, и тот факт, что роман молодого дебютанта Минаева может оказаться не менее существенным общественным явлением, чем роман имеющего к 2006 году колоссальную фору Акунина.
I. «Юниоры»: Захар Прилепин, Роман Сенчин, Анна Козлова, Александр Гаррос, Алексей Евдокимов, Анна Старобинец, Наталья Ключарева, Сергей Минаев, Станислав Буркин, Ксения Букша, Майя Кучерская, Алексий Мокиевский, Сергей Вербицкий.
Эта категория выделяется по простому критерию – в 2006 году авторам было меньше 35 лет. В словосочетаниях «молодая проза» или даже «юные дарования» нет никакой дискриминации; просто при квалификации и составлении, так сказать, гороскопа фактор возраста и принадлежности к поколению может оказаться существенным. Уже сейчас среди них много «рецидивистов»; большинство участников списка характеризуют себя как профессиональных писателей – и, таким образом, есть основания воспринимать их нынешние тексты как этап развития, прогнозировать их дальнейший маршрут. У них больше шансов быть похваленными авансом, а также рассчитывать на то, что читатели закроют глаза на отдельные недостатки.
Возраст не препятствие для писательской карьеры, скорее наоборот – «реальный шанс войти в элиту», как сказал бы Пелевин. «Юниоры» могут еще, в принципе, пользоваться форой на возраст; при раздаче премий для них неофициально существует что-то вроде молодежной квоты. Из «юниоров» легко выскочить в суперзвезды – как Минаев; так же легко там можно и застояться – как Гаррос-Евдокимов.
«Юниоры» занимают значительный сегмент литературного пространства; однако говорить о каком-то взрыве их активности и влиятельности именно в 2006-м нет оснований. Большинство участников списка – знакомые имена, не в этом году всплывшие. Новички – Сергей Минаев, Станислав Буркин, Наталья Ключарева, Сергей Вербицкий – выглядят скорее интригующе, чем многообещающе.
Это очень разношерстная компания, однако трудно не заметить, что среди них много профессиональных журналистов, они более чутки к социальной тематике; капитализм вызывает у них беспокойство, часто аллергию. В силу возрастного нонконформизма они склонны занимать «романтическую позицию», транслировать свое разочарование от того, что окружающая действительность не соответствует их идеалам – и выстраивать так или иначе протестные сюжеты. Когда они конструируют характер «героя-нашего-времени», для них обычно важен автобиографический фактор. Здесь чаще встречаешь манифесты, особенно поколения – Минаев, Гаррос – Евдокимов, Прилепин.
II. «Легионеры»: Андрей Рубанов, Василий Сретенский, Владимир «Адольфыч» Нестеренко, Юрий Волков, Валерий Панюшкин, Николай Еремеев-Высочин, Антон Чижъ, Андрей Остальский, Акулина Парфенова, Лев Тимофеев, Виталий Данилин, Я. М. Сенькин, Елена Токарева, Дмитрий Лекух, Мастер Чэнь.
Это авторы, которым больше 35 лет, но при этом они новички в литературе. Как правило, они не связаны с литературой, у них есть другая профессия, написать роман для них – что-то вроде важного хобби, способ самовыражения, иногда почти авантюра: как записаться в Иностранный легион. Они дебютанты, но для них уже нет скидки на возраст – и, соответственно, времени на раскачку и права на ошибку. Им надо выступить либо ярко – либо никак. Соответственно, нет гарантии, что они напишут «второй роман», и обязательного повода его прогнозировать.
Опасаясь обдернуться, они очень часто выступают под псевдонимом.
Писатели, вставшие с печи относительно поздно, скорее предпочитают реализовать себя в «проектах» – то есть в жанровой литературе (потому что часто воспринимают литературу как один из «проектов» своей жизни), – поэтому, например, в этой категории так много детективщиков.
«Легионеры» скорее «продают» не воображение, а опыт, причем так же часто литературный, читательский, как и жизненный. Они реже ввязываются в экспериментаторство с необычными жанрами и типами письма. Скорее, разведав предварительно конъюнктуру, инвестируют свое умение писать в надежные жанры.
Их в меньшей степени интересует социально-протестная тема; они более лояльно относятся к капитализму.
У «легионеров» меньше, чем у всех прочих категорий писателей, шансов попасть в поле зрения медиа, однако «взрослые дебюты» – самые хлебные для критиков места, территория, где можно совершить настоящее «открытие»: у сформировавшегося человека гораздо больше шансов написать идеальный первый роман, чем у молодого. Все это особенно относится к Андрею Рубанову, самому многообещающему в своей категории.
III. «Гвардия»: Ольга Славникова, Алан Черчесов, Олег Зайончковский, Алексей Слаповский, Павел Пепперштейн, Сергей Болмат, Евгений Даниленко, Далия Трускиновская, Сергей Солоух, Андрей Лазарчук, Михаил Успенский, Олег Дивов, Мария Галина, Александр Кузнецов-Тулянин, Игорь Ефимов.
Это не новички, а, наоборот, сложившиеся профессиональные писатели, шахтные лошади литературы. Их не надо «открывать», их имена вполне могут время от времени тиражировать даже таблоиды – однако успех их очередной книги вовсе не гарантирован статусом. Им надо по-настоящему работать локтями; писатели из этой категории зависят от аудитории; их могут заметить лишь лояльные читатели – могут миллионы, а может, и никто.
Поколенческий фактор уже не играет роли. Здесь уже нет псевдонимов, нераскрытых по крайней мере. «Реальный шанс войти в элиту» уже не связан с каким-то определенным временным промежутком – сейчас или никогда. Тут может в какой-то момент перевесить сумма заслуг, экранизация, премия, отдельный суперуспех, появление на ТВ.
Эти авторы склонны экспериментировать, радикально менять свойственный им жанр, наработанное амплуа.
Их меньше беспокоят социальные темы; они в значительной степени бронированы от действительности.
Все, у кого хватило сил вскарабкаться на сколько-нибудь высокий минарет, по пять раз на дню принялись провозглашать наступление царства зла.
IV. «Номенклатура»: Василий Аксенов, Анатолий Найман, Юрий Мамлеев, Борис Акунин, Людмила Улицкая, Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Александр Проханов, Дмитрий Быков, Алексей Иванов, Юлия Латынина, Дина Рубина, Оксана Робски.
Это высшая лига, или генералитет, или «голубые фишки» литературы. Разумеется, между Оксаной Робски и Анатолием Найманом существуют определенные различия, однако важно то, что у писателей этой категории есть привилегированный доступ к читателю, своего рода выслуженное предыдущими заслугами дворянство. Этих читателей не обязательно видимо-невидимо – иногда, как в случае с Найманом или Мамлеевым, их текст предназначен для немногих, но эти «немногие» гарантированно есть. Их карьера не зависит от медиауспеха, у них есть «шкурка», запас прочности – один неудачный роман, да и два, уже ничего не изменят, статус останется прежним. Все сочиненное – ранние вещи, черновики, инструкция для пользования стиральной машиной, подписанная их именем, – все становится медиасобытием.
Независимость и уверенность в себе дает этим писателям дополнительное пространство для маневра; они могут менять свой излюбленный жанр, могут экспериментировать – а могут и нет. Чаще всего они просто пишут стабильно хорошо, в своей, по крайней мере, системе координат. Ничего особенно нового ждать не приходится – однако это не закон; Улицкая, во всяком случае, его опровергает.
V. Выделение последней, пятой категории связано со следующим обстоятельством. Кстати, раз уж мы все равно возвращаемся к славниковской реплике, процитируем критика Страхова, лет за сто тридцать до описываемых в данном путеводителе событий высказавшего одно точное соображение: «„Война и мир“ есть также превосходный пробный камень всякого критического и эстетического понимания, а вместе и жесткий камень преткновения для всякой глупости и всякого нахальства. Кажется, легко понять, что не „Войну и мир“ будут ценить по вашим словам и мнениям, а вас будут судить по тому, что вы скажете о „Войне и мире“»[1]. Так вот, о последней категории. На вопрос «В трех словах, что такое была русская литература 2006 года?» – правильнее всего было бы ответить не «Славникова. Прилепин. Быков» или «Духлесс. Вампиры. Лохнесс», а «Кантор. Кантор. Кантор».
РАЗДЕЛ I «Юниоры»
Захар Прилепин. Санькя
«Ad Marginem», Москва
«Санькя» его называют деревенские бабушка с дедушкой, но звук [к’] в имени, намекающий на мягкость и душевную кротость, – ложный маячок: он агрессивный интеллектуал, член экстремистской партии «Союз созидающих». Его лупят резиновой дубинкой и топчут сапогами, но инстинкт любви к родине сильнее – он и не думает соскакивать с этой иглы. Однажды «союзница» Яна вываливает пакет с тухлыми макаронами на голову президенту – и вот тут псы кровавого режима начинают гоняться за членами «Союза» без ограничений скорости. Боевая группа Саши добывает оружие и захватывает здание администрации. Их революция явно обречена, но – последняя фраза романа – «ничего не кончится, так и будет дальше, только так».
Только так живет и автор, горьковчанин Прилепин, человек с романной биографией: филфак университета, ОМОН и командировки в Чечню, НБП, к тридцати годам – два романа: «Патологии» и «Санькя».
В «Саньке» романист поставил на карту, которая называется «герой-нашего-времени», да и кто угодно поставил бы, будь у него такой опыт. И герой нарисовался: член НБП, живые деревенские корни, мученик идеи, романтик, ломающий мир об колено. Концентрированная, двухсотпроцентная жизнь: вольница, «бункер», конспирация, ватага, состоящая из крупных экземпляров, – про каждого роман пиши; красивые волевые девушки; драки с ментами и бандитами; демонстрации, захваты, погромы; пытки в фээсбэшных застенках; стычки с яркими современниками-идеологами (в частности эпизод с Левой, в котором Дмитрий Быков узнается не меньше, чем Лимонов – в вожде Костенко).
В романе есть сцена, скорее, правда, вставная новела, которая в самом деле свидетельствует о том, что Прилепин – феномен литературный, а не социологический, что он мастер, что голосование за него в премиях – не протестное, «против всех», а заслуженное: у Саши умирает отец, и он вместе с матерью и отцовским знакомым Безлетовым везет гроб в деревню, чтобы похоронить отца на родовом погосте; в поездке все идет наперекосяк, автобус попадает в пробку, застревает в снегу, шофер в бешенстве, гроб приходится волочить на себе многие километры, мужчины выбиваются из сил, мать вот-вот замерзнет – однако в конце концов из леса, со стороны деревни, той самой, где говорят «Санькя», с [к’], к ним выходит подмога. Эта сцена – очень точная метафора Дела-Которого-Нельзя-Не-Сделать, чего бы то ни стоило, каким бы абсурдным, всех раздражающим и бесперспективным оно ни казалось; и Пути – каторжного, опасного, горького – к воссоединению своих со своими, к родству, к какой-то пренатальной, доязыковой – с [к’] вместо нормального [к] – общности. Объяснять «нормальными» словами это не нужно – проще и быстрее сделать. Об этом, собственно, и роман, заканчивающийся многозначительной дефенестрацией специалиста по объяснениям, преподавателя философии Безлетова.
Надо сказать, поначалу казалось, что, когда молодой писатель в качестве основного оппонента протагониста ввел в роман фигуру философа, это было несколько самонадеянным поступком (все-таки Прилепин не Платон и не Кантор, чтобы запросто заставлять проигрывать философов в сократических диалогах); такое радикальное решение – просто вышвырнуть человека из беседы – кажется очень естественным (так же как решение тащить гроб отца на руках, если больше никак). В самом деле, если жизнь не оставляет возможности для созерцательной позиции, если недеяние становится заразным упадничеством и коллаборационизмом – пора дать философам понять, где их место. Кстати, выкинув Безлетова, друга отца, из окна, Саша таким, символическим, образом меняет отношения с отцом с вассально-сюзеренных на равноправно-партнерские. Точно так же чуть раньше он поступил со своим идеологическим отцом, лидером партии Костенко – когда стал спать с его девушкой. Точно так же в самой первой сцене, митинге, перерастающем в погром, Саша расправляется с милиционером старше себя, в отцы ему годящимся. Все это звериные способы сломать иерархию, проорать: я пришел, и я достаточно взрослый, чтобы взять всю ответственность на себя.
Ну и получилась – «Мать» без электричества; тестостерон прет без перебоя, но количество так и не переходит в качество, герой все время одинаковый – что в первой главе, что в последней.
Этот «Санькя», по идее, мог бы стать тем, чем стала сто лет назад горьковская «Мать», – пробивающим защитные панцири здравого смысла, центральным для своего времени идеологическим романом и вербовочным инструментом. Молодая партия, молодая энергия, злобная, прогнившая власть, революция, романтика, евангельские события здесь и сейчас, захлебывающийся репортаж с Голгофы – все ведь то же самое, по сути.
И да, для своей партии Прилепин сделал в этом романе важную вещь: он откорректировал имидж, продемонстрировав, что репутация карнавального движения, своего рода политических флеш-мобберов, не соответствует действительности, что бросать в чиновников тухлятину очень страшно, потому что за этим – неминуемо – последуют мучительные пытки, сломанные челюсти и руки, изнасилования и, не исключено, годы тюрьмы.Однако, осваивая драгоценный для писателя опыт, Прилепин пошел по самому простому пути – синтезировал автобиографичного героя и заставил его еще раз пережить адекватные задаче перипетии последовательно и прямолинейно. И из-за того, что повествование не организовано ни в какую конструкцию, не ограничено никакими временными или пространственными рамками, роман оказался похож на панораму склеенных почти механически, несросшихся эпизодов. Эпизоды из яркой жизни нацбола просто чередуются с идеологическими дискуссиями (с очень картонными персонажами, которых в любой момент могут вышвырнуть) и воспоминаниями о деревенском семейном рае (очень предсказуемыми, с, наоборот, слишком неприкасаемыми героями).
Еще одно сопутствующее прилепинской манере орать по любому поводу так, чтоб лопались барабанные перепонки, явление – и для одних читателей особое удовольствие, а для других источник невралгии: стиль. «Глядя на Хомута, Саша приметил, что и вправду – фуфайку он на голое тело набросил – пока гроб укладывали, она расстегнулась, и голая грудь виднелась. Ветер вылетал порой навстречу саням, злой, хваткий, но вскоре исчезал в лесу ни с чем. Все ему нипочем было, Хомуту. Правил, стоя на коленях, легко и сурово. У стариков оконца горели. Бабушка на пороге встречала. Дверь открыла». Прилепин-писатель работает резкими, отрывистыми движениями – ломает и гнет синтаксическую арматуру, а потом наотмашь кидает на нее куски глины, быстро долепливает рельеф, не церемонясь с материалом, будто назло кому-то неестественными инверсиями добиваясь нужного эффекта, – получаются грубые, шероховатые, мосластые, люмпенизированные языковые тела, словно покореженные напором витающих в атмосфере потоков ненависти, любви и агрессии. Эффект есть, и стиль романа соответствует содержанию, в нем тоже – выброс тестостерона, и, без сомнения, у Прилепина хорошо получается писать драки, митинги и погони. Другое дело, что, когда та же манера используется применительно к «мирным» кускам, получается претенциозно; это режет слух, и довольно часто. Почему он не может остановиться? Похоже, для Прилепина борьба с «гладкописью» – момент, существенный сам по себе; для него важно все время насиловать язык, держать градус, вышибать из текста «литературность», которая, не исключено, воспринимается им как своего рода стилистический аналог социальной чуждости, буржуазности. Это ведь тот же преподаватель философии – нечего с ним разговаривать.
Горький, который в «Матери» выполнял примерно ту же задачу – оживить картонного Павла Власова, – сформировал для своего героя конструкцию, показав его через историю о воскрешении матери, Ниловны. Прилепину, похоже, показалось, что исключительный материал и точно подсеченный герой-нашего-времени все вытянут и так, а организовывать эпизоды, заниматься не только героем, но и «посторонними», придумывать способ повествования и прописывать сюжет, мотивировки – все это тоже род «гладкописи», все это из старого мира, буржуазной литературы, которой все равно скоро кирдык.
Ну и получилась – «Мать» без электричества; сырятина; тестостерон прет без перебоя, но количество так и не переходит в качество, герой все время одинаковый – что в первой главе, что в последней; никакой духовной трансформации с ним не происходит; он просто подтверждает то, что и так было ясно про него с самого начала. «Повседневная жизнь национал-большевика в начале XXI века» – да, сделано; сборник новелл на тему – да, есть; но Романа с большой буквы из этого не вышло.
Роман Сенчин. День без числа
«Литературная Россия», Москва
Сенчин если не молодой, то нестарый пока, 35-летний, писатель со сложившейся репутацией: даровитый производитель депрессивных рассказов про бедных людей. Как примерно выглядит среднестатистический текст Сенчина с точки зрения пресловутого «здравого смысла», легко понять по пародии Анны Козловой – карикатурный персонаж ее «Преведа победителю» Олег Свечкин пишет «повесть»: «В ней главный герой – приезжий с Севера дворник – полюбил официантку-хохлушку, но у них ничего не получилось, потому что оба были нищими и неустроенными». Это, разумеется, утрированно, но, в принципе, правда, про это и есть сенчинские повести – разве что не «оба были», а «обоих сделали», точнее, о них кто-то не позаботился, тут есть разница, которую следовало заметить Анне Козловой. Ее, впрочем, тоже можно понять – неплохо прочесть одну-две таких повести, но если «Олег Свечкин» будет писать их пятнадцать лет подряд, то кем еще, скажите на милость, кроме тупиковой ветви литературного процесса, он может показаться?
Может – а может, и нет.
Старозаветные – так сейчас не подкатываются к читателю – зачины: «Середина декабря – самое скучное, сонное время»; «Вечером, устанавливая на крепких, прошлой осенью только сколоченных мостках насос для полива, Сергей Юрьевич дал себе слово посидеть завтра на утренней зорьке»; «Когда в крольчатник Мерзляковых забрались третий раз, глава семьи Николай Федорович решил действовать». Сюжеты – даже не анекдоты, а просто бытовые эпизоды, будни деревенских и городских люмпенов, не ждущих от жизни ничего хорошего – и правильно делающих, потому что когда жизнь – то есть капитализм и его ангелы – стучит в дверь, то приходится туго. Бывает, правда, и весело: одному такому бедняку здесь звонят неизвестные и требуют выкуп за похищенного в пионерлагере ребенка – а потом трубка радостно сообщает, что это радиорозыгрыш, с компенсацией в 200 долларов.
Одинаково корявые фигуры, серый колорит, часто сведенный к минимуму драматизм; с такими романами не стоит рассчитывать на слишком большое количество читателей; зато Сенчин на самом деле художник.
Сенчин разглядывает жертв капитализма и дает им голос. Они и до капитализма были очень бедными, а теперь у них отобрали последнее – работу, безопасность, минимальные перспективы и прожиточный минимум. Ирония в том, что все эти отверженные, не понимая, что правда никому не нужны, совсем, что их бросили всерьез, навсегда, чего-то себе «телепаются поманенечку», кто на производстве, кто в огороде, да еще не рыпаются и не жалуются – «все заебитэлз» (у Сенчина, кстати, великолепный языковой слух, он слышит и запоминает очень много). Конечно, они «безынициативные», наверное, они «сами виноваты» в том, что, наловив карасей, могут только сварить себе ухи, потому что жарить их не на чем, – однако ж они есть, для Сенчина есть (для нас, может, и нет, потому что большинство из нас хуже Сенчина) – и «есть» так долго, в первом рассказе, во втором, в тридцатом, и так наглядно, так драматически (Сенчин это вам не Свечкин), что вызывают у нас не просто недоумение фактом своего существования, но эмоции – смех, уважение, презрение, жалость, любовь, омерзение, все вместе.
На свете много бытописателей и реалистов-рецидивистов; многие могут воспроизвести кафкианскую атмосферу, характерную для этого «антропологического материала»; но мало кто, как Сенчин, рисуя абсурд, делает это для того, чтобы читатель скорее пожалел живущих в нем, чем посмеялся; мало кто умеет одновременно сам иронизировать над «этими людьми», но и по-настоящему интересоваться ими – то есть заботиться о них, когда все их бросили. Он и сам понимает, насколько нелепа его фигура – интеллигент-мизантроп, не вполне вписывающийся ни в свое люмпенское окружение, ни тем более в общество победителей; и тем чаще выстраивает сюжет вокруг персонажа по имени Роман Сенчин, патентованного неудачника; будто самого себя в мир посылает, потому что любит его и хочет его спасти.
Сенчинский сборник – несколько десятков рассказов, среди которых нет ни одной сырой вещи, – это, по сути, история последнего 15-летия: без теории, одна практика жизни, в сценах; и именно за счет того, что все эти свинцовые будни одинаковые у всех, что легко сливаются в один бесконечный день без числа, – рассказы складываются в единый текст, в роман про темные времена на «российском пустыре».
Одинаково корявые фигуры, серый колорит, часто сведенный к минимуму драматизм; да, с такими романами не стоит рассчитывать на слишком много читателей; зато Сенчин, как сказал бы Максим Кантор, не малюет квадратики, а рисует; то есть он на самом деле художник.
Не так плохо для 35 лет.
Сергей Минаев Духless. Повесть о ненастоящем человеке
«АСТ», «Транзиткнига», Москва
Тираж книги С. Минаева скоро превысит тираж Библии, да и самого автора, судя по отчетам о встречах с поклонниками, встречают как мессию – «ненастоящий человек», за всех перестрадал, объяснил, как все устроено, – и, по существу, спас нас; так уж получается, по крайней мере, из его книги.
Рассказчик, тридцатилетний менеджер высшего звена во французской фирме, кокаинист и чревоугодник, испытывает кризис самоидентификации: достаточно ли он европеец, достаточно ли цивилизован и возможно ли в этой стране, исповедуя европейские идеалы, оставаться успешным человеком? Он знает, что ведет неправильную жизнь, но ищет тех, кто живет среди пошлости и азиатчины правильно, духовно, не как быдло. Несмотря на муки похмелья и преждевременную старость души, ему хватает сил в поисках духовности заглянуть под каждый камень: в клубах? нет; в ресторанах? нет; в интернет-коммьюнити? нет; в Петербурге? нет; в политике? нет; в любви? нет; в сексе? нет; в ностальгии по СССР? тоже нет. Угодив в очередную гоморру, менеджер поливает ее жителей кипящей смолой своей ненависти; получается зло – везде, остроумно – местами. Позитивной программе в книге отведено меньше места – зато она крайне внятная. «И самое главное, я очень хочу, чтобы здесь все изменилось… чтобы лицом русской моды был Том Форд, а не Зайцев, чтобы нашу музыку ассоциировали не с Пугачевой, а с „И-2“[2], чтобы все угорали не над шутками Галкина или Коклюшкина, а над юмором Монти Пайтона. И все от этого будет только лучше, поверь мне».
Раз уж Минаев претендует на роль не просто пустомели и бегбедеробски, а моралиста и ревизора нравственных ценностей, вопрос возникает вот какой: почему он так плохо работает?
И все же главный феномен «Духless’а» – не столько здравый смысл рассказчика и ай-кью автора, действительно выше среднего, сколько умопомрачительное общественное признание. Минаевский роман – производная от господствующих представлений времени. Главная проблема, которую переживает герой, пресыщенный потреблением капслужащий, и в чем обвиняет свое поколение, – провал проекта европеизации; Россия-Москва так и осталась совком, люди все такая же дрянь, поменялись только вывески, но не суть. Единственный рецепт спасения – тотальная вестернизация, но и с этим все непросто. В финале герой оказывается на мосту; разумеется, мост символический. Мост ведет из условной «азии» в безусловную «европу» – в мир высоких моральных ценностей и качественных товаров, маркетинг которых осуществляется не по системе откатов, а на основе честной конкуренции; но хватит ли сил у героя перейти его – вот вопрос.
И раз так, раз уж он успешно претендует на роль не просто пустомели и бегбедеробски, а моралиста и ревизора нравственных ценностей, вопрос к Минаеву возникает вот какой: почему в его книге так ничего и не произошло? Почему он так плохо работает? Почему другие писатели, которых не меньше беспокоит убывание красоты, любви, достоинства и правды, все-таки умудряются все это обнаружить, а Минаев констатирует полный «духлесс» и сваливает? Почему его рассказчик, охотящийся за «духовностью», так и не смог найти себе Героя, того праведника, из-за которого не будут испепелены содом и гоморра? Почему Рубанов, Прилепин, Проханов, Гаррос – Евдокимов такого Героя обнаруживают – в тюрьме, в экстремистских партиях, в замороженных стройках, в подлодке «Курск», в Чечне, а Минаев, поискав его в клубах, ресторанах и в Интернете, вернулся с пустыми руками: нету! Ну надо же! Конечно нету; странно, что он еще в помойном ведре у себя не поискал. Хорош ревизор – все оставил как есть; удобный мессия, изъясняющийся понятными афоризмами: «шаурма – суши для бедных», «хочешь быть богатым – работай для бедных». «И всем от этого будет только лучше, поверь мне». Что мы и наблюдаем, в сущности.
Александр Гаррос, Алексей Евдокимов. Фактор фуры
«Лимбус Пресс», Санкт-Петербург
Юрий Касимов, провинциальный бизнесмен-неудачник (пострадал за правду), получает предложение участвовать в невиданном эксперименте – в течение нескольких недель колесить по Европе, регистрируя в путевом дневнике все сколько-нибудь странные объекты и явления; «пойди найди то, не знаю что», за 2000 евро. Сначала он просто путешествует: из Стамбула в Афины, из Афин в Неаполь – куда глаза глядят, но когда коэффициент странного начинает зашкаливать за все мыслимые пределы, поездка превращается в расследование. Выясняется, что Юрия наняли по указанию некоего ученого, который вроде бы изобрел программу, способную просчитывать случайности и моделировать будущее. Перепробовав множество громоздких конспирологических теорий, Юрий приходит к выводу, что странности ему подкидывают не просто отдельные люди, гангстеры и спецслужбы. Тот ученый, оказывается, недооценил способности хаоса: попытка обуздать фактор случайности вызвала колоссальное противодействие. От Босфора до Кабо-да-Рока несется по Европе смерч непредвиденных и катастрофогенных событий, в самом оке которого – главный герой: причина, жертва и наблюдатель.
Главная странность самого «Фактора фуры» состоит в том, что, несмотря на чрезвычайно захватывающие репортажи из самых живописных стран ЕС, отравления, утопления и самоубийства, рукопашные бои, погони и пожары, очень быстро начинаешь поглядывать на часы. Спору нет, романная идея замечательная: наглядно, на истории вызывающего симпатию героя, показать, сколь хрупок мир порядка и сколь всесильна иррациональная сила, управляющая миром. Проблема с такими гениальными идеями в том, что они кажутся невероятно яркими в теории, но моментально выцветают на практике. Можно поверить в сюжет о том, как суперкорабль сталкивается с суперайсбергом; но когда корабль начинает сталкиваться с самолетами, батискафами, метеоритами, нарвалами-убийцами и унесенными ветром шахидами – тут чувствуешь, что автор врет, и врет скверно; хотя идея написать про подобное судно в принципе выглядит заманчиво. Спору нет, любопытно было бы прочесть роман о факторе случайностей. Что НЕ назовешь любопытным, так это когда роман о случайности целиком строится на случайностях; тут и начинают коваться километровые логические цепочки «объяснений». «Так, давайте еще раз. Значит, Некто, меня пославший, чувствуя, что Расследователи вот-вот до него доберутся, при помощи слепого орудия в моем лице подсовывает им сразу целую кучу отвлекающих вещей: „Бруно“, Фараха, меня – дабы Расследователи вляпались во французскую кашу, а потом еще долго путались в собственных яйцах, пытаясь понять, кто я такой и какова моя во всем этом роль. Заранее перепуганный „Бруно“ следит за Фарахом и видит (слышит), что к нему пришел некто якобы от него. Он тоже понимает, что налицо провокация, и в панике убирает концы, то есть самого Фараха…»
И чем подробнее прописаны замыслы «Бруно», тем меньше верится в гибель «Фараха», кем бы они ни были; и ведь можно списать это на филистерскую ограниченность читателя – а можно и на катастрофическое неправдоподобие; фактор фуры многое значит, но когда роман бьется об эту самую фуру в каждой сцене…
Не любо, впрочем, не слушай, а врать не мешай; формально, по крайней мере, концы в «Факторе фуры» сошлись с концами, и мы понимаем, для чего был написан третий том сочинений Гарроса – Евдокимова.
«Фактор фуры», хотя и посвящен путешествию по Европе, на самом деле про Россию. Улепетывая от Фараха и псевдо-Бруно, Юрий Касимов понимает, что случайность – фактор, специфически связанный с Россией. Россия – непрогнозируемое подсознание Запада, очаг хаоса, территория иррациональности, Везувий, который в любой момент готов извергнуться и похоронить под собой рациональную Европу. Собственно, роман – про такое вот извержение случайности.
Это тупик проекта «Гаррос – Евдокимов». Потому что проект этот был нонконформистским, а за пять лет и три романа Гаррос – Евдокимов отыграли все возможные способы быть нонконформистом.
Про то, что русским – даже «вменяемым» и вестернизированным – не стоит бежать в Европу c надеждой угнездиться в тамошнем разумном укладе: иррациональность найдет их и там, и Европа не сможет их защитить. Наоборот – и вот отсюда вся событийная дичь в «Факторе фуры», – все идет к тому, что иррациональность утопит Европу. Русские суть агенты иррациональности/инаковости; на протяжении всего романа главный герой эту иррациональность, собственно, и разносит. Даже если доедешь до самого края западного мира и западной рациональности, от себя – как от монады хаоса – не убежишь.
Что тут можно сказать, кроме «добро пожаловать в наш клуб»; да, на этих парней можно рассчитывать.
Последняя сцена в «Факторе фуры» примерно та же, что в «Серой слизи», предыдущем романе: герой в тупике, и что ему с собой, таким как он есть, делать, он не знает. По правде сказать, это и тупик проекта «Гаррос – Евдокимов». Потому что проект этот был нонконформистским и, в сущности, строился на сюжетах о том, как герой – обличитель буржуазности, жлобства и аморальности окружающего мира и особенно своего поколения – противостоит хаосу. На протяжении пяти лет в трех романах Гаррос – Евдокимов отыграли все возможные способы быть нонконформистом: прямой бунт («[Голово]ломка»), попытка играть внутри системы по своим правилам («Серая слизь») и бегство («Фактор фуры»).
В финале «Фуры» соавторы, по сути, додумались до того, что переделать то, что кажется герою иррациональным и омерзительным, невозможно в принципе. Ненависть, скепсис или активное участие («кто, если не мы; когда, если не сейчас») ничего не изменят. Дело не в том, что в обществе велик процент жлобов, что поколение выбрало буржуазность вместо бунта, не в низком уровне гражданского сознания – а в судьбе, мистическом предназначении этой территории. Россия вырабатывает иррациональность, фактор фуры, хаос, хтонь – называть можно как угодно; это и есть ее функция, и сколько ни бегай от этого фактора, все равно в него упрешься; и вот именно этот путь Гарросы за три романа и проделали.
По «Фуре» видно, что соавторы загребают дно, и не только идеологически. Они не в первый раз с энтузиазмом берутся адаптировать к русской почве сюжеты из западной беллетристики (в «Фуре» – историю о странном артисте, тайном диспетчере событий, из «Книги иллюзий» Остера и фаулзовского «Волхва»), и опять у них выходит неубедительно, потому что они классные репортеры, но плохие вруны. У них совсем не меняется язык – третий раз подряд они демонстрируют один и тот же результат: великолепно – пейзажи и журналистские репортажи с места событий, чудовищно – сцены экшена, изложенные на грязном сленге в сочетании с псевдоцерковнославянским языковым мусором: «кой», «сей», «каковой». И даже их пламенная социальная критика – когда осознаешь, что «фактор фуры» есть особенность территории, а не населения, резко теряет в стоимости.
По идее, следующий роман Гарроса – Евдокимова должен быть не про конфликт с «фактором фуры», а про то, как творчески использовать эту инаковость; известно ведь, что фуру, да, чаще всего заносит – зато и занести ее может туда, куда ни один другой автомобиль в жизни бы не проехал, и это любопытно.
Любопытно – но не гаррос-евдокимовский, слишком конформистский для них, сюжет. Разумеется, это всего лишь частное мнение, но, может статься, проект «Гаррос – Евдокимов» в сегодняшнем виде пора закрывать. На сленге Юрия Касимова, бизнесмена-неудачника, это, кажется, называется «бесперспективняк».
Пусть лучше будет два писателя. Других, новых.
Станислав Буркин. Волшебная мясорубка
«Форум», Москва
Осень 1944-го. Тринадцати-пятнадцатилетние Вильке, Франк и Михаэль служат в гитлерюгенде, и после нескольких месяцев успешного совмещения занятий по воинской подготовке с ухаживанием за девушками и котятами их перебрасывают в Кенигсберг – на верную смерть под огнем наступающих советских войск. Когда русские (по роману не скажешь, что автор согласился бы использовать как синоним слово «наши») атакуют, молодых людей уносит в параллельные какие-то миры. В Боденвельде (куда попали сердобольные, пожалевшие котенка гитлерюгенд) хорошая экология, гномы и всем заправляет добрый дракон Мимненос. В Юдолии (куда угодил адольфыч поупертее) плохая экология, непрерывная война двух тоталитарных режимов и процессами дирижирует злой змей Дэв. Все это и без того довольно странно – но дальше следует глава про сходку котов в блокадном Ленинграде, еще более озадачивающая; увлекательности при этом роман не теряет. Трудно объяснить, почему комбинация «гитлерюгенд – коты-блокадники – гномы – драконы» выглядит выигрышнее, чем все прочие в разделе «новинки фантастики», но она выглядит; скорее всего, потому что у Станислава Юлиевича Буркина есть врожденное чувство стиля – тогда как большинство его коллег в этом смысле исключительно неопрятны. Это первый роман 19-летнего томича, и пока нельзя сказать, что кроме чувства стиля у него есть слух на музыкальность фразы. Еще писателю, чересчур всерьез увлеченному свой магической серпентологией, не вполне удаются комические эпизоды, да и с диалогами по части юмора швах. Так, когда один бывший фашист, рассказывая другому о добрых гномах, объясняет, что «народец они, вообще, тот еще. Хуже евреев», возникает-таки некоторое недоумение. Впрочем, когда спустя некоторое время говорящий кот, рассказывая о деятельности немцев, замечает: «Жидов только собрали да коммунистов, а так не трогают», недоумение это рассеивается – ясно ведь, кому на этой войне сочувствует автор.
Трудно объяснить, почему комбинация «гитлерюгенд – коты-блокадники – гномы- драконы» выглядит выигрышнее, чем все прочие в разделе «новинки фантастики», но она выглядит.
Анна Cтаробинец Убежище 3/9
«Лимбус Пресс», Санкт-Петербург
Чертознайка Старобинец выложила в 2006 году такую комбинацию рассказов («Переходный возраст», где, в частности, был хит про щи), после которой ей бы больше не следовало гневить бога – но она не выключила конфорку и сварила из тех же самых костей, только пожирнее, целый роман. Таким образом, вопрос «Да что у нее в голове, у этой девушки?» по-прежнему возглавляет длинный список «непонятного» – на этот раз увеличившийся за счет пунктов: миссия детей-Горынычей? почему у гадалки-очковтирательницы груди закинуты за спину? зачем Баба-яга здесь упакована в халат нянечки?
Фотокорреспондентка Маша, командированная своей редакцией в Париж на Салон детской книги, превращается в мерзкого мужика-араба, которого обваривают кипятком собственные родители. Ее/его терзают сны-воспоминания об утраченном сыне, который отправился на детский аттракцион «Пещера ужасов» (ЦПКиО, три дробь девять), там стал жертвой несчастного случая и впал в кому. Маша сдала его в интернат, где он – и вот тут мы с вами уже в голове у Мальчика – наслаждается обществом Костяной, Кощея, Водяного и прочих Тридевятых. И теперь коматозный сын выкликает мать в свой салон детской книги: вот-вот там будет сломана Игла Кощея, настанет конец света, и для уцелевших будет создано Убежище.
Вопрос про «что у нее в голове» можно было задавать и в качестве риторического, с интонацией восхищения; замечательный черный юмор, жуть нешуточная, классная техника рассказа; чего еще надо? Но со Старобинец была одна проблема – как ее классифицировать? Русский эпигон интеллектуальной западной фантастики – с жонглированием мирами, интервенциями Чужих и толпами шастающих между реальностями двойников – как Дик, Бэнкс, Гейман, Линк, Кинг? Абсолютно оригинальное существо – писательница про любовь к кастрюле кислых щей, – ни в какие ворота не лезущее? Это не пустые схоластические вопросы литературного энтомолога – непонятно потому что, как ее читать. Ну ладно один раз – идиотский сюжет про ясеневских муравьев-мутантов, похищающих школьников, но ведь и в «Убежище» та же петрушка: букашки скачут, кадавры едут, силы зла царствуют безраздельно. И как прикажете понимать этих «Гензель и Гретель» в джинсах и с мобильными телефонами? Месть биосферы за техногенное воздействие человека? Бунт архаики против новых божеств? Мы что, так и будем ломать головы над всеми ее историями, не разбирая, что означают все эти паранормальные явления?
Инспиратором киднеппинга в романе выступает Злая Колдунья Люсифа – сказочница-гипнотизерша, пользующаяся приторными духами и завораживающая публику бормотанием вроде: «Выгляжу я, честно говоря, так себе. Не лучшим образом выгляжу. Я такая, знаете, в шляпе зеленой войлочной и в фиолетовом демисезонном пальто с большими позолоченными пуговицами…» Эта Люсифа – один из ключей к тому, кто такая Старобинец, чей она литературный двойник и что означают все эти ее монстры.
Из всех микросценариев, закатанных в роман, самый пронзительный и оригинальный не экшен с пауком-убийцей, не забавные гэги по мотивам славянского фольклора, а тот, где героиня распутывает свои отношения с мужем и тревожится за своего сына. И вот здесь Старобинец демонстрирует не только фантастические спецэффекты, но и психологизм и точность; эта ее Маша-растеряша – настоящий персонаж; и именно благодаря этой Маше-Манье понятно, что вся жуть в романе не с потолка, она легитимизирована через героиню.
Ситуация двоемирия, а также кощеи, анчутки и пожаренные на одном шампуре шесть карликов не могут не впечатлять, но у Бэнкса и Кинга бывало и позабористее. Ценность «Убежища» не в том, что это русский извод якобы «Американских богов» Геймана (обычные люди оказываются фольклорной нечистью и обтяпывают за нашими спинами свои метафизические делишки), а в точном психофотороботе женщины, остро чувствующей агрессивность окружающей среды – среды, склонной к психическим и физическим интервенциям в личное пространство, России то есть. Это аномально чувствительное женское существо все время озабочено перспективой потери близкого существа – мужа или сына. Его могут убить на улице, утащить в лес, превратить в робота, трепанировать ему череп, – поскольку это стандартный сюжет Старобинец, мы знаем об этих фобиях довольно много. И «Убежище» – роман про то, как сына и мужа утащили к себе повылезшие из мира сказок монстры, – еще одна версия все того же сценария. В сущности, Старобинец не фантаст, она не создает другие миры, но методично воспроизводит один и тот же – своей героини, в разных босхианских вариациях.
Старобинец – Петрушевская нового поколения, евро-Петрушевская, писательница про женщин с таким психолокатором, который всю жуть, обычно прошмыгивающую под радаром, пеленгует и фиксирует на экране.
А кто узнается в антигероине, Люсифе? Да нет, не Люцифер, а Людмила Стефановна Петрушевская, конечно, – бормочущая сказочница в шляпе, «Люси», гипнотизерша, демонстрирующая чудовищ в повседневности; ну а кто еще? Наверное, так получилось случайно, бессознательно, и ни о какой Петрушевской Старобинец и не думала – но получилась ведь. Такие странные вещи случаются в литературе: так Фома Опискин у Достоевского оказался похож на Гоголя, а в «Имени розы» слепой библиотекарь Хорхе – на Борхеса. Таким образом писатели устраивают своим прямым предшественникам сцены ревности – и в «Убежище» Старобинец, сама того не зная, закатила такую Петрушевской. Почему? Да потому, что, в сущности, та тоже описывает агрессивную среду, которая уродует жизнь и психику ее героев; коллекционирует вирусы зла, поражающие родную кровь. Только Петрушевская в отличие от технологичной Старобинец разыгрывает свои метафизические сюжетцы по старинке, она вроде как «трухлявая», старомодная и доморощенная – потому что читала ли Петрушевская Геймана, Дика, Кинга и Бэнкса? И персонажи у них любимые похожи – антропологический маргиналитет: инвалиды, разведенки, нянечки, брошенки, гадалки; только Петрушевская расписывает зло, поселившееся в коммунальных квартирах и маленьких трудовых коллективах, а Старобинец бодро рапортует о том, как пауки-трансформеры скачут по Риму и Генуе. Старобинец, видно после романа, никакой не Филип Дик, но – Петрушевская нового поколения, евро-Петрушевская, писательница про женщин с таким психолокатором, который всю жуть, обычно прошмыгивающую под радаром, пеленгует и фиксирует на экране; Петрушевскую читать жутко и муторно, Старобинец – жутко и весело.
Весело – да, местами; но не увлекательно (и, пожалуй, это приговор – потому что, если писатель пользуется таким сильным средством, как фантастическое допущение, взамен от него ждут, что его текст окажется увлекательным; «Убежище» не назовешь идеальным первым романом). Кажется, что в нем «все сходится», но на самом деле сходится под таким странным, бывает, углом, что лучше бы этих «схождений» не было вовсе. Выйдет ли Мальчик из комы, добежит ли до России папа-паук – все это тонет в таком количестве других вопросов, что, в сущности, уже и не интересует наблюдателя. Роман перенаселен – здесь слишком много двойников, двойных смыслов и потаенных корреспонденций; на каркас романа – историю про одиночество и тревогу молодой женщины – понавешаны и зазомбированный президент России, и Всемирный потоп, и евангельский миф; базовая история прогибается под весом побочных, тоже весьма тяжеловесных. «Убежище» только выиграло бы, если б из него удалили персонажа по имени Антон – создателя апокалиптического сайта и теории о России-убежище (и персонаж недопридуман, и ложный апокалипсис только отвлекает). По-видимому, Старобинец нужен был некий реальный аналог катастрофы сказочной – сломанной Иглы; так получился этот интернет-апокалипсис – некрасивый контрфорс. Зачем было налагать личное сумасшествие и городскую сказку еще и на «актуальные реалии»? Придать фантастическому роману «общественно-политическое звучание» все равно не получилось. Начинаешь думать, что классический глупый приговор «слишком много нот» не такой уж глупый; у Старобинец – писательницы с исключительно богатым воображением – тоже слишком много нот (ног, голов и туловищ), и лучше бы ей остановиться на одной – той, которая передает боль потери и одиночества, а не умножать сущности без крайней необходимости.
Ксения Букша. Жизнь господина Хашим Мансурова
«Открытый мир», «Гаятри», Москва
Имя Букша муссируется в печати уже лет пять, и за это время успело стать едва ли не нарицательным: для кого-то это был синоним выражения «многообещающий дебютант», для кого-то – обозначение диагноза «девичья графомания». Произносилось по поводу ее прозы, разумеется образной и метафорической, и конгениальное словосочетание «дынный коктейль», в котором тонули обе версии. Однако и дынный коктейль – или, иными словами, период, когда к молодой писательнице можно было относиться скептически, – имеет свойство заканчиваться, и закончился он в тот момент, когда вышел роман «Жизнь господина Хашим Мансурова».
Главный герой, узбекский мальчик Алю, обладает паранормальными способностями, среди которых главная – убеждать людей в своей правоте, как бы ни расходилось его мнение с мнением всех прочих. Окружение Алю пытается использовать его талант в криминальных целях, но сам он просто любит людей и не желает манипулировать ими ради наживы. Он помогает людям, к которым хорошо относится, «реализовывать возможности», но все они (лучшие друзья, по крайней мере) ведут себя низко, раз уж времена (и телевизор) требуют, чтобы люди были аморальными. Алю взрослеет, приезжает в Москву, с ним много чего приключается; в финале мы догадываемся, что настойчиво употребляемое по отношению к нему слово «господин» есть не столько способ вежливого упоминания субъекта новой экономической формации, сколько указание на экстраординарный статус; это была история о втором пришествии. Мессия сегодня будет выглядеть как Чужак с Юга, которого тормозят в Москве без регистрации – и который скупает («и скупает») долги, наделанные во время «равенства возможностей», надувает пустоту – любовью.
Роман Букши все время прыгает, ходит ходуном, он видимая крышка невидимого котла, где кипятится нечто духовитое, рассыпчатое, жирное, пряное, нутряное и пестрое, и, нет, это не «плов».
Синопсис романа вызывает недоумение, но, к счастью, роман Букши имеет мало общего с этим кратким пересказом: он все время прыгает, ходит ходуном, он видимая крышка невидимого котла, где кипятится нечто духовитое, рассыпчатое, жирное, пряное, нутряное и пестрое, и, нет, это не «плов» (здесь нет мяса как «настоящей фактуры», «реальности»), а то, что в широком смысле можно назвать «фольклор» – совокупность слов, обрядов, ритуалов, ощущений и шаблонных поступков времени. «Не связать дуб в сноп, не скруглить куб в круг. Долго гнется лук, выпрямиться чтоб. Высокий берег навис, как низкий лоб, и падает острый снег в круглый сугроб. Перед большой войной степи встают стеной, выше, чем небоскреб». Этот фольклор может выглядеть как былиный, как тысяча-и-одна-ночный, как льюис-кэрролловский, а на самом деле он смешанный, базарный, рыночный, фольклор эпохи, когда страна превратилась в огромный базар-супермаркет. И букшевский роман-скачущая-крышка, может, и раздражает своей эклектичностью, звоном и лязганьем, но хорошо накрывает эпоху, когда европейские представления о том, как надо, оказались малы для азиатского того, что есть. И говорить так, как Букша, – удачный способ повествовать о втором пришествии, у которого есть экономическая подоплека: рыночная экономика ввергла мир, где раньше «все кругом было избыток и тайна», в такое искушение и запустение, от которого его может спасти лишь «господин» Хашим Мансуров.
У К. Букши сочинился несуразный, но обаятельный роман, чебурашка среди гостовских медведей. Она правильно делает, что не обращает на «рыночный формат» внимания: в долгосрочной перспективе лучше в одиночестве выкликать мессию, чем в ряду прочих «многообещающих» торговать дынными коктейлями.
Александр Гаррос, Алексей Евдокимов. Чучхе
«Вагриус», Москва
А. Гаррос и А. Евдокимов – на загляденье нетолстокожие молодые мастера, умеющие пронзительно орать о той боли, которую вызывает у них природная аллергия на «откровенную отвратность российского бытия». Однако опыт общения с их последними романами – «Серой слизью» и «Фактором фуры», несмотря на стабильно высокий уровень децибелов этого крика, заканчивался досадной аварией: изобретательная завязка, точно засеченные герои времени… а затем нарастающее недоумение, связанное с ощущением, для которого у спортивных комментаторов зарезервирован термин «перемудрил». Типичный гаррос-евдокимовский диалог из тех, что ближе к финалу – когда герои начинают «догадываться» об истинной подоплеке событий, – выглядит так (на этот раз цитируется новинка – первая повесть «Чучхе», где некто или нечто истребляет выпускников школы, открытой на деньги ходорковскоподобного олигарха): «Знаешь, когда он начал тебя снимать? Негатив? Как он понял, что это ты? Это же ты ему подкинула идею про Голышева – а потом предложила перетереть с Дроном… А потом сама Артему подкинула идею про Горбовского… Они же с Дроном схавали друг друга по твоей подсказке!» – и не приходится сомневаться, что если выписать имена всех героев (не следует надеяться, что Дроном, Артемом и Горбовским список исчерпывается) в столбик и зафиксировать их крайне извилистые, нарочно петляющие траектории – кто кому чего подкинул и с кем о чем перетер, – то в их действиях действительно обнаружится подобие логики и концы с концами сойдутся; закавыка в том, что мозаика, сложившись, выглядит отчаянно неправдоподобно. Нельзя писать «остросоциальные» триллеры и быть свободным от общества: а про общество все знают, как может быть и как не может, и, есть основания полагать, Гаррос – Евдокимов работают во втором секторе. Как ни дотошно прописано, что именно в этих нуарах стреляет и взрывается – какой марки, каков тротиловый эквивалент… но все равно почему-то возникает неловкое ощущение, будто парни из отдела культуры, выпятив нижние челюсти, цедят «Нескафе» из пластиковых стаканчиков у коллег в отделе криминала: явно в гостях.
Возникает неловкое ощущение, будто парни из отдела культуры, выпятив нижние челюсти, цедят «Нескафе» из пластиковых стаканчиков у коллег в отделе криминала: явно в гостях.
Криминальная тема, безусловно, оправдывает использование такого мощного сюжетного инструмента, как бомба или пистолет, но каким инструментом Гарросу – Евдокимову неплохо было бы обзавестись в первую очередь – так это бритвой Оккама: не следует приумножать сущности без необходимости, что означает «при прочих равных простейшее решение обычно наиболее правдоподобное». Гаррос – Евдокимов всегда придумывают Самое Сложное. Между прочим, все это не касается третьей повести сборника – «Люфт». Там в типичной гаррос-евдокимовской ситуации – убийства, анонимные угрозы, пистолеты, поиски умерших – обнаружено именно что простейшее решение; ага, видим мы, вот тут парень, разбирающийся в кино и книгах, играет на своей территории, и играет точно, по-хозяйски, а не мнет в руке пластиковый стаканчик с чужими опивками; и надежная кальдероновская конструкция оказывается в сто раз правдоподобнее и эффектнее кровавых развязок с «волынами» и «макаронами». Опора на собственные силы, как и было сказано.
Анна Козлова. Превед победителю
«Амфора», Санкт-Петербург
Первым номером в сборнике стоит заглавная сатирическая повесть… хотя нет, «сатирический» – это неновый роман «Открытие удочки», он тоже здесь есть, а это уже чистый фарс, о московском литературном полусвете. Анжела, сочинительница похабных эротических романов, сходится с литературным критиком Кульбергом, чей отец охотился на акул. Между тем отец Анжелы уходит от ее матери к любовнице – и Анжела, опасающаяся остаться без наследства, нанимает своего приятеля, писателя Свечкина, чтобы тот топором убил отца. Тут выясняется, что любовница отца – мужчина, сделавший себе операцию по перемене пола.
В «Преведе» достаточно идиотский сюжет, чтобы с готовностью оскалить зубы, но, мало того, это, что называется, «повесть с ключом» – и открытия этим ключом можно сделать впечатляющие. Ну конечно же, вот это автор, вот ее знакомые… очень смешно, и вот этот портрет, не могу, и вот этот… Так составитель этого путеводителя впервые в полной мере испытал ощущение коротышек, явившихся на вернисаж, устроенный художником Незнайкой. Когда доходишь до карикатуры на себя, кажется, что получилось из рук вон плохо, что чувство юмора (не говоря уж про «чувство реальности» и «элементарный такт») изменило автору напрочь, так что – «Портреты хорошие, но вот этот ты, братец, лучше сними». Едва ли доводы вроде «Некоторым нравится наговаривать на себя (и на людей, которые хорошо к ним относятся), чтобы казаться значительнее» или «Неприятие современных реалий может принимать и такие – гротескные – формы» в самом деле могли бы кого-нибудь утешить. Да и чего там – смешно ведь.
У Козловой занижен порог застенчивости, узнаваемый почерк, острые зубы и глубокие мешочки с ядом – все качества, чтобы наслаждаться уютом ниши литературного траблмейкера.
У Козловой занижен порог застенчивости, кудрявый и уже узнаваемый почерк, длинные острые зубы и глубокие мешочки с ядом – короче говоря, есть все качества, чтобы наслаждаться уютом ниши литературного траблмейкера. Это не самое перспективное амплуа, если ты хочешь выйти победителем из настоящего соревнования, но вполне приемлемое, если передавать «преведы» знакомым для писателя важнее, чем говорить правду.
Наталья Ключарева. Россия: общий вагон
«Новый мир», Москва
Этот роман так и не вышел отдельной книжкой и остался в первом номере «Нового мира» за 2006 год[3]. «Россия: общий вагон» (претенциозное название выглядит чересчур публицистически, однако это именно роман) – это попытка нарисовать панораму России середины нулевых годов, России «снизу»; единственный, кажется, роман, в котором зафиксирован всплеск народного гнева, связанный с зурабовским законом о монетизации льгот.
Студент истфака Никита путешествует по России – «в поисках России». Он тяжело переживает зло, причиненное другим, и возможно, с этим связана его странная особенность – без особых причин он падает в обморок. Он едет и слушает чужие истории – историю женщины, которая сбежала с детьми от мужа в брошенном государством шахтерском поселке под Воркутой, потому что они остались там последними, и теперь вынуждена зарабатывать на жизнь продажей носков в поездах. Историю полублаженного человека Александра Дададжанова, который пытается помешать своим односельчанам деградировать: после Перестройки его деревня слилась с рядом стоящим туберкулезным диспансером, все жители перезаражались, и теперь поселок на грани вымирания.
У Никиты несколько друзей – Юнкер, благородный юноша, со взглядами, близкими лимоновским, готовящий планы покушения на президента. Молодой преподаватель Рощин, интеллигент-народник, ненавидящий власть и излечивающий разочарованных в жизни молодых людей чтением Генри Миллера и молодого Лимонова. Молодой экстремист Тема Рутман, который, чтобы не забрали в армию, пошел работать в ФСБ. Непутевая, но честная подруга Эля. Возлюбленная Яся – «девочка-скандал», то и дело уезжающая к любовникам за границу и употребляющая вещества. Примерно в середине романа выясняется, что Никита стал ездить по России после того, как Яся умерла от передозировки. «Признайся, – говорит Рощин Никите, – ты ведь не Россию ищешь, ты пытаешься от себя уехать. От тех дыр, которые в тебе оставила эта девушка с разноцветными волосами».
Однажды Никита знакомится с Таисией Иосифовной – 82-летней беженкой из Грозного, которая живет в каморке при шестнадцатиэтажном элитном доме и ежедневно моет его целиком. Вместе с Юнкером он перевозит ее к своему другу-священнику в Горинское. Там Никита знакомится с 10-летним деревенским пророком Ваней Вырываевым, пишущим трактат о России.
Единственный, кажется, роман, в котором зафиксирован всплеск народного гнева, связанный с зурабовским законом о монетизации льгот.
В Питере Никита оказывается как раз в тот момент, когда народное возмущение, вызванное зурабовской отменой льгот, достигает своего пика. Старики собираются двигаться на Москву маршем. Никита идет с ними и выслушивает очередные истории – одну страшнее другой. Лейтмотив в них – государство, бросившее умирать своих инвалидов и стариков, которые всю жизнь ему отдали. К старикам приезжает президент, который с брезгливостью пытается увещевать стариков. Никита подбегает к нему и двигает по морде. Дальше следует опять что-то вроде обморока, связанного, по-видимому, с избиением охраной; а потом Никита обнаруживает себя сначала в Лефортово, а потом в больнице.
В финале происходит прекрасная революция, но опять все заканчивается вспышкой насилия и сменой элит. Никита снова падает в обморок. Теперь, когда он много чего увидел и услышал множество историй, ему надо сложить из этих осколков мозаику – и вот каким-то образом они складываются в живую карту России. Галлюцинация продолжается, и Никите является умершая Яся. Последняя фраза романа: «Никита умер в тюремной больнице, улыбаясь так, как будто бы знал тайну. Которую невозможно разболтать. Потому что незачем».
По правде говоря, мозаика не очень складывается; роман так и остался лоскутным – эпизоды здесь не слишком хорошо скреплены друг с другом; в нем почти нет сцен – сплошные статичные диалоги. Однако роман производит впечатление настоящего, нефальшивого, живого; и даже в Никитины обмороки как в конструктивную основу романа невозможно не поверить. Это замечательный – трогательный, честный, искренний роман, который, если бы мир был устроен справедливо, тысячи людей читали бы вместо «Духless’а» и прочей макулатуры; одно из тех произведений, к которому, несмотря ни на какие огрехи, не может быть претензий: автор сделал то, что должен был сделать, – тогда как другие, пусть более изобретательные и менее простодушные, этим трудом пренебрегли.
Майя Кучерская. Современный патерик. Чтение для впавших в уныние
«Библиополис», Санкт-Петербург; «Время», Москва
Патерик есть – введение предупредительно сообщает о точном значении термина тем, кто запамятовал его, – сборник «историй из жизни подвижников» и «поучительных историй о грехопадениях». Занимательные побасенки из жизни наших современников, так или иначе связанных с православной культурой, любопытны, не сказать захватывающи. Круг «подвижников» достаточно широк, чтобы включать в себя батюшек, матушек, преподавателей воскресных школ, благочестивых прихожан и прочий «прихрамовый люд», вплоть до бандитов и Н. С. Михалкова; человек невоцерковленный оценит уже колоритность антропологического материала. Духовные лица Кучерской похожи на пошехонцев – эксцентричные, но располагающие к себе чудаки; но тогда как в пошехонском фольклоре инаковость персонажей оформлялась географически, здесь – конфессионально. Спектр сюжетов широк чрезвычайно, что видно уже хотя бы по первым фразам: «Матушка Филарета давно подозревала, что сестры в ее монастыре спасаются плохо»; «Один батюшка не любил голубых»; «В корнях старого дуба жил в своей норке один православный Ежик» и даже «Тоня залетела». Дальше, как правило, следует описание греха (или, если, как в последнем случае, грех налицо, покаяние/возмездие) либо чуда. Историйки коротенькие и щелкаются, словно семечки, – сотнями; и голова работает, и руки заняты; успевай только лузгой поплевывать.
Сами по себе все эти истории не бог весть что; но из них, как из кусочков смальты, складывается мозаика – образ обновленного, ответившего на вызовы XXI века, user-friendly «современного православия» (даже если кому-то это словосочетание может показаться противоречием в терминах) – православия, вынужденного торить себе дорогу в мире, где правят бал покемоны, Оксана Робски и операторы сотовой связи. Чтобы пробить свой чек, здесь нужна не столько конфессиональная нетерпимость, сколько ирония, не столько строгость, сколько почти карикатурность, парадоксально привлекающая к себе новую паству самой своей абсурдностью, инаковостью. Коррупция в РПЦ? Попы на «бентли»? Да ладно вам, коррупция, в одном месте вообще прихожан окормлял батюшка-людоед – ну и что, что людоед, зато посты держал очень строго, ни мясинки. Это не столько благочестивые байки о попах, сколько подобие дзенских коанов. Не столько энциклики против современной бесовщины, сколько образчики хорошо просчитанной иронии, саркастические растушевки. «Однажды ночью к Ларисе Епифановой прямо на метле прилетел Гарри Поттер… С тех пор Лариса сильно заикается и очень плохо спит. Вопросы и задания после текста: 1) Хорошо ли поступил Гарри Поттер, прилетев к Ларисе ночью на метле? 2) Как вы думаете, он что, не мог не на метле? 3) Почему Лариса осталась заикой? Подумайте хорошенько, не отвечайте на этот вопрос сразу».
Как и всякий хороший пресс-секретарь – а Кучерская сделала для нынешнего православия то, что сделало бы профессиональное пиар-агентство, – она отвечает на вопросы сразу, а хорошенько думает загодя, причем отстреливается не стандартными коммюнике из катехизиса, но остроумными апофегмами к случаю. Трудно отвергнуть покемона на том лишь основании, что так может выглядеть только бесовское отродье, но можно ударить по нечисти с фланга и выставить японскую тварь в комическом контексте; и православный смех рассеивает любую тьму с востока.
Православие у Кучерской представлено как конфессия, которая, не отступая от традиционного обскурантизма, может успешно функционировать в современном мире, где разного рода дискриминации и подавления свободы личности считаются неприемлемыми. Да, среди конгрегации нет-нет да и бывают случаи рукоприкладства, рецидивы сексизма и прочие пережиточные явления. Но поданы они все как оригинальный этнографический реликт, скорее привлекательный, чем отталкивающий; нам ведь нравятся традиции, не так ли? Автор умудряется, не вызывая лишнего удивления, оперировать такими понятиями, как «грех» и «чудо», причем как совершенно обыденными. Да, мы следим за руками (карася-карася-превратися-в-порося) и могли бы указать на некоторые процедурные нарушения – но ведь это же фольклор, не с потолка, на диктофон записано. Раз на диктофон, значит – современный, раз современный – значит, традиция жива, предприятие функционирует, жизнь продолжается, в церквях уже можно присесть на лавку, батюшки обзаводятся белыми «шкодами», разбойники все благочестивее, а слишком усердных поборников экуменизма не обязательно убивают топором средь бела дня.
Скептики с лоснящимися рылами скажут, что вся эта «прихрамовая тусовка» – психическая антисанитария, питательная среда для дикости и мракобесия. Но ведь также и для симпатичных волшебных сюжетов и раскидистых нарративных плесеней, аргументирует фольклорист. Маловерам с постными физиономиями автор демонстрирует, что религия – вовсе не обязательно синоним гротескности. В деталях – пожалуй, ну так ведь эдак даже и привлекательнее. С Богом – и с батюшками, иеромонахами, юродивыми и проч., что ли, интереснее, чем без Бога – вот что выщелкивает на своих четках-счетах М. Кучерская; в сущности, «Патерик» помимо всего прочего – очередной извод так называемого паскалевого пари: в Верховное Существо выгоднее верить, чем не верить; и разумно признать, что здесь, в России, Оно соответствует официально принятому РПЦ представлению о Нем.
Кучерская – квалифицированный специалист, расфасовывающий свой опиум так, чтобы рука протянулась к нужной упаковке.
Майя-Saatchi amp; Saatchi-Кучерская благоразумно обходит стороной запутанные вопросы – церковь и государство, церковь и политика, коррупция в официальной РПЦ и критика ее старообрядческими организациями. Разумеется, это не входит в сферу компетенции православных ежиков. Не стоит также подсовывать ортодоксальной белочке орешки идеологического характера: каким все же должно быть православие – секуляризованным и вестернизированным или огненным и бескомпромиссным? Однако как бы то ни было, это, безусловно, пропитанная религиозным духом книга, и, надо сказать, Кучерская – квалифицированный специалист, расфасовывающий свой опиум так, чтобы рука протянулась к нужной упаковке. Отзывы первых исцелившихся впечатляют. Известный эталон мировой скорби Псой Короленко утверждает, что книжка «буквально месяц назад на время вывела меня из очень глубокой депрессии».
Писать о духовенстве – тоже своего рода подвижничество; в либеральной отечественной культуре это сразу означает подвергнуться обвинениям в ханжестве и фарисействе. «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что вы делаете!» – а ведь это Белинский, и орет он на своего любимого Гоголя; страшно подумать, сколько бы шкур содрал он с Майи Кучерской за ее «гимн гнусному русскому духовенству». «Неужели вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, брюхаты жеребцы? Попов… Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно! ‹…› Основы религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себя кое-где. Он говорит об образе: годится – молиться, а не годится – горшки покрывать».
«Патерик» Кучерской – не бойкий «все-хорошо-прекрасная-маркиза» рапорт, но и не пономарский бубнеж о проделанной работе по духовному воспитанию верующих; скорее нечто среднее – публикация менеджера по связям с общественностью, профессионально интерпретировавшего данные, полученные от совета директоров как оптимистичные, несмотря на то что кое-кто мог бы усмотреть в них торжество «кнута», «обскурантизма» и «татарских нравов». Многое говорит и сама фигура этого секретаря: не толоконный лоб в камилавке, а современная женщина с короткой прической, иронично поджатыми губами и, не исключено, даже в штанах (фотография автора, предоставленная издательством, не дает оснований подтвердить или опровергнуть эти предположения). Эта фигура, кстати, очень удачно инсталлирована в книгу – и не только на обложку. То и дело здесь появляются то «писательницы», то «фольклористки», а то персонажи по фамилии Кучерская. Это явно «свой» в этом странном мире; идеальный посредник между совсем посторонними и слишком инсайдерами. Сколько можно понять из баек, похожих на автобиографичные, – изначально истории коллекционировались автором, университетским ученым, с научной целью. Она наряжалась надлежащим образом и выдвигалась в «прихрамовые люди» – с диктофоном. Представьте себе Николку из «Бориса Годунова» с цифровым фотоаппаратом за пазухой или Лизавету Смердящую с портативным сканером под подолом – вот что такое по существу «прихрамовая фольклористка» Кучерская; фигура юродивого, укомплектованного радиоаппаратурой и овладевшего всеми тонкостями скоморошьих интонаций, безусловно, одна из многочисленных удач автора. Не стоит, впрочем, и забывать, что тренировочный балаган этих скоморохов базируется в Калифорнии, и не стоит тестировать их дудки и пищалки на аутентичность – тут запросто можно получить по сусалам.
Никакой, впрочем, агрессии, все чинно-благородно и исполнено благожелательности. В самом деле, лучше ведь «рассказывать похабные сказки» и «почесывать себя кое-где», чем… чем что бы то ни было. Вот и про эту книжку тоже можно сказать: годится – молиться, а не годится – горшки накрывать. Такие времена, что широкая утилитарность предмета скорее свидетельствует в его пользу.
Повесть Алексея Лукьянова была напечатана в толстом журнале и производила впечатление милой летней межсезонной шутки, замечательной не то комичными сценками, не то приятно-глумливой, коровьевской манерой изложения. «На стойку тяжело улегся желтый саквояж постояльца, клацнули серебристые замки, и перед глазами служащего на мгновение вспыхнул пожар, которому в сердце потухнуть суждено ой как не скоро. В саквояже сияли золотые монеты. Получив электронный ключ от номера, постоялец уже собрался уходить, как вдруг обернулся и задал странный вопрос: „У вас тут с людоедством как?“ – „Виноват?“ – Лоб служащего на мгновение исчез, оставив место лишь густым бровям и округлившимся глазам. „Экий ты, братец, непонятливый“, – покачал головой Крокодил и проследовал к лифту».
Два года спустя, в 2006-м, когда за «шутку» автор получил Новую Пушкинскую премию, повесть издали всерьез, в твердой обложке.
В альтернативно-историческом Петрограде начала XXI века – столице конституционно-монархической России от Берлина до Камчатки – объявляется Крокодил с чертами андроида, курящий и разговаривающий, который оказывается не просто интуристом, но и террористом, собирающимся организовать покушение на царя.
Алексей Лукьянов. Спаситель Петрограда
«Амфора», Санкт-Петербург
Настоящего царя между тем нет еще со времен Столыпина: много лет ради сохранения стабильности его замещают подставные лица, в том числе главный герой – кентавр Возницкий. Помимо полулошади Крокодилу оппонирует отважный мальчик Ваня Васильчиков – прямой потомок выжившего царевича Алексея. Кроме того, в этом манеже гарцуют персонажи, похожие на Путина, Шевчука и Невзорова; в калейдоскопе фантасмагорических событий мелькают фантазии о легализации марихуаны и конспирологические версии отечественной истории.
«Спаситель» – идеальное либретто для балета, оперетты, ярмарочного райка или циркового шоу.
Алексей Лукьянов, тридцатилетний кузнец из Соликамска и автор повести «Спаситель Петрограда», получил Пушкинскую премию не за абстрактные заслуги перед Отечеством, а «За новаторское развитие отечественных культурных традиций» – и впервые, надо думать, сам оказался между молотом и наковальней. У него разом сильная и легкая писательская рука, умеющая загибать слова ажурными кренделями; и, в принципе, судя по «Спасителю», «Мичману и валькирии» и «Артиллеристам» (содержание сборника), дай этому кузнецу еще металлосырья и запас дров на поддержание температуры плавильного аппарата – и вышел бы из него новый Булгаков; но в современной русской словесности нет вакансии сочинителя фантасмагорий, острее обычных реалистов чувствующего действительность; а была бы, так ее б уже занял Дмитрий Липскеров. Код к повести, как видно уже из названия – «Спаситель Петрограда от яростного гада», – «Крокодил» Чуковского; но что, собственно, открывается этим кодом? Как развиваются культурные традиции? В чем состоит новация? Не было ли какой-нибудь альтернативы этой альтернативной истории? Зачем за эту повесть – которая так напоминает пародию на безупречный крусановский «Укус ангела» – взялась именно «Амфора», которая расписывается как будто таким образом в несостоятельности своего фундаменталистского литпроекта начала нулевых – серии «Наша марка»? Чью могильную ограду отковал этот кузнец? Вопросов больше, чем ответов.
Стойку на эту повесть должны сделать антрепренеры всех мастей. «Спаситель» – идеальное либретто для балета, оперетты, ярмарочного райка или циркового шоу. У Гегеля есть расхожий афоризм: история всегда повторяется дважды – первый раз как трагедия, второй – как фарс. Странным образом к альтернативной истории это тоже применимо.
Протоиерей Алексий Мокиевский. Незавершенная литургия
«Амфора», Санкт-Петербург
«Да, поистине здесь святая земля, и все кругом святые», – приходят в финале к выводу каких только чудес не насмотревшиеся герои этой книги, и трудно с ними не согласиться: Кирилловский район Вологодской области, где разворачивается действие романа, – место исключительное. Высочайшая для России концентрация ландшафтной и архитектурной красоты: Ферапонтово, Горицы, Кирилло-Белозерский монастырь; ничего удивительного, что кое у кого здесь возникают коллективные галлюцинации – Русская Фиваида все-таки.
В 1920-х годах священника прямо из церкви забирают в ЧК. Литургия остается незаконченной. При строительстве Волгобалта храм Покрова оказывается полузатопленным. 80 лет спустя в тех же местах подростку Саше является странная, изъясняющаяся на церковнославянском девочка, которая, похоже, ангел. Эта Света – так юноша называет прекрасное существо – требует провести в заброшенном храме литургию. Когда Саша приводит туда родителей и священника, храм, где столько лет жили только ангелы, оказывается нетронутым, и, узрев это паранормальное явление, неверующие уверовали.
«Православный роман» – чересчур безыскусный, чтобы его в самом деле можно было квалифицировать как разновидность опиума для народа.
«Православный роман» – чересчур безыскусный, чтобы его в самом деле можно было квалифицировать как разновидность опиума для народа, – сочинил отец Алексий, служащий священником в Воскресенском Гориц-ком монастыре; и правильно сделал, потому что места эти требуют нового мифа, и пусть лучше так, чем никак. Трудно сказать, нуждаются ли духовные романы о «пакибытии» в конструктивной критике, но курьезная история о чудесах некстати накладывается на историю отца Василия – как он пришел к Богу, рукоположился, совершал паломничества, служил сначала в Казахстане, а потом на Русском Севере. Вся эта информация определенно имеет свою цену, но в миракле выглядит скучной и неуместной – потому что тут за роман нам выдают бытописательство на тему «Повседневная жизнь православного священника в провинции». Надо полагать – кто-то другой сказал бы «будем молиться за то, чтобы…», – следующее упражнение батюшки в беллетристике окажется более удачным. Это искренне.
Сергей Вербицкий. Морской лев
«Вагриус», Москва
Вот еще один роман про то, что сведения о полном упадке военно-разведывательных мощностей СССР в начале 1990-х сильно преувеличены. Оказывается – если верить автору этой версии, который, по словам редактора романа, не разведчик и даже не военный моряк, а «просто писатель», – так вот, оказывается, к 1990 году, втайне от Горбачева и высшего руководства КГБ, на Командорских островах была построена сверхсекретная атомная чудо-субмарина «Морской лев», обошедшаяся умирающему государству в шесть миллиардов долларов – зато самая современная в мире. Она полностью компьютеризирована, невидима для натовских гидроакустических систем и оснащена ракетным вооружением всех типов. Укомплектована лодка так или иначе проштрафившимися специалистами – спасенными КГБ от суда и трибунала. Судно возглавляет капитан Захаров – гениальный, но склонный к авантюрным решениям командир, в одиночку способный уничтожить половину натовского флота; его историю, собственно, нам и рассказывают.
После того как Ирак напал на Кувейт, СССР, официально сохраняющий нейтралитет, негласно помогает Ираку. «Морской лев» заслан в Персидский залив, где он должен осуществить несколько невыполнимых миссий, в том числе уничтожить американский авианосец.
В романе сразу три одновременно раскручивающихся интриги: противостояние одинокой советской подлодки и целого натовского флота – на фоне операции «Буря в пустыне»; конфликт на самой лодке, где надзиратель от КГБ, старпом Березин, мучает своего командира Захарова бесконечными инструкциями и умерщвляет ненадежных членов экипажа; политические события в СССР – «Морской лев» уходит из одной страны, а возвращаться ему придется совсем в другую, где подвиги подводников будут расценены как преступление. Все это усугубляется тем обстоятельством, что в любой момент, как только американцы идентифицируют таинственную субмарину как советскую, может начаться ядерная война.
Обо всех этих лишь отчасти фантастических событиях нам докладывается в крайне странной манере, и ладно бы только с априори неусваиваемым количеством технических подробностей – так еще стилистически эти сообщения больше похожи на казенный офицерский рапорт командованию или на внутривойсковую политинформацию. «Иракская сторона давно вела подготовку к отражению удара, и теперь угроза полномасштабной войны стояла на пороге арабского дома»; «Последнее чудо советской научной и технической мысли должно было обеспечить проведение в жизнь политической стратегии консервативных функционеров из Комитета государственной безопасности и Министерства обороны, действующих независисмо от государственной внешнеполитической деятельности Советского Союза и настроенных на выполнение подписанного с Ираком в 1971 году договора о дружбе и военной помощи, подтвердив тем самым свою приверженность старым коммунистическим идеалам советской эпохи (несмотря на то, что ООН приняла резолюцию № 678 о вооруженной операции против Ирака с целью освобождения территории Кувейта)». Разумеется, не весь роман состоит из пассажей такого рода, и диалоги в нем больше похожи на фрагменты естественной речи, чем на расписанные по ролям резолюции – а впрочем, в романе молодого писателя можно подцепить еще несколько фраз, подозрительных уже по другим признакам: «маршрут выхода субмарины из гибельного окружения безносой спутницы»; «тучи рассеялись, и люди увидели, как солнце умылось кровью, готовясь умереть, когда Захаров вновь вывел „Морской лев“ в атаку». Словно этого всего мало, С. Вербицкий перебивает повествование странными интермедиями – короткими, непонятно кем и кому рассказанными эпизодами из жизни акул, волков, римских гладиаторов. Поначалу эти вставки производят впечатление издательского брака, но затем более-менее запараллеливаются с историей иракского похода «Морского льва» – возможно, это сны, возможно, галлюцинации капитана Захарова.
Этот роман про подводную лодку – очень квалифицированный ответ Тому Клэнси.
Самое странное, что роман, написанный вопиюще недолжным образом, читается как классические тексты из «Библиотеки приключений» – он исключительно увлекательный; «Морской лев» просачивается сквозь минные кордоны, водит за собой целые эскадры, обманывает полки акустиков, уворачивается от бомбежек и заманивает в ловушку неприступные крепости. Морские баталии воспроизведены посекундно – однако роман не выглядит ни растянутым, ни замедленным. Считается, что лучшее произведение в этом жанре – «Охота за „Красным Октябрем“»; так вот роман Вербицкого – это очень квалифицированный ответ Тому Клэнси. Трудно поверить в эту версию, но, возможно, автор нарочно сымитировал параноидальную скрупулезность относительно технических характеристик и казенно-романтическую манеру письма советского офицера, стопроцентно лояльного к марксистско-ленинской идеологии – просто для того, чтобы форма соответствовала материалу. Однако даже если С. Вербицкий и не слышит, каким языком он изъясняется, для нас важно одно: да, обычно интересные истории не принято излагать таким языком – но это не означает, что таким языком нельзя рассказать интересную историю. Можно, и еще как.
РАЗДЕЛ II «Легионеры»
Андрей Рубанов. Сажайте, и вырастет
«ТРИЭРС», Москва; «Лимбус Пресс», Санкт-Петербург
Интригующая первая фраза: «Они взяли меня ранним утром 15 августа 1996 года». «Меня» – 27-летнего банкира с тем же именем, что и у автора, – сажают в Лефортовский изолятор по обвинению в незаконном прокручивании бюджетных миллиардов через сеть фирм-однодневок. Обвинение справедливое, но на допросе молодой толстосум хорохорится – его выручит партнер, так они договаривались: Андрей берет всю вину на себя, а Михаил спасает бизнес и платит адвокатам. Это в теории; а на практике Михаил испарится, а Андрей не выйдет оттуда ни через день, ни через неделю. Начнется история, как у Дефо, – про обустройство человека на необитаемом острове, открытие самого себя в экстремальной ситуации, вытачивание характера.
В одиночной камере – рассказчик не раскисает и все время иронизирует над собой, точнее, над тем специфически мужским способом проведения времени, который ему достался, – он репетирует речи, обращаясь к неодушевленным предметам: «Этот полезный эмалированный ковш, плотно приделанный к стене, оказался мною выбран в собеседники по простой причине. Практически все, что меня окружало, имело женский или средний род: стена, полка, койка, решетка, дверь, окно. Я же хотел общаться именно с мужчиной. С другом, что ли. Или с единомышленником.
Нас, мужчин, в каземате маялось всего-то пятеро: я, умывальник, чайник, кипятильник и еще матрас. Остальные – подушка, простыня, наволочка, тряпка на полу, мыло в мыльнице, зубная щетка – не входили в джентльменский клуб.
Пол и потолок тоже причисляли себя к мужикам. Но мы держали их в кандидатах. Настоящий клуб всегда состоит из действительных членов и кандидатов. Так солиднее. Кандидатам назначают испытательный срок, проверяют – достойны ли? – и только потом, на особом собрании, торжественно переводят в действительные члены».
Через восемь месяцев его переведут из элитного Лефортова в Матросскую Тишину, в камеру на 32 уголовника, где сидят 137 – точнее, стоят на цыпочках, потому что сидеть там негде. Андрей вольется в коллектив – на правах автономии, в чем мы уже не сомневаемся.
Тюремные мемуары – более чем почтенный жанр, со своими, от Шаламова и Домбровского до Лимонова, патриархами, но в последнее время любопытный скорее членам клуба, чем посторонним. Постороннему (никто не зарекается, но и в очередь в татуировщику записываться тоже не резон), как правило, читать про «обожженных зоной» не с руки; не то чтобы тематика табуирована, но она достаточно часто освещается в телевизоре, чтобы и без художественной литературы проникнуться к «Владимирскому централу и К?» дистанцированным уважением.
В камере арестант Рубанов приучает себя писать другим почерком, читать вверх ногами (чтобы углядеть свое дело на столе у следователя) и медитировать посреди содома – он так и не поверит, что свободы можно лишить, просто заперев человека в четырех стенах. Штука в том, что, хоть дело происходит в тюрьме, «Сажайте, и вырастет» – не про тюрьму, а про то, что тюрьмы – нет, «уголовной матрицы русской жизни» – нет, а есть только характер и обстоятельства, которые рано или поздно – преодолеваются, и тюрьма, парадоксальным образом, – храм свободы, раз уж именно там ее можно острее всего почувствовать. В пересказе все это похоже на пособие по самосовершенствованию – ну так ведь и «Граф Монте-Кристо» похож на такое пособие; разница в том, что пособия пишут прощелыги, а хорошие книги о закалке характера и достоинстве – настоящие, во всех смыслах, люди.
Сам Рубанов на вопрос, откуда он знаком с этой тематикой, отвечает: есть литераторы, которые для того, чтобы написать про забитый гвоздь, садятся и высасывают все из пальца. А есть те, кто берет молоток, гвозди, стучит, попадает по пальцу, испытывает боль и пишет об этом; он – из вторых.
За рубановской историей стоит классический сюжет – как под давлением обстоятельств графит превращается в алмаз: кристаллическая решетка личности уплотняется у нас на глазах; хруст слышен.
В романе героя не столько бьют молотком по пальцам, сколько плющат ему голову кувалдой; странно в этой духовной автобиографии не только то, что протагонист не ломается, а что слишком сильные эмоции этого современного Иова не вызывают у читателя, каким бы божьим одуванчиком он ни был, отторжения; очень быстро начинаешь идентифицировать себя с этим арестантом.
Упорством характера, приметливостью, язвительностью, языковой свежестью и раскованностью Рубанов напоминает эталонного отечественного «я-рассказчика» – Лимонова; как и Лимонов, с самой первой вещи Рубанов владеет языком так, будто занимался лингвистической лепкой долгие годы (ломтик копченой колбасы – «багрово-бурый, похожий на дореволюционную монету кусок пищи»); у него чрезвычайно развитая мелкая моторика – и замечательная скоординированность движений на большом, романном уровне. Так, ближе к эпилогу мы застанем бывшего банкира за тем, что он работает монтировщиком решеток на окнах; это замечательно точно найденная метафора того состояния, о котором рассказчик несколько раз упоминает, – он настолько «просветлен», что решетки перестают для него быть пугающим тюремным символом – потому что от тебя самого зависит, как ты воспринимаешь эту решетку. «Все свободны»: последняя фраза романа некоторым образом отвечает на первую. Еще раз эта новая «просветленность» проявится в сцене, где рассказчика, едущего на раздолбанной советской машине, сгоняет с полосы его собственный клон образца 1996 года – Андрюха-банкир, мчащийся в собственную тюрьму.
Рубанов чаще показывает, чем проговаривает, но каждая его ремарка заслуживает отдельного одобрения; еще лучше, когда он пускается в «авторские отступления»; и даже когда он позволяет себе афоризмы, далеко не оскар-уайльдовские по своей иронии, это можно назвать хорошей работой. Однажды, после очередного облома, герой отворачивается лицом к тюремной стене – и «разгадывает» ее. «Она и есть та стена, в честь которой поименована кривая и узкая нью-йоркская улочка. Легендарная Уоллстрит. Ею до сих пор бредят русские бизнесмены. ‹…› В действительности однажды мы имеем взамен миллионов и звезд с неба только деловитое, жестяное распоряжение: „лицом к стене“. Лицом к стене – вот русский Уоллстрит».
Странным образом, поступки Андрея Рубанова не просто интересны: выпустят – не выпустят, сломается – не сломается, объегорит – не объегорит, но «истинны» – то есть могли бы разбираться в некоем не только беллетристическом суде, и были бы оправданы по всем статьям. Роман явно не сводится к колоритной и калорийной истории о среднестатистическом пассионарии девяностых в среднестатистическом аду; это больше, чем пенитенциарная авантюра, «русский Гришэм». За историей об оставшемся без копейки банкире в социально и интеллектуально чужеродной среде стоит классический сюжет – как под давлением обстоятельств графит превращается в алмаз; любопытнее, что это реальный алмаз – и реальный пресс – и в режиме реального времени. Лимонов, в принципе, пишет о том же – но Лимонов уже давно кохинор, а здесь кристаллическая решетка личности уплотняется у нас на глазах; тут хруст слышен. В периодической системе русской литературы прямо в центре сохранялась одна вакантная клетка – роман про Героя. На эту позицию находились местоблюстители – синтезированный акунинский Фандорин, разного рода приятные интеллигенты, симпатичные плуты и десперадо. Но все это было за неимением лучшего; тогда как Рубанов – это удивительное сочетание чувства собственного достоинства, европейского спептицизма, крайне здравого патриотизма, фантастического опыта, драматической напряженности и лингвистической компетентности – настоящий.
Владимир «Адольфыч» Нестеренко. Чужая
«Ad Marginem», Москва
Завязка: авторитет Рашпиль отправляет в Прагу бригаду самых надежных бойцов, чтобы те любой ценой доставили оттуда девушку по имени Анжела. Брат Анжелы, тоже бандит, попал к мусорам, и если те разговорят его, Рашпиля закроют навсегда. Анжела должна стать заложницей. И вот четверо бугаев – Малыш, Сопля, Гиря и Шустрый – со своеобразным представлением о юморе, типа выехать на встречную, делая вид, что идешь на таран, катят себе по делам и решают проблемы, весьма эффективно до поры до времени.
«Чужая» – одна из самых громких премьер 2006 года – была написана киевлянином Владимиром «Адольфычем» Нестеренко по просьбе одного знакомого режиссера, который посмотрел фильм «Бумер», загорелся и предложил Адольфычу сочинить сценарий на ту же тему. Тот, оказалось, и так, уже давно, с тех пор как хлынула волна «криминального чтива» и сериалов про бандитов, собирался высказаться по теме. «Не исключено, я стал писать потому, что прочел Корецкого и увидел „Бригаду“ – потому что в некоторых деталях это, может, и соответствует действительности, но в целом – фуфло. Это мусорская версия 90-х». Адольфыч был с другой стороны, у которой никогда не было компетентных адвокатов, за отдельными редкими исключениями: Пелевин (бандитская глава в «Чапаеве») и Мурзенко (с «Мама не горюй!»). Он был убежден, что «Бумер» хороший фильм, но так, как там, на самом деле не бывает. «Чужая» оказалась похожа на «Бумер», но она далеко не про то же самое.
«Чужая» – полнометражный сценарий про гангстерские войны 90-х – состоит из коротких сцен-шлягеров с выдающимися диалогами. Адольфыч настоящий сказовик, как Лесков, Платонов и Зощенко; он пишет так, будто выступает в устном жанре, и каждый раз нахлобучивает себе на голову новую стилистическую шапку-бармалейку. Это мимико-декламационное искусство требует абсолютного слуха и постоянного пребывания в лингвистической среде. Адольфычу легко дается перепрыгивать с киевского суржика на русский литературный, с блатной мурки на язык интернет-«падонков», но его «цыганочка с выходом» – говорок киевлянина, промышляющего криминалом.
Адольфыч изучал бандитский язык и нравы не в библиотеке и, наверное, в самом деле мог бы, как его Малыш, переклеить фотографию на паспорте так, чтобы ни один таможенник не заметил подлога. На протяжении всех 90-х годов будущий автор «Чужой» непрерывно участвует в бандитском движении. Работает последовательно в двух киевских группировках. Специалист широкого профиля, чаще прочего он занимается обеспечением «крыши» и выбиванием долгов, то есть рэкетом. Долгое время гастролирует в Европе, особенно интенсивно – как и его герои – по странам бывшего соцлагеря. Чтобы понять, что это все значит в переводе с языка милицейских протоколов, лучше всего прочесть «Чужую» и вывешенные в Сети рассказы, среди которых, между прочим, преобладают написанные от первого лица. Прямая трансляция из головы гопника, отодравшего палку от шведской стенки и бегущего громить кавказские ряды на рынке. Репортаж от лица рэкетира, отправляющегося на стрелку с палестинцами с бейсбольной битой в багажнике.
Адольфычу веришь, как пачке документов, – и он обманет, разумеется.
Поначалу «Чужая» кажется романтической историей о мужском братстве и верности: один за всех, все за одного. Затем, однако, оказывается, что в этих «Трех мушкетерах» главная героиня – Миледи. К финалу Чужая – эта «сука редчайшая, редкой масти тварь, мутная, голимая устрица» – не просто устраивает в городе ад, но взламывает изнутри саму систему персонажей, выводя из строя всех, кто встретился с ней взглядом. Ее жертвы оказались всего лишь колоритными бандитами, которым все равно не суждено было пережить 90-е, а эта – абсолютное зло, гораздо радикальнее обывательских представлений о недопустимом; с такой Чужой никакие свои не нужны.
Немотивированные нападения, вендетта, неконтролируемые вспышки ярости – Адольфычев театр жестокости может похвастаться впечатляющим сюжетным репертуаром; однако центральная коллизия здесь – преступление и наказание. Никакого отношения к традиционно-достоевской моральной парадигме, к системе ценностей, где все люди – свои, эта коллизия не имеет. Тут чистый Ветхий Завет: вину можно в лучшем случае возместить с лихвой, в худшем – искупить жизнью, но никакого прощения быть не может; с чужими- только так. Это как с колхозником в «Чужой», который, после того как бандиты смеха ради имитировали лобовое столновение, в сердцах показал им дулю: оскорбил, значит, виноват, виноват – так сдохни, хотя бы понарошку.
Есть ли у Чужой прототип? Нет, отвечает автор. Она полностью выдумана. Однако еще при первом чтении обращаешь внимание, что, какой бы чудовищной ни казалась эта Чужая, если выписать только ее реплики, оказывается, что все самые здравые мысли – здравые для тех обстоятельств, разумеется – принадлежат ей; так что…
Феномен «Чужой» говорит нам, что центральным персонажем в пьесе оказывается не тот, кто соблюдает понятия, уголовный или корпоративный кодекс (бандиты, обыватели и офисные служащие), и не тот, кто делает свой бизнес на показном пренебрежении к ним (милиция, крестные отцы или авторы бунтовских романов), а по-настоящему отмороженная тварь, которая падает на город, как атомная бомба; которая наказывает зазевавшихся неадекватно и непредсказуемо; которая, вместо того чтобы писать «качественную литературу» таким бесцветным языком, что она изначально кажется переводом, кощунствует на суржике – однако ж на круг оказывается эффективнее всех, талантливее всех, симпатичнее всех. Чужая – это ведь автопортрет, Адольфычева Джоконда.
«Чужая» и рассказы испускают множество феромонов – и, если кто-нибудь захочет установить их точный источник, можно попробовать указать на яркий социальный материал, экстремизм суждений, точность языковых настроек. Однако, в сущности, ту же комбинацию ингредиентов в каком-то смысле можно обнаружить и в каком-нибудь пресном литературном полуфабрикате. А «Чужая»… шмат мяса, который хочется жрать сырым, даже если подозреваешь, что это человечина; как-то уж так она замаринована. Пожалуй, этот вкус достигается за счет некой приправы, какой-то соли, искажающей базовый вкус. Эта соль Адольфыча – странный черный юмор: садистский, желчный и меланхоличный одновременно. Соль в том, что насилие – источник комического; оно вызывает не сострадание к жертве, а смех. Причем смешны и те, кто совершает насилие, – потому что чрезмерны, и те, над кем совершается насилие, потому что ущербны; палач и жертва – Пат и Паташон. (К ущербности: у читателя наверняка возникает недоумение относительно одной ремарки в «Чужой» – к сексуальной сцене с участием Анжелы и Шустрого. Показывать можно все, на усмотрение режиссера, но – категорически – это не должен быть оральный секс. Почему? Да потому что она воровка, а воровкам сосать западло: понятия запрещают.) В мире Адольфыча наказание всегда имеет дидактический оттенок и поэтому должно быть неадекватно проступку, чрезмерно – а все чрезмерное, любой художник это чувствует, всегда комично (как в рассказе «С любовью Квентину»). То же и с жертвами насилия (и вот это уже на Тарантино не спишешь). Насилие не бывает немотивированным; слабость, физическая или психическая, – это тоже вина, проступок, преступление. За недостаток энергии – тоже следует наказывать; чем, собственно, герои и занимаются. Если жертва позволяет над собой измываться, значит, она – слаба, ущербна и подлежит осмеянию. Поэтому очень часто герои Адольфыча практикуют злые – очень злые – шутки; поэтому его рассказчиков – подонков, садистов, гопников – смешат выбитые глаза, причудливые черепно-мозговые травмы и неуверенные движения жертв, пытающихся подняться на ноги после пыток. И поэтому же рассказчик, лупящий жертву скалкой по пятке (как Малыш в «Чужой»), не то что сомневается в своей правоте или задумывается о психической аномальности садизма – он просто подглядывает за собой в зеркале и испытывает непрерывное удивление от собственной комичности – так, что бровь поднимается у него не реже, чем рука.
Чужая – это ведь автопортрет, Адольфычева Джоконда.
«Чужая» – история про мир, оставленный Богом, мир, из которого окончательно ушла любовь, мир, у обитателей которого, чужих друг другу, нет великой общей идеи – и, раз так, здесь царит культ силы. Адольфыч никоим образом не рекламирует этот мир-ад, может статься, он вызывает у него такое же внутреннее отторжение, как у любого «нормального человека». Однако Адольфыч не собирается ждать, пока ад растерзает лично его – и способен ответить на насилие насилием же. Это мир нереально страшный – однако и нереально смешной: и нет смысла делать вид, что насилие слишком серьезно, чтобы над ним нельзя было смеяться – можно, и Адольфыч смеется. Это отвратительный, папановский гогот сквозь чужие слезы, этот запредельно черный юмор, несомненно, зло; но это зло с озорными глазами и есть та специя, то литературное вещество, которое вызывает у тебя зверский аппетит: реальность, которая приправлена этим злом, хочется жрать сырой.
Массовый успех такого специфического произведения, как «Чужая», об этом свидетельствует.
Василий Сретенский. От/чет
«АСТ», «Транзиткнига», Москва
Василий Сретенский, лет сорока пяти вузовский преподаватель истории и коллекционер поддужных колокольчиков, по случаю приобретает в Измайлово странную духовную поэму начала XIX века, из которой узнает о существовании секты поклонников Иуды, скрывающих свои сведения о подлинном смысле евангельских событий и некоторые уникальные технологии вот уже 2000 лет. Плеяда Дэна Брауна – интернациональный коллектив, чьи ресурсы по предоставлению претендентов на роль идеального литературного халтурщика практически не ограничены; а на обложке «От/чета» оттиснуто: «„Код да Винчи“ по-русски», и, сами видите, не совсем уж безосновательно; но чего только не бывает; и, удивительное дело, роман не заслуживает к себе того отношения, какое предполагает этот слоган, больше похожий на вердикт о профнепригодности.
Во-первых, «От/чет» увлекателен: герой мечется по библиотекам, расшифровывает литореи, влюбляется, читает лекции, обменивается информацией с экспертами, чтобы, придя к определенным выводам, проверить свою теорию на самом себе, – странный научно-фантастический финт, который едва ли пришел бы в голову манекену вроде Роберта Лэнгдона. Во-вторых, «От/чет» скучен: он наполовину как минимум состоит из приведенных в полном объеме старинных поэм, исторических документов и текстов лекций главного героя по культурологии. Все эти дополнительные источники обеспечивают, однако, в панельной дэн-брауновской конструкции о тайной секте циркуляцию яркого материала; роман наливается зловещей убедительностью. В-третьих, романная среда настроена агрессивно по отношению к читателю. Вокруг историка роятся несколько персонажей, живо интересующихся предметом его научных изысканий; статус их не вполне понятен – не то друзья, не то враги, не то союзники; не то они двигают сюжет, не то замедляют, не то они-то и есть главные герои; комическим образом так до конца ничего и не выяснится.
Дэну Брауну точно не хватило бы безрассудства так испортить готовый сюжет для эффектного триллера. А Сретенский портит, внаглую.
Неизвестно, можно ли назвать систему персонажей такого рода тонкой и двусмысленной, но Дэну Брауну точно не хватило бы безрассудства так испортить готовый сюжет для эффектного триллера. А Сретенский портит, внаглую. Страниц за пятьдесят до конца начинаешь абсолютно точно понимать, что расправиться со всем, что здесь наворочено, за оставшееся время у автора нет ни единого шанса, – и вот это любопытное ощущение: вам мучительно жалко каждую страницу, а он ее транжирит – и ладно бы только ее – еще на одну вставную историю, а возможность объяснить накопившиеся двусмысленности либо демонстративно игнорирует, либо растолковывает что-то вскользь, не вдаваясь в детали. «От/чет» – тот редкий роман, которому не помешало бы обзавестись вторым томом. Поскольку в магазине, во всяком случае, его не предлагают, возникает ощущение, что, с одной стороны, роман безжалостно скомкан, с другой – «порча» явно намеренная. Подразумевается, надо полагать, интенсивное вовлечение читателя в процесс – раз уж на автора надежды мало; перечитывайте, цепляйтесь за намеки (Академик – Бриллинг, например) и недомолвки, сами расшифровывайте и сами сопоставляйте – тогда кое-какие узлы, может быть, начнут развязываться.
Сопоставив имя автора и информацию на первой же странице о том, что Василий Сретенский скончался, можно предположить, что Сретенский – псевдоним. Бинго; редакторы романа сообщили, что так назвался человек с инициалами К. А. С. (открыто было и имя, но раз уж в нем нет ничего сенсационного, то не станем почем зря трепать его), он, как и его герой, вузовский преподаватель, и это первый, кажется, его роман; рукопись пришла самотеком.
Разумеется, издатели прицепили «От/чет» к самому очевидному локомотиву – Брауну. Однако, похоже, несмотря на словосочетания «Тайная вечеря», «законспирированная секта» и даже «агент Ватикана» в тяжелой ротации, примыкает роман скорее не к «Коду да Винчи», а к прошлогоднему «Воскресению в Третьем Риме» В. Микушевича – да и вообще к российскому изводу конспирологического философского романа. Это значит, что центр романа не информационная бомба о роли Иуды, а особенности отечественного фатума, «черновая жизнь», предполагающая возможность «белового» варианта, воскрешения. «Не роман-сенсация, но история про самоубийство из научного интереса, метафизическая головоломка», – следовало бы написать на обложке (и не удивляться потом, что не продано ни единого экземпляра).
К. А. С. – живого или мертвого, профессора или дэна брауна – не стоит переоценивать. Да, он в самом деле не менее литератор, чем историк, но скорее рассказчик историй, чем драматург; он не берется конструировать сцены – но лишь диалоги, перемежаемые документами, и отчеты дневникового характера. Факт, однако, что, взявшись за что-то, делает он это весьма квалифицированно. Этот его историк-эрудит Сретенский – очень славный персонаж: рациональный, непрогнозируемый, остроумный и эрудированный, не просто с собственным компетентным мнением по самым разным вопросам, но с мнением, которое любопытно выслушивать. Самые увлекательные места романа не утки о роли Иуды, а бормотания главного героя просто так, ни о чем. В общем, если прощать романисту финал, после которого хочется завыть от собственного бессилия, – так за персонажа, в чьем обществе приятно находиться сколь угодно долго. Есть основания говорить, что много кому захочется потрясти перед носом у этого «Сретенского» поддужным колокольчиком, да из тех, что позвончее: и раз так, может быть, он все же соизволит написать если не продолжение, то хотя бы расширенную, двухтомную версию своего «От/чета», а?
Акулина Парфенова. Мочалкин блюз
«Амфора», Санкт-Петербург
Акулина Парфенова родилась в 1972 году на Мадагаскаре, «плавала на судах Гринписа, преследующих китобоев-браконьеров», жила в «собственном замке» – все эти сведения с обложки настолько неправдоподобны, что в «Акулине» несомненно диагностируется псевдоним, за которым скрывается некая петербургская матрона, показавшая всем этим «уволена-блин», как делаются настоящие дамские романы. Главная героиня – Аня Янушкевич зарабатывает на жизнь клинингом, уборкой в богатых домах – странное порождение современной городской среды, где социальные слои еще не затвердели окончательно и поэтому проницаемы не только для плутов и растиньяков, но и для безобидных золушек, чьи природные способности шире, чем спектр стандартных ролей, которые общество предлагает им по умолчанию. Хорошие перспективы женить на себе настоящего принца (ну да, задача-максимум все та же) обеспечены не только анатомическими параметрами Ани, но и ее безупречным вкусом, салонным остроумием и университетской образованностью. Она коллекционирует антикварную мебель в стиле «гротеск», абонирует ложу бенуара в Мариинке, успевает разруливать отношения с бывшим мужем и приглядываться к потенциальным любовникам из слесарей в автосервисе. Всякий раз, попадая в новый социальный контекст, героиня выполняет функцию «золотой акции», которая способна облагородить как вульгарные массы, так и снобские элиты. Эта синдерелла так обаятельна, что даже самые омерзительные типы, неизбежные в романах о поисках Принца, попадая в ее орбиту, кажутся вполне приемлемыми.
То же относится и к повествовательной манере романистки. Здесь не так уж редко можно наткнуться на фразу вроде «„порше“ взревел, как бык на корриде, и вскоре мы были у бутика» – но рассказчица явно всего лишь цитирует жанровые клише, почти уже фольклорные речевые формулы, не несущие смысловой нагрузки. Роман туго набит живо изложенными петербургскими сплетнями и небесполезными, надо полагать, советами по домоводству – от того, «как лучше всего отстирывать биологические жидкости», до рецепта, как по нижней губе мужчины определить длину его полового члена.
Парфенова не вычистила авгиевы конюшни – но, по крайней мере, явилась туда с мочалкой.
Рецепт этот подкреплен смешной, пародирующей шерлок-холмсовские дедукции сценой; и, конечно, Акулина Парфенова всего лишь развлекается, городит комическую ерунду. Но конструкция – каждый день недели героиня убирает дом каких-нибудь петербургских эксцентриков – такая прочная, что сгодилась бы не только для городской сказки, но и для «серьезного», ревизующего состояние общества, романа. Во всей этой мадагаскарско-петербургской истории вообще есть один серьезный момент. Чем больше проходит времени с момента публикации, тем понятнее, насколько значителен отрыв «Мочалкиного блюза» от того свинства, что творится в этом жанре. Дамский роман на самом деле не хуже других жанров, но его заляпали своими биологическими жидкостями безмозглые курицы, которым обещают в издательствах, что напечатают все, лишь бы было «гламурно». Разумеется, у Акулины Парфеновой не было возможности разом вычистить эти авгиевы конюшни – но, по крайней мере, она явилась туда с мочалкой; есть надежда, что когда-нибудь сюда заглянет и настоящий геракл с настоящей шваброй.
Юрий Волков. Эдип царь
«Терафим», Москва
Некоторые предпочитают издавать свои романы таким образом, чтобы у читателя не возникало сомнения: автор – графоман, достаточно пронырливый, чтобы отыскать идиота с деньгами, согласившегося размножить его пятимегабайтный файл при помощи полиграфического оборудования. Вялая первая глава – про то, как женщина Зоя в 1959 году едет на трамвае вскапывать свой огород, – подтверждает самые худшие опасения, вызванные фотоколлажем на обложке. И так уже эфемерная связь потенциального приобретателя с полуторакилограммовым брикетом рвется окончательно, когда глаз натыкается на авторитетную здравицу, подписанную иероглифом «Жан-Жак Мари», из которой можно понять только слово «виртуозно», и виртуозно же убористую цифру «379», обозначающую цену в рублях.
Между тем «Эдип царь» – честный, непредсказуемый, мирообразующий роман, на который не жалко многих часов чтения; огород из тех, где, если как следует поработать тяпкой, можно зацепить подлинную античную статую.
Повествование развивается по двум параллельным направлениям, в нерегулярно чередующихся главах. В прикаспийском городке в 1959 году Зоя пытается жить отдельно от мужа Владимира и воспитывать своего 12-летнего сына Витяшу, очень хрупкого физически и психически. В Фивах, по-видимому в античной Греции, появляется Эдип, чьи поступки известны из Софокла (у которого, впрочем, ничего не говорится о том, что Эдип работал грузчиком, а деревни в окрестностях Фив назывались Потьма и Нижняя Тузловка). Зоя – это как бы Иокаста, Владимир – как бы Лай, а Витяша – как бы Эдип; и Жан-Жак Мари не врет про «виртуозно», именно так автор не навязывает свои параллели; ты не сразу понимаешь, что истории – одинаковые, так по-разному они рассказаны. Все ключевые эпизоды мифа – предательство родителей, разгадка загадки Сфинкса, убийство сыном отца, инцест матери с сыном – повторяются и в 1959-м, но не буквально (там переспали и здесь переспали), а проникают сюда через густую сеть подобных и смежных событий, метафорически и метонимически; чаще всего физический аспект переводится в психический.
Это огород из тех, где, если как следует поработать тяпкой, можно зацепить подлинную античную статую.
Вроде бы несложно устроенный – миф повторяется в современности – роман не приедается, прием не надоедает – так разнообразно, непрогнозируемо корреспондируют русская и греческая части. Иногда, для зрелищности, что ли, между двумя реальностями возникают целые коридоры; так, исчезнувшая на Каспии без вести плавбаза «Ашхабад» – попавшая в меандр, есть такая версия – однажды протаранивает корабль Эдипа около Фив; пробирающий, жуткий эпизод (про меандр Витяша начитался у Беляева; у того «меандр» – некая особая волна, разрушающая все в нее попавшее на молекулярном уровне, распыляющая на частицы).
Зоя катается на трамвае, Эдип грузит мешки в порту, Витяша плохо ест – кажется, что автор нарочно заваливает и так слабый сюжетный огонь кучей древесного мусора, избыточных подробностей, но в «Эдипе царе» все время чувствуется тяга; роман, как исправно сложенная печь, обладает системой вентиляции – и не дымит; ни одна из 620 страниц не кажется скучной.
Трудно сказать, зачем, чтобы рассказать историю одной несчастной семьи пятидесятых годов ХХ века, нужно было запараллеливать ее с фиванским мифом (который – если кто-то ожидает от финала некоего внятного разъяснения – не является ключом к этой истории, но лишь поднимает бытовую коллизию до высокой трагедии о неотвратимости). Не исключено, автору такого сочинения есть что обсудить с психоаналитиком; судя по более-менее совпадающим датам рождения Эдипа-Витяши и Юрия Волкова можно предположить, что роман автобиографический – но это, по сути, беспочвенный домысел. Что известно о Ю. Волкове доподлинно – так это круг его профессиональной компетенции, куда входят скульптура, романистика и драматургия. К своему стыду, ваш обозреватель, слишком часто судящий об искусстве в манере читателя из первого абзаца, вынужден признаться, что никогда не видел ни изваяний Ю. Волкова, ни его пьес. Утешает только то, что «Эдип царь» хотя бы отчасти компенсирует это упущение – в нем есть и форма, и вес, и драматическое напряжение.
Николай Еремеев-Высочин. Бог не звонит по мобильному. Афганская бессонница.
«Яуза», «Эксмо», Москва
Серия о русском шпионе, заброшенном в США с Кубы в 1980 году под именем Пако Аррайя, пока что состоит из четырех частей. В первой – «Бог не звонит по мобильному» – Аррайя выполняет задания Конторы в Париже; во второй – «Афганская бессонница» – на войне Талибана с Северным альянсом разыскивает похищенного исламистами российского генерала и одновременно пытается достать гигантский изумруд. В третьем и четвертом романах может зайти речь о югославской войне или о Лондоне – автор все время ссылается на некие тамошние эпизоды, но подробности обещает рассказать в другом месте, – однако это всего лишь предположения, надо ждать публикации. Издательство, правда, приложило максимум усилий, чтобы на эти книги не обратил внимание ни один человек; в этом смысле аннотации – «Том Круз! Удавись от зависти! Отныне твоя миссия невыполнима!» – и будто накачанные гормональными препаратами названия по-прежнему работают идеальным камуфляжем. Скрывать там есть что – и не только напряженные, будто по учебнику писательского мастерства сконструированные интриги, но и хорошие диалоги, далекий от казенного язык и точную образность – такого рода, например, уподобления: «То, что бывшему разведчику Мальцеву дали вид на постоянное жительство, наших насторожило, но прежних рычагов у Конторы уже не было. Во время кораблекрушения никого не волнует, что твой сосед плывет, зажав в руке серебряный подсвечник из ресторана». Кто такой Н. Еремеев-Высочин, в этих прокламациях не сообщается, но – на всякий случай не станем раскрывать источник информации – это псевдоним одного крупного историка разведки, который однажды почувствовал себя достаточно компетентным не только в профильном предмете, но и в беллетристике; неясно, в какой именно степени автор (был) вовлечен непосредственно в шпионский бизнес, но интуиция – главное, судя по его книгам, достоинство резидента – его не обманула.
Проблема с современным отечественным шпионским романом состоит в том, что трудно выбрать такого главного героя, чтобы на лбу у него крупными буквами не было написано «Госзаказ». Да, он должен быть тесно связан со спецслужбами, у него должны быть история, стимулы и мотивации, но при этом хорошо бы, чтобы роман о его приключених не выглядел очередным рекламным роликом кровавого режима – или, выражаясь языком литературных моралистов, «конъюнктурой». Еремеев-Высочин нащупал компромисс: его протагонист действительно кагэбэшник, но внедренный на Запад много лет назад, он рефлекс и наследник русско-советской разведывательной традиции, работающий не на конкретный режим, а на «русских» вообще, на ту сторону мировой Системы, центр которой находится в Москве. Он похож на Штирлица как тип аналитика, но его лояльность к начальству, особенно идеологическая, так далеко не простирается; он всего лишь отрабатывает долг, отчасти по инерции, отчасти потому что авантюрист. Любопытно, что деятельность его вовсе не выглядит бессмысленным мелким вредительством – на поверхности Россия кока-колонизирована, но на самом деле, показывает Еремеев-Высочин, «холодная война» с Западом вовсе не проиграна, 90-е были просто неудачным раундом, в целом основную резидентуру за границей удалось сохранить, и она по-прежнему в состоянии доставить контейнер с радиоактивным веществом на букву «п» любому адресату.
В Париже Аррайя работает как американец, в Афганистане – как русский тележурналист, приехавший брать интервью у Шах Масуда. Оба места кишат шпионами – нашими, чужими, двойными. Оба романа – дневник трех-десяти дней разведчика, с многочисленными, в парижском романе их больше половины, флешбэками. Мы сразу же оказываемся в центре событий – и только в передышке между напряженными моментами автор находит время рассказать, кто он и зачем здесь оказался. У Еремеева-Высочина, разумеется, нет патента на это композиционное изобретение – ну так он (хорошая новость для читателя) и не пытается модернизировать жанр; тем больше времени остается у него на то, чтобы усердно отрабатывать известные тактики в новых условиях.
В «Бог не звонит» обнаруживаются едва ли не все классические ходы и ситуации шпионского нуара – превращение охотника в жертву, быстротечный роман с подозрительной красоткой, городские погони, парики и накладные усы, экспресс-обыски в соседних гостиничных номерах, встречи со связным в музеях, постоянная дикая усталость, месть по личным мотивам, провал – и спасение в последний момент. Парижский роман, где немного собственно экшена, выживает за счет того, что рассказчик совершает своеобразный боксерский челночек: эпизод-«сейчас» – эпизод-флешбэк, вперед – назад, вперед – назад – и перемещается внутри интриги за счет инерционного движения. Второй роман – про афганскую войну (можно не сомневаться, что автор сам был в Афганистане 1999 года) – сделан по-другому, он скорее журналистский репортаж, чем парижский мемуар. Но и здесь мотор повествования – неявно трагическая фигура рассказчика, вечного постороннего в чужих войнах.
Еремеев-высочинские романы гораздо ближе к Грэму Грину, чем к Чингизу Абдуллаеву.
Это хорошо скроенные и крепко простроченные романы, и на них любопытно тратить время – но никто не говорит, что это идеальные романы. Строгий редактор – менее озабоченный указаниями, чем заняться Тому Крузу, – мог бы потребовать от автора переделать кое-какие моменты. Слишком многое – особенно во втором, афганском романе – строится на совпадениях. Когда героя посылают туда не знаю куда найти то не знаю что – и тут же изумруды вместе с похищенными генералами начинают сыпаться на него так, что только горсть успевай подставлять, – запас везучести Пако Аррайя кажется как-то уж слишком неистощимым. Это не смертный грех для такого жанра, если в целом конструкция романа правдоподобна – а она правдоподобна; не исключено, следовало просто утопить отдельные совпадения в более разветвленном сюжете. Такая же проблема есть и в первом романе, когда семья героя летит к нему из Америки чуть ли не неделю, и каждый раз самолет – очень кстати – не попадает в Париж то по одной, то по другой причине. Так может быть в теории или в дурном сне, но очень маловероятно на практике. Можно было бы пропустить этот сюжет – побочный, всего лишь помогающий держать напряжение; но если автор так манипулирует временем, то, значит, может и пространством? А как насчет деталей секретных операций? А правда ли, что специальная комната, опутанная по всему периметру медными проводами и оснащенная разными устройствами, делающими прослушивание невозможным, называется «пузырь»? Природа шпионских романов, как видите, такова, что они заражают нас своей атмосферой быстрее, чем большинство других видов литературы – и вот уже несколько вслух высказанных сомнений начинают напоминать допрос на уровне «В Париж ездил?». На самом деле, еремеев-высочинские книги – это все же романы, а не инсценированная «История российской резидентуры на Западе»; и хотя время, когда нелепые титулы («Еремеев-Высочин – русский Грэм Грин») раздавались направо и налево с хлестаковской легкостью, прошло, мы вынуждены признать: это гораздо ближе к Грэму Грину, чем к Чингизу Абдуллаеву.
Антон Чижъ. Божественный яд
«Амфора», Санкт-Петербург
Из сугроба торчит тело гермафродита с татуировкой-пентаграммой; чокнутый профессор химии Серебряков, создавший рецепт наркотической бурды из отвара мухоморов и коровьей мочи, умирает при загадочных обстоятельствах; Петербург терроризируют две дамы в вуалях, за которыми безрезультатно охотятся три отделения полиции.
Это всего лишь второй случай, когда кто-то переигрывает Акунина по строению интриги.
«Первый роман о Ванзарове» есть хроника нескольких недель перед «кровавым воскресеньем» 9 января 1905 года – и альтернативная подоплека известных событий. Известно, кажется, все – и сами события, и комбинация мистики, уголовщины и политики, и стилистическая галантерейщина («в аккурат», «сумерничал», «светский щеголь», «господин в партикулярном платье», «жандармского корпуса полковник», «манкирование приличиями» – на первой странице), вердикт: не «очередной эпигонский ретродетектив», а «замечательный детектив, и точка», потому что играет автор (кому бы ни принадлежал псевдоним А. Чижъ) на чужой территории выдающимся образом. И это всего лишь второй случай, когда кто-то переигрывает Акунина по строению интриги. Бонусы – удачный герой (чиновник особых поручений Ванзаров ближе к финалу романа признается кому-то, что по молодости писал письмо своему кумиру, московскому сыщику Фандорину, – но на самом деле больше напоминает по психотипу юзефовичевского Путилина), десятки удачных сценок, исключительно динамичный ритм и – остроумие: автору хватило ума самому обыграть явную вторичность своей серии. Подзаголовок дает основания надеяться на продолжение.
Валерий Панюшкин. Михаил Ходорковский: Узник тишины
«Секрет фирмы», Москва
Журналист из «Коммерсанта», лауреат премии «Золотое перо России» Панюшкин написал книжку про «олигархического Нельсона Манделу»: резкую, проникновенную, запальчивую. Он вступил с диффамированным бизнесменом в переписку и забросал его каверзными вопросами. Он наполучал на них обстоятельных ответов. Он зафиксировал на диктофон проклятия адвокатов, всхлипы родных, скулеж коллег и лай журналистов. Он истоптал весь Лондон и исколесил половину Нефтеюганска. Он не вылезал из судов.
Лучшие сцены в книге – репортаж из зала суда: это действительно классная журналистика. Ты собственными глазами видишь, как действует пресловутое «басманное правосудие»; а еще в самом деле сердце кровью обливается, когда читаешь про то, как Ходорковский разговаривает из клетки с женой – жестами: гладит ее по голове, рисует что-то в воздухе.
Книга свидетельствует, что все собаки, которых вешают на Ходорковского, подброшены кремлевскими волками. Что Ходорковский был менеджером от бога. Что он очень много вкладывал в благотворительность и образовательные программы. Что, похоже, он весьма и весьма порядочный человек, белая ворона в олигархическом вольере. Что травлю и шельмование опального нефтепромышленника развернула не просто абстрактная «власть», но за всем этим, скорее всего, стоит сам Путин – во всяком случае именно при его молчаливом попустительстве творится судебный произвол. Что года четыре назад Ходорковский прозрел: поняв, что «еще немного, и страна изменится» и станет «совсем западной», нужно лишь «освободить себя и других от излишнего давления власти», он разработал «амбициозный план реформации страны» – «сильная оппозиция, свободное поколение и независимый бизнес».
Затруднение состоит в том, что покупаешь ты книгу о Ходорковском – а она на 50 процентов состоит из кадров с самим Панюшкиным. Все это очень интересно, но еще интереснее было бы узнать чуть меньше нового о Панюшкине и чуть больше – о Ходорковском. А именно как повел бы себя хозяин ЮКОСа, реализуй он свои цели. Любопытно было бы представить, как складывались бы обстоятельства, если бы группировка Ходорковского оттерла группировку Путина; смоделировать не абстрактно вестернизированную Россию из манифестов Ходорковского, а конкретно «свободную страну», устроенную по юкосовской модели. Любопытно было бы прочитать полноценное жизнеописание Ходорковского, то есть узнать, каким он был до того, как угодил в цеховые структуры – комсомол и бизнес? как складывался его характер в детстве и отрочестве? – но и этого нет. Любопытно было бы узнать про национальный вопрос, про отношение Ходорковского к своему еврейству – но и этого нет. Любопытно было бы узнать, выводил ли Ходорковский деньги за границу на протяжении 90-х – и если да, то в каких количествах, и если нет, то почему. Нет этого. Любопытно было бы сравнить ЮКОС, снизивший, по сообщению Панюшкина, себестоимость добычи нефти с 12 до 1,5 доллара, с другими нефтяными компаниями; но и этого нет. Любопытно было узнать про контакты Ходорковского с левыми – с Прохановым, Рогозиным, с полковником Квачковым, наконец, с которым он оказался в одной камере, но Панюшкин умудряется прошляпить даже этот – довольно перспективный для журналиста – сюжет. По сути, перевернув последнюю страницу, мы знаем о Ходорковском ровно столько же, сколько раньше, зато имеем исчерпывающее представление о жизни Панюшкина. По форме документальное повествование, по сути это сентиментальная проза, вроде «Бедной Лизы», рассказ об оплаканных иллюзиях.
Между тем дельная книга о Ходорковском нужна была – и тут кто угодно, с заранее закатанным рукавом, запишется в кабинет Панюшкина: снабдите нас иммунитетом против путинской пропаганды, льющейся из телевизора. Но вместо того чтобы вколоть вакцины, врач в золотом плюмаже хватает тебя за руку и, словно Елена Соловей в фильме «Раба любви», начинает причитать: «Задумайтесь, люди! Какой ужас! Что вы натворили! Как мы все отвратительны! Какого человека мы потеряли!»
По форме документальное повествование, по сути это сентиментальная проза, вроде «Бедной Лизы», рассказ об оплаканных иллюзиях.
У Панюшкина было целых три варианта. Написать обстоятельную и безоценочную биографию, предоставляющую читателю самому расставлять акценты на основе изложенных фактов. Стачать жесткое журналистское расследование экономической и политической подоплеки деятельности Ходорковского – российским эталоном такого сочинения является книга покойного Пола Хлебникова про Березовского. Наконец – хотя бы, – сдать в печать текст в жанре «Все, что вы хотели знать о Ходорковском, но не знали, у кого спросить», но даже под такое либеральное определение эта «История про то, как человеку в России стать свободным и что ему за это будет» не подпадает. Что значит – «человеку»? Человеку вообще? Или человеку из списка самых богатых людей в мире? Значит ли это, что стать свободным можно, только добывая нефть, финансируя оппозицию и насаждая вестернизацию? Что значит претенциозное название – «Узник тишины»? Это каламбур с Матросской Тишиной? Это та же модель, что «заложник чести» и «узник совести»? Не чересчур ли для человека, рискующего заниматься в России бизнесом и априори знающего, что «тишина» может входить в стоимость путевки? И почему «тишины» – притом что Ходорковский, сидя в тюрьме, рассылал «эксклюзивные» малявы направо и налево.
Панюшкин, безусловно, уникальная фигура в отечественной, а может статься, и мировой журналистике. Вспоминается его знаменитая роль в клипе группы «Алиса» «Трасса Е-95», где спецкор газеты «Коммерсантъ» скакал по буеракам в наряде ангела, безупречно вписываясь в общий антураж произведения. Ходорковский, однако ж, не Кин-чев, да и декорации на Е-95 с тех пор сменились, так что на этот раз, по нашему скромному мнению, Панюшкину следовало бы оставить свой стандартный реквизит – крылья, рубище и коробочку с глицериновыми слезами – дома и выйти на дело в менее эксцентричном образе. Меньше клякс в тексте было бы.
Мастер Чэнь. Любимая мартышка дома Тан
Издательство Ольги Морозовой, Москва
Некто во все лопатки улепетывает по экзотической – благоухает сандаловое дерево, стрекочут цикады, мы явно далеко от родных осин – местности от «жуткого» карлика-убийцы, и мы не сразу понимаем, что, с кем, где и когда происходит. Позже, уже на выдохе, выяснится, что жертва покушения – и рассказчик – это Нанидад Маниах, самаркандский бизнесмен, шпион, врачеватель, литератор и искусный любовник, а попали мы в Китай VIII века, и то, что здесь происходит, называется «заговор против императора» – к такому выводу приходит Нанидад, сам расследующий преступление против себя.
Заканчивается роман гигантским борделем.
«Любимая мартышка» – это любовница китайского императора, а также главного героя. Многоплановая эротическая линия – целые сцены, отрывки из древних трактатов, советы эксперта, отдельные переживания («вспомни следы зубов на правой ягодице прекрасной дочери Зарины» и все такое) – не столько конкурирует или сплетается с шпионской и детективной интригой, сколько служит той воздушной подушкой, на которой неподготовленные читатели проскакивают слишком заковыристые диалоги и слишком специальные бытописательские подробности. Неудивительно, что в финале эротический сюжет полностью подавляет шпионский – заканчивается роман гигантским борделем.
Претензии – или благодарности: если привыкнуть ко всему вышеописанному, роман может показаться захватывающим – следует предъявлять вовсе не абстрактному китайцу, а вполне конкретному лицу: Мастер Чэнь – это скрывшийся под чадрой псевдонима русский востоковед и политолог Д. Косырев, а его «Мартышка» – лишь первый роман о Нанидаде Маниахе. Желающие ознакомиться, что делал Нанидад до встречи с карликом, будут удовлетворены в 2007 году – когда выйдет второй роман: «Любимый ястреб дома Аббасов».
Андрей Остальский. Английские правила
«Время», Москва
«Иностранец в Англии» – слишком комический сюжет, для того чтобы стать хрестоматийным; тем больше возможностей у смельчака, который возьмется все-таки вонзить заступ в этот Клондайк, особенно если иностранец – русский: ничто так не смешит, как наличие у протагониста души – в городе, где подобное считается эксцентрикой, закидоном. Главный герой, молодой лондонский клерк Сашок, избежавший участи прозябать в Москве, счастливо, по любви, женат; он извлекает из своего брака и более существенные дивиденды: у жены небедствующие родители, собственная усадебка, но главное – она англичанка; по обычаю своей новой родни он жалуется – что за ужас «жить примаком в английской семье», но в глубине души знает, что вытянул счастливый билет. Очень скоро, однако, он узнает, что быть русским – это фатум; несчастное существо начинает попадать в переделки настолько нелепые, что даже и в России – не то что на благословенном острове – от такой катавасии у кого угодно голова пойдет кругом. Сначала что-то странное творится с его портфелем; затем свежеиспеченный обладатель британского паспорта попадает в историю с каким-то отечественным отребьем; потом изменяет жене, шляется по злачным кварталам, оказывается владельцем той самой фирмы, где раньше обретался паршивым елистратишкой… Пожалуй, тутти-фрутти о незадачливом менеджере – первое сочинение в жанре, который можно квалифицировать как «иронический детектив для мужчин»; также можно предположить, что оно надолго еще останется не только эталонным произведением, но и единственным в своем роде: ничего более странного – по интонации – не было написано ни на русском, ни на английском языке никогда; британская ирония и есенинщина – субстанции принципиально разной плотности. Водевиль (или там все-таки не поют? не может быть, должны, по идее), нещадно эксплуатирующий межэтнические культурные различия, сочинил трезвомыслящий журналист британского Гостелерадио Андрей Остальский. Обычно в таких случаях говорят: ну после такого романа все про этих англичан понятно; Остальский умудрился добиться ровно противоположного эффекта – про англичан, которые терпят у себя ТАКИХ русских, непонятно ровным счетом ничего.
Тутти-фрутти о незадачливом менеджере – первое сочинение в жанре, который можно квалифицировать как «иронический детектив для мужчин».
Елена Токарева. Лохness. Роман с чудовищем
«Яуза», «Эксмо», Москва
Елисей Елисеев и Кассандра Забияки (он автор бестселлера «Зеленый горошек» о бездуховности своего поколения, она – «Рублевки на каждый день») на низком старте: обоим пора приступать ко вторым романам. Ушлые издатели-манипуляторы придумывают им темы. «Бабу с Рублевки» они посылают устраиваться ассенизатором на дачи в Серебряном Бору, а «легенду русского антигламура» укладывают в психиатрическую клинику для толстосумов, чтобы тот создал «Дневник несуществующего человека». «Вождь нового поколения» нерешительный тюфяк, эксперт по стилю Кассандра похожа на украинскую домработницу… «Лохness» – злая, лязгающая зубами, едкая сатира на интеллектуальный попс – начинается необыкновенно лихо, рвется прямо-таки с поводка; точные, хлесткие, забористые фразы-афоризмы сыплются как горох. В карнавальный сюжет вплетаются сюжетные реминисценции из книг Минаева и Робски – опять остроумно; если вы читали все их четыре романа, будете узнавать с удовольствием.
Однако после ударной первой трети порох отсыревает, и злая пародия анилиновыми красками превращается в акварельку с дружеским шаржем: вместо того чтобы сожрать друг друга, Барби и Кен новой русской литературы оборачиваются нормальными, славными людьми – хорошо для прототипов, плохо для читателя. Ощущение такое, будто, сочиняя свой «Лохness», автор – у которого клыков было как у акулы – каждый день таскался к стоматологу, где планомерно избавлялся от одного зуба за другим, так что под конец остался с голыми слюнявыми деснами; обескураживающее зрелище. Ближе к финалу роман об оборотной стороне русского гламура выливается в дарья-донцовский иронический детективчик – иными словами, разваливается напрочь и годится разве что на сценарий для капустника. Номера пристегнуты друг к другу совсем уж нелепыми карабинами, про половину открытых сюжетов – забыто. В общем, романом этот сшитый на живую нитку набор шуток, наблюдений, парадоксов и диалогов можно назвать довольно условно; но отдельные реплики, наблюдения и сюжетные ходы встречаются замечательные, и так до самого конца – так что настоящей ненависти к автору все же не испытываешь.
«Лохness» – злая, лязгающая зубами, едкая сатира на интеллектуальный попс.
Жаль, что жизнь редко подражает искусству: тогда бы, как в «Лохness’е», издатели посулили Елене Токаревой – журналистке Stringer и автору книги «Кто подставил Ходорковского» – значительный куш; тогда – если бы она потратила на роман вроде этого чуть больше времени – у нее получился бы сатирический текст, который можно было бы демонстрировать здесь, в России, где проще найти Гоголя, чем Кристофера Бакли, как эталон жанра; злости и остроумия ей, похоже, хватило бы.
Я. М. Сенькин. Фердинанд, или Новый Радищев
«Новое литературное обозрение», Москва
Повествователь – некий языкастый, как Свифт, и глазастый, как Радищев, доктор исторических наук – катит на автомобиле из Петербурга к себе на дачу, в деревню Большое Кивалово Псковской области. В первой главе мы застаем его в Лудонях, «где и начинается настоящая Псковская земля». «Нас ждет, – предуведомляет он свой поэтический репортаж, – плохая, и даже отвратительная, дорога, через пять километров снизится до крошечной точки роуминг и, кажется, навсегда замолкнет мобильный телефон (радио уже давным-давно шипит, как сковорода), но при этом на душе царили полное спокойствие и безмятежность». Поначалу, представляя тот или иной населенный пункт, рассказчик как будто шпарит наизусть информацию из серьезного путеводителя – «в этой деревне жил в XIX веке простой псковский крестьянин Ефим Петров», но затем, не меняя передачи, съезжает в откровенную брехню вроде того, что «некоторые предполагают, что Петров выращивал киви-растения», а уж дальше его выносит совсем бог весть куда, и он договаривается до быличек про «боевых енотов», «киндер-каннибалов», овец-трансформеров и «восьминогов»-убийц. Угодив в некую деревню с необычными для здешних мест заборами, он тут же припоминает: «Эти ограды из нержавеющей голландской сетки имеют свою историю. Дело в том, что Конный завод № 18 долгие годы являлся лишь прикрытием. На самом деле в советское время здесь наладили секретное выведение особого вида лошадей, случайно появившихся после испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в 1940-1950-е годы. В результате мутаций всем известной дикой лошади Пржевальского появились существа, похожие на коньков-горбунков из сказки Ершова. Они могли летать со скоростью около 100 км в час на высоте 1000 м (а со специальным кислородным аппаратом – до 5 км!) и переносить на десятки километров грузы весом до 40 кг».
Что значит эта затянувшаяся на 140 страниц комическая небылица? Поскольку за вуалью псевдонима различимо скорее пенсне профессионального историка, чем монокль фантазера-сочинителя, можно предположить, что «Фердинанд» – пародия не столько на магический реализм, сколько на дошедшую до России с опозданием научную моду: увлечение историей «повседневной жизни», «антропологически ориентированной локальной историей», «провинцией как микрокосмом». Собственно, бегущий из столицы на край света псевдоромантический вояжер Сенькина, критически настроенный по отношению к окружающим соотечественникам, разочарован не столько в «жизни», сколько в «историческом метанарративе», чересчур общем то есть подходе к материалу, в способе писать историю «сверху», излагая события внутри страны как результат действий властей. Получается, однако, комедия – потому что Россия слишком не Англия: памятников – раз-два и обчелся, письменных источников кот наплакал, устные – недостоверны, носители фольклорного сознания, пребывающие в постоянном алкогольном галлюцинозе, – мастера отливать пули. Да и «повседневная жизнь», по существу, в течение многих веков не меняется: все тот же алкоголизм, воровство и бездорожье; так что затея писать в России «микроисторию» неизбежно оборачивается брехней – которую, справедливо рассудил Сенькин, плодотворнее будет довести совсем до абсурда, до боевых енотов и киндер-каннибалов.
Удивительный маршрут Лудони – Большое Кивалово, начинающийся «посреди нигде», да там же и заканчивающийся, путь из ниоткуда, по сути, в никуда, – уже говорит о том, что травелог посвящен не столько Псковской области, сколько России; так оно и оказывается. Место травелогов и исследований по «микроистории» в России занимают «поэмы» о странствиях в поисках души, о парадоксальном существовании, «инобытии», принимающем самые курьезные формы, отвратительном и драгоценном одновременно, – как «Мертвые души», как «Кому на Руси», как «Москва – Петушки»; Сенькину при всей его желчности остается только присоединиться к этому канону – потому что ломать его бессмысленно.
«Фердинанд» есть в самом деле поэма: стилистически монолитная, искусственно состаренная, с эффектом лингвистической винтажности; благодаря фантазии автора увлекательная, остроумно-злободневная и местами смешная – если только шутить всю дорогу не порок и если вас не будет раздражать демонстративно профессорская ирония Сенькина.
За вуалью псевдонима различимо скорее пенсне профессионального историка, чем монокль фантазера-сочинителя.
Все вышеназванные русские дорожные поэмы непременно пробуждают в читателе ощущение возвышенного удовлетворения и просветления. Сенькинский труд при первом знакомстве так же непременно доставляет исключительно страдание – дыбой и кнутом вам напоминают, сколь чудовищна страна, в которой вы живете. Но лишь при первом: бесплодная псковская земля – обильно унавоженная сенькинским интеллектом, эрудицией историка и опытом путешественника, по плотности мифологических существ на квадратный километр не уступающая уже Пелопоннесу, – на глазах преображается в экзотическую оранжерею. Разумеется, это издевательство, насилие и намеренное искажение исторической правды; но когда никакой правды, по сути, не зафиксировано, когда объект катастрофически беден историческим прошлым – «здесь произошла встреча Пушкина и Кюхельбекера», ну да, – почему бы не окультурить территорию посредством заведомо недостоверных приписок, мистификаций и ссылок на ложные источники? Фантазия – тоже инвестиция, и, перемешиваясь с почвой, она приносит осязаемые плоды; плотно накачанная абсурдом сенькинская Псковская область выглядит очень интригующе. Иногда, когда историку остается только развести руками от своего бессилия, он вспоминает, что жизнь в камень можно вдохнуть и по-другому, авансом; что литература – род магии; что лучше соврать, чем погрузиться в чужую историю, сославшись на бедность своей; в конце концов, главное – ввязаться, а там посмотрим.
Лев Тимофеев. Негатив. Портрет художника в траурной рамке
«КоЛибри», Москва
Закутаров – руководитель АПРОПО, Агентства продуктивной политики; в свое время это он вывел на авансцену нынешнего президента, но теперь сам собирается уйти за кулисы – не вовремя: шефу надо делать третий срок. В романе сфотографирован, с большой выдержкой, один день из жизни политтехнолога; но с первой же главы рассказчик, подманивший нас злободневным материалом, вместо того чтоб докладывать о сегодняшней деятельности Закутарова, начинает травить «предысторию» – которую знает прекрасно, явно не понаслышке: про диссидентов 70-80-х, певцов конвергенции, наводивших мосты между властью и интеллигенцией; как затем они сами сделались властью и принялись обслуживать ее, а теперь вот-вот станут ее жертвами – вон власть уже лезет в лабораторию артиста; безусловно, кого-то заинтересует и эта коллизия – мы живем в мире, где под влиянием товарного разнообразия потребители развивают самые экстравагантные вкусы.
Совпадения с романом «Политолог» нетривиальные; и можно сколько угодно держать Проханова за трэш, а Тимофеева выдвигать на премию «Букер», но бог тоже, знаете, не Тимошка – видит немножко.
Составитель путеводителя – исключительно в силу презумпции невиновности – далек от того, чтобы предположить, что автор «Негатива» позаимствовал у А. Проханова общий строй своего произведения: тему (Художник и Власть), героя (политтехнолог с диссидентским прошлым) и ключ к его образу (антониониевский фильм «Blowup»), – но совпадения с романом «Политолог», сами судите, нетривиальные; и можно сколько угодно держать Проханова за трэш, а Тимофеева выдвигать на премию «Букер», но бог тоже, знаете, не Тимошка – видит немножко.
Любые случайные сближения, однако, были бы простительны, если бы автор знал тему и квалифицированно раскрыл ее, пусть даже и припоздав на год. Но ведь не знает он (единственный раз, когда Тимофеев пересказывает гениальную якобы пиар-операцию своего героя, становится совсем уж неловко: и это все?) и даже выдумать не в состоянии. Совершив банальнейшую обводочку, ударяется в плоский психологизм (драматические отношения между автором и героем угадываются), рассуждения об эстетике политики (Закутаров – автор теории о политике-артисте, разработанной им после прочтения «Защиты Лужина») и курьезные, не сказать пошлые, бытовые подробности (связи героя с «телками из политической или бизнес-тусовки» и увлечение фотографией в жанре ню – о боже). «Высокая гармония возникает тогда, когда все частности жизни собираются воедино в единственно возможном, „правильном“ порядке… Но разве большая гармония времени, эпохи, истории не подчиняется тем же законам, что гармония маленького набоковского романа?.. Найти гармонию времени – значит создать грандиозную симфонию… Работа эта только тому под силу, кто почувствует и познает (или угадает) законы гармонии (сольфеджио истории – не слабо!)». Ой как не слабо; мало того что вместо мяса – сольфеджио, так еще свои трюизмы Л. Тимофеев имеет обыкновение облекать в такую торжественно-фанфарную форму, будто собирается с колокольни возвестить о невесть каких важных откровениях.
Возвестить, однако, нечего, заявленного материала автор – не знает, в траурную рамку – не хочется, а хочется – быть злободневным романистом. Так одному пелевинскому герою хотелось написать актуальное стихотворение.
Каков был вердикт? «В Бобринец, тварино!»
Дмитрий Лекух. Мы к вам приедем…
«Ad Marginem», Москва
Данила – сын обеспеченных родителей, студент журфака, стритрейсер и фанат «Спартака», уже постоявший год в фестлайне и теперь собирающийся «пробить золотой выезд». Это значит, что на протяжении целого сезона ты должен скататься на все выездные матчи своей команды – хоть в Лондон, хоть в Махачкалу; дорого и опасно, зато хороший композиционный каркас для романа о молодом человеке, разбирающемся с тем, как устроены страна и мир, – и восполняющем, как водится, дефицит духовности. Роман состоит из алкогольных бесед, отчетов о путешествиях, пацанских шуток (много пива, мочи, кокаина и крови) и, главное, историй о случаях рукоприкладства. Старшие наставники Данилы – хулиганы-бизнесмены Али и Гарри – дают понять ему, что до насилия тоже нужно дорасти, как до классической музыки или вкуса тонких вин. Склонность к насилию – признак пассионарности; народы, отказывающиеся от агресссии, вырождаются. Фанаты-траблмейкеры несут «бремя белых», обеспечивая должный уровень пассионарности не просто в своем клубе, но и в нации целиком – потому что страну свою воспринимают как любимый клуб, а не как условную (общественную) единицу. После всего этого соловья футбольной субкультуры Лекуха трудно было не назвать «русским Дуги Бримсоном» – но ярлык неточный: у Бримсона «кэшлс» – эксцентрики, канализирующие через насилие свою дурную энергию. Для лекуховских русских – наоборот: осуществлять насилие – способ копить энергию.
На протяжении романа Данила учится пить это тонкое вино, становится гурманом насилия и приходит к воодушевляющим его самого выводам: «Выходит… мы – фанаты, „кэшлс“, „хардкор“, проклятые фашиствующие ублюдки и подонки со дна „современного цивилизованного общества“ – со всей нашей агрессией и прочей лабудой – вовсе и никакие не маргиналы, так? А совсем даже и наоборот?»
Лекуховский спартаковский хулиган – не менее адекватная версия «героя нашего времени», чем прилепинский нацбол, минаевский менеджер-духлесс и пелевинский вампир.
Роман оформлен как методичка для спартаковских боевиков, и зря: неправильно загонять этот текст в резервацию для внутреннего потребления. Во-первых, футбол – скорее повод, чем причина высказывания, во-вторых, это любопытный посторонним литературный артефакт. Конечно, никто не ждет, чтобы книга о спартаковских хулиганах выглядела как проза Михаила Шишкина или Алана Черчесова; но «Мы к вам приедем…» – такая же адекватная версия «героя нашего времени», как прилепинский нацбол, минаевский менеджер-духлесс и пелевинский вампир. Чисто языковые достоинства этой прозы невелики (скорее она лишена очевидных недостатков), но она, несомненно, обладает индивидуальным стилем, энергией, упругостью, мускулами; и, если устроить Лекуху дерби внутри даже и «Ad Marginem», у него хороший шанс перекричать какую-нибудь другую трибуну.
Роман сильно проигрывает от того, что из него не вырезали одну, а то даже и две выбивающиеся из «золотовыездного» сюжета линии: про журналистскую деятельность героя и, пожалуй, про отношения с лондонской девушкой Лидой. Неясно, зачем было располовинивать старшего героя на Али и Гарри – все равно они так до конца и путаются.
Жалко, наконец, что автор не дотянул своего героя до последнего матча «золотого выезда» и вышиб его слишком рано.
Для читателя небезынтересно будет узнать, что Лекух и Данила – далеко не одно и то же. Этот русский Бримсон вдвое старше своего недоросля; таким образом, мнимая исповедь юноши – на самом деле беллетризованный учебник жизни. И не обязательно ненавидеть «Зенит», прятать подбородок в красно-белом шарфе и верить в то, что «там, где мы, всегда праздник», чтобы найти там несколько полезных параграфов.
Виталий Данилин. Двадцатая рапсодия Листа
«Книжный клуб 36.6», Москва
Трудно понять, на что рассчитывают люди, решившие в 2006 году запускать под псевдонимом новую серию ретродетективов, – либо они упиваются собственной третьеразрядностью, либо склонны участвовать только в стопроцентно защищенном от рисков бизнесе; здесь скорее второй случай.
Завязка: 1888 год, Казанская губерния, Кокушкино, 18-летний Ульянов, исключенный из университета и живущий под негласным полицейским надзором, обнаруживает мертвеца, вмерзшего в речной лед; затем из проруби под ним достают второго – а молодой человек оказывается шерлок-холмсом, каких поискать.
Понятно, что пороховой заряд серии – факт, что сыщик – Ленин; Ленин, у которого есть все задатки, чтобы стать не революционером, а начальником уголовной полиции; однако на самом деле это роман из тех, что держатся на фигуре рассказчика – и на его «дискурсе», раз уж после «Empire V» можно употреблять это слово без ограничений.
«В нынешней должности оказался я благодаря покойной супруге, Дарье Лукиничне: она после свадьбы настояла на том, чтобы мы поселились поблизости от ее родителей. Как раз тогда покойный хозяин искал нестарого человека на должность управляющего. Чем-то я ему показался, так что он даже рекомендательные письма, коими я предусмотрительно обзавелся, посмотрел лишь вприглядку. Может, и хорошо: ну что за рекомендации, прости господи, мог представить надворному советнику Александру Дмитриевичу Бланку отставной подпоручик артиллерии, за пятнадцать лет службы едва прошедший два чина и не отличившийся особо ничем ни на военном, ни на цивильном поприщах!»
По-видимому, незначительное седативное или даже нарколептическое воздействие этой речевой практики на читателя – эффект запланированный, так что не станем на нем долго останавливаться. Как бы то ни было, Николай Афанасьевич не только говорит (как видите), но и ведет себя в соответствии с известным литературным каноном – так, он все время перечитывает «Севастопольские рассказы» Толстого, и скорее не потому, что он ветеран Севастопольской кампании, как здесь сказано, а потому, что его настоящий прототип, дворецкий в «Лунном камне», так же перечитывал «Робинзона Крузо». Всю эту анфиладу сюжетно-стилистических конструкций – что от кого через какой код – можно разглядывать до бесконечности, но деятельность эта пустая. Получился у В. Бабенко и Д. Клугера крепкий детектив – а он получился, – так и нет смысла ни упрекать их в том, что они не первые, ни раскапывать, у кого что они подрезали; интрига и язык снимают все вопросы.
По-видимому, незначительное седативное или даже нарколептическое воздействие этой речевой практики на читателя – эффект запланированный.
РАЗДЕЛ III «Гвардия»
Ольга Славникова. 2017
«Вагриус», Москва
Безымянный четырехмиллионник расположен посреди Рифейских гор, на железнодорожной ветке между Челябинском и Пермью, так что не надо быть опытным шифровальщиком, чтобы догадаться, что речь идет о Екатеринбурге – даже если и в середине десятых годов ХХI века, когда происходят романные события, все называют Урал – Рифеем, а город – просто Городом.
Главный герой Крылов, резчик по камню, провожая на вокзале своего партнера по самоцветному бизнесу профессора геологии Анфилогова в экспедицию за рубинами, знакомится со странной женщиной Таней, которая скоро становится его любовницей. Почему-то их отношения строятся согласно особому конспиративному кодексу – они не говорят друг другу, кто они, не обмениваются телефонами и условливаются о следующей встрече, назначая место по атласу. Через несколько месяцев в городе начинаются политические беспорядки, и Крылов с Таней теряют друг друга. Учитывая многочисленные отсылки к Бажову, которыми усеян роман, мы понимаем, что история отношений Крылова с его странной любовницей проецируется на историю про Данилу-мастера и Хозяйку Медной горы. Бажов – всего лишь один из важных контекстов романа. Есть еще и корпус антиутопий – от Оруэлла (что отражено в названии) до популярных футурологических романов-катастроф 2005 года, от быковского «Эвакуатора» до доренковского «2008». По версии Славниковой, в 2017-м произойдет нечто вроде исторического «глюка». Пресловутая «стабильность» рухнет совсем уж по формальному поводу – на костюмированном отмечании годовщины полуотмененной даты. «Причина, – догадывается Крылов, – ровно та же, что у Великой Октябрьской социалистической революции… Верхи не могут, низы не хотят. Только у нас, в нашем времени, нет оформленных сил, которые могли бы выразить собой эту ситуацию. Поэтому будут использоваться формы столетней давности – как самые адекватные. Пусть они даже ненастоящие, фальшивые. Но у истории на них рефлекс существует. Конфликт сам опознает ряженых как участников конфликта. Конфликт все время существует, еще с девяностых. Но пока нет этих тряпок – революционных шинелей, галифе, кожанов, конфликту не в чем выйти в люди. Он спит. А сейчас, в связи со столетним юбилеем, тряпок появится сколько угодно. Так что веселые нас ожидают праздники…»
И веселый роман: экспедиции за рубинами на отравленную цианидами уральскую речку; призраки из бажовских сказов на улицах Екатеринбурга; дизайнерская фабрика смерти, глухая революция.
Все это сюжетное изобилие утопает в великолепной славниковской (похоже, еще пара «Букеров», и эпитет «славниковский» станет официальным синонимом слов «набоковский», «флоберовский») метафорике: «Если мир рифейца был подобен миру насекомого, то теперь Крылов постигал науку насекомых прикидываться мертвыми. Не реагируя на удары в гудящую дверь (древний хозяйский звонок, некода щелкавший соловьем, но теперь способный издавать только стариковское причмокивание, был предусмотрительно отключен), Крылов действительно впадал в омертвелость и лежал негнущийся, как мумия, скалясь на пыльную люстру. Состояние соединяло острейшее, ультразвуковое чувство опасности и глубочайшее к ней равнодушие. Между тем за окнами скользил удивительно мерный рождественский снег, и небольшая, похожая на елочное украшение летающая тарелка иногда зависала над балконом, выжигая на старухином халате рыжие крошащиеся пятна».
Для самой Славниковой «2017» – несомненная революция. Если раньше, рифейская углекислая фея, она была озабочена исключительно стилем и пропорциональностью конструкции – вовсе забывая о том, что называется вульгарным словом «читабельность» («Стрекозу, увеличенную до размеров собаки», «Одного в зеркале», «Бессмертного» можно было читать с любой страницы – и на ней же и закрывать, пусть даже и в упоении), то в «2017», сохранив все свои привычки, она добилась того, что подзаголовком романа может служить слово «триллер»; интересно даже не то, чем все это кончится, – а что будет на следующей странице. Ощущение такое, будто Славникова заложила свою квартиру, чтобы купить эту историю в каком-то иностранном агентстве, поставляющем беллетристам суперсюжеты. Какая замечательная авантюрная линия с «хитниками» – незаконными, без лицензии, добытчиками самоцветов. Какая прекрасная сцена, когда главный герой по фрагменту видеозаписи, напрягая слух и воображение, восстанавливает важную информацию об адресе той, кого ему довелось полюбить. Какой удивительный апокалипсис – когда одновременно с выбросом социальной ненависти скрытый подземный вулкан выталкивает на поверхность земли хтонических фольклорных существ: Каменную Девку; гигантского «палеонтологического призрака» – четырехметрового Оленя; Златовласку, дочь Великого Полоза; ящерок и другие паранормальные явления.
В роман, по меткому выражению рецензентов, «понапихана уйма всего», и понятно, что вся эта «уйма всего» что-нибудь да значит и как-то же мотивирована. Вот в этом и попробуем разобраться.
Изображая мир будущего, Славникова намеренно ограничивает свою фантазию. Игрушки-голограммы, видеофония в мобильном, вот и все, пожалуй; проблема-2017 как раз в том, что в общем все будет то же самое, только копий станет еще больше, а оригиналов – еще меньше. Мир будущего – неподлинный («конкурсы красоты без самой красоты») и отравленный: отравленный деньгами город, отравленная цианидами природа, отравленная изменами любовь. Супермаркеты с яркими товарами, цианидовая осень, свободный секс без ограничений. Более абстрактно: «странное исчезновение времени» – не то жизнь, не то всеобщая смерть, не то наступившее бессмертие; «красота, растворенная в воздухе», «отсылала в вечность». Количество подлинного все уменьшается – равно как и количество людей, элит, им обладающих. И наоборот, количество неподлинного – и масс, которым оно достается, – все увеличивается. Элиты манипулируют не просто массами, а количеством подлинного в мире, распределяя его в свою пользу. Цель элит – с помощью бутафорий отвлечь массы от подлинного и не дать разразиться потенциальному конфликту между собой и массами. В какой-то момент, однако, когда театрализация зашкаливает, включаются некие архаичные механизмы: отравленные, искаженные несправедливым распределением подлинности миры реагируют, выбрасывая на поверхность бурную любовь, революцию, хтонических духов, невиданной величины самоцветы. Наступает «время». То, что элиты-манипуляторы, иронические позитивисты, пытаются эстетизировать, закатать в дизайн и, по сути, представить как фантомное, – оказывается супернастоящим: кровь, смерть, любовь, время, призраки, тестостерон рифейцев.
Крылов, более всего ценящий в камне «прозрачность», а в жизни честность и подлинность, – чуткий медиум, галлюцинант. Он остро переживает неподлинность и отравленность мира, он сам от нее пострадал (однажды ему изменила жена Тамара). Крылов, однако, не пытается манипулировать количеством подлинности в свою пользу, он честен – и это безусловное (и такое рифейское) достоинство. В результате именно ему достается великая, подлинная любовь, во всяком случае, на него кладет глаз, его завораживает хтоническая богиня – Каменная Девка.
С другой стороны, есть персонажи – носители позитивистского сознания, которые присваивают себе оригиналы и продают невежественным массам копии, – и вот этим здесь приходится плохо. По-видимому, все они (элиты) будут снесены революцией 2017 года; всеобщая катастрофа, впрочем, останется за кадром – зато у нас есть возможность проследить за несколькими такими героями.
Разумный профессор Анфилогов тоже перераспределяет подлинность (самоцветы) в свою пользу: все его помощники получают небольшие отчисления, а он сказочно богат. Но однажды ошибается и профессор: женившись, сам того не зная, на Каменной Девке, он сам становится жертвой, ненужной копией.
Разумная Тамара, жена Крылова, презирает и ненавидит социальную массу, утверждает, что «глобальному пассиву» только и нужно, чтобы их обманывали, раз у них «ненастоящая жизнь», то им нужен праздник. И вот она устраивает из смерти театр, продает дизайнерскую смерть – намереваясь устроить из смерти театр, а в результате сама получает прозвище Госпожа Смерть. И Анфилогов, и Тамара надеются, что камни/деньги гарантируют, что их жизнь будет подлинной, и присваивают эти гаранты любой ценой. Им и мстит Каменная Девка. Одного заманивает к себе в мужья и убивает физически, у другой отнимает мужа и убивает в социальном плане.
Итак, глобализованный мир заигрывает с Природой (природой вещей, божественной справедливостью, растворенной в мире)? Ну так та ответит явлением Каменной Девки, которая, сыграв с носителями позитивистского мышления ряд дурных шуток, обеспечит реванш Подлинного.
Правда о «2017» мало кому интересна, она похоронена под букеровской печатью, но если сковырнуть ее, окажется, что, в сущности, Славниковой особенно нечего сказать.
«2017» – замечательный, о мучительной, с изменами и прощениями, любви роман. Он пропитан сексом – и, помимо описаний встреч Крылова с Таней и Тамарой, это проявляется самым неожиданным образом. Например, Тамара дарит Крылову, своему бывшему мужу, редкую – коллекционную – 600-долларовую купюру: ее стоимость будет расти быстрее, чем многие ценные бумаги. Любопытно, что на с. 216 купюра названа «шершаво-девственной» и сказано, что изображен на ней портрет Памелы Армстронг, женщины-президента, погибшей во время взрыва в Бейруте. А вот дальше, когда речь заходит об этой купюре, Памела оказывается уже не Армстронг, а Андерсон, причем не раз, а сразу два – на с. 316 и на с. 473. В конце концов Крылов запихивает ее в книжку Дюма и забывает о ней – как и сама Славникова, похоже. С одной стороны, купюра так и остается девственной, неразмененной в сюжете, с другой, это превращение образцовой президентши (на с. 216 изложена ее история) в порнозвезду откладывается в памяти внимательного читателя; этот предмет – концентрированное воплощение денег, девственности, секса и власти, намек на нечто обладающее еще и символической, коллекционной стоимостью, нечто большее, чем деньги, – источает соблазн. Эротизм романа – многомерный и всепроникающий, как радиация: и даже тема «малахитовой шкатулки» здесь не только отсылает к Бажову, но и реализуется как скрытая метафора вагины Каменной Девки. Этот эротизм, чувственность, женственность «2017» – одно из самых привлекательных свойств романа. Славникова оказывается лучше там, где забывает и ошибается, чем там, где расчитывает и запоминает.
Что озадачивает в романе, так это навязчивое желание автора, как огня боящегося угодить в гетто к «женским писательницам», форсировать свою любовную коллизию не только за счет «низких жанров» («Хочу вернуть прозе территорию, захваченную трэшем, помня, что это исконная земля Мелвилла и Шекспира», – топнула Славникова каблуком в одном из интервью), но и за счет жанра романа идей – то есть вторгнуться, по существу, на исконную территорию Толстого и Кантора. Оказывается, эти амбиции не так уж легко осуществимы: из того, что Славникова обозначает в своем романе разрядкой слова «прозрачность», «подлинность», «форма», «оригинал», «не быть», те не становятся философскими категориями, потому что никакая философская система из них не выстраивается; и даже когда знаменитая метафористка пробует перо в отчетливо небеллетристическом дискурсе («Образовалась некая новая культура, обладавшая внутренним единством, – культура копии при отсутствии подлинника…» и т. п.) – получается не более чем набор трюизмов. Почему, собственно, подавленный конфликт реагирует именно на нечто театральное, ряженое? Непонятно. Почему инфильтрация цианидов в грунтовые воды и заражение местности непременно ведет к образованию корундовых жил? Непонятно. Почему избыток неподлинного ведет к выбросу сверхподлинного? Значит ли это, что торжество симулякров мнимое и любая копия имеет тенденцию самоуничтожиться, чтобы вернуться к оригиналу? Что значит фраза «подлинник – врет» и тот факт, что чуткий ценитель подлинности Крылов игнорирует революцию, хотя революция – явно подлинник по отношению к фальшивому спокойному дореволюционному миру? Значит ли это, что подлинность бывает разной степени? Непонятно: и это те сбои, которые не позволяют назвать набор соображений философской системой. Реализовывать на авантюрном сюжете, локальном материале и шаблонном фантастическом допущении расхожие «культурологические» теории – про грядущее торжество симулякров – не значит написать роман с «идеями».
Замечательно, что роман Славниковой напитан местной спецификой, региональным патриотизмом, любовью к неидеальному, но такому родному для автора городу (странные екатеринбургские задворки – улочки, трущобы, площади, гостинички), к упрямому, но такому привлекательному рифейскому характеру. Если «подлинное» в принципе обладает в романе самыми позитивными коннотациями, то термин «рифейское» обозначает здесь едва ли не высшую степень «подлинности»: все рифейское очень хорошо. Славникова так настойчиво педалирует эту тему потому, что хочет сделать важное заявление: «локальное» может оказать «глобальному», если то обнаглеет окончательно, эффективное сопротивление.
Нехитрая идея, по сути; Колобок побеждает Глобо, в пепперштейновских терминах. Удивительно, какая разветвленная система коллизий выстроена, чтобы обеспечить достоверностью эту пословичную, по сути (кто к нам с мечом придет и т. п.), простоту. Значит ли это, что в романе ощущается несоответствие затраченных средств цели? Нет, дело не в том, что славниковский роман нуждается в оптимизации – просто лучше ему не встречаться с бритвой Оккама, ну или, по крайней мере, Славниковой не стоит критиковать чужие романы с идеями.
Правда о «2017» мало кому интересна, она похоронена под букеровской печатью, но если сковырнуть ее, окажется вот что. В сущности, Славниковой особенно нечего сказать. Впрочем, вряд ли кто-то станет спорить, что Славникова умеет упаковывать свои трюизмы – а бывает, и благоглупости – в точные метафоры. С наскоку роман кажется фантастической, колоссальной удачей – однако только если не начать вглядываться в эту его «абсолютную прозрачность».
«2017» – продукт литтехнолога в той же степени, что и писателя. Славникова попыталась синтезировать идеальный роман своего времени: в меру романтический, в меру революционный, в меру эсхатологический, в меру провинциальный, в меру фантастический, в меру сатирический, в меру эротический, в меру философский. Получилось? Мы не станем отвечать на вопрос прямо, а лишь еще раз подчеркнем, что этой писательнице не идет быть бухгалтершей. Что же касается соотношения «стиль – сюжет – композиция», то по этому параметру Славникова убирает подавляющее большинство конкурирующих фирм – которых, кстати, не так уж мало в русской литературе. Однако правда ли, что в идеале современная русская литература должна выглядеть как роман «2017»? Ни в коем случае.
Павел Пепперштейн. Военные рассказы. Свастика и Пентагон.
«Ad Marginem», Москва
Вспоминая Павла Пепперштейна, автора «Мифогенной любви каст», самые разные наблюдатели употребляют слово «гений» даже чаще, чем «псилобициновые грибы», «возможный прототип пелевинского Петра Пустоты» и «Медгерменевтика». Часто – с оговорками: вундеркинд, так всю жизнь и проигравший в бирюльки, гений, в сорок лет остающийся инфантильным. Однако последние пепперштейновские литературные работы доказывают, что все эти «оговорки» стоят недорого.
По «Военным рассказам» видно, что Пепперштейн-2006 хотел бы, чтобы список его читателей не ограничивался молодежными филологами и дряхлеющими грибоедами, но включал в себя людей, похожих на его героев, «обычных людей». Главный симптом, на основании которого Пепперштейн предпочитает диагностировать болезнь современного общества, – это масскульт. «Анатомия! Биология!» – бормочет про себя сыщик Курский (о котором еще пойдет речь); слова из шлягера «ВиаГры» для него – ключ к разгадке. Ключ этот стопроцентно доступен; в принципе, он есть у каждого читателя.
Первые предложения в этих рассказах все будто с подскоком, они интенсивны почти до экстравагантности: так встреченной на улице девушке ни с того ни с сего предлагают выйти замуж. «В 2039-м американские войска заняли Москву»; «Банда, известная под названием „Отряд Мадонны“, совершила налет на городок, затерянный в степи»; «В 1919 году корпус кавалерийского генерала Белоусова, спешно отступая, натолкнулся на разъезд красных в районе станции Можарово»; «Был один майор, служил в СС, прославился своей жестокостью»; «Нынешнему времени не хватает абстракций – везде сплошная конкретика, да и та по большей части – обман». Вся, однако, пепперштейновская «конкретика» – традиционные зачины ухватистого рассказчика – тоже, по существу, обман, потому что раконтер этот очень быстро, что называется, теряет берега – и начинаются именно что «абстракции»: дичь, галлюциноз, андроны едут. На банкете Торт сжирает все прочие угощения и сбегает; Макдоналдс-призрак поглощает голодных дальнобойщиков; колдунья «яба-хохо» – постаревшая Долорес Гейз – спасает латиноамериканскую партизанку, у которой пропал язык; сыщик Курский расследует загадочную смерть перебивших друг друга десяти человек в квартире напротив американского посольства.
Все почти рассказы начинаются таким образом, чтобы активизировать в памяти читателя некую знакомую литературную модель: они напоминают не то мамлеевские страшилки, не то готические новеллы, не то сорокинские «первые субботники», не то гоголевские арабески, не то фольклорные былички, не то сюжеты комиксов, не то советские детские новеллы о пионерах-героях, не то лирические зачины какого-то гоголе-булгаково-пелевиноподобного русского сатирика, не то смутно ощущаемые как «советские» детективные повести, вроде «Записок следователя»; везде имитируется известный нарратив, задаются знакомые жанровые контуры. Сюжеты, однако, ни разу этому протожанру не соответствуют: «кажется»-то кончиками пальцев, а когда открываешь глаза – сталкиваешься с чем-то совсем другим. Наивному читателю три десятка рассказов покажутся похожими на коллекцию эксцентричных, но скорее удачных, изобретательных, во всяком случае («прожорливый торт», вишь ты), шуток – c двойным, понятно, дном.
На первый взгляд здравый смысл в этих рассказах попирается совсем уж безапелляционно; на самом деле это очень плотные тексты, рассчитанные на интерпретаторскую работу; здесь важно все: важно, что примадонна бросает Мадонне заячий тулупчик, что убийство совершено напротив американского посольства, что в конверте – мясо.
Вот «Желтый», к примеру, «конверт»: родственники пригласили деда-ветерана на 9 мая, а тот исчез, оставив на столе желтый конверт с тонким куском сырого мяса внутри… – может быть, что-то вроде черной метки, знак, антигамбургер, дзенский хлопок…
Сам Пепперштейн готов подтвердить некоторые предположения. «Да, дзенский хлопок, но совершаю его не я, не автор». А кто – ветеран? «Да, этот ветеран. Но его дзенский поступок не вызывает восхищения. Я смотрел на этого дзен-мастера глазами детей, чей праздник он испортил своим отвратительным поступком. Если анализировать ситуацию с житейской точки зрения – что должно быть в этом конверте? Там должны были быть деньги, которых от него ждала семья. Конверт – это подарок, деликатная форма подношения денег. А старик-ветеран совершает поступок, который можно назвать девальвирующим, он разрушает систему подачи. Почему он не хочет поддержать деньгами своих родственников? Что значит то, что он кладет мясо сырое, тонкий кусок. ЧТО это значит? Имеется в виду, что он кровь за них проливал и теперь не хочет им денег дать? Нет, он им говорит: я не за вас проливал. Он осознает своих внуков как продукт подмены. Он отказывается от родства. Глупо думать, что это поколенческий разрыв, что разрыв инициирован младшим поколением. На самом деле – старшим. Это отказ принимать своих потомков, отказ передачи имени. Эта тема – отказ в благословении, тема отношений Исаака и Исава – крайне болезненно подана в Ветхом Завете. Получается, что Исаак не только крадет благословение у Исава, он еще и Иакову не предоставляет». Таким образом, конверт – знак неблагословения? «Да, знак. Типа, идите все на хуй. Мясо – это такая дебильная доминанта нашего времени, это такая насмешка над критикой текста. Я, в принципе, издевательски отношусь к современной культуре, которая пропитана критикой текста. Культура, которая говорит, что текст – всегда наебалово, ложь, какой бы он ни был, а должно быть мясо, плоть, реалити. А я считаю, что это очень опасная идеологическая ложь. На самом деле „реальность“ – это наебалово. Текст – гораздо существеннее, чем мясо. То, что они выдают мясо вместо текста, и при этом он говорит – вы же хотели это мясо. А деньги – это текст. Поэтому если вы не хотели текста, а хотели мяса, то вы и денег не получите. Вот так надо это интерпретировать».
Такой выверт – или перещелкивание, сдвиг тумблера, поворот винта – есть в каждом почти рассказе. Пепперштейновский эффект похож на дезориентирующий – не сбивающий с ног, впрочем – толчок, демонстрирующий злонамеренный характер общепринятой системы координат – и, возможно, предлагающий способ избежать ее власти, уйти с линии атаки.
«„Военные рассказы“ написаны таким образом, что… в общем, это рассказы тайн. Каждый из них содержит в себе тайну. Для меня как для автора – вполне конкретную. Я знаю все эти тайны. Но я понимаю, что для каждого читателя они будут другими. ‹…› Эти рассказы, парадоксально, может быть, не предполагают единого читателя. Каждый адресован разному, непохожему на предыдущего. В этом их особый такой изъеб, это ставит читателя, который читает их подряд, все, в странное положение. Каждый раз нажимается другая кнопка, и предыдущий рассказ кажется полным идиотизмом…»
Главное, чем объединены «Военные рассказы», – фигура автора, которая нигде эксплицитно не проявлена, но которую можно реконструировать в общем: в терминах самого Пепперштейна, это «мятущийся галлюцинант, наследник романтической традиции, испытывающий ужас перед капитализмом, кайф от этого ужаса – и одновременно чувствующий, что в его театральном ужасе есть и элемент нелепости, комизма».
Вслед за «Военными рассказами» последовал сборник «Свастика и Пентагон» – две «детективных» повести о пепперштейновском шерлоке-холмсе Сергее Сергеевиче Курском, расследующем преступления в странной – можно сказать, психоделической – манере. Назвать их детективами без кавычек сложно, потому что «следователь» здесь восстанавливает не столько подлинное положение дел, сколько логику бреда; внутри явленной системы координат все получается логично, но с общепринятой системой это никак не соотносится.
Действие обеих повестей происходит в Крыму – и это важно, как все у Пепперштейна. «Симеиз и вообще Крым – это очень необычная территория. У нее есть знаковая роль, в ней заложена идея нейтральности. Непонятно, чья это территория, что она, как она. Это зона отдыха, но и зона конфликта, а с третьей стороны, это мистическая территория, зона не совсем проявленных тайн, загадок. Это ужасно привлекательное место – и при этом абсолютно недосказанная земля. Мифология Крыма носит – в отличие от пражской, ирландской или даже российской – не совсем завершенный характер; она может быть продолжена». Обычно «территории охвачены плотной мифологической сеткой», а в Крыму, о Крыме нет цельного, единого повествования: это принципиально фрагментарное, осколочное повествование. Там много еще можно себе представить, почувствовать. В эту «ничью» землю, как в строительство на привлекательном земельном участке, перспективно инвестировать – и не только деньги, но и тексты (рассказы, образы, знаки), что Пепперштейн и делает: он инсталлирует сюда своего Сергея Сергеевича Курского.
Курский – легенда советского сыска, потомок князя Курбского и знаток эзотерических практик; он живет в Ялте на пенсии. Крым – «форма анабиоза» сыщика, «от которого их способна пробудить лишь очередная загадка». «Он просто как-то сладко и счастливо окоченел в этом теплом и нежном Крыму». Время от времени к нему обращаются молодые следователи с просьбой помочь им. В «Свастике» – Курский «расследует» дело о таинственных убийствах на вилле «Свастика» рядом с Симеизом. Виллу построили в 1901 году в форме индийского знака. Теперь там многоквартирный дом. «В этом доме стали странно умирать люди». На фотоснимках видно, что позы у трупов одинаковые: заломленные руки-ноги, как свастика. На коже – странные ожоги. Ходят слухи, что дело нечисто и свастика якобы убивает фронтовиков. Следствие подозревает либо неофашистов, либо некоего «одинокого поклонника свастики». Это девушка Лида, энтузиаст свастики, читающая в санатории лекции по «Истории знака» – о том, как свастика стала изгоем в мире знаков (на самом деле Лиду зовут Полина Зайцева, она капитанская дочь, участвовала в рейвах, а затем взяла имя убитой своей подруги – однако трудно назвать всю эту любопытную информацию существенной). После лекции Курский и Лида обсуждают клип группы «ВиаГра» – «Анатомия», Лида дает Курскому странную таблетку – не то виагру, не то яд – и предлагает жениться на себе. Курский идет беседовать с Иоффе, директором санатория. Тот рассказывает про живущих здесь же близнецов, которые создали среди санаторских детей тайную секту «Солнце и ветер». Возможно, это они убивают пенсионеров, возможно, думает, Курский, убийства – следствие тайной войны стариков и детей.
В парке Курский встречает детей-сектантов, которые называют себя странными прозвищами: Нефть, Газ, Золото, Марганец, Никель, Фондовая Биржа, Индекс Доу Джонса. Выслушав лекцию о новых знаках – евро, фунт стерлингов, доллар, – компания съедает некие таблетки. После оргии и сеанса галлюциноза Курский обнаруживает себя на заднем сиденье какой-то машины.
9 мая 2004 года Курский собирает на площадке дома «Свастика» всех жильцов и рассказывает, что на самом деле убивали людей пауки «алейа», хрупкие существа, живущие в различных углублениях и щелях: они вырабатывают яд. А свастика – пуста, она лишь форма. Финал – «Свастику следует реабилитировать. Курский снова обвел взглядом присутствующих и повторил, словно оглашая приговор: Свастика невинна».
В «Пентагоне» Курский расследует исчезновение приехавшей на казантипские рейвы девушки Юли. И там, и там «все проясняется», но очень странным способом, и совсем не то «все», на что имеет право надеяться всякий, кто знаком с произведениями детективного жанра.
Не является ли Курский отчасти пародией на классический детектив? Категорическое нет: «Я никогда ничего не пародирую. Этот жанр меня не привлекает. Во-вторых, это не сатира. Я не занимаюсь сатирой. Я интересуюсь тем, что у меня вызывает восторг и эйфорию, больше, чем тем, что кажется мне достойным осмеяния». В рассказах про Курского Пепперштейн «пытался оказаться в ситуации Эдгара По, заново пережить рождение детективного жанра – и нащупать альтернативный вариант его развития».
На самом деле, объясняет Пепперштейн, рассказы про Курского – о знаках. Вскоре будет написан целый цикл, посвященный основным знакам: крест, пятиконечная звезда, инь-ян, знак доллара, серп и молот, красный флаг, Веселый Роджер, звезда Давида, полумесяц. «Это не попытка спекулировать на увлекательности детективного повествования, это скорее трактаты о знаках, которым придается форма детектива, потому что этот жанр в наибольшей степени соответствует характеру знака, их существованию. Существование знака – это форма, во многом аналогичная детективу. В основе знака всегда лежит некоторое заметание следов – и в то же все же время их обнаружение».
«Курский – это знак в ряду знаков. Его фамилия, конечно, неприлично откровенная: дискурс, потом, знак курсор, знак, бегущий по ряду других знаков и их высвечивающий. Последний ключевой рассказ, где будет дан ключ ко всему циклу, будет посвящен белому флагу – который сочетает в себе два основных значения: поражение и нейтралитет. Белым флагом машет и сдающийся, и парламентер. В любом случае, это приостановка войны. Курский – и есть белый флаг». (Не зря кто-то называет его «Белый старичок».) «Цвет – это нейтральная категория. Через это открываются другие знаки. Только при наличии пропусков, белого пространства между знаками, буквами, текст становится читаемым. Курский, или белый флаг – это условие существования всех других знаков».
Странный человек Пепперштейн – сказочник, мыслящий образами культурной экспансии, психонавт, визионер, знакомый с механизмами разворачивания коллективного галлюциноза.
Потому-то в одном из рассказов, где Курский участвует в поимке бен Ладена, ему уже 110 лет – «он вообще не умирает. Он как пробел. Как знак пробела». «Я всегда любил белый цвет, как не-цвет, как идеальный фон. Курский олицетворяет белый цвет, белую кость. Поэтому он тоже аристократ, он фон Курский, Курбский, потомок первого официального русского диссидента – Курбского. Он „инакомыслящий“». В этом смысле Курский – еще и символ России, смысл которой, по Пепперштейну, в том, «чтобы она была чем-то иным – не только по отношению к Западу, но и по отношению к миру вообще. Это иной мир». «Курский все время подвергает ситуацию некой критике – как и должен по схеме классического детектива. Но в отличие от классического детектива, он ничего взамен не предлагает, он просто дает тому или иному знаку проявить свои качества – на фоне Курского. То есть если Окуджава спел „На фоне Пушкина снимается семейство“, то здесь можно сказать – на фоне Курского проступают знаки».
Если есть Симеиз («Я родилась в Симеизе. что означает по-гречески – „Знак“», – говорит Лида в «Свастике»), то есть и анти-Симеиз, и в мире Пепперштейна это Америка – антипространство, антивещество, антизнак, агрессор в семиотической войне; потустороннее, загробное пространство, синоним смерти, место, куда не следует торопиться. Америка всегда фон для происходящего, и не зря в «Войне полов» убийства происходят в доме напротив американского посольства, не зря в «2039» Москва оккупирована гринго – и так далее. Рассказы классифицированы как «военные». Война – которая теперь выглядит как стирание границ – вновь идет в самом сердце России. Стране угрожает мягкая американская оккупация, ползучая колонизация русской «инаковости» западными пластиковыми ценностями: «глобализация». Американские фантомы подминают под себя аборигенные образы коллективного бессознательного; так утрачивается национальная идентичность и, по сути, родина как таковая. России угрожает Анти-Колобок – Глобо, стирающий границы, раздавливающий и пожирающий все, что ему попадается на пути. Единственный способ противостоять натиску Глобо – отгораживаться. И, поскольку все высокотехнологичные, медийные способы противостояния неэффективны, остается прибегнуть к архаичным практикам. Пепперштейн – ностальгирующий по миру, где есть границы, – убежден, что национальный язык, фольклор, литература, знаки и символы обладают магической силой и, при правильном использовании, позволяют «закрыть границы», законсервировать свою инаковость, «оборонить душу», запутать врага, лишить его свободы передвижения. Язык – способ ускользнуть от встречи с Глобо, отсидеться в параллельном пространстве (проектированием этих убежищ Пепперштейн и занимается). Утрата языка – самое страшное; по сути, это символическая кастрация. Язык надо вернуть во что бы то ни стало и беречь его как зеницу ока.
Отсюда несколько сюжетов, связанных с утратой или приобретением языка, в том числе «Тело языка» – заслуживающая отдельных аплодисментов пепперштейновская вариация пушкинского «Пророка».
Разведчик на войне берет языка, находит у него рубин, кладет себе в рот и превращается в гигантскую голую женщину, то ли валькирию, то ли мать с дитем – тельцем языка: «тот волшебный рубин стал новым языком богини: этим языком она будет щекотать свои жертвы, на этом языке она сложит новые песни, прежде невиданной ярости».
Рассказчик, магический антиглобалист, производит истории, которые, попав в голову достаточно впечатлительного читателя, будут функционировать как противотанковые ежи. В рассказе «Россия» это свойство названо «холодным ядом»: он «парализует» врага, вызывает у него «глубинное оцепенение, гипноз».
Растолковывая программный текст «Военных рассказов» – «Язык», инверсию гоголевского «Носа», новеллу про то, как у командирши латиноамериканского партизанского отряда сбежал язык, который она возвращает с помощью старухи-гринго, оказывающейся Долорес Гейз, Лолитой, Пепперштейн формулирует: «Язык должен быть похищен – и он должен вернуться. Вернуть его нам могут только те, кто его забрал. Кто это сделал? Америка. Дело не в том, что Америка плохая. И вообще, во всех моих рассказах о войне и в „Мифогенной“ – война побеждается только любовью. Победа есть результат любви к врагам. Пока мы не любим, не любим Америку, мы ничего не сможем сделать. Америка действует как разрушитель языка, сложная и в общем положительная роль: нам надо пройти через это, чтобы снова обрести язык – который должен вернуться из Америки. И тут возникает Набоков и его роман „Лолита“ – написанный русским на английском языке и затем переведенный им же на русский. Лолита – американский ребенок, но мы-то знаем, что это еще и Россия, что любовь, которую испытывал Набоков, – это любовь к потерянной родине».
Как известно из «Мифогенной любви каст», война – время, когда бушует страшная сила – любовь к родине. И, поскольку война снова развязана, это снова книга о любви к родине – причем, несмотря на дикие сюжеты, любви всерьез. Возможно, Пепперштейн, говорит о своей любви без того пафоса, с которым принято выражать такого рода эмоции (эту любовь вдруг чувствуют клубные юноши и девушки, нанюхавшиеся в поездном сортире кокаина), но от этого его «любовь» не становится менее пронзительной.
В «Пентагоне» сказано, что детская литература – то бомбоубежище, оборонное предприятие, которое спасет нас от американского оружия будущего. «Мне кажется, – комментирует Пепперштейн, – детская литература, индустрия культуры для детей позволяет сохранить национальную культуру; это то, что выживает и не разрушается в результате глобализации». «В советское время в детской литературе выживало то, что было подавлено идеологией, – фантазийность, мистика, сказочность, странности какие-то, невозможные в литературе для взрослых. Сейчас происходит то же самое, только это культура не для маленьких детей, а культура для уже немного подросших детей – рейв-культура или клубная жизнь, – там, даже может быть, речь идет о людях 25 лет, но все равно это дети, в культурном смысле дети».
Большинство героев «Военных рассказов», «Свастики» и «Пентагона» – странные дети или еще более странные старики, разгадывающие некие знаки и рассказывающие друг другу сказки.
Дети, «молодые существа» – именно та читательская аудитория, которая любопытна Пепперштейну: «те, кто больше всего нуждается в том, чтобы деятельность воображения разворачивалась мощно и во все стороны». Такое существо описано в рассказе «Война полов» – молодой дизайнер интерьеров по прозвищу Йогурт; однажды он осознает, что на самом деле он Йогурд – Другой; это рассказ с простой моралью: думать по-другому, иначе – важно. «Когда я писал, я представлял самого себя в возрасте от 12 до где-то 19 лет, в таком читательском галлюцинозе лежу на диване в комнате и читаю что-то, что вызывает у меня погружение, галлюцинаторный эффект».
Именно в силу того, что они рассчитаны на специфическую аудиторию, иногда «Военные рассказы» производят впечатление чересчур прямолинейных. Нонконформистские афоризмы Пепперштейна слишком зажигательны для этих маленьких рассказов: «Как тошно жить под властью энергичных управленцев, под властью хозяйственников, под властью хозяйчиков… Долой хозяев! Пусть к власти придут гости – гости из будущего, например. Гости из параллельных миров. Гости из перпендикулярных миров. Россией должен управлять величественный старец, а не молодые энергичные управленцы! В пизду эту суетливую юркость, эту готовность обоссаться от восторга от одного лишь слова „бабло“, эту склонность разрушать все древнее и прекрасное, облагороженное течением времен и заменять это виповым новостроечным говном…»
Странный человек Пепперштейн – сказочник, мыслящий образами культурной экспансии, психонавт, визионер, знакомый с механизмами разворачивания коллективного галлюциноза, художник, умеющий «изображать литературу», как художники из «Кровостока» изображают рэп. По меркам еще одного художника, Максима Кантора, он, пожалуй, не более чем «пожилой юноша», который, вместо того чтобы реализовывать свой несомненный талант, «рисует квадратики», – ну что это за «трактаты о знаках»?
В самом деле, почему бы ему не изъясняться более внятно, писать не про колобков, а про «нормальных персонажей», почему бы не называть вещи своими именами – а не заканчивать детективную повесть многозначительной фразой «свастика невинна»? Но Пепперштейн – Пепперштейн-теоретик современного искусства – убежден, что «реалити» и требование, чтобы искусство занималось этой самой «реалити», плотью, мясом, – это «наебалово», идеологическая ложь. Текст существеннее, чем это «мясо». Текст – это и есть набор знаков, и на самом деле «реалити» регулируется как раз текстами, знаками, фабриками знаков, Голливудом, создающим для всего земного шара образ долженствующей реальности; и рулит не тот, кто изучает «реалити» и сообщает о своих достижениях, и даже не тот, по большому счету, кто сидит на нефтяной скважине, а тот, кто рассказывает истории и разворачивает образы, или, выражаясь по-другому, кто производит знаки и манипулирует ими.
Таким образом, смысл вполне осознанной, последовательной деятельности Пепперштейна – создание отечественного «Голливуда» – фабрики знаков, фабрики текстов, литературы, поддающейся максимально широкому разворачиванию через кинообразы; и, в принципе, это можно назвать такой же насущной задачей, как в XVIII веке выход к морю (теоретики войн будущего, наверное, назвали бы это обеспечением семиотической безопасности). То, что произойдет, если этот «голливуд» не сформируется, описано в финальном «военном рассказе» – «Плач о Родине»: исчезнувшая Россия и домик, внутри которого герои мчатся в открытом космосе – в гигантском потоке мусора, ошметков и обломков. «Из мира, который предлагает глобализация, только в космос можно выпрыгнуть».
Ирина Андронати. Андрей Лазарчук. Михаил Успенский. Марш экклезиастов
«Амфора», Санкт-Петербург
Когда Н. С. Гумилев и его гильдия колдунов, лопухнувшись, проваливаются в тартарары под названием Ирэм, они понимают, что попали в рай-ловушку, откуда невозможно выбраться. Далее экклезиасты маршируют тремя основными колоннами: пленники пытаются выбраться самостоятельно, их товарищи в гротескном современном мире готовят спасательную операцию, а их предшественники, персонажи ориентальной, в духе травестированной «1001 ночи», части, объясняют, почему, собственно, рай оказался проклятым; маршируют колонны не в ногу, обмундированные в разные стилистические униформы, но сходятся в конце так организованно, что читателю остается только пристроиться в хвост процессии, чтобы отсалютовать квалифицированным рассказчикам.
Это третья, закругляющая небылицы «Посмотри в глаза чудовищ» и «Гиперборейской чумы» часть сериала про мага Гумилева – который, оказалось, был в 1921 году выкуплен у ЧК некими потусторонними силами и с тех пор, наделенный магическими умениями, возглавляет тайный орден «Пятый Рим», противостоящий мировому злу, феноменально изобретательному в своих попытках уничтожить человечество. Иллюстрируя мощный фантазийный ресурс соавторов, принято подчеркивать сногсшибательность самого предположения – Гумилев сражается с подземными ящерами; гораздо эффектней может показаться тот факт, что лазарчуковско-успенский Гумилев, столкнувшись с каким-нибудь сюрпризом – да с тем же ящером, – может позволить себе употребить междометие «опаньки» или «ешкин кот». Если образ Гумилева, охотящегося за вымершими монстрами, можно было усвоить (все-таки конкистадор, капитан, последний рыцарь, Белая гвардия, африканские турне, старорежимный мачо, бритый череп, кожистые веки, шокирующее исчезновение), то речевое поведение поэта-акмеиста, выдающее в нем скорее завсегдатая «Гнезда глухаря», чем «Бродячей собаки», казалось подлинно фантастическим.
«Марш» – открытая церковь, и авторы любезно еще раз объяснят вам, что эронхаи отличаются от мангасов и из чего производится ксерион, но, как и все сиквелы, – аттракцион, где режимом наибольшего благоприятствования пользуются посетители, уже причастившиеся гумилевской мифологии. Трилогия устремляется к устью сразу несколькими потоками, и все они достаточно захватывающие, чтобы держаться в них на плаву, но по некоторым рукавам для новообращенных передвигаться затруднительно: «Марш экклезиастов» забит персонажным топляком, оставшимся от первых двух частей. Часто эти эксцентричные существа не выполняют никакой особенной миссии и просто колобродят здесь за компанию – старые знакомые, время от времени радующие лояльных читателей фирменными репликами.
«Марш» – открытая церковь, и авторы любезно объяснят вам, что эронхаи отличаются от мангасов, но, как и все сиквелы, – аттракцион, где режимом благоприятствования пользуются посетители, уже причастившиеся гумилевской мифологии.
Еще непонятно, в чем магия трилогии – в сюжете или репликах. У Лазарчука, Успенского (и Андронати) все, кто обладают правом голоса, именно что экклезиасты с маленькой буквы – самоироничные мудрецы, чуть больше обычных смертных знающие об устройстве бытия и склонные изъясняться житейскими афоризмами («Как известно, если кирпич падает на голову один раз – это случайность, два раза – тенденция, три раза – традиция…»), ну и вообще хохмить («Левушку долго и безуспешно пытались снять с древа познания, куда он залез в поисках истины. Потом он захотел жрать и слез сам»). Надо быть энтузиастом аксеновско-стругацкой лингвистической культуры, чтобы глотать эти пенки не зажмуриваясь; но здесь есть – и вот это на самом деле чистый ксерион, драконья кровь, наполняющая вены магической энергией, – и очень чистые в языковом отношении фрагменты, сомкнутые строи слов, точная и образная проза – загляденье. И, надо признать, эти ремесленники с их талантом конструировать цветные многофигурные миры вручную, без перчаток и фартуков, работающие с удачно подобранным исходным материалом – гумилевской легендой, мифологемой льда и бродячими сюжетами из «1001 ночи», – желанная добыча всякого читателя, инстинктивно охотящегося на экзотических писателей. «Ну иди сюда, иди, жираф, ты, в жопу, изысканный», как выразился бы главный герой.
Сергей Болмат. 14 рассказов
«Ad Marginem», Москва
Первый роман Болмата «Сами по себе» сорвал в 2000 году приз за эффектный дебют, но отсутствие конкурентов сыграло с текстом дурную шутку – он оказался затертым пустотой; второй роман, «В воздухе», внушал сдержанный оптимизм, но выветрился из чьей-либо памяти быстрее, чем успел оправдать его. «Дело в том, – говорит один из рассказчиков в новой книге, – что в России вымысел все еще не очень отличается от факта. Доверие к литературному тексту сравнительно велико: метафора, троп очень часто воспринимаются как сведения практического характера». Словно бы для того, чтобы читатель не принял его апофеозы беспочвенности слишком всерьез, писатель сделал свои новые работы более компактными.
«2 июня сего года, – коллекция открывается странным рассказцем – такие писал бы, наверное, Зощенко, если бы после постановления о журнале „Звезда“ завел себе интернет-блог, – приобрел у вас на интернетном аукционе за 2335 долларов гренок с изображением лика Пресвятой Богородицы. (Мой ник – smetai1976greblo, но по-настоящему меня зовут Олег.)» Сюжеты все с безупречной червоточинкой, помноженные на беккетовский ноль: сиволапый русский эмигрант ни с того ни с сего тратит деньги от проданной квартиры на приобретение инсталляции Маурицио Каттелана; муж отправляется к бросившей его жене в Париж, но попадает в цепь нелепых злоключений; интеллигентный бомж-толкиенист напрашивается в Новый год на сеанс «Властелина колец» – и выходит оттуда в бешенстве: «Как мне могла нравиться вся эта дрянь, ума не приложу? Говорящие деревья… Мордор… Кошмар. Эльфы с ушами».
Как и его персонажи, готовые платить внушительные суммы за никчемные объекты, Болмат готов приложить любые усилия, лишь бы отыскать для своей кунсткамеры странные констелляции атомов, мимолетно что-то напоминающие; он очень наблюдательный – если можно назвать наблюдательными атомные весы, улавливающие отрицательные величины. Болмат – литературный гомеопат, работающий с микродозами вещества; у него всего мало и все страшно впопад: лунный блик на горлышке бутылки, открытка, найденная в кармане самолетного кресла, имя, реплика, сюжетный финт, частность: «Английскому языку Виктора Петровича учил гипнотизер».
Болмат – литературный гомеопат, работающий с микродозами вещества; у него всего мало и все страшно впопад.
Если бы не очевидность того, что это вещество и есть – литература, можно было бы сказать, что Болмат больше деятель современного искусства, чем писатель; с любым мусором – лингвистическим, психологическим, акустическим, визуальным – он обходится как с арт-объектом, помещает его в галерейное пространство, обрамляет виртуальным багетом – «эстетизирует», выражаясь языком кураторов. О каких бы житейских вещах и страстях – ревность, денежные затруднения, секс – ни писал Болмат, он одержим соблюдением дистанции, отстраненностью, «воздухом» между изображением и текстом. Ему важно все время демонстрировать, что он – сам по себе; иностранец, работник консульства, общающийся с аборигенами на их языке, любезно – но с нескрываемым акцентом; и ему невероятно к лицу эта манера, британский интонационный крой.
«Называется эта работа… – и тут Виктору Петровичу пришлось снова, звучно щелкая квадратными никелированными замками, забраться к себе в чемоданчик, достать из прозрачной синей папочки сертификат и внимательно перечитать его, – называется эта работа „Бидибидобидибоо“». Эти отглаженные, вывешенные на плечиках и окропленные летучим веселящим эфиром болматовские бидибидобидибоо доставляют необычайно мягкое, полихромное удовольствие – как будто их прочел тебе какой-то внутренний смоктуновский и, закончив, долго еще не может погасить возбуждение в центральной нервной системе, жует губами пустоту.
Александр Кузнецов-Тулянин. Язычник
«Терра – Книжный клуб», Москва
Фразу «Автор из Тулы, а его роман – про работяг на Курильских островах», наверное, следовало попридержать. Ясно как божий день: сколько ни расписывай достоинства «Язычника», сколько ни трещи, что роман такой же богатый, как сами Курильские острова, и что именно из таких вот картин маслом – а не из инсталляций – составляется, прости господи, национальное достояние, все равно будет казаться, что это «региональная» проза, которая проходит в «столичную» литературу по квоте. Вранье, нет никакой квоты, а правда лишь то, что ни вампиров, ни нацболов, ни Лондона, ни Краснокаменска, ни поисков духовности, ни пропавших рукописей – ничего такого, что в последнее время сходит за сюжет современного романа для офисного планктона, здесь нет.
Кунашир, Итуруп, Шикотан – искрящая кромка страны. «На сотни километров благодатной земли, почти субтропики… А море? Самое богатое море здесь во всем Северном полушарии – мне лично профессор-ихтиолог говорил. Называется апвеллинг»; «Дурниной богатство прет, валит ужасом на наши бочки чугунные. Наловить – наловили, дуром, нахрапом, страну прокормить можно, а куда пристроить рыбу, никто не знает, России она не нужна…» До Токио от Курил ближе, чем до Москвы, но населены они русскими – бывшими советскими – людьми, которые живут, доживают и выживают себе при капитализме. Плавают, браконьерствуют, убивают рыбу, продают ее, перерабатывают, выбрасывают; работают, пьют, дерутся, жгут свои дома, влюбляются, отнимают друг у друга имущество. Известные страсти и пороки, все как везде, но в силу географической маргинальности, субтропического почти климата и напряженной сейсмической обстановки – интенсивнее, чем везде, протекающие; это больше, чем любой другой остров, «романное» пространство.
Мы наблюдаем, в течение года примерно, за несколькими героями. Это простые люди простых профессий, сильные и слабые характеры; тридцать лет назад Кузнецова-Тулянина вовлекли бы в свою орбиту те, кого называли деревенщиками. Простые выразительные сцены: рыбу ловят, водку пьют, устраиваются на работу и увольняются. Сюжетное движение скрадывается в стилистической зыби (Кузнецов все время баламутит слова, не позволяет себе в письме штиль), но на самом деле подводное течение здесь есть, и мощное.
Дурные, сейсмоактивные Курилы – точная метафора современности; «Язычник» – свежевыжатый, незамаянный роман, которого не коснулись вестернизация, «новейшие тенденции», беллетризация и мифологизирование.
Год, описанный в романе, – год катастрофы, год, когда герои теряют все, год ужасной, испепеляющей любви, год убийства, год смертей, год потерянного заработка, год демпинга, год штормов, год землетрясения, год цунами.
Поначалу «Язычник» выглядит составленной из полуновелл, полуэтнографических очерков картиной с нечеткими контурами; но главы – намагниченные, и когда придет время, они сомкнут ряды и сложатся в очень плотный, компактный, пропорциональный, простроченный сплошными швами роман. Мы увидим фреску «Курилы» – где люди и природа вошли в клинч и повторяют движения друг друга; где человек превращает массовое оплодотворение – в гекатомбу, нерестилище – в бойню; где день и ночь происходит колоссальное коловращение насилия, страдания и благодати; где за удачный сезон можно разбогатеть на полжизни и все пропить в неделю, а можно остаться нищим и тоже пить без роздыху, и вся жизнь – после землетрясения, перед цунами.
Дурные, сейсмоактивные Курилы – точная метафора современности; «Язычник» – свежевыжатый, незамаянный роман, которого не коснулись вестернизация, «новейшие тенденции», беллетризация и мифологизирование. Это литература, вскормленная только на отечественной традиции, которая по запаянной трубке передавалась от Толстого к Распутину – и Кузнецову-Тулянину. И традиция эта не сводится к методу, к реализму; в ней главное не «как», а «что» – воссоздание в романе Живой Жизни, психологически полнокровных человеческих характеров в естественно-экстремальных жизненных обстоятельствах.
Если после этих рыбаков и хочется ввести квоту на что-нибудь, так это как раз на вампиров и нацболов.
Далия Трускиновская. Шайтан-звезда
«Форум», Москва
«Шайтан-звезда» похожа на стамбульскую Цистерну Йеребатан: когда за казенной, не предвещающей ничего примечательного дверью оказывается простирающееся на сотни метров рукотворное озеро, скрывающее дно подземного чертога с тысячью колонн, чудо инженерии, архитектуры и камуфляжа.
«Сюда, о правоверные! Знаменитый рассказчик Мамед ибн Абу Сульман жаждет усладить ваш слух!» – роман начинается как балаганное подражание «1001 ночи», подозрительное хотя бы из-за той напористости, с какой тебя хватают за рукав. Однако довольно быстро тебе дают понять, что орнаментальное сладкоречие – не то же самое, что пустословие.
В «Шайтан-звезде» чрезвычайно затейливый сюжет – с киднепингом, переодеваниями, полетами на коврах и поисками сокровищ; пожалуй, на 1000 ночей его и не хватило бы, но на 100 – наверняка, так что не много смысла в том, чтобы пересказать его за две минуты: «приключения ассимилированной в детстве европейки в магометанском мире». Один только список персонажей – где есть невольницы, джинны, евнухи, кадии, гурии, цирюльники-горбуны, визири, горные гули, нищие, суфийские шейхи, водоносы, мариды, хаммамщики, болотные арабы, отравители – достаточно представителен, чтобы читатель понял, что его ожидает нечто такое, что вполне соответствует словосочетаниям «магическая атмосфера» и «захватывающие приключения», какими бы банальными те ни казались. Роман, заметьте, в отличие от «1001 ночи», состоит не из механически навешенных на базовую арматуру самостоятельных историй про средневековых арабов, а имеет начало, середину и конец, и герои, раз засветившись, вкалывают здесь как каторжные до самого конца; и все 700 страниц этот роман, наращивая динамику, распрямляется, как пружина – нет, скорее ифрит, просидевший пять тысяч лет в запечатанном кувшинчике. И даже приторная увертюра, от которой не ждешь ничего, кроме промообразца стиля, окажется завязкой-приманкой, сложным трюком с тремя ненадежными рассказчиками.
Все 700 страниц этот роман, наращивая динамику, распрямляется, как пружина – нет, скорее ифрит, просидевший пять тысяч лет в запечатанном кувшинчике.
Это очень туго набитый – не менее плотный, чем «1001 ночь», – текст. Еще удивительнее, чем сюжетный ритм, в нем – романная каллиграфия: выдержанный стиль, точное, четкое и красивое ориентальное письмо, со множеством изводов, от высокой поэзии до базарной пародии; у сочинителя должны быть мускулы экскаватора, чтобы, ни разу не сбившись, арабской вязью пропахать семисотстраничную борозду в не приспособленной к такой культуре каменистой почве – русском языке. Автор производит впечатление человека компетентного во всех сферах жизни своих героев: он свободно ориентируется в Коране и мусульманской философии, досконально знает устройство средневекового арабского города XIII века, осведомлен об оккультных, боевых, декоративно-прикладных и других искусствах Ближнего и Среднего Востока. Кто-то более впечатлительный мог бы заявить, что текст, который издательство продает как фэнтези по мотивам «1001 ночи», на самом деле мог бы принадлежать арабу XIII века. В самом деле, неясно, как привязать этот текст к литературному сегодня. Роман датирован «Рига, 1997», но точно так же под последним предложением могли стоять цифры 1970, 2006, 1882, 1291 – а вместо Риги названы Москва, Монреаль, Каир или Лондон. Явных анахронизмов в этой аккуратной стилизации не обнаруживается.
Далия Трускиновская – не вчера родившаяся писательница, собравшая со своей делянки в зоне рискованного земледелия не один и не два урожая; но в кареты ее тыквы превратились только сейчас, когда «Шайтан-звезда» вошла в шорт-лист премии «Большая книга». Трускиновская, которая закончила «Звезду» 9 лет назад, – живое доказательство того, что предположение, будто «качественная беллетристика началась в пореформенной России с Б. Акунина и достигла своего апогея в творчестве Дм. Быкова», – глубочайшее заблуждение. Странно даже не то, что «Шайтан-звезду» столько лет никто не хотел издавать, – а то, что она до сих пор не продается во всех книжных магазинах мира рядом с Йеном Пирсом и Сюзанной Кларк. Правда, перед тем как рассылать роман по лондонским издательствам, следует отдать под шариатский суд редактора – и не жалеть его, когда фетву приведут в исполнение, потому что в первой части главы перепутаны так глупо, что никакое наказание не будет выглядеть слишком жестоким.
Борхес замечает про лучшие переложения «1001 ночи», что они «были возможны только в рамках большой литературной традиции» и что «эти труды предполагают богатый предшествующий опыт». Частая арабская вязь Трускиновской на прекрасном русском языке – не просто «качественная беллетристика», но проценты на ранее помещенный капитал: от «Подражаний Корану» до трудов М. Салье, переложившего на русский «1001 ночь», – большие проценты на большой капитал. «Шайтан-звезда» – с ее лопающимся от собственной ширины словарем, с ее фантастическими перипетиями, с ее пряным юмором и в хорошем смысле исламским духом – лестное для русского языка и литературы свидетельство о зрелости, выдержанный тест на способность передавать генетически чужие речевые и цивилизационные практики.
Можно было бы поклясться, что подобные романы-цистерны, способные в течение многих дней утолять жажду чудес, экзотических ландшафтов и языковой избыточности, невозможно сочинить случайно или «просто так», забавы ради; что писатели, обладающие воображением такого масштаба, сколь тщательно они ни камуфлируются под заурядных авторов фэнтези, рано или поздно будут командированы не просто услаждать слух базарной черни, но хватать за рукава тех, кто имеет уши, и тащить их из балагана вон; однако – «аллах не взыскивает с вас за пустословие в ваших клятвах, но взыскивает с вас за то, что приобрели ваши сердца»; так начинается и так заканчивается «Шайтан-звезда». Этим и ограничимся: не станем клясться Далии Трускиновской в верности, но будем готовы к взысканию за то, что с ее помощью приобрели наши сердца.
Игорь Ефимов Неверная
«Азбука», Санкт-Петербург
Ефимов – гражданин США с настолько существенными заслугами перед русской литературой («Суд да дело», «Седьмая жена», Ефимов – Довлатов «Эпистолярный роман»), что даже его вульгарное маяковсконенавистничество не является достаточным поводом, чтобы дезавуировать его новый роман в целом (главу о Маяковском мы, предположим, не заметили). Светлана, главная героиня и рассказчица, – русская эмигрантка в Америке, склонная к недооценке табу на внебрачный секс, изменяет мужу. Тот тоже нечист на руку, так что ничего особенно криминального – плохо то, что любовник героини оказывается кем-то вроде маньяка. Не слишком успешно пытаясь скрыть его домогательства от мужа, Светлана пишет письма русским писателям и их возлюбленным. «Милая, милая Авдотья Яковлевна! (Это Панаевой-Некрасовой, но есть еще письма Герцену, Тютчевой-Денисьевой, Тургеневу, сыну Блока, Бунину, Маяковскому. – Л. Д.) Вы вошли в мою жизнь так внезапно, таким живым, близким и нужным мне человеком, что я не испытываю никакой неловкости, обращаясь к Вам с этим заведомо безответным письмом». Героиня называет себя «следователь по особо важным филологическим делам С. Денисьева» – и, копаясь в биографиях своих адресатов, задает им вопросы с подковырками, все больше на предмет их скандальных meґnages a` trois: «А каково ей было нести двусмысленную роль, на которую Вы ее обрекли? Каково было расти дочке Лизе, нося фамилию Огарева и зная, что на самом деле ее отец – Вы?» Поганый вроде бы интерес к грязному белью – однако письма написаны так естественно, так живо, так обходительно – и такая любопытная, оказывается, эротическая подоплека у творчества классических авторов, что никакой неловкости за автора не чувствуется; наоборот – ну придумал человек занятный способ подачи материала. Секрет обаяния писем в том, что на самом деле героиня не столько «разоблачает», сколько благодарит всех этих «неверных» за то, что дали ей «пережить это счастливейшее чувство: Я НЕ ОДНА ТАКАЯ!». Таким образом, она как бы обращается к своим двойникам – если не затем, чтобы оправдать свою неверность, то, по крайней мере, найти для себя некий менее пошлый, чем обычный сексуальный, контекст.
Поганый вроде бы интерес к грязному белью – однако письма написаны так естественно, так живо, так обходительно, что никакой неловкости за автора не чувствуется.
Роман об адюльтере и его неприятных последствиях в форме писем русской американки Герцену и Бунину может показаться странным, но на самом деле здесь нет ничего удивительного. Во-первых, после «Лолиты» всем известно, что Америка для русских – что-то вроде любовницы, эмиграция – род адюльтера, и признания в любви русской литературе – завуалированная форма избывания этой неверности. Кроме того, Ефимов точно подметил склонность русских интеллигентов решать собственные психические проблемы посредством сочинения дневников и обращения к литературным прецедентам; выражаясь более просто, в ситуации, где американец идет к психоаналитику, русский отправляется к книжному шкафу за «Анной Карениной» и подключает телефонный шнур к модему.
Алан Черчесов. Вилла Бель-Летра
«Время», Москва
Эта вилла почти неприступна; чтобы преодолеть полосу препятствий, некороткую первую главу, вызывающую физиологически ощутимую асфиксию – непонятно, кто говорит, кто герой, почему он убийца, кто «ты», что происходит, какова мотивация событий и действий, чем обусловлены резкие смены типа повествования, – нужен или баллон с кислородом, или легкие марафонца, натренированные на марш-бросках сквозь предыдущий черчесовский бель-летр – «Венок на могилу ветра». Со второй главы, когда Черчесов – экспериментатор не менее чуткий, чем доктор Менгеле, – чуточку приотпустит кадык, читатель получит передышку.
В июне 2001 года на баварскую виллу Бель-Летра съезжаются трое писателей: русский, англичанин и француз, чтобы предложить свои версии происшествия, случившегося ровно сто лет назад: в ночь с 15 на 16 июня 1901 года здесь исчезла хозяйка виллы графиня Лира фон Реттау, пригласившая на лето троих писателей – тоже русского, англичанина и француза. Каждый впоследствии утверждал – как в протоколе полицейского допроса, так и в опубликованном, по условиям контракта, произведении, – что ту ночь графиня провела с ним; от Лиры также остался дневник и обширное эпистолярное наследие – причем корреспондентами графини была интеллектуальная элита Европы, от Ницше до Толстого. Бурная ночь повторяется, Лиру фон Реттау заменяет Элит Турера, что наводит писателей-сыщиков на мысль, что на самом деле им дают понять, что Лира фон Реттау – это «литература», а ее исчезновение – реализация метафоры «литература умерла». Подтверждением – или опровержением – этой метафоры, ставшей в ХХ веке, после Джойса, Дахау, Деррида и телешоу Виктора Ерофеева, общим местом, они и занимаются, бывает, не без рукоприкладства. Мэтры – не то «убийцы литературы», обменявшие ее, живую, на «невзрачную фигуру речи», «кодирующие в тексте свои бесконечные страхи и комплексы», не то участники ритуала воскрешения – ссорятся, употребляют алкоголь, делятся сексуальным опытом, вытаскивают друг друга из петли, шпионят за прислугой и ищут трупы – перипетий тут хватило бы и на детектив в мягкой обложке; но больше всего они разговаривают о литературе, с чувством, не торопясь, не стесняясь высокопарностей, и в этих коньячных дискуссиях (про то, к примеру, является ли всеобщая амбивалентность лейтмотивом современной культуры) каждая реплика недвусмысленно претендует на место в сборнике афоризмов. У Черчесова достаточно высокий лоб, чтобы выстраивать роман на диалогах писателей-интеллектуалов и цитировать выдуманные письма Лиры Толстому и Ницше как образцы подлинной философии и самому при этом не выглядеть идиотом; но большинство его парадоксов и сентенций настолько – до тошнотворности – вычурны, что вряд ли «Вилла Бель-Летра» когда-нибудь разойдется на пословицы: «Впрочем, людям свойственно проверять изнанку своего белья на просвет проницательной смерти. Чаще другого нарочитая небрезгливость дневников выдает тщеславие распознанного в самом себе мессианства». Реконструируя по дневникам, рассказам предшественников и сохранившимся вещдокам биографию фон Реттау и события той ночи, писатели не только разгадывают «тайну» литературы ХХ века – какой она была? – но и проживают и прописывают ее в новом метаромане о самих себе – который, по идее, синтезирует весь опыт модернистского и постмодернистского романа ХХ века. «Вилла» – лабиринт сцеплений, целиком состоящий из показаний ненадежных рассказчиков, одержимых сексуальным, в числе прочего, вожделением к литературе, жанровый карнавал, чрезвычайно разветвленная система мифологических соответствий, тотальная игра с читателем как единственный способ остаться серьезным; можно сказать и так – но, по правде, больше всего «Вилла» похожа не на амальгаму из «Улисса», «Волшебной горы», «Лолиты» и «Имени розы», а на не приспособленный для чтения «роман-нуво»: подчеркнутая нереальность, выпирающая конструкция, повторяющиеся события, двойники, взаимозаменяемость элементов, отсутствие иерархии между подлинником и копиями. В сущности, это роман про то, как трое персонажей расследуют деятельность своих прототипов – только для того, чтобы убедиться в том, что они сами – их выдумки. Роман – лента Мебиуса; роман-мантисса; роман-головоломка; роман-«Улисс»; роман об «Улиссе» (то же 16 июня 1901 года); роман-римейк «Волшебной горы» (те же Альпы); роман, в котором спрессована вся литература ХХ века; роман о том, что такое роман и чем должен быть… Качественный материал для цикла литературоведческих конференций европейского масштаба – но не более того.
У Черчесова достаточно высокий лоб, чтобы выстраивать роман на диалогах писателей-интеллектуалов и цитировать выдуманные письма Лиры Толстому и Ницше как образцы подлинной философии и самому при этом не выглядеть идиотом.
Манера сноровисто жонглировать искусственно воспроизведенными блоками вызывает уважение к автору, но никоим образом не любовь к такого рода литературе. И если в первой главе не выдерживали легкие, то в финале тисками плющит голову: неужели стоило конструировать этот вычурный лабиринт и заселять его выводком чудовищ и героев только для того, чтобы еще раз обсосать – хотя бы и с чавканьем в двести децибел – ужасный трюизм, чтобы не сказать – пошлость: «литература умерла»? Это все, впрочем, на совести автора. Единственная к нему претензия по существу состоит в том, что ему не стоило бы ставить к этому роману эпиграф из Кортасара, где есть слова «единственный персонаж, который меня интересует, – это читатель». Ясно, имеется в виду не вульгарный читатель, а Идеальный Читатель, Читатель-Соавтор, Соучастник Ритуала Воскрешения Литературы и прочее бла-бла-бла; но выносить эти слова в эпиграф «Бель-Летры» – ужасное лицемерие.
Олег Зайончковский. Прогулки в парке
«ОГИ», Москва
Редко бывает, чтобы чья-либо речевая практика, рассказывание вообще – а не сюжет, не изобретательность, не отдельные словечки – доставляли пронзительное, беспримесное удовольствие. Чтобы автор играл на всех инструментах сразу – и ни разу не брал фальшивую ноту; чтобы ты невооруженным глазом видел, как его метафоры преодолевают целые вселенные между предметами и идеями; чтобы он с первого раза улавливал точные слова, именно те, которые богом назначены передавать чувства, какими бы мимолетными они ни были. У хотьковского писателя Зайончковского, чью третью книжку – три повести и два рассказа – нам посчастливилось прочесть, не просто большой или малый, но очень редкий литературный дар. Чтобы текст получился, ему не нужна искусственная арматура – фабула, композиция, герой; он ничего не придумывает – он все знает и так. Он не мастер, не виртуоз, не артист – он, такое ощущение, ничему никогда не учился, просто взял и записал то, что ему надиктовали; как это называется – «врожденное чувство стиля» или «писатель от бога»?
Анализировать – да и пересказывать – эти тексты так же бессмысленно, как, занимаясь ядерной физикой, пытаться ловить атомы руками.
Вот эпизод из рассказа «Вниз по течению», где двое мальчиков проплывают мимо загорающей нагишом женщины. «Некоторое время участники сцены оставались неподвижны, но, к счастью, не все: река текла и уносила лодку, и она в итоге опустила занавес. Именно река, которая устроила эту встречу, – она же и выручила всех троих: обратив мертвящую неловкость в живое и чувственное воспоминание». Затем сцена мгновенно разворачивается дальше: мимо женщины проплывает еще одна лодка с целой семьей, и мужчина на веслах так обалдевает от женского тела, что переворачивает лодку. Жена клянет мужа на чем свет стоит, дети плещутся в воде, женщина растворяется в кустах – и вот мальчики спасают их, и чувственное воспоминание за считанные секунды распыляется на какие-то другие элементарные частицы; гениально сделанная сцена, из ничего, на двух квадратных сантиметрах.
Зайончковский играет на всех инструментах сразу – и ни разу не берет фальшивую ноту.
Ну да, подумаешь, чего такого; у Зайончковского вообще либо не происходит ничего особенного, либо творится нечто такое, что в упаковке из чужих слов покажется глупым и неправдоподобным. В заглавной повести – игровой, озорной, почти щенячьей, но такой точной по словам, что она кажется ужасно неглупой, – рассказчик, прогуливаясь ночью с собакой в парке, обнаруживает повешенную на дереве голую женщину, а затем ему подбрасывают ее поляроидный снимок в почтовый ящик и… И опять: в голове загорается красная лампочка – чушь! чушь! чушь! – а нервные окончания трепещут, испытывая пронзительное удовольствие от стиля этого хотьковского Генри Джеймса; странный, ни на что не похожий читательский опыт.
Мария Галина. Хомячки в Эгладоре
«Форум», Москва
Мающиеся летним бездельем Генка и Дюша соглашаются сыграть в «ролевку» по Толкиену. В Нескучном саду девушку и юношу сухо информируют о том, что теперь они – хоббиты, Генке-Фродо вручают волшебное кольцо, которое предлагается отнести в Мордор с известной целью. В первый день «толкиенутые» делают все, чтобы подтвердить свою репутацию: Черные Всадники прыгают на бутафорских лошадках-палочках, Гэндальф передает инструкции через курьера в туалете ОГИ. Затем, однако, начинается чертовщина – назгулы шалят, метро превращается в Морию, а ступни невысокликов зарастают шерстью – и, несмотря на весь свой здоровый скептицизм, неофиты не в состоянии разобрать, где кончается реальность и где начинается игра. Объяснения? «Начав играть в чудо», они «сумели притянуть Средиземье к себе». «Они (ролевики. - Л. Д.) опять так поверят в магию, что в конце концов впустят ее в свой мир! Они откроют ей ворота! И мы (это говорит какое-то волшебное существо. - Л. Д.) вернемся! Мы, настоящие, вернемся! И поглотим тех – как солнце глотает пламя свечи – и опять будем в силе!»
Роман, сильным местом которого не назовешь «философию» и в общих чертах напоминающий развернутый сценарий новеллы для «Ералаша», при всей своей инфантильности вовсе не заслуживает, чтобы о нем рассказывали через губу. Толкиенистский материал (весь этот «фэндом», изобилующий экспертами по достоинствам «северо-западного» перевода, вкусу путлибов и подлинному смыслу быличек о Черном Хоббите) – действительно аппетитный, главные герои – узнаваемые и обаятельные, их остроумие как минимум соответствует санитарным нормам («Между прочим, в истории Средиземья зафиксирован такой факт, что майя Мелиан вышла замуж за эльфа Тингола. Это все равно как если бы дочь президента Дойчебанка влюбилась бы в обезьяну в зоопарке»), а некоторые сцены (вроде той, где профессор палеонтологии, ругающий писателя Иванова за брехню про Золотую бабу, превращается в Сарумана) имеют шанс стать шлягерами. Вообще, «Хомячки» – неожиданно точный роман про летнюю Москву, которая, обесточенная после отъезда всех-всех-всех, наливается таким млением, что в ней могут происходить самые фантастические истории; не говоря уже о том, что кое-какие капотненские пустыри в самом деле напоминают Мордор, а тамошние градирни, правда, – чистые Ородруины; у М. Галиной хорошее чувство города, и, если кто-нибудь ищет претендента на вакансию московского гения места, ему следует обратить внимание на автора этого романа. Раз уж зашла речь об авторе, было бы неправильно не вспомнить, что его имя – тоже бренд: работа Марии Галиной – «никогда не участвовавшей в ролевых играх по Толкиену», кстати, в качестве поэтессы, критика и сочинителя иронической фантастики, – безусловно, достойна внимания; и если мы редко ждем чего-нибудь выдающегося от книг с названиями вроде «Гиви и Шендерович» – или «Хомячки в Эгладоре», то это лишь признак нашей ограниченности.
Роман, сильным местом которого не назовешь «философию», в общих чертах напоминает развернутый сценарий новеллы для «Ералаша».
Евгений Даниленко. Меченосец
«Амфора», Санкт-Петербург
По «Меченосцу» снят одноименный фильм Янковского, и первую книжку писателя закатали в обложку-постер, но можно быть уверенным, что омский писатель Даниленко не останется в истории как автор одного – этого, по крайней мере, – произведения. Нож Даниленко выкинул вовсе не в «Меченосце», а во второй в сборнике вещи – «Кролике» (он же «Дикополь»). Это миниатюрный роман (автор имел бы полное право и на подзаголовок «поэма») про спецназовца из некоего элитного подразделения, чьи обстоятельства сложились таким образом, что он научился выживать в любых условиях. После того как из-за предательства провалилась миссия его и его товарищей – убить президента взбунтовавшейся кавказской республики, он попадает в плен, где принимает предложение руководить школой диверсантов – чтобы, дождавшись единственного шанса, использовать его на семьсот процентов: одной пулей он уничтожает семерых своих учеников и бежит. «Кролик» – еще одна версия сюжета «кавказский пленник» – держится не только на ритме и «спецназовском» сюжете (молниеносность, экономия движений, максимальная агрессия, жестокость и эффективность), но в первую голову на странной двусмысленности – когда ты так и не понимаешь происхождение улыбки на лице рассказчика: то ли он подпускает шпильки, то ли это у него рот исковеркан судорогой.
«На укромном островке посреди болота захваченный пленный во время форсированного допроса, когда, ну, вы знаете, генерал, от растянутого между четырех вбитых в землю колышков субъекта отрезаются небольшие, граммов на сто кусочки, во рту же у него деревянный кляп, так что громко кричать он не может, только стонет, хрипит, и вот, строгая партизана перочинным ножом, разведчики задают ему разные вопросы…» Даниленковская проза про войну вылита по какой-то неизвестной в здешней литературе матрице – и не по реалистической толстовской и не по романтической лермонтовской. Наверное, если бы полковник Курц из «Апокалипсиса сегодня» служил в 90-е в федеральной армии и задумал развлечь себя сочинительством, то написал бы что-нибудь вроде «Кролика».
Наверное, если бы полковник Курц из «Апокалипсиса сегодня» служил в 90-е в федеральной армии и задумал развлечь себя сочинительством, то написал бы что-нибудь вроде «Кролика».
Первый и третий романы в сборнике – «Меченосец» и «Танчик» – тоже об ангелах-истребителях и о жизни, пропитанной насилием, только в них боль и судороги исковеркали уже не стиль, а сюжет – до такой степени, что в него проник фантастический элемент. В «Меченосце» главный герой – человек, у которого между пальцев растет клинок, в «Танчике» – живой танк; и там и там – одушевленное оружие, только в первом случае смерть несет скорее человек, а во втором – скорее машина. Наверное, тут следовало бы упомянуть о «расчеловечивании» героя и стирании разницы между состояниями «войны» и «мира» – если бы не, опять, очевидная двусмысленность повествовательной манеры рассказчика: похоже, кризис гуманизма вызывает у него не столько слезы, сколько напряжение всех мышц и тестостероновую интоксикацию.
Сергей Солоух. Шизгара
«Время», Москва
Начало семидесятых. Двое молодых людей из города Южносибирска (что-то вроде Новосибирска, но еще восточнее) сбегают из дома, чтобы разными маршрутами оказаться в Москве, где якобы должен состояться концерт не то «The Beatles», не то «Deep Purple», не то «Led Zeppelin» – в виде послания капитана Гранта здесь циркулирует вырезка из какой-то газеты, где довольно туманно анонсируется нечто подобное.
Набор блоков предсказуемый, как тексты русских рок-групп: алкоголи, кодекс неформала, лирические отступления размером в главу, пластинки, «очередной шедевр Райт-Ковалевой», математические олимпиады, стальной браслет «Славы», сленг, много слов на английском и псевдоанглийском языке… «Шизгара» – это не совсем то, что строчка «Yeah, baby, she’s got it», – это настроение семидесятых в СССР, что-то вроде свинга для Парижа 60-х; Zeitgeist, воплощенный скорее в музыке, чем в чем-либо еще.
Роман не то что тотально смешной, но тотально остроумный, и это именно англосаксонская ирония – пусть с хохмаческо-мэнээсовскими обертонами, пусть слишком сибирская, – но это гораздо ближе к сибирскому Нику Хорнби, чем к сибирскому валенку.
Может быть, если б роман издали книгой в 1989-м, он стал бы таким же терминатором, как «Асса»; но проворонили, и теперь это просто железяка фигурного литья, крупнотоннажная махина, которую сдвинет с места разве что бульдозер; монумент языку, стилю, эпохе – и великому заблуждению. Заблуждению поколения, стремившегося на нерест западной рок-культуры – и упустившего время для собственного творчества; какое колоссально ложное движение – в Новосибирск, в Москву, в Лондон; какая колоссальная неэкономность. Это роман про людей, которые фатально не угадали. «Шизгара» кончается сценой из 1986-го – когда герой обнаруживает, что в Москве можно свободно купить пластинку «The Beatles», и берет себе «Вечер трудного дня» на все; это ведь очень плохой гешефт – но кто может сказать, что это плохой финал?
Идеологический анахронизм, слишком пышный, кишащий непереваренными цитатами от Пушкина до «The Doors», вдвое больший по размерам, чем стандартные романы нулевых, да еще посвященный тому, чего нет, нет, нет.
Трудно советовать кому-нибудь, кроме Севы Новгородцева и Маргариты Пушкиной, взяться за этот идеологический анахронизм, слишком пышный, кишащий непереваренными цитатами от Пушкина до «The Doors», вдвое больший по размерам, чем стандартные романы нулевых, да еще посвященный тому, чего нет, нет, нет. Роман виртуозный – это такая же поэма, как «Мертвые души», и такой же роман в стихах, как «Онегин» (или просто вещь, где доминирует стиль), но роман по большей части состоит из фраз такого рода: «Несколько часов спустя, около полудня, когда под звяканье подстаканников проводник купейного вагона скорого поезда Южносибирск – Москва Сережа Кулинич по прозвищу Винт с ленивой любезностью сообщил заглянувшему в его тесный служебный пенал пассажиру: „Барабинск, стоянка десять минут“, – в этот самый момент, когда Мишка Грачик, наглотавшись гордо раздирающего благовонного дыма, сидел, тяжелую, кайфа, правда, с первого раза не словившую, голову положив на плечо Бочкаря, Эбби Роуда, в этот самый момент в трехстах километрах к востоку Саша Мельников впервые за утро остался один»; трудно сказать, следует ли, зная о том, что нам предстоит, мчаться в книжный, чтобы взять «Шизгар» на все.
Однако это настоящий литературный памятник, и никто не убедит нас в том, что памятники можно игнорировать потому, что созданы они семнадцать лет назад, а события, которым они посвящены, гарантированно не повторятся ни на каком витке мировой истории.
Олег Дивов. Храбр
«Эксмо», Москва
Когда фантаст Олег Дивов «отреставрировал» русские былины, у него получились две остросюжетных повести об Илье Муромце. В первой храбр-богатырь Илья Урманин еще скрывает свои способности к дедукции (да и не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы, увидев кости, оставшиеся от жителей целой деревни, понять, что их съел людоед, рычащий в соседнем лесу) и попросту, без затей, обычным бревном, дерется с хтоническим чудищем, напоминающим хрестоматийного Соловья-Разбойника. Зато во второй – «Запас удачи» – Илья распутывает действительно сложную детективную интригу, связанную с пропажей – точнее, неожиданным обнаружением – княжеской серебряной чаши, которая нашлась в вещах одного из калик перехожих, юношей, высланных из Новгорода в паломничество в Иерусалим за пьяный поджог церкви. Все эти события разворачиваются на фоне напряженной международной обстановки: херсонесский стратиг Цула порвал с Константинополем, и басилевс просит киевского князя, чтобы тот живьем прислал ему мятежника; между русскими городами тем временем шныряет соглядчик франкского короля Болеслав, а из Греции возвращается афонский русский резидент Иванище Долгополый.
Обе повести выглядят очень современно – как правило, за счет интенсивных диалогов:
« – Илюша, а Илюша, – начал он ласково. – Как бить-то нечисть будем?
– Ты же берегиню поймал, коли не врешь. – Илья хитро прищурился.
– Да ну тебя, – сказал Лука. – Поймал – не прибил. И давно это было. Она раков искала под корягами у берега, зазевалась, а тут мы. Глядим – баба голая волосатая ковыряется на мелководье, лопочет что-то. Думали, просто дура местная. Сразу и не поняли. Руки ей заломали да по морде надавали. Морда страшная. Отпустили потом.
– Когда – потом?
– Ну… Потом.
– Одно слово – бояре.
– Да какие мы бояре.
– Будете.
– Это, конечно, вероятно». Если не знать, что речь идет о богатырях и не слишком обращать внимания на «берегиню» и «бояр», то можно датировать диалог гораздо более поздним временем, а богатырей принять, например, за омоновцев.
Трудно сказать, почему Дивов увлекся именно этим материалом – и почему реализовал его именно таким образом; сам автор уверяет в послесловии: «Былины могут подступать к реальности вплотную, главное – уметь это видеть».
Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы, увидев кости, оставшиеся от жителей целой деревни, понять, что их съел людоед, рычащий в соседнем лесу.
Алексей Слаповский. Оно
«Эксмо», Москва
Мировая литература привечает мужчин с влагалищем под коленкой и прочих существ, достопримечательных в половом отношении, – но не русская литература; тем заметнее сюжет нового романа Слаповского («Они», «Мы», «Участок») – в обычной советской семье рождается ребенок-гермафродит. Валько (то есть Валентин) тут же сталкивается с агрессивной подозрительностью общества, которая резервируется для любого типа инаковости, и проходит весь крестный путь Другого в традиционалистском коллективе – гибель и отречение родственников, травля, злопыхательство. Парадоксальным образом коллектив все же привлекает его – настолько, что гермафродит делает комсомольскую карьеру, причем по идейным соображениям: ему в самом деле хочется построить коммунистическое – бесполое, по идее, – общество.
Странно, что на этот раз любимый герой А. И. Слаповского – интеллигентное инфантильное существо – оказывается Другим в такой степени; но на самом деле это исключение лишь подтверждает правило. Можно было бы, конечно, сказать, что Слаповский сочинил русский «Кок’н’Булл» – гротескное повествование о мире, «где социальные и сексуальные характеристики перемешаны и заправлены, как овощи в салате»; что автор исследует сознание современного человека, который мутирует не только на психическом, но и на соматическом уровне; что традиционные представления о мужской и женской сексуальности перестали работать. Все это верно с точностью до наоборот; странным образом, у Слаповского аномальное «оно» – Валько – идеальный фон для того, чтобы показать склонность «их» – то есть всех – к норме.
Слаповский, даже когда сочиняет о гермафродитах, – детский, в высшей степени целомудренный писатель, рассказывающий истории об удовольствии от своей нормальности.
Сюжет «Оно» – не столько злоключения гермафродита в ВЛКСМ, сколько поголовное превращение эксцентриков и поэтов в добропорядочных филистеров. Здесь, в России, традиционные представления о мужской и женской сексуальности работают, и еще как; социальные и сексуальные характеристики – масло с водой; а все психосоматические мутации ограничиваются отдельной, одинокой, как устрица, личностью – да даже и она (оно!) без особых эксцессов проживает себе в Ясенево и дует на кухне зеленый чай как ни в чем не бывало. Так что и роман – даром что тут всю дорогу обсуждаются вопросы пола и сексуальной идентификации – гораздо менее пропитан сексом, чем отечественная литература в среднем, с ее Толстым, Бабелем или Буниным. Слаповский, даже когда сочиняет об уилл-селфовских монстрах, – детский, в высшей степени целомудренный писатель, рассказывающий истории не о жгучих тайнах пола и удовольствиях по ту сторону добра и зла, а об удовольствии от своей нормальности. В этом здравомыслии нет ничего от благоглупости: важно просто обнаружить пропорцию, при которой максимально эксцентричное «я» и максимально безликие «они» в состоянии сосуществовать настолько мирно, чтобы не пользоваться по отношению друг к другу жутким местоимением «оно»; она и обнаруживается – так что никакой стивенкинговщины от этого текста ждать не стоит.
РАЗДЕЛ IV «Номенклатура»
Дмитрий Быков. ЖД
«Геликон Плюс», Санкт-Петербург; «Вагриус», Москва
Роман ждали будто мессию. Предтечей предусмотрительно выступил сам Быков, пару лет назад опубликовавший свои «Философические письма», где излагал некую экстравагантную историческую теорию, из тех, что объясняет вообще всё, не хуже сайентологии или френологии; вообще-то, давал понять он, это будет роман, но роман пока еще сочинится, а открытие следовало «обнародовать» как можно скорее: «неумолимая деградация России происходит на наших глазах». Теория, указывавшая на существование невидимых связей между Шафировым и Кулибиным, Жуковским и Березовским, в кратком изложении выглядела захватывающей. Компетентность Быкова-романиста подтверждалась не раз, поэтому, натолкнувшись на такой анонс, можно было позволить себе ждать чего-то особенного, окончательных ответов на самые острые вопросы. Когда разрешение от бремени наконец произошло, оформление текста выглядело еще более многообещающим: «поэма», «самая неполиткорректная книга нового тысячелетия», дважды повторенное в предисловии слово «истина», самоуничижительная фраза «я родился для того, чтобы написать эту книгу», варианты расшифровки названия, где, среди прочего, предлагались «Живые души» и «Живаго-доктор»; сразу ясно, мгновенная классика.
Быков не солгал; «ЖД» в самом деле стоит несколько особняком в его творчестве.
Быков разворачивает перед нами свиток с картиной воображаемого будущего. Десятые годы XXI века. В России гражданская война, а впрочем, не совсем гражданская, поскольку регулярная армия воюет с так называемыми «ЖД» – евреями, которые считают российскую территорию своей и намереваются восстановить здесь некогда существовавший Хазарский каганат. Война, длящаяся третий год, так же деградировала, как и всё в России: боевые действия имитируются, свои расстреливают своих, а об исходе решающих битв политики договариваются друг с другом заранее. Важная подоплека непрекращающейся войны состоит в том, что так называемые русские, воюющие против ЖД, или «хазар» – это в основном «варяги», такие же захватчики, только с Севера. И те и другие угнетают так называемое коренное население – «васек», которые знай себе помалкивают; впрочем, и среди кротких сих находятся более пассионарные особи, которые нарочно стравливают между собой варягов и хазар, чтобы те уничтожали друг друга и поменьше обращали внимания на коренных.
В этой войне сходятся не только исторические, но и частные коллизии. Окольными путями, из ниоткуда в никуда, из пункта Ж в пункт Д, перемещаются множество персонажей – мотивированные, как правило, всеобщей «бесприютностью».
Главных героев – живых душ – в романе несколько: один (Громов) воплощает долг, второй (Волохов) пытливый ум, страсть к переменам и любовь к народу и родине, третий (Бороздин) разумный компромисс между западничеством и почвенничеством, четвертый (Гуров) жизненную философию «коренного населения», пятая (Анька) – милосердие и невинность, и т. д. Все они, легко догадываешься, представляют мнимо альтернативные версии автора – «приличные люди», выросшие в «нетепличных условиях» и «умеющие думать о великих абстракциях (потому что думать о конкретике в таких условиях выходило себе дороже)»; беда в том, что им нельзя встречаться; сцены, где они все-таки сходятся, в драматургическом смысле абсолютно беспомощны; один, напившись, все время говорит, другой молчит – а как же не напоить первого и не заткнуть рот второму: ведь если они будут функционировать в обычном режиме, то выяснится, что говорят они хором. Кроме двойников Быкова, правду здесь знают еще многие. О, сейчас я вам все объясню! – услужливо тянет руку очередной доброхот и объясняет: хазары – либералы, варяги – государственники, одни морально растлевают, другие физически уничтожают; коренные – ездят по кругу, у них украли историю…. «А почему кругами, Василий Иванович? Почему напрямую нельзя?» О, сейчас я вам все объясню – и опять: на колу мочало, начинай сначала. От частого повторения все это быстро обессмысливается и вместо «гула подземной истины» начинает напоминать свифтовские споры тупоконечников с остроконечниками.
Романные коллизии, которые можно извлечь из «теории», – гражданская война, споры идеологов, ознакомление непосвященных с конспирологической информацией, мнимая опасность: конец света – довольно быстро истощаются, а роман из этого – даже и символистский, без психологии, «живаго-доктор» – так и не складывается, и поэтому автору приходится бодяжить идеологическую кислоту нелепыми сюжетными трюками (подземный ход, монах в лодке), сатирическими сценами (которые на самом деле являются не сценами, а статичными карикатурами, причем, чтобы оценить степень их удачности, следует быть знакомыми с прототипами – Холмогоровым, Чадаевым, Псоем Короленко), комическими интерлюдиями, а также шутками, большинство из которых вызывают не столько смех, сколько оцепенение. « – Что же спеть тебе? – говорил как бы в задумчивости как бы слепой как бы старец с бандурой в руках. Он сидел на лавке в избе подполковника Лавкина, офицера, блин, ух, какого офицера» – ну да, «на лавке в избе Лавкина», что дает более-менее адекватное представление о типе юмора, принятого в «ЖД». Еще шутки? «С кухни внесли „Чудо в перьях“ – фирменное блюдо Цили Целенькой, шедевр варяго-хазарской кухни: лося, фаршированного поросем, фаршированного гусем, фаршированного карасем, набитым, в свою очередь, деньгами. В каждую купюру была завернута сосиска». Еще не догадываетесь, что напоминает это «Чудо в перьях»?
Роман нафарширован не только ядом, но и благими намерениями: он призывает нас осознать бессмысленность русской жизни, вечное прозябание, тот факт, что история сводится к неэффективному растрачиванию природных, в широком смысле, ресурсов: людей, плодородия почвы, нефти, добросердечия. Печка печет, яблонька плодоносит – и все это длится веками, а всем все так же плохо: и из-за того, что захватчики чередуются, а коренное население им потакает, история идет по кругу, по одним и тем же циклам, и от регулярности появления Шафировых, Кулибиных, Жуковских и Березовских положительно тошнит. Когда-нибудь рог изобилия все же иссякнет, и что-то делать все равно придется; так что уж лучше сейчас.
Впечатлительному читателю Быкова следует убить в себе варяга и хазара, а учуяв в себе признаки коренной расы («васьки»), пробудиться наконец от блаженного сна, спрыгнуть с карусели – и начать историю, пусть даже просто закончив ее, отправившись «туда, где ничего нет»; мне кажется, я более-менее точно излагаю намерения и пафос автора.
Роман – не шибко хороший и не бог весть какой плохой, зря Быков посыпал кудри пеплом в предисловии – так же и заканчивается: не хорошо и не плохо, а тем, что всем и так известно: «Не будет никакого конца света. Слишком все было бы легко, если бы случился конец света»; «И чем ближе он подходил, тем ясней понимал, что и за деревней Жадруново есть какая-то жизнь, но угадать ее невозможно, как невозможно из нынешнего лета увидеть будущее». Будет что-то другое, оптимистически предсказывает Быков. Улыбаясь вместе с его героями, мы не можем не отметить, что откровением такой финал является только для них, заморочивших себе голову теорией. Финал ложный; за катарсис нам выдали опровержение (самой жизнью) и так неправдоподобной теории.
Ну ладно теория – теория с самого начала вызывала подозрения в подтасовке фактов (которые даже не Быков-то подтасовал, а безвестные авторы газеты «Завтра», году так в 1997-м, в период Гусинского НТВ). Так ведь тут и до теории обнаруживаются странные гипотезы. Махачкала в Средней Азии, ацтеки, сражающиеся с инками за Юкатан, фраза «я знаю, что от перемены атомов молекула не меняется!», фраза «таинственные маневры, бессмысленные, как стояние на Калке», – сначала списываешь такого рода нелепости на собственный инстинкт блохоискательства, но чем больше набирается этих ляпов, тем яснее становится, что раз «стояние на Калке», то татары – это варяги, Петр – хазар, а Быков написал «поэму» в том же смысле, что «Божественная комедия», «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо»; а чего ж – фундаментальная некомпетентность может породить даже еще более экстравагантные теории. Быков, к сожалению, не является экспертом ни в истории, ни в географии, ни в физике, поэтому и теорию его (или его героев, как угодно) нельзя принять всерьез; а раз так, роман, где кроме этой теории есть только тошнотворные шутки и пафосные трюизмы, не может не вызвать известное недоумение.
Именно дна, похоже дна собственного творчества, достиг Быков, все пытавшийся упредить деградацию страны, в «ЖД».
Главные, однако, ляпы этого романа – даже не фактические, а языковые. У Быкова, патентованного златоуста и лауреата-чемпиона, здесь язык заплетается, он городит невесть что – потому что транслирует неправду, ерунду, и сам об этом подозревает, но не может остановиться. «В прессу вовсю проникало слово „супостат“. В детстве Волохову, увлекавшемуся тогда физикой, супостат представлялся прибором, регулирующим температуру супа, наподобие реостата, коим можно было умерять громкость; теперь мы на него бесперечь супились». Это типичный пассаж из «ЖД» – такой же вроде бы эффектный, как все здесь, но, если присмотреться, набор стилистических неточностей и бессмыслицы. Реостат регулирует силу тока и его напряжение; и «температура» здесь ни при чем. «Громкость» нехорошо «умерять» – ее можно регулировать, снизить; а «умерять» лучше требования или пыл. Архаизм «коий» – ни к селу ни к городу. Архаизм «бесперечь» дублирует архаичное звучание «супостата» с непонятной целью. Можно ли «проникать» – то есть распространяться, пробираться – «вовсю», изо всех сил, очень сильно? Либо «вовсю употреблялось» – уже употреблялось, либо «начало проникать» – но не «вовсю проникало». Слово «тогда» дублирует только что упоминавшееся «в детстве»; тройная игра слов – «супостат», «суп», «супиться» – ни к чему не ведет, они связываются через сознание героя – просто для того, чтобы оправдать желание автора пошутить. Все это просто набор слов, слов ради слов, шутки ради. Из такого сырого, стилистически неправильного – а на самом деле маскирующего ложь – материала слеплен весь роман.
Нечто большее, чем недоумение, вызывает не теория и не стилистические огрехи, а та безапелляционность, назойливость, отмороженность, с которой быковские идеологи навязывают теорию читателю и с которой автор третирует своих идеологических противников – какими бы отвратительными те ни были на самом деле. Быков, видим мы, на самом деле такой же отмороженный, так же безапелляционен, так же назойлив, так же утомителен, как ненавидимые им варяги и хазары. Он описывает хазарское панибратство с мировой культурой как омерзительное – только для того, чтобы очень скоро позволить себе фамильярность, какую не найдешь ни у какого Псоя Короленко: «Воцарилось благолепие. Хеллер отдыхал, Гашек сосал, и я тоже что-то плохо себя чувствую». Он скрежещет зубами из-за вульгарности варягов – и оказывается еще более вульгарен, чем его фантомные враги: «тут мастерски валяли ваньку – шерстяного человека с руками, ногами и, по особому заказу, хуем; правда, про последнее все больше ходили легенды – есть, мол, тайный мастер, но пьет и в последнее время все капризничает». Не называется ли это двойными стандартами? Еще как называется; Быков, несмотря на всю свою Weltschmerz и Unheimlichkeit, – сам варяг и сам хазар, если уж воспользоваться его терминологией.
«ЖД» можно назвать неполиткорректным, неостроумным, самонадеянным, монотонным, многословным, вульгарным, рыхлым, претенциозным, нелепым, как все чрезмерное, но, боюсь, в русском языке нет того слова, которым описывалось бы адекватно это чудо в перьях. Оно, однако, есть в английском – это «bathetic»: неожиданно переходящий от возвышенного стиля к вульгарному, ложнопатетический, напыщенный или чересчур сентиментальный. Это слово, между прочим, происходит от греческого bathos и означает «самое дно»; именно дна, похоже дна собственного творчества, достиг Быков, все пытавшийся упредить деградацию страны, в «ЖД».
Быков знает о том, что его роман bathetic – и поэтому снабдил его лейблом «поэма», списывающим огрехи в эпике и подмену чередования сцен чередованием стилей на лирические импровизации автора. Это сильный ход: да, в моем романе много чего не сходится, да, я многовато себе позволяю, да я небрежен и не слишком позаботился о читателе, зато я все объяснил, у меня живаго-доктор, живые души, поэма; можете считать роман отвратительным, но он уже в истории, ку-ку, гриня. Что это все напоминает, так это наклейку, которую водители, обладающие своего рода наглостью, прикрепляют к заднему стеклу своих побитых жизнью автомобилей: «мятая, зато пиzдатая».
Василий Аксенов. Москва Ква-Ква
«Эксмо», Москва
В 1952 году только-только возведенную высотку на Котельнической набережной заселяют элитным человеческим материалом сталинской эпохи. На восемнадцатом этаже формируются несколько любовных треугольников, из которых самый яркий – дочь знаменитых родителей красавица Глика Новотканная + семижды лауреат Сталинской премии поэт Кирилл Смельчаков + герой-подводник Жорж Моккинакки. Образцово-показательный дом ходит ходуном, шпионы путаются с джазменами, абхазцы – с японцами, а вставные комиксы о похищении Гитлера – с описаниями эротических буйств. Параноик генералиссимус перезванивается со Смельчаковым и собирается ликвидировать Тито; титоисты во главе с Моккинакки готовят покушение на кремлевского тирана; в окрестностях дома, среди складов затоваренной бочкотары, расхаживает Так Такович Таковский – узнаваемый любитель джаза из Казани.
Комедия положений? Фарс? Мемуары? Римейк «Дома на набережной»? Бери выше. Смельчаков пишет поэму о Тесее и Минотавре. Одну из героинь зовут Ариадна. В доме с утра до вечера обсуждают платоновскую «Республику». Еще один персонаж обзаводится крыльями и летит Икаром. В принципе, так может быть: сталинский ампир в самом деле рифмуется с античностью – здания-храмы, культ тела, культ философии и оргиастические забавы человекообразных небожителей. В принципе, наверное, это пародия на позорную главу нашей истории и культуры. В принципе, объяснить можно даже то, зачем в этой лохани плещется так много ужасных стихов главного героя – притом что синтезирован он из Симонова, Смелякова, Кольцова и Романа Кармена; в принципе, и гондон на глобус можно натянуть.
Сколько еще раз надо чмокнуть эту бородавчатую жабу, чтобы понять, что никакого принца там никогда не обнаружится?
Чего объяснить нельзя, так это то, почему, если бы этот «роман» – несмешной, неинтересный, неаккуратный – написал кто-то другой, его назвали бы графоманией, а с той фамилией, которая стоит на обложке, это литературная импровизация, «на манер джазовой», шутка аксакала-вольнодумца, этюд патриция на темы своей молодости. Патрицием какой, собственно, культуры является В. Аксенов? Какой цивилизацией порожден этот безграмотный, расхлябанный, ернический, подквакивающий стилек: «Пусть вся жизнь превратится в бег! В бег с Гликой! Пусть преследует даже вот этот Ахилл-сталевар, пусть видит во мне Гектора, а в ней Елену, черт с ним»? Боже мой: «Кесарево свечение»-ква-ква, «Вольтерьянцы и вольтерьянки»-ква-ква, «Москва-ква-ква» – сколько еще раз надо чмокнуть эту бородавчатую жабу, чтобы понять, что никакого принца там никогда не обнаружится?
Брэйн Даун. Код Онегина
«Амфора», Санкт-Петербург
Существует некий загадочный текст (Десятая глава «Евгения Онегина»), в котором предсказано будущее России (и особенно события 2008 года), за которым охотятся несколько организаций (ФСБ, негры-вудуисты) и который попадает в руки Саши (бизнесмена) и Левы (хомяковеда). Комические недотепы бегут от еще более комичных преследователей (по имени Дантес и Геккерн) и постоянно проваливаются в современные версии пушкинских сюжетов – от «Дубровского» до «Руслана и Людмилы»; жизнь подражает искусству с идиотическим рвением, но тут уж ничего не поделаешь – в таком галопе сгодится все, ведь Автору, точнее, Авторам – «Большому» и «Мелкому» – заказан «русский ответ „Коду да Винчи“», а такие вещи пишутся либо быстро, либо никак. Халтурщики сами стесняются своей ахинеи про колдунов вуду в Новгородской области, но лабают – а чего делать-то, гонорар надо отрабатывать; да, они – литературные негры, но не такая уж унизительная это, в сущности, профессия, если как следует подумать о Пушкине.
О Пушкине тут думают все – мимоходом распутывая биографические и текстологические мифы, от происхождения до «Натали». Пушкин здесь – не обязательно 1799-1837; он архетипический поэт, пишущий все стихи русской литературы; и наоборот, все поэты – Пушкины понемногу. Пересказывать здешние «мысли» почему-то совестно; где-то в романе есть шутка про гриф секретности: «Перед прочтением уничтожить» – пожалуй, именно так лучше всего и поступить с этим «Кодом Онегина». Но раз уж взялись – пеняйте на себя: к литературной турбулентности быстро привыкаешь.
Чтобы наблюдать пируэты этой талантливой левой ноги (чей силуэт не вполне совпадает с теми, что имел обыкновение вычерчивать на полях Пушкин) в течение 600 страниц, надо быть действительно поклонником Большого.
«Код» – тотальная пародия на «металитературный роман», восходящий в русской традиции к «Онегину» с его отступлениями, фигурой Автора, пародийной игрой чужими стилистиками и публичным расставанием с эстетикой романтизма; но эта литературная игра – не салонная птиже, а дворовое костоломство, пьяный капустник (с гэгами на уровне – Мелкий Автор недослышал издателя и думал, что нужен «Кот Онегина», и поэтому полромана герои носятся с котом, который затем, когда выясняется, что нужен КОД, а не КОТ, сбегает, за ненадобностью), шутка, зашедшая так далеко, что уже и не понимаешь, почему сидишь с открытым ртом – то ли потому что зеваешь, то ли обалдев от наглости авторов; а между прочим, может быть, когда-то именно так чувствовали себя первые читатели «Онегина» (притом что понятно: «чувствовали» и «может быть, чувствовали» – дьявольская разница). Катастрофическое Падение Качества или Намеренный Отход от Высокой Традиции? С какой стороны ни возьмись за эту палку, приходится признать – этому «брэйн дауну» удалось, кажется, прорваться если не к «настоящему» Пушкину, то по крайней мере к живому, немузейному – как бы сомнительно это ни звучало.
Спасает весь этот ужас-ужас легкость в мыслях необыкновенная, действительно необыкновенная; несмотря на то что все это гораздо, гораздо ниже плинтуса, уши не вянут – видно, что не вымучено, а просто писалось левой ногой. Другое дело, что для того, чтобы наблюдать пируэты этой талантливой левой ноги (чей силуэт не вполне совпадает с теми, что имел обыкновение вычерчивать на полях Пушкин) в течение 600 страниц, надо быть действительно поклонником Большого. Кстати, за вывеской, ограничивающей ответственность, скрывается очень известная отечественная фирма, и не думаю, чтобы секрет этих полишинелей долго оставался таковым хоть для кого-нибудь, – кто такой этот «брэйн даун», поняли бы даже Саша и Лева.
Словом, затея хоть и сельской остроты, но по-своему важная, да и как шутка, пожалуй, удачная.
Оксана Робски. Про любоff/on
«Росмэн-Пресс», Москва
Этот роман – самое время после несколько смазанного «Дня счастья» – отличается от двух предыдущих. То были «групповые портреты светских львиц» (В. Топоров); «Про любовь» – медальон с гордым травоядным, окапи со слезящимися глазами. Рассказчица – инженю, образованная, смышленая и далеко не такая оттопыренная, как тетки из «Casual» и «Дня счастья». Она преподаватель сценической речи, и ей выпадает шанс дать несколько уроков олигарху – красавцу мужчине Владу. Несмотря на полуседые бакенбарды и подмеченную склонность одеваться на манер Джигарханяна в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя», тот рвется в политику и формирует собственную партию популистского типа во главе с внуком Брежнева. Понятно, что с такими данными ему прямая дорога в следующую книжку Панюшкина – но пока что он клиент Робски: тем более что одновременно волосатое существо подбивает клинья под рассказчицу, а та, знамо дело, уже развесила уши. Проблема в том, что они люди разных сословий, у него очень мало времени, и еще он, как мистер Рочестер, скрывает свои отношения с женой.
Если оставить в стороне прочие достоинства Оксаны Робски – обаятельной, с приметливым и изворотливым умом, что она такое? Это человек, который сделался кем-то вроде носовой фигуры рублевской компрадорской буржуазии, кто репозиционировал всех этих «мультиков» и «вип-випычей» из анекдотических новых русских в солидную старую аристократию, которая – по ее мнению – качественно отличается от всех прочих классов, ранее претендовавших на статус гегемона, и потому – имеет право (см. первые два романа). Те, кто был исключительно чьим-то еще социальным материалом, в ее книгах развились до уровня саморефлексии, заговорили. Очень характерна в этом смысле профессия героини нового романа: она учитель речи, профессор Хиггинс в своем роде. Абсолютное попадание: она – как и Робски, по сути, – учит этот класс артикулировать себя не как новорусских жлобов (и не зря она заставляет своего ученика ломать язык словом «жлобственничественность» – надо же отучить его от вульгарности), а как регенерировавшуюся старую национальную (не зря она учит своего олигарха не словам типа «регенерировавшуюся», а антикварным скороговоркам: «добыл бобов бобыль») аристократию, наследников «вишневого сада» (не зря она прививает ему архаичную старомосковскую норму: «Произнеси правильно слово „брюзжать“: вместо „з“ и „ж“ – два „ж“. ‹…› Так же произносятся „дожди“ и „дождливый“ – „дожжи“ и „дожжливый“»; с таким произношением (и бакенбардами) ему лучше пойти в Малый театр, чем в Думу, но это детали).
Ни одна тварь не гавкает здесь просто так; с какой же стати третировать тексты по половой принадлежности?
Робски, безусловно, не кто иная, как русская Бронте (с ударением на первом слове) – что видно не только по ее сюжету (злоключения добродетели в современном мире), но и по степени ее профессионализма. Здесь все очень кстати и все – без сучка без задоринки. От названия (off/on – любовь то включается, то выключается, как электричество; героиня, пишущая диссертацию «на основе методик Френсиса Бэкона», где доказывается, «что логика – это кратчайший путь к тому, чтобы вызвать доверие к своим мыслям, а значит, и к словам», – воплощение рациональности; сердце – регулируется; «бобыль» – on, «жлобственничественность» – off) – до композиции. Неожиданно посреди книги происходит «разворот над Атлантикой»: нам показывают то же самое, но теперь с другой стороны – со стороны красавца олигарха и его жены, якобы несущественной. Этот трюк, каким бы затасканным он ни был, мало того что очень освежает повествование – так еще и в последний момент позволяет свести все-все концы с концами.
В интервью Робски непрерывно жалуется на склероз – «я забываю имена своих героев»; зато у нее генетическая память на прасюжеты фольклора и сентиментальной литературы – которые она и прописывает на современный лад. Публике это нравится, потому что, сознательно или бессознательно, мы узнаем их – и это тоже один из факторов феномена Робски. Например, «трогательная» сцена, где у героини на сапоге ломается молния и ей приходится заматывать голенище скотчем под джинсами – не разденешься. «Трогательно» это не потому, что Робски стала писать и про «бедных», а потому, что мы знаем этот сюжет, этот мотив инвалидности, эту хромоножку, женщину-унопеда, красавицу с умилительным изъяном – только в современном, и даже более того, антураже. Гд е оказывается эта серая шейка со своей позорной ногой? Правильно, в Третьяковском проезде.
Конечно, не следовало бы нахваливать эту «Любовь» с капитан-лебядкинской настойчивостью; в конце концов, это всего лишь дамский роман – похожий на пуфик, усаженный плюшевыми игрушками. «Про любовь» кишит зверьем – у одной здесь собака, у другого акула (а раньше он торговал пекинесами), у третьего – тоже собака, четвертый подумывает о лошади, и на этом список не заканчивается. Зато ни одна тварь не гавкает здесь просто так; с какой же стати третировать тексты по половой принадлежности?
Три романа за 12 месяцев, и каких; и жалко еще, что мало. Но – «Надо быть леди – лучше лишний раз не дать, чем дать лишний раз», одергивает себя однажды героиня «Дня счастья»; так и Оксана (Шарлотта? Эмилия? Анна?) Робски – блюдет себя и не опускается до уровня Быкова и Проханова.
Борис Акунин. ФМ
«ОЛМА-ПРЕСС», Москва
«Современные» свои романы Акунин верстает из произвольных комбинаций актуального, винтажного, курьезного и экзотического, в смысле пропорций целиком полагаясь на свой природный вкус.
Материал выпуска, помеченного датой «лето-2006», – рынок автографов, писатель Достоевский, в том числе его психические отклонения, сексуальная жизнь и природная неспособность к бизнесу, будни Рублевки, мир подмосковного криминала, трудности малого бизнеса, оборотни в погонах, сленг наркоманов, глянцевые журналы, супружеская измена, японские комиксы. Все эти темы – которые гарантированно вызывают у клиентуры интерес – раскрыты в романе с одинаково удовлетворительной степенью убедительности; даже при том, что коэффициент новизны стабильно держится на нуле, если манипулятор будет комбинировать информационные блоки с известной скоростью, то само их чередование уже способно увлечь человека, которому надо же оправдать перед самим собой трату 15 долларов на двухтомный аттракцион; а тут еще и бонус, все названия глав на «ф» и «м», приятно и неожиданно.
К Николасу Фандорину – это который баронет с Солянки – попадает неизвестная рукопись Достоевского, черновой вариант «Преступления и наказания». В ней Порфирий Петрович расследует серию загадочных убийств и подозревает студента Раскольникова… а тем временем оказывается, что рукопись стоит баснословных денег, и, раз так, у нескольких конкурирующих злодеев появляется неплохой шанс приступить к рассказу о мире подмосковного криминала, буднях Рублевки и трудностях малого бизнеса.
«ФМ» – типичный акунинский иронический детектив: его пресные мысли, неправдоподобные сюжетные перипетии и плоский юмор давно уже не способны вызвать ничье раздражение, тогда как мелкие удачи – с блеском исполненный заезженный фокус с выявлением альтернативного убийцы в хрестоматийном произведении, забавный способ сбросить все объяснения сюжетных нестыковок в примечания, наконец, раскиданные по роману там и сям ненужные, но и нелишние иллюстрации – вызывают неконтролируемое желание чмокнуть умницу автора в макушку. С каждым разом, замечаешь, нам нужно от этого писателя все меньше: еще немного, и Акунин будет продавать простую чехарду букв – Ф прыгает через спину М, М разбегается и перескакивает через Ф, Ф запрыгивает… – и мы опять не найдем особых причин, чтобы не заплатить ему за это динамичное шоу.
«ФМ» – типичный акунинский иронический детектив: его пресные мысли, неправдоподобные сюжетные перипетии и плоский юмор давно уже не способны вызвать ничье раздражение.
Александр Проханов. Теплоход «Иосиф Бродский»
«Ультра.Культура», Екатеринбург
В этот раз Проханов крутанул штурвал сильнее прежнего – и, похоже, «Теплоход» протаранит-таки мол, за которым укрывались от иронии скептиков самые преданные его читатели, чтобы, затонув, надолго стать рестораном-поплавком, где будут проводиться конференции на тему «Проханов – графоман».
Это раньше он клепал реалистические романы «с галлюцинациями» про отставных генералов, сражающихся с либеральными нуворишами и – иногда – с ожившими грибами. Сейчас Проханов не столько сочинил роман, сколько записал на 600 страницах свой сон, в котором «реалистического» – то есть действительности в ее типических чертах – столько же, сколько в колриджевском сне о Кублахане. Из Москвы в Петербург отплывает теплоход «Иосиф Бродский», на котором политики, олигархи и челядь из культуры справляет свадьбу угольного магната Франца Малютки и светской львицы Луизы Кипчак. Главный герой – глава президентской администрации Василий Есаул, – узнав о том, что его шеф отказывается идти на третий срок, лавирует между кишащими на судне врагами России, пытаясь сохранить власть во что бы то ни стало. Пока на «Бродском» элита закатывает оргии и общается с духом нобелевского лауреата, под Воркутой погибают несколько шахтеров, один из которых превращается в ангела-истребителя; прокопав под землей лаз, он выныривает в Исаакиевском соборе, чтобы отомстить либералам, геям и американцам за все, что они сделали с его родиной. Тем временем скрывающийся в Петербурге от преследований газеты «Завтра» «писатель Проханов», побеседовав еще с одним ангелом, отправляется на Васильевский остров, где, прислушиваясь к внутреннему голосу, записывает стихотворение Бродского «Ни страны, ни погоста…».
Сразу следует сказать, что в масштабе 1:1 это гораздо чудовищнее, чем в пересказе; роман, по сути, состоит из бесконечных описаний половых органов, «изысканных» блюд и цветовых галлюцинаций. Как писал Роберт Грейвз о Киплинге – с которым справедливо сравнивают Проханова, – «нет смысла пародировать его; все равно его самого не превзойдешь». Это даже не сатира уже – потому что сатира обличает негативные явления действительности, а тут химеры и горгульи, и все. Удивительная вещь для Проханова – который, были времена, превосходил конкурентов именно остротой приметливого журналистского глаза. «Теплоход», такое ощущение, написал слепой, у которого остались только воображение, память и идеи. Писатель не стал разыгрывать даже самую очевидную карту – водный маршрут Москва – Петербург. Герои просто плывут по абстрактной Волге, натыкаясь на курьезные анклавы вроде чеченской и китайской деревень или генерала Макашова, бьющего в набат на затопленной колокольне. Это сугубо визионерская вещь, где вместо деталей – символы, вместо логических связок – причудливая агглютинация сна. Главный герой – Василией Есаул – есть гибрид Игоря Сечина, Владислава Суркова, Дмитрия Козака, Александра Проханова и Александра Руцкого: менеджер-силовик, изворотливый политический модельер, патриот-государственник, империалист, пророк, близнец и антипод Бродского, военный летчик, сбитый в Афганистане и распятый в плену моджахедами. Не спрашивайте, как такое может быть: это сон, и самое время взяться за его толкование, чтобы понять, с какой стати Проханов взялся его пересказывать.
У романа, на отделке которого автор хорошо сэкономил, есть, однако, настоящая боеголовка. Изданный пятитысячным тиражом, «Теплоход» на самом деле адресован трем-четырем читателям. «Иосиф Бродский» – ужасно неуклюжая попытка всучить перспективным фигурам из президентского окружения – сечину-суркову-козаку-медведеву – барашка в бумажке, политический аванс, вовлечь их в свою орбиту. Если перевести провокационный мессидж витиеватого романа на вульгату, то получится вот что: «Ребята, Путин вот-вот уйдет и сдаст вас – ну так ответьте ему тем же, если не хотите отправиться в Гаагский трибунал. Продолжив политику восстановления империи, вы не потеряете свои должности, яхты и нефтяные компании, но спасете Россию от либерально-еврейского Антихриста, сбережете народ и заслужите вечную славу». Рисуя Есаула силовиком-интеллектуалом, Проханов предлагает своим колеблющимся политическим партнерам ролевую модель, соблазняет их – и проповедует. «Вот та грязь, в которой вы пребываете (сексуальные оргии), вот те, кто растерзает милую Россию (евреи и американцы), вот то, кем вы можете стать (Сталин)». Я, говорит он, снабжу ваш проект идеологией, обеспечу вам миф: героическую биографию – и место в истории. Я инвестирую в вас свою великолепную фантазию и свою безупречную кровь, привью вам лучшие, избранные гены – полковника-афганца, художника-последнего-солдата-империи. Я сделаю из вас, менеджеров-временщиков, былинных героев. Я достаточно квалифицированный соловей Генштаба, чтобы защитить вас от ястребов Пентагона.
«Я достаточно квалифицированный соловей Генштаба, чтобы защитить вас от ястребов Пентагона».
Такова прикладная функция романа. Но он не сводится к открытому письму вельможам; есть еще и более глубокая причина, для чего Проханов взялся пересказывать свой сон о теплоходе, – и вот тут мы возвращаемся к «либерально-еврейскому Антихристу», такие вещи надо комментировать. Роман написан, чтобы выяснить отношения со своим ровесником и двойником: Бродским. Почему выяснять эти отношения следует во сне, с фантомом? Потому что в жизни Проханов и Бродский никогда не встречались.
Во время спиритического сеанса Есаул-Проханов чувствует «трагическое единство и сходство» с Бродским: «вращаясь в разные стороны, оба двигались вокруг единого центра, придавая устойчивость шаткому миру». Внимательные читатели Проханова знают, что его всегда занимали пары не существующих отдельно друг от друга антиподов, «классические диполи», как он их называет: жертва и палач, художник и модель, автор и редактор. В «Теплоходе» нам открывается еще одна серия таких диполей: мессия и Антихрист, ангел и бес, русский и еврей, Проханов и Бродский. Это – наконец-то: его столько лет пытали, антисемит он или кто, – роман про русско-еврейский вопрос.
Евреи, в концепции Проханова, – мистические близнецы русских. Они не просто сожительствуют на одной территории – их отношения разворачиваются в космической, религиозной сфере. Русские выкликают второе пришествие Христа, а евреи воскрешают Антихриста (в романе – Троцкий, и не заставляйте меня пересказывать этот трэш). Одни паразитируют на других, но и те и другие при этом разгадывают одну и ту же загадку мироздания. Бродский в романе – что-то вроде идеального еврея, равновеликий прохановский двойник, пророк с той стороны; «оба они были сосудами, в которых гудел голос Бога, трубами, из которых дул огненный псалом». Чтобы в России произошло второе пришествие, там должен воцариться Антихрист, которого, по мнению Проханова, произведут евреи. Именно поэтому вот уже много лет эти две страдающие аллергией друг на друга нации сосуществуют – и парадоксально необходимы друг другу.
Из «Теплохода» можно набрать таких цитат, что за Прохановым начнет охотиться «Моссад»; но едва ли можно обвинять Проханова в подсудном – и даже зоологическом – антисемитизме: призывах к этническим чисткам или чему-то подобному. В сущности, «Теплоход» – вовсе не анафема евреям, но предложение о партнерстве, подход делового человека: работайте в своем направлении, мы будем – в своем, и, будьте уверены, если каждый исполнит свое предназначение, мы непременно обнимемся на Страшном суде, где ваш Бродский станет автором моего «Красно-коричневого», а я, Проханов, выведу на чистом листе его «Ни страны, ни погоста…» – чем, собственно, и заканчивается этот роман, безобразно неполиткорректный, но не расистский, нет.
Как известно, самый знаменитый сон в мировой литературе, сон Колриджа о Кублахане, был прерван неким человеком, который вошел в историю под именем «обыватель из Порлока» – он разбудил поэта. Можно не сомневаться, что найдется немало раздраженных обывателей из Порлока, которые станут осаждать дом визионера, чтобы разрушить его «Сон о Бродском»: «хватит этой бредятины про „Луизу Кипчак, с ног до головы покрытую пиздами“», «рехнулся окончательно», «сколько можно путать литературу с политикой». И, да, порлокцы в своем праве – политическая деятельность Проханова в самом деле коверкает внутренние органы его романов; и, да, проповедь, сатира, политический ангажемент, религиозный трактат и медитация не срослись в роман, и знакомиться с этим сном мучительно. Означает ли это, что скептики – все те, кто считает Проханова сумасшедшим графоманом, запрограммированным на бомбардировку книжных магазинов раз в полгода килограммовым томом, – получили в мае 2006-го колоссальную фору? Мы видим, как, в режиме реального времени, писатель – предвзятый, озлобленный, но не желающий лицемерить – решает щекотливые, табуированные, болезненные – но действительно, чего смеяться, насущные политические, религиозные и нравственные вопросы; как он на глазах у нас производит значительную и очень тяжелую работу, уголь в шахте рубит; и прежде чем клевать этого труженика за дефицит артистизма и обклеивать ему спину записочками «графоман» и «автор худшего романа года» – подумаем, а сделает ли эту работу кто-нибудь, кроме него.
Юрий Мамлеев. Другой
«Эксмо», Москва
Транссибирский экспресс несется на восток. Молодой путешественник Леня Одинцов слышит из динамиков пение:
В вагонах бюсты, в вагонах – люстры, В вагонах раки жуют министров, В вагонах быстрых летают ящеры, А мне не страшно, я – некурящий.Поезд, объявляют, идет на станцию Преисподняя. Так начинается новый роман Мамлеева, удивительным образом не проигрывающий от соседства с хрестоматийными «Шатунами» и рассказами.
Юрий Витальевич, что естественно для метафизика, не принял капитализм, и особенно в его русской версии; но и в «Блуждающем времени», и в «Мире и хохоте» Мамлеев сканировал либо небеса, либо подполье. И вот наконец он скользнул взглядом по поверхности земли – и написал «актуальный» роман, картину выжженной дьяволом реальности. Капитализм – система зла, превращающая живых в мертвых; живых здесь травят фальшивыми лекарствами и продают на органы. Среди толп униженных и оскорбленных выделяются «другие» – шатуны новой формации, в блаженном полубреду упивающиеся своей инаковостью в маленьких квартирках, дачках, кафешках и больничках и «не любящие князя и его правды», – не желающие жить по «здравому смыслу». К этим невинным душам льнут грешники, способные воскреснуть, – в частности «другой» капиталист Трифон Лохматов, готовящийся закрыть свой криминальный бизнес и создать «Институт паранормальных исследований». «Цель… прорывы в параллельные и иные миры, хаос, гульба по всей Вселенной, видимой и невидимой. ‹…› С чего-то надо начать. Пробьем стену в два-три параллельных мира, не исключаю даже и ад, хотя это дело деликатное, и такая гульба тогда начнется – у всех обывателей мозги перевернутся вверх дном. ‹…› Но я удалец в этом, все рассчитал, не как Мефистофель, а лучше. Денег с лихвой хватит, чтобы купить землю, желательно где-нибудь в Азиатской России и параллельно в Индии, около Гималаев, поближе к Тибету. И организовать банду метафизических головорезов, бандитов неведомого». Этот смехотворный Трифон Лохматов – настоящая писательская удача Мамлеева и законный наследник островско-горьковских купчин; дикое неправдоподобие и гарантирует ему воскрешение.
Смехотворный создатель «Института параномальных явлений» Трифон Лохматов – законный наследник островско-горьковских купчин.
Потаенный магнетизм «Другого» как раз в смехотворности. Фоновая, растворенная по всему тексту ирония конденсируется в откровенный карнавал только раз – в сцене, где шатуны сочиняют донос на производителей поддельных лекарств: метафизическое подполье, решившееся на контакт с реальностью, пишет анонимку на подполье капиталистическое. Это восхитительно смешно; и есть шанс, что транссибирский экспресс, где в одном вагоне с нами едет писатель натюрмортов, умеющий так улыбнуться глазами – «а мне не страшно», проскочит станцию Преисподняя без остановки.
Анатолий Найман. О статуях и людях
«Вагриус», Москва
С этим писателем заранее знаешь, что ты будешь ерзать и мучиться от скуки, что пишет он, будто ногти грызет: какие-то интеллигентные старики, которые не то оправдываются в чем-то, не то стучат друг на друга и мусолят архиважные подробности разыгранной пятьдесят лет назад сцены, и то ли это будут мемуары, то ли автобиография – но: «Хуже всех играл Пушкин. Просто занимал место на площадке, тормозил любую комбинацию». Так начинается «О статуях и людях», и так же можно сказать и о Наймане. Он тормозит любую комбинацию – но он Найман и умеет отлить первую, и не только первую, фразу для романа, так что попробуй-ка не принять пас от этого истукана – сам же и не простишь себе. В баскетбол со статуями играют молодые скульпторы, которые познакомились в 1945-м – и с тех пор их отношения не прерываются. Ни у одного биография явно не тянет даже на психологический роман, не то что на остросюжетный, но у Наймана цепкая память на ничтожные события и способность оплетать ничтожные события капроновой словесной паутиной, вплетать в этот волосяной ком проволочные каркасы, вытянутые у предшественников, от Каменного гостя до Статуи, играющей в свайку, – и узелки завязываются, роман сцепляется.
Найман умеет отлить первую фразу для романа, так что попробуй-ка не принять пас от этого истукана – сам же и не простишь себе.
Про эту историю головы не нам чета бают, будто на самом деле речь идет не о скульпторах, а об «ахматовских сиротах», поэтах то есть, но поскольку универсального ключа к роману все равно нет, то наверняка ничего сказать нельзя, а тыкать пальцем в персонажа по имени, допустим, Скляр – «а это на самом деле Рейн» – не вполне корректно, с нашей, по крайней мере, стороны. Кому надо, и так все поймет.
Виктор Пелевин. Empire V
«Эксмо», Москва
Анекдот о похищении черновой версии «Empire V» из компьютерной сети «Эксмо» с последующим размещением в Интернете войдет в историю литературы – вот только не как криминал, а как курьез. Дело в том, что на этот раз сетевой гнус, предполагавший стащить «нового Пелевина», что, по сути, означает – обрести «ковчег завета», «обновленную версию откровения о том, как все устроено», ткнулся хоботками в кенотаф, пустышку. И не потому, что черновик радикально отличается от финальной версии или что роман плохой, а потому, что этот роман как раз о том, что романов о том, как все устроено, и так уже достаточно.
Юноша по имени Рома Шторкин работает грузчиком в универсаме, не имея ни малейших шансов оказаться в той жизни, которую рекламируют в глянцевых журналах. Однажды он замечает на асфальте объявление «Реальный шанс войти в элиту. 22.06, 18.40-18.55. Второго не будет никогда», идет по стрелкам и, укушенный кем надо, становится вампиром Рамой. Все его коллеги носят имена богов – потому что стоят выше человека в мировой иерархии. Как именно вампиры управляют людьми, Раме расскажут на специальных лекциях по гламуру и дискурсу, на первой дегустации и на праздновании дня грехопадения.
Романист Пелевин всегда питал склонность к эффектным конспирологическим объяснениям событий новейшей истории: чем в действительности был дефолт 1998 года, кто такие на самом деле оборотни в погонах и что подразумевает «стабильность», зиждящаяся на экспорте нефти марки «Urals». В новом романе выясняется, что за всем стоят вампиры, которые сосут не столько кровь, сколько «баблос». Почему именно вампиры? Надо полагать, Пелевина, пытавшегося подобрать отмычку к нынешней картинке эпохи, перещелкнуло, когда он засек билайновскую рекламу с «мобильными вампирами», так же как пару лет назад он среагировал на «оборотней в погонах». Дальше вокруг этой отмычки соорудилась дверь, комната, дом, город, мир. Вампиры? А почему нет. В Англии юноша Рома Шторкин, которого никуда не пускают, потому что все уже поделено, был бы Гарри Поттером, в России, с официальным блокбастером про «Дозоры», – летучей мышью.
Вампирская версия – которую Пелевин эксплуатирует очень энергично; не исключено, кровососы не заслуживают столько шуток, сколько тратит на них автор, – может показаться чересчур эксцентричной и заведомо клоунской, но она вполне рабочая. Пелевин фирменным жестом навел фокус – и картина мира, в которой за последние год-два произошли определенные изменения, обновилась и вновь обрела отчетливость и цельность. Пелевин закатал в роман все «тенденции»: робски-гламурный и минаевско-антигламурный ажиотаж, патриотический гламур газеты «Завтра» и конденастовскую идею о гламуре как национальной идее России, бум «блогосферы» и засилье ненастоящих человеков, третий срок, сумеречный дозор и Пятую империю. В романе ясно прописано, что все эти «тренды» взаимосвязаны и являются разными сторонами одного и того же явления. Гламур – идеология диктатуры, реклама – ее агитпроп, тогда как официально дозволенный диссидентский, антигламурный клапан – блоги, рейтинг которых публикуется где? – правильно, в глянцевых журналах. «Культурой анонимной диктатуры является развитой постмодернизм». Империя? Безусловно, но империя, расширяющаяся виртуально, за счет увеличения количества экспертов и расширения количества медиа; меньше надежной информации, зато больше глянца и больше блогов. Гламур стимулирует потребление, антигламур – престижный способ кидать понты – тоже в конечном счете его стимулирует.
Пелевин сейчас уже старше, чем Гоголь перед смертью. Его новый глиняный пулемет безыскуснее и грубее, чем обычно; кое-какие очереди из него сошли бы за завещание.
Пелевину принадлежат копирайты на десяток-другой злых афоризмов, но не обязательно читать «Empire V», чтобы понимать суть происходящего – хотя бы потому, что основные законы Пелевин сформулировал в предыдущих своих романах, которые уступили место в списке бестселлеров «Духless’у», но, поскольку временная администрация северной трубы так и осталась временной администрацией северной трубы, нисколько не потеряли свою актуальность.
Именно поэтому вампир Рама, ударившийся в апокалиптическую прогностику и тютчевские размышления о хтонической сущности России и цикличности отечественной истории («Зачем скажи Начальнег мира // Твой ладен курицца бин серой?»), проигрывает поэтическую дуэль в финале романа. «Взрослеть пора» – задним числом вразумляет героя один из его учителей. Объяснение того, как все устроено, критико-сатирическое высказывание по поводу происходящего и выкликание катастрофы – больше не тема.
Поначалу кажется, что «Empire V» – пародия на роман воспитания, где герой-простачок обучается магическим искусствам, набирается сил и вливается, как и было ему обещано, – в элиту. Однако на самом деле это роман про потери – отца, матери, страны, невинности, души, друзей, Бога, учителей, надежды, возлюбленной, от которой остается только голова на шее ноги. В конце концов его лимит перемещений и социальных трансформаций исчерпан, и единственное, что у него осталось, – возможность в неограниченных количествах «сосать баблос». Он – князь мира сего, «Начальнег мира»; лучше, чем быть грузчиком в универсаме, но у грузчика есть хотя бы надежда; у князя мира сего – нет, и непонятно, как, зная все, жить дальше. Вот про это роман.
Пелевин, который сейчас уже старше, чем Гоголь перед смертью, все более мрачен и все менее себя контролирует (иногда это выражается в фельдфебельских шутках, иногда в гоголевско-булгаковских – прямой наследник все-таки – «лирических отступлениях»). Его новый глиняный пулемет безыскуснее и грубее, чем обычно; кое-какие очереди из него сошли бы за завещание. Пелевину уже не интересно выписывать портреты, выискивать типажи эпохи, подробно прорисовывать образы. Люди, даже самые эксцентричные, по существу, одинаковы; в секторах целевой аудитории пусть разбираются маркетологи, а писателю это ни к чему. Мир, населенный жертвами одного и того же агитпропа, так однообразен, что писателю остается не описывать фрагменты этого мира, а всего лишь точно позиционировать их в пространстве и контексте. Когда беседующие герои гуляют по Москве на отрезке между «Шангри-Ла» и Храмом Христа Спасителя, мы ничего не узнаем об антураже этой прогулки: автор формально фиксирует дислокацию персонажей, даже не пытаясь еще как-то привязать диалог к реальности. «Бентли» героини снабжается характеристикой следующего содержания: «большая зеленая машина, в которой было нечто от буржуазного комода, принявшего вызов времени». Трудно сказать, как квалифицировать это минималистское письмо – то ли как брезгливую вежливость по отношению к читателю, то ли как горькую иронию.
У нас нет серебряной пули для этого «Empire V». Выдающееся ли это блюдо или всего лишь дежурное? Охуительный это роман (в терминах пелевинских халдеев) – или всего лишь охуенный? Независимо от суффикса, он производит странное впечатление – возможно, потому, что в нем так ничего и не произошло. Пройдя длинный путь на вершину Фудзи, герой узнает наверное, что и там все то же самое; что неважно, какая именно нечисть правит миром и как конкретно будет выглядеть неминуемый апокалипсис. Читатель между тем помнит, что о чем-то таком Рома подозревал и до встречи с вампирами; так из-за чего, собственно?.. Это несколько разочаровывает – наверное, потому, что подлинный антигламур разочаровывать и должен.
Юлия Латынина. Земля войны
«Эксмо», Москва
Северный Кавказ, вымышленная республика Северная Авария-Дарго. Несколько лет назад чеченцы захватили и заминировали здесь роддом, и когда кто-то привел в действие взрыватель, погибло около двухсот заложников. Несколько недель назад здесь убили полпреда президента Панкова, о котором шла речь в романе «Ниязбек». Вот-вот будет продана должность местного президента – ею торгует Федор Комиссаров, новый полпред. И вот из Москвы едет ревизор: федеральный чиновник Кирилл Водров. Его глазами мы наблюдаем, как проходит нелегальный тендер, какими методами и кто в республике «борется с терроризмом», кто и кому мстит за роддом.
Роман оснащен табличкой «Данное произведение – художественный вымысел. Всякое совпадение имен, мест и событий является совершенно случайным», которая в случае Латыниной означает: у вас есть достаточные основания доверять этим случайностям больше, чем любому официальному документу. И действительно, если официальные репортажи, подразумевающие непостижимый симбиоз боевиков и спецслужб, только озадачивают, то в романе внятно объяснено, как получилось, что бывшие боевики теперь Герои России и офицеры ФСБ, как выглядят на самом деле спецоперации по обезвреживанию террористов, каким образом бандиты проезжают через любое количество блокпостов. По правде говоря, больше всего «Земля войны» похожа на «все, что вы хотели знать о том, что происходит на Северном Кавказе и как так получилось», – если здесь о чем-то и не сказано, то можно догадаться по аналогии.
Латынина, с одной стороны, живописует нравы гор – то есть этнический колорит, всех этих пламенных боевиков, с другой – показывает экономическую и политическую подоплеку сепаратизма: как, по сути, федеральный центр платит гигантские деньги не региону, а нескольким конкретным людям, которые откатывают за это некий процент Москве. Дальше бюджетные миллионы расходуются покупателями должностей на местах по своему разумению – часто на финансирование боевиков. Если территория и контролируется из центра, то за счет комбинаций спецслужб, которые стравливают между собой элиты и не дают им выступить против России объединенным фронтом. Таким образом, война – то есть управляемый хаос – в регионе выгодна всем, поэтому те, кто в самом деле помышляет о восстановлении мирной жизни, выглядят здесь белыми воронами.
Латынину часто обвиняют в том, что она любуется своими бандитами, но это неправда. В романе нет «хороших парней» – есть только совсем чудовищные и не очень. Вместо «хороших» и «плохих» латынинские герои очевидно делятся на еще живых и окончательно мертвых. Разница между ними не наличие совести и не легальность методов, не признаки «кавказец – русский», «исламский фундаменталист – светский человек», «совестливый – бессовестный», «романтический разбойник – алчный бандит» (это не для Кавказа, где все перепутано), а – очень тонкий критерий, заметим, – насколько душа человека изъедена войной. Если на сто процентов, как почти у всех чеченцев и почти у всех русских спецслужбистов, если человек озабочен только местью и властью – значит, мертвец. Если человек хоть чуть-чуть помнит, что, вообще-то, война идет ради установления мира, – значит, шанс есть, душа жива. Наименьшее зло в «Земле» – и главные герои романа – братья Кемировы, Заур и Джамалудин, социально ответственный бизнесмен и совестливый боевик. Они воюют, они мстят, каждый по-своему, но они не спеклись, они – живые.
Вместо «хороших» и «плохих» герои делятся на еще живых и окончательно мертвых.
Главная проблема романа состоит в том, что в силу колоссального уважения, которое испытываешь к его автору, – просто за то, что она одна делает столько, сколько вместе не делают все остальные, – мало шансов рассказать о нем так, чтобы читатель мог ощутить разницу между рекламой и критикой. Ради приличия следует указать на три недочета. У Латыниной не очень получился главный «федеральный» герой Водров – который нормально функционирует как считыватель информации, но совсем слаб как ревизор, не имеет никаких рычагов влияния и все время оказывается лишним. Латыниной нужен был честный федерал, но она явно не знала, что именно с ним делать. Во-вторых, так и не реализовались в сюжете гиганты Хаген и Ташов, исключительно колоритные персонажи. Пожалуй, эту «близнечную пару» можно было использовать не только для декорации. В-третьих, Латынина напрасно не разыграла фигуру солдата, с которого начинается роман; как-то этот Янгурчи Итларов так и остался позабытым. Однако это всего лишь огрехи, практически не влияющие на орднунг, царящий в романе; может, кто-то из персонажей и не выкладывается на сто процентов, но и не шалит; все под контролем. В «Земле войны» отличная экспозиция, замечательно придуманная завязка, удачно расставленные по своим секторам – и эффективно отвечающие за разные сферы – персонажи. Замечательные батальные сцены, замечательно придуманный лейтмотив памятника «основателю города» Лисневичу. Отлично сконструированная и сыгранная длинная сложная сцена в финале – когда чеченец Арзо и аварец Джамалудин одновременно, не сговариваясь, захватывают в заложники делегацию российского вице-премьера. Латынина очень хорошая рассказчица – исключительно осведомленная, умеющая, когда это кстати, имитировать ориентальную стилистику, но и эффективно контролировать с помощью иронического комментария свой слишком богатый материал, слишком яркие характеры, слишком эксцентричные поступки, слишком много благородства, жестокости и подлости. «„Что случилось?“ – спросил Кирилл. „Ничего“, – ответил Заур. Слово „ничего“ в горах значило самые удивительные вещи. Под это понятие обыкновенно подпадало заказное убийство, и массовая драка, и даже всаженная в президентский бункер баллистическая ракета класса „земля – земля“. Кирилл не знал другого места в России, где это слово имело бы такой широкий смысл».
Романистка, которую недоброжелатели часто характеризуют как говорящий мешок с информацией, доказывает, что она писательница, даже чаще, чем требуется; ее излюбленный способ – бомбардировать читателя сравнениями; в довольно коротком абзаце у нее можно натолкнуться на БТР среди двух десятков джипов, который «возвышался, как лабрадор над пекинесами», на «несколько домов», которые стояли «на подворье, как опята на пеньке», на «минарет, длинный, как гвоздь, которым горы приколачивают к небу»; после такой концентрации выразительных средств сомнения в статусе Латыниной неминуемо должны развеяться.
Владимир Сорокин. Трилогия
«Захаров», Москва
На обложке одного глянцевого журнала 2004 года был изображен крепкий, худощавый, шевелюра с проседью, мужчина. Двумя руками он держит округлый массивный предмет – отстраненно, в несколько скованной манере, без энтузиазма, почти с опаской. Он похож на огородника, вырастившего рекордно большую брюкву и теперь демонстрирующего ее перед камерами – мол, не я это придумал, но ничего не поделаешь, урожай-то надо сбыть. Это был Сорокин, автор романа «Лед».
Прошли годы. Судя по обложкам других уже журналов, в шевелюре Сорокина поприбавилось седины. Роман про чудодейственный лед неожиданно – похоже, автор и сам додумался выжать из сюжета про Тунгусский метеорит больше чем один роман, – уже по ходу, раскрылся в триптих: «Путь Бро» – «Лед» – «23 000». Братьев Света, случайно воплотившихся на Земле, обнаруживалось все больше и больше, и у каждого была своя история.
«Путь Бро», напомним, был посвящен жизни Александра Снегирева. «Я родился в 1908 году на юге Харьковской губернии в имении моего отца Дмитрия Ивановича Снегирева» – в день падения Тунгусского метеорита; обратите внимание на говорящую – птичью (как «Сорокин») и холодную (как «лед») – фамилию. Современник войны, революции и террора, он оказывается в составе экспедиции к Тунгусскому метеориту; коснувшись небесного льда, Снегирев пробуждается и понимает, что он – брат Бро, умеющий говорить сердцем. Отныне его миссия – крушить грудины голубоглазых блондинов ледяным молотом. Если будут обнаружены все 23 000 избранных, мир мясных машин рассыплется и останется чистый Свет.
Комментируя «Лед», Сорокин назвал его своим прощанием с концептуализмом, декларировав таким образом отказ от торпедирования литературности и переход на рельсы «честного нарратива». Эта конверсия оказалась болезненной для автора, ставшего заложником своей репутации «пародиста», «порнографа» и даже «говноеда». В мирной продукции Сорокина все равно увидели закамуфлированные взрывпакеты: первая часть «Льда» слишком напоминала «Сердца четырех», а исповедь Храм – «Русскую бабушку». Так что если «Лед» был «прощанием», то «Путь Бро», по-видимому, – окончательный разрыв. Странный/нелепый/скучный, какой угодно – но не «очередная пародия». Если в «Пути Бро» и осталось что-нибудь от «того» Сорокина, так это дикие имена пробужденных, похожие на клички телепузиков – Бро, Фер, Аче, Иг, Рубу, Эп. В остальном это традиционалистский текст, который, в принципе, мог бы принадлежать какому-то широко мыслящему писателю 1910-1940-х годов, и вовсе не «обколовшемуся героином». Аскетичная линейная композиция, ровный-прохладный-полноводный-неспешный – темперамента русских рек – язык немодернистской отечественной прозы. Роман можно было бы назвать авантюрным, но в нем редко встречается слово «вдруг». Максимум, что позволяет себе рассказчик, – легкие нажимы курсивов: эти графические знаки сердечности эмоционально подкрашивают слова обычного языка, отличают повествование Бро от мертвого текста мясной машины. Одновременно, по контрасту, эти пластичные проталины подчеркивают подмороженность, внутреннюю монументальность остального текста.
Монументальность, свойственную эпосу. Тема Сорокина – грандиозное противостояние существ Света, преодолевших тело и слова, и мясных машин, рабов черных буковок. Ничего особенно забавного в их битве не будет: Сорокин, для солидности, из мизантропа-пессимиста, развлекающегося юмором висельника, превращается в историософа, всерьез озабоченного поисками путей преодоления антропологического кризиса ХХ века. Сорокинский Грааль – нескомпрометированный язык сердца.
В третьем романе Братья вот-вот смогут собраться в Большой круг и, заговорив сердцем, превратиться обратно в Свет, но у них небольшие проблемы: «мясо клубится». Мясо – то есть «мясные машины», точнее, оставшиеся в живых «пустые орехи» – голубоглазые блондины, не имеющие дара говорить сердцем, но желающие отомстить Братьям за изувеченные грудины и психические травмы. Они – особенно пристально мы следим за американско-русской еврейкой Ольгой и шведом Бьорном – пытаются объединяться через Интернет, но сектанты – во главе с чубайсоподобным (Свет же) братом Уф и старой знакомой сестрой Храм – продолжают вывозить из России Тунгусский лед и лихорадочно добирают Последних, совсем уж экстравагантных персонажей (например, мальчика Мишу с финальной страницы «Льда», который в числе прочего бормочет профетические слова «апгрейд, толстая», а затем оказывается братом Горн).
«23 000» отличается от «Льда» и «Пути Бро», как один и тот же кадр на экране мобильного телефона и гигантского монитора. Роман впечатляет резкостью, удивительным количеством подробностей. Видно, что за все эти годы автор досконально изучил быт и повадки Братьев и теперь докладывает обо всем предельно квалифицированно. Раньше Храм купалась в просто молоке, теперь – «в молоке высокогорных яков, смешанном со спермой молодых мясных машин». Апгрейд налицо, особенно если учесть, что потом она укрывается «одеялом, сплетенным из высокогорных трав», а на столе можно увидеть «фарфоровый поильник с теплой ключевой водой, подслащенной медом диких алтайских пчел».
Непонятно, что помешало Сорокину пересказать биографии всех 23 000 братьев Света – тем более что оставалось ему совсем немного. Сюжет не столько развивается, сколько вскрывает все новые и новые тонкости. В романе так же оживленно, как в капле воды под микроскопом. Мы словно угорелые скачем по миру – Россия, Китай, Финляндия, Япония, Израиль, США; герои свободно изъясняются на всех языках, от таджикского до японского; в отдельных сценах легко улавливаются сатирико-политические подтексты, конспирология и философия по краям. Что ж, Сорокин умеет нагнетать давление – под конец ерзаешь уже как на иголках: и? какое же слово составится из этих 23 000 людей-слогов?
Сорокин больше не сбывает свои гигантские корнеплоды по фиксированным ценам халдеям из «Wiener Slawistischer Almanach» и коллекционерам с экстравагантным вкусом. Он вышел на массовый рынок.
Что еще любопытно? Любопытные стилистические этюды – имитация речи сумасшедших и олигофренов («Тайно сопатился, утробно. Раздвиго делал убохом»); рассказ убийцы в духе романа-нуар; монолог русскоязычного еврея (не без, прямо скажем, «азохен вэй»); глава «Видеть все», где воспроизведен «дискурс машины», дух окололефовской, Пильняка и Малышкина, прозы двадцатых годов. Огородник-виртуоз машет лопатой как заведенный; его продукция приобретает самые неожиданные формы.
Наконец, финал: круглый остров посреди океана, 23 000 братьев, «седобородый сильный Одо сжимал руки пятилетних Самсп и Фоу, мудрый Сцэфог держал двенадцатилетнего Бти и восьмидесятилетнюю Шма, неистовый Лаву взялся за руки с близнецами Ак и Скеэ. Мэрог стоял рядом с Обу, Борк – с Рим, Мохо – с Урал, Диар – с Ирэ и Ром, Мэр – с Харо и Ип, Экос – с Ар». Три-четыре-взяли… Короткое затемнение… Финал «Трилогии» странным образом напоминает финал газовой войны с Украиной начала 2006 года – не то чтобы из всех этих людей-слогов не сложилось ничего – сложилось, слово «Бог», но этот «бог» больше всего похож на «росукрэнерго»: одни вернулись к Свету, другие тоже остались живы, одни продают по 230, другие покупают по 95, а разницу покрывает полумифический «росукрэнерго». Вы верите в него? Ну так поверите и в сорокинского «бога».
В том же старом журнале было написано, что во «Льде» Сорокин впервые сам «заговорил сердцем» – отказался от анонимного воспроизведения чьих-то чужих языков и произнес несколько слов от себя. Два романа спустя трудно сказать, чем там Сорокин «заговорил», – но факт тот, что за эти три года писатель легализовал свой бизнес. Он больше не сбывает свои гигантские корнеплоды по фиксированным ценам халдеям из «Wiener Slawistischer Almanach» и коллекционерам с экстравагантным вкусом, он вышел на массовый рынок, он готов к рецензиям «МК» и «КП», он не дискриминирует «мясные машины» (которые, в конце концов, должны покупать его книги), он платит обществу налоги и вовсе не имеет своей целью оскорбить чей-либо вкус. Да, он по-прежнему иногда «тайно сопатится», «делает раздвиго убохом» и исследует темные стороны души – ну так а кто их не исследует?
Когда массовая пресса раскрыла свои объятия Сорокину – после выхода «Льда», – подразумевалось: концептуалисты боялись «влипаро» – и остались у разбитого корыта; Сорокин не побоялся – и на равных конкурирует с доктором Курпатовым и Коэльо. Стратегически правильно – но, похоже, и за «влипаро» приходится чем-то расплачиваться. Это естественно – так уж мы, мясные машины, устроены: нам надо, чтобы нас смешили, мы хотим цирк на льду, клоунов, а когда клоун запирается в холодильнике и говорит, что он больше не будет смешить нас – теперь он философ, мы начинаем поглядывать на табличку «Выход». Ну так «мы живем в мире, где правит бал конкуренция», литература – это бизнес, говорит нам Оксана Робски, и раз уж назвался груздем, мм? Увы, все смешные писатели относятся к тому, что они пишут, чрезвычайно серьезно. Было «мысть-мысть-мысть-учкарное сопление», теперь «бог, бог, бог, бог, бог, бог». Любопытно? Безусловно. Но только вот «Норма», хотя бы в качестве курьеза, простоит на книжных полках еще долгие годы, а вот шансы «Трилогии» в этом смысле не слишком высоки.
«В „ледяной“ эпопее, – говорит Сорокин в интервью „Московским новостям“, – меня интересовало, по большому счету, одно: наиболее правдоподобно описать новый миф». Мальчик в чемодане, говорящие сердца и Адам и Ева в финале – новый миф? «Властелин колец»? Эпопея? «Кольцо нибелунгов»? Скорее «Приключения Электроника», адаптированные для «Вестника Московской патриархии».
Оставляя в покое миф, концептуализм и «влипаро», резюмируем ощущения от «23 000». Это было нескучно, все концы сошлись: хорошо. Через неделю разнотравные одеяла и фарфоровые поильники стираются из памяти напрочь, ни уму ни сердцу: плохо. Хорошо, что Сорокин вылез со своей опытной делянки и стал продавать брюкву на рынке, – но не очень хорошо, что пока за его товар не хочется платить принципиально больше денег, чем за чей-нибудь еще.
Рано говорить о том, что Сорокин потихоньку соскальзывает в статус живого анахронизма, как Пригов и Рубинштейн, – ну или эмеритус-профессора, как Распутин и Битов. Мы не произносим слова «вот-вот достанется моли и ржавчине», «почетная пенсия», «не надо было растягивать на три части», «трилогия – пустой орех», «кончилось грандиозным пшиком». Нет-нет, он еще повоюет, он будет писать сценарии и либретто, выполнять норму; у него хватит изобретательности унавоживать свой гектар. Чего не будет – так это того физиологического счастья, которое вызывали его книги. «Трилогия» – химически яркая переводная картинка, красивая, переливающаяся; но в романе нет иглы, которая оставляет на сердце татуировку. Теперь у Сорокина другой бизнес – более цивилизованный и менее чреватый судебными исками. С богом.
Дина Рубина. На солнечной стороне улицы
«Эксмо», Москва
«На солнечной стороне» – рубинский амаркорд, блюз об утраченном городе детства. Это роман про двух героинь, художницу и писательницу (писательница пишет роман о художнице), и один город – Ташкент. Ключевая фраза: «Из дома надо выходить с запасом тепла». Ташкент – тот запас тепла, который позволил героиням выйти во взрослую жизнь; солнечная батарея, на которой они всю жизнь работают – и неплохо, судя по роману. Роман, в котором много бытописательства, смакования локальных подробностей, одновременно не то что остросюжетный, а прямо-таки цирк: здесь раскачиваются сразу несколько сюжетных качелей – со скрипом и визгом; одна героиня оказывается наркобароншей, затем – дворянкой, вынужденной сменить фамилию. Другая приводит в дом незнакомого алкоголика (который влюбляется в нее, но женится на ее матери, а та его убивает), затем влюбляется в инвалида, выходит замуж за миллионера, и это еще не конец. Сильные характеры, криминальные коллизии, пряные базарные запахи, много зноя и воды – вот из чего состоит этот упругий, яркий роман и (если верить Рубиной) этот город. Ташкент – город мифогенный; начинается с того, что Катя, мать будущей художницы Веры, убивает своего мужа Мишу, и затем, много страниц спустя, мы узнаем почему – а еще почему этот «дядя Миша» согласился жить с чужой для него хабалистой женщиной. Мифы из разных культур здесь взаимодействуют очень причудливо: так, в одной семье разыгрывается и «Эдип», и «Лолита». Линии жизни писательницы и художницы – ровесниц – соприкасаются несколько раз; одна более экспансивная, более сильная, более эксцентричная, и писательница смотрит на свою героиню и с удивлением, и с завистью.
Этот роман – рубинский амаркорд, блюз об утраченном городе детства.
Рубинские книжки всегда продавались на солнечной стороне улицы, но по каким-то причинам многие потенциальные их читатели упорно кантуются в тени, неполиткорректно игнорируя Рубину как писательницу для теток; себе же в убыток, оказалось. Может быть, она слишком экспансивна, может быть, слишком заливисто поет о миссии художника, но, непререкаемо, писательница, знающая, как делать романы, и сколько бы теток за ней ни стояло, идентифицировать ее с ними – неправильно.
Людмила Улицкая. Даниэль Штайн, переводчик
«Эксмо», Москва
«Даниэль Штайн», книга о холокосте и евреях-христианах, мгновенно стала бестселлером и тут же обзавелась табличкой «Noli me tangere». Между тем роман не сложился, и тем, кто еще не купил это любопытное во многих отношениях произведение, лучше знать это заранее.
Главный герой Даниэль Штайн (в жизни Руфайзен) – польский еврей, во время войны скрывший свое происхождение, устроившийся в гестапо и спасший сотни людей. После войны он нетривиальным образом постригся в католические монахи, после чего уехал из Польши в Израиль, чтобы основать там общину и среди прочего возродить еврейское христианство, так называемую Церковь Иакова. О феерической биографии Даниэля мы узнаем из множества выглядящих как документы свидетельств: писем, архивных бумаг, расшифрованных интервью, дневников. Улицкая не делает секрета, что большинство из них придуманы и только похожи на подлинные.
Сама история Даниэля, в жизни которого была и победа в конкурсе на место монаха над Каролем Войтылой, и, сорок лет спустя, ужин двух старых знакомых в Ватикане, безусловно, тянет на роман. Проблема не в Штайне, а в том, что в нагрузку мы узнаем истории, житейские и не то чтобы особенно любопытные, еще десятков, если не сотен людей. Все они так или иначе имеют отношение к отцу Даниэлю – это либо те люди, которых он спас из гетто, либо как-то связанные с его общиной; на всех так или иначе распространяется его благодать – и любопытство Л. Улицкой. Пул героев, с самого начала обширный, разрастается и разрастается – и то, что начиналось едва ли не как авантюрный роман, превращается в латиноамериканский сериал, мы едва различаем Даниэля в толпе персонажей: любови, крещения, смерти, беременности, роды; мужья, любовники, дети-гомосексуалисты, стукачи, бразильцы, японцы, арабы и англичане. Все они осознают, не без помощи отца Даниэля, что секс не помеха религиозности, что Иисус был человек и еврей, что надо быть толерантнее, что евреи имеют все основания и права верить в Христа и проч.
Получился раствор в виде еще не «женского», но очень «улицкого», «кукоцкого» романа.
По сути, уже в первых трех – из пяти – частях Улицкая открывает все карты – а дальше ей уже нечем играть, можно только тасовать уже имеющееся. Напряжение в сети резко падает; бразильцы и мексиканцы функционально явно дублируют друг друга. Письма, из которых в основном склеен роман, налезают друг на друга. С письмами вообще беда: наверное, так было удобнее разворачивать материал – дозируя его появление; но когда разворачивать больше нечего, форма перестает работать как прием и действует чисто механически. «Дорогая Валентина Фердинандовна!», «Милый мой друг Мишенька!», «Дорогая Зинаида Генриховна!» – до маразма; склейте эти послания с сорокинскими «Здравствуйте, дорогой Мартин Алексеевич» – и не сразу заметите разницу. На круг оказывается, что письма – это способ избежать посценного конструирования, которое требует от писателя более тщательной обработки материала; дело не в том, что Улицкая схалтурила, – но она не угадала с формой; и лучше бы вместо десяти писем здесь была одна точно выстроенная сцена с хорошо продуманными диалогами.
Еще одна проблема: Даниэль существует в романе в системе своих двойников, от папы римского до религиозных фанатиков, – другие святые и обычные биологические отцы; это хорошая, сложная и уместная структура – и опять недореализованная, неотстроенная; все эти «двойники» существуют сами по себе – а не вращаются по орбите вокруг самого Даниэля, чтобы подсвечивать его образ с разных сторон.
Отец Даниэль в самом деле очень «романный» – героический, обаятельный, многоплановый – персонаж; но Улицкая обошлась с ним неблагоразумно и нерачительно, растворила кристаллик с его историей в ведре чужих, обычно-бытовых; и получился раствор в виде еще не «женского», но очень «улицкого», «кукоцкого» романа.
И последнее: непонятно, почему Улицкая не выстроила на фундаменте этой подлинной жизни настоящий нон-фикшн – житие праведника, апокрифическое евангелие или биографию-ЖЗЛ на выбор; ну или зачем принялась имитировать документальное произведение – выдумывала бы уж по-честному, от А до Я? Зачем она превратила это еще и в метароман – в сетование о том, как трудно писательнице справиться с таким неподъемным материалом? Зачем она отошла собственно от истории Даниэля – и стала разматывать бесконечный свиток с панорамой жизни еврейства во второй половине ХХ века, с «двести-лет-вместе», с историей Восточной Европы, государства Израиль и проч. – ведь не могла же не понимать, что сфера ее интересов расширяется слишком стремительно и форма никак не успевает за содержанием? Нет ответа. «Штайн» – интересная штука: замечательный герой, дерзкая писательская выходка, проповедь экуменизма; познавательно, неожиданно, пронзительно местами; но роман не очень получился.
Борис Акунин. Нефритовые четки
«Захаров», Москва
Составителю данного путеводителя случалось клеймить Акунина в печати как прожженного халтурщика и циничного литературного лавочника; плодитель «толобасов» и «эфэмов», тот предоставлял достаточно поводов для недовольства. Однако «Четки» – десять повестей, три из которых при желании можно назвать лучшим из всего, что написал Акунин, – весомый аргумент для скептиков, чтобы продлить автору кредит доверия и даже, задним числом, сообразить, что его «приключения магистра» следовало прописать скорее по разряду не вполне удачного «вызова», чем способа настричь купоны.
В техническом отношении «Четки» – пакля, заполняющая временные щели между романами, и заодно упражнения беллетриста в неосвоенных жанрах. Фандорин в 1881 году, в 1894-м, в 1899-м; в Японии, в Англии, в Америке, во Франции; Фандорин в агата-кристиевском герметичном детективе, Фандорин в вестерне, Фандорин в авантюрной повести и так далее.
Все это очень хорошо – как обычно, хорошо, но только вот самого Фандорина, уже почти лубочного, как будто жахнули дефибриллятором – и раскололи на нем сахарную корку. «Ученик японских синоби», аполлон и полиглот, в последней повести оказывается едва ли не клоуном; он даже по-японски, оказывается, говорит с диким акцентом и ошибками:
« – Тепель всо понятно. Долога казалась длыной в тли сяку, а оказалас колоче тлех ли.
– Вы хотели сказать: „Дорога казалась длиной в три ри, а оказалась короче трех сяку“, – поправил его я и перешел на русский, потому что тяжело слушать, как господин коверкает нашу речь».
Такой Фандорин, карнавализованный, сам себя зачеркивает – и теперь, как пепперштейновский сыщик Курский, он не столько искусственно синтезированный Герой, вершина акунинского искусства имитации, сколько курсор, наведенный на тот или иной жанр, инородное тело, цель которого – вызвать ответную реакцию, признаки жизни.
«Четки» – весомый аргумент для скептиков, чтобы продлить автору кредит доверия.
Этот Фандорин (не забывающий, разумеется, о своих основных обязанностях) – технически совершенная машина для перевода, а вся фандоринская сага – не про затруднения, с которыми сталкиваются сыщики при разрешении криминальных загадок, а про трудности перевода, про перевод как воскрешение.
Вы думаете, говорит Акунин, вестерн – это низкий трафаретный жанр для подростков? Смотрите, сейчас я переведу вам вестерн так, что, как бы разборчивы вы ни были, вы будете читать его как интеллектуальный жанр, и он окажется Высокой Литературой. Вы думаете, леблановский «Люпен» – комикс, макулатура? Жемчужина коллекции – заключительная повесть «Узница башни» про встречу Холмса, Уотсона, Фандорина, Масы и Арсена Люпена: двух идеальных сыщиков, одного идеального преступника и двух неидеальных писателей; вещь, которая одновременно является канонической детективной повестью и пародией на канон, обыгрывающей его условности и клише. Акунин, который, казалось, дальше может лишь совершенствоваться в искусстве стилизации, оказался все же Переводчиком, а не имитатором. Все, что вы знаете о литературных канонах и иерархиях, говорит он, ложь; все схемы и шаблоны, загоняющие тексты в рамки жанра, – условность, мертвая формула, а литература – это живые, непрогнозируемые, способные удивлять организмы. Так «Чайку» можно «перевести» как детектив, «Гамлета» – как историю о привидениях, детский стишок про «Трех дураков в одном тазу» – как танку о пути Мудрых. Литература отличается от нелитературы не прочной припиской к тому или иному жанру или канону, а тем, что литературный текст не сводится к культуре, которая его породила. В теории об этом знают многие, но мало у кого хватает воображения показать это на практике.
Акунин в «Четках» демонстрирует не столько ловкость иллюзиониста, сколько спокойствие Воланда, за которого развлекается свита, тогда как сам он, восседая в глубине сцены на кресле, просто рассматривает публику: чувствует ли она, что текст, который заново перевели для нее, живой. Разумеется, то, что делает свита, – всего лишь набор трюков, основанный на умелом обращении с подстрочником (криминальными сюжетами) и имитаторских (литературный стиль эпохи) талантах, но, кроме непосредственной выгоды – денег в шляпу, у трюка есть и Смысл: реанимация текста. Перевод в высшем смысле.
Так в «Нефритовых четках» беллетрист Акунин еще раз – не по паспорту, а на деле – оказался переводчиком Чхартишвили.
Алексей Иванов. Общага-на-крови
«Азбука», Санкт-Петербург
Первым, давным-давно написанным, романом Иванова был сериал про нищих студентов. В общежитии мыкается шатия-братия: Игорь, Ванька, Леля, Неля и Отличник: кто куролесит, кто злоупотребляет, кто учится. Это очень доброкачественный сценарий: все здесь друг друга разыскивают или прячутся, улепетывают от комендантши, сталкиваются в дверях – идеальная комедия положений. Замкнутое пространство, минималистские декорации и страсти в дистиллированном виде.
Собственно, в «Общаге-на-крови» типично ивановский сюжет: как общага (парма, Чусовая, школа) перемалывает слабые личности – и обтесывает, ограняет настоящие алмазы. Выживает тот, кто идет своим путем до конца, но при этом разделяя общую судьбу и любя место, куда тебя занесло. Место Иванов, как всегда, запеленговал очень точно: общага – идеальное представительное русское пространство – с размытыми границами личности и «житьем по-совести»; и храм, и лупанарий, и обсерватория, и тюрьма, и университет, и деревня, и крепость; метафора России, короче говоря.
Однако что-то не так с этим сериалом; чувствуется, что студенты-то они студенты, но и еще кто-то, персонажи не сериала, а еще какого-то произведения.
На всех главных, по крайней мере, героев тут давит будто метафизический атмосферный столб – и личности здесь деформируются на глазах, как в кино у вампиров клыки растут; так вот тут – метафизические клыки (ну или нимбы). Едва ли не чаще, чем про «секс и отношения», местные греховодники и праведники затевают беседы о Боге, мировом духе, даре и грехе; иногда это добротные диалоги ницшеанцев и гегельянцев, иногда Иванов – первый роман все-таки – чуточку заговаривается: «И при всей своей греховности он боится идти вперед по дороге все возрастающего преступления, в конце которой, быть может, и ожидает святость, ибо даже рождать жизнь посреди смерти – разве не грех перед этой жизнью, которая потом будет мучиться?»; пожалуй, что и не грех, но причинно-следственные связи в этом пассаже трудно назвать очевидными.
Равно как и во всем романе – герои ведут себя не сообразно обстоятельствам и даже инстинктам, а в соответствии со своими амплуа в этом самом таинственном, втором, произведении. Падшие ангелы, серафимы, посланные в мир боги-жертвы; язык немеет, но «Общага» – замаскированная под студенческий сериал мистерия о сошествии Бога в юдоль страданий.
«Общага» – замаскированная под студенческий сериал мистерия о сошествии Бога в юдоль страданий.
Все это замечательно, пусть и несколько экстравагантно; в конце концов, скептики могут без особых усилий проигнорировать это второе дно романа напрочь. О чем следует сказать, так это что перипетии «Общаги» – как возлияния и драки, так и падения и вознесения, – сколь бы эффектными они ни были, выветриваются из памяти довольно быстро. А вот врезается, и надолго, удивительная картинка со второй страницы романа: студентик, порезавший себе вены на унитазе; тонкая, бледная рука на белом фаянсе, на сгибе шевелится живая кровь. Вот тут в 24-летнем мастеровитом сценаристе, у которого сложная машинерия работает без сучка без задоринки, виден оригинальный Художник: это ведь распятие, ни много ни мало, и это – уже не просто техника, а отважная ивановская самодеятельность, его первый «пермский бог» – родственник тех инопланетных, единственных в мире деревянных существ, которые дожидаются своего Урфина Джюса в Пермской картинной галерее и в обмен на которые, напомним, согласились в 70-х привезти в СССР «Джоконду». Именно их Иванов и будет дальше выстругивать – в «Географе», «Парме» и «Золоте»; и именно ими он и отличается от всех просто-писателей.
Владимир Сорокин. День опричника
«Захаров», Москва
Сорокин определенно злоупотребляет читательским доверием: из памяти еще не успели выветриться Мохо, Самсп, Мэрог, Бти и Шма, а им на пятки уже наступают Потыка, Воск, Балдохай, Ероха и Самося, и это не очередной эшелон «братьев Света» – от монументальной «трилогии Льда» осталась только талая лужица, – а, прости господи, опричники.
Будний день главного героя, Андрея Даниловича Комяги, начинается с того, что звонит его «мобило». Рингтон – три удара хлыста, стоны и всхлипы в промежутках – свидетельствует о наклонностях характера хозяина аппарата, которые и подтверждаются в хронике ближайших 24 часов – время действия романа – в полной мере. Приторочив собачью голову на бампер, опричник отправляется выгрызать и выметать крамолу; взамен он вправе рассчитывать на беспрепятственный проезд в Кремль, процент от операций, связанных с растаможкой, и дорогие наркотики.
Сорокинская Россия конца 20-х годов XXI века выглядит как осуществившаяся фантазия Дугина с его «новой опричниной» и авторов проекта «крепость Россия». Шокирующим для приверженцев идеи прогресса образом страна устроена по средневековой модели: восстановлены монархия, сословное деление, телесные наказания, официальный статус Церкви; загранпаспорта граждане сожгли добровольно. Кому-то вышеописанная ситуация может показаться мрачной, но трудно квалифицировать «День опричника» как антиутопию, поскольку те представления о социальных процессах, которые Сорокин проецирует в будущее, не назовешь пессимистическими. В конце концов, «тоталитарное государство» в России – тавтология, так что чего уж вешать нос; нет-нет, наоборот, эпоха Ивана Грозного – это уже не столько Эйзенштейн, сколько Гайдай, хрестоматийный материал для комедии. Так что в будущем, устроенном по образцу XVI века, скорее весело, чем страшно.
Это вообще очень смешной роман, а самое смешное – как все это написано. Трудно сказать, почему герои романа про 2028-й примерно год изъясняются будто персонажи «Князя Серебряного» или «Песни про купца Калашникова». То ли, называя телевизоры «новостными пузырями», герои стремятся подчеркнуть лояльность к государственному строю, то ли акцентировать самобытность и природную лепоту русского языка; может быть, дело в том, что, если б они называли вещи своими именами, было бы не так смешно. Язык здесь мутировал не сам по себе, а по указке сверху. Государственное регулирование речевой деятельности (фантазия, вызванная, можно предположить, конфликтом между В. Г. Сорокиным и пресловутой прокремлевской молодежной организацией) – вот, собственно, главное фантастическое допущение «Опричника» и одновременно первейший источник комического в романе: опричники рьяно следят за соблюдением табу, которые нарушают здесь прежде всего враги России. Западные радиоголоса – те вообще матом пересказывают содержание «Преступления и наказания». Смешно? Еще бы не смешно.
«День опричника» – настоящий, старозаветный сорокинский хит, в ту же резвость, что «Сердца четырех» и «Первый субботник». Этот махровый, безупречно соответствующий ожиданиям публики, Сорокин – независимо от того, тошнит ее от речевой деятельности «калоеда» или она восхищается его «нарративным разнообразием». Это Сорокин, повернувший наконец ключ зажигания влево и переставший мелькать в боковых зеркалах читателя, раздражая его своими скоростными возможностями и непредсказуемостью траектории. Впрочем, сам он наверняка не одобрил бы метафорику такого рода; «изящная словесность, – поучает один из персонажей „Дня опричника“, – это тебе не мотоцикл», и не приходится сомневаться, что тут мы слышим голос самого автора. Да уж, прошли те времена, когда Сорокин представлялся всадником апокалипсиса в футуристическом шлеме, который, прижавшись к обтекателю, по встречной несется, ну допустим, в литературу будущего; нынешний велорикша, на пердячьем пару трюхающий по крайнему правому ряду, сатиры смелый властелин, уморительно виляющий, бывает, и по обочине, а то и по кюветам, – нет, его никак не обвинишь в нарушении скоростного режима.
«День опричника» – беззубая, верноподданническая карикатурка на власть.
Роман целиком, на все сто процентов, состоит из гэгов – классических сорокинских, проверенных временем, обкатанных во многих текстах гэгов: непременная гомосексуальная сцена, озорное групповое изнасилование, жаркий спор о мнимо общеизвестном, матерная интермедия, отрывок-«очередь», посещение эстрадного концерта, состоящего из феерических номеров, трехстраничная наркотическая галлюцинация, наконец, шутейное членовредительство под переиначенную советскую песню «Давай сверлить друг другу ноги – и в дальний путь, на долгие года». «Опускаем дрели под стол, включаем и стараемся с одного раза попасть в чью-то ногу. Втыкать можно токмо раз».
Так «Опричник» – это лингвистическая фантастика? Едва ли, описывая нового Сорокина, следует фокусировать внимание на теме «Сорокин и язык»; похоже, сам язык больше не вызывает у Сорокина прилива крови к пещеристым телам. Цель «изящной словесности» теперь – щекотка, комический эффект, а смешит (прояснилась банальная истина) не сам язык, а люди, которые его регулируют; и Сорокин, про которого раньше полагалось сказать, что он «демонстрирует тоталитарную природу языка», теперь, сменив шлем на пенсионерскую панаму, демонстрирует разве что человеческую глупость – да, глупость своих соотечественников, с их потешной склонностью к тоталитарной форме самоорганизации; это люди – источник абсурдного и комического. «День опричника» есть отменная комедия – веселая история с сюжетом, остроумно высмеивающим человеческие слабости наших современников; другими словами, – беззубая, верноподданническая карикатурка на власть.
Трудно, однако, сказать, долго ли еще Сорокин продержится на своих комедиях. Ведь знает же, не может не знать: втыкать можно токмо один раз.
РАЗДЕЛ V
Максим Кантор. Учебник рисования
«ОГИ», Москва
Странно, каким образом этот роман – настоящий собор: огромный, почти необъятный, многоярусный и богато убранный – выстроил один человек, и притом за относительно короткий промежуток времени. Еще страннее то, что, хотя по нему можно водить экскурсии, в принципе, он совершенно не нуждается в посредниках между собой и читателями. Как смысл готического собора в целом понятен любому прихожанину, так и канторовский роман не нужно «растолковывать». Он затейливо сконструирован, но в нем нет темных мест. Даже самые сложные темы – такие как философия истории – проговариваются и проигрываются в сценах множество раз, иллюстрируются простыми примерами и не вызывают затруднений. Достаточно просто прочитать этот «Учебник»; о том, про что роман, в сущности, может получить довольно четкое представление всякий, кто ознакомился с первой и последней главами; там очень внятно объясняется, что хочет сказать автор.
Однако возможность восстановить общий смысл романа по малому фрагменту обеспечена всем телом Романа. Эта прозрачность, ясность и простота достигнута за счет колоссального труда, способности автора к длинному дыханию, его настойчивого желания выстроить идеальную систему жизнеобеспечения для своих мыслей.
Именно поэтому нам показалось любопытным подробно воспроизвести ход рассуждений Максима Кантора и рассказать о некоторых его техниках – не для того, чтобы предоставить читателю-торопыге «выжимку», а чтобы продемонстрировать, за счет чего это громоздкое сооружение производит впечатление такого ажурного, пропорционального и гармоничного.
Краткое содержание. Рассказчика – и главного героя романа – зовут Павел Рихтер. Он из русско-еврейской семьи, интеллигент в четвертом поколении, художник, презирающий «авангард», – однако ему поневоле приходится вращаться среди деятелей так называемого «второго авангарда». Те после 1985 года с энтузиазмом участвуют в вестернизации России, продавая и покупая как наследство, так и плоды собственного творчества, материальные и иделогические. Павел женится на Лизе Травкиной, но затем влюбляется в красавицу Юлию Мерцалову и разрывается между двумя женщинами. Комический двойник Павла в романе – малюющий безликих пионеров концептуалист Гриша Гузкин, постсоветское ничтожество, правдами и неправдами пролезающее все дальше и дальше на Запад с намерением влиться в евроцивилизацию на максимально выгодных условиях. Его отношения с женой и любовницами пародируют и опошляют семейную неурядицу Павла Рихтера.
Настоящий второй главный герой романа – художник Струев. Как и Павел, его младший товарищ, он движется против течения: отказавшись от «рисования» и уехав торговать своими инсталляциями и перформансами за границу, «отец второго авангарда» осознает, что его место со своим народом, и возвращается в Россию – провоцировать элиту партизанскими выходками и мстить; искусство для него – та же драка, где надо либо победить и изменить ход истории, либо погибнуть. Тем временем широко мыслящие тростники все сильнее и сильнее деформируются под западным ветром – и так на протяжении двадцати лет, до 2005 года; нередкие экскурсы в другие эпизоды ХХ века (гражданская война в Испании, где комиссарствует бабка Павла Ида Рихтер; Вторая мировая, где дед, Соломон Рихтер участвует в воздушной дуэли с немецким асом Витроком) позволяют назвать роман хроникой не только этих двух десятилетий, но целого столетия.
Идеологи. Важное место в романе занимают философ и софист Соломон Рихтер и Сергей Татарников, представители старшего поколения. Это два комментатора меньше, чем другие герои, участвуют в событийной канве романа, зато они главные «подающие» на философском корте романа. Именно они в своих диалогах генерируют мысли, которые в дальнейшем транслируются Павлом и обкатываются им на себе и других персонажах. Оппонирует им, через подставных лиц обычно, номенклатурщик Иван Михайлович Луговой, который в финале наконец встречается с Рихтером в открытом бою – сначала философском, а затем комическом, с ножом.
Гигантская передовица из газеты «Завтра»? Местами канторовская хроника может производить впечатление беллетризованной публицистики. В «Учебнике» нет кульминационного события в жизни всего народа – 1993-го, допустим, или 1998 года – каким в эпопее Толстого был 1812-й, – однако сюда закатано множество эпизодов – от войны с олигархами до оранжевых революций; закатано – и объяснено: Чечня, дефолт, 93 год, Путин, засилье офицеров ФСБ во власти, разворот над Атлантикой, феномен Белоруссии Лукашенко и марш десантников в Приштине. Кантор не только воспроизводит эти события, но и, не менее трезво, чем Пелевин и Проханов – если уж брать расхожие образцы этого жанра, – формулирует суть происходящего и свое отношение к ним: «имеющееся у нас правительство есть пример того, как назначенный на управление менеджер решил сам стать хозяином производства, но не знает, как быть с экспортом товара». По страстности и по риторическому градусу публицистические пассажи Кантора соответствуют стандарту газеты «Завтра» («Коррумпированные политики, управляющие мафиозными правительствами и поддержанные люмпенинтеллигенцией и компрадорской интеллигенцией оккупированных стран, – это и есть тип управления, который сегодня обозначен как демократия. В той мере, в какой данный режим управления навязывается всему миру и осуществляется за счет всего мира, данный режим является фашистским») – и сильно упрощают дело тем, кто готов увидеть в Канторе всего лишь поздно проснувшегося эпигона Проханова, «раскаявшегося вольнодумца».
Даже по вышеприведенной цитате, однако, уже можно понять, что роман является хроникой не столько событийной, сколько идеологической – в том смысле, что главное событие века здесь не войны или путчи, а конфликт между христианством и язычеством. Авангардное искусство, фашизм и глобализация – вот то, что приключилось с христианством в ХХ веке, то, чем его подменили. История Кантора – это история про то, как христианство в ХХ веке, сохранившись формально, на деле обернулось неоязычеством.
В еще более узком смысле «Учебник» – роман о поражении России в третьей мировой и последствиях – на всех уровнях, от политики до искусства – встраивания империи, преданной «компрадорской интеллигенцией», в новый мировой порядок, в «Империю» в том смысле, который вкладывают в это слово левые философы Хардт и Негри. В еще более узком – пучок микророманов: любовного (линия Павла, его жены Лизы Травкиной и любовницы Юлии Мерцаловой), плутовского (линия Гузкина), детективных (расследование аферы с «Черными квадратами» и месть за убийство рабочего в деревне Грязь) и других.
Генезис романа. «Учебник рисования» – семейная хроника, и не в последнюю очередь эта хроника имеет отношение к семье самого Кантора. Автор считает нужным сообщить в специальном примечании, что несущая историософская концепция романа – «концепция разделения исторической материи на социокультурную эволюцию и проективную историю» – принадлежит его отцу, философу Карлу Кантору (подробно она изложена в книге «Двойная спираль истории», М., 2002). Как и его герой (или даже альтер-эго) Павел Рихтер, художник и писатель Максим Кантор родился (в 1957 г.) в русско-еврейской семье: он потомок аргентинских евреев (по отцовской линии; дед – испаноязычный драматург, профессор университета Ла-Плата в Буэнос-Айресе) и крестьян Русского Севера (по матери). Дом Канторов на Фестивальной, судя по некоторым свидетельствам, был известен в Москве; это был своего рода салон, куда съезжались интеллектуалы всех возрастов – от Александра Зиновьева до Павла Пепперштейна. Наблюдателю, запеленговавшему существование Кантора только после выхода его романа, трудно проследить, как автор пришел к такой системе взглядов. Проще всего вообразить, будто Кантор – разочаровавшийся в либеральных ценностях западник, крепкий задним умом. Однако знакомство с его публицистикой – и, немаловажно, картинами: «Смерть коммерсанта», «Государство» и проч. – 90-х говорит о том, что Кантор прошел известный, описанный им самим, маршрут – люмпен-интеллигенция, опьяненная продуктом «свобода»; компрадорская интеллигенция, очарованная возможностью продавать свои интеллектуальные продукты на рынке либеральных ценностей по высокой цене, – гораздо быстрее, чем его коллеги по цеху, и заявил о катастрофических перспективах горбачевско-ельцинского периода уже в первой половине 90-х – спровоцировав если не скандал, то недоумение: потому что сделал это в среде, где был принят иронический конформизм. Отсюда и канторовская репутация, удивительно напоминающая ту, что была у Чацкого ближе к концу пьесы.
Литературный Церетели? В начале 2006 года издательство «ОГИ», не побоявшись обвинения «не-стоит-бумаги-на-которой-это-напечатано», в пожарном порядке опубликовало канторовский роман, только что законченный.
К этому моменту у Кантора, автора сборника рассказов «Дом на пустыре» и нескольких публицистических текстов, не было достаточного веса в литературной среде, чтобы его роман, действительно в несколько раз превосходящий по объему среднестатистический, был воспринят и прочитан всерьез. Подшучивание и даже ерничанье над циклопическими размерами романа моментально стало общим местом; прочитавшие роман на все лады демонстрировали, что таким образом они сделали одолжение автору. Кантору, однако, повезло – «Учебник рисования» все же был выведен на орбиту архитектурным критиком Г. Ревзиным, который напечатал в «Коммерсанте» чрезвычайно сочувственный отзыв о романе, и дальше о нем «заговорили»; но, по большому счету, в самой литературной – то есть толстожурнальной по преимуществу – среде он так и не обзавелся статусом текста, обязательного для чтения. 1418 страниц восприняли скорее как курьез от художника, усевшегося не в свои сани, своего рода литературного Церетели, вдруг преподнесшего москвичам свою гигантскую книжку.
Подшучивание и даже ерничанье над циклопическими размерами романа моментально стало общим местом; прочитавшие роман на все лады демонстрировали, что таким образом они сделали одолжение автору.
Это ощущение непрофессиональности подтверждалось знакомством с первой главой и усугублялось ее финальной частью, претенциозной виньеткой о Художнике (началом трактата об искусстве: «Не следует считать это время истраченным впустую – наоборот, редко когда удается обменивать минуты и часы непосредственно на вечность» и т. п.); казалось, что таким – странной комбинацией слишком резкой сатиры и слишком неуместного пафоса – будет весь роман. Дальше «критикам» достаточно было поискать неизящные, лобовые, особого желчного юмора цитаты – «впрочем, многие старые слова теперь заменили новыми: вместо „убийца“ стали говорить „киллер“, а вместо „болтун“ – „культуролог“» – и вот такого рода вырванные из контекста остроты звучали уже как диагноз самому автору.
На самом деле первая глава не является показательной; и сатирические линии, и пафос постепенно растворятся и будут усвоены в большом романном организме, и станут выглядеть уместными – но до этого, а уж тем более до канторовской философии истории, речь о которой заходит не сразу, уже мало кому было дело. По-видимому, сыграл роль и тот фактор, что многие из тех, кто были прототипами героев романа, являются и столпами общества; разумеется, их раздражала эта галерея карикатур и они усердно пожимали плечами, делая вид, что Кантор если не объявлен уже давно сумасшедшим в мире художников, то уж во всяком случае не тот человек, чье мнение их вообще интересует. В результате о Канторе «поговорили» пару месяцев и фактически забыли; когда речь зашла об итогах года, редко кто упоминал «Учебник рисования». Если где-то он и фигурировал – то в номинации «Антисобытие», и уж тут авторы «итогов» изгалялись как могли.
По сути, в общественном сознании установился стереотип: «Учебник рисования» – памфлет про канторовских конкурентов на художественном рынке. Героев слишком много; это рыхлая масса одинаково безобразных персонажей, слипающихся в один ком. Что еще? Кошмарные вставки про миссию художника. Пафос – и ладно бы только про искусство, так ведь еще и про политику и нравственность.
Руки отдельно. 1418 страниц, два тома – много это или мало для романа обо всем? А «Учебник рисования» – книга именно обо всем: и о любви, и об искусстве, и о политике, и о войне, и о бизнесе, и о религии, и об истории. Чтобы рассказать обо всем этом, Кантору пришлось создать ее как синтетический организм: это и передовица, и памфлет, и философский трактат, и семейная хроника, и историческая хроника, и коллекция сократических диалогов, и искусствоведческое эссе.
Как Струеву, который вынужден будет драться с восемью людьми одновременно (и который уверен, что «вас всего лишь много, а я целый один»), Кантору придется столкнуться с известной задачей романиста, сформулированной Толстым: «сопрягать надо». Ему понадобится скоординировать множество явлений ХХ века: авангард, фашизм, неоязычество, управляемую демократию, кризис семейных отношений, терроризм, нравственную деградацию общества, упадок традиционного искусства, глобализацию-неоколониализм, падение авторитета христианства, увеличение социального разрыва между бедными и богатыми, роль интеллигенции как нового класса-гегемона при капитализме.
Код, через который Кантору окажется удобнее всего «сопрягать», – искусство. Искусство в самом широком смысле – и как творчество, и как искусствоведение, и как теория живописи, и как «арт-тусовка».
Роман написан художником, и это не оправдание недостаточной компетентности, а информация, сообщающая об умении изъясняться таким образом, каким не в состоянии говорить писатели-нехудожники. Это умение относится не только к способности рассуждать об искусстве или как-то оригинально выстраивать композицию. Кантор знает, как показывать предметы и явления таким образом, чтобы максимально достоверно раскрыть их внутреннюю сущность. В этом смысле один из самых впечатляющих эпизодов в книге находим в первом томе, в сцене свадьбы Павла (т. 1, с. 176): «Гости осмотрели худое лицо Кузнецова, потом стали смотреть на руки, самую выразительную часть его строения. Руки Кузнецова лежали вдоль столовых приборов по сторонам тарелки, как тяжелое холодное оружие. Они лежали словно бы отдельно от своего хозяина; тот принес их в дом и выложил подле вилок и ножей, временно оставив без употребления. Иногда он поднимал одну из рук и брал ею еду, но потом снова клал ее вдоль тарелки и оставлял там лежать. И взгляды гостей то и дело останавливались на этих неудобных в застолье руках. Широкие кисти, перепутанные пучки вздутых вен, выпирающие кости, содранная на суставах кожа – эти руки плохо подходили к свадебному столу. Сам Кузнецов не обращал на свои руки внимания, он помнил, где их оставил и где их можно найти, если возникнет нужда».
Это не литературный, а рисовальщицкий (кубистский, возможно, по происхождению) прием, основанный на оптическом эффекте: тело рассекается, одна часть его как бы изолируется от тела-«материка» и, по констрасту с этим «материком» (который фактически игнорируют: про лицо достаточно сказать, что оно «худое», прорисовать всю геометрию всего одной линией), максимально подробно, анатомически выписывается. Читатель/зритель испытывает странное ощущение от того, что по отношению к рукам дистанция уменьшена, а по отношению к прочему телу – увеличена. Одно и то же тело, по сути, деформируется таким образом, чтобы мы видели его с разных ракурсов. Эти руки – гораздо более автономные от всего остального, чем, например, глаза в традиционных психологических портретах, – оказываются выразительны не менее, чем эксплицитный психологический портрет. Действительно, это необычно, что анатомия может заменять «душеведение». Но именно поэтому, когда критика обвиняет канторовские характеры в плоскости, в нетолстовской психологической мелкости, следует иметь в виду, что Кантор просто создает психологические портреты другими, нетолстовскими техниками.
Озадачивает не только различие в техниках описания, но и сам факт «отсечения», возможности автономного существования части тела от самого тела – и при этом речь не идет о гротеске; такое остранение вряд ли имеет аналоги в отечественной литературной традиции.
Кантор-писатель коррелирует с Кантором-художником, и не только тематически (и тот и другой пишут картины, назначение которых – «взорвать общество»); совпадают их техники. По свидетельству искусствоведа Г. Ревзина, «стиль его офортов представляет собой странный сплав из откровенных карикатур, напоминающий советский „Крокодил“, с „Капричос“ Франсиско Гойи. Тема – Ад, раскрывающийся во всем». До некоторой степени это верно и по отношению к роману.
Мы еще увидим, что Кантор все время меняет технику рассказывания; многотипности повествования в «Учебнике» соответствует разнородность персонажей – не только социальная, но методологическая, в техническом смысле: портреты маслом выставлены в романе рядом с явными карикатурами, выполненными в графике. Тут есть свои реалистические персонажи, есть «воплощения» (затертое, но важное слово; Кузнецов, Татьяна Ивановна и Сникерс – воплощения абстрактного «народа»; они разные – и технически они реализованы по-разному), а есть – совсем гротескные фигуры. Рядом, иногда внутри одних сцен, сосуществуют реалистичный, написанный в соответствии с законами психологической перспективы Павел Рихтер, чисто визуальный, подчеркнуто анатомический, будто лишенный кожи, из одних мышц и костей состоящий Кузнецов, одномерный Гузкин, гротескный Сыч с хорьком, карикатурно расчеловеченный иностранный капиталист по имени Бритиш Петролеум, призрак Марианна Герилья, фоновый силуэт – обозначенный как «ставропольский механизатор» Горбачев.
Таким образом – характерная особенность канторовского письма – в пространстве одной картины взаимодействуют персонажи разной степени объемности и плотности – от нулевой или даже минусовой (как призрак) до стопроцентной; у одних есть судьба – а у других всего лишь имя, «Бритиш Петролеум».
Искусство как ключ к истории. Кантор – художник, и неудивительно, что именно искусство у него становится ключом к хронике, к истории; что роман, посвященный истории ХХ века, одновременно воссоздает и историю искусства ХХ века (с жесткими, неутешительными для сторонников «прогресса» вердиктами: «постмодерн в виде фарса повторил трагедию авангарда», «авангард стал салоном»). «Искусство – и так было на протяжении всей истории человечества – формирует идеалы, которые политика делает реальными». В искусстве все происходит раньше, чем в других сферах человеческого бытия, и поэтому искусство – код, симптом, по которому можно установить диагноз болезни общества.
«То, что в современном мире фашизм действительно существует, подтверждается фактом существования авангарда. Если искусство выражает общественные идеалы, то надо согласиться с несложным обобщением, что данному обществу портрет (рассказ об отдельной судьбе) менее потребен, чем знак (т. е. декларация общего порядка).Очевидно и то, что знак существует как произведение лишь тогда, когда он принят в качестве идеологии: не для анализа, а на веру. Невозможно же, в самом деле, вчитаться в квадрат и получить на другой день больше знаний о нем, нежели при первой встрече. Очевидно, таким образом искусство современного мира выполняет роль шаманского заклинания – действий бессмысленных, но обладающих эффектом энергетического воздействия. Сила энергетического воздействия принята обществом за эстетическую и этическую категории».
Сначала идеи, витающие в воздухе истории, проявляются в искусстве, а уж дальше они подхватываются политиками и затем реализуются на массах – или просто вульгаризуются; но, по сути, раз за разом демонстрирует Кантор, это одни и те же идеи, в каком бы опошленном виде мы их ни заставали. Сначала искусство утратило христианскую компоненту – а затем и политика стала фашистской, неоязыческой, исповедующей культ силы.
Так, черный квадрат есть проект демократии, главный ее символ; но сначала был квадрат, а потом – «управляемая демократия», а потом описанная в романе афера с фальшивыми «Черными квадратами». Сначала идею реализуют в «высокой» политике, затем в «низкой», почти в быту; на всех уровнях, видим мы, действуют одни и те же закономерности.
И постмодернистское, например, искусство есть не следствие, а средство формирования сознания при новом мировом порядке.
Читатель, понявший, как развивается искусство, поймет то, каким образом он получил ту политику, которую имеет, как, грубо говоря, у власти оказались Путин, Буш и Блэр. Любимая мысль Кантора (т. 2, с. 72): «Мир имеет ту политику и таких политиков, которые в точности соответствуют идеалам искусства, которое мир признает за таковое. В конце концов, политика не более чем один из видов искусства, а Платон ставил ораторское мастерство даже еще ниже, называя его просто сноровкой. Искусство – и так было на протяжении всей истории человечества – формирует идеалы, которые политика делает реальными. Наивно думать, будто искусство следует за политикой, так происходит лишь с заказными портретами. Но самый убедительный заказной портрет создают политики – и выполняют его в точности по заветам интелектуалов». Политики – по существу, те же художники, сами того не осознающие. Так, Горбачев, в канторовской системе координат, не кто иной, как «стихийный постмодернист».
Кантор намеренно перегибает палку, просто чтобы, когда он заговорит о главном – морали, его приняли либо всерьез, либо никак.
Павел Рихтер, в отличие от окружающих его «авангардистов», создает настоящие картины. «Огромные холсты, которые он писал в те дни, должны были показать всю структуру общества – и показать детально, до самого потаенного угла. Так он писал большую картину „Государство“, где в центре правили бал властители мира, рвали куски друг у друга из глотки, душили конкурентов; хозяев окружали кольцом преданные стражи и холопы, далее размещались ряды обслуги – интеллигентов, поваров, официантов, проституток. В ряды обслуги он включал и себя, он подробно рассказал, как его обман вписан в структуру обмана большого. Он написал Лизу и Юлию, себя, стоящего между ними, он показал, как эта лживая история вписана в конструкцию большой лжи». Когда Павел пишет свои картины, он пытается не просто зафиксировать состояние общества, но и повлиять на него своим «старомодным» искусством, перекрыть тот поток негативной энергии, который излучает «постмодернистское» искусство, создать античерный квадрат.
Картина и роман для Кантора – «наиболее внятные формы национального и исторического мышления, наиболее совершенные продукты, воплощающие историю», и одна из тем «Учебника» – почему общество ими «пожертвовало во имя налаживания производства некоего метапродукта новой глобальной эстетики».
Этот метапродукт – перформанс, инсталляции и дизайн, «квадратики» и «закорючки» вместо картин и романов – чрезвычайно раздражает Кантора, и поэтому его роман в определенной степени является памфлетом – но не о его знакомых художниках, а об антиискусстве. Сейчас, по мнению Кантора, «время дизайна»: «этикетка заменила картину». Торжество дизайна отражает общественное устройство: «Дизайн, – отчеканивает Кантор (устами профессора Татарникова), – есть форма существования привилегированных ворюг, которая становится для масс выражением прекрасных абстракций».
Столкновение дизайна и картины, болезненное для последней, как и произошло в ХХ веке, реализуется в романе и на самом простом, вульгарном – от такого не спрячешь глаза – уровне: Павел Рихтер (художник-пишущий-картины-с-идеями) узнает, что его возлюбленная Юлия одновременно спит с Валей Курицыным, дизайнером.
«Трактат по эстетике». Особый отдел романа – последние части каждой главы, складывающиеся в то, что сам Кантор в интервью называет «трактат по эстетике»: поучение на тему «что такое рисование и как следует рисовать». «Художнику следует выбрать, какой системе взглядов он отдает предпочтение. Тот, кто решил учиться рисовать, должен вести себя прилично». Собираясь высказать соображения, которые всему «прогрессивному сообществу» наверняка покажутся курьезно старомодными, Кантор намеренно перегибает палку – начинает «трактат» с медитаций на тему осанки художника, с гимнов кистям и палитре: просто чтобы, когда он заговорит о главном – морали, его приняли либо всерьез, либо никак.
Для Кантора существенно не просто наличие искусства в мире, но каким именно является это искусство. «Художник пишет для того, чтобы его картины понимали. Картина может быть истолкована только одним образом, двух толкований у картины быть не может. Образ для того и существует, чтобы быть понятым определенно». «Поскольку идея существует как строго определенная субстанция, ее зримое воплощение (образ) также определенно. Этим образ отличается от знака, который может значить все что угодно».
Искусство, по Кантору, обязано быть нравственным – просто потому, что у искусства есть миссия. Искусство – единственный способ транслировать бескорыстную любовь. Искусство позволяет сделать историю более человечной, христианской, внести в нее любовь, уменьшить биологическую жестокость, спасти мир (ну или наоборот – если искусство дегуманизируется). Христианство с этой миссией не справляется – потому что христианство быстро становится институтом, обрастает церковью; тогда как прекрасные произведения искусства излучают любовь как таковую. У искусства есть функция – различать добро и зло, указывать на то, как все на самом деле устроено; и когда искусство превращается в малевание квадратиков и закорючек, эффект от этого чувствуют не только посетители арт-галерей. Художник пишет потому, что такова его миссия. Мир спасет не правильная идеология, но правильное искусство, форма, рисование.
«Старомодная» мысль Кантора состоит в том, что, поскольку искусство должно быть моральным, то это же требование распространяется и на самого художника; иначе он будет говорить ложь – ну или, по крайней мере, его искусство будет нести зло.
Эти сорок шесть маковок, по одной на каждой главе, – может быть, лучшее, что есть в романе. Наставляя и проповедуя возврат к гуманистическим ренессансным ценностям, Кантор объясняет смысл своей деятельности. «Структура изобразительного искусства затем и придумана, чтобы собрать воедино разнесенные во времени и по величине фрагменты бытия. Наша жизнь символична сама по себе – и не искусство сделало ее таковой. Картина лишь призвана напомнить, что всякая деталь нашего быта неизбежно становится событием, и нет случайной истории, которая бы не участвовала в общей мистерии».
Философия истории и противозачаточные средства. «Основной для меня сюжет, – сообщил Кантор в интервью автору путеводителя, – я бы определил как движение истории. Диалоги софиста и философа (Татарникова и Рихтера соответственно) именно этому сюжету и посвящены. Что есть история – проектируема ли она? Что есть проект истории – соблазн, зерно развития, парадигма свободы и т. д. Развитие и разрешение этого сюжета составляет главную тему романа – прочие же вплетены в книгу попутно, как иллюстрации».
Философия истории Кантора обсуждается его критиками гораздо реже, чем карикатуры в романе, – но на самом деле она есть то, ради чего написан роман, роман, где история разворачивается в картинах.
Несмотря на название и трактат в сорока шести главах, именно «общая мистерия» – а не искусство, авангардное или традиционное, – центральная тема романа. В конце концов, сообщает хронист, «я связал свое повествование с историей искусств, но равным образом оно могло опираться на экономическую и политическую историю, на историю литературы или металлургической промышленности. Исходя из любой точки бытия можно вести хронику.
И лучшей отправной точкой для всякого рассказа является отдельная судьба».
«Общая мистерия» – означает: история. История как хроника и история как наука о законах развития действительности. Конкретный уровень – хроника – иллюстрирует действия более абстрактных закономерностей. Читатель сам должен понять на примерах из жизни героев, насколько состоятельна философская теория Рихтера.
Заключается историософская теория Соломона Рихтера, деда Павла, в следующем. Параллельно протекают две истории: «одна, воплощенная в события и факты, и другая, воплощенная в идеи и произведения интеллекта. Вторую историю (т. е. историю духа) он именовал собственно историей, а первую (т. е. историю фактическую) называл „процессом социокультурной эволюции“». По Рихтеру, процесс социокультурной эволюции порой совпадал, но чаще не совпадал с историей. Поступательное во времени движение обоих процессов Рихтер именовал двойной спиралью истории и сравнивал со спиралью ДНК. Развиваясь одновременно и параллельно, оба эти процесса (по Рихтеру) и делали нашу жизнь тем, что она есть. История придавала социокультурной эволюции смысл и цель, история готовила для социокультурной эволюции планы и чертежи развития, а социокультурная эволюция то следовала в соответствии с замыслом истории, то не следовала. Такой исторический замысел, который социокультурная эволюция либо осуществляла, либо предавала, Рихтер именовал парадигмальным проектом истории. Соломон Моисеевич обозначал три таких проекта: «религиозный, эстетический, научный» или, другими словами, христианство, Ренессанс, марксизм.
Соломон Рихтер, убежденный, что история есть воплощающийся проект, – сторонник того, что называется в романе «идти на таран»: он считает, что человек должен напрямую участвовать в истории, устраивать революции, следить за тем, чтобы проект воплощался (сам, однако, комическим образом, он ничего и не делает). Идеологии – такие мощные, как марксистская, – меняют характер исторической эволюции, придают истории импульс развития. Оппонент Рихтера, Татарников, говорит, что никакого проекта нет и все в мире зависит от случайностей – «история существует помимо нас». Рихтер возражает: «История существует помимо нас, только если она – цепочка бессмысленных событий. Но мне не нужна такая история».
« – Зачем вообще эти проекты нужны? – осторожно спрашивает Татарников?
– Как зачем? Вы еще спрашиваете об этом! Затем существует великий замысел,что если его не будет, если не будет великой общей идеи, то тогда людьми будут править идолы. Идолы только и ждут момента, когда у человечества уже не будет пророков, – тогда они придут и возьмут все себе. Общей идеей тогда станет язычество – культ силы, торжество богатства и власти! Отнимите у человечества цель – и целью станет власть сильных над слабыми».
Собственно, эта двойная спираль реализована и в строении романа: с одной стороны, мы наблюдаем за отдельными эпизодами из жизни общества – и вот это история как «процесс социокультурной эволюции», а с другой – в нем постоянно генерируются идеи, создаются картины, реализуются персональные исторические «проекты» – когда кто-либо из персонажей отваживается идти на таран истории. Кантор «сопрягает» обе спирали.
Попутно отметим, что все «высокие» идеи в романе имеют свои «низкие» соответствия, и «двойная спираль истории» – не исключение. Так, старик-Рихтер звонит проститутке Анжеле, с которой познакомился на прогулке, и, по обыкновению, излагает ей свою историософию – тогда как девушке, слушающей теорию о двойной спирали истории, кажется, что старик предлагает ей новое противозачаточное средство – вставить двойную спираль.
Живые в романе – это те, кто готов таранить историю, а не просто социокультурный планктон, который просто плывет по историческому течению; потому что если не «таранить», будет торжествовать зло; и поэтому Струев, главный таранный персонаж «Учебника», говорит, что искусство – это драка. В отличие от Толстого, также автора историософского романа, но относившегося к «великим людям» крайне скептически, Кантор уверен, что отдельный человек, пусть даже и руководствующийся эгоистическими побуждениями, может изменить общий ход событий; прямое участие человека в истории меняет историю. Энергии бешеного калмыцкого сердца Ленина хватило едва ли не на пять поколений его противников, он и после смерти продолжал ее проектировать.
Собственно, канторовский роман есть, во-первых, апология трех уже состоявшихся и теперь в разной степени оболганных проектов – религиозного, эстетического и научного (христианство, Ренессанс, марксизм) и выкликание нового Великого Парадигмального Проекта, «великого замысла».
Впрочем, это не безоглядная, а и осторожная тоже апология. В Заключении сказано, что Рихтер прав, человечество нуждается в проектной истории, но проект на то и проект, чтоб кто-то остался вне его – а это плохо. Таким образом, Кантор не дает в романе однозначного ответа, какая история лучше – обычная или спроектированная. Лучше та, внутри которой будет лучше семье – и не только героям и их ближайшим родственникам, но и семье как целому народу.
Предательство интеллигенции. Среди героев «Учебника» есть и «народ», и капиталисты, и чиновники, но центральную роль здесь играет класс самоназванных аристократов – интеллигенция; так в «Войне и мире» речь шла о судьбе всего народа, однако на первом плане все же было дворянство.
Здесь есть журналисты, профессора истории и директора музеев современного искусства, священники, галерейщики, редакторы, поэты, философы и телевизионщики. Здесь особенно много искусствоведов, художников, культурологов и кураторов.
Такой интерес Кантора к интеллигенции обусловлен тем, что она стала тем классом, на плечах которого в Россию пришел капитализм (также, впрочем, персонифицированный в романе – здесь есть несколько олигархов, бандитов, эфэсбэшников и чиновников). «Учебник» – роман о роли интеллигенции в истории конца ХХ века, о том, как интеллигенция стала тем классом-гегемоном, который легитимизировал богачей, предоставил им идеологическое обеспечение их превосходства – и предал народ, скормил его власти в надежде любой ценой «прорваться в цивилизацию»; классом, променявшим почву на доступ к мировой культуре, к «Европе» – вместо того чтобы разделить участь народа.
Кантор, собственно, произнес: вы – то есть мы – скоты, потому что бросили народ, за который ответственны, перестали говорить, как народу плохо, и принялись петь, как хорошо всем будет при капитализме.
Чтобы точнее сформулировать претензии к классу предателей – а это, несомненно, одна из задач романа – Кантор выделяет два типа интеллигенции – компрадорскую и люмпен-интеллигенцию, более и менее циничную. Семья Кузиных в романе – компрадорская интеллигенция, Рихтеры – люмпены. Для удобства манипуляции их мнениями идеологи капитализма в России создали две либеральные партии – Кротова (СПС) и Тушинского («Яблоко»). Одних купили дороже, других – дешевле, но своей обязанностью – представлять интересы народа – пренебрегли и те, и другие. И те, и другие, по существу, сделались коллаборационистами, а то и опричниками нового порядка – в печати и устно разъясняющими электорату, как следует себя вести при нынешних хозяевах.
«Теории, – замечает Струев в главе „Вой русской интеллигенции“, – выдумывают здесь для того, чтобы пролезть в число управляющих. Любая цивилизаторская теория здесь – это оправдание паразитизма и разрешение начальству дальше гробить народ. Русский европеец – это опричник». Кантор проходится не только по нынешним интеллигентам, но и по ее идолам – по Бродскому, например, который мало того, что эмигрировал, то есть, по Кантору, бросил свой народ, среди прочего, успел сформулировать индульгенцию для капиталистов – «Ворюга мне милей, чем кровопийца»; возможно, в Венеции так оно все и было, но в России, убежден Кантор, при «кровопийцах» народу было не так плохо, как при «ворюгах».
Разумеется, канторовская резкая критика интеллигенции не является откровением. Да, интеллигенция, воспевающая доступность удобных электроприборов, выглядит глупо и достойна презрения; однако ни Пелевин, ни Проханов не показали всей глубины падения; они не обвинили впрямую интеллигенцию в предательстве. Тогда как Кантор, собственно, произнес очень простую вещь: вы – то есть мы – скоты, потому что бросили народ, за который ответственны, перестали говорить, как народу плохо, и принялись петь, как хорошо всем будет при капитализме. Кантор, мало того, произнес слово «ненависть»: «Всегда их ненавидел. За то ненавижу, что они променяли искусство на прогресс, первородство на чечевичную похлебку».
Это предательство интеллигенции не принесло ей счастья – как предательство Павлом жены не принесло счастья ему. И сейчас – в финале романа – интеллигенция, шугающаяся нового засилья ФСБ, выглядит жалкой. Интеллигенцию саму одурачили, «кинули», стали оттирать от всякой реальной власти (как Павла одурачила Юлия Мерцалова) – и она сама в этом виновата. Впрочем, продемонстрировав, до каких мерзостей может дойти интеллигенция, Кантор все-таки в финале заставит читателя пожалеть своих героев; победившие капиталисты плохо относятся и к предателям тоже, и все они кончают не очень-то хорошо – кое-кто так и в буквальном смысле на помойке.
«Мысль семейная». Кантор много раз дает понять, что его роман – проекция двух толстовских; главы в нем, бывает, начинаются фразами, производящими впечатление даже не имитаций, а прямых цитат («Все, что происходило с его семьей, происходило на тех же основаниях и так же, как в иных семьях»), и в нем тоже если не главную, то существенную роль играет «мысль семейная», причем термин «семья» употребляется максимально расширительно, родство понимается не только как кровное, но и как близкое, исторически сложившееся соседство с общим психическим складом, то есть принадлежность к одному народу, и даже такая степень родства в канторовской нравственной системе уже подразумевает наличие ответственности более успешных элементов системы за менее успешные.
О том, что семья для Кантора – больше чем «сообщество близких родственников», говорит феномен наследования в романе некоторых черт некровными родственниками. У летчика Колобашкина такой же приметный оскал, как у Струева. Это важно – наследование происходит не только внутри кровной семьи, признаки перебрасываются дальше, внутри целого народа. Важно, с одной стороны, потому, что история одна для всего народа, а не только для отдельных семей, а во-вторых, потому, что тут мы видим, как исторический проект реализует себя любыми способами, преодолевая «случайные закономерности».
Роман есть хроника распада страны, распада общества и распада семей.
Как везде у Кантора, первоначальный импульс дает искусство, а уж затем идея распространяется в других сферах общественной жизни.
Аморализм в искусстве отзывается аморализмом в политике и в личной жизни. Все ведь относительно, заявило языческое искусство; и все поверили. Павел, ушедший от жены, оправдывает свой уход так же, как западные люди – измену моральным ценностям.
Семья, личная жизнь – один из самых наглядных (и болезненных для героев) примеров того, как функционируют идеи в обществе. (И именно поэтому Кантор так часто говорит об адюльтерах своих героев – а не по привычке сплетничать об интимной жизни других людей.)
С одной стороны, Павел Рихтер оправдал свою измену жене «свободным искусством, так же, как делали это презираемые им авангардисты»; с другой – «Жизнь самого Павла является проекцией политической ситуации в целом».
Хуже то, что он знал, на что идет, – раз понимал, что «искусство и личная жизнь связаны прямо – и что невозможно кривить душой в личной жизни и быть художником».
В итоге Павел оказался наказан дважды – стыдом за измену семье и изменой за уступку соблазну.
Павел полагал, что то, что касается всех, может не коснуться его, – и ошибся. «Но не до конца, думал я, не до конца. Им меня не достать. Но вот они залезли ко мне в постель». Если не противостоять злу активно – не «таранить» его, а только закрываться или дистанцироваться от него, то оно победит везде.
История семейной жизни Павла, устроившего из своей жизни «такую помойку, какая не приснится и дворовой собаке», – «Он лежал без сна, как обычно бывало с ним теперь, и думал, что вместо счастья (считается, что именно счастье приносит любовь) он получил в жизни стыд и раскаяние» – иллюстрирует очень точную и, может быть, самую болезненную для усвоения мысль Кантора, точнее, парадокс о свободе: «Свободы не существует для личного пользования; отдельная свобода не идет впрок. Лишь тогда, когда ты видишь, что другие счастливы и покойны (а это может произойти, если они тоже свободны), тогда и ты можешь полностью наслаждаться свободой. Поэтому стремление выдавить из себя раба и обрести отдельную от других рабов свободу – стремление пустое и ведет к безнадежному существованию».
Чем очевиднее рушится личная жизнь, семья, родина и чем убедительнее идеологические оправдания этого распада как разумных издержек, случающихся при «прорыве в цивилизацию», тем горячее Кантор защищает саму идею семьи, в широком смысле. «Однако идея, объединяющая миллионы людей, заставляющая их чувствовать себя одним организмом, – безусловно, есть. Это идея русского языка, русской природы, русского типа отношений. Эта идея имеет конкретное воплощение в определенном характере человека и называется конкретным словом – судьба. Судьба, связывающая многих людей, может быть горька и не очень, безусловным правилом является одно – она общая. Изменить ее можно сразу для всех – или ни для кого. То, что судьба может не нравиться человеку, наделенному этой судьбой, – очевидно. Очевидно и то, что, разрывая отношения с ненавистной родней, человек этот общей судьбы не меняет. Так человек, оставляя семью, не может считать, что он изменил эту семью, он просто ушел из этой семьи. Уйдя из семьи, такой человек продемонстрировал, что воля может преобладать над долгом: ничто не невозможно, он взял и ушел. А судьба его семьи осталась прежней, как и судьба огромного народа, который называется русским, не меняется, если его покидают те, кто не выносит неприятного соседства. Именно общность судьбы и является народной идеей – как общность семьи является идеей семейной».
«Иными словами, можно охарактеризовать народную идею как идею солидарности и взаимной ответственности».
Интеллигенция – тот член семьи, который повел себя безответственно.
«В тот момент, когда один из членов семьи, пользующейся старыми санями, соблазнился возможностью пересесть в автомобиль, участь семьи была решена. Предательство интеллигенции, отказавшейся от своего народа, определило неизбежность гибели страны. Размыло культуру, размыло язык, перестало существовать искусство – и общая судьба предстала во всей своей неприглядности… И рухнула страна. Не стало страны, за которую мог бы бороться народ, не стало ничего, ради чего могла бы пойти так называемая прогрессивная интеллигенция умирать. Размылилась держава. И дубины народной войны не нашлось – в ломбард сдали дубину, заложили за пару долларов, чтобы купить „сникерс“».
Есть в романе и «любовница», «разлучница», фигура соблазна, разрушительницы идеи семьи: «Бесстыдная и бессердечная, эта женщина останется всегда желанной. В хронике она носит имя Мерцаловой, но у нее есть и другое имя. Ее можно назвать – цивилизация».
Сатирическая комедия? Кантора одинаково легко представить и Аввакумом, стучащим клюкой с высокой кафедры, и ядовитым памфлетистом, изъясняющимся остроумными шпильками, вроде следующей: «Отчего именно открытое общество обзавелось железными дверьми, а предыдущее, казарменное, обходилось без них, понять было сложно». На самом деле ни то, ни другое не точно. Кантор и не Аввакум, и не лорд Байрон; он ядовитее, непримиримее, «конкретнее», чем, например, Пелевин; если уж в самом деле искать ему компанию, то он окажется ближе к Свифту, Щедрину и Проханову. Чтобы почувствовать свойственную Кантору желчную сатирическую интонацию, откроем, например, главу «Палата номер семь», пятая главка. «Корабль „Аврора“, легкий прогулочный катер, приписанный к Московскому речному пароходству, был арендован прогрессивной столичной интеллигенций по случаю дня рождения министра культуры Аркадия Ситного. Проявив живую фантазию, прогрессисты выкрасили белый пароход в черный цвет и распорядились обить борта жестью – дабы придать полное сходство со злополучным крейсером. ‹…› Отец Николай Павлинов, обряженный в революционного агитатора, в фуражке, надвинутой на глаза, в скрипучих сапогах, держал в руке плакат „Долой Бога!“, другой прижимал к животу бутылку бордо и выкидывал потешные коленца» (т. 1, с. 125-126).
На читателя, знакомящегося с «Учебником» «по диагонали», канторовский роман может произвести впечатление сатирической комедии. Здесь в изобилии присутствуют и памфлетные, и бурлескные, и фарсовые, и гротескные сцены. Есть сцена, где художник-скотоложец Сыч присутствует на пресс-конференции в Политехническом своего бывшего любовника хорька, который бросил его (тут узнается развитие гоголевского мотива: сбежавшая вещь, которая не может вести отдельную жизнь – однако ж); есть пародия на салон Анны Павловны Шерер. Есть «Филип Преображенский» – человечек-инсталляция, плавающий в аквариуме в галерее Поставца. Есть сцена с арт-теоретиком Петром Труффальдино в борделе.
Однако роман не сатирический; он посвящен «высоким» идеям и способным проектировать историю героям – у которых, однако, есть свои «низкие соответствия», пародийные копии, полуанонимные субъекты социокультурного процесса, и вот вокруг них-то и проложены сатирические «коммуникации» романа. Роман – сложная система соотношения пафосного и сатирического, возвышенного и низкого.
Есть Павел Рихтер и есть Гриша Гузкин (двойник Павла, персонаж плутовского романа, воплощение компрадорской интеллигенции без родины), есть Сыч (более отдаленный двойник Рихтера, артист, еще дальше ушедший от картины, воплощение идиотического искусства «перформансов», любовник хорька – и персонаж гротескной линии), есть мастер дефекаций из Гомеля (двойник уже даже не Павла, а Сыча, наирадикальнейший радикал, заменивший картину говном уже не метафорическим, а реальным, неудачливый объект инвестиций арт-критиков). Преступная любовь Павла к двум женщинам дублируется в сюжете как карьерные интрижки Гриши Гузкина, как гротескное скотоложество Сыча – и как трагикомическое одиночество мастера дефекаций из Гомеля. Сцены с двойниками – несомненно, сатирические; однако Гузкин, Сыч и прочие – именно антигерои; им уделяется много внимания, но если роман и напоминает иногда карнавал, то, как всякий карнавал, он жестко структурирован – и «низ» знает свое место, выполняет исключительно служебную функцию. Антигерои любопытны автору лишь как двойники – ну или как те, чья душа еще, в принципе, способна возродиться. И самые экстремальные сатирические сцены – как день рождения Ситного на «Авроре» – возникают в романе, только чтобы стать иллюстрацией того, до какой степени может быть опошлена та или иная идея (в случае с «Авророй» – марксизм и революция). И заканчиваются они обычно мрачным авторским комментарием. «Так палата сифилитиков смеется над чумным бараком». Кантор понимает, что из-за того, что идея может быть опошлена, не следует, что идея дурна.
Интеллигенция бросила семью, освободилась от ответственности за народ и пустилась в вольное, как ей представлялось, плавание – а на самом деле превратилась в инструмент капиталистов. Этот марионеточный статус, отягощенный фактом предательства, и обусловливает то презрение, которое испытывает к интеллигенции Кантор, – и ту сатирическую технику разных типов, которой он пользуется по отношению к ней. Кантор ставит своих интеллигентов в абсурдные, гротескные ситуации не потому, что это его знакомые, чем-то ему насолившие, – а потому что они как класс повели себя недостойно и безответственно; может быть, к конкретным людям это и не относится (а впрочем, и они должны разделить ответственность, не стоит думать, что роман посвящен совсем уж абстракции). Но сатирические выпады против интеллигенции не означают, что Кантор презирает саму идею интеллигентности.
Прототипы. «Роман с ключом»? Едва ли не самое распространенное заблуждение относительно «Учебника рисования» состоит в том, что роман имеет смысл читать, только если знаешь, кто именно «из своих» в нем выведен.
Список возможных – и по каким-то причинам узнаваемых – прототипов оказывается даже больше списка действующих лиц: Михалков, Зиновьев, А. Яковлев, Явлинский, Швыдкой, Кулик, Ходорковский, Мизиано, Чубайс, Деготь, Алекперов, Амирханова, Бренер, Максим Соколов, Брускин, Церетели, Кириенко, Глазунов, Кабаков, Мамышев-Монро – и это только верхние строчки этого списка. Не всегда с точностью можно указать, кто есть кто; многие образы – действительно собирательные. Дима Кротов, похоже, имеет некоторое отношение к Кириенко – но именно что некоторое. Багратион – это, по-видимому, обобщенный Церетели + Глазунов, но и не только. Соответствие вычисляется по внешним признакам (бородка Гриши Гузкина, речь Петра Труффальдино), по общественному статусу и деталям биографии (Осип Стремовский, Дупель), по фонетическому или семантическому сходству фамилии (Ситный, Тушинский).
Быть прототипом канторовских персонажей вовсе не обязательно означает попасть в ад; иногда это всего лишь чистилище.
Очевидно, что если герои Кантора и соотносятся со своими прототипами, то либо не напрямую, либо – с несколькими прототипами одновременно.
Можно предположить, что фигура Лугового в романе получила свои контуры от А. Яковлева – но по сути от того, так это или не так, ничего не меняется. Важно, что в общественной структуре есть этот нервный узел – «черный квадрат», засасывающий энергию и излучающий зло; и Кантор скорее пытался указать на эту черную дыру, чем на конкретного человека. В конце концов, конкретные люди в романе названы своими настоящими именами – Горбачев, Путин, Блэр, Буш.
Характерно, что тезис о собирательности относится и к прототипу по имени Максим Кантор – который, можно предположить, спроецировался сразу на нескольких персонажей, и «отрицательных» в том числе. Так, Гузкин наверняка имеет отношение не только к Брускину, но и к самому Кантору, к его опыту заграничной жизни, это еще и автопародия, карикатурный автопортрет. Хотя, разумеется, в гораздо большей степени сам Кантор прототип других героев: Павла Рихтера, Струева, Антона.
Еще одна любопытная в связи с этой темой – и не только, вообще важная для романа фигура – философ и писатель Александр Зиновьев.
Во-первых, он появляется в романе собственной персоной, правда, за сценой: Струев привозит в Россию Зиновьева, но успеха затея не имеет. Причину равнодушия публики к автору «Зияющих высот» объясняет Борис Кузин – слишком поздно, теперь никому не надо. Зиновьев был востребован как критик советского строя, но когда он, один из первых, в 1990-м, заявил, что крушение коммунизма – «катастройка» – оказалось для России еще более катастрофическим, его списали со счетов. Зиновьев – который был ближайшим другом Карла Кантора и в своем роде крестным отцом Максима Кантора, по-видимому, прототип обоих философов романа – и Татарникова, и Рихтера. Как и Рихтер, Зиновьев был во время войны летчиком, а потом профессором философии; как и Татарников – он русский патриот и едкий, язвительный софист. Странное совпадение: Зиновьев умер практически сразу после того, как был опубликован «Учебник рисования»; кто-то мог бы сказать – «обретя явного наследника». Сам Кантор произнес в некрологе «Постараюсь прожить так, чтобы он не был разочарован».
Вообще, быть прототипом канторовских персонажей вовсе не обязательно означает попасть в ад; иногда это всего лишь чистилище. Публицист-западник Борис Кузин здесь и смешон, и жалок, и трогателен, и симпатичен. Обижаться ли, например, публицисту Максиму Соколову на Бориса Кузина – или радоваться, что его взяли в финал, вместе с еще одиннадцатью бродячими собаками? Последняя фраза, опять же, не означает, что под именем Бориса Кузина в романе выведен Максим Соколов. Выведен не сам М. Ю. Соколов, а тип интеллигента, с ним ассоциирующийся. Не исключено, что М. Ю. Соколов, в системе ценностей М. К. Кантора, принадлежит к этому типу – но не более того.
Итак, «Учебник рисования» – это не «роман с ключом». (Хотя, по правде сказать, невозможность соотнести некоторых персонажей с конкретным лицом вызывает некоторое беспокойство – ну раз уж все остальные так или иначе соотносятся. По-видимому, читатель, имеющий представление по крайней мере о круге возможных прототипов, обладает некоторым преимуществом относительно совсем несведущего читателя.)
Есть ли вообще смысл в «расшифровке» имен канторовских персонажей, стоит ли, в самом деле, соотносить их с конкретными прототипами, даже если их фамилии кажутся созвучными? Ответ «нет», и прежде всего потому, что попробуйте оглянуться – и вы обнаружите тех же Снустиковых-Гарбо и Ефремов Балабосов практически в любой сфере общества, даже и бесконечно далекой от тех, где устраивает свои публичные порки Кантор.
Если бы «Учебник рисования» был только сатирическим романом, то к нему можно было бы предъявить серьезные претензии. Сатирический роман всегда есть ревизия текущего состояния общества – ревизия, требующая каркаса, сюжетной конструкции, какая есть в «Мертвых душах», в «Мастере и Маргарите», в «Двенадцати стульях», да даже и в «Чапаеве и Пустоте». «Учебник рисования» – это, помимо всего прочего, еще и ревизия светской, погрязшей в адюльтерах, коллаборационизме и нечестном бизнесе, Москвы. Но всего лишь «помимо»; потому что на самом деле это не ревизия, а, во-первых, хроника, во-вторых, «лабиринт сцеплений», мысли, данные в развитии. Сатирические сцены – всего лишь вспомогательные: в них демонстрируется, что происходит с идеями, когда они вытаскиваются на улицу, реализуются на никчемном человеческом материале.
Карикатура – лишь одна из техник; с ее помощью нарисованы многие персонажи – но далеко не все. Некоторые персонажи выполнены только в ней, некоторые – с помощью наложения нескольких, разных техник. Автор – в том случае, если он симпатизирует герою и готов поверить, что тот сможет искупить свое предательство, – как бы начинает прорисовывать характер, делать его глубоким и объемным.
«Война и мир»? Кантор, которому на момент публикации «Учебника» было под пятьдесят – примерно тот возраст, в каком Толстой работал над «Войной и миром», – часто кивает на своего «ровесника» и его роман; «Война и мир» – главный жанровый и отчасти композиционный компас Кантора. Как и «Война и мир», это роман, повествующий не только об отдельных личностях, но и о целом народе. Как и «Война и мир», это рассказ об очередном нашествии на Россию двунадесяти языков – либеральном нашествии (только вот «дубина народной войны», комментирует хронист, на этот раз не была поднята, а оказалась заложена в ломбард). Как Толстому для того, чтобы рассказать про 1825 год, потребовалось начать с 1805-го, так и Кантору для хроники «катастройки» пришлось обращаться к истории всего ХХ века и особенно испанской гражданской войны. В основе ценностей обоих романов лежит «мысль семейная». Оба романа переполнены громоздкими, крупнотоннажными размышлениями, переводящими хронику в иллюстрацию более общей историософии. Оба романа похожи структурно: они открываются салонными сценами (салон Шерер и вернисаж авангардного искусства); у Кантора в романе два любимых героя – один, Павел, как Пьер Безухов, более склонен к созерцанию, к «миру»; второй, Струев, как Андрей Болконский, – к действию, к «тарану», к «войне»; в «Учебнике» есть свой Каратаев – Кузнецов, есть своя Ахросимова – Татьяна Ивановна, есть своя Элен – Мерцалова; есть даже некто вроде Наполеона и Кутузова одновременно – Луговой. Разумеется, некоторые соответствия натянутые, но система персонажей канторовского романа в целом легко накладывается на толстовскую.
Любопытно, что и восприятие современниками «Учебника» очень напоминает восприятие «Войны и мира». «Войну и мир» тоже прочитывали как обличение света и аристократии, тогда как на самом деле для Толстого важны были не социальные характеристики его героев, а их способность чувствовать, и на этом основании они разделялись в романе на фальшивых и подлинных.
Что означают эти постоянные оглядки на Толстого? Кантору, который, разумеется, понимает, как нелепо могут выглядеть его два кирпича с рассказом о тяжелой судьбе народа в эпоху мирового кризиса, нужно сослаться на прецедент – особенно в жанровом смысле. Русская литература, подразумевает Кантор, время от времени генерирует такие произведения, обобщающие опыт целых эпох и поколений, произведения, где судьбы отдельных героев срастаются в судьбу целого народа.
Не следует, однако, воспринимать текст Кантора как буквально «Войну и мир»-2. В «Учебнике», может статься, нет таких живых картин и ярких сцен, как «охота» или «ночь в Отрадном», или таких массовых сцен, как Шенграбен или Бородино, – ну так здесь есть кое-что другое. Есть струевская «мышеловка», есть сцена воздушного боя, есть не менее пронзительная, чем хрестоматийные толстовские, сцена, где Павел тайком пьет с собственной женой чай: «Павел любил свою жену тайной любовью – стесняясь своего чувства, понимая его несуразность. Так люди, коим общественный статус предписывает любить чужие города и размах цивилизации, тайком любят свою отсталую Родину; признаться в этом неловко, требуется хвалить Париж и Нью-Йорк – и люди так и делают, чтобы никого не разочаровать».
Возможно, герои Кантора не всегда соответствуют толстовскому стандарту психологического романа, в массе они площе, чем толстовские, – но Кантор и работает в другой, собственной технике: ему и нужно, чтобы в его картине одни персонажи были глубокими и многомерными, другие – двухмерными, а третьи – совсем плоскими.
«Гамлет» и другие в романе. «Учебник рисования», помимо всего прочего, есть продукт европейской культуры, роман-палимпсест, и автор не просто выстраивает здание романа на типовом фундаменте, но всячески экспонирует свое «блаженное наследство»; роман наполнен явными отсылками к чужим текстам и картинам; читатель может и должен воспринимать его в определенном ряду. В нем слышны и видны Гойя и Ван Гог, Шекспир и Достоевский, Сервантес и Булгаков. В нем узнается не только «Война и мир», но и пикассовская «Герника», и сходство между двумя произведениями не ограничивается размерами; фашизм, показывает Кантор, не болезнь, которую к началу XXI века победили, а вектор развития современной «цивилизации», то, что прямо сейчас происходит с миром; и цивилизаторы через своих агентов влияния наносят России не меньший ущерб, чем люфтваффе – испанской Гернике за семьдесят лет до этого. Именно поэтому – в том числе – так кстати приходятся в романе испанские главы: в Испании произошло то, что позже произойдет с Россией.
Кантор пишет свой роман на полях чужих текстов не ради игры; отсылки к чужим текстам – это ссылка на прецеденты, знак того, что он занят теми же важными для всего человечества вопросами, а также обозначение своей претензии на право наследования. Для Кантора важен цеховой, артельный пафос – он, Толстой, Сервантес, Шекспир, Достоевский, Блок, Булгаков, Зиновьев делают общее дело, они все гуманисты, все они посланы сюда ради того, чтобы улучшить, спасти мир, и если ты чувствуешь в себе силы справиться с миссией, нечего стесняться говорить о ней; высокопарность в любом случае лучше, чем вечное пошлое хихикание.
Вторым по значимости «чужим текстом» после «Войны и мира» для романа является «Гамлет». Несколько глав так или иначе отсылают к шекспировской теме уже в названиях: «Мышеловка», «Роза Кранц и Голда Стерн мертвы», «Клинок отравлен тоже», «Тень отца», «Могильщики», «Гамлет, сын Гамлета». «Гамлет» – основа, подложка семейных коллизий, линии Павла Рихтера. Здесь есть отсутствующий любимый отец (который ни разу не показан и даже не назван по имени) – черный квадрат наоборот. История Павла – это тоже история «мести» сына, которого вот-вот объявят сумасшедшим, за «убитого» отца «убийце», женившемуся на матери; только убийца в романе не конкретно Леонид Голенищев (мерзавец отчим, спящий с матерью и пользующийся отцовскими книгами), а общество, авангардисты и капиталисты, уничтожившие любимую героем страну и ее культуру. «Мать» и «отец» – это еще и как бы «родина» в двух ее аспектах. С одной стороны, родина, предпочетшая умереть, но не достаться врагу, с другой, родина, ерзающая ляжками под оккупантом. Павел-Гамлет, таким образом, оказывается перед дилеммой: мстить ли агрессору, если оккупация произошла, кажется, по обоюдному согласию?
Через «Гамлета» «Учебник» подключается к еще более широкому корпусу текстов. С одной стороны, это история про сыновей и отцов, про конфликт поколений (в самом простом варианте: соломон-рихтеровское и татарниковское – против роза-кранцевского и кузинского). С другой, история про сына и отца проецируется на другую, более архаичную – про сына как воплощение отца, про Сына и Отца.
Гамлетовская и христианская темы увязаны в романе с рихтеровской философией истории. «История выражает свой проект через феномен наследия – и всякий сын есть подтверждение жизни отца, осуществление проекта, обещание проекта нового. Этот, всякий раз заново пережитый, завет и составляет сущность истории. Этот генетический код гуманизма и есть импульс двойной спирали истории». Как отец дает жизнь сыну, так история выражает свое идеальное начало в проекте.
«Черный квадрат». «Учебник рисования» есть роман о движении истории, точнее, о приключениях идей в истории, иллюстрированный примерами того, как эти идеи реализуются – или деградируют – в разных сферах жизни и на разных социальных ярусах. Фундаментом канторовского романа является представление об «общей мистерии», внутри которой все фрагменты так или иначе соотносятся и соответствуют друг другу. Политика соответствует искусству, семейная жизнь соответствует политике, законы русской истории соответствуют общим законам христианской истории и так далее; абстрактные закономерности, которые исследует Кантор, действуют на разных конкретных уровнях, в чем-то подобных друг другу; весь роман выстроен на соответствиях – таким образом, чтобы показать, что жизнь представляет собой единый организм, что все взаимосвязано: искусство, политика, мораль, быт. Все имеет смысл, все указывает друг на друга, нарушение в функционировании одной институции непременно скажется на всех остальных. Некая идея или явление, оказываясь в разных контекстах-средах и реализуясь там, реагирует на внешние раздражители и тем самым проявляет свою подлинную – а не приписываемую им «экспертами» – сущность.
Для наглядности возьмем «Черный квадрат» – один из ключевых символов в романе, участвующий во многих философских комбинациях. В сущности, можно рассматривать «Учебник рисования» как канторовский ответ «Черному квадрату», весьма обстоятельный ответ. Собственно, каждый персонаж в этом романе так или иначе изготавливает – или уничтожает – свой черный квадрат, свою копию этой иконы авангарда.
Картина Малевича – концентрированная идея авангардного искусства, которое, как оказалось, идеально встраивается в буржуазную эстетику и рыночные отношения. По сути, авангард – это фашизм, подавление слабого сильным, утрата моральных ценностей.
С другой стороны, «Черный квадрат» есть антиикона, заменяющая Бога пустотой, черной дырой, Ничто – и, таким образом, антихристианский, языческий символ. Характерно, что главная картина ХХ века, в сущности, языческая; это свидетельствует и о характере самого века. Кантор покажет в романе, как в ХХ веке произошло вытеснение христианского мировоззрения языческим, как христианская цивилизация трансформировалась в языческую.
Не случайно – искусство опять симптом – авангард вытеснил картину: и это было победой если не дьявола (Кантор не оперирует такими терминами), то язычества. Черный квадрат – знак победы язычества над христианством: «Малевич не „закрывал“ прежнее искусство своим квадратом, он всего лишь закрыл христианское антропоморфное искусство». Авангард – победа дегуманизированного, языческого искусства. «Представляется очевидным, что повсеместное выступление сыпи из квадратиков, загогулин и закорючек на теле мира, повсеместное вытеснение христианского сознания сознанием языческим явилось первым симптомом изменений, происходивших со старым миром, – эти изменения обозначили конец старого порядка и ввергли общество в европейскую гражданскую войну».
То, что сейчас происходит в мире и в России – всплеск насилия, всеобщий страх и торжество пустого искусства, – следствие кризиса христианской цивилизации в целом.
Кроме всего прочего, «Квадрат» – символ новых свободных времен, символ демократии; и сначала был квадрат, а потом – «управляемая демократия». Свобода и фашистская управляемая демократия – одно и то же. Следствие: «Если черный квадрат символизирует свободу, то отчего же подполковнику КГБ – не символизировать демократию?»
«Черный квадрат» – это еще и окно в Европу. Таким образом, «прорыв в цивилизацию», о котором мечтают интеллигенты, – это прорыв в черное ничто. Квадрат – символ агрессии мира насилия против мира любви; символ войны вообще.
В шутке Струева («На кого похож Луговой? – На черный квадрат») больше серьезности, чем кажется. «Черный квадрат» – это сам Иван Михайлович Луговой, поначалу представлявшийся безобидным номенклатурщиком, с чьей молодой женой спят кто ни попадя, он оказывается подлинным дирижером конспирологических процессов, тайным организатором истории, воплощением зла. Образ Лугового – воплощающего Черный Квадрат – определенно отсылает к дьяволу. У него одна рука – и это не только повод для иронии (его прозвище – «Однорукий двурушник»), но и внешнее подтверждение его дьявольской сущности: очевидная замена свойственной черту хромоты (к тому же однорукость – отсылка к Сталину). Он практически вечен – появляется еще в Испании, молодым, и так получается, что чуть ли не из-за него коминтерновцы проигрывают франкистам войну. Он живет в доме на Малой Бронной – в квартире с призраком, как у английского лорда (правда, этот призрак – призрак коммунизма, старуха Марианна Карловна Герилья; прирученная, стреноженная революция. Революция в надежном месте – она закатана в черный квадрат). Иван Михайлович Луговой – антицентр романа, он как бы отец Павла наоборот; если тот так и остается неназванным, то Луговой, напротив, все время на виду (его можно встретить на вернисаже, в австрийском посольстве, в парижском ресторане). К его фигуре стягивается множество идей, на нем замкнуто много сюжетных линий. Он эксперт во всем – от религии до бизнеса, от политики до искусства, от вина до секса. Он запускает авангард как вирус, который разрушит советскую цивилизацию, в которой при всех ее минусах сохранялась мораль и защищалась человеческая жизнь.
Луговой протеичен по технике: сначала он кажется одномерной карикатурой, затем превращается в весьма реалистичный портрет, потом в концептуалистскую пародию (когда выясняется, что он – Великий Инквизитор), потом становится символом – собственно Черным Квадратом.
В связи с темой «Луговой – оживший Черный Квадрат» у сцены, когда Кузин бросается на старика Лугового с топором, возникают любопытные обертоны. С одной стороны, это пародия на идеологическое убийство Раскольникова, с другой – пародия на жест авангардиста: раз Луговой – черный квадрат, икона авангарда, то Кузин пытается рубить икону топором, это его перформанс. Черт, Луговой умудряется даже самые благие поступки извратить в дурацкую пародию.
Наконец, «Черный квадрат» оказывается буквально симулякром; он воплощает собой идею подделки – и сам идеально подходит для копирования и подделывания. Вокруг поддельных «Квадратов» Кантор закручивает детективную интригу своего романа: фальсификаторы, искусствоведы и государственные чиновники вступают в преступный сговор с целью сбыта на Запад поддельного авангардного искусства.
Кантор показывает, что капитализм в его нынешнем виде – это, по сути, неоязычество, фашизм, отказ от христианского проекта, наступление темных времен.
Афера с «Квадратами» отсылает к более общей идее Кантора: цивилизация Черного Квадрата сама строится на колоссальной фальсификации: «Надо осознать, что мы в настоящее время живем внутри общества, где употребляется фразеология христианской цивилизации, но которое – в целях упрочения конструкции – перестроило непрочную христианскую цивилизацию по законам идеологии авангарда, то есть язычества».
Вот почему, собственно, Луговой в романе – воплощающий власть имущих, язычников, обманывающих массы и интеллектуалов христианской и демократической фразеологией – Великий Инквизитор, извративший идеи христианства.
Как движется большой роман? Удивительно, что роман идей, роман о том, как все устроено, не превратился у Кантора в чистое жонглирование метафизическими тарелками. Жанровый ландшафт «Учебника» меняется очень часто; здесь есть и картины общественной и семейной жизни, и сократические диалоги, и фрагменты трактата об искусстве, и философские рассуждения, и драки с ножом, и попытки убийства топором, и теракты, и воздушные бои.
Это философский роман, но он тщательно сконструирован таким образом, чтобы максимально возможное количество мыслей проговаривалось даже не то что в диалоге – а в сценах, сконструированных как законченные драматические эпизоды. Среди них есть очень эффектные – обычно такие, где те или иные мысли «вытаскиваются на улицу»: с Гришей Гузкиным в устричном баре и барменом Барни, на Давосском форуме с Дупелем и Левкоевым, с Труффальдино в борделе. Есть выдающаяся именно в драматургическом смысле глава «Мышеловка» – про «перформанс Струева», где тот устраивает салонный диспут о Чечне, и посреди беседы в помещение вламывается банда чеченцев. Есть выдающаяся сцена, когда Кузин приходит в дом Лугового убивать старого номенклатурщика.
Феномен Кантора заключается в том, что в одном человеке удивительно соединились таланты художника, искусствоведа, сатирика, публициста и драматурга. Однако прежде всего – философа, занятого «сцеплением мыслей» (Л. Толстой). В романе больше сцен, чем рассуждений, но по сути он – фабрика мыслей: мысли – остроумные, точные, обоснованные, простые и при этом не то чтоб парадоксы, всегда красиво развитые, афористично сформулированные, живые, растущие, додумывающиеся на протяжении романа мысли – произносятся, развиваются на примерах из жизни, обкатываются на практике, наводят на другие мысли, «сопрягаются» – и вот так разворачивается роман.
За мыслью-подачей (чаще всего высказанной хронистом, но не обязательно) следует ряд сцен, иллюстрирующих жизненное воплощение мысли, каким образом эта мысль подтверждается в разных слоях социума: в жизни Павла, в жизни «хозяев» – барона Майзеля и Лугового, в жизни «философов» Рихтера и Татарникова, в жизни клоунов – Гузкина и Сыча. Мысль и подтверждается этими сценами – и разворачивается через них; так роман продвигается и через мысль, и через «жизнь», которые действуют совместно, параллельно.
Некоторые главы начинаются характерным образом: «В качестве иллюстрации к данному положению уместно привести диалог популярного критика Труффальдино и популярного художника Дутова». Или: «Данное положение можно проиллюстрировать диалогом, состоявшимся между…».
Реалистические эпизоды (похожие на картины маслом) перетекают в символические, символические – в карикатурные, карикатурные – в гротескные, потом опять в реалистические, даже натуралистические, которые на следующем этапе опять оказываются символическими. Например, в главе «Палата номер семь» Кантор показывает, каким образом порыв к свободе (1991 год, падение советской власти, массовое отречение от марксистской идеологии, низвержение памятников) ведет к моментальному торжеству несправедливости (аморализма, адюльтера, обмана) во всех сферах жизни, от экономики до семьи, как слово «свобода» служит ширмой для перераспределения ценностей. Голенищев, попирая поверженного лубянского Дзержинского, пародирует реплики Дон-Гуана. «Символ власти и государственности, – комментирует эпизод автор, – рушился прямо на глазах. Продолжая аналогию с Дон-Гуаном – впервые в финале русской драмы торжествовал адюльтер». Дальше будет сцена, описывающая укоренение новой экономики в среде носильщиков на вокзале, у художников – и гротескная сцена совокупления художника Сыча с хорьком, апофеоз свободы.
Кантор составляет свой роман из глав-модулей разных типов, позволяющих развивать и иллюстрировать мысль разными способами, монологически и драматически. Обязательного порядка сборки не существует, каждый раз типы повествования чередуются по-новому. Например, романный модуль может содержать такую комбинацию: публицистический заход, сократический диалог (обычно Рихтера и Татарникова), драматическая иллюстрация, продолжение диалога, та же тема – в светском/деловом диалоге на другом социальном этаже (например, сцена с Кузнецовым), карикатурная драматизация или диалог, продолжение авторской публицистически выраженной мысли, семейная сцена, откат к некоей важной протоситуации (каковой в романе является гражданская война в Испании), гротеск (что-то про Сыча); главка из трактата.
Собаки на пустыре: Кантор побеждает дьявола. Круг интеллигентов-предателей все разрастается, они изменяют своему народу и подлизываются к капиталистам все более разнообразно, персональная выставка Павла, которая должна «взорвать общество», долго откладывается, а наконец состоявшись, не производит желаемого эффекта; Гузкин продвигается все дальше и дальше на Запад – и непонятно, чего еще ждать, есть ли, может ли быть этому конец? Иными словами: насколько Кантор контролирует свой роман – не вышел ли тот из берегов, не превратился ли в литературное половодье?
Роман о том, что человечество оказалось в кризисе и вот-вот должен зародиться новый спасительный Проект, не может быть размером с «Духless. Повесть о ненастоящем человеке». Кантору есть что сказать, и говорит он довольно нетривиальные вещи – вроде того что искусство ХХ века – и не только в первой его половине – обеспечивало и направляло фашистскую идеологию; надо много слов, много сцен, много ракурсов – пусть и похожих друг на друга, чтобы показать, что это правда, как так получилось и чем это грозит. Кроме того, Кантор замечательный – старомодный, не стесняющийся тратить много пространства на изложение «мыслей» – рассказчик, из тех, которые сами знают, что их фантазия неистощима, а чувства – любви, ненависти, справедливости, стыда – по-настоящему сильны, настолько, что позволяют одинаково страстно декламировать и первый, и пятнадцатый, и сто первый монолог – именно что «как трагик в провинции драму Шекспирову». У Кантора нет страха наскучить читателю.
И разумеется, канторовский роман не «разлился»; автор с самого начала прекрасно знает, чем все кончится, и вовсе не оттягивает якобы отсутствующий финал. Если читать роман внимательно, нельзя не заметить, что Кантор много раз намекает на то, чего именно следует ждать. Так, в самом начале Алина Багратион говорит своему любовнику Струеву: «Всякое большое дело должно скрепиться преступлением», «Дело прочно, когда под ним струится кровь». Именно это – завязка, и она «развяжется», и с большим шумом. В романе множество микроэпизодов, которые могут показаться избыточными – но на самом деле все они будут отыграны – сразу же, в соседней главке, или через тысячу страниц, а скорее всего и так, и так. Когда, например, авангардист Пинкисевич стоит на баррикаде 1991 года со своими серыми квадратиками, будто с иконой, и кричит куда-то в пустоту: «Прорвемся!»; и когда в следующей главке мы увидим, как Гузкин рвется в цивилизацию – австрийское посольство – с просьбой предоставить ему политическое убежище; только много глав – и много лет – спустя, когда мы поймем, что Черный Квадрат на самом деле заменил Икону, то есть язычество подменило собой христианство, что вместо Бога в массы была вброшена идея абстрактной свободы, Прорыва в Цивилизацию, когда поймем, что Прорыв в Цивилизацию – это и есть самоуничтожение в черном ничто Квадрата, вот тогда мы осознаем, насколько иронически – и пророчески – выглядел кричащий Пинкисевич со своими квадратиками на баррикаде в августе 1991-го; и куда именно в конце концов уехал концептуалист Гузкин.
Помимо собственно философских, перед Кантором-рассказчиком стоит множество задач: должна разрешиться афера с квадратами; Струев должен найти убийцу рабочего и отомстить за него; чем-то должна закончиться история Кузнецова; должны встретиться главные идеологи романа – Рихтер и Луговой.
И лишь после всего этого мы добираемся до настоящего финала романа, где нам будет явлен анти-Черный-Квадрат.
На протяжении всего романа Павел Рихтер – поощряемый своим дедом – говорит об ощущении собственного избранничества: миссия семьи Рихтеров – спасти Россию и мир, вправить сустав времени. Меньше говорит об этом и больше делает – возвращается в Россию, чувствуя, что там «скоро будет скверно», и зная, что если не он, то никто, – второй главный герой романа – Струев. Идея спасения – вообще христианская; и Кантор говорит о себе в интервью «я религиозный христианский художник», «я стараюсь из российской действительности сделать библейскую притчу».
«Учебник» – христианский антиязыческий, антифашистский и антиглобалистский роман. Это перечисление может показаться пустым начетничеством, но оно существенно: роман про ХХ век, про явления ХХ века – авангард, фашизм и глобализацию. Все это и есть приключения, случившиеся с христианством в ХХ веке, то, чем его подменили. История, рассказанная Кантором в его романе, – это история про то, как христианство в ХХ веке, выжив формально, на деле обернулось неоязычеством. Кантор показывает, что капитализм в его нынешнем виде – это, по сути, неоязычество (под язычеством подразумевается культ насилия, дегуманизация), фашизм, отказ от христианского проекта, наступление темных времен.
Роман есть апология Христа, жизни, живописи, картины – и картиной заканчивается. Точнее – рассуждением о христианском искусстве и затем уж описанием картины Павла Рихтера: холодно, снег, гадкий двор, пустырь, Россия, двенадцать бродячих собак, похожих на героев романа, идут через двор. (Сцена, отсылающая не только к блоковским «Двенадцати», но и – через картину самого Кантора, замечательно проанализированную однажды Г. Ревзиным, – к картине Ван Гога «Прогулка заключенных». А также, возможно, к булгаковской теме: интеллигенция как новый пролетариат, класс-гегемон, одураченные шариковы.) Они сами по себе, никого в белом венчике из роз нет – но видно, что Павел собрал здесь тех, чья душа не погибла окончательно, людей, у которых есть шанс спастись самим, а может быть, и спасти мир.
Это движение в никуда, вслепую – и есть ответ на «прорыв в цивилизацию», в черный квадрат. Эта картина Павла – анти-«Черный квадрат». Непонятно, кого именно или, точнее, какого именно «нового парадигмального проекта» ждут собаки, – главное, что ждут вместе, что одни не бросили других, что ждут они не Лугового или еще какого-либо воплощения дьявола, а того, кто несет свет и доброту; картины должны быть понятными, Кантор настаивает на этом.
Между прочим, некоторым образом этот ожидаемый неназванный Некто соотносится с так и не названным по имени отцом Павла в романе. Собственно, вся жизнь Павла – это бродяжничество по пустырю в ожидании пришествия отца.
Павел, главный герой романа и, как выясняется в последних главах, хронист, не есть собственно спаситель. Павел лишь апостол, малюющий ад и возвещающий Новый Проект Истории. Не является спасителем и Струев, чья стратегия – личная революция, индивидуальный террор, он тоже лишь одна из двенадцати собак, бродящих по пустырю. Однако именно Павлу принадлежит повествовательское «я». Это его роман – но и о нем, о Мастере, миссия которого – пусть не спасти мир, но запечатлеть его во всей мерзости и показать, что путь к спасению, надежда на спасение, на появление Нового Проекта, который разрешит кризис, в котором оказалась социокультурная история, – есть. Именно эту надежду и подразумевает картина с собаками, финал романа. В этом смысле важный подтекст романа – «Мастер и Маргарита» (что, можно предположить, и имел в виду Г. Ревзин, говоря, что написан великий русский роман, которого не было со времен «Мастера и Маргариты»).
Заключение. Лучший способ путешествовать по «Учебнику рисования» изложен в главах «трактата об искусстве»; речь там идет о Картине – но на самом деле и о Романе тоже. «Всякий образ, – пишет Кантор; от себя добавим и „всякая сцена“, – допускает четыре уровня толкований и сохраняет цельность на любом из этих уровней. Изображенный предмет может восприниматься и непосредственно как данный предмет (т. е. буквально), и как выражение определенного образа жизни (т. е. аллегорически), и как обобщение опыта времени и общества (т. е. символически), и как метафора бытия (т. е. метафизически). Эти прочтения существуют в изображении одновременно, более того, всякое следующее толкование присовокупляется к уже существующему, дополняя, но не отменяя его». В самом деле, вспомните любую сцену – к примеру, домашнюю свадьбу Павла. Рихтеры долго не открывают на стук соседей, делая вид, что ничего не происходит, – и только Кузнецов со Струевым выходят на лестничную площадку узнать, что за содом там творится; и оказывается, те просят о помощи, им надо труп вынести, они умирают там. Ясно, что эпизод следует понимать расширительно, что речь идет обо всей интеллигенции, которая отвернулась от народа, сделала вид, что его нет, – вместо того чтоб (по-христиански) помогать ему. Точно так же ясно, что практически все сцены здесь могут быть истолкованы подобным способом.
Менее всего «Учебник» похож на герметичное произведение, поэтому вместо того, чтобы комментировать очевидное, мы всего лишь попытались показать, что общепринятое мнение о романе («пасквиль», «церетелианство», «прохановщина» и проч.) не соответствует действительности; что «Учебник» – не произвольный набор картин из жизни, перебиваемых авторскими отступлениями и нравоучениями. Кантор, сопрягая идеи и явления, выстраивает систему внутренних соответствий; он предъявляет не отдельные мысли и парадоксы, а систему вещей, «общую мистерию» – и демонстрирует (иногда в живых размышлениях, иногда в сценах), что одни и те же закономерности проявляются на самых низких и самых высоких уровнях описываемой общественной структуры.
Трудно сказать, на самом ли деле отечественная литература 2006 года была «кантороцентричной», какой она выглядит по версии этого путеводителя… по правде сказать, гораздо больше, чем Кантор, людей – «просто читателей», критиков, журналистов, администрацию президента, товароведов – занимали Минаев, Славникова, Быков, Робски, Прилепин… кто угодно и его дядя, как говорят американцы.
Очевидная маргинальность, а то и курьезность «Учебника» не отменяет, однако, тот факт, что роман окажется фундаментальным текстом для любого, кто прочтет его и возьмет на себя труд усвоить хотя бы некоторые из его идей и образов; что это та самая книга, чьи читатели не могут не составлять своего рода секту. После Кантора – а не после Минаева, Славниковой, Быкова или Прилепина – так или иначе проясняется взгляд на все то, о чем правду может сообщить только литература, потому что больше некому: на перспективы капитализма в России и его влиянии на души людей, на степень достоверности апокалиптических сценариев, на возможность возникновения в духоте «стабильности» нового «парадигмального проекта». В романе Кантора нет ни одной запоминающейся шутки; Кантор не тот писатель, который обнаружил и реализовал «метафору современности»; Кантор гораздо менее вероятно, чем Славникова или Пелевин, в состоянии занять в чьем-либо сознании нишу «любимого писателя» – но вот рост современных ему литераторов теперь оценивается в сравнении с ним; похоже, этого никак не избежать.
Примечания
1
Цитата из Страхова приводится по книге моего учителя Льва Соболева «Путеводитель по книге Л. Н. Толстого „Война и мир“» – ставшей жанровым образцом (недосягаемым) для данного путеводителя. – Примеч. авт.
(обратно)2
Так у Минаева. – Примеч. ред.
(обратно)3
На момент публикации книги. Роман вышел в издательстве «Лимбус-пресс» в 2007 г. (примеч. ред.)
(обратно)
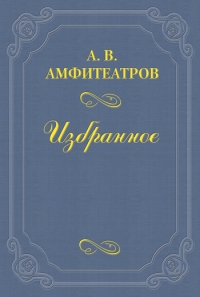

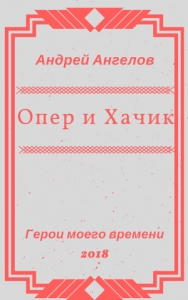
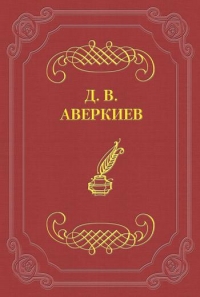
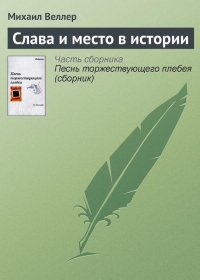
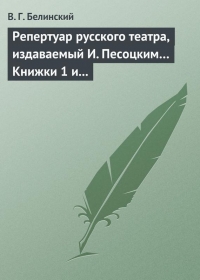
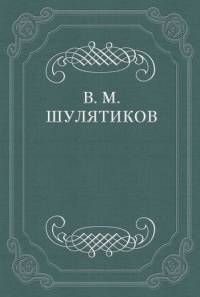
Комментарии к книге «Круговые объезды по кишкам нищего», Лев Александрович Данилкин
Всего 0 комментариев