Анатолий Рубинов САНДУНЫ книга о московских банях
БРИЛЛИАНТЫ НА СВАДЬБУ
Как ни сердился придворный актер Сила Николаевич Сандунов, как ни доказывал, что все это злобный навет, но досадный слух продолжал бродить по Москве: о том, что новые бани в Неглинном проезде будто бы подарены его жене Елизавете Семеновне не в меру усердными почитателями ее певческого таланта. Сила Николаевич не сомневался, что слух пришел из Петербурга. Даже догадывался, кто его пустил.
Самое досадное, что доля правды в обидном слухе все-таки была. Бани, конечно, никто не дарил. Но построишь ли дворец с умеренного актерского жалованья? Сила Николаевич и в лучшую пору не получал больше тысячи двухсот рублей, а несравненная, обаятельная Елизавета Семеновна и того меньше — восемьсот.
Строго говоря, Сила Николаевич уже и не был придворным актером, когда принялся строить бани. Это было отошедшим почетным прозванием, людской и его памятью, дававшей и славу и заработок. Как ни противились Сандунов и его жена, им пришлось уйти с императорской сцены, пришлось даже уехать из Петербурга. Но не будь этих его неприятностей, не было бы в Москве Сандуновских бань. А не будь Сандуновских бань — как ни оскорбительно это для знаменитых актеров, любимцев публики, владевших сердцами зрителей в обеих столицах, — вряд ли сейчас, почти два века спустя, знали бы люди о такой фамилии — Сандуновы. Забыты имена еще более громкие.
…Юный канцелярист мануфактур-коллегии Сила Сандунов отличался характером живым и общительным. Он занятно рассказывал о кавказском прошлом своей фамилии. Правда, знал о нем только понаслышке — от деда своего, Моисея Сандукели, знатного грузинского дворянина, того, что приехал в Россию с самим царем Вахтангом VI, да так и прижился в Москве. Купил здесь дом да поместье, стал жить гостеприимно и весело. И сын его, Николай Моисеевич — уже Сандунов, не Сандукели, — был человеком зажигательным, однако надолго его не хватило: почти начисто разорился, умер молодым, оставив двух малолетних сыновей. Старшему — Силе — шестнадцать тогда было, отец едва успел в канцелярию устроить, а младшему — Николаю — и вовсе три. Промотавшиеся предки, однако, оставили обоим потомкам превеликое достояние: неунывающий нрав. Наследники неплохо им воспользовались!
Двадцати лет от роду Сила Сандунов впервые попал на представление в театр. Его больше всех позабавил актер, игравший пронырливого слугу — превеликого плута. Невысокий худощавый черноглазый юноша заразительно хохотал на весь зал, обращая на себя внимание всей публики. Рассказывают, что он сразу же после спектакля так и заявил: «Да я и сам не хуже этого сыграю!»
Самое поразительное, что это оказалось не просто хвастовством: в тот же год он сделался актером, был принят на службу в тот же театр. Первый раз он вышел на сцену в комедии Княжнина «Чудаки» в роли слуги по имени Пролаза. С тех пор и до конца своей актерской жизни он больше всех ролей любил комические — пронырливых плутов, они удавались ему отменно. Подвижный, ловкий, он держался непринужденно, был смел и на сцене, и в жизни, умел в трудную минуту найтись — театральное счастье словно само искало его.
Через семь лет он попался на глаза председателю только что созданного в Петербурге особого театрального комитета престарелому графу Олсуфьеву, который за год до смерти затем и приехал в Москву, чтобы, если найдется, переманить в придворный театр занятного актера. Один из приближенных Екатерины II, ее статс-секретарь, граф Адам Васильевич Олсуфьев, слыл знатоком истории, права, древних и новых языков. И даже поэтом, хотя стихи свои он почему-то печатать не решался. Царица в ту пору к театру благоволила, особенно ставшей модной комической опере на манер итальянской. В своих царских досугах она и сама грешила сочинительством. Имея представление о деревне лишь из окна кареты, писала «оперы» из крестьянской жизни.
То была большая удача — понравиться приезжему вельможе. Граф Олсуфьев пленился Сандуновым, тут же после спектакля предложил место в придворном театре. Легкий на подъем, Сила Николаевич не замедлил с переездом в Петербург. Его быстро полюбила и столичная публика. Эрмитажный театр, где он часто играл, посещало одно только высшее общество. Зрители приглашались туда по чинам, пускали безденежно, только должно было соблюдать правила: перед вечерним куртагом непременно испить стакан холодной воды, дабы не икалось, да трости и шляпы оставлять за дверьми, и еще — не иметь пасмурного вида, не горячиться и не спорить.
Особенно публике пришлись по душе шалости нового артиста, его умение с невинным видом произносить соленые вольности. От них, закрываясь веерами, рдели дамы, а кавалеры откровенно веселились. Один из суровых критиков называл это «бесчинным промыслом рукоплесканий». В рукоплесканиях действительно недостатка не было. Интерес вызывала и частная жизнь молодого артиста. Рассказывали о бесчисленных победах красавца повесы. Изображая на сцене плутов-слуг, которые помогали в любовных похождениях своим господам, Сила Николаевич в чужой помощи не нуждался и в озорных проделках был неукротим.
Тут же всему Петербургу стало известно и то, что он наконец по-настоящему полюбил — молодую певицу Лизу Федорову, воспитанницу театрального училища. Впрочем, тогда ее уже звали Лизавета Уранова. Так в монаршем своем благоволении приказала ее называть сама императрица. Та побывала на ее дебюте, пришла в восхищение «от чистого, как хрусталь, и звонкого, как золото», голоса начинающей оперной актрисы и от редкой ее привлекательности. В ту пору модных артистов еще не называли звездами, но императорский псевдоним родился именно от сравнения с планетой Уран, которую незадолго до того нашли на небе и о которой тогда во всех гостиных только и говорили.
Лизанька Уранова, прослыв любимицей Екатерины, была тут же окружена восхищением. Ей устраивали овации гвардейские офицеры, в ее уборную выразить свое восхищение приходили молодые и старые обожатели. Воспылал к ней страстью нежной и приближенный Екатерины, осыпанный ею всеми милостями — чинами, поместьями, орденами, — Александр Андреевич Безбородко, в свои сорок четыре года действительный тайный советник, гофмейстер и вице-канцлер. Только графское достоинство он получил не от своей царицы — от римского императора.
Но всех их обошел безродный актер Сила Николаевич Сандунов. Он нашел к ней доступ, предложил ей не только сердце, как это делали многие, но и руку. Уранова согласилась. Ах, думал ли заносчивый царский фаворит, граф римский, а вскорости и светлейший князь российский, великий баловень судьбы, сын переяславского обозного, ставший канцлером, что имя его будут помнить разве лишь специалисты, а в историю Москвы он войдет в одной лишь связи с Сандуновскими банями, которые возникнут двадцать лет спустя. По иронии судьбы именно то, что Сила Николаевич Сандунов посватался к Елизавете Семеновне Урановой, и привело к тому, что в Москве появились самые знаменитые бани.
Любовные события развивались на виду у всего Петербурга. О них долго потом весело вспоминали со всеми пикантными подробностями.
Граф Безбородко решил свадьбе помешать. Ему содействовали директора придворного театра. Их было тогда двое — Петр Александрович Соймонов и Александр Васильевич Храповицкий. Это через них вельможа то соблазнял артистку золотом, то принимался запугивать. Когда и то, и другое не помогло, Сандунова уволили со службы, чтобы спровадить из Петербурга.
Но прежде чем уехать, комический актер решил вполне серьезно помериться силой с первейшим фаворитом и отважно бросил ему вызов, публичный, скандальный. Надо отдать должное Сандунову: играя в последний раз, как повелось, роль плута-слуги в комедии А. И. Клушина «Смех и горе», он проявил ловкость и отвагу. И дальновидность: верно рассчитывал на ревность стареющей царицы, которая не всегда спокойно сносила проделки прежних своих любимцев.
Рассчитывая на дружескую поддержку, Сандунов наведался к давнему своему приятелю драматургу Александру Ивановичу Клушину, который выбился в люди из Твери, — всего лишь подьяческий сын, а вот при дворе ходить стал. Они вместе «рацею на счет дирекции» написали. На прощальном бенефисе в костюме слуги Семена Сандунов и сказал эту «рацею» публуке:
Служа комическим и важным господам, Не им я был слугой, а был я вам…Потом объяснил, почему он покидает сцену:
…И я, не вытерпев обидных столь досад. Решил броситься отсель хотя бы в ад, Моя чувствительность меня к отставке клонит, Вот все, что вон меня отсель с театра гонит.Конечно, актер Сила Николаевич Сандунов не имел твердых планов, но хотел бы быть там, где
…графы и бароны — не сыпали моим Лизеттам миллионы И коим сердцам златой не делали бы мост.Зал взорвался от аплодисментов и хохота: намек был отлично понят. Известие о проделке Сандунова дошло до царицы, которая на следующий день была в Эрмитажном театре, где давали новую оперу «Федул с детьми». Либретто написала сама царица и потому на премьере собрался весь двор. Роль Дуняши играла Лизавета Уранова. Присочинять что-либо к монаршему тексту ей не пришлось. Счастливо случилось так, что жалостная ария Дуняши «Во селе, селе Покровском» давала возможность откровенно поведать о собственной беде актрисы:
Приезжал ко мне детинка Из Санкт-Петербурга сюда: Он меня, красну девицу, Подговаривал с собой; Серебром меня дарил, Он и золото сулил. Поезжай со мной, Дуняша, Поезжай, он говорил.Лизавета Уранова, исполняя арию, не сводила заплаканных глаз с царицы. По рассказам очевидцев, Екатерина пришла в восхищение от любимицы, ободряюще кивала ей, улыбалась. Это, конечно, не ускользнуло от публики, а те восторженно аплодировали певице. Царица бросила на сцену припасенный букет. И тут произошло нечто такое, чего не было в монаршем либретто. Дуняша, поцеловав букет, выбежала к ложе, упала на колени, достала из корсажа смятую заготовленную бумажку и протянула ее Екатерине: «Матушка-царица! Спаси меня».
Сначала публика замерла в испуге, перестала хлопать в ладоши. Но когда Екатерина что-то сказала Соймонову и догадливая публика быстро сообразила, что царица повелела ему взять прошение у актрисы, то все посветлели и зал с облегчением принялся аплодировать пуще прежнего.
Царица была не только писательницей, но и актрисой, только не комической: она прекрасно сыграла роль благодетельницы и заступницы. Екатерина повелела привести в свой кабинет молодую певицу и ее жениха, подняла их с колен, усадила рядом, выспросила обо всем. Разгневавшись, повелела написать указ, которым сместила обоих театральных директоров за участие в сближении воспитанницы театрального училища с графом Безбородко и взялась быть посаженой матерью.
Через несколько дней Уранова и Сандунов венчались в придворной церкви.
Это был настоящий спектакль, который поставили по либретто самодержицы. При одевании невесты пел хор. Присланные царицей придворные актрисы звучными голосами пели на редкость нескладную песню, сложенную специально для торжества самой императрицей.
Гости делали вид, что не знают имени автора, и громко восторгались песней. Автор между тем находился и при одевании невесты, и при венчании. Слуги внесли кованые сундуки с приданым. Новобрачные, открыв утром сундуки, ахнули: поверх атласа и гранитура, так тогда называлось колье из бриллиантов, искрились бриллиантовые же броши и серьги. Было там и золото. И листок бумаги со свадебной песнью, написанной собственноручно монархиней.
Другие бриллианты, прямо связанные с будущими Сандуновскими банями, оказались в руках молодоженов спустя несколько дней после свадьбы. Елизавета Сандунова пела на сцене снова — в опере «Редкая вещь». История героини и на этот раз давала повод намекнуть на дело с посрамленным графом Безбородко, и, актриса, наслаждаясь мщением, полной мерой воспользовалась этим. Исполняя арию, она совсем близко подошла к ложе, где сидел посрамленный граф, и, протянув кошелек, спела специально для него:
Перестаньте льститься ложно И мыслить так безбожно, Что деньгами возможно В любовь к себе склонить. Нам нужно не богатство, Но младость и приятство…Аналогия, честно говоря, все-таки не была полной; Сандунов тоже не был юношей — тридцать пять лет. Однако публике, знавшей всю историю, выходка певицы понравилась. Все захлопали. Граф тоже. Вместе со всеми он не унимался, пока актриса не повторила арию. А утром от него и пришел щедрый подарок — шкатулка с бриллиантами.
Сандуновы, однако, рано торжествовали победу. Новый директор князь Николай Борисович Юсупов отомстил за Безбородко сполна. В течение трех лет он искусно ссорил супругов, публично называл Силу Николаевича развратником и пьяницей, притеснял их, лишал бенефисов и ролей. Не видя на сцене своей любимицы, царица легко забыла о ней. Не помогло и многословное, слезливое прошение, посланное «великой благотворительнице, всеавгустейшей монархине», в котором они сообщали о великих своих мытарствах.
Артистическая чета подала прошение об отставке и решила от греха подальше уехать в Москву. Вернувшись вместе с женой в свой старый театр, Сила Николаевич снова играл будто с увлечением, однако было оно заемным — наслаждение успехом омрачалось сознанием зыбкости пышного показного актерского счастья. Он уже видел нечто более основательное и доходное, чем слава.
На проданные царицыны бриллианты он недорого купил землю у только что осушенного, скрытого в земле Самотечного канала, как в ту пору еще называли Неглинную улицу. Незадолго до этого речку взяли в трубу, она потекла в кромешной тьме, под образовавшеюся улицей, и места здешние, хотя и расположенные близко от лучших домов города, считались до тех пор чуть ли не окраинными, заброшенными. Сами Сандуновы жили сначала в домике у Китайгорода (на месте нынешнего сквера против «Метрополя»), а потом перебрались в новое владение. Поначалу земли было не так много: всего тысяча триста квадратных саженей. Как можно судить по достоверным документам «Комитета для управления городских повинностей», там стояло «каменное жилое строение в два этажа», еще одно «об одном этаже», одно деревянное жилье «об одном этаже» и такое же нежилое, да еще сад и «пустой двор незастроенной земли».
Новый владелец повел себя как-то странно. Перво-наперво он сломал каменное жилое «двухэтажное строение в два этажа». Потом разобрал и деревянное жилое «об одном этаже». Сосед — титулярный советник Николай Григорьевич Дронов — смотрел на проделки бывшего придворного комика с ожиданием чего-то смешного: может быть, чудит, как и на сцене? А потом титулярный советник вдруг сам продал артисту свое крохотное владеньице в тридцать саженей с деревянным жилым домиком. Как свидетельствовал «депутат, коллежский асессор» Николай Юрьев, и это «строение все без остатку сломано, а земля оставлена пустая». Соседи мучились в догадках: что задумал? Не чудит ли? Сандунов не открывался и продолжал действовать: по дешевке купил участок сторожа соседнего Успенского собора Петра Михайлова. Там был двухэтажный дом — сверху деревянный, снизу каменный, и еще один деревянный. И это было сломано, а «земля осталась пустая». Это обстоятельство отметил в документе и «сличил землемер Евреинов». Последним сдался звонарь того же Успенского собора Михайла Кудрявцев. Сандунов разрушил и его три дома. А «земля осталась пустая»…
В Москве посмеивались: сильно разозлили Силу, коли он принялся рушить все подряд. Так пусть бы и ломал в Петербурге — при чем же здесь Москва? Не здесь же его обидели?
Владение Сандунова выросло вдвое, да только смех это, а не владение: огород и пустая земля — с улицы остался один дом, где живут артисты, откуда вечерами в театр ездят.
Стали, однако, обращать внимание, что артисты с некоторых пор ездить стали почему-то поодиночке. И в театре, перед представлением, слова друг дружке не скажут. А потом словно помирились.
Мало кто знал, из-за чего ссорились супруги и как они помирились. А все дело было в безбородковских бриллиантах, полученных после свадьбы. О них Сила Николаевич и слышать не хотел, видеть их не желал, Елизавета Семеновна, однако, продавать их не соглашалась. По чести говоря, те царские тоже были жалованы ей одной — ну уж ладно, землю купили. А шкатулку граф прислал ей. Сила Николаевич сердился, не разговаривал неделями, намекал даже, что не зря, видать, говаривали всякое, про нее и про графа. Елизавета же Семеновна красивым грудным голосом ссылалась на князя Юсупова — не зря, видать, говаривал князь и про Силу Николаевича, что он и гордец, и распутник, и пьяница. Вот даже домой ночевать иной раз не ездит. Будто бы в карты играет.
Кончилось, однако, миром. Чтоб избавиться от ненавистных безбородковских бриллиантов, решено было часть из них отдать в Воспитательный дом сиротам. Так всем и объявить, пусть знают, что Сандуновы не желают хранить такое добро, от которого одно худое. А другую продать. И построить бани. Самые большие в Москве. Богатые и красивые. Раз без простонародного отделения не обойтись — так требуют правила, то построить и простонародное. А главное — дворянское отделение и с зеркалами, и с мягкими диванами. Ну что это за дворянское в банях, в Грузинах-то! Срам, и никакого сравнения с петербургскими.
Сандунов не раз бывал в Грузинах. Поблизости от этих бань когда-то жил он сам — дед, Сандукели, поселился как раз здесь. Сказывали, что грузины — из-за них так и называли улицу, — грузины построили свои бани, какие у них в Тифлисе водятся. Но скоро Сандунов узнал, что в Тифлисе, где он ни разу не бывал, бани не такие.
Повстречался он в Москве с земляками деда — только что из Грузии приехали, сам их разыскал, к себе водил и в театр. Особенно подружился с грузинским поэтом Гавриилом Ратишвили — тот ни одного представления не пропускал. И занятно про тифлисские бани рассказывал. Там горячая вода сама из земли бьет, никто не греет — из земли уже горячая идет, да не простая. Глубокая, большая яма посредине. Люди в ней стоят, разговаривают, греются, потом ложатся на скамьи, их перчаткой натирают, а мыло взбивают полотняным пузырем. Сила Николаевич с трудом представлял себе — он привык к русским парным баням и не знал, что может быть лучше того, чем постегать себя разморенным в горячей воде березовым веником и окатиться потом холодной водой.
В скольких банях побывал Сила Николаевич — и в черных, торговых, простонародных, и домашних, семейных, белых, в домах богатых людей. В ту пору Николай Михайлович Карамзин написал, что в далекую старину славяне мылись будто бы всего три раза — при рождении, перед свадьбой да после смерти. Теперь русские люди мылись не меньше раза в неделю.
Сначала, говорят, только в печах мылись. Когда истопят печь пожарче, например, под хлебы, то как вынут их, возьмут воду, нагретую загодя, настелют под соломою, веник прихватят, распаренный до мягка. Для хорошего духу — небольшую посудину с квасом. А ежели жених или невеста перед свадьбой — то с пивом: еще запашистее. Улегшись в печи как способнее, велит человек заслонить за собой устье печи, прыскает по сторонам и поверху квасом ли, пивом ли. Всего лучше пучком соломы прыскать. Потом ее в воду окунуть и прыснуть снова — пару поддать себе, сколько надобно, а потом уже и париться. Выходит разопрелый человек из печи в сени или во двор — холодной водой окатиться. Непременно надо полежать потом — на лавке или на полу, на соломе. Отдохнув, помыться у печи со щелоком, а ежели опять на теле зуд почувствует, снова в печь лезть и париться в другой раз. Кто по старости или по болезням немощен бывает, так что сам в печь не в силах взлезть, то другие укладывают его на доску и как хлебы вдвигают. За ним полезает другой человек, чтобы парить и мыть слабого и дряхлого.
Но только народ все больше в бани ходит. Какие в деревнях, такие и в Москве на огородах ставят. Непременно у пруда, дверью у самой воды, с высоким, по колено, порогом и низким косяком — чтобы жар не исходил понапрасну.
В углу каменка — очажок, а на нем груда булыжного дикого камня, каким улицы мостят. С другой стороны — полок для парения. Под порогом — маленькое пустое оконце, чтобы вода на волю сходила. Сквозь нее и свет. Кто хотел париться в бане, так сам и топил — дым выходил вон из двери. Когда каменка прогорала совсем, только тогда и приходили мыться. Приносили ушатом горячую воду и щелок, брали с собой шайки и веники. А холодная вода всегда есть — за порогом стоит, в пруду. Летом и зимой раздевались на открытом воздухе, влезали в баню нагишом. Можно было мыться и вдвоем и втроем, однако париться по одному. Для того плескали воду на каменку — пар поддавали. Если он ослабевал — еще подкидывали воды. Кто парился, тот и плескал себе. Разгасившись и ослабев, вылезал человек из бани и — в пруд. Потом на траву ложился, если лето, или на снег, если зимой.
То были деревенские черные бани — потому что без трубы и были изнутри черные от дыма и копоти. Потом стали ставить и торговые бани. Торговые прозываются потому, что за мытье две копейки брали, как бы торговали мытьем. Много таких бань в Москве развелось. Один купец, Семен Борисов, в 1798 году взял у казенной палаты на содержание тридцать гнезд. Взял «на кондиции» бани Бабьегородские, Вишняковские, Драгомиловские, Самотечные, Якиманские, Трубенские, Пресненские, Андроновские, Потешные, Кудринские, Краснохолмские, Кожевнические, Спасские, многие другие — всего тридцать бань, и каждые либо у Москвы-реки, либо на другой речке — Неглинке, Хапиловке, Рожке, Яузе, либо на пруде.
Московский градоначальник строго наказал: «Сбор в означенных казенных торговых банях с приходящих на парения всякого звания людей сбирать соответственно указу правительственного сената не более как две копейки с каждого». Впрочем, дозволялось и больше: «Если для благородного звания сделать пристройки при банях с удобными для того парению, то за пар цену положить добровольно за ту услугу и за то в притязание не поставить, а в противном случае за принуждение сверх положенного за пар противному закону поступку подвергать суровому наказанию».
Видать, и две копейки за парение были деньги немалые — Семен Борисов обязался платить казне по семнадцать тысяч рублей в год и, надо полагать, в убытке не оставался.
Но те тридцать бань были казенные, однако многие купцы давно уже поставили собственные торговые бани. Самые старые и любимые в Москве, что держал Суровщиков, назывались Каменновскими — и оттого, что у Каменного моста стояли, и оттого, что только они и были строены из кирпича.
Задумав бани, Сандунов побывал в Каменновских приглядеть, как они устроены. Заметить, что нравится публике и без чего нельзя обойтись в его будущем заведении.
У самого края набережной Москвы-реки высоко стояли два одинаковых строения, а между ними — огромный чан с водой. Ее поднимали бадьями из реки и направляли сюда по деревянным желобам. Оттуда она по желобу же шла в оба строения и в котел для подогрева. Погруженный в печь горячий котел находился тут же, беспрерывно подогреваемый. Он был накрыт толстым деревянным кругом с четырьмя круглыми дырами, из них шайками черпали кипяток: из двух мужчины, из двух других — женщины, которых разделяла тесовая загородка.
Этим заборчиком отделялись друг от друга дворы женский и Мужской. Над котлом нависала крыша, защищая черпающих воду людей от дождя и снега. В оба двора, разделенных наглухо пополам, вдавалась бревенчатая сторожка. Здесь раздевались, оставляя одежду на лавках. У входа сидел сборщик денег за сторожбу. У кого водились денежки, отдавали одежу и обувку на хранение ему. Он клал все в ларь и запирал на большой замок. Еще несколько сторожей ходили между лавок и смотрели, чтобы не было шалостей и воровства. Ходил с ними и цирюльник, громко выкрикивая:
— А вот кого побрить, поголить, усы поправить, молодцом поставить. Мыло есть грецкое, а вода москворецкая!
Возле двери лежал ворох веников — выбирай любой. Сторожа ходили тепло одетые — дверь стояла отворенной весь год, а изразцовая печь не топилась — служила украшением. На банном дворе вдоль стен сторожки и забора стояли лавки для мытья, а возле чана — гора шаек. Парились в обоих каменных домах. Через окно входил желоб с холодной водой. У дальней стены — высокий полок — там можно сидеть, но не разгибаясь. Вели наверх ступени. По ним взбирались с веником, на них сидели любители долгого жаркого мытья. Посреди здания — четырехгранный каменный столб, вокруг него — широкие лавки высотой по грудь, по стенам — скамьи пониже.
Каменку топили длинными легкими, но пылкими дровами. Такими считались еловые и сосновые — прогорают, оставляя мало угля, а значит, не дают сильного угара. Дикий камень нагревался чуть не докрасна, а черный дым выходил сквозь растворенную дверь. Топились бани четыре раза в неделю: понедельник, вторник, четверг и субботу. Стояли холодными во все церковные праздники — грех мыться тогда. Разжигали каменку два раза на дню, потому что утреннего топленья до вечера не хватало от беспрестанного поливания водой. Уже к полудню так устывает, что и нежнотелым не охота париться даже в самой глуби полка. Утренние бани отворялись в благовест, к заутрене, а вечерние — чуть пораньше вечернего звона.
При входе на банный двор сиживал с ящиком сборщик — брал банное. Бедный люд двумя копейками и обходился. Шли всем семейством, сразу шли мыться, а кто-нибудь оставались стеречь одежду. Скупые люди много мыла с собой не брали — подбирали кинутые другими обмылки. И парились опарышами — вениками, что другие побросали. Богатый народ раздевался поближе к сторожу. Надежнее, да и не надо своего сторожа ставить, а потом ждать его, когда напарится и намоется, за это доплачивали сборщику еще две копейки или три.
Зимой и летом, в ненастье и ведро — все было одинаково. На открытом дворе раздетый выбирал себе хоть одну шайку, хоть три, черпал из котла горячую воду, распаривал в ней веник. В самой бане брал в чане холодную воду и влезал на полок потеть и париться. Вдоволь настегавшись, окачивался холодной водой, выходил во двор на лавку отдыхать или мыться. Иные, разопрев, кидались в Москву-реку. Зимой в прорубь сигали, как ни был велик мороз, потом опять опрометью по снегу в баню бежали.
Сандунов прикидывал: Неглинную в трубу схоронили, придется пруд вырыть. Два пруда — отдельно для женщин, отдельно для мужчин. А еще недавно совсем просто было: люди всякого пола и возраста мывались и паривались вместе — бабы к одной стороне, мужики — к другой. И никто не осмеливался высказать какую-либо наглость, иногда, бывало, только словом потешным перекинутся. А если кто озоровать начнет — мигом неучтивца выволокут вон, а сторож и содержатель так поддадут, что в другой раз смирным будет. Только перед самым отъездом Сандунова в Петербург, в придворный театр, как раз перед тем, как граф Олсуфьев в Москву наезжал, устав благочинный вышел — строго запрещалось «мужскому полу, старее семи лет, входить в торговую баню женского пола и женскому полу — в торговую баню мужского пола, когда в оных другой пол парится». Тогда в одних банях переставили печь с водой из угла на самую середину, чтобы и мужчинам и женщинам доступна была. А в другие стали мужчин пускать только в утренние часы, а женщин — в вечеровые. У женщин утром дел полным-полно, а мужикам всегда свободнее.
Только устав благочиния хозяйским баням не указ, В Москве тогда обширных дворов было много и домашних бань имелось во множестве. Богатые люди строили их удобно, с прохладными предбанниками — для отдыха и мытья тоже с паром, да еще с одной либо двумя чистыми комнатами. Стены внутри обшивали только липовой доской. Полок и лавки — тоже липовые, белые да гладкие. Подходы на полок — с точеными поручнями да с резными балясинами. Воду — холодную и горячую — пускали по трубам деревянным. А печи и каменки выводились изразчатые, с медными заслонками. Для отдыха в предбанник тюфяки постилали с чистым бельем, хорошим. Комнаты для раздевания всякой мебелью снаряжались, иные с картинами.
И тапливались такие бани только по-белому: дым через каменку выходил весь в трубу, а в помещение не пускался. Баня знатных господ чиста была и опрятна. Обыкновенно перед тем, как баня должна была топиться, хозяин извещал о том всех своих родных и приятелей. Иногда соседи прашивали хозяйского позволения топить себе и приходили с собственными дровами и собственной прислугой — для заготовления воды. А мыться ходили, как и встарь, семьями — старые и малые, мужчины и женщины мылись и парились все вместе. Дескать, между родными какая это неблагопристойность. Одно за домашними банями неудобство — тапливались лишь по субботам…
Сила Николаевич все изучил, обо всем подумал. Будут его торговые бани белые, чтобы топились, как все торговые, — четыре дня в неделю, а если перед праздником, то и пять и шесть — как придется. Отдельно женские поставит, отдельно мужские. Без перегородок там всяких, каждые — свой дом. Четыре дома понадобится: мужские простонародные и женские, мужские дворянские и женские. И предбанник под крышей со стенами будет. Если уморился — иди в пруд сигай, вот тебе и прохлада. Особенно хороши дворянские будут — скамейки мраморные поставит, диваны мягкие, парильщиков лучших отовсюду переманит. Плату в дворянские — какую захочет, такую и поставит. Вот придут — лучший банный дом в Москве, за двугривенным богатый человек не постоит.
Плохо, что в простонародные больше двух копеек нельзя. Все равно и простонародные надо позанятнее сделать — если чисто и ладно, всяк придет, даже с Замоскворечья. Две копейки здесь, две копейки и там, а ноги свои, нанимать не надо. Придут непременно, особенно человек постарше — там в зимнее время лед между сторожкой и горячим котлом, поскользнуться можно. Чтобы не скользко было ходить голым людям босыми ногами, там золою лед посыпают, а у него, в Сандуновских (так и назовет их — Сандуновские бани) досками гладкими пол в теплой бане выстелет. И у него, в Сандуновских, парильщик будет и мыть и парить желающих: мочалом, соленым медом, тертою редькою, чистым дегтем — как и у других. Все что пожелают! И срезывать мозоли, править животы, спины — все здесь будут.
С мужиками надо сговориться, чтобы веники вовремя запасали. Только тогда, говорят, они лекарственные и пользительные бывают, если веник режут на меженях — около времени летнего поворота солнца, когда полевые деревенские работы либо на неделю, либо на две перемежаются. К тому времени, знатоки так говорят, молодой лист на березе достигает полной своей поры. Не всякая береза к этому делу пригодна — одна веселка, с ветками тонкими, длинными, гибкими, одетыми в густой лист и потому повислыми книзу. Лишь межевая веселка тонка и нежна, а держится на гибком стебле крепко. Из межевой веселки веник ловок и легок даже сухой и лежалый. Лист не роняет, когда им тряхнут посильнее, и распаривается в горячей воде скоро и мягко. Надо будет глядеть, чтобы не везли глушняк. Растет он близко, по засекам от старых корней, ветки такой березы грубы, бегут кверху, суковаты. И лист грубый, жилистый, на коротких да мелких стеблях. Лежалый такой веник и совсем не годится — тяжел, жесток, не мякнет долго. Да лист роняет легко, беспрестанно летит из веника, льнет к голому телу. А липовый, дубовый и кленовый веник — есть любители и на такое — брать только по лету, сухой и совсем не годится.
Сила Николаевич со всеми бывалыми людьми потолковал — и с Борисовым, что на кондициях тридцать гнезд в аренду взял, и с другими купцами. Те охотно с придворным актером говорили — знатный человек, на свадьбе у него сама царица была. И дивились, зачем это актеру все про бани интересно — и как устроены, и как мыться справно. Наказывали: прежде чем мыться, после, как воды в каменку накидаешь, уравнять пар надобно. Помахать веником, он еще и разогреет одинаково с верхним жарким воздухом. Потом тереть им проворно, припаривать — похлестывать разные места и держать так недолго. А уж потом и помахивать по воздуху, и потирать скоро, и прихлестывать — там и сям, пока зуд совсем перестанет везде и тело разгасится до того, что коснуться веником едва сносно.
Потом, как водится, окатиться всенепременно свежей водой, и только тогда почувствует человек самодовольствие и облегчение. Другие хлещутся веником, а нисколько не трутся им, кричат, просят пару, плохо выпариваются и баней остаются недовольны, и зуд остается. Как бы сильно человек ни стегался в банном пару — ни малейшей боли не будет, а если слышно, как сильно шлепает, так это от воздуха в самом венике — листья кудрявятся и хлопают друг об дружку. А тому, кто хорошо выпарился, безвредно бросаться в реку или снег, нагому отдыхать во дворе — никакой простуды не будет.
И еще важно, собравшись в баню, прежде поесть чего-нибудь, хоть немножко. Да не мочить головы, не обливаться водой — париться надо посуху, потеть же на приступке. А как окачиваться начнет человек после парки, пусть руку прислонит к груди, против сердца — то все и сойдет легко, оно и приятно, и безопасно от простуды, голова не тяжелеет, силы не слабнут и вполне достигается желанная польза и приятное удовольствие от бани. Так искони поступали предки и ныне поступают русские люди.
Не сразу купцы разведали, зачем все это знать надобно придворному актеру. Только когда пруды возле Неглинной стали рыть и каменный, согнутый надвое двухэтажный дом ставить стали, по Москве слух прошел, что Сандунов бани задумал. Успел построить как раз до войны. И хотя Москва пожаром разорена была, баням повезло — уцелели. Вернувшись после изгнания французов домой, Сандунов горевал, видя пожарища, но и радовался: теперь его бани еще прибыльнее станут — в городе все деревянные в огне сгорели.
Все, как задумал Сандунов, так и сделал. Не баня — дворец. Такой и в Петербурге не было. Все по старым правилам и все лучше. Ко всему прочему семейное отделение завел — дорого, нарядно обставленное. Для самых знатных людей. Там серебряные шайки для мытья были припасены — невестам из хороших домов. А первым из серебряной шайки сам князь Юрий Владимирович Долгоруков помылся, главнокомандующий. Очень хвалил! Потом вся богатая Москва пошла в Сандуновские бани, о ней только и разговору было. Хвалили Силу Николаевича, а еще больше Елизавету Семеновну.
Вот тогда-то и пошел нехороший слух, будто бани дареные, а кем дарены — знать надо. К тому же супруги и совсем рассорились — в открытую. Елизавета Семеновна к князю Долгорукову кинулась: построили бани на общий капитал, а записал на свое имя. Знала, к кому обращаться Елизавета Семеновна — благоволил князь к ней. Как-то сказал про нее: «В комнате робка, кажется, стыдится слова вымолвить, а на театре в ней — все жизнь, огонь и прелесть».
Эту похвалу тоже во вред истолковали, но Долгоруков помирил супругов. Однако с трудом и ненадолго. Надоело Силе Николаевичу объяснять людям, что бриллианты царские им на двоих даны, а безбородковские все до единого в Воспитательный дом подарены. И что он получал жалованья чуть не вдвое больше, чем жена, а расходов, наоборот, вдвое больше на нее. Уроки музыки постоянно берет, приехал учитель — пять рублей отдай. И экипаж и наряды — все для нее. И еще как из Петербурга вернулись, четыре года на одно его жалованье жили — не было тогда в Москве оперы.
Однажды после пожара в Петровском театре — дотла сгорел — супругу поносил публично. Тогда все артисты без дела вдруг остались, многие даже без куска хлеба. Сандунов и ввернул словечко, что уж если кого жалеть, то актеров — не актрис же? Кто-то заметил, что вот и у него жена актриса. «Ну и что ж с того? — сказал Сила Николаевич. — Жена сама по себе, а актриса сама по себе: два амплуа — и муж не в убытке». Сам себя оговаривал! То ли тогда, то ли раньше дошел даже до того, что стал бить жену. Вернувшись после гульбы затяжной, не стерпел попреков, кинулся с кулаками. Елизавета Семеновна и убежать не убежала, и, оступившись, ногу повредила. С той поры до конца дней прихрамывала.
Не стерпела Елизавета Семеновна, бросила все, уехала в Петербург. Внакладе не осталась — четыре тысячи жалованья положили, снова первейшей актрисой признали, хвалили ее все — и свои и иностранные, да жалели, что так долго не видали ее. И думать не думала про брошенного Сандунова и совместные их Сандуновские бани. Ничего хорошего не принесли они ему — только восемь лет и прожил владельцем, а на тот свет даже самых хороших бань не возьмешь.
Елизавета Семеновна прожила еще двенадцать лет, впрочем, другие говорят, что меньше. Перед смертью все простила Силе Николаевичу. Побывала на Лазаревском кладбище на его могиле, видела памятник ему, а на нем стихотворную эпитафию, которую актер сам себе сочинил. Могилу знала вся Москва. Одни говорили — здесь придворный актер похоронен, а другие, помоложе, иначе: знаменитого банщика могила. Здесь в последний раз встретилась с Николаем Николаевичем Сандуновым, профессором гражданского права Московского университета. Вспомнила, еще Сандуновских бань не было, как братья Сандуновы о чем-то заспорили. Оба горячи были. Тут профессор не сдержался: «Толковать нечего — вашу братию всякий может за рубль видеть». — «И то правда, а вашу, законников, без красненькой и не увидишь».
На взяточников судейских намекал.
А когда и где хоронили Елизавету Семеновну Сандунову, никто толком не знал. В 1825-м ли, в 1832-м ли. Много слухов ходило. А главное, о том, что с бриллиантом в гроб и слегла. Не с безбородковским ли? Значит, все-таки один утаила? Потому и просила никому не говорить, где схоронена, чтобы никто на бриллиант опять не позарился, не надругался над могилой.
Тех бань, что строил Сандунов, давно уже нет. Они простояли восемьдесят лет. Их срыли начисто, разобрали по кирпичику из чванства и гордыни. И теперь на том же месте стоят совсем другие бани — тоже Сандуновские. Но это уже другая история…
ПЯТАК БЕЗ ВЕНИКА
Нежданно-негаданно в Москве пошла мода на бани. Впрочем, в третьей трети прошлого века мода пошла на все. Каждый божий день неграмотные купцы, умевшие, однако, хорошо считать, приносили в городскую управу нарядные, с маркой вверху прошения, написанные роскошными почерками бывалых стряпчих. Купцы просили о разрешении открыть заведение — сундучное или колбасное, замочное или квасовое, свечное или банное. Никогда в Москве не прибавлялось столько пришлого люду, которому нужно было все — сундуки и колбаса, замки и квас, свечи и бани. Перебравшиеся в город крестьяне еще могли обойтись без покупных сундуков — сами умели сбить их, умели сами делать и квас, но баня… Баня не могла быть, как в деревне, своей. А в ней привыкли мыться каждую неделю, и каждую неделю в баню относили пятак — с 1846 года вход в баню стал дороже. На то вышло царское повеление, сумели царю объяснить, что за две копейки никакой торговец бань держать не станет. Пятак — деньги немалые! И каждый проворный купец норовил обзавестись прибыльным, хотя и суетным, банным заведением. Но получить разрешение было непросто.
Купец Петр Федорович Бирюков обзавелся несколькими собственными торговыми банями. А люди помнили, как он когда-то в Сандунах сам служил у Ломакиной, тер богатым людям животы и спины, скреб чужие головы. Тогдашняя хозяйка Сандунов открыла заведение, но называть иначе его не стала — чтобы народ не путался. Из-за честолюбия можешь прогореть. Ломакина считала себя ловкой и хитрой: дескать, меня не проведешь, но только ахнула от удивления, когда ее работник пришел к ней вдруг вальяжный, не поклонился, ручку не поцеловал, а задиристо попросил расчет, сказал, что берет на Самотеке бани в аренду. А если пондравится банное дело — и хозяином станет…
Банное дело Бирюкову «пондравилось». Он уже давно хозяином стал — купил те Самотечные бани. А Сандуновские прозевал! Никто и не заметил, как они в закладе у дровянщика Ивана Григорьевича Фирсанова оказались, а тот их вмиг прибрал, не выпустил. Только сам хозяевать не стал — сдал в аренду Бирюкову.
Петр Федорович знал в Сандунах все — не в пример Ломакиной. У него банщики хозяевами не становились. Петр Федорович ведал, где лишняя копейка отваливается, и там свою собственную руку быстро подставлял — широкую, чисто отмытую. На Сандуны лишнего не тратился: чужие стояли бы, не развалились бы, а на доходы скупал одну баню за другой.
Своим людям Петр Федорович признавался, что не понимал того актера, что эти хоромы отгрохал. Ну, скажи, хороший человек, зачем тебе шайки серебряные — чем плохи деревянные? А кому зеркала нужны — придет домой да и поглядится? А кабины с занавеской? Все ведь свои: если мужики — так среди мужиков, если бабы — так среди баб, от кого прятаться-то? Народу теперь всюду много — народ куда хочешь придет, был бы веник, был бы пар да вода горячая. В Сандуны народ ходит не только оттого, что бани хороши, а оттого, что отовсюду близко.
А еще ближе всем было бы, будь бани в Кремле. Петр Федорович нашел бы им место и там. Где это бани людям мешали? Хоть каменные, хоть деревянные. Но он понимал, что в Кремле бани построить не дадут. А что, если около Кремля? Около Боровицких ворот? Отовсюду народ сбежится — с Пречистенки и с Арбата. Даже из Замоскворечья — далеко ли по мосту? Натопить пожарче, и побежит мимо Каменномостких — уж очень худые стали.
Петр Федорович не поскупился — за участок около Александровского сада заплатил сколько надо. Конечно, не столько, сколько спрашивали, но много. Сам на Воздвиженку сходил — бумаги с маркой взял, стряпчего позвал, пропойцу, бывшего семинариста. Тот отменными вензелями начертал:
«В Московскую городскую думу Прошение московского купца Петра Федоровича Бирюкова…»
И далее о том, что означенный купец имеет намерение банное заведение на своей пустопорожней земле, около Кремля, поставить… А потом взял перо у стряпчего и долго, мучаясь, забыв отделять слова, подписался полным чином «Московский купецъ ПЕТРЪФЕДОРОВЪБИРЮКОВЪ».
Тут только и узнал «купец Петр Федоров», что не у одного него было такое намерение. Подпоручикова вдова Воейкова тоже хотела здесь бани поставить — чуть поодаль, во владении своем на Волхонке, но ей отказали.
Отказали и Бирюкову. Начальник Московской торговой полиции Николай Лукич Юнг написал сердито в думу самолично:
«Господин Бирюков еще меньше должен рассчитывать на удовлетворение настоящего его прошения, так как, во-первых, избранное им место для постройки торговых бань отстоит от Кремля в гораздо ближайшем, нежели дом госпожи Воейковой, расстоянии и притом находится на одной из лучших улиц, тогда как дом госпожи Воейковой, хотя и близок к видным местностям, — что госпожа Воейкова, как новый в деле человек, внесла бы в постройку и эксплуатацию торговых бань хоть что-нибудь новое и более приличное, чем то, что мы видим во всех московских банях, тогда как господин Бирюков, не внесший до сего времени ничего нового в столь давно производимом им деле, по всему вероятно, и по постройке, а равно и эксплуатации новых торговых бань, остался при старых, рутинных порядках, против которых постоянно возбуждается общественное мнение…»
Еще долго катилась, покуда не кончилась, эта одна-единственная фраза.
Начальник торговой полиции, конечно, ведал не только о запятых, но и о точке. Однако точку ставить страсть как не любил. Была к тому причина. Никакое дело быстро не кончал — к взятке клонил. А почему и не брать? Все купцы под ним ходили, до каждого доставал. А не достанет — пеняй на себя, как та Воейкова. На Петра же Федоровича обиду имел особую — никакого уважения, прет вперед, как будто оно все и так катится, без смазки. Правда, смазка была, да не по колесам — колеса этого купца были громадные.
Петру бы Федоровичу хоть годок подождать — когда начальник торговой полиции чуть сам в острог не угодил: свалился новый дом на Неглинной, людей задавил, и все узнали, отчего стены кирпичные слабы были — на отданных червонцах стояли. Спасибо, в Петербурге выручили, бумагу прислали, одного только архитектора да подрядчика засудили. Юнг потом чуток присмирел, а до этого уж очень лют был, ко всему вязался.
Бирюков не сдавался, не отходил и Юнг. Вместе с архитектором тверского участка Мартыновым, землемером городской управы Трофимовым, полицейским врачом Дудкиным и торговым смотрителем Смирновым бумагу в думу написали. Долгую, со словами вязкими. Дескать, никак нельзя дозволить купцу бани строить по той причине, что они слишком близко от дворца Кремлевского будут отстоять, от Оружейной палаты всего на 56 саженей, а от сквера Александровского и всего на 11. И от Москвы-реки близко — 109 саженей. А что всего хуже — от городских Зачатьевских бань на 550 саженей.
В эту пору в Москве одни бани назывались городскими не оттого, что другие в селах стояли: думе городской принадлежали. Та сдавала их в аренду и благодаря этому тысячу-другую дохода имела. А частные считались торговыми — купец весь доход себе имел, а думе — налог небольшой отдавал.
Так вот, всего хуже, что новые торговые Бирюковские бани вред сделают городским Зачатьевским, а еще высочайше утвержденное (то есть царем самим) «Положение о доходах и расходах московской столицы» предусматривало право думы «не разрешать постройку частных бань вблизи городских, в отвращение подрыва сил последних».
А врач Дудкин присовокупил, что «постройка в данной местности неудобна, поскольку здесь Александровский сад, который служит полезным в гигиеническом отношении и приятным местом для прогулок благородной публики и отдохновения в жаркую погоду». И чего-чего только не болтал: что вот в бане должна быть производима постоянна топка для согревания воды, а от того и постоянный дым, «что присущий всем баням особый запах может неблагоприятно влиять как на живущих или пребывающих в Кремлевском дворце, так и на сад, уничтожая его значение». А кончал совместно подписанную бумагу опять же городскими Зачатьевскими банями, «близость к коим исключает всякое сомнение в том, что новые бани нанесут решительный ущерб, так как бесспорно, что большинство публики» действительно отвратится, поскольку и Зачатьевские худы стали, а Каменномостские скоро и совсем рухнут от ветхости.
Петр Федорович сильно осердился, когда ему ту бумагу прочли, нехорошими словами говорил, приказал стряпчему новое прошение писать. А потом вдруг, ничего не сказав, велел запрягать, поехал к Манежу. Там с коляски сошел, стал широко шагать, а шагая, шевелил губами — считал. У Зачатьевской бани вскочил в коляску, которая за ним порожняя шла, вернулся на Самотеку. Стряпчий только и успел написать:
«22 октября 1876 года в Московскую городскую думу купца Петра Федоровича Бирюкова прошение о дозволении построить на принадлежащей мне пустопорожней земле общественные торговые бани».
Петр Федорович велел стряпчему руки вымыть, мыло взять — гербовая бумага дорогая, восемь гривен стоит. Ненароком извозит. Потом стал говорить, что писать, но стряпчий знал, что того писать не надо, такие слова не пишут, их только говорят. Да и Петр Федорович знал, что такие слова не пишут, потому и нанял стряпчего, что тот знал, про что писать.
«Вглядываясь в изложенные пункты, — от имени Бирюкова учено писал нанятый грамотей, — можно усмотреть, что управа весь свой отказ основывает единственно только на расстояниях от предлагаемых мною к устройству бань до различных казенных зданий и прилегающих рек, не объявляя, почему именно эти расстояния могут служить препятствием к моему предприятию…»
Петру Федоровичу нравилось, когда писали тягуче и мудрено — на манер начальника торговой полиции. Получалось фасонисто и благородно, — но только Юнг умел закрутить позаковыристей. Однако и стряпчий не зря брал деньги, умел напирать на главное — на права, которые царем даны. Писал именем купца, что доводы эти считает «незаконными, так как они не подкреплены ни законами, ни какими-либо распоряжениями властей. Кремлевские бани будут достаточно удалены — Кремлевский дворец и Оружейная палата от них за стеной». Что ж это, дескать, сочинители Кремлевскую стену не заметили? И про улицу забыли, и про два тротуара — что ж, и это, что ль, не расстояние? «Кроме того, если бы даже ничем не отделялись бани от упомянутых зданий, то и тогда это не могло бы служить причиною», так как нет закона, который определяет расстояние бань от казенных зданий.
Близка Москва-река и близка под землей Неглинка? Ну и что ж с того? «Это скорее может считаться удобством, а не препятствием». В те же реки уже опускают мыльную воду две Смирновские, Бирюковские (Петр Федорович не щадил себя — поздно, теперь не запретишь), Козловские, Сандуновские Фирсанова (которые сам и арендовал). Они же находятся от Неглинки только еще ближе!
А самое главное, неправильно господа мерили. Не 550 саженей, а ровно 704 до Зачатьевских — сам измерял. Купцу Попову та же управа дала разрешение на постройку Строченовских бань, а от них до городских Кожевнических 840 саженей. Выходит, 704 — близко, а 840 — далеко? Управа толкует Высочайше утвержденное положение как ей хочется. «В законоположении не указано, какое именно расстояние следует считать близким от городских бань, а какое достаточным».
Врача же Дудкина Бирюков и совсем посрамил. Запах от бани? «Этот пункт даже не требует опровержения. Гигиена не только не терпит в городах бань, но даже требует устройства их. Чистота тела человеческого, — наставлял купец кудрявыми письменами, — в большинстве случаев лучшая мера для поддержания здоровья и служит отвращением многих болезней. Врач, свидетельствовавший местность, или не знает, что такое гигиена, или же принцип его считать нечистоту лучшей гигиенической мерой».
Очень радовался Петр Федорович, что складно получилось — пятак набавил умелому стряпчему. Но только зря потратился. Городской голова прочитал и начертал в углу собственноручно: «Оставить жалобу московского купца П. Ф. Бирюкова без уважения…»
Ах, без уважения! Петр Федорович не любил старых знатных господ, которым все в даровую досталось — имения и деньги. И еще за то, что подбородок высоко держали, нос от купцов воротили, но все-таки к Воейковой решил поехать самолично. Дорогой, в экипаже все повторял имя-отчество ее, очень трудное — Юлия Адольбертовна, а как приехал и представился, все начисто перепутал, сказал ей невинно:
— Ульяна Арабековна, давайте, барыня, вместях за бани постоим. Друг дружке не помешаем, а вместях способнее будет.
Юлия Адольбертовна улыбнулась, в гостиную позвала, даже чаем приказала угостить, однако от дела уходила, ничего толком не ответила. Глядя, как купец подносит ко рту блюдечко, как грызет мелко сахар, чтобы потом запить чаем, уклончиво отвечала, что она и дело-то как следует не знает, что всем ведает брат ее — Владимир Адольбертович, а Бирюков не верил, знал, что барыня, хотя и женщина, и дворянка, сама всем воротит, в Петербург за подмогой ездит, там у нее заступников пруд пруди. Только и пообещала, что поверенного пришлет, пусть он обо всем договаривается.
Подпоручикова вдова связываться с Бирюковым не хотела. И боялась, что тот ее обведет. Да и не нуждалась в нем. Ей хоть во всем и отказывали, но она понимала, что по сравнению с Бирюковым ее дело во многом выигрышнее. Правда, от Волхонки Зачатьевские бани были еще ближе, чем земля Бирюкова, но зато от Кремля дальше. В прошении она про Волхонку и не упоминала, писала про Лебяжий переулок, чтобы показать, что бани будут от проезжих дорог и совсем в стороне. Воейкова обещала городской управе, что бани ее будут на манер европейских, похожие на санкт-петербургские Вороненские, но еще лучше. Конечно, не обойдется, как то и положено, без простонародных бань, но уж очень хороши будут дворянские и еще нумера семейные для благородной публики.
Городская управа, хоть и сообщила Бирюкову, что госпоже Воейковой тоже отказано, сама Юлия Адольбертовна не считала свое дело проигрышным. У нее имелись убедительные возражения по каждому пункту. Ей отказали потому, что от будущих бань, рядом с ее домом, близок — тут же, за стеной, на Волхонке, — водочный завод и склад спирта купца Попова. Разве это довод?
Юлия Адольбертовна дивным почерком выпускницы института благородных девиц писала в стиле тогдашних документов: «Но бани есть исключительно одни из тех городских построек, которые снабжаются водой с избытком и в случае пожара в соседних домах могут оказать лишь услугу доставлением воды во всякое время».
Мало кто знал, как плохи были дела подпоручиковой вдовы. Но об этом разведал тогдашний содержатель соседних Каменномостских бань купец Горячий. Он уже точно знал, что Каменномостским баням быть недолго. Не только из-за того, что они слишком ветхи — для постройки храма Христа Спасителя площадь расширялась. Еще и поэтому их неизбежно доломают, если они сами до того времени не рухнут на тех, кто моется и парится. Это он и предложил Воейковой совместно добыть разрешение на постройку бань. У него здесь и земли нет, и не дает ему управа разрешения — с дворянами у властей иной разговор. А бани он сам построит, и вдова будет в большом прибытке. Поэтому Воейкова старалась.
Близок Кремль? Отбиваясь от возражения, Юлия Адольбертовна убедительно доказывала, что «Лебяжий переулок может считаться глухим и мало проезжим, так как главное сообщение с Кремлем и движение экипажей производится по Волхонке и набережной, мимо Александровского сада». Вдобавок, будущие бани будут совершенно не видны и «вполне скроются другими постройками». Даже расширение площади вокруг храма Христа Спасителя положения ничуть не ухудшит: Лебяжий переулок укоротится из-за того на семь саженей, а 30 саженей все-таки останутся — в глубине «переулка, неоживленного ездою». Юлия Адольбертовна напирала на аналогию с главной столицей — вот и в Петербурге на площади против дворца великого князя Николая Николаевича существуют народные бани фасадом на самую площадь. Московские бани, подобные Вороненским в Петербурге, послужат украшению и «для города Москвы могут послужить лишь к удобствам городской жизни и не одним лицам, населяющим эту местность, но и просвещенным жителям других мест».
Филимон Петрович Горячий прочитывал сочинения Воейковой, одобрял слог и побуждал действовать дальше. Он похвалил вдову за то, что так осторожно вела себя с Бирюковым — не напугала отказом и ничего не обещала. Филимон Петрович встретился кое с кем из гласных, не пожалел денег для раздачи нужным людям и тогда, к радости Воейковой, был получен обнадеживающий ответ. Все, что служило прежде препятствием, было обращено в пользу будущих бань на Волхонке. За подписью одного из думских гласных на казенной бумаге сообщалось, что тот самый «закон, изображенный в параграфе 50, Высочайше утвержденный 13 апреля 1823 года», мягко выражаясь, не обязателен. Там не очень ясно сказано, какое расстояние от городских бань должно считаться близким, чтобы не было «отвращения подрыва».
А другие документы — распоряжения министерства внутренних дел и новое городское положение не упоминают устаревшего запрета. Теперь для бань требуется только одно: чтобы они «имели два отделения — одно для мужского, другое для женского пола, с особыми входами и надписями». И все. Потом, какая же это забота о городском благе, когда запрещают строить хорошие бани, чтобы не прогорели плохие? «Увеличение количества бань поведет к конкуренции и побудит содержателей бань как к переустройству, так и к лучшему содержанию». И вообще «охранение привилегий городских бань не обязательно для городской управы». Если управа боится, что арендатор городских Зачатьевских бань Смирнов пострадает, то пусть управа посоветует ему же получше заботиться о банях, и тогда он «сохранит за собой большинство привычных посетителей».
Юлия Адольбертовна считала, что она уже выиграла окончательно, и поспешила сделать последние усилия. По всем правилам письмовника написала изящным почерком личное письмо товарищу городского головы: «Любезный Леонид Николаевич! Не поставьте в вину, что я, ввиду скорого отъезда из Москвы в Петербург, поставлена в необходимость беспокоить Вас». А едет она в Петербург «за моделями и рисунками Вороненских бань». В Москве они будут «выходить из ряда обыкновенных торговых бань и имеют быть приспособленными вместе с общим отделением и для исключительной публики». Ей очень понравилось удачное слово, и она повторила его, изящно заканчивая письмо: «Даю себе право убедить Вас, что я исключительно желала бы преследовать удобства жителей города, а не свои личные интересы».
Юлии Адольбертовне, конечно, никто не верил. Тяжбой с отцами города она привлекла внимание к своей особе, и мало для кого осталось тайной, что старалась она для купца Горячего, который обещал ей для поправки дел солидный куш. Он чуть было не свалился ей в руки. Кто-то из Петербурга надавил на обер-полицмейстера и тот тоже заявил, что не видит основания для отказа в прошении Воейковой. Тогда писарь городской думы начисто перевел доводы одного из гласных и припас к концу традиционное заключение: «С мнением согласны». И оставил место для подписей.
Неизвестно, как об этом прознал Петр Федорович Бирюков. И еще раньше, чем бумагу отдали для подписи городскому голове, который являлся в думу раз в две недели, и другим чинам, свиделся с арендатором Зачатьевских бань Михаилом Михайловичем Смирновым. Тот помчался домой к городскому голове, застращал его: только что он взял бани в аренду на 24 года, обещал как то и положено платить — сначала тысячу пятьсот рублей в год, перестройку затеял, а тут… В общем, Смирнов обещал судиться, так как нарушен договор аренды, нарушено высочайше утвержденное положение о расстоянии частных торговых бань от городских. Городу придется оплатить Смирнову такую неустойку, что, уж поверьте, Смирнов сумеет за правду постоять…
Городской голова приехал в думу в неурочный час, соскочив с коляски, прошел в кабинет, потребовал заключение. И в последнюю всегдашнюю традиционную фразу, ожидавшую его подписи, втиснул маленькое словцо «не». Получилось: «С мнением не согласны». И подписался, не объясняя ничего, — доводов не было. А госпоже Воейковой велел объявить, что прошение ее «оставлено без последствий».
Ах, это туманное «высочайше утвержденное 13 апреля 1823 года положение о доходах и расходах московской столицы», с его неясным геометрическим понятием о близости! Сколько захватанных червонцев перекочевало благодаря ему из сорных купеческих карманов в хрустящие кожей кошельки благообразных чиновников городской управы! На любое прошение о дозволении открыть банное заведение первым делом следовало возражение: дескать, просимое заведение находится вблизи городских бань. Тут же почтительно упоминались «высочайше утвержденное» и заботы об «отвращении подрыва».
Так было и с прошением купеческой жены Прасковьи Котовой. За полной безграмотностью дела вел ее собственный супруг, который тоже грамотностью не блистал, поскольку делал ошибки, подписывая даже родную фамилию. Купеческой жене не дозволили строить банное заведение взамен сгоревшего пенькового — оттого, что очень близки были Кожевнические бани, находившиеся в упадке.
А жене надворного советника Фелиции Игнатьевне Антошевской запретили строить бани на собственной земле в Нижне-Лесном переулке, поскольку близки были все те же Зачатьевские. Даже прошение статского советника Сергея Александровича Медианова («ничего, стерпит или раскошелится») было оставлено без последствий, поскольку строительство просимых им бань в Серпуховской части «не может быть допущено на том основании, что они будут находиться вблизи городских Кожевнических бань, которые в настоящее время настолько ветхи, что конкуренции выдержать не смогут».
Отказали и жене штабс-капитана Екатерине Дмитриевне Манухиной, которая вознамерилась «строить собственные бани с нумерами на Садовнической улице». Но и от тех мест оказались близки городские — Устьинские, а их купец Сахаров у думы арендовал — тоже на 24 года — и платил 5505 рублей ежегодно. Сахаров обо всем раньше позаботился. В договор втиснул, что ежели со временем будут уничтожены привилегии городских бань, то съемщик по-прежнему будет содержать бани, однако же потребует от управы вознаграждения за могущие последовать от сего для него убытки.
И все-таки ловко подсунутые денежки меняли геометрические понятия — делали близкое расстояние вполне отдаленным. Как ни странно, быстрее всех управилась оборотистая купеческая жена безграмотная Пелагея Котова. Сама поехала за городским землемером Трофимовым, в свою коляску посадила и доказала, что целых две версты от Кожевнической можно насчитать, если ехать по-людски — не так, как городская карта велит, а по мощеным улицам и широким. Что за нужда ехать грязью да прямиком! Вот и вышло, что не верста, и, стало быть, бани можно строить там, где стояло сгоревшее пеньковое заведение.
А потом с землемером Трофимовым славно прокатился по мощеным улицам «временно московский» купец Афанасий Александрович Мошкин. Ловко он в Москву внедрялся, сразу узнал, с кем ехать, с кем толковать. Хоть сначала, как водится, отказали, но только сумел он получить разрешение на открытие Овчиннических бань. Поначалу же чего-чего только не настрочили на казенной бумаге: будто Овчиннические бани совсем рядом с городскими Устьинскими. Но потом сам землемер от своих слов отказался — не так мерил, оказывается. Сам себя и высек: ну кто это, дескать, считает по карте? По карте карандашом ездят, а извозчик или пешеход на карту не глядит. По воде, что ли, идти — Водоотводный канал на пути встречается, а его обойти надобно, не переплывать же? Если кто и впрямь плавать охоч, так неужто он с баулом через канал переберется, а там по Банному проезду, по Садовнической улице, Козьмодемьянскому переулку — вот и будет как раз верста. А ежели кто по-человечески пойдет, то изберет дорогу хоть и дальнюю, но добрую: вдоль канала, по Чугунному мосту и потом на Москворецкую, по Балчугу и набережной — выйдет две версты! А «расстояние в две версты не может служит подрывом Устьинским баням», — резонно заметил «временно московский».
Купцы-банщики друг на друга ябедничали, а когда надо, вдруг соединялись все вместе против управы. Бирюков козни Попову строил, а вдруг позвал и его, и других конкурентов, серебром скинулись и длинную бумагу совместно подписали: дескать, уж очень управа банщиков обижает. И скот дорожает, и хлеб, и деготь, и холст — одни бани как были дешевые, так и остались: пятак за вход. Уж двадцать лет прошло, как цену установили, и все прежняя. И за пар, и за сторожбу, и за воду горячую и холодную, да еще за веник — а всего пятак.
Коллежского регистратора Ивана Федорова тоже подписать уговорили — так уважительнее будет: не банщик, только дом с банями в аренду сдает. Получится, что человек за чужую беду печалится. Сопя и мучаясь, с превеликой мукой вписали под бумагой свои имена все знатные банщики — Смирнов, Бирюков, Соколов, Сахаров, Афанасьев.
Писарь складно все составил, так и не скажешь: «Высочайше утвержденная в 1846 году такса на вход в бани составлена на основании существовавших тогда цен на материалы, необходимые для банного промысла». Купцы жалостно плакали: дескать, «цена на дрова и веники возвысилась почти…» Тут купцы немного поспорили. Один сначала сказал, надо писать, что цена увеличилась в 10 раз. Пусть проверят — кто это помнит, какая цена была на дрова двадцать лет назад! Другой клялся, что если и возвысилась, то разве что чуток. Поторговавшись, велели нанятому грамотею писать: «…возвысилась почти впятеро, и такая плата в настоящее время настолько низкая, что вместо доставления торговцам пользы приносит убыток».
Купцы знали, что врут. И знали, что не поверят, но когда торгуешь, так начинай свысока — потом спустишь: и ты выгадал, и покупатель будет рад-радешенек, что сбил. Купцы снова жаловались — благородными словами: «московская администрация, ввиду усилившейся в торговле конкуренции и постоянно возвышающихся на рынке цен, нашла удобным существовавшие прежде таксы на мясо, хлеб и прочее ныне совершенно уничтожить». Так почему же одних банщиков и обижают? Они просили поставить хотя бы такую цену: в простонародных банях с посудою (то есть с шайкою), но без веника — пятак, а за веник платить особо. В дворянских — не гривенник, а хотя бы 20 копеечек.
Прошение купцов разбиралось, как то водится, долго. Шесть лет! Но все было чин по чину.
Сначала спросили начальника торговой полиции Юнга, имеет ли он мнение на сей счет. У Николая Лукича Юнга на сей счет мнение было: банщиков не любил — сквалыги. Юнг не спеша сочинял свой ответ. Напрасно купцы думали, что никто не помнит о ценах, что были двадцать лет назад. Юнг хотя и не помнил, но документик нашел. Он им покажет — «возвысилось почти впятеро»… Сначала он изобличил в другом.
Купцы давным давно нарушили все постановления, а они высочайше утверждены — самим царем. Такса в дворянские установлена 10 копеек, а они без всякого права берут и 15 и 30. А в простонародных — не стыдятся признаться — дерут пятак, по закону же следует 4 копейки и грош. Видите ли, потому что «установилось прежде, а не им менять, что прежде установлено»! Так ведь и прежде было нарушение царского слова. А во многих банях до того дошли, что все отделения дворянскими считают, будто они с большой роскошью и удобством сделаны. Чуть почище, да сажу соскребли, и все. Во многих банях нет даже и простых дворянских — все нумера семейные. Но за них берут и рубль и полтора. А таблиц с таксой, как то велено, ни в одной бане не вывешено.
Юнг все заметил. И что коллежский регистратор Иван Федоров бумагу подписал, а ему, скажите, какое дело до всего: арендатор, и все. И будет банщикам тем прибедняться: «вместо доставления пользы — убыток»… Стыдились бы врать! Самые зажиточные из всех московских банщиков, а сами недавно приказчиками в банях служили, а то и совсем голышом в них бегали. Если так обедняли, с чего же собственные заведения купили?
«Цены на веники, шайки и дрова возвысились». Так и на все возвысилось, только «надобно все-таки полагать, что содержатели торговых бань не находят возвышение это очень чувствительным, так как никем из них не сделано никакой попытки к устройству топок, которые нагревали бы возможно большое количество воды при наименьшей затрате топлива».
Он сердился, но гнев смирял, говорил благородно — презирал выбившихся в люди темных деревенских мужичков, которые брали не умом, а лютостью. Вот придумали паровое отопление, в московских домах его ставят, а купцы деньги жалеют сделать такое же отопление в банях: ведь самим же выгодно и люди угорать не будут.
Сдерживая ярость, Николай Лукич писал, что за двадцать лет увеличилось и население города, и народу нынче пруд пруди — значит, и доход от этого промысла увеличился, а бани «остались в первобытном состоянии». Азиатчина: прислуга в банях жалованья не получает! Еще сама платит хозяевам за право служения в банях! Известно, на что живут, — на чаевые.
Начальник торговой полиции настаивал: «Возвышение ныне существующей платы за вход в торговые бани было бы преждевременным». И доказывал это обстоятельно.
В губернском архиве, оказывается, сохранились реестры на содержание арестантской роты. Из них видно, что как раз в 1846 году, когда высочайшее повеление вышло, сосновая шайка с деревянным обручем стоила четыре копейки штука. А нынче — пятнадцать. Правда, шайка с железным обручем стоит двадцать одну копейку, но такая крепкая посуда и дольше держится.
И с дровами купцы наврали. Арестантской роте осиновые и сосновые дрова двадцать лет назад продавали по цене семь рублей шестьдесят три копейки, а нынче на складах у Москвы-реки между Крымским и Бородинским мостами осиновые дрова продаются по тринадцать рублей — тех же трехполенных, длиной в два с четвертью аршина.
Веники, правда, подорожали. Раньше арестанты парились вениками, которые стоили тридцать пять копеек сотня, а нынче рубль. Зато веников идет теперь больше и купцам все равно выгода осталась…
Купцы не обиделись. Ну и что с того, что немного ошиблись? Они все по памяти, не по бумажкам. И сочинили новую бумагу — уже не в управу, а в министерство внутренних дел. Такой ход был долог, да без него не обойтись.
Снова обо всем рассказали. Поскромнее, но жаловались пуще прежнего.
До Петербурга бумага ехала не спеша. И там ее смотрели долго. Два года спустя воротилась с заключением: пусть обсудит не управа, а «Комиссия о пользах и нуждах общественных» — в Московской городской думе. И приписка была хоть и маленькая, но важная: пусть будет как купцы просят — чтобы нижние чины не ходили в баню по субботам и перед праздниками. Очень жалостно свою судьбу купцы в том прошении изобразили. Дескать, что с солдата возьмешь — больше двух копеек с него не полагается, себе в убыток. И как набьется их в субботу — другим не попасть, а как раз в эти дни вся польза по торговле в банях.
«Комиссия о пользах и нуждах общественных» рядила долго. Разбирались не спеша. Купцы совсем ее запутали. И Петербургом стращали: вот там у них есть защитники, а здесь никто того не понимает, что баня — один убыток и сплошное разорение. По свойству своему часто ремонта требует, а плата арендная вздорожала. А с вениками беда одна: хочешь не хочешь, нужно ему или нет — а выдай березовый каждому. А между тем выяснилось из долговременной практики, что веник не есть необходимая потребность для каждого приходящего. Только двое, самое большое трое (ох и врали купцы!) употребляют веник по назначению, остальные и не стегаются, уносят его с собой — полы подметать и для других домашних потребностей. «Вследствие такой несправедливости поступка посетителей, — писали в новом прошении содержатели, — и по дороговизне веника, мы желали бы веники из таксы изъять и дозволить нам продавать их по 1 копейке, а в случае их дороговизны продавать по тем же ценам, по каким они будут нам приходиться в покупке». Как на базаре, купцы снова тяжко торговались. В простонародные пусть, как и было, будет пятак — теперь уж без веника, но в дворянские — пятнадцать, в отдельных — за каждые два часа рубль, а ежели с ванной — это еще четверть, а в банях, где каждый нумер состоит из нескольких меблированных комнат, да с ванною и прислугою — от двух до трех рублей…
«Комиссия о пользах и нуждах общественных» вконец запуталась. Позвольте, откуда же, как и было. Пятак? По правде было четыре копейки и грош, но с веником. А если без веника, так почему дороже, а не дешевле?
Долгоречивые, терпеливые в разговоре купцы начинали издалека. Посуда подорожала — раз, а бани по своему устройству часто требуют ремонта — два, а цены на дрова возвысились — три, а веники… И еще министерство внутренних дел как прописало: «Предоставить на волю содержателей бань делать по своему усмотрению уступки».
— Так, значит, содержатели должны делать уступки, а не управа, — горячились гласные из-за бестолковости купцов.
— А мы что говорили! — прикидывались простаками купцы. И договорились они до того, что в банях вообще не надо устанавливать таксу за вход. Изничтожить ее совсем, а купцы будут уступки делать.
Истерзанные спорами, гласные согласились только на то, чтобы веники из таксы исключить — «в видах сохранения от истребления лесов, доставляющих это производство». В простонародные пусть будет вход стоить пятак, в дворянские — не пятнадцать копеек, а двенадцать. За детишек же до семи лет пусть платят всюду половину.
На том и порешили.
Купцы ушли хмурые. Словно их обидели. А за порогом лукавым взглядом перебросились: дескать, ну что за дурни эти образованные дворяне! Опять при своих остались. Веничек — копейка… Пустяк! А как, господа хорошие, вам тысячу веничков или мильон?
…Петр Федорович Бирюков не знал, куда поехали другие хозяева — банщики, а он сел в свою карету, которая ждала его возле думы на Воздвиженке, и отправился на Пречистенку, к арендатору своему, знаменитому на всю Москву дровянщику Ивану Григорьевичу Фирсанову. Это его дрова палили во всех московских печах. Видать, прибыльное дело — разбогател, лучшие дома в городе скупал. Поселился где — на Пречистенке! Где самые знатные господа жили. В графском дворце устроился — мрамор, лакеи, люстры хрустальные. Сам купец, а дочку по-иностранному учит — вот чудной, деньги некуда девать.
Сам Петр Федорович свой достаток скрывал. И от этого выгадывал.
Вот и сейчас, вздохнув, сказал Фирсанову:
— Вот что, Иван Григорьевич. Баню построить не смогу — силенки маловато. Сколько на взятки потратишься, а все без толку. Придется опять брать твои Сандуны в аренду. Хочешь договор на десять лет сделаем? Хоть и дорого, буду по-прежнему платить тебе — двадцать пять тысяч в год. Не то другому отдавай. Ведь не поверишь — из последних силенок тяну. Трудно. Цены сильно возвысились. Одному тебе прибыток — и дрова твои, и веники твои. Уж очень сильно цены возвысились.
Иван Григорьевич знал, что Бирюков врет. Но тогда он не догадывался, как Петр Федорович ловко провел его. Через неделю после того, как заключили новый договор, все узналось. А тут и дочь Ивана Григорьевича Фирсанова, Вера Ивановна, воротилась. На воды, в Пятигорск, с мужем-полковником ездила. Отец ей, смеясь, рассказал, как Бирюков его провел:
— А я думал, сам кого хочешь обману! Вот, бестия, «из последних силенок тяну».
Дочь смеялась:
— Не жалей, отец. Неужто сам банями стал бы ведать? Теперь сколько банщиков развелось!
УГОЩЕНИЕ БАНЕЙ
Банные воры водились уже в Древнем Риме. Не будь их, сколько динамики потерял бы «Сатирикон» Петрония, где обобранный до ниточки герой вышел на улицы вечного города совсем нагим. Из этого можно предположить, что общественные бани возникли хотя бы днем раньше, чем объявились воры в них. Впрочем, старые историки довольно единодушно выводят дату рождения бани. Считается, что в Европе она появилась в одно и то же время и по одной и той же причине, что и «Илиада» и «Одиссея»: вследствие Троянской войны и сразу после нее.
Разрушив Трою, греки запомнили, как устроены были тамошние залы для омовений и, воротившись домой, принялись строить у себя такие же. По-видимому, сначала они были отнюдь не роскошные. Иначе Гомер не стал бы устами странствующего Одиссея живописать поразительную роскошь банных чертогов Цирцеи — о том, как он взошел в залу, покрытую драгоценным мрамором, где он испытал приятную теплоту, о том, как нимфа удивительной красоты сливала теплую воду на его голову и опрыскивала благовониями; о том, как, упоенный ароматами, он чувствовал свое тело и дух освобожденными от всякой усталости.
Греки действительно особо не преуспели в банном зодчестве. Об этом говорят раскопки. Больше того, они, пользуясь ванной, не сумели поначалу даже придумать дырку для слива воды. В домах и гимнасиях, где занимались спортом, пользовались душем с деревянным и каменным ситечком, а из ванн воду вычерпывали. Прошло лет двести, покуда неведомый изобретатель догадался выдолбить в ванне отверстие и закрывать его при надобности затычкой.
К временам Платона греческие бани, однако, стали тоже украшаться мрамором. Для них создавались прекрасные статуи. Между прочим, знаменитая скульптурная группа Лаокоон была обнаружена именно в бане. Платон предложил учредить общественные мытейные заведения, создать для них специальные законы. Великий врач древности Гиппократ нашел, что это не только место удовольствий, это еще и, говоря нынешними словами, курорт.
Римляне же для бань не жалели ничего. Купальни, вазы, утварь для них делали из дорогого разноцветного мрамора и привезенного из Египта темно-красного порфира. Построенные при Августе в самом центре Рима, посреди Марсова поля, бани особенно комфортны и великолепны, размером с московский ГУМ. Даже в малых римских банях висели картины лучших мастеров. На стенах писали «приличные месту легкие стихотворения», Одна из бань имела золоченую крышу, а вода почти всюду шла по свинцовым трубам.
Поначалу об открытии бань римлян извещал бой барабанов и звон колоколов. Богатые люди устремлялись туда с утра. Там ели и пили, там выступали музыканты, витийствовали ораторы, читали стихи поэты. Мужчины занимались гимнастикой, фехтованием, смотрели бои гладиаторов. Сравнение с ГУМом, пожалуй, не случайное — в бане бойко шла торговля. Продавались предметы роскоши и туалета, произведения искусства. Плеск воды заглушал разговоры, и было забавно видеть, как люди таинственно говорили на ухо о пустяках.
В термах Диоклетиана имелись даже библиотека и сады. Там было три тысячи алебастровых ванн и огромный, величиной с городскую площадь, бассейн.
Но это уже позднее сооружение, построенное в 302 году. Начались же общественные бани за три века до этого. Кроме той, что построили на Марсовом поле, были они сравнительно невелики. Во времена Августа в Риме насчитывалось 865 общественных бань и еще 800 частных — не так уж мало для 1 335 680 человек, составлявших население Рима. (Сейчас в Москве меньше 60, а двадцать лет назад было 120 бань.) Мужчины ходили туда ежедневно, иногда даже по нескольку раз в день. Заигрывая перед плебеями, знатнейшие патриции тоже посещали их, смешиваясь с толпой простого народа. Не гнушались общественных терм даже императоры. Угождая плебсу, императоры повелели держать бани постоянно открытыми — днем и ночью, брали на себя все издержки, потому что плата была установлена низкая. Для детей вход был вообще бесплатным всегда, для взрослых же — только во время празднеств.
Каждый из цезарей, стараясь перещеголять предшественника, возводил мытейное заведение еще более роскошное, чем прежнее. Первые общественные бани построил богач Меценат, который любил не только поэзию. Но его здание затмили термы на Марсовом поле, о которых уже говорилось. Нерон возвел здание еще более пышное. Баня Тита Флавия Веспасиана насчитывала сто помещений. Император Траян, позаботился, наконец, о женщинах — построили обширные термы и для них. Он тогда не мог, конечно, подумать, сколь роковую ошибку он допустил — христианская церковь именно это имела в виду, нападая на развратный Рим и поэтому запрещая бани вообще.
Но это будет не скоро. После Тита возвел свои знаменитые термы Каракалла. Громадные их развалины сохранились, они занимают 124 тысячи квадратных метров.
Три с половиной столетия подряд римляне мылись по единому порядку. В специальном зале раздевались, в холодной бане обливались водой, плавали в бассейне. Потом посетители шли в предбанник, который назывался тепидариум. Там были теплые полы, которые согревались при помощи особых печей. Затем — лакедомский, то есть спартанский, зал. Здесь рабы натирали изнеженные тела римлян лебяжьим пухом, разминали им мускулы. Скребницы и простыни простой люд приносил с собою. Следующим был зал с теплой водой. Она была и в бассейне, и в медных сосудах, которые стояли повсюду. Рабы следили, чтобы температура в них была различная — на любой вкус. Перед выходом намаявшихся гостей натирали благовониями. А по соседству были залы для игр в мяч, борьбы и прочих гимнастических игр, а также залы речей и музыки, портики, сады для прогулок. Туда ходили в промежутках между мытьем.
Последние термы, пятнадцатые по счеты, построил незадолго до заката Древнего Рима император Константин — в 310 году. В них…
Впрочем, пора остановиться! Получается слишком серьезно. Как если бы автор задался целью написать научную монографию. Вроде «Всеобщей истории бань всех времен и народов, кроме тех, которые не мылись и не купались». (Такие народы были — например, воины Чингисхана считали за доблесть не мыться и не стирать одежду. Ее просто выбрасывали, когда она совсем разваливалась.) Цель этого сочинения гораздо скромнее: история Сандуновских бань. Но только что рассказанная далекая предыстория все-таки имеет к ним отношение. О римских термах будут думать, их станут изучать те, кто в конце XIX века захотел поставить на месте старых Сандунов новые Сандуны.
Поэтому в связи с их отдаленной родословной остается сказать немного. О том, что христианство, ополчившись против развратного языческого Рима, начисто запретило общественные бани. Они перестали существовать в Европе на многие столетия и стали потом медленно возвращаться через завоеванную арабами Испанию. Надо добавить еще то, что каким-то странным путем римский обычай сохранился на востоке Европы, у славян — не в верхушке общества, а среди простого народа.
Любопытно, что деревенские бани Древней Руси напоминали именно сельские, бедные бани Древнего Рима. В римских окрестностях бани ставили на берегу реки или озера, рыли ров, устраивали над ним плотный навес из ветвей. На дне рва жарко разогревали камни, их поливали водой — в горячем пару обитатели римских окрестностей терпеливо прели, а потом сигали в холодную воду. Знакомая картина…
Впрочем, существовали ли бани на Руси в далекой древности, вопрос спорный, как уже говорилось, Н. М. Карамзин утверждал, что славяне мылись три раза: при рождении, перед свадьбой и после смерти. Вероятно, он ошибался: потому что парные бани существовали еще у скифов. По словам Геродота, скифы ставили войлочные шатры, в них помещался сосуд, в него бросали раскаленные докрасна камни. Поднимался дым и пар, и скифы, наслаждаясь, что-то выкрикивали от удовольствия. Правда, для мужчин пребывание в дыму и пару и составляло всю процедуру — теплой водой им обмываться не полагалось.
Из этого, конечно, нельзя делать вывод, что такое мытье — баня. Но древний арабский писатель Абу-Обейд-Абдаллахал-Бекри словно бы прямо спорит с Карамзиным. О древних славянах он пишет, что для мытья жители восточной Европы устраивают себе дом из дерева и законопачивают его мхом. В углу устраивают очаг из камней, дыру и двери закрывают, водой обливают раскаленные камни, и каждый стегается сухими ветвями, которые притягивают жаркий воздух. Это уже баня! Хотя, конечно, неизвестно, часто ли ее посещали.
Но вот свидетельство летописца Нестора, правда весьма легендарное. Старец утверждал, что апостол Андрей Первозванный, проповедуя христианство, завернул и на Русь, видел Новгород. Там он подивился людям, которые секут сами себя в пару прутьями. Апостолу такое дело не понравилось — «сами ся мучат и тако творят не мытву себе, но мучение». Был ли апостол Андрей на Руси или не был — вопрос спорный, но уж во всяком случае в годы, когда жил Нестор, то есть в XIII веке, на Руси парились так, как и сейчас в Сандунах.
По всей видимости, русской их прародительницей можно считать ту, которая стояла возле Киева при Ольге. Мстя за Игоря, княгиня спалила баню, а вместе с нею запертых там лучших мужей древлян.
Велик соблазн проследить путь бань от Ольгиной до Сандунов! Рассказать то, что известно про Ефремовы бани, что построил епископ в 1089 году в Переславле, — каменные, открытые для простого люда. Стало быть, первые общественные. Но тогда придется надолго задержаться и описать устройство княжеских мылен: в каждом дворце была своя мыльня со слюдяным окошком. Или рассказать, как мылся Иван Грозный при первой свадьбе с Анастасией Романовной Юрьевой-Захарьиной, как мылись с ним особо назначенные сановники, как другие прислуживали ему, как платье распаренному царю подавали. А уж про мытье царя Михаила Федоровича перед свадьбой известно все до последней подробности — как терли его мочалом и музыкой услаждали одновременно, а потом, не выходя, он пир пировал, «ествы приказные боярам подавал».
Соблазн велик, но наша цель — Сандуны. Можно бы сразу перейти к ним, но самые лучшие русские бани были построены не на пустом месте. Издалека тянулась традиция. Еще в первых, не разрушенных в 1890 году Сандунах, банной посудой была сосновая шайка с железным обручем, а для особо важных господ, как уже говорилось, подавался серебряный таз. В старых княжеских и царских мыльнях утварь была проще — медный таз.
Вот как была устроена царская мыльня. В сенях, которые назывались мовными или передмывными, у стен стояли лавки. И стол, крытый красным сукном. На него клали мовную стряпню — полотняный колпак, который понадобится в парной (потом в Сандунах голые, в чем мать родила, посетители надевали одну-единственную одежду — фетровую шляпу, чтобы голову не пекло). На красном сукне лежали простыни, тафтяные или бумажные опахала — чтобы стынуть быстрее после паренья.
Разоблачившись в мовной, шли в мыленку. Там в углу, сердито натопленная стояла большая изразцовая печь с каменкой, наполненной серым полевым камнем. Вылей в нее ушат холодной воды, вскинется она, шумно задымит паром. От печи до другого угла шел деревянный полок с широкими ступенями — как повернутая задом наперед трибуна. Только поднимались на эту трибуну не скорым шажком — дух прерывала жара, а спускались бегом, с криком радостным. В мыленке было не светло — оконца слюдяные мелкие, тафтяной занавеской прикрытые, а двери пестрые — красным сафьяном обитые и зелеными ремнями. В переднем углу непременно икона ставилась — помыться да не помолиться?
Внизу лавки для мытья ставились липовые бадейки — с холодной и горячей водой. И еще квас в берестяных туесках, а в медных тазах щелок — чисто моет, хорошо в пену сбивается. Квас был не для питья — плескали в каменку для сладкого духа. А пол был мягкий, как постель, — душистое сено, полотном покрытое. Только отдыхали после парения, конечно, не на полу — в мыленке скамьи с подголовниками ставились. В мыленке царя Алексея Михайловича срядили постели из лебяжьего и гусиного пуха в желтой клеенчатой (чтоб не мокла) наволочке.
Мылись и днем, и по вечерам. Если к вечеру, то красные суконные занавески на окнах опускали. Вносили слюдяные фонарики — далеко не видать, а все-таки разглядеть можно. Вода мыльная по желобу сходила.
Царские мыленки, хоть и не богаты с виду, много расходов требовали. Царскую баню крестьяне содержали. За один только 1699 год свезли туда с подмосковных лугов шестнадцать мерных копен душистого сена с полукопною. И веники здесь целый год голили не хуже холодного ветра поздней осенью. На все подмосковные волости оброк был вениками. Для паренья, для царева жаркого хлестания крестьяне Гвоздинской волости 320 веников доставили, Гуслицкой — 500, Селинской — 320… Везли свежие и сушеные веники из Гжели, Раменок. Всего 3010 веников за год извели. Вот как парились!
И уже в эту пору круглый год топились общественные, с платой за вход бани. Тоже царскими считались, хоть он туда не ходил — то денежки в доход государю. Конюшенный дворец ими в Москве ведал, иной раз в казну две тысячи рублей свозили.
Поначалу все общественные бани были только простонародные. Ну какой же это зажиточный человек своей бани не имеет! Рядом с домом, в городской усадьбе, но и уж не очень близко. Царским указом повелевалось собственные мыльни располагать по огородам, да на полых местах, чтобы пожару не сделать ненароком.
Русские бани были предназначены для омовений тела — не для развлечений. Потому их и не строили просторными, и всегда они процветали. Их всегда поддерживали и власти, и церковь. И как уж говорилось, чтобы не водилось разврату, царем самим велено было перестать мужчинам париться вместе с женщинами, как делалось в старину. Баню любили, в ней от всех болезней избавлялись. Про нее складные поговорки складывали: «Баня парит, баня правит, баня все поправит», «Когда бы не баня, все бы мы пропали», «Хоть лыком шит, да мылом мыт».
Иностранцы удивлялись, до чего ж на Руси, в Московии, баню уважают! В книжках на своих языках про то писали или в письмах. А когда про это на Руси узнавали, тоже удивлялись, чему это пришлые люди удивляются. Не пишут же, что вот на Руси и хлеб едят, и воду пьют, а что в банях моются-парятся интересуются.
Знаменитый путешественник Олеарий утверждал, что русские в Лжедмитрии иностранца узнали хоть потому, что баню не любил, а в России нет ни города, ни села, в которой бы бань не было Олеарий сам попарился, рассказал обо всем подробно. Как в Астрахани женскую и мужскую мыльни только легкая перегородка отделяла, однако входили все в одну дверь. И те, кто скромности больше имел, пучком ветвей закрывались, но совсем нагие женщины не стыдились с мужьями своими говорить в присутствии других мужчин.
Поражался Олеарий: «Удивительно, до какой степени эти тела, привыкшие к холоду, окрепшие в нем, могут выносить жар и при невозможности более сносить его выходят из бани нагие и мокрые, и, как мужчины, так и женщины, бросаются в холодную воду или выливают ее на себя, а зимой валяются в снегу». Олеарий отмечал, что по Руси принято угощать приезжего человека баней, как и хлебом-солью.
Хотя в России про русские бани знали все, однако же перевели с французского, издали по-русски забавную книжку, которая очень всех потешила. Называлась она, как это водилось в середине XVIII века, длинно: «О парных российских банях, поелику споспешествуют оне укреплению, сохранению и возстановлению здравия, сочинения господина Саншеса, бывшего при Дворе Ея императорского величества, славного медика».
В заглавии — почти все правда. Действительно при дворе Елизаветы Петровны служил португальский врач Антонио Нуньес Риберио Санхец — только не главным, а вторым лейб-медиком. О себе он рассказывает в книжке сам. Почти всю жизнь служил в России, полюбил ее, и, желая под конец жизни сделать для нее что-либо полезное, он решил прославить русские бани, «употребляемые ее обитателями со времен глубокой древности».
Лейб-медик утверждал, что он полон искреннего стремления показать превосходство бань российских перед бывшими издревле у греков и римлян — как для сохранения здравия, так и для излечения многих болезней. Португальский врач убедился, что они «приносят величайшую пользу для живущих в деревнях, по монастырям, в гарнизонах, на фабриках и заводах разного звания, где и с великим трудом не легко врачей иметь можно».
Саншес (Санхец) описывает устройство мылен. Между домовыми и торговыми банями «разность та, что при первых делается светлица, в которой ставится постель для отдохновения после, как совсем выпарятся, а в торговых сего нет». А дальше все известные подробности, как, раздевшись донага, влазят на полок, как устроена каменка, как пар умножается, как ветвями березовыми секут себя, окачиваются студеной водой или купаются.
Потом идут способы лечения баней разных болезней; «Могу доказать, когда надобно, что баня российская, конечно, заступает место двух третей лекарств, описанных во врачебной науке и в большей части аптекарских сочинений». Приезжий лейб-медик не сумел утаить и свою досаду; он скорбел, что столь полезное учреждение находится в руках откупщиков, которые, помышляя единственно о своей корысти, совсем не радеют об истинной пользе народа. Он советовал разрешать бани только с ведома полиции и каждый раз при этом посылать особого архитектора для отвода места и указания способа постройки. Или составить образцовые чертежи (вот как — типовой проект!), которые должны быть настолько ясны, чтобы по ним и неученый человек мог руководить постройкой бани.
Советы Саншеса (Санхеца) весьма разумны (к ним прислушаются спустя 125 лет — в конце XIX столетия): строить бани из тесаного камня или кирпича, так как деревянные скоро сгниют от пара и мокроты, с высотой не меньше четырех с половиной аршин. Пол же должен быть отлогий, чтобы грязная вода быстрее стекала…
И все-таки о русских банях в Европе узнали не из книжек. Как и во времена Гомера, «помогла» война. Собранные со всей Европы наполеоновские солдаты, прошагав до самой Москвы, всюду обнаруживали диво-дивное — парное мытье. Оно им очень пришлось по душе. Наверное, больше всего в те зимние, метельные дни отступления, когда их преследовало кутузовское воинство.
Чистоплотные немцы первыми переняли жаркие русские бани, стали у себя устраивать такие же. Впрочем, не очень такие — помешала природная бюргерская скромность и брезгливость. Уже два года спустя после войны 1812 года в Берлине появились «Русские горячие парные бани Пахмахера». И топили там до одури, и чистоту навели — а желающих мыться поначалу было мало.
Потом вдруг дело пошло. Правда, без веничка — уж очень дух занимало, и не нашлось человека, который бы показал, как хлестаться, чтобы и красным сделаться, и больно не стало. Потом «Русские горячие» по всей Германии пошли — появились в Веймаре, Гамбурге, Галле, Дрездене. Даже во Франции и Швейцарии. Правда, с усовершенствованиями. Они-то и все погубили.
Стыдливость взяла верх — не шел немец в общие бани, придумывали парные кабинеты. Вместо деревянного полка со ступенями — чем выше, тем жарче — сделали паровой чан. Полотняный, из непромокаемой ткани, был он похож на платье колоколом до самого пола. Только голова из него видна. Затягивалась та персональная баня шнурком у шеи, а в колокол пар нагонялся. Шел от кастрюли, которая согревалась на спиртовой лампе.
Потом еще немножко улучшили: треножник внутрь колокола поставили. Сиди в своей бане на свежем воздухе с открытой головой, а тело в пару красным жаром наливается. Хорошо! Да не очень…
Тогда еще лучше сделали: комод с дыркой для головы. Комод просторный, в нем шезлонг — наподобие нынешней раскладушки с поднятой спинкой. Дырка в комоде материей обита, чтобы шею о дерево не царапать и чтобы пар не выходил. Так вот и парились лежа, с головой наружу. Поставят десяток комодов — десять голов торчат, как в цирке, когда показывают фокус. Спокойно говорить с соседним комодом можно. Говорить можно — париться нельзя…
Доктор Карл Фрех понял, что не годится такое. Неподвижный пар трудно вынести — другое дело, когда веником нагоняешь его на себя. И в Бадене он открыл почти настоящие русские бани под названием «Гирш». Доктор постарался. Сделал все по правилам: и передмыльную, где раздеваются, и мыльню, и парную. Да еще бассейн, как в Древнем Риме. И душ, как в Древней Греции. Русско-римско-греческие бани.
Лиха беда начало: сходные с «Гиршами» бани стали строить во многих германских городах. А тут еще пошел слух о том, что ирландский врач Рихард Бартер в Турции бани интересные видел, срисовал и точно такие же у себя на родине построил. Там было все, как и в русских, только без парной, вместо нее — бассейн. И еще массаж. Всем понятно было — римские бани и есть. Но к басурманам мало кто ездил, а в Ирландии бывали — так в Европе, вместе с русскими появились ирландско-турецкие бани.
Сорок лет до того в Европе с удивлением открыли русские бани, теперь пришла пора поражаться турецким. Оказалось, в Константинополе 300 бань! Общественных — в больших каменных зданиях с куполами, в них отверстия — оттуда свет. Фонтаны, мраморные колонны. Тюфяки с одеялами. Богатых гостей раздевают, окутывают с головой цветными простынями, дают ходули — чтобы не обжечь ноги о горячий мрамор. Мыться не спешат — обвыкают, беседуют, играют в шахматы или карты. Идут плавать в бассейн. Потом за дело берется банщик — трет не жалеючи жесткой шерстяной рукавичкой, хлопает ладонью по всему телу, дергает пальцы, мнет суставы, затем вскакивает на спину, прыгает на коленях.
Такое суровое мытье выдержать не просто, но воспитанный человек не стонет и не кряхтит: потом отдышится, удовольствие почувствует. В сопровождении банщика измученный посетитель на ходулях идет к тюфяку. И спит. Долго. Сколько захочет. Потом выпьет густого турецкого кофе, съест шербету, запьет лимонадом, закурит кальян.
Английская путешественница леди Монтегю рассказала, как мылись полтораста лет назад турецкие женщины. Даже самый подозрительный турок без сомнения отпускал свой гарем в бани. Жены его с радостью шли туда. Там затворницы развлекались — настоящий женский клуб. Отправляясь в бани, наряжались получше, встречали там своих подруг, толковали, рассказывали новости.
Леди Монтегю увидела в бане сразу двести турчанок. Она была потрясена: совершенно нагие, прелестные, с распущенными волосами — только в жемчугах. Некоторые занимались рукоделием, другие пили кофе, ели сладости, третьи небрежно возлежали на мягких подушках, а их юные невольницы заплетали им косы.
Леди оказалась чрезвычайно стыдливой — она не разделась, сколько ее ни упрашивали. Дошла только до корсета, и турчанки понимающе вздохнули — решили, что это замок, на который милорд запер свою жену, а ключ оставил при себе.
И женщин банщицы скребли, мыли, били, мяли, утаптывали коленями. Леди Монтегю удивилась еще одной странности: по турецкому обычаю женщины окрашивали пальцы и ногти красной и желтой краской.
Сколько в ту пору на всех европейских языках книжек про баню вышло! В одних рассказывалось про ее устройство, в других — про ее полезность. Повсюду строили мытейные заведения. В Англии появились акционерные бани и бани, строенные по подписке. И конечно, клубные — посетители в них баллотировались по всем правилам английской демократии. То была большая честь пройти в фешенебельный банный клуб, в котором кроме русской парной и ирландско-турецкой бани, почти как в древнеримскую пору, стали устраивать читальню, курительную, даже биллиард и ресторан.
Мода на баню в Англии повелась в сороковых годах прошлого столетия, во Франции — в следующем десятилетии. Национальное собрание в 1850 году объявило, что оно дает министерству торговли и земледелия кредит в 600 тысяч франков специально для постройки народных бань. Расцветал банный промысел в Бельгии, Австро-Венгрии.
И расцветала банная наука. Пожалуй, неудивительно, что она быстрее развивалась там, где бани только что возникли — надо было выяснить, полезны ли они, а если полезны, то как ими пользоваться.
В России же существовал давний обычай, проверка не требовалась. Но когда стали приходить вести о моде на русские бани и когда в самой России их стали уважать пуще прежнего, в Москве и особенно в Петербурге стали по всем правилам науки вести банные опыты, исследовать влияние пара на организм, проверять, какие болезни пар выгоняет, а каким вредит.
Началось все с врача П. И. Страхова. В ту пору увлечение русскими банями еще не дошло до Москвы, и первую часть своего исследования «О русских простонародных парных банях» он обрушивает на тех, кто презирает полезный обычай. Он насмешливо писал, что чешутся и иностранцы — иначе бы они не придумали бы названия для разного рода зудов. «Если бы зуд был редкостью у иностранцев, какая же бы необходимость заставляла их чесаться жесткими щетками и даже придумывать для того красивые щеточки с долгими ручками, даже самочески или самочесалки из слоновой кости, сделанные наподобие руки человеческой, с пятью пальцами, как бы с ногтями… К чему же, наконец, служит эта заграничная мода отпускать на руках ногти, чтобы перерастали… и торчали бы из мягких пальцевых кончиков. Уже… верно, не для того, чтобы царапать лица, драть глаза другим…»
Доктор напрасно поначалу сердился, но зато он потом спокойно и обстоятельно рассказал много важного. И как мылись в старину, и как мыться надобно. Как от «нутреннего недомогания» и простуды натираться стручковым перцем, настоянным на кабацком вине. Как натираться по сухому телу медом с солью или чистым березовым дегтем. Как страждущим животом обкладываться разогретыми вениками, как править сорванные животы разогретыми горшками. Как банею лечить колики, спазмы, даже ипохондрию и истерику. Рассказывает, как искусны парильщицы в женских банях. На другой или третий день жизни младенца парильщица греет его веничком, головку со всех сторон обжимает, потягивает носик. А ручки и ножки выправляет так: хватает на перекосок — за ручку и за ножку и тянет, потом — наоборот, и делает до той поры, пока ей покажется, что она справила хорошо и члены у младенца распрямились и стали на свое место. Напоследок, ухватив дитятю одною своею рукою за обе ножки, поднимает его кверху, так что головка висит, и встряхивает несколько раз, чтобы отвести грыжу, которая будто бы во всяком ребеночке животик грызет…
С лейб-медика Антонио Нуньеса Риберио Саншеса и врача П. И. Страхова все и началось. Сначала проверяли народные способы лечения, многое после изучения оказалось верным и полезным. Однако же далеко не все. Исследования, как и все в ту пору, проводились неспешно. В последние четверть века прошлого столетия в Москве и Петербурге было защищено девятнадцать солидных докторских диссертаций. Хотя предмет изучения и некоторые способы исследования настраивают на шутливый лад, диссертации эти многое прояснили, утвердили, ответили и кое в чем до сих пор служат надежным источником сведений о медицинской роли бани.
Были открыты важные свойства кожи и доказано, зачем ее надо держать в чистоте. То, что теперь совершенно ясно всем, сто двадцать лет назад и даже девяносто, вызывало насмешку в тех странах, которые повсюду считались цивилизованными. Знаменитый немецкий врач, основатель «Немецкого общества народных бань», Лассар, паста которого до сих пор продается в любой современной аптеке, сообщал, что две трети сельского населения Германии обходится вообще без бань, а в некоторых местностях на каждого жителя приходится одно купанье на 38 (!) лет. Реже, чем — по Н. М. Карамзину — у древних славян, поскольку к 38 годам тот мылся по крайней мере дважды: после рождения и перед свадьбой…
Исследователи, изучая действие бани, не щадили самих себя и нанимали подопытных, по большей части студентов. Неплохо платили им за то, что те позволяли творить с ними то, что науке надобно.
Врач М. И. Гусев, готовя диссертацию на степень доктора медицины, имел в своем распоряжении десять подопытных молодых людей. Имена их зашифрованы, но кое-что о них известно Скажем, студенту Др-ву было в ту пору 22 года, он был среднего роста, удовлетворительного телосложения, в меру упитан и весил ровно 59 килограммов 575 граммов. И студент Вас-в, 21 года, был среднего роста, однако весил меньше — пятьдесят с половиной килограммов. Выше всех и грузнее был фельдшер Кр-ий, 22 лет, он весил без ста граммов 78 килограммов…
Все подопытные парни были здоровы, юны — от 19 до 23 лет — и позволили проверить на себе, какое действие оказывает баня на человека. Все они и до того частенько парились.
Опыт длился три летних месяца 1893 года. Парням давали бесплатную еду: от 200 до 350 граммов мяса, от 500 до 800 граммов белого хлеба, молоко, масло, сахар. Диета была нарушена только два раза — студент Др-в опоздал однажды на обед, так как ходил сдавать экзамен и съел в этот день всего 225 граммов хлеба — от волнения не было аппетита. А другой раз Вас-в не доел 75 граммов хлеба: много хлопотал по каким-то своим домашним делам. Во всем остальном, как сказали бы сейчас, чистота эксперимента была полной.
Итак, парни ели, пили из мерной кружки и парились. Решено было, что слишком тягостно было бы отдаваться бане каждый день — молодые люди подвергались контрольному мытью каждый пятый день.
Наблюдение началось в девять часов поутру. Взвешивали без белья, подавали чай с ситным хлебом, молоком и маслом. В двенадцать предлагалось съесть жареную котлету, вечером — снова чай с молоком и хлебом. Не густо… Для той же чистоты эксперимента ситный хлеб покупался в одной и той же лавке, мясо бралось лучшего качества — без жира и сухожильных пленок, молоко пили от одной коровы.
В баню парни отправлялись все вместе в семь вечера. Длилось это сорок минут. Все, кроме Др-ва и Вас-ва, парились и все без исключения обходились 70 литрами воды. В предбаннике температура была 19–22,4 градуса, в мыльной 23,2—28,2, в парилке на полке от 44,5 до 60 градусов. По свидетельству руководителя опыта, «непосредственно после бани испытуемые чувствовали род усталости, но спустя некоторое время, а тем более на следующий день, самочувствие было прекрасное». Парни мылись, парились, их взвешивали, обмеряли, выслушивали сердце и легкие, считали пульс и дыхание и делали все известные в ту пору анализы.
Диссертант собрал важные сведения об усвоении азота пищи под влиянием жаркого мытья, о белковом обмене, влиянии на вес тела. Как ни странно, парни в конце концов не только не похудели, но даже поправились (не потому ли, что их скромный казенный паек был все же лучше вольного студенческого?).
Врач Гусев защитил диссертацию, представил подробные таблицы, сделал убедительные выводы, поспорил с некоторыми своими предшественниками на ниве банной науки. Выводы были в пользу бани — для здорового человека.
Таков же итог был и в работах других его коллег, которые всесторонне исследовали влияние бани на организм человека, его физиологическое и терапевтическое значение. Ученые отмечали благотворное действие на кожу. Было доказано, что влажная русская баня выделяет из организма 900 граммов пота — не в пример сухой ирландской, которая наносит потери большие и отнюдь не безопасные.
Русская баня не ослабляет организм — наоборот, укрепляет. Резкие переходы от тепла к холоду закаливают кожу, а римско-ирландско-турецкие ванны изнеживают человека, делают его чувствительным к атмосферным переменам. Под влиянием парной грудная клетка расширяется. Мытье мочалками из липового лыка открывает поры, возбуждает нервные окончания, улучшается питание тканей, устанавливается гармония жизненных сил, сообщает гибкость и легкость движениям мышц и сочленениям. Дается импульс кровообращению.
Хорош, конечно, и массаж. После него «моющийся чувствует себя обновленным, всякий род стеснения и усталости рассеивается. Получивши гибкость, необыкновенную легкость, вымывавшийся считает себя помолодевшим и испытывает общее довольство, которое трудно выразить». А что касается парения, то оно, усиливая прилив крови к поверхности кожи, служит превосходным отвлекающим средством и с успехом действует на многие болезни Ученые с осторожностью составляли список их, и он рос, как, впрочем, и противоположный — тех болезней, при которых жаркое мытье не дозволяется.
Детям в нежном возрасте баня не нужна, утверждали они, а парение даже вредно — по крайней мере, до семи лет. Взрослым людям следует мыться раз в неделю, но не более часу, чтобы не ослабеть. Явно обращаясь к людям зажиточным, исследователи рекомендовали «во избежание усталости поручать себя банщику», поскольку в результате парения руки и ноги немного увеличиваются в объеме, повышается восприимчивость нервной системы, сила мышц немного падает, а «при продолжительном лежании на полке человек до того ослабевает, что и мозговая работа ослабевает, в то время трудно бывает решить простую задачу»
После бани советовалось завернуться в простыню, полежать, остынуть, вытереться досуха и только тогда одеваться. А дома надо выпить чайку, а в бане холодного — воды ли, квасу — не пить. Лучше всего посещать баню в полдень — не с полным желудком, но и не с пустым.
Старикам баня весьма полезна, но от парения по возможности воздерживаться или, по крайности, не злоупотреблять им. А уж кому баня особенно полезна, так это тем, кто ведет сидячий образ жизни или занимается черными работами. Бани очищают кожу, предохраняют от болезней, доставляют крепкий, покойный сон и хорошо успокаивают после умственных занятий.
Полезны бани, пришел в 1883 году к выводу лекарь В. В. Годлевский, защитивший диссертацию на степень доктора медицины, при мышечном и суставном ревматизме, подагре, золотухе, ожирении, зависящем от излишне роскошной пищи и сидячего образа жизни, при катарах слизистой оболочки… Он называл еще пятнадцать групп болезней и называл десять, при которых бани вредны — лихорадочные состояния, наклонность к кровотечениям, слабость и истощение организма, наклонности к приливам к мозгу и легким, после апоплексического удара… Но уже тогда советовали не лечиться баней по собственному усмотрению. Во избежание вреда пусть врач пропишет баню, если не запретит ее, поскольку «мы сами для себя никогда не можем быть врачами».
…Тот внезапно разбогатевший человек, который в лукавстве своем замыслил построить царь-бани — разобрать старые, еще совсем пригожие Сандуновские и возвести на их месте новые, невиданные Сандуновские, велел принести ему все книжки, которые есть по банному делу, он изумился, когда ему выложили на столе целую гору. Там были книги на русском и немецком, английском и французском. Его супруга открыла первую, французскую, удивилась, что на благородном языке, знанием которого она так гордилась, написано столь красиво о предмете, ею презираемом:
— Алексей, в старину, оказывается, то были дворцы. Все цезари построили по бане.
— Верочка, касатка, я и говорю тебе: а чем мы не цезари? Побогаче иного нынешнего цезаря будем. Давай по книжкам узнаем, сами поедем посмотрим, как это за границей нынче делают.
Собственно говоря, этот человек не очень-то разбогател — просто удачно женился, взял самую богатую в Москве невесту. Вдобавок и красивую: но от прежней, бедной жизни он жалел свободу. Ее надобно добывать. Уж он ли не горазд на выдумку! Всегда что-нибудь изобретал. Так он придумал новые бани, чтобы свободно вольно прокатиться по заграницам, помотаться лихо в свое удовольствие. Она и сказала то, чего он ждал:
— Ты поезжай, дружочек, а я останусь. У меня дела.
МЫЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КОРНЕТА ГОНЕЦКОГО
Разорившись вконец, корнет Алексей Николаевич Гонецкий решил поправить свои дела женитьбой. Богатых невест всего больше водилось в Москве, а самой богатой из них была, конечно, Вера Ивановна Фирсанова, единственная наследница недавно умершего миллионщика-лесопромышленника. По слухам, женщина она была видная и решительная. Она стойко перенесла еще один удар судьбы — на Кавказе горцы убили ее мужа, полковника Воронина. Погоревав положенное, она сняла траур и энергично принялась за дела. Подробно выспрашивала управляющих, толковала с арендаторами. Купила еще два дома, ездила в Петербург не за развлечениями — новые торговые дома смотрела. Неужто лес-дрова задумала на них променять? О том, что она решила выйти замуж, в Москве узнали по тому, что в купчей на дом в Неглинном проезде, наискосок от перешедших к ней Сандуновских бань, воротила себе девичью фамилию.
Об этом Гонецкий услышал от давнего своего знакомого губернского секретаря Михаила Александровича Пчелина, с которым виделся всякий раз, как наезжал в Москву.
— Нотариус гербовую бумагу испортил, — рассказывал Пчелин. — Написал «Воронина». А Вера Ивановна и говорит: «Ваш расход». И спрашивает: «Неужто вы думаете, что я батюшку своего, Ивана Григорьевича, совсем забыла?» Сразу все поняли — замуж решила. Вот, Алексей Николаевич, чем тебе не невеста?
Гонецкий слушал внимательно, но виду не подал:
— Будет тебе.
— Боишься, стара? Всего лет на пять и старше тебя. Зато богата. Одного налога девять тысяч шестьсот двадцать три рубля шестнадцать копеек. Уж я-то знаю. И еще красива. Очень хороша собой.
Дома Гонецкий стал на бумажке подсчитывать, сколько же дохода у Фирсановой. Если уплатила девять тысяч шестьсот двадцать три рубля шестнадцать копеек, а налог — процент с четвертью, то… Мешала эта четверть процента. Если бы один процент, то дохода было бы девятьсот шестьдесят две тысячи, но эта четвертинка, которую он не учел, — больше будет или меньше?.. Жаль, но меньше — это уже сразу семьсот шестьдесят девять тысяч, да еще минус копейки…
Гонецкий окончательно запутался в копейках и с опозданием понял, что все равно ничего не получится: Пчелин же не сказал, что за налог это был — весь ли или только городской. И вообще смешно заранее подсчитывать чужие тысячи, если ты даже не знаком с их владелицей.
Познакомиться было несложно. Вера Ивановна стала устраивать приемы в своем доме на Пречистенке, и не составляло никакого труда прийти туда с кем-нибудь. Гонецкий знал многих из тех, кто ходил туда слушать музыку или играть в карты — карты стали тогда модой, началось это с Дворянского собрания, подхватили увлечение и купцы. Фирсанова окружала себя и купцами и дворянами, не делая между ними разницы: у одних деньги, у других род — и то и другое — богатство. Наведывался туда и Александр Васильевич Стаховский. Когда-то они встречались в Петербурге, однажды Гонецкий провел у него целую неделю в Тамбовском поместье — охотились. Стаховский позвал с собой:
— Поедем. Весело будет. И хозяйка хороша — как раз тебе невеста.
Гонецкий сделал вид, что смутился, и отказался, да не очень решительно. Сказал то, что непременно будет передано:
— Ну что ты. Вот она и подумает, что я на капиталы ее виды имею, а женщина она красивая — зачем же обижать, даже если она богатая?
Вере Ивановне, конечно, передали. И Стаховский и Пчелин. Рассказали они ей и о фамилии Гонецких. Лишнего прибавили немного: старинного дворянского рода, из шляхты. Жаловал Гонецких поместьями еще король польский Владислав Четвертый, потом значились они в родословной книге Смоленской губернии. Дядька Алексея Николаевича — Иван Степанович Гонецкий потом против поляков же и воевал, в 1863-м. Наград высочайших удостоился, а под Плевной командовал гренадерским корпусом. Это же он принудил к сдаче Осман-пашу. Теперь вот член военного совета, комендант столичной крепости. И батюшка боевой генерал — Николай Степанович. Сейчас командует Виленским военным округом. Все говорят — быть ему членом Государственного совета…
Все было верно, не сказали только, что старинную запись в смоленской родословной Герольдия не утвердила. И умолчали об одной малости, что Алексей Николаевич разорился, а ждать ему наследства не приходилось…
Алексея Николаевича представили Вере Ивановне на балу в купеческом собрании. Он старался не показывать, как забавляет его смехотворно торжественный церемониал Купеческого клуба.
У входа Стаховский записал в книгу его, Гонецкого, фамилию, заплатил за него тридцать копеек и о чем-то толковал с долгобородым служителем. Как выяснилось, Стаховский объяснял, что гость его человек приезжий — будь Гонецкий москвичом, ввести его, оказывается, запрещалось бы под страхом штрафа в двадцать пять рублей И еще заявил, что гость новичок, дворянского звания, пришел сюда впервые. Это все било важно, потому что уставом запрещалось гостю приходить сюда больше трех раз в год. И еще он должен быть непременно из числа тех, кто мог бы по своему положению иметь права быть членом собрания. Гонецкий, скрывая насмешку, думал, что действительным членом собрания он, однако, стать не мог бы — на то имели право лишь купцы и потомственные почетные граждане. Но поскольку он дворянин, будь он москвичом, имел бы возможность претендовать на то, чтобы стать членом-посетителем, как и личные почетные граждане, профессора, аптекари, врачи, артисты, а также иностранцы… Дворяне и иностранцы.
Пока Стаховский писал, расплачивался и толковал с долгобородым, Гонецкий успел пробежать параграфы устава, пухлую и слишком легкую для своего объема книжицу в мягком сафьяновом переплете с рифленым цветным обрезом и золотым тиснением. В курьезно напыщенном стиле сообщалось, что «Московское купеческое собрание доставляет членам своим возможность проводить свободное от занятий время в обществе с пользою и удовольствием». Здесь разрешались «все коммерческие игры в карты и на биллиарде». «Сверх того по временам собрание дает музыкальные и другие вечера, балы, маскарады и еженедельные обеды». Алексей Николаевич узнал, что гостей одновременно может быть не более двенадцати, а на балах и до пятидесяти. И еще на балы допускаются женщины.
Сегодня же был бал, и потому самая богатая московская купчиха могла прийти туда, где вечерами собирались одни мужчины-купцы.
Гонецкий сразу узнал Веру Ивановну. Вокруг нее суетились несдержанные, развязные люди, слишком громко смеялись. Она была действительно статная, худая, с черными на пробор волосами.
Стаховский подвел к ней Алексея Николаевича.
— Корнет Гонецкий, — объявил он ей.
Вера Ивановна была одного роста с ним, глаза их оказались близко, она посмотрела внимательно, сказала с укоризной:
— Алексей Николаевич? Много наслышана о вас. Сколько раз звала — все не приходите. Вот надо было к этим пьяницам прийти — и чем они тут только занимаются, не пойму. Надо было прийти сюда, чтобы здесь с вами познакомиться. А я-то думала, не хотите знаться с купцами.
— Что вы, Вера Ивановна… как можно!.. И я много слышал о вас.
— Плохого?
— Помилуйте, хорошего. Очень хорошего!
— Так чего ж не шли?
Гонецкий молчал. Он знал, что наступил решающий момент, посмотрел внимательно прямо в глаза, тихо спросил:
— Хотите знать правду?
— Мы, купцы, только правду говорим. Смерть не люблю, когда крутят.
— Я скажу, — не отводя взгляда, все так же угрожающе тихо продолжал Гонецкий, — не приходил, потому что вы слишком богаты.
Вера Ивановна звонко рассмеялась:
— Помилуйте, Алексей Николаевич, да ко мне только потому и ходят. Порой столько наберется — к себе не проберешься.
Гонецкий опять сделал паузу и сказал отчетливо:
— Вот я и не хотел, чтобы вы подумали, что вы нравитесь мне оттого, что богаты.
Вера Ивановна вдруг отвлеклась, подалась вперед, кого-то разглядывая.
— Здравствуйте, Павел Севастьянович, — окликнула она коренастого, с седой бородой человека, на вид крестьянина — в длинной, чуть не до пола, чуйке. — Ах, я забыла, что вы брезгаете — руки не подаете. У меня дело к вам, Павел Севастьянович. Честно, не хитрю: давайте купим вместе с вами…
Вскоре Гонецкий ушел. Так было надо. Хотя ему и хотелось посмотреть, как танцуют и пьют на балах купцы. Если доведется — еще насмотрится. Особенно любопытно было бы поглядеть, как они в карты играют, что приговаривают, когда выигрывают. Рассказывали, что по уставу в купеческом клубе, где за все брали и давали деньги, штрафовали тех, кто не наиграется всласть до двух ночи. Кто остается позднее — платит штраф. За первые полчаса — тридцать копеек, за час — втрое дороже: девяносто, за полтора — рубль восемьдесят. И дальше каждые полчаса штраф утраивался. К девяти утра каждый платил 3686 рублей и 40 копеек. И были случаи, платили — не жалели.
…Алексей Николаевич рассчитал все правильно. Вскоре Москва узнала новость: богатейшая в России невеста Вера Ивановна Фирсанова вышла замуж за корнета Гонецкого. После полковника — кавалерийский прапорщик. Невелик чин! Но дворянин и молод — не на пять, а на целых десять лет моложе своей богатой невесты.
На свадьбу из Петербурга приехали оба генерала. Оба явно стыдились мезальянса, незаметно поднялись, когда гости — купцы, быстро опьянев, пускались в пляс, скидывали с себя неудобные парадные одежды, оставались чуть не в исподнем, славили в частушках свет Ивановну, а какой-то старик, усохший, с мутным взглядом размытых глаз, старался каждому пожаловаться, что не дожил до такого часу Иван Григорьевич, когда вот два генерала…
В Москве о свадьбе говорили много. Передавали, что Фирсанова не поскупилась: подавали на стол уху из стерляди, галантин из перепелов с трюфелями, филе финансьер, на жаркое — бекасы, вальдшнепы, дупеля и рябчики, салат ромеи и малосольные огурчики, а на десерт — мороженое «Мария-Луиз». Играл оркестр Рябова, всю ночь напролет.
Меньше всего удивлялись тому, что невеста перед свадьбой была в Сандунах, мыли ее в «царском нумере», в котором бывал сам генерал-губернатор князь Долгоруков — в том самом, где воду носили в серебряных тазах. Не удивлялись — потому что все богатые невесты из купцов мылись перед свадьбой из серебряных тазов в Сандунах. Был такой обычай. Но видно, должен был скоро кончиться, так как наследники самого первого московского богача — Хлудовы уже строили невиданную баню, расписную, с круглым бассейном, с номерами на Неглинный проезд. Куда сумели пробиться — чуть не у самого Кремля баню строят! Вызвали немца архитектора Эйбушитца, сказали ему, чтобы денег не жалел, а строил как надо И уже окрестили непостроенные бани — Центральные. Вишь, самая главная, окнами на Китай-стену, скажут же: Центральные…
Все думали, что молодые отправятся проводить медовый месяц за границу, все удивились, что они уехали всего-навсего в Средниково, подмосковную барскую усадьбу, откупленную еще Фирсановым. Как ни странно, но на таком скромном развлечении настаивал внезапно ставший богатым Гонецкий. Вера Ивановна любила своего молодого мужа все больше. Был он не только знатен и красив, но и хозяйствен, совсем как хороший купец. Она ему про имение свое: вот, дескать, здесь Лермонтов жил, когда в университете учился. В этом же доме, в этих же залах два лета ходил Гонецкий почтительно огляделся и стал о делах говорить, обо всем знал, понимал коммерцию. Она простила ему его безденежье — для нее это не было открытием. Когда при деле стоят две торговые головы, необязательно изначально иметь особенно много денег. А у них и денежки водились немалые. Деньги идут не только к деньгам, они еще и торгового хозяина любят.
Когда ехали мимо полей с охоты, Вера Ивановна призналась давно хочет хлебным делом заняться Хлебным? Алексей Николаевич не советовал. От хлеба много не жди. Вот в прошлом году пуд ржи стоил восемьдесят копеек, и цена ей всегда одна и та же — то чуть больше, то чуть меньше. Правда, в восемьдесят первом году торговали по рубль семнадцать пуд, но то был недород, голод. А на следующий год сразу скатилось до девяти гривен. Вот и жди голода, всякий раз попрекать им будут. Скажут, Гонецкие на чужой нужде деньги наживают.
Вера Ивановна, покачиваясь на ухабах, улыбалась: ей нравилось, что муж связал себя с ее делами. Хоть и дворянин, а не чурается купечества: видишь, «Гонецкие деньги наживают». И еще память у него, как у настоящего купца — все цены помнит. Еще батюшка Иван Григорьевич наставлял: цифры в книжечку пиши, да не заглядывай в нее. Не то обманут.
— Тогда, может, подрядами заняться? — испытывала Вера Ивановна. Она и не думала о строительном деле, хотела послушать, что знает муж об этом. — Павел Севастьянович Мешков как от подрядов разбогател!
— А это опасное дело. Как Москва горит — больше всех городов на свете. Раньше случалось в год триста — четыреста пожаров. А в прошлом году за пятьсот перевалило. Огонь не разбирается: новый дом, старый — все одно горит.
— Тогда водой, — пошутила Вера Ивановна, — и не горит, и людям всегда нужна.
— Водой неплохо, — неожиданно серьезно ответил Гонецкий. — Банным промыслом. Я уж думал: вот бы построить не баню — дворец. Лучше хлудовского. И брать за вход полтинник — вот сразу и продал полпуда хлеба. И номера богатые — сразу десять пудов. Купить место на Арбате или на Поварской — самая богатая публика пойдет.
Вера Ивановна нахмурилась — размышляла, признаться ли, как обидел ее Хлудов, при всех купцах именитых опозорил ее — облапил, мять стал, спрашивал: скучаешь, вдовица? Дескать, за деньги купить можно все, да не все продается… Она, оттолкнув сердито, сказала при всех: пожалеешь, ой как пожалеешь! Обещала, да ничего не придумала. А теперь, помолчав, сказала мужу:
— На Арбате? А может быть, на Лубянке? Или в Китай-городе? Третьяковы как там построились!
Вера Ивановна загорелась, искала место поближе к Центральным, хотя недавно над покойным батюшкой посмеивалась, зачем он баню за собой оставил, искала, чтобы всех клиентов хлудовских переманить — пусть в меблирашки бани свои заморские переделывают. Возможно, Алексей Николаевич знал, что жена задумала мстить. Он предложил:
— А что, если старые Сандуны сломать и на том месте новые, настоящие бани построить. Чтобы так и назывались — Фирсановские?
Он, конечно, хотел, чтобы они назывались Гонецкие — какой памятник сотворил себе тот придворный актер! Не будь его знаменитых бань, всяк уже давно забыл бы, а так по всей Москве каждый день фамилию Сандунова называют.
Вера Ивановна недолго думала:
— Давай сломаем. Аренду у Бирюкова отберем и сломаем. Только уж ты сам этим занимайся. У меня свои дела.
И Алексей Николаевич занялся. Перво-наперво заказал все книжки про баню. Их ему и доставили прямо в Средниково. Вечерами в овальном зале их читал, а Вера Ивановна — французские романы. Сначала он то и дело подносил ей раскрытую книгу, чтобы посмотрела, что ему особенно понравилось.
— Не мешай, дружок, — говорила она ему. — Как хочешь, так и делай. А денег не жалей.
Гонецкий свалившихся на него денег, конечно, не жалел. И как только прошел медовый месяц, он, подготовив к этому все, укатил за границу. Никогда он не чувствовал себя таким сильным и свободным. Была только одна обязанность — писать в Москву нежные письма. Да только трудно ли это!
Он понимал, что жизнь только начинается, поэтому сразу дал себе слово первый раз долго на чужбине не мотаться — в другой раз не попадешь.
Хорошо бы, конечно, сразу в Париж. Там он вмиг бы нашел занятие по душе, но в Париже с банями делать было нечего. Поэтому он поехал в Берлин. Там было скучно, немцы ложились рано спать, и он написал Вере Ивановне, что в Берлине хоть и строят много бань (называют их бассейнами), однако же их только начали строить и пока еще не видел, интересно ли получится.
В Вене было интересней, и там он задержался дольше. Конечно, только потому, что там бассейны поинтересней. Ах как он жаловался на скуку, на тоску по ненаглядной. Упрекал ее — не следовало ей сразу отправлять его за границу. А все так и выходило, что это Вера Ивановна послала его.
А больше всего приглянулись ему бани в Будапеште. Тоже не бани — бассейны. И не бассейны — дворцы. С высокими, в три этажа, потолками. С голубыми огромными ваннами, в которых вода казалась цветной. В них плавали, как в речке. В Будапеште бани строить дешево — вода бесплатная. Горячая и холодная. Так, горячая, из-под земли и бежит. Ее только остужают.
Бассейны с лавочками. Массажисты приглашают: пожалуйте, разомну. Как выйдешь — горячую простыню разобранную на тебя набрасывают, с ней лежишь на канапе, пока не остынешь, с силами не соберешься. А пар плохой! Не пар — духота. В первую кабину зайдешь — сорок градусов, толкнешь другую дверь — пятьдесят, зайдешь в третью комнату — шестьдесят. А бывает и четвертая — семьдесят. И никто с собой веничка не берет. Полка нет, сидят в духоте и мучаются, думают: скорее бы сбежать. Никакой радости от той жары. Только томленье. Это и есть ирландско-турецкие бани. Только бассейн в них хорош. Хочешь плавать — плавай. Хочешь сидеть — сиди себе в воде на утопленной мраморной скамеечке.
Гонецкий все записывал: интересное — чтобы архитектору не забыть сказать, смешное — чтобы жену позабавить.
Хорошо бы в баню электричество провести. Раз в Будапеште сделали — можно и в Москве завести. «Голубой бассейн, массажисты, скульптуры, мраморные лавки, кабины», — писал в книжицу Гонецкий. Отчеркнул для Веры Ивановны смешное: «Мужчины в передниках». Действительно, в здешних банях голые мужчины ходили в передничках. Чтобы сраму не было. А сзади все как есть открытое, веревочки от передника к мокрому заду прилипли.
А это для самого себя: «Теплые простыни». Хорошо, когда при выходе на человека теплую простыню набрасывают, руками по спине похлопывают. «Канапе, пиво, мозолист», — писал Алексей Николаевич для себя и для архитектора.
Архитектора он нашел еще в Москве — немца Фрейденберга. По его совету и выбрал маршрут путешествия. Как и говорил архитектор, Алексей Николаевич на три денечка съездил в Швейцарию — там красивую мозаичную плитку для пола делают. Как цветочный ковер. И гладкая, да не скользкая — лучше пола для бани не придумаешь. Гонецкий оставил задаток, обещал быстро сообщить, сколько метров понадобится. Там, в Швейцарии, заодно сторговался в цене и на мрамор.
Вернувшись в Москву, Алексей Николаевич оказался без дела: оставалось ждать. Пока архитектор нарисует, пока придут бумаги из полка — он уходил с военной службы. Чтобы хоть чем-нибудь заняться, то и дело наведывался в Сандуны. После Будапешта они показались ему совсем жалкими. Дверь в раздевальню открывалась прямо со двора. Было еще прохладно, в помещение врывался ветер, и разгоряченные старики, боясь простыть, кричали вслед уходящим:
— Тепло не казенное — затворяй!
На окне стояла большая банка с помадой. Мальчишка-банщик совал туда руку и жирно помадил купеческие волосы — считалось шиком, чтобы они после мытья жирно блестели. А в Неглинном проезде и в Сандуновском переулке стояли нищие и лотошники. Нищие караулили богатеев, выходящих из номеров. Изредка приезжал генерал-губернатор. У него был свой день и свой час — никто не занимал в это время самый роскошный номер. Тучный, розовый от жары, он с трудом влезал в экипаж «на дутых» — на тугих и мягких резиновых колесах и передавал лакею гривенник — по копейке — для роздачи нищим. Те почтенно поздравляли: «С легким паром, ваше высокоблагородие». Лотошники норовили продать свой товар самому главному московскому хозяину:
— Ваше высокоблагородие, конфетку с баньки, конфетку.
Здесь издавна торговали особыми банными конфетами — из смеси патоки с мукой, завернутыми в зеленую бумажку с картинкой. Прежде чем тронуться, князь передавал еще копейку, получал горсть конфет — считалось, что банные хорошо холодят и очень пользительны.
Гонецкий решил два входа сделать. В номера — два крыльца. Иной благородный человек постесняется идти сюда с дамой — нищие осрамят и подачки вымогать будут. И никаких лотошников. Водку подавать в кабины. С закуской.
Встретился Петр Федорович Бирюков:
— Что-то зачастили, Алексей Николаевич, к нам, — говорил он, щуря глаз. Неужто проведал, бестия? Ведь никому не говорили. — Не баню ли у супруги арендовать хотите? Не беритесь — канитель одна и разорение.
Петр Федорович вечно жаловался. Ходил в бедняках, а сам все расширял дела. Уже семь домов имел. А у сына Алексея было четыре дома, у Николая три, у Сергея один. Дома покупал худые — на продажу. Видел, как земля в цене росла.
— Что вы, аренду, Петр Федорович! Не дворянское это дело. Да Вера Ивановна мне жена — не хозяйка.
Ожидание кончилось в один день. Пришли бумаги из Петербурга. На конверте стояло: «Поручику Алексею Николаевичу Гонецкому». Произвели, значит! Невелико звание, но все равно не корнет. А днем явился шумливый Фрейденберг, поцеловал ручку Вере Ивановне. Пришел со скатанными в трубку чертежами и объявил ей, словно старой знакомой:
— Все придумаль: эти новий термы Каракаллы! Бани прославлять вас веки.
Вера Ивановна не знала ни слова по-немецки, спросила мужа:
— Чего он лопочет-то?
Перевел сам архитектор, он не обиделся:
— Я сказаль, мы сделяем бань лючше Древний Рим. Вы имейт кароши вкус — я лучи архитектор на бань.
Архитектор с помощниками трудился на совесть, но Гонецкому казалось, что тот тянет. Томясь от ожидания, Алексей Николаевич придумывал себе дела. Ездил советоваться к Пчелину, наведывался в хлудовские бани, мешал архитекторам, заводил знакомства с подрядчиками.
18 июля 1891 года Вера Ивановна подписала заготовленное под диктовку Гонецкого прошение:
«В строительное отделение
Московской городской управы
потомственной почетной гражданки
Веры Ивановны Фирсановой
Прошение
Имею честь покорнейше просить строительное отделение Московской городской управы во владении моим, состоящим Тверской части, 3 участка по Неглинному проезду под № 24, разрешить мне по сломке строений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 произвести постройку строения литер М, в котором первый этаж предполагается под семейные бани, а второй этаж под общие бани, частью под магазины и квартиры.»
В Москве ахнули: ломать крепкие еще дома, восемнадцать строений! Да они еще век простоят!
Прибежал расстроенный Бирюков:
— Матушка, да ты рехнулась! Прогоришь! Поверь старику. Да тут же одного убытку миллион.
Вера Ивановна улыбалась, не слушала:
— Ну уж и прогорю? Миллион говоришь? А у меня еще есть. Да и не мое это дело. Иди к Алексею Николаевичу. Пусть он думает. У меня своих дел хватает.
Гонецкий выслушал, не перебивал. Когда тот выдохся, спросил:
— Все, Петр Федорович? Спасибо.
Бирюков обиделся:
— Думаете, из-за интереса хлопочу? У меня своих бань хватает, домами владею. Подводите Веру Ивановну. Был бы жив Иван Григорьевич, никогда не допустил бы.
Потом подошел с другого боку:
— Вы еще не знаете, сколько с вас денег вытянут и землемер, и городской архитектор, и бранд-майор. Уж я-то знаю. Слыхал небось, как я баню возле Троицких ворот строить собирался?
Алексей Николаевич знал.
— Пустят по ветру, разорят, — вот помянете меня, Алексей Николаевич, да поздно будет. Чего-нибудь придумают — от уж смастерят! — и при одном болоте останетесь. Старые сломаете, новые не поставите.
Самое удивительное было в том, что предсказание Бирюкова стало сбываться. Нанятый в помощники немцу архитектор Иван Павлович Машков пришел из управы с недоброй вестью: городской землемер Трофимов не позволит ставить новые дома на старом месте: план не сходится с крепостным. Мало ли что когда-то Фирсанову удалось захватить городскую землю, теперь как раз время исправить ошибку. Как только сломают — заставят городу отрезки передать.
Вера Ивановна, однако, только улыбнулась:
— Как говорил отец, не так собака кусает, что брешет. Трофимова обойдем: раз говорит заранее, значит, уступит.
Гонецкий, однако, решил бороться. Он послал с нарочным в управу прошение. Хвастаясь перед безродным Трофимовым и гордясь своей богатой супругой-миллионщицей, Гонецкий писал подробно: «Поверенного жены поручика Веры Ивановны Гонецкой поручика Алексея Николаевича Гонецкого прошение».
Хотел было сам поехать в управу, чтобы сняли копию плана, а заодно взглянуть на старинные чертежи — домой их не выдавали, берегли, но решил, что так будет не солидно. Тогда он попросил Пчелина — пусть за красненькую тайно привезут ему домой. И привезли!
Он почему-то волновался, разглядывая зеленоватый, хорошо слежавшийся в изгибе чертеж, на котором устарелым узором литер неведомый, давно сгинувший губернский секретарь Карп Фомичев пояснял, что было, как обстояло с участком в 1802 году — за целых десять лет до войны. Тогда придворному актеру Силе Николаеву, сыну Сандунову, принадлежал у Неглинного канала всего один-единственный нежилой дом об одном этаже. А всего четыре года спустя за придворным актером числилась земля и соседняя, на горочке. На той земле прежде четыре дома стояли, а теперь они все без остатку сломаны…
Алексей Николаевич видел, как задумывал бани его предшественник, как медленно пробирался к ним. Стало понятно, почему Сандунов избрал именно этот участок — здесь были пруды. Три пруда. Тогда не могло быть бани без пруда. А тут стоячая вода в такой близи от мест, которые тогда быстро заселялись — после того, как Неглинку взяли в трубу.
А вот чертежи 1824 года. Уже и переулок возле бань Сандунова стал называться Сандуновским — первый, если идти к Трубной, рядом с садом Воронцова. Теперь в Москве уже никто не говорил: «недалеко от имения Воронцова», забыли про кудрявый графов сад — стали говорить иначе: «около Сандуновских бань». Вот как бани возвеличились! А самого придворного актера и в живых уже не было, память, однако, осталась. Забавно, как артистам бани полюбились — владела теперь Сандунами придворная же актриса Горбунова. Бани, однако, не стали называться Горбуновскими.
Да видно, недолго правила актриса банями. В 1856 году Сандуны давно уже были у Ломакиных. Знатная банная фамилия! У них свои бани были и на Арбате, и на Яузе. Ломакины, рассказывали старики, дело знали — что сам купец, что его супруга. Говорят, всем воротила она сама. В делах все значился почетный гражданин Василий Васильевич Ломакин. То и дело обращался к властям — то дом надобно пристроить, то пруд расширить. Соседние дома, что в горку, к Рождественке, прикупил. Десять деревянных домов сломал. Четыре новых каменных выстроил. А пруды, пруды как раздались — по линеечке, аккуратные! И стала не баня — целый банный город. От Неглинной по обоим переулкам — Сандуновскому и Звонарскому — все выше в гору поднимались.
А вот уже замелькало имя Петра Федоровича Бирюкова — снял в аренду Сандуновские бани. Что стало с Ломакиными? Прогорели? Проигрались? Только вдруг про Ломакиных все забыли. Ах, видать продувная бестия был покойный тестюшка, которого Алексею Николаевичу Гонецкому увидеть, слава богу, не пришлось. Говорят, ходил в зипуне. Миллионщик, а дешевую одежду любил. Губа, однако, не дура: какие дома на Пречистенке купил, а Средниково одно чего стоит! Как же это он спроворил бани захватить? Теперь он точно знал, когда это произошло — в 1869 году. Так или иначе Бирюкова обскакал Иван Григорьевич Фирсанов. И дал ему волю: что хочешь, то и твори — лишь бы аренды больше платил. Бирюков еще три пруда вырыл, однако строить накрепко не торопился — только ремонтировал. Начнешь хоромы возводить — ан, тебе и откажут. Арендатор — не хозяин.
Поручик посмеивался: а все-таки и он провел Бирюкова! До последнего утаивал от него свои планы. Вот уж совсем близко дома ломать, а Бирюков знай себе ремонтирует, деньги изводит, а думает, что хозяина обманывает. Сына в дело ввел Александра Петровича, от имени батюшки прошения строчит.
Алексей Николаевич вдруг нахмурился: пошли прошения того же Бирюкова, который стал действовать уже не именем Фирсанова, а Ворониной…
Неприятно все же было снова подумать, что супруга его, Вера Ивановна, была замужем за старым полковником Ворониным. Тот муж был много старше жены, а Гонецкий, наоборот, много моложе ее. Именем почетной гражданки Ворониной (батюшка расщедрился — поднес городу дар, и стала его фамилия потомственно почетной) арендатор просил дозволения укреплять расшатавшиеся лестницы, исправлять обветшалые фасады, менять стропила.
Другие дела управы, с наклеенными марками, пронумерованные, с подробными описями смягчили Алексея Николаевича. Вера Ивановна, видно, не дорожила новой своей фамилией, старалась ее скинуть. Уже скоро, в 1886 году, стала снова именовать себя Фирсановой. Уж не вскоре ли после того, как она увидала в первый раз статного корнета в красных рейтузах и голубом мундире с серебряными шнурками? Алексей Николаевич знал, что нравится дамам. И он тоже не продешевил себя: какую богачку взял! Ну и что же, что постарше, чем он, да зато с такой не стыдно на люди выйти — стройна, по-французски говорит, с музыкантами дружит, в любом разговоре себя не уронит.
Алексей Николаевич рвался к делу. Его сердила медлительность архитекторов и особенно проволочки, которые на каждом шагу чинила управа. Хотя архитекторы уже заканчивали свое дело, разрешение на постройку новых Сандуновских бань все не выдавали. Летом было подано прошение, уже началась зима, а ответа все не слали. А в последний день года — 31 декабря — прибыл отказ.
Гонецкий не верил своим глазам, побежал взбешенный к жене:
— Да как они смеют — земля наша, дома наши. Захотим — не будем ломать, захотим — построим новые. Какое им дело до всего?
Вера Ивановна, однако, не сердилась: дела всегда так делаются. Если всем будут все разрешать — с чего чиновники будут жить? С жалованья, что ли? Надо дать…
Горячий Алексей Николаевич готов был ехать в Петербург. Там он живо сыщет управу на эту управу. Пойдет к дядьке — генералу, у того небось кто-нибудь влиятельный в кармане: командующий все-таки.
Хотя Вера Ивановна тогда отговорила его в Петербург ехать, потом все-таки пришлось: никак нельзя было понять, кому давать взятку. В управе как будто бы считали, что новые Сандуновские бани, с семейными нумерами, общими отделениями, магазинами и квартирами, украсят Неглинную и будут содействовать городскому благоустройству. Делопроизводитель Москатиньев об этом так и написал, готовя ответ Московского городского головы, и оставил место для подписи Рукавишникова. Городской голова вдруг заупрямился. На шикарном бланке с печатным титулом — глянцевитая плотная бумага, в углу уже с исходящим номером и датой начертал по диагонали дерзко и сердито: «При этом считаю необходимым присовокупить, что со всей стороны я нахожу весьма желательным вовсе закрыть эти бани в видах общественного благоустройства и особенно ввиду опасности в пожарном отношении для здания Государственного банка, возводимого рядом с Сандуновскими банями».
— Батюшки мои! — кипятился Гонецкий, знавший о бумаге Москатиньева. — Один считает новые бани полезными в видах общественного благоустройства, а другой в тех же видах признает бани весьма нежелательными.
Вера Ивановна, однако, спокойно сказала:
— Вот городскому голове и дай.
— Ни за что! — жалел не свои деньги Гонецкий. — Ты сама посуди, где же тут логика. Баня каменная, там будут течь реки воды — и она опасна в пожарном отношении… Не водой ли огонь заливают? Они потому и выбрали для банка место рядом с банями, что на них вся надежда — уж тут-то загасят. И еще: банк будут строить рядом с банями, а не бани рядом с банком. Пока там воронцовские липы не спилены, а Сандуны стоят. Давно стоят. А новые в сто раз безопаснее будут.
Выслушав, Вера Ивановна спокойно и внятно повторила: «Дай голове. Видать, Хлудовы хорошо заплатили».
Вероятно, действительно заплатили. В сохранившихся архивах о взятке, конечно, нет ни слова. Но сохранились черновые бумаги, с зачеркиваниями, со вставками поверх них — видно, как готовился отрицательный ответ. Сначала среди аргументов против строительства было и то, что бани в здешних местах необязательны, поскольку поблизости имеется заведение Хлудовых — «на весьма небольшом протяжении Неглинного проезда». Потом этот довод был вытравлен: в самом деле, Хлудовы построили свои Центральные год назад — не запрещать же из-за этого перестройку старинных Сандуновских бань?
А в Москве не забыли, как покойный Хлудов похвалялся:
— Сандуновским теперь конец! Пока до них доедешь, в Центральных уже и попаришься. Хочешь — с Неглинной заходи, хочешь — с Театрального проезда. На своих же дровах прогорит корнетова жена.
Гонецкий, однако, со взяткой не спешил, и бумаги медленно переходили из одного присутствия в другое. Что только не делал Алексей Николаевич: к обер-полицмейстеру наведался, даже с губернатором сумел потолковать.
Губернатор потребовал заключение строительного отделения Московского губернского правления — там не противились намерению Гонецкого. Напротив, там полагали, что «правильное рациональное устройство означенных бань не может повредить городскому благоустройству, ни грозить опасностью пожара зданию конторы Государственного банка, так как бани значительно удалены от этого здания и не опаснее всякого другого каменного дома. При этом следует еще заметить, что во владении Фирсановой бани существуют уже очень давно, и Государственный банк, предпринимая постройку, не придавал соседству бань никакого значения, ибо в противном случае он, конечно, не приступил бы к постройке на настоящем месте». Но тогда вдруг пришел запрет из Петербурга — от Министерства финансов. Там были против того, чтобы рядом со строящимся банком стояли угрожающие им пожаром бани.
— Ну и ладно, — увещевала мужа Вера Ивановна. — Построим что-нибудь еще. Все равно бани рядом с банком и останутся: не заставят же нас сносить? А предпишут — спросим столько, что пожалеют.
Гонецкий, однако, уступать не хотел. Он написал в Петербург министру внутренних дел. Ответ, однако, пришел от вице-губернатора: дескать, быть баням или не быть — дело не министерское. Разрешение выдает городская дума по согласию с обер-полицмейстером, и потому «для изъятия ходатайства Фирсановой из общего порядка рассмотрения и разрешения подобного рода дел не представляется достаточных оснований».
Городской голова с удовольствием написал поперек бумаги, жирно и крупно: «Прекратить». И писарь управы повторил: «Дело прекращено», сшил дратвой бумаги и отправил их все вместе в архив.
Вот тогда Вера Ивановна согласилась поехать в Петербург. Отправились вдвоем.
Алексей Николаевич вошел в поезд радостный и деятельный. Ненадолго он стал главою — хорошо знал Петербург, говорил о нем много, без конца вспоминал. Однако говорил не обо всем, что вспоминал. Через час, после того как отправились, Вера Ивановна, глядя в окно, перебила:
— Посмотри, вот здесь, за лесом Средниково. Ровно три версты.
— А почему бы не сделать так, чтобы у нас поезда останавливались? Собственную станцию сделать! — загорелся деятельный Гонецкий.
— Будет тебе, мы и с баней не справились.
Алексей Николаевич ничего не сказал — решил сделать жене сюрприз. Непременно сделает!
В Петербурге они вечерами ходили в театры, днем Алексей Николаевич без конца разъезжал по делам. А Вера Ивановна не выходила из гостиницы — было сыро, и она читала, раскладывала пасьянс.
Домой в Москву Алексей Николаевич вернулся уверенным в том, что все непременно будет хорошо. Не сразу, конечно. А пока начал изводить думу всяческими претензиями. Взялся сам, без подрядчика, вести банные дела, раз уже Бирюкову было отказано. «Поверенный жены поручика Веры Ивановны Гонецкой Алексей Николаевич Гонецкий» то и дело направлял с посыльным прошения: разрешить построить каменные столбы под баки, укрепить балки и ось, на которой вращалась система черпаков — тогда собственного водопровода не было. Потом потребовал позволения поставить забор, выходящий на Неглинную и Звонарский переулок.
Алексею Николаевичу забор тот и не нужен был, но из архивных дел, которые часто приносил из управы Пчелин, Гонецкий знал, что покойный тесть Иван Григорьевич Фирсанов, которого он не имел чести знать, отхватил когда-то незаконно порядочно саженей от улицы и переулка, да сделал это неаккуратно. Сейчас была самая пора под предлогом забора выпрямить черту, а потом быстренько застроить — поди потом, разбирайся.
Но в управе подвох учуяли: «Разрешить ремонтировать забор только в том случае, если ограда будет идти по старой, законной линии. Да вдобавок владелица участка должна уступить часть земли городу — согласно плана урегулирования, Высочайше утвержденного 11 мая 1889 года». То ссылались на первый план перестройки, а вернее, распрямления Москвы, который подписал самолично царь.
Два события придали Гонецкому еще больше усердия.
Однажды он получил из Петербурга долгожданный большой пакет. В нем лежала не сложенная даже пополам глянцевитая бумага, на которой только что вошедшим в моду ремингтоном было отпечатано ясными литерами короткое сообщение: начальник Николаевской железной дороги тайный советник П. П. Михальцев настоящим извещал, что ходатайствование об открытии промежуточной платформы между станцией Крюково и постом Сходня — на 583-й версте от Санкт-Петербурга — удовлетворено. Платформа, отстоящая от Крюкова в 5,1 версте и от поста Сходня в 2,8 версты, названа платформой Фирсановская.
То был действительно сюрприз — Вера Ивановна Фирсанова-Гонецкая такого и ждать не могла от своего молодого, родовитого, но нищего супруга. Она заплатила ему за любезность истинно по-царски: подарила Сандуны. И не поскупилась на лишних двенадцать тысяч рублей за купчую — сделала вид, что продала. Пусть люди думают, что она взяла человека с деньгами — не купила себе офицерика, а вышла замуж по любви, взяла человека состоятельного.
К нотариусу она привела в свидетели известных людей: губернского секретаря Михаила Александровича Пчелина, дворянина Александра Васильевича Стаховского — пусть всей Москве растрезвонят о том, что Вера Ивановна «продала свободные от залога и запрещения каменные дом и бани с жилыми и нежилыми строениями, с устройствами по водопроводу с принадлежащими ему линиями, трубами и прочими принадлежностями и с землею». А за то проданное имение взяла Гонецкая с Гонецкого триста тысяч рублей. Пошлины и нотариальные удержки по той купчей заплатил (сами видите — заплатил) покупщик. Оба и подписались: «По этой купчей деньги сполна получила (сами видите — получила) и купчую мужу моему А. Н. Гонецкому выдала жена поручика Вера Ивановна Гонецкая».
Бывшему офицеру некуда было после этого девать исторгнутые силы. Покуда разрешение на постройку бань не пришло, он продолжал с новой силой мучить-изводить управу «по делу о заборе».
Подал прошение: дескать, согласен я кое-что уступить городу из своего владения по расширению Звонарского переулка (попробуй не согласись — Высочайше утвержденный план), но за 278 рублей 62 копейки квадратную сажень. Гонецкий знал, почем нынче земля, и высчитал с точностью до копеечки.
Тяжба началась великая. Новые планы, подчищенные ловким купчишкой Фирсановым, управа и видеть не желала, сверялась со старыми. Выходило, что Гонецкий желал получить деньги за землю, которая ему и не принадлежала, хотя и была издавна огорожена забором. Тем забором взято лишку почти 40 саженей, а если точнее — 39,38. Гонецкий нанял ловких юристов. Обидевшись, он решил уступить кое-что из своего владения, но только 300 рублей за квадратную сажень. Цену он заломил безбожную — в управе так и ахнули. По расценкам Московского кредитного общества, земля расценивалась в 25 рублей за квадратную сажень! Ах, то по расценкам — так то, может, на Рогожской заставе или на какой-нибудь другой городской окраине, а не на его, Гонецкого, владении на Неглинном проезде! Заносчивого владельца пытались урезонить: в управе всего 25 тысяч рублей на покупку земли для «урегулирования, высочайше утвержденного» — если отдадут одному ему 12 тысяч, так что же останется?..
Неизвестно, сколько времени мстил бы Гонецкий управе, но вдруг подоспело долгожданное разрешение.
Городская управа рада была освободиться от привязавшегося мытаря и, вдобавок побуждаемая кем-то влиятельным из Петербурга и самим губернатором, утвердила 23 февраля 1894 года проект на постройку новых Сандуновских бань. Уступил и Гонецкий и управа: сошлись на 32 рублях 50 копейках за сажень, а всего тех саженей Гонецкий продавал одиннадцать, но уступил все сорок, если точнее — 39,38.
Сам губернатор утверждал проект, подписывал каждый лист. Архитекторы славно постарались — дом на бумаге выглядел празднично. На чертеже был не только фасад дома — нарисовали конный экипаж, благородных господ, которые глядят на вывески. Весь нижний этаж отдавался магазинам: «Европейский базар», «Предметы роскоши», «Европейский», «Прогресс» и «Картины, эстампы», «Бронза и мельхиор». Над аркой — крупные письмена: «Торговые бани. Ванны». А под надписью этой — огромный фонтан.
Архитектор вывел каждую деталь на фасаде: парные колонны вдоль каждого окна на двух нижних этажах, орнамент над окнами, на куполе, скульптуры над карнизом, художественная решетка над ними вдоль всего фасада. Картинки были столь привлекательны, что губернатор, говорят, долго ими любовался. Спросил:
— В самом деле, а почему мы препятствуем прогрессу? Непонятно мне, почему мы заставили так долго ждать госпожу Фирсанову?
Его мягко, с легкой иронией поправили:
— Господина Гонецкого.
— Да-да, — усмехнулся губернатор, — я хотел сказать — господина Гонецкого.
Подписываясь, губернатор собственноручно, вместо писаря, сам поставил дату: 18 марта 1894 года. Таким образом, окончательно было дозволено, по сломке старых домов, всех до одного, возвести каменное трехэтажное строение для магазинов, меблированных комнат и квартир, каменное двухэтажное, частью трехэтажное для нумерных бань и для жилья служащих при бане, с тремя крытыми световыми двориками, каменное двухэтажное для общих торговых бань с резервуарами для воды в подвале, каменного здания для бассейна, покрытого стеклом, других зданий для электростанции, нефтяных баков, паровых котлов, еще одного бассейна в металлической остекленной пристройке и прочее и прочее.
Как только началась весна, стали валить Сандуны. По Неглинной ветер гнал оранжевую кирпичную пыль. Дома ломали не жалеючи, годных кирпичей не выковыривали — хозяин решил строить все из нового.
Старики останавливались, глядя, как строители крушат, низвергают еще крепкие строения. Вздыхали: у многих воспоминания были связаны с этими домами. Притормаживали экипажи, с кареты виднее было, что творится за дощатым забором. Немножко стояли, глядели. Жалели во всей Москве: там и Пушкин, говорят, в свое время бывал. Да и кто там не бывал!
А Гонецкий не жалел. Поторапливал подрядчика: вали скорее, привози кирпич. Съездил к управляющему московскими водопроводами Зимину, положил на стол без расписки пачку денег — только помоги, главное, в бане водопровод, собственный Сандуновский водопровод.
…Старых Сандунов скоро не стало, а с лета быстро начали расти Сандуны новые.
ЦАРЬ-БАНИ
Как ни торопил Гонецкий подрядчиков, открыть бани в 1895 году не удалось, хотя каменщики и вывели кирпичом на фасаде эту дату римскими письменами МДСССХСV.
А в Москве ждали новых Сандунов, как праздника. Даже в Петербурге о них говорили. В конце ноября тамошний строительный журнал сообщал: «В Москве, на Неглинном проезде, близится к концу сооружение колоссального здания, предназначенного для торговых бань и других торгово-промышленных учреждений. Постройка этого выдающегося здания началась летом прошлого года и в настоящее время почти уже доведена до конца…»
Номер журнала показал Гонецкому архитектор Калугин, который заменил Фрейденберга. Всем говорили, что немец заболел, поехал на воды, но не было секретом, что архитектор и заказчик рассорились. Фрейденберг жаловался: дескать, несносный человек, сегодня говорит одно, а завтра спрашивает другое. Он еще покажет всем, на что способен: скоро выйдет архитектору такой заказ, такой заказ!.. Только лучшие мастера будут удостоены тем же…
Калугин был послушнее. Не противился, когда хозяин, ради ускорения, приказывал не делать то, что потребовало бы лишнего времени. Калугин не пугал его управой, которая не допустит отступления от проекта.
На это Гонецкий дал однажды свое объяснение: «Дом мой — что хочу, то и ворочу». И все похвалы Кулагин относил на свой счет. Ему нравилось, что писали о новых Сандунах в Петербурге. Словно бы это был проект его, а не предшественника: «Главный фасад представляет из себя очень красивый вид. Это громадное трехэтажное выштукатуренное здание с крупными окнами и тремя красиво скомпонованными куполами. Средний купол расположен над главным вестибюлем, портал вестибюля украшен двумя большими, художественной работы барельефами, изображающими двух коней с женскими фигурами, выпрыгивающими из морской пены…»
Репортер немного наврал. «Выпрыгивающие женщины» были задуманы Фрейденбергом, но их не оказалось, и Гонецкий согласился не на барельефы, а на скульптуры: ангелы, женщины, купидоны. И купол был не над вестибюлем. Репортер писал, глядя на чертежи. Впрочем, и там купол приходился просто над аркой, что вела в арабский дворик. Один бог знает, откуда репортер взял такие сведения.
Но ни Гонецкий, ни Калугин не обиделись на него: пусть пишет. Чем больше будут писать о банях, тем лучше. И все-таки молва была проворнее любых журналов и газет. Без всяких объявлений 14 февраля 1896 года, когда только на пробу затопили котлы, пустили по трубам горячую воду, зажгли повсюду электрический свет, к Сандунам сбежалось народу видимо-невидимо. С баулами, кошелками — видите ли, мыться пришли. Праздничный, взволнованный Алексей Николаевич приказал конторщику:
— Пусть идут!
И те, кто пришел сюда раньше извещения, оказались в выигрыше: помылись в новой бане бесплатно. Одетые плохо сберегли пятак: вольготно плескались даровой водой в пятикопеечном отделении. Тех, кто был одет получше, пустили в десятикопеечное. А знатных господ, в богатых шубах, пригласили в полтинничное.
В этот день в Москве, как и всегда, было много новостей. В музее «Боцва», что в пассаже Попова на Кузнецком мосту, показывали небывалое величайшее чудо природы — мальчика-великана тринадцати лет, весом в десять пудов. Повсюду обсуждали вчерашнее происшествие в Большом театре. Там давали «Демона», пел популярный артист Хохлов. Один из зрителей, студент университета Василий Григорьев, чтобы более показать свое удовлетворение артисту, стал, аплодируя, одной ногой на стул, другой на барьер. Да свалился… с третьего яруса! Чуть не попал в даму, которая только что поднялась, чтобы поближе разглядеть певца, и студент напрочь раздавил ее кресло.
А в квартиру мещанки Купыриной кто-то в сени подбросил младенца мальчика нескольких дней от роду. Купырина, разглядев находку и разжалобившись, пожелала взять его к себе на воспитание.
А крестьянка, Наталья Кириллова, 25 лет, пришла проведать свою родственницу Михайлову, в доме Попова на Проточном переулке. Уходя, она ловко накинула шубу Михайловой, да не в удачное время — на улице повстречалась с мужем Михайловой. Тот сразу признал шубу жены и отвел воровку в участок.
А в дом купца Изюмова на Калужской улице воры пролезли в каретный сарай и сняли с саней полость. А на Петровке, в магазине модных шляп мадам Шалье, случился пожар. Весь магазин выгорел.
А в слободке Хохловка штабс-капитана Цветаева раздели. Возвращался двором Кулакова из гостей, его окружили обитатели Хитрова рынка, сорвали шапку и пальто сняли. А в нем, в рукаве, было зашито восемьдесят пять рублей.
Но самой главной новостью было все-таки то, что Сандуновские бани опять открылись и стали лучше прежнего. Да что лучше — и сравнить нельзя, так хороши.
Позднее всех новость узнала Вера Ивановна. Очень она рассердилась! Не на то, что муж открыл бани без совета. Все-таки она немножко стыдилась: вот строит дом, где мужчины будут раздеваться догола. И еще того, что там будут номера, в которых первым делом купцы бог знает как безобразничать станут. Вера Ивановна укоряла мужа, что бани открыли не по-людски, без молебна. Только что купцы Эйнем отслужили молебен на новой фабрике английского печенья — хоть и не православные, а сделали все как надо. И так каждый — кто построит дом, кто магазин. Ну как же без молебна — не случилось бы потом чего.
Молебен? Алексей Николаевич брался сделать все за два дня. И сделал!
Веру Ивановну потом одолевали сомнения: а надо ли святить баню? И может ли она не пойти туда?
Обычно на освящение ходят всей семьей — на счастье. Пришлось пойти и ей, и дочери ее и полковника Воронина — Зое Ворониной. Дочь с интересом глядела вокруг, а матери было неловко от того, что служили молебствие в мужской бане, хотя все пришедшие были, конечно, одеты. В готическом зале полтинничного отделения расположился хор. Пригласили чудовских певчих. Священник сказал все, что надо, а хор, что надо, пропел. Потом окропил святой водой раздевальню, мыльню и не жаркую пока еще парилку. Пошли в женские, тридцатикопеечные, в отделение для простого люда, на электростанцию. Вернулись в мужское полтинничное, там в буфетной стояло угощение.
Вера Ивановна с дочерью, бросив приглашенных, уехали на Пречистенку, а муж остался. Вернулся счастливый, красный от пара и вина — и помылся; и выпил:
— Ну, Вера, что за бани мы с тобой построили, — хвастался он. — Что там Хлудовские — туда и ходить не станут. Со мною и Мешков мылся, и братья Смирновы. Очень хвалили, поздравляли.
Вера Ивановна знала братьев-водочников — уже те если говорят, то правду. А Мешков старовер — поди отгадай, что у него на уме?
Новые Сандуны хвалили все. Народ повалил туда, а первым делом купцы. Те ходили, конечно, в полтинничное, а тайком и в номера.
Многие не знали, что третий этаж с мелкими окнами на Неглинный проезд и есть те самые маленькие баньки, где каждый за собой дверь сам запирает. И краны там есть, и ванна, и душ, и маленькая парная даже. Зеркала, мягкие диваны, устланные только что выстиранными гладко глаженными простынями. Хочешь — мойся один, а хочешь — семейство приводи или кого там другого. Народ здесь нелюбопытный — даже не заметят, с кем ты там пришел. Хотите — трите друг друга мочалкой сами, а хочешь — молодца покличь. Уж как почистит!
Только все по порядку. То трехэтажное строение, что фасадом на Неглинку, а боковыми крылами в Звонарский и Сандуновский переулки, почти и не баня. Первый этаж — магазины. Не «Европейский базар» и не «Прогресс», как задумано было, но все равно знаменитые. Один Юлий Генрих Циммерман чего стоит! Рояли, пианино, скрипки, виолончели — всякая там музыка. Даже музыкант, наверное, в ней не разберется. Скажем, ну что такое симфонионы, которые на всю Россию Юлий Генрих Циммерман рекламировал. Поди догадайся, что шкатулка особая, играющая, из Германии от соотечественников хозяином полученная. И по всей России отсюда ноты пошли, Бетховен и песни Вари Паниной — и всюду «Юлий Генрих Циммерман, что в доме Гонецкого на Неглинном проезде». Кто это сообразит, что музыка из бань Сандуновских вышла!
Второй этаж весь в меблированных квартирах. Поскромнее — с переулков, побогаче — с Неглинной. Ах как потом пригодились они — вскоре, в мае, но об этом разговор особый, щекотливый.
А в высоких — в два этажа — воротах земля цветной квадратной плиткой вымощена. Сумрачно в них, а свет идет издалека — за воротами восточное царство начинается. Так и называется — арабский дворик. От неба стеклянная крыша отделяет. Вход через три арки, узорчатые, как в мечети, на тонкие колонны опираются, в темной стене у самого верха — узкие оконца, затейливые и несветлые, с цветными стеклами, как, наверное, в гареме. У крылечка второго дома скульптура мраморная: женщина обнаженная руки вскинула, у ног ее два купидона резвятся. Не Венера ли?
Тут потом часто и про Венеру, и про гарем толковали, оттого что второй дом номерные бани и есть.
Хитро все здесь придумано.
За вестибюлем от главной лестницы идут два коридора. Еще по одной двери — с морозным рисунчатым стеклом. Очень это хорошо — и светло, и не видно, кто там из публики прошел, сделано так неспроста, поскольку «ожидание в непосредственной близости номеров вновь пришедшей публике представляется неудобным и стеснительным». Так говорилось в рекламном проспекте. Немножко туманно, однако для кого надо, оченно ясно…
Одни номера просторны и обставлены роскошно, как царские хоромы, и еще даже пышнее. Но и стоят они так, что не всякий раскошелится, — пять рублей! Ровно столько получал за целый месяц каменщик, что эти бани строил. Таких три номера, а в каждом пять комнат. Раздевальня, гостиная, будуар, баня и парильни. Номера попроще стоили шестьдесят копеек. Но это уже самые простые.
Для мужчин было общее полтинничное отделение — вход туда действительно полтинник стоил. Это уже в третьем доме. В полтинничное входили со Звонарского переулка. Сюда шли охотнее всего компаниями и отдельно, купцы и артисты знаменитые. Здесь иной раз полдня проводили — оттого что есть чем заняться.
Здесь самый нарядный вестибюль. Ковер красный до самой кассы уложен, а касса, как теремок — деревянный, резной. По бокам две бронзовые статуи — мужчины обнаженные держат в руках электрическую гирлянду и мужчинам же светят, чтобы шли — не спотыкались на второй этаж.
А над головой — своды расписные, по стенам картины разрисованы: застенчивые маркизы одиноко по саду роскошному гуляют. Что там за деревья, что там за цветы! И мосточки через пруды, с оградой. Не видно, где маркизина рисованная ограда кончается, а где начинается настоящая металлическая, под перилами, что вверх ведут: узор один. А на втором этаже — золоченые своды, пестрые цветы пылают, по бокам кушеточки стоят, с бахромой, гнутые. «Вестибюль отделан в стиле рококо», — сообщалось в том же проспекте.
Здесь рококо соседствовало с готикой. Открой любую из золоченых дверей и сразу попадешь в сумрачный зал. Черного дуба потолок (или под черный мореный дуб?), стропила резные напоказ, диваны длинные, высокие и двухсторонние, повсюду на спинках и боковичках стрельчатые готические арки нехотя вверх поднимаются.
В строгом готическом зале мужчины до основания разоблачались. Одни на длинных мягких двухсторонних диванах — по два человека в ряд, другие в черного дерева кабинках, также с диванами и с занавесочками от постороннего взгляда. А вдали большая картина. Из мозаики молодой художник Фролов неаполитанский берег изобразил. Рядом — икона. Лампадка денно и нощно светится. Налево над кабинами окна узкие, стрельчатые, разноцветным стеклом набранные. Справа — камин. Хотя и нет в нем нужды — тепло и без него, — с утра до вечера лениво пылает: красиво все-таки…
При готической раздевалке — читальня в стиле ренессанс. Только с книжками там, конечно, не сидели, конспектов не писали. А потом — желтая гостиная — восточный зал. На цветных стенах из цветной майолики письмена уложены. Говорят, знаки арабские, а слова турецкие читать надо справа налево. Означает: «С легким паром вас!» Только за все годы так и не нашлось среди публики турка, чтобы сам прочел: банщики объясняли, всем рассказывали.
Восточный зал, естественно, для некурящих. Две арки с кружевным верхом ведут в него. Потолок и карниз в узорах — места не оставлено без пестрого узора. Диваны там есть. А хочешь — на полу сиди, ковер подостлан. Говорят, на Востоке так и сидят, под себя ноги подбирают. Только за все годы не нашлось человека, чтобы захотел не на диване — на полу на своих ногах сидеть. Банщики все объясняли, всем рассказывали.
Из обоих залов — готического и восточного все одинаково голые шли в мыльню. Просторно, каменные скамейки. На возвышении, как на трибуне, три ванны. Против них — шесть душей. Один бьет сильно, не жалеючи, — для здоровых людей. Второй чуть слабее — для менее здоровых. А шестой и просто едва стекал, мягко и ласково.
Потом другая мыльня, поменьше, но в ней жарче. Там два душа Шарко. Ах и славно бьют со всех сторон, сразу веселее становится — щекотно, смеяться хочется! Из этой мыльни — дверь в сухую баню. Это и есть ирландская. Жарко, как в Африке, — стой и потей, а хочешь, на деревянную лавку садись — не спечешься. Только двигайся осторожно — не то все внутренности, если глубоко дышать станешь, начисто сожжешь. И что хорошего? Правда, похудеешь сразу, но это к чему? Нет ничего лучше, говорят, русской бани, а по-народному — парильни! Она справа от мыльни. В Сандунах парильная лучше, чем повсюду. Зеленым фарфором стены сплошь крыты, на полок идти по ступеням — и не деревянные, да не жаркие. Не оскользнешься — шершавые.
А всего лучше бассейн. Как в римских банях! Оттого и зал называется помпейским.
Зал в помпейском стиле, а стены из мрамора норвежского — потому что, как говорил всем Гонецкий, норвежский не в пример итальянскому особым блеском отличается. Окон нет, а светло, как на улице: крыша сплошь стеклянная, солнце сквозь него видать. В бассейне налито двенадцать тысяч ведер воды. Конечно, не ведрами подавали — вода теплая не стоит, все время вливается и выливается, как в той задачке по арифметике. А куда выливается — никто не спрашивал. Но если спросили бы — не сказали бы, потому что секрет великий. Даже банщики друг другу про эту тайну хозяйскую не говорили. Но о ней потом.
Сначала о том, что сам бассейн со всех сторон и по дну английским фарфором уложен. Чисто и гладко. А мыльня, от которой двери в помпейский зал ведут, и в русскую горячую, и в ирландскую сухую скамеечками каменными на гнутых ножках уставлена. Повсюду краны желтым блеском мигают. То бабы, что в мужском отделении на молебствии были, по всему городу глупость разнесли. Будто здесь краны золотые! «Слышь, кума, из чистого золота вода текеть!» Так неправда: те краны бронзовые, только их каждый божий день толченым кирпичом натирают. И моются тут не в серебряных тазах — чего бабы не наплетут: мельхиоровых. Оттого и блестят Мельхиоровые — как ножи и вилки, похуже серебряных, но блестят лучше.
А баня для женщин не так хороша. Богатые москвички ходили в тридцатикопеечные. В том же третьем доме, чуть на горочку. Там прихожая, затем комната просторная, по всей длине загородкой поделенная. Из амаранта она и агата (москвичи и слов таких не слыхивали!), а поставлена она для того, чтобы холодный воздух с воли далеко не шел. За ней раздевальня — мягкие диваны. Ковер, портьеры, зеркала — говорят, в стиле Людовика XIV, короля французского. А если и не в том стиле, то поди докажи. Справа арка, на ней лепнина — там зал в стиле другого короля, Людовика XVI. Здесь отдыхают после бани, пот сушат, разговаривают промеж собой. Чего тут не посидеть — мягкие кресла, канапе, ковры, зеркала. А когда платочком обвеваешься, голову вверх закидываешь — и видишь на потолке картину красивую. Настоящий художник рисовал со смешной фамилией — Томашка.
От коридора дверь в мыльню. Для женщин поставлены мраморные скамейки. Бассейн здесь поменьше, хоть тоже фарфором отделан. И еще две комнаты — парильня. Ох как иные бабы стегают себя, не жалея!.. Другая — ванная. Две рядком стоят. Многие люди в жизни ванную не видали, заваливались туда надолго — не выгонишь. Сами рассказывали, что ненароком задремывали в воде, сны хорошие снились. А просыпались только оттого, что озябли.
Люди победнее ходили в десятикопеечное отделение, а самая голь — в пятикопеечное. И все в том же третьем здании. Конечно, там похуже. Лавки и проще и шире — чтобы больше людей могло усесться. В десятикопеечных зато кранов много, а в пятачковом для мужчин — бассейн! Отчего же это в самом дешевом, да вдруг такая роскошь? Отвечали: из-за того, что он на открытом воздухе, во дворике, между глухих каменных стен сделан.
Только это еще не все: никто не знал, никто не подозревал, что вода сюда приходила не совсем чистая — та, в которой богатые люди в полтинничном отделении уже отплескались. Не пропадать же ей совсем, пока она не остынет! Только иногда в тот открытый бассейн вдруг лист березовый приплывет. Откуда бы? Или мочалка вдруг откуда ни возьмись вынырнет. Люди из простонародного отделения удивлялись, да поди догадайся, что ты в нечистой воде полощешься.
Умели хранить хозяйские секреты те банщики, что в самом выгодном месте работали. Туда хотел всякий попасть — услуживать богатым людям, но брали только самых-самых проворных. Щедрые чаевые в полтинничном давали! А в номерах еще больше — потому что там секреты у публики иногда такие, что собственной жене не расскажешь.
Гонецкий постарался, чтобы вся Москва о чудесах новых Сандунов узнала. Нанятым репортерам он советовал побольше писать о грязи в других банях (и то была сущая правда) и напирать на то, как чисты и непорочны Сандуны. Загрязнение их и вообще невозможно, поскольку все в них можно мыть и стирать. Стены фарфоровые, полы лещадные, с уклоном, вода по ним и бежит, так и бежит! И воздух хорош — где это видано: вентиляция. Вентиляция! Это новое слово не всем было понятно. А копоти нет — откуда бы ей здесь взяться; дрова не жгут — кругом пар и электричество. Люди, правда, пуще всего боялись не столько бьющего пара, а электричества, о котором тогда тоже не все слыхали, но Гонецкий велел писать понятно, чтобы узнала даже неграмотная купчиха: паровые котлы помещены в подвалы, под каменными сводами — хоть и взорвется, кирпичи не пробьют. Да и не взорвется. Отверстие сделано, как только соберется пару чуть больше, чем надобно, он сам собой весь выйдет. Так вот придумали… И труб, по которым течет горячая вода, бояться не следует: железные, совершенно безопасные. Но зато от труб этих всюду тепло — даже утром, когда придешь. Они и полы нагревают — приятно босым ходить. Ах, не видал того Петр Федорович Бирюков, король грязных московских бань — не дожил… Глазам своим не поверил бы.
Хозяин особо гордился водою Сандуновских бань. Отсюда выливается целая река — двадцать тысяч ведер в час! Вылить-то просто — рядом под землею Неглинка, а вот как ее добыть, если так много ее надобно? Московский водопровод не мог дать — весь город потребляет шестьдесят тысяч ведер, и ее вечно не хватает. Гонецкий построил свой водопровод! И денег на него не жалел. Мог бы в самом ближнем месте черпать воду из Москвы-реки, но она уже в ту пору грязным-грязна была, в нее вливались мутные стоки. Весной она даже становилась бурой. По совету главного московского водопроводчика Зимина Гонецкий решил брать воду для бань у Бабьегородской плотины. Там река шире — значит, вода быстрее отстаивается. А когда вода падает с плотины, она воздухом насыщается. А главное, все стоки остались ниже — и тот, что вливается от Сивцева Вражка и Неглинки, и, конечно, Яуза — все ниже впадают.
И уж как прозрачна та вода, что потекла от Бабьегородской плотины в бани, но все равно ее хорошенько очистили; особыми фильтрами, привезенными из-за границы, — пластинчатыми, какой-то системы Фишера и Петерса. Никто в Москве не знал толку в фильтрах, а Фишера и Питерса и слыхом не слышали, но поняли, что вещь эта заграничная, а если заграничная, то уж, наверно, хорошая. Сам профессор Ф. Ф. Эрисман из императорского Московского университета пробу сделал. Так и сказал: нет той воды лучше, чем в Сандунах, — хочешь мойся, а хочешь пей. Говорят, при людях и пил. Это банную-то воду!
Люди ходили по Москве и глядели себе под ноги — под улицей отдельный — Сандуновский — водопровод, под землей мимо храма Христа Спасителя, через Пречистенские ворота, под Волхонкой, Моховой, Охотным рядом, Театральной площадью, под тротуаром возле Малого театра, а там и до бани рукой подать. Сколько ж это труб надобно для водопровода этого! А Гонецкий еще и пожарные краны на земле поднял, через каждые пятьдесят саженей. Вот вы, дескать, пожару от Сандунов боялись для банка, так воды получайте, сколько вашей душе угодно. Шесть миллионов ведер по тем трубам в месяц протекает!
Еще больше разговору было в Москве про собственную электрическую станцию Гонецкого. Он приказал повесить в банях тысячу (тысячу!) лампочек накаливания, по шестнадцать (шестнадцать!) свечей каждая, да еще восемь фонарей поставить во дворе. Люди быстренько перемножали — в Москве считать умели! Получалось 16 тысяч без тех фонарей с вольтовой дугой. Богатый человек! Небось каждый день по две свечи и сгорело бы, вот тебе и 32 тысячи без тех фонарей.
Люди, выходя из бань, специально сворачивали в Сандуновский переулок, чуть в горку поднимались поглядеть на электростанцию.
С замиранием заглядывали в окна низенького кирпичного домика. Там что-то гудело, двигалось: добывался свет для бань. Гонецкий свету не жалел — всю ночь палил фонари. А в «Московском листке» как важная новость сообщалось, что Московская дума, хорошенько подумав, решила все-таки разориться и за счет городских средств поставить шесть электрических фонарей на Большом Каменном мосту — три на одну сторону, три — на другую. Но только зажжется тот свет к празднику превеликому, ко дню Коронации.
Об этом празднике писали не иначе как с большой буквы: Коронация. Москва с ума посходила, ожидая торжество, ради которого съедется в первопрестольную весь Петербург. А длиться оно должно было двадцать дней — с 6 по 26 мая 1896.
Первым приехал верховный маршал коронации статс-секретарь Пален, за ним почтительно встреченные прибыли императорские регалии, и в тот же день явился принц Генрих Прусский, а за ними весь двор, жандармы, синод со всей канцелярией, из-за границы короли, князья, премьер-министры. Гофмаршальская часть приготовила для иностранных гостей план Москвы, на нем были четко обозначены Сандуновские бани. А в доме Хлудовых, по плану тому, была только временная резиденция канцелярии государственного контроля.
Алексей Николаевич Гонецкий обратил на то особое внимание своей супруги: на карте обозначены одни только бани, других словно бы и нет. Пусть Хлудовы локти себе кусают. Ах как вовремя они поспели с постройкой! И хорошо, что меблированные квартиры в главном здании не успели сдать. Теперь сдавали их за немалую цену знатным столичным гостям. Не то радовало, что прибыток сразу будет, а то, что в Петербурге сразу все узнают про новые Сандуновские бани. Вот и снова первопрестольная их обскакала.
Сколько толков было когда-то про Егоровские бани в Петербурге — в Большом Казачьем переулке, между Загородним проспектом и Фонтанкой. Вера Ивановна сама видела их — высокие, в пять этажей, а окна темные: пусто и холодно там. Хотел Егоров устроить тоже смесь римско-турецких бань с русскими. И бассейн и номера. Даже ресторан, бильярд, читальню. А вот и не вышло — ни бань, ни ресторана. И смешно сказать, из-за цыганки не вышло. Нагадала, проклятая, что через те бани хозяин смерть примет. Лукавая, что натворила! Уже почти построил их Егоров, да ни разу не затопил — смерти боялся. Десять лет простояли пустые, холодные. Из-за этого разорился и — помер. Честно говоря, славное здание получилось. Знаменитый архитектор Сюзор проект делал, на Парижской выставке его показывал.
Пусть петербургские посмотрят: в Москве хорошие бани есть! Получше Егоровских.
И петербургские смотрели. И в баню заходили. А после бани на балы, банкеты, гулянья ходили.
Хлебосольная Москва пир гостям задавала, хвасталась тяжелыми и пышными своими столами. Умела себя показать! Ели-пили всюду. И все — отдельно. В Грановитой палате — царские особы. Для них меню на пергаменте напечатали, в виде свитка — с рисунком Виктора Васнецова. Брат его, Аполлинарий рисовал меню для обеда знати. И другой — для обеда волостных старшин. Отдельно ели духовенство и особы первых двух классов, отдельно — дипломаты. И десять тысяч бесплатных обедов было роздано для тех, кто мог показать билеты, полученные в городском попечительстве для бедных.
Сандуновские бани. Фасад парадного корпуса на Неглинной улице. На первых двух этажах размещался музыкальный магазин. На третьем — квартиры. В этом доме № 14 по Неглинной улице (вход с бывш. Звонарского — ныне 2-го Неглинного пер.) на первом этаже в 1901 г. после женитьбы недолго жили А. П. Чехов с О. Л. Книппер-Чеховой
Елизавета Семеновна Сандунова
Сила Николаевич Сандунов
Бассейн высшего мужского разряда Сандуновских бань. Знаменитые колонны из каррарского мрамора
Высший мужской разряд Сандуновских бань. Помывочное отделение
Термы Диоклетиана в Древнем Риме (реконструкция)
Термы Каракаллы в Древнем Риме (реставрация части здания). Открытый бассейн
В Греции бань еще не было, но в богатых домах появились ванны. Ванна дворца в Пилосе. XII в. до н. э.
Восточные бани. Иран, город Кашан, XVI в.
Написанная на фарси книга «Кабус-наме» — собрание поучений о том, как вести себя в разных жизненных ситуациях. Книга состоит из 44 глав. XI в. 16-я глава — «О правилах хождения в баню»
Великий поэт Фирдоуси, получив вознаграждение за свою поэму в бане, разделил деньги между банщиком, продавцом прохладительных напитков и посыльным. Иранская миниатюра XVII в. Эрмитаж
В иранской бане. Миниатюра XVII в. Эрмитаж
Калиф Мамун в турецкой бане. Иранская миниатюра. Британский музей
Титульный лист русского издания первой книги о русских банях. Автор Антони Нуньес Руберио Санхес, названный здесь Саншесом. Книга вышла в 1791 г.
29-я страница книги о русских банях, не которой начинается второе «отделение» (глава) — обстоятельный рассказ о том, как в России пользуются баней
Бани. На верхнем полке. Фото С. Васильева
В бане. Кадр из фильма «А зори здесь тихие»
Москва умела и повеселить гостей. В Большом театре парадный концерт давали. Так для него программу напечатали в семнадцать красок, не считая позолоты: первый акт «Жизни за царя», потом знаменитые артисты, каждый в отдельности. А для простого народа четыреста тысяч брошюрок отпечатали и бесплатно раздали: как все будет и как все должно быть и что такое коронация, и как ее в старину праздновали.
Их величествам, оказывается, благоугодно будет осчастливить народное гулянье на Ходынском поле своим присутствием. В момент вступления их величеств в царский павильон на шпиле взовьется императорский штандарт, все представление остановится и члены певческих обществ хором исполнят «Славься». А над Ходынским полем в час праздника поднимутся сотни шаров с афишами. Конец гулянья ознаменуется пушечными выстрелами и исполнением «Зари» военными оркестрами, соединенными вместе. А потом вечером на Воробьевых горах начнется большой фейерверк, начало его возвестят пушки и букеты ракет. Фейерверк будет состоять из пятидесяти разных номеров, а в заключение прямо в небе загорится вензель их величеств из десяти тысяч огней.
Очень осчастливлен был народ присутствием их величеств. Хотя все намеченное было исполнено, произошло и нечто другое, вне позолоченной программы, напечатанной многими красками, с завитками и рисунками. При раздаче угощений образовалась давка, сотни людей были растоптаны насмерть, и вечно щедрый царь тут же распорядился выдать каждой пострадавшей семье тысячу рублей за покойника, а если два покойника в семье, то и все две тысячи.
Газеты славили щедрость только что коронованного царя Николая Александровича, как и тот обед, что он дал накануне в Грановитой палате, на котором подавали, кто пожелает, рассольник, а кто захочет — борщок, и стерлядь паровую, и барашка, и заливное из фазана, и жаркое, и каплунов, и салат, и спаржу, и пирожки, а на сладкое фрукты в вине и настоящее московское мороженое.
Алексей Николаевич Гонецкий на полных три недели забыл про свои Сандуны и мотался по городу в поисках петербургских друзей, что служили при дворце. И в поисках новостей. Он умел восхищаться новостями, возбужденно пересказывал вечерами Вере Ивановне все, что слышал. О белой лошади, на которой ехал государь от Петровского дворца до Кремля, и золотой карете государыни, о том, что вместо лакея царю еду самолично подавал князь Трубецкой и что после первого блюда государь изволил спросить пить.
Гонецкий раньше других узнал о том, что произошло на Ходынке, и шепотом, хотя горничных поблизости не было, рассказал, что подавили гораздо больше, чем сообщили власти. Счастливый даже от малой удачи, он не мог долго быть грустным и теперь, когда схлынула с улиц переполнившая их публика, поехал смотреть еще не снятые с домов украшения.
Повсюду висели флаги, а у Тверской заставы на круглых колоннах поставлены были огромные золотые шапки Мономаха — в пять аршин диаметром. Висели лозунги: «Гряди с миром. Москва твоя встречает тебя радостно». Стоял опустевший павильон, в котором венчал царя губернатор, — обитый красным сукном с бахромой, на балконах высоких домов висел лозунг: «Слава царю»
Досадно было Алексею Николаевичу, что его Сандуны оказались все-таки в стороне. Царских дорог было две — от Петровского дворца до Кремля и обратная от Кремля через Охотный ряд и Мясницкую до Каланчевской площади, до Николаевского вокзала. Вот бы украсил Гонецкий свой дом! Получше купца Шаблыкина, обвесившего свой магазин коврами — все стены. Или Морозовой — та зеленью украсила фасад, а посредине московский герб, отороченный горностаевым мехом. Дворники не уходили даже поесть, чтобы никто не позарился на драгоценность. Горностая не было в одежде даже петербургских важных дам, а здесь укутали великий герб, хотя он и не зябнет.
На Лубянской площади Алексей Николаевич столкнулся с открытой каретой, в которой ехал здоровый и счастливый Фрейденберг. Забыв обиду, архитектор окликнул Гонецкого, они минуту постояли конным валетом. Алексей Николаевич поздравил Фрейденберга — все теперь знали тайну, на которую намекал когда-то отстраненный от постройки бань немец: ему вместе с другими именитыми архитекторами поручили украсить Москву для коронационных торжеств. Фрейденбергу достался участок от Лубянской до Красных ворот — вся Мясницкая. Против главного телеграфа тот поставил обелиск все с той же шапкой Мономаха, с лавровой ветвью и склоненными знаменами и обелиск против дома Ворониных, по сторонам от Красных ворот — четыре убранные флагами мачты. Вся Мясницкая была разукрашена с особым усердием и пышностью и чем-то напоминала роскошь полтинничного отделения. О чем бы ни начинал думать Гонецкий, он всегда теперь вспоминал перво-наперво бани.
С архитектором они опять встретились через день на скачках. То было небывалое собрание парадных мундиров, к концу торжеств вся петербургская знать пришла на бега. Все такой же сияющий Фрейденберг поставил на Травиату и выиграл! А Гонецкий проиграл, но не досадовал. Архитектор предлагал:
— Построим кароши палас? Лютче Париж. Или небоскреп? Лютче Нью-Йорк.
После того как праздник кончился и разобрали деревянные павильоны, сняли флаги, Москва стала казаться унылой и сонной. И с окончанием строительства бань все дела у Алексея Николаевича кончились. Он вспоминал вернувшихся в Петербург друзей, стал тосковать. Его озарила идея:
— Верочка! Построим небоскреб? Первый небоскреб в Москве! Сорок этажей!
Он думал не о небоскребе — новое строительство обещало поездки за границу. И деньги. Алексею Николаевичу неожиданно жестоко понадобились деньги: он проигрался в карты. В один из праздничных вечеров, когда отлучался один к друзьям, ставил азартно, но улыбался даже тогда, когда подвели счет. Он должен был играть роль богача. Только что хвастался принадлежащими ему и жене Сандуновскими банями; Петровским пассажем, домом на Арбате с рестораном «Прага», домами в Мерзляковском переулке, на Кузнецком мосту, Поварской, Пречистенке, Тверской…
Вера Ивановна думала недолго, переспросила с иронией:
— Небоскреб?.. Ну что ж, давай построим небоскреб.
И вскоре Алексей Николаевич поехал за опытом в Париж, хотя небоскребов там не было.
У семьи Гонецких было в Москве девять домов, один другого лучше, а жить они стали все-таки в Сандуновских банях — в том трехэтажном здании со скульптурами, которое выходит на Неглинный проезд. Вере Ивановне нравился вид, который открывался из огромного трехстворчатого окна ее кабинета. Весь день проносились экипажи, к вечеру их становилось все больше — хоронясь за прозрачной занавеской, она радовалась, когда видела знакомых. Купец Поляков уже построил свою огромную гостиницу, два здания шли параллельно до Петровки, словно вечно глядели друг на друга, а торцами выходили и на Неглинную, и на Петровку, объединенные металлической решеткой. В ней были ворота, и туда въезжали извозчики с богатыми людьми, гостиница «Россия» была дорогой, с электрическим освещением. Кроме Сандуновских бань, гостиницы «Россия» еще только несколько домов освещались электрическими лампочками. Не только провинциалы, но и многие москвичи ходили посмотреть на окна, которые светились так, будто в комнатах сияло желтое солнце.
Как раз под квартирой Гонецких размещался тихий обувной магазин Писарева. Там не гремели так, как в другой половине дома, где музыканты, прицениваясь к товару Юлия Генриха Циммермана, пробовали рояли и кларнеты, тромбоны и скрипки. Окна спальни выходили на Звонарский переулок. Оттуда смотреть было тоже интересно.
Много раз она видела своего знаменитого жильца, который, женившись, снял у нее большую квартиру — в том же доме 14 на Неглинном проезде в тихом подъезде, который выходит как раз на Звонарский. И жена жильца была известной — молодая и красивая артистка Художественного театра Ольга Книппер. Рассказывали, что муж ее, писатель Антон Павлович Чехов, тяжело болен. И действительно, он редко выходил из дому, гулял по бульвару неспешной, боязливой походкой человека, много времени проводящего в постели.
А вскоре и уехал вовсе. Квартиру сдать было просто — Неглинный проезд стал заселяться людьми богатыми и знатными, про Чехова говорили, что богатым он стал сразу: издатель купил на корню, как покупают лес, все книги. И даже не как лес, потому что лес покупают, когда он вырос, а издатель заодно купил лес, который еще даже не посадили — все книги, которые нестарый Чехов еще напишет.
И тем не менее квартира у Чеховых была небольшой, Вера же Ивановна с мужем занимала одиннадцать комнат. Спальня, кабинет, бильярдная, гостиная, буфет, комнаты лакеев и горничных. Семья ее уменьшилась. Зоя вышла замуж за скрипача Юлия Конюса. Вышла не спросясь, семнадцати лет. Только в последний миг простив, дала она ей материнское благословение и заставила жениха принять православную веру. Молодые жили независимо, зимой — на Пречистенке, в старом родительском доме Фирсановых, летом — в правом флигеле Средниковского дворца, откуда был отдельный ход в парк.
Вера Ивановна все чаще стала оставаться в своей красивой и просторной квартире одна — муж все больше теперь разъезжал. Что-то у него не получалось с небоскребом, и он то и дело наведывался в Париж, а уж в Петербург и вовсе ездил каждый месяц. Что поделаешь — дела…
Только странно было, что дела эти как-то вдруг застряли, не продвигались, а денег требовали все больше и больше. Вера Ивановна денег не жалела, но досадовала, что Алексей Николаевич потерял интерес и к Сандуновским баням, и к дровяным складам, и к торговле строительными материалами. Ну что ж, ей не привыкать — сама принимала управляющих, выслушивала, давала советы. Проще всего было управлять банями, контора рядом — в том подъезде на Звонарском, в котором Чеховы жили. Конторщик Петр Копченков приходил с книгами, говорил цифирью, но знал, что врать нельзя — Вера Ивановна все больше входила в банные дела, узнавала в них толк.
В банях все было просто. Выручку из касс Вера Ивановна брала всю себе. Не каждый день: будет она мелочью собирать! А конторщик принимал от «кусошников» каждый божий день.
В Москве давно знали и не удивлялись чудным банным порядкам: и в дорогих Сандуновских банях служащим жалованья не платили ни копейки! Впрочем, оттого и выгодно было банное дело. Наоборот, служащие платили хозяевам, и отбоя от желающих служить не было. Брали с разбором — все из нескольких рязанских деревень. Деньги малые получали только мальчики. Два рубля в месяц, да две копейки в день на ситничек. То была должность — мальчик. Лет с двенадцати служил он в бане на посылках. То кто-то из купцов забыл белье купить — отправляли с рублем к Альшвангу или на Кузнецкий к Епанешникову и сто раз наказывали, чтобы сдачу не растерял по дороге, завязал в край рубахи и держал подол в руках, пока будет идти. Мальчик скинутое грязное белье подберет, аккуратно в баул положит. Мальчик в лампадку масло зальет. Мальчик за чаем в трактир сбегает — рядом, на другом углу Звонарского и Неглинного проезда. Мальчик весь день не сидел — молодцу помогал.
И это тоже была должность — молодец. Как подрастет мальчик, уму-разуму наберется, так его молодцом работать ставят: простыню развернуть и на мокрого, распаренного посетителя ловко набросить — так, чтобы край на голову попал, но чтобы на лицо не свисал, а потом по спине сильно и ласково три раза шлепнуть. И чтобы вышло звонко, да не больно.
Потом молодец у ног завернутого в простыню посетителя услужливо сядет, придет со свечой и табуреткой, ногу пропаренную в обе руки бережно, словно младенца, возьмет, осмотрит ступню со всех сторон, неслышно мозоли срежет, раскрытой бритвой подошву поскоблит. Ох и любили купцы молодцов за то, что ноги им молодили! За это щедро чаевые кидали, особенно если мозоль ловко снимет. «Кусошники» зорко глядели, кто сколько дал. Их ведь потому «кусошниками» называли, что большой кусок себе с тех чаевых отбирали. Подойдет этакий ласковый, голову почтительно склонит, речи приятные заведет: дескать, не беспокоит? Хорошо ль попарились? А сам глядит, сколько тот бросит молодцу.
Дел у «кусошников» много. Надо еще и за мойщиком посмотреть — хорошо ли тот трет, добрый ли пар поддал, а главное — поглядеть, сколько за ту работу ему кинут.
Почтенные люди сами не мылись — негоже богатому человеку так утруждать себя. Даже сапоги не сбрасывали — мальчик подбегал и нежно тянул. Рубаху с гостя снимал и брюки. Почтенных людей вели под белы руки, дверь в мыльню отворяли: проходи, дескать, гость дорогой, а там укладывали на лавку, обливали перво-наперво теплой водой, разводили в шайке мыло, взбивали пену и терли мочалкой. Кто любит — сердито, кто не любит — ласково.
Купцы желали, чтобы мочалка была грубой, крупной и сурово скребла, кричали: «Крепче!» А вот в парной больше любили стегаться сами — никто так не достанет туда, куда тебе хочется сейчас хлестнуть. И тоже кричали: «Крепче!», «Поддай!» Банщики, конечно, не жалели, поддавали пару. Одни любили париться в сухом пару, другие в квасном, а потом мода пошла и на шампанское. Выстрелят пробкой об потолок, в шайку пена выбежит, и плеснут игривое вино на раскаленные камни. Дух сладкий становится. Только не все любили. Подрядчик Мешков того шампанского духа не выносил. Как только придет, бегут банщики в парную стены обливать, дверь отворяют, хмельной запах выгоняют.
Нравилось купцам в Сандунах больше всего полтинничное. И кругом красиво, и служащие нарядно одеты. Мальчики и молодцы в ластиковой полосатой рубашке из розового прохоровского сатина, пояс шелковый, бордовый, а брюки тоже шелковые, белые. Староста Павел Васильевич Хрулев зорко глядел, чтобы нигде беспорядка не было. Рубашку чтобы часто стирали, чтобы брюки гладкоглаженые были.
Мойщикам лучше всех. Какая у них одежа — фартук клеенчатый спереди, а сзади только завязки со спины свисают. Мокрые — к голому телу липнут. Как завел Гонецкий с первых дней то, что увидел в Будапеште, — так и осталось. Купцы сначала громко смеялись. Дескать, ну и потеха: мужик в бабьем переднике, пузо закрыто, а позади все голое! Потом свыклись, и мойщикам то гривенник, то четвертак давали — потому что самую радость от него получали. «Кусошник» про это, конечно, знал, потому что сам был и мальчиком, и молодцом, и мойщиком, все прошел и потому брал с каждого столько, сколько требуется. В неделю каждого, кроме мальчиков, налогом обкладывал — то пятнадцать рублей возьмет, а то и двадцать. Часть денег себе, другую — хозяйке. Бывало, та спросит Копченкова:
— Что-то к нам народ перестал ходить? Не закрыть ли бани?
Понимал намек Копченков. И следующий раз больше денег отдавал — больше отбирал у молодцов. Сердит был, а уж как ласков с гостем богатым! Всех знал, каждому кланялся. Подрядчику Мешкову ниже всех. Даже перед праздником, когда баня народу полна, держал свободную кабину для него.
Придет какой-нибудь делопроизводитель или инженер, тому на диван простой укажет, потому как, мол, занято кругом, но не беспокойтесь — все равно удовольствие сделаем. Мешков же в припасенную кабину зайдет и тут же мальчика крикнет. Чуйку свою, халат долгополый, сам снимет — очень брезгливый был, дверь не откроет — ручки касаться боялся, других заставлял. Велит мальчику шайку принести, мочалку и мыло, вывернет из кармана горсти монет и мыться идет. Все знали, зачем тут шайка с водой, хотя хозяин в мыльне: деньгам баню устраивали! Мыльной мочалкой тер мальчик мешковские монеты, каждую в отдельности, — любил подрядчик чистые деньги. Потом мальчик каждую монетку оботрет и столбиками сложит — копейки с копейками, пятаки с пятаками. Много мелочи носил с собой Мешков. Мыться приезжал на шарабане. Всегда по пятницам, с утра, в одиннадцать. Об этом все нищие знали, ждали, пока подрядчик моется. Когда сходит с крыльца, все кланяются, дорогу дают, а из шарабана он потом только что умытую мелочь по сторонам кидал. Вначале нищие дрались, бросались за монетами, сильный отбирал у слабого. Мешков сердился, тут же уезжал. Тогда нищие обо всем договорились, старосту промеж собой выбрали: за деньгами бегать, у другого не отнимать — сложить все и поделить поровну. Но только между своими — чужих нищих не пускать. Так и стали делать. Старообрядец Мешков удивлялся: какие благонравные нищие у Сандуновских бань! И стал бросать горстями, больше прежнего.
Молодцы особо жаловали братьев Смирновых и братьев Жирардовых, Сиигошина, Голофтеева, Солодовникова — купцов знатных, именитых, тароватых. Ученые люди — инженеры или артисты, — те были скупее, а ведь люди тоже состоятельные.
Инженер Блинов — тот и разговаривал неохотно, свысока. А уж чаевых и совсем не давал, поскольку нигде не сказано, что их следует давать. Сговорившись, молодцы славно проучили его. Пришел Блинов и сам разделся. Веник выбрал покудрявее. Покуда веник отходил в шайке с горячей водой, мойщик исправно потер ему и спину, и ноги, и грудь, и живот. Банщик старался и все беспокоился, не дерет ли мочалка, не горяча ли вода или может барин хочет послабее сделать. Блинов только и говорил, что «хорошо», «да», «нет», и не улыбнется, разговору не поддержит. Не знал инженер, что мальчика послали к Епанешникову на Кузнецкий мост, наказали купить рейтузы бабьи, самые большие, денег дали пятачок — чтобы рейтузы были самые плохие. Как выпарился, молодец его простынкой, принесенной из дому, обсушил, по спине как то положено звонко похлопал. Усадил и ногу инженерову себе на колени взял — мозолей не было, только поскоблил. Одеться помог, на прощанье ласково спросил: «Извольте завернуть?» Надменный инженер почти и не кивнул. Уж не мальчик, а сам молодец мокрое и грязное белье свернул аккуратно и в чемоданчик положил. Ушел тот инженер заносчивый, каким и пришел, не видя кланяющихся служителей в белых куртках и белых штанах, с перепоясанной рубахой навыпуск — только чемоданчиком размахивал. И копейки никому не дал.
А через неделю вернулся вежливый, медяками и серебром всех одаривал. Все равно не как братья Смирновы — те по два рубля оставляли.
Потом долго смеялись во всех отделениях, пальцем в спину Блинова показывали: ловко они проучили его — сказывали, прислуга барыне показала, что за белье из бани принес инженер домой. Говорил, что в баню пошел, парился, в бассейне плавал, а домой поганое дамское белье ненароком притащил. Да широкое — где такую нашел? С тех пор Блинов чаевые давал всегда. Чудак человек, чего же не переменил Сандуновские на хлудовские Центральные? И там бассейн, и там душ разный, а не пошел. Сандуновские привораживали. Бывалый москвич, с деньгами в кармане, оставался верен им, ни на что не менял их, если хоть раз попарился там.
Так случилось и с самым знаменитым человеком в Москве — Федором Ивановичем Шаляпиным. Никто не заметил, как он первый раз явился, а уж потом всегда караулили. Как только придет, все радуются, стараются поглядеть на него. Красив мужчина — богатырь. А уж как запоет — сам говорил, что в бане, звонче петь, чем в любом театре. Стены, что ль, в бане такие? И прост со всеми, каждого по имени-отчеству помнил. А в полтинничном отделении одних мойщиков двенадцать и восемь молодцов. Даже мальчиков по батюшке величал. Васятку Митина иначе чем Василий Семенович и не звал, а тогда ему было не больше четырнадцати, так как в баню дядя его, старый московский банщик, привез из деревни в тринадцать лет. Потом, когда уже и молодцом стал — в семнадцать лет, с Шаляпиным, как со старым знакомым, здоровался — за ручку. А как уходил на действительную, тот рубашку подарил ему из китайской чесучи. Косоворотку. Василий Семенович всю жизнь берег, надевал по праздникам, и потому что до восьмидесяти лет оставался прям и строен, рубашка не стала мала до его глубокой старости.
Одно плохо — Шаляпину невмоготу стало мыться и в дорогих полтинничных, хотя там редко когда народу много было.
Как прослышали люди, что ходит Шаляпин по вторникам, сразу стало тесно. Все глядят, проходу не дают, на дармовщину песни хотят послушать. Шаляпин договорился, что будет ходить в баню по воскресеньям, когда никто не ходит. Обычно два раза в неделю в Сандуны не пускали посетителей, хотя топились те круглый год, — по средам и воскресеньям. В те дни и мойщики, и молодцы, и мальчики — все мыли, чистили, скребли полы и лавки, терли медные краны толченым кирпичом, разведенным на мыле, чтобы солнцем горели. Шаляпин приходил не один. Знаменитые люди с ним бывали — артист Художественного театра Москвин, любимец эстрадной публики Борисов, шутник Менделевич — самый забавный конферансье, да еще неизменный шаляпинский спутник Исайка Дворищин. Иной раз семь-восемь человек наберутся и такой шум, смех поднимут. Все банщики приходили, отворяли дверь в мыльную — послушать, как знаменитый артист поет. Потом Шаляпин ехал обедать в «Эрмитаж», оттуда домой. Там он перед дочерью, маленькой Иринкой, хвастался, какого пару он нагнал. Первым Исайка выбегал, отдышаться целый час не мог, потом остальные. И Шаляпин парился один, все подбрасывал пару. Чуть не сгорит, выбежит красный, как рак вареный, и в бассейн с головой нырком. Друзья подтверждали — все верно рассказывал он дочери: продыхнуть невозможно, а он знай поддает и все хлестается, хлестается…
Зять Веры Ивановны Фирсановой скрипач Юлиус Конюс познакомил ее с Шаляпиным. Артист с удивлением глядел на владелицу знаменитых бань. Ему представлялось, что она должна быть дебелой и крикливой, грубой и безграмотной. А она красивым глубоким голосом с восхищением говорила о недавнем его концерте и сделала верное, почти профессиональное замечание. Шаляпин, естественно, похвалил Сандуны: нигде нет таких бань, а уж он Россию объездил. Не Сандуны — царь-бани! Да и за границей бывал — нет ничего похожего на русские бани. Вера Ивановна улыбалась, но разговора о Сандунах не поддержала. Зато Алексей Николаевич стал хвастаться:
— Мы вот еще небоскреб на Арбате построим. Еще не то будет.
Шаляпин внимательно посмотрел на Гонецкого, подумал, но ничего не сказал.
А когда речь зашла о концерте, Гонецкий тоже слово вставил: вот недавно «Прекрасную Елену» в театре Шелапутина смотрел. Так там фортель презабавный выкинули: мужчины женские роли исполняли, а женщины — мужские. Вот смеху-то было!
Шаляпин опять выслушал вежливо, перевел взгляд на Веру Ивановну и, словно Гонецкий ничего не говорил, попросил:
— Можно, я спою?
Дело было в Средникове, гости сидели в гостиной — в овальном зале, на потолке которого резвились голубые боги и демоны. Вера Ивановна почти по-девичьи вспыхнула. Конюс сел за рояль, и Шаляпин запел.
Перед отъездом гости и хозяева обошли имение. Вера Ивановна показывала дом и парк. Пересказывала то, что знала о здешней жизни Лермонтова, о том, как по ее просьбе отец купил Средниково у Столыпиных. Шаляпин слушал внимательно, погладил массивную старинную полированную дверь высотой в два его роста — дверь эта вела в комнату, в которой два лета подряд жил поэт.
— Вы бы ему памятник здесь построили, — предложил Шаляпин, обращаясь только к Вере Ивановне и не глядя на Гонецкого.
Это их и связало: Шаляпин обещал поговорить со знакомыми скульпторами, которые бы взялись сделать памятник.
Так они подружились. Возвращаясь из Петербурга, Шаляпин непременно наведывался то в Средниково, то в дом на Неглинном проезде. Привозил с собой Рахманинова, пели, музицировали. И Вера Ивановна ездила к Шаляпиным на Новинский бульвар, стала крестной только что родившейся дочери.
Шаляпину нравилось Средниково. Он часто гостил там по нескольку дней подряд. Был со всеми прост — с хозяйкой и ее горничными. Однажды прислуга с изумлением увидела, что Шаляпин прибыл с незнакомым человеком, подобного которому здесь никто не видывал: он был совершенно черен, розовыми были только ладони да ногти, и страшно светились глаза. На приехавшего смотрели пораженные из всех окон. Сдержанная Вера Ивановна тоже изумилась гостю. Шаляпин поспешно объяснил, и об этом тут же узнали все слуги: этот негр жил в услужении у какой-то петербургской старушки. Та умерла, и никто из богатых людей не хотел взять его к себе — то ли потому, что боялись его черноты, то ли потому, что негр не понимает по-русски.
Вера Ивановна взяла негра младшим лакеем — хотя имя его было Эдуард, она почему-то назвала его Самбо, говорила с ним по-французски, тот почтительно, втянув живот и наклонив вперед голову, слушал, коротко отвечал. Самбо почему-то никак не мог освоить русскую речь. Вечерами, когда хозяйка читала в постели, он оставался в компании с горничными, был приветлив, смеялся, показывая белые зубы. Знал по-русски только ругательство «сукин сын» и называл им мужчин и женщин.
Самбо больше всех радовался приезду Шаляпина. Тот, приветствуя негра, дружески хлопал его и после обеда просил у Веры Ивановны разрешения взять горничных и лакея кататься на лодке. Позади дома был пруд со старинными каменными мостиками, под них ныряли в темноту и через мгновение выскакивали. Старшая горничная Настя, совсем молоденькая ее помощница Аннушка, Самбо и Шаляпин долго катались. Негр греб, Шаляпин делал вид, что хочет потопить лодку, а девушки неискренне визжали от напускного страха. В награду за испуг Шаляпин пел.
В последнее время он встречал здесь Гонецкого почему-то все реже. Ускользал Алексей Николаевич и от жены. Горничные шептали, что между ними все чаще происходили размолвки. Летом Гонецкий то и дело опаздывал к обеду, который здесь начинался всегда в шесть. Если он был в Москве, за ним на платформу Фирсановская посылали экипаж. Три версты до железной дороги тянулись ровной аллеей. Ее прорубили в лесу по приказу Гонецкого, совсем недлинная дорога, но ехал он по ней долго. Скоро узнали почему: возвращаясь домой, пьяненький Алексей Николаевич все-таки соображал, что лучше бы поскорее протрезветь, и он останавливался у Дворянского моста, кидался в холодную воду, но Вера Ивановна все равно обо всем догадывалась, а может быть, кто-то из верных людей шепнул. Утром Гонецкий был больше меры ласков, ходил след вслед за женой, чувствовалось: извиняется. Развеселив жену, торопился с делом: осталось еще раз поехать в Париж, посмотреть, почему так долго тамошние архитекторы проектируют небоскреб. Вера Ивановна отходила, соглашалась: на расстоянии он был ей милей. Нравилось читать его ласковые письма, в них он смешил ее забавными наблюдениями, О парижской жизни Гонецкий писал подробно. Но жаловался: очень дорога в Париже жизнь. Не пришлет ли она ему рублей пятьсот — семьсот? Неожиданно издержался и не хочет показать себя с плохой стороны — здесь люди очень приметливы и судят о тебе по платью и где обедаешь.
Как раз в этот день, когда пришло очередное письмо с жалобами на парижскую дороговизну, одна из дочерей Хлудова заскочила между делом в дом на Неглинном проезде. Давняя ссора была забыта — самого Хлудова давно уже не было в живых, а Сандуны уже тоже давно построены и Центральные хлудовские бани неизвестно кому принадлежали — шестерым его наследникам, которые вечно ссорились. Гостья только что вернулась из Парижа.
Делая вид, что это говорится вскользь, упомянула Гонецкого, которого она там видела возле одного очень странного места. Он ее не узнал… Она тут же переменила тему разговора, а Вера Ивановна, взяв себя в руки, не расспрашивала и выглядела вполне приветливо. Она поняла, что именно это сообщение было целью неожиданного визита, но порадоваться своей тревоге она гостье не дала.
Потом, однако, навела справки, сама не вмешивалась, не унижаясь. Послала на свои деньги в Париж знакомого студента, наказала только поглядеть на Гонецкого, но ни о чем ему не говорить. Студент оказался верным человеком. Все как надо сделал, все видел, обо всем рассказал.
И Вера Ивановна, перестав посылать деньги, запирала письма мужа в конторке нераспечатанные. Она вдруг в одно мгновение возненавидела его, когда однажды летом приказчик Нифат, посланный в Москву за деньгами к конторщику Сандуновских бань, вернулся смущенный: «Приказчик ответил, что денег нетути, а Сандуны и совсем теперь не ихние, не Гонецкого». Оказалось, что перед последним путешествием за небоскребом Гонецкий заложил бани в кредитном обществе! Взял за них двести тысяч. А стоили они миллиона три!
Только игрок, отчаявшийся, продувшийся вконец игрок, способен был на такое безумие. Вера Ивановна давно уже знала, но не показывала виду, что Гонецкий с тех дней коронации, когда встретил в Москве своих давнишних гвардейских дружков, не переставал крупно картежничать Она не могла простить ему парижского беспутства, а теперь он вот как обошелся с ее банями. Она даже не знала, что ей так дороги Сандуны, владеть которыми она прежде стыдилась. Когда она подарила их мужу, это было не только награда за старание и желание объявить всему свету, что он ей равен, почти такой же богатый. Каждый, однако, знал, что хотя бани она отдала, но все равно бани оставались за нею, сама правила, рассчитывала неугодных. Вот она даже стала жить там, в доме, принадлежавшем мужу. Так что, прикажете теперь съезжать?
Жарким летом в самые лучшие дни Вера Ивановна бросила именье, поехала в пыльную Москву, металась по чужим домам и отвратительным конторам, в которых пахло затхлым. В ней пробудился делец — ведь она дочь Фирсанова! С ней неотлучно находился присяжный поверенный Виктор Николаевич Лебедев. Он близко к сердцу принял беду Гонецкой, был деятелен, изворотлив. Только они оба знали, чего стоило вернуть Сандуны.
Но им это наконец удалось. В начале сентября 1902 года Лебедев вручил закладную Вере Ивановне. Теперь она спокойно листала бумаги, подписанные мужем. Тот, оказывается, доверял своему присяжному поверенному «получать долгосрочные и краткосрочные ссуды закладными листами или наличными деньгами, кроме ссуды, мною уже полученной под мои торговые бани, называемые Сандуновскими с жилыми и нежилыми при них строениями и землей». Его торговыми банями, называемыми Сандуновскими! Дудки, фигушки — не твои, батюшка, эти бани. Как ей хотелось немедленно высказать все это ему, но Гонецкого не было.
В сентябре было еще тепло, и она вернулась в Средниково. Вот когда пригодился Самбо-Эдуард. Она назначила его своим телохранителем! Отныне он не должен был ей прислуживать — ему полагалось лишь ходить молчаливой черной тенью за ней по пятам, не мешая говорить с людьми или прогуливаться одной, быть близко, но глаза не мозолить. Слава богу, негр не говорит по русски, не может помешать. Ему и всем слугам она строго наказала: Гонецкого в дом не пускать. Ни в Средникове, ни на Неглинном проезде. Из соседней деревни Лигачево она вдобавок взяла двух самых дюжих парней и приставила их по очереди денно и нощно стоять у ворот.
Однако Гонецкий всех обошел. Он перелез через ограду, вошел с черного хода, которым пользовались только слуги, и ровно в полдень, когда Вера Ивановна, встав с постели, умывалась, предстал перед ней.
— Вера! Почему меня не пускают в дом?
Она не ответила и спокойно вытирала лицо полотенцем.
— Вера! Почему меня не пускают сюда и даже в мой дом на Неглинном?
Вера Ивановна словно бы не слышала его голоса Не спеша поправила прическу, направилась в кабинет. Слуги, затаив дыхание, наблюдали за ссорой хозяев — те никогда этого не делали публично. Даже когда Алексей Николаевич опаздывал к обеду, воз вращался нетрезвым, она никогда не выговаривала ему вслух. Он шел сейчас следом, умолял.
— Я же муж твой!
Тут она не выдержала, сказала, не поворачиваясь:
— У меня мужа нет.
И закрыла за собой полированную огромную, в два человеческих роста, дверь, в которую, говорят, проходил некогда юный Лермонтов. Слышно было, как она торопливо повернула ключ. Через мгновение раздался выстрел. Она не ожидала этого и с грохотом опрокинула туалетный столик. Отбрасывая всех, с криком «сукин сын», к двери ринулся Самбо-Эдуард. Он колотил в нее огромными черными кулаками и орал что-то по-французски. Все поняли одно только слово «мадам».
Через несколько секунд мадам откликнулась. Изменившимся голосом ответила, что жива, но отпирать не стала. Даже когда ей сообщили, что Гонецкий стрелял в себя. Через дверь она спокойно приказала, чтобы вызвали урядника. Не спросила даже, жив ли Алексей Николаевич.
Гонецкий остался жив. На подводе урядник повез его в больницу. С тех пор Вера Ивановна вернула себе девичью фамилию Фирсанова и при ней никто никогда не смел вспоминать Гонецкого. Потом говорили, что Алексей Николаевич умер от раны, но знала ли о его смерти Вера Ивановна, никому известно не было. Все друзья и прислуга делали вид, что Гонецкий никогда не существовал.
Вернувшись с дачи в Москву, Вера Ивановна принялась хозяйствовать в Сандунах сама. И тут же обнаружила, что дело изрядно запущено. Со всей Москвы богатые люди съезжались сюда — в номера и в полтинничное. Иной вечер столько экипажей на Неглинном проезде и в переулках соберется — кучера хозяев терпеливо ждут, словно не баня это, а Большой театр перед окончанием спектакля. Сам городской голова Гучков любил приезжать сюда — на дутых неслышно катил по мостовой. Долго в городской думе командовал. А про прежнего голову — Рукавишникова уже и забывать стали.
Вера Ивановна невзлюбила его с тех пор, когда, стоя за Хлудовыми, мешал строить новые Сандуны. Фирсанова радовалась его неудачам — вздумал было Николаевскую железную дорогу откупить. И откуда деньги только раздобыл! Только не удалось. А в Москве в свою пору чудные порядки вводил. На видных улицах каменные постройки для «необходимости прохожих» приказал ставить. Рассказывал когда-то Гонецкий, что и на Смоленской-Сенной такое строение возвел. Стены покрасили желтым, а поверх кресты белые нарисовали, чтобы издали видать было. Простолюдины, однако, не поняли знака — принимали строение для «необходимости прохожих» за часовню и крестились. Истинно так, крестились.
Грех смеяться, а смешно, и Гонецкого не хочется вспоминать. Только как не вспомнишь его, когда он все-таки в Сандунах все не так сделал. Сразу видно — не купец. Вот богатых гостей много, становится все больше, всех не перечтешь — сразу и надо было для них вход подороже сделать. За гривенником не постоят. Наоборот, друг перед дружкой выставляться будут. Но только поздно теперь: как полтинничное отделение переделаешь — не станут же называть «шестидесятикопеечное»? Такого слова не придумаешь, да и говорить лишнего станут. И управа не позволит: таксу повышать нельзя. А вот с номерами, пожалуй, можно поправить. Вспомнив старые Сандуны, в которых она невестой мылась из серебряной шайки, велела заказать дюжину новых серебряных тазов — старые давно продали, да и не годились — низкие, вода быстро стынет. Приказала, чтобы на шайке вензеля нарисовали. Так и сделали: на боку красиво нарисовали «Сандуновские бани — ВФ», то есть Вера Фирсанова. Из тех тазов самые богатые московские люди и стали мыться, в самых лучших номерах, где и будуар и гостиная. И платили теперь за новую роскошь не пять рублей, как до этого, а десять. Вера Ивановна оказалась права: все равно шли! Десятирублевых номеров и не хватало.
Два раза в неделю в десятирублевые прикатывал купец Подъячев. И когда это он так разбогател — никто того не заметил. Грубый, необразованный — мужик мужиком, а деньги повсюду рассовал, несчитанные. Приходил в номер, мылся сам — никого до себя не допускал. Попарится, похлещется, на кушетке отлежится и кликнет молодца: дескать, зови Дуньку Рябую. Знали все здесь про него наперед. И удивлялись: на кой ему сдалась самая некрасивая из здешних девок? Дунька Рябая на Трубной жила — рядом. Только позови — тут же и прибежит. Только чем дальше, тем Подъячеву Дунька Рябая милее становилась. Стали молодцы этим промышлять. Позовет он Дуньку — сразу пообещают: хорошо, дескать, мигом пришлем. А через десять минут входит один из них и руками разводит:
— Нетути Дуньки Рябой. К тебе в Сокольники поехала.
Вставал раздосадованный Подъячев с белых простыней, шел к брюкам, брошенным на кресло, доставал из кармана десятку:
— Езжай в Сокольники. Извозчика возьми. Только быстро!
Через полчаса являлся молодец обескураженный:
— Не едет Дунька: у тети именины.
Подъячев сердился не на шутку. Шел к брюкам снова, четвертную доставал:
— На! Отдай ей — скажи, чтобы враз была здесь.
А у Дуньки Рябой и тети никакой не было. В Сокольники ж она и не ездила — что ей делать там? И здесь на Неглинной, особенно в Рахмановском переулке, господ сколько угодно. Только не всем она нравилась, а уж больше Подъячева никто ее не любил. Только зачему ему сказывать о том?
Дунька стояла в переулке, подсолнухи лузгала, смеялась, что заставила купца маяться и деньги с него для себя и для банщика выманила. Потом шла через арабский дворик на второй этаж. Бойко отворяла дверь номера с серебряными шайками, где на кушетке нагой богач лежал. Останавливалась в дверях, руку на бедро ставила, сердито спрашивала:
— Звал? А зачем?
Ну не знала, совсем не догадывалась Дунька Рябая, зачем ее купец в номер звал…
Вера Ивановна Фирсанова делала вид, что ей неведомо, во что превратилось ее номерное отделение. Вся Москва знала, а она вот нет. Даже гости из гостиницы напротив, что всю улицу занимает — Петровские линии, об этом слышали. Приедут из Нижнего Новгорода, из Ирбита, Воронежа и сразу скажут: позови, брат, какую-нибудь. Молодец глаза удивленные сделает: дескать, это кого я позвать должен? Никого мы здесь не зовем. А как рубль дадут ему, сразу смягчится, первейшим другом сделается: альбом несет. Альбом с фотографиями в надежном месте лежал. Там девицы с Рахмановского, Трубной, Цветного бульвара. Под фотографией — ни имени, ни номера. Всех их молодцы и так помнили. Ткнет гость пальцем: «вот эту зови» — молодец знает: Манька Лошадь понравилась. Или Фроська Синяя Лента, Глашка Крокодил, Арина Повитуха… Но как ни знал каждую, а все-таки книжку из Мясницкой больницы часто спрашивал — здорова ли, а не то беды потом не оберешься.
Вера Ивановна все больше требовала денег с конторщика за номера. Тот кряхтел, но давал — все равно и ему изрядно оставалось: ох и прибыльное дело были эти Сандуны!
В номера Вера Ивановна не ходила, только в окошко из квартиры на улицу поглядывала, кто это в арабский дворик прикатил. А в другие отделения стала ходить, за порядком смотреть. В женские бани сваливалась как снег на голову — никогда заранее не знаешь, когда явится. То ранним утром — в шесть часов, то среди дня. А в мужские приходила перед открытием — как туда пойдешь, когда они, безобразники, голые на диванах лежат? Плохо все-таки, что некого теперь туда послать. И она опять вспоминала Гонецкого. Но один раз послала своего присяжного повереного Лебедева, чтобы все осмотрел и сказал, чисто ли там, не набросано ли и не озоруют ли, не обирают ли ее банщики. Виктор Николаевич все высмотрел, обо всем доложил. Толковый человек этот Виктор Николаевич, и хозяйственный, и преданный. В банях сначали делали вид, что не знают, кто такой этот присяжный поверенный, а сами давно проведали, что он и есть хозяин. Невенчаный, а хозяйкин хозяин.
Вскоре и Вера Ивановна таиться не стала. Поселила его в своей квартире, на дачу с собой брала. С тех пор как Виктор Николаевич Лебедев помог вернуть заложенные Сандуны, он не менялся: был внимателен, услужлив, и жизнь Веры Ивановны стала легче — взял на себя ее заботы. Снова она начала жить барыней. Утром в восемь колокольчиком давала знать о себе, и тут же горничная несла горячее какао. После этого она еще часа четыре проводила в постели. Ставили ей ломберный столик, и она читала или раскладывала пасьянс. В двенадцать снова звонила, шли ее одевать, Вера Ивановна умывалась, завтракала. Потом немного гуляла, две собачки бежали за ней — Кулой и Кика, обе маленькие и обе белые. Очень любила их Вера Ивановна, чесала большим гребнем.
Если жили в городе, после прогулки занималась делами — с управляющими беседовала, а больше всех с Павлом Григорьевичем, который Сандунами заведовал. После обеда гостей принимала, в театр ездила или в гости, немножко читала. Летом управляющие ездили к ней в Средниково. Там она по парку гуляла — одна, с собачками. Виктор Николаевич ей не мешал, в кабинете работал. Любила в пустом парке гулять. Как-то крестьянка ей попалась с полным грибов лукошком. Очень Фирсанова рассердилась:
— Ты чего здесь ходишь? Почему без позволения грибы собираешь?
И опрокинула лукошко, грибы растоптала. Выбежал негр — его никогда видно не было, но он всегда оказывался там, где нужно. Хозяйка ему что-то непонятное сказала, и ту крестьянку Самбо-Эдуард мигом спровадил.
А часто, наоборот, доброй оказывалась — о чем ни спроси, все даст, не пожалеет. Горничная Аннушка набралась смелости и в хороший час рассказала хозяйке, что вот сестра ее, тоже горничная, у богатых людей жила в Малаховке, с художником полюбилась и вот замуж вышла. Всем хорошо, только фамилию никак не запомнишь — Ион, что ли. Так не продаст ли Вера Ивановна ему немножко земли дом построить?
Вера Ивановна пригласила сестру Аннушки с ее художником, а тут Шаляпин вдруг приехал. Оказалось, знает Шаляпин художника, дружески поздоровались, стал обещать:
— Вот увидите, о Константине Александровиче Юоне будут скоро говорить все — очень талантливый художник.
— Юон? — переспросила Вера Ивановна. — А мне говорили Ион.
— Вечно путают, — сказал, улыбнувшись, художник. Был он застенчив, а жена его, сестра Аннушки, оказалась просто красавицей и вела себя барыней. Свободно сидела на кресле, за столом, знала манеры — и не подумаешь, что крестьянка. Сестра ее, младшая горничная, вошла с подносом, каждому мороженое принесла. Жена Юона, не переставая беседовать, непринужденно взяла вазочку, кивнула Аннушке, поблагодарила.
— Константин Александрович, — сказала Вера Ивановна. — На вашем месте я только бы вашу супругу и рисовала. Как Рафаэль Форнарину. Что за прелестное создание!
Супруга художника не смутилась. Фирсанова продала Юону участок земли, дала поближе к усадьбе и много не спросила: по-божески, и, чтобы не обидеть, не совсем дешево. С тех пор молодого художника встречали крестьяне то у деревни Подолино, то у села Лигачева — сидел на треноге, вдаль глядел и рисовал, рисовал. Если Юон художник действительно хороший, как то говорил Шаляпин, то надолго сохранятся парк, лесочки, пруд, поля, овраги, окружавшие Средниково, такими, какие они есть у хозяйки всей округи Фирсановой. Говорят, он и хозяйку нарисовал, но портрет куда-то увезли, а куда — горничная не знает. Может быть, вернется. Вот привезли же бюст Лермонтова — куда-то увозили, говорят, на выставку. Чтобы все люди, кому интересно, видели. Весь дом знал, что как и обещала Шаляпину, заказала она памятник поэту, который и в здешнем парке гулял, и в этом доме жил. Неизвестно, как людям, но только не понравился бюст Фирсановой. Хотела к столетию Лермонтова людей собрать, чтобы они речи тут говорили, чтобы про то газеты написали. Только боялась осрамиться. Будут потом смеяться, говорить что-то про купеческие вкусы.
Недолго после этого хозяевала Фирсанова. К концу семнадцатого года она лакеев отпустила — не потому, что захотела: революция. Куда-то делись негр Самбо-Эдуард и француз Жорж, который возил ее в автомобиле. Неплохо возил — за сорок минут от Фирсановки до Сандунов. А во дворе Сандунов остался сарай-пристройка, называли его странным словом, писали через два «р» — «гарраж». А дворня так и осталась в своих деревнях. Младшая горничная Аннушка незадолго до того вышла замуж, свой дом завела.
Уже в двадцатых годах бывшая горничная Анна Лопатина как-то встретилась с Фирсановой на Арбате. Та спешила, говорила неохотно. Только и сказала, что пока живет в Староконюшенном. А потом узнали — вызвал ее во Францию Шаляпин. Вспомнил все-таки — вместе с невенчаным мужем ее, Виктором Николаевичем Лебедевым, взял. Потом Федор Иванович про них дочери Ирине писал: дескать, вижу Веру Ивановну, живет по-старушечьи, со стариком своим. Со стариком?.. Быстро, однако, время идет.
А в следующем письме просил Шаляпин дочь, чтобы она какого-нибудь крестьянина нашла, который знает, как бани русские ставят. В далеком нарядном краю покупал певец имение и решил на французской земле русские бани поставить. Наверное, вспомнил про Сандуны, если незадолго перед тем писал про бывшую хозяйку Сандунов.
* * *
Старые московские банщики гордятся знакомством со многими выдающимися людьми. Кто только не прошел через Сандуны! В старых Сандунах плескался Пушкин, в новых — почти все видные московские писатели начала века. Существовал обычай гурьбой наведываться в лучшие московские бани, в лютый мороз купаться в теплой воде — тогда еще не было спортивных бассейнов. Но однажды Сандуновские бани заменили Черное море. В них плескалась вся черноморская эскадра боевых кораблей. Это было в 1925 году, за день до демонстрации в Большом театре фильма «Броненосец «Потемкин».
Накануне торжественной премьеры режиссер Сергей Эйзенштейн с ужасом спохватился, что не снял важной сцены. Ему пришла удачная мысль доснять недостающее в Сандуновских банях. На киностудии днем спешно строили макеты кораблей, которые участвовали в съемках фильма. Они были готовы к ночи. И в ту ночь бассейн Сандуновских бань озарился ослепительным светом прожекторов. Операторы ползали по мрамору, помощники режиссера, вооружившись лопатами для сгребания снега, создавали большую волну. Гигантские волны захлестывали эскадру, грозно надвигался на броненосец «Потемкин» девятый вал.
К утру все было закончено, а вечером зрители в первый раз увидели фильм, который снимался в Одессе, на знаменитой лестнице, на Черном море… Никто не знал, что «Броненосец «Потемкин» снимался немножечко и в Сандуновских банях.
* * *
Сандуны, Сандуны… Удивительная у них судьба. Казалось бы, пора им закрыться навсегда: почти у всех теперь баня на дому — ванна. Когда еще газеты писали статьи «Последний день бани!» А последний для Сандунов не приходит. Наоборот — никогда здесь не бывало столько народу, как сейчас. Когда-то в полтинничном отделении за весь день едва сто человек помоется, а нынче столько в очереди перед кассой стоит. Часами ждут на ступеньках, о гнутые старинные поручни опираются и, чтобы время быстрее шло, под светом бронзовых богов-светильников книжки, газеты читают. Светильники те же, и касса на прежнем месте, и те же чугунные балясины под перилами. Маркизы в пышных садах выцвели, но все еще живы, глядят со стен. В целости и сохранности и готический зал в черном дереве, а над ним извергается Везувий. И турецкий зал такой же, и помпейский, с бассейном, только Нептуна с трезубцем сняли. И парная та же, лучшая в Москве парная. Любят в Москве Сандуны. Еще больше прежнего любят.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

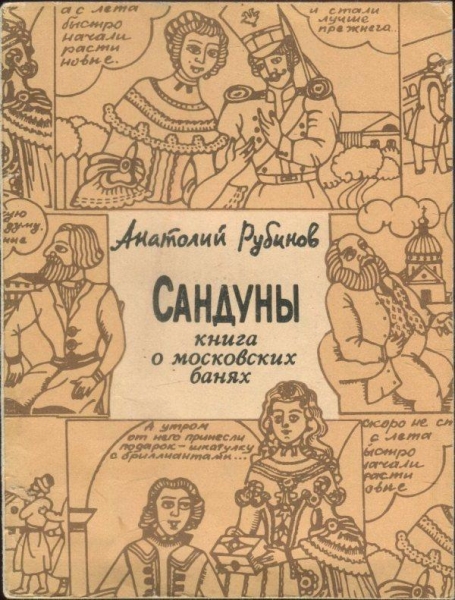
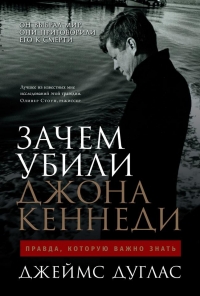


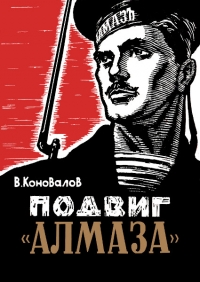
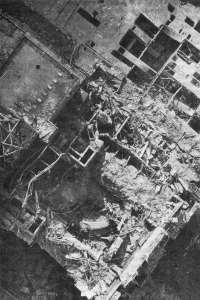

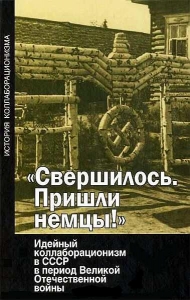

Комментарии к книге «Сандуны: Книга о московских банях», Анатолий Захарович Рубинов
Всего 0 комментариев