Татьяна Щипкова Женский портрет в тюремном интерьере. Записки православной
Рекомендовано к публикации
Издательским Советом Русской Православной Церкви. № ИС 10-18-1847
Подготовка текста к изданию – Любовь Балакирева.
Издатель выражает благодарность Ф. А. Щипкову, А. И. Кырлежеву и М. В. Фёдорову за помощь в издании этой книги.
От издателя
Подлинно христианская жизнь немыслима без испытаний. Путь к Богу лежит через преодоление самых разных препятствий, создаваемых как грехом, укоренившимся в нашей природе, так и искушениями, приходящими извне. Но духовная борьба, которую ведёт на протяжении всей своей жизни христианин, может быть победоносной, если он уповает на помощь Божию – если христианин не только употребляет усилие воли, без которого нельзя восхитить Царствие Божие (Мф. 11:12), но и усилие молитвенное. Тогда возможно верующему преодолеть многие испытания. От первых дней бытия Церкви Христовой величайшим испытанием было испытание самой веры – перед лицом гонений и всяческих притеснений, которые воздвигали на христиан враги христианства. И Церковь прославляет сонм мучеников и исповедников, именуемых «семенем Церкви», потому что они засвидетельствовали силу благодати Божией, действующую в немощи человеческой. Церковь постоянно живёт памятью о победе, победившей мир – вере тех, кто с помощью Божией устоял в годину жестоких испытаний (1 Ин. 5:4).
В минувшем столетии Русская Церковь претерпела не меньшее, но даже более масштабное гонение, чем в первые века христианства: множество священнослужителей, монашествующих и мирян было убито, замучено или подверглось преследованиям только за то, что они сохраняли свою веру и не отреклись от Христа Спасителя. Ныне прославлен сонм Новомучеников и Исповедников Российских XX века, и в результате постоянной исследовательской работы их длинный список всё время пополняется новыми именами.
Сегодня мы всё больше узнаём о духовном подвиге свидетелей Христовой веры в эпоху разгула агрессивного безбожия – между революцией и Великой Отечественной войной. Исследуется и более поздний период, когда после некоторого затишья снова стали закрывать храмы, а православные христиане подвергались репрессиям. Но нам нельзя забывать и о том времени, которое непосредственно предшествовало возрождению веры в российском обществе, – о 1960-1980-х годах. В то время в Церковь стали приходить люди, с детства оторванные от православной традиции, но искренне ставшие на путь духовного поиска и в конце концов обретшие Бога. По-разному сложилась судьба этих людей, но среди них были и такие, на долю которых выпало особое испытание – подвергнуться настоящим преследованиям, включая заключение, и, по существу, стать современными нам исповедниками веры.
Потребуется немалый труд историков, чтобы восстановить в максимальной полноте картину церковной жизни и стояния в вере православных христиан в этот, ещё очень близкий нам, период новейшей российской истории. Но такую работу необходимо делать, собирая все возможные материалы и свидетельства, чтобы будущие поколения церковных людей, да и всё общество в целом, знали о той, как правило, сокровенной, духовной жизни, которую вели христиане в условиях государственного атеизма.
К таким свидетельствам относится и эта небольшая книжка, написанная Татьяной Николаевной Щипковой – человеком скромным, непубличным, но при этом обнаружившим твёрдость веры и стойкость духа, когда Господь попустил ей пройти испытание судом и заключением за исповедание православной веры буквально за несколько лет до утверждения в нашей стране религиозной свободы.
Испытания, с которыми сталкивается христианин, разнообразны, они бывают более или менее тяжкими, но главным критерием подлинно христианского перенесения любых испытаний является тот духовный опыт, который верующий из них выносит и который научает христианина следованию заповедям Христовым. Об этом свидетельствуют и слова автора этой книги: «Любите врагов ваших… Один раз в жизни мне было дано это почувствовать полной мерой. Я считаю это переживание самым главным в том духовном опыте, который дал мне лагерь».
Подлинная вера, столкнувшаяся с сопротивлением и натиском врагов веры, порождает не ожесточение, но любовь, и потому она непобедима и неуничтожима никем в этом мире. Истинная вера научает любви Божией, которая, по слову Апостола, излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5:5).
Как я туда попала
Сейчас эти годы названы застойными, а тогда они были – просто жизнь. Обыкновенная советская жизнь – сегодня как вчера, завтра как сегодня; никакой другой мы не могли себе представить. В Москве, в Ленинграде прошла хрущёвская оттепель, разоблачали культ личности, шумели на площадях. А у нас, в педагогическом институте города Смоленска, старались говорить на собраниях то, что требуется сегодня, что созвучно новым партийным лозунгам – чтобы не попасть впросак и не схлопотать неприятностей. Вот и вся оттепель. Когда она кончилась, большинству стало легче жить, потому что слова снова стали привычными, и не надо было так напрягаться. Таков был общий фон в Смоленске 60-х годов.
Правила работы оставались всегда теми же и были обязательны и неизбежны, как законы физиологии: мы, преподаватели, были работниками идеологического фронта, мы не должны были ограничиваться преподаванием своей дисциплины («Нам не нужны урокодатели!»), но каждый наш урок, каждое грамматическое упражнение должно было воспитывать студентов в духе преданности нашей «великой родине и родной коммунистической партии». Отступление от идеологии было самым страшным из мыслимых преступлений не только в глазах партийного руководства, но и в наших собственных глазах.
Когда уже в 70-е годы мы прочитали в самиздате Оруэлла, мы ужаснулись не тому, что он нам открыл – мы всё узнали, всё было то самое, наше, – а той беспощадности, с которой он это сделал.
И всё же это был лишь общий фон, и партийный авторитет лишь казался незыблемым. Уже существовало меньшинство, оно было незаметно снаружи, оно вело вольнодумные разговоры в квартирах преподавателей и в общежитиях студентов. Главным было для многих из них – понять, в каком мире мы живём, понять природу страшной системы, найти, в чём ошибочность марксизма, если он ошибочен. Уже не боялись делиться этими мыслями с друзьями в поздних кухонных беседах, понижая голос и включая радио и телевизор одновременно: считалось, что два источника звука создадут достаточную звуковую преграду на случай, если подслушивают с улицы. Если же подслушивают через телефон, то на этот случай поворачивался диск и закреплялся с помощью карандаша. Наверное, сейчас эти наивные ухищрения смешны.
Вечером мы слушали «Би-би-си», поворачивая приёмник так и этак, чтобы проскочить между рёвом глушилок и музыкой с соседней волны. Мы узнавали из Лондона и Мюнхена о диссидентах, о Хельсинкской группе, о Комитете защиты прав верующих. Западный эфир на долгие годы стал для нас главным источником информации, более того, каналом связи. Через него мы узнавали друг о друге.
Но это была тайная вечерняя, даже часто ночная жизнь (радиостанцию «Свобода» можно было услышать только ночью, и мы вставали в два часа и не спали до четырёх, сжимая ручку настройки). Кроме радио и разговоров в неё входили песни Галича и самиздатские книги, дававшиеся только самым надёжным друзьям на одну ночь.
Но и в дневной жизни появились трещины, раскалывавшие понемногу монолит идеологии. Это были студенческие опасные вопросы, которые в те годы официально именовались провокационными. Всякий неудобный вопрос объявлялся провокационным. На эти вопросы надо было что-то отвечать; приходилось выбирать между уважением к студентам и личной безопасностью.
Мало-помалу я присоединилась к идеологически ненадёжному меньшинству.
Однако, когда в 1964 или 1965 году, нарушая учебный план, я начала рассказывать студентам на уроках латинского языка о великой культуре античности, у меня и в мыслях не было бунтовать против идеологического диктата. Всё, чего я хотела, – это дать моим студентам, юношам и девушкам из смоленских сёл, немного больше сведений из истории культуры, чем это предусматривает скудная программа. Мне казалось нелепым, что они должны делать грамматический разбор латинского предложения с именем Цицерона в качестве подлежащего, в то время как они не знают, кто такой Цицерон и чем он знаменит.
Заведующий кафедрой скоро узнал о моей дерзости, но промолчал, не возразив и не одобрив: человек образованный, он понимал необходимость того, что я делала, но предоставил мне самой пожинать возможные горькие плоды моего несанкционированного усердия.
На этих незаконных лекциях, украденных у герундия и перфекта, особенно часто возникали у студентов опасные вопросы. Но боюсь, что провокационными следует назвать не вопросы учащихся, а сами лекции преподавателя, который, рассказывая о Риме периода упадка, не всегда удерживался от рискованных параллелей.
В первый же год, дойдя в своих лекциях до рубежа между двумя эрами, я остановилась в недоумении: как же быть с христианством? Нельзя же обойти его молчанием. А если говорить о нём, то как? В то время я не верила в Бога, но воинствующий атеизм был мне отвратителен, я видела в нём воинствующее невежество. Христианство было для меня большой культурной и нравственной ценностью, с этих позиций я и начала свои получасовые лекции о христианстве. Моё отношение к этой теме, при всей его умеренности, резко отличалось от тех злобных и бессмысленных ругательств, которыми сопровождали любое упоминание о христианстве преподаватели марксистских дисциплин. Была ещё одна немаловажная разница между нами: в те времена позиция лектора считалась недостаточно атеистической, если он признавал Иисуса Христа не мифическим персонажем, а исторической личностью. У меня же историчность Христа не вызывала сомнений, и эту точку зрения я излагала студентам.
До сих пор не понимаю, как за многие годы этих нелегальных чтений никто на меня не донёс. В каждой студенческой группе был свой стукач, в этом нет сомнений. Я думаю сейчас, что эти маленькие шпионы были настолько необразованны, что не поняли идейной опасности моих рассказов; кроме того, они, возможно, сами увлеклись в какой-то степени новизной этой темы. Риск между тем был велик с самого начала. Преподавателей всю жизнь вооружали для борьбы против веры и церкви. Проявить к этим вопросам интерес, не сопровождаемый погромным пылом, было не просто рискованно, это было почти самоубийственно. В середине 60-х годов была уволена наша молодая коллега, преподавательница английского языка, за то, что она позволила своей матери окрестить своего ребёнка. Я помню это собрание. Я слушала выступления коллег, разоблачавших безыдейность провинившейся и её преступное пособничество международной реакции, слушала, сочувствуя бедной женщине, помнится, мне и в голову не пришло встать и выступить в её защиту. А ведь мой собственный ребёнок тоже был тайно крещён: я сделала это отчасти из противоречия идеологическому императиву, но отчасти из смутной, но стойкой уверенности, что так надо. Коллеге не повезло, на неё кто-то донёс – что ж поделаешь, такова жизнь. Вероятно, с такими мыслями я слушала собрание. Официально женщину уволили не за то, что ребёнок был окрещён. Такой статьи в нашем лицемерном кодексе не было никогда. У нас была, и до сих пор, несомненно, практикуется смягчённая форма увольнения – «по собственному желанию». Человека подвергают публичной экзекуции и предлагают подать заявление об уходе. Его трудовая книжка не оскверняется очернительной записью, он может найти себе другое место работы. Так делают, когда жалеют человека, но чаще всего – когда нет соответствующей статьи, то есть когда увольнение незаконно. Прибегают к этому способу и для того, чтобы избежать огласки, спасти честь мундира, не навлечь неприятностей на руководство, проглядевшее преступление или крамолу среди подчинённых. Непримиримая ненависть к христианству и к религии вообще всегда удивляла меня. Я чувствовала здесь какую-то тайну. Казалось бы, чем мешает построению светлого коммунистического будущего религия, исповедующая добро, тем более что верующих, как нас уверяли, с каждым годом становится всё меньше и меньше, и скоро их не станет совсем. Воинствующее безбожие партийной идеологии толкало меня к поискам в этом направлении. Но в духовных поисках, в отличие от размышлений о природе нашего политического и общественного строя, я была одинока. Никто из моих друзей не разделял этого интереса. Да и долгое время духовное одиночество не тяготило меня.
В конце 60-х годов я получила по наследству от бабушки Новый Завет. Это чтение обозначило новый этап моей духовной жизни. По своей привычке приносить всё самое интересное в студенческую аудиторию я стала приносить Новый Завет на свои внепрограммные лекции и читать, а позднее диктовать студентам отрывки из Нагорной проповеди. Евангелие зазвучало вслух, и, возможно, это убыстрило мои собственные шаги по пути, которым я давно уже шла. Потребовалось ещё немного времени, чтобы я осознала себя верующей.
В начале 70-х годов я с тоской озиралась вокруг, ища братьев по духу, а находила только единомышленников в отрицании системы.
Много позже я узнала, что в те же самые годы примерно тот же путь, независимо друг от друга и тоже в одиночестве, прошли неподалёку от меня ещё, по меньшей мере, три человека. Это были юноши, студенты нашего института; они не были близки и не делились друг с другом своими проблемами. До поры до времени мы ничего не знали о духовных исканиях друг друга.
Один из них занимался у меня в кружке по истории французской культуры. Любознательный студент задавал мне разнообразные вопросы: возникали беседы, выходившие за рамки кружковых тем. Этим студентом был Владимир Пореш. Однажды – он был уже студентом Ленинградского университета – он сказал мне, что стал верующим. Мне оставалось ответить: «Я тоже».
Молодые быстрее находят друг друга. Скоро я узнала, что несколько молодых православных христиан Москвы и Ленинграда организовали семинар, и я стала ездить на их собрания. Это было в 1974 году.
Жизнь изменилась круто: в ней появилось главное, и оно было подпольным. Мы собирались на частных квартирах то у одного из друзей, то у другого. Была общая молитва, постепенно сложился даже свой молитвенный канон. Живой огонь веры грел душу и питал мысль. Состав семинара был подвижен, но ядро его составляли несколько человек: это были молодые люди лет двадцати пяти – тридцати из разных социальных слоев, порвавшие с советской системой если не образом жизни, то внутренне. Семинар как форма собраний был задуман Александром Огородниковым и Владимиром Порешем. Огородников был исключён из трёх высших учебных заведений, формально он был рабочим, но по сути это был деклассированный инакомыслящий – социальный тип, очень распространённый у нас в последние двадцать пять лет. Пореш не принадлежал к этому социальному слою, он работал в Библиотеке Академии наук в Ленинграде, в отделе истории книги. Вскоре к ним присоединились Владимир Бурцев, в то время рабочий Московского Метростроя, Владимир Соколов, актёр кино, Виктор Попков, профессиональный спортсмен, оставивший спорт ради христианской деятельности. Принимали участие в семинаре и совсем молодые люди, среди которых был и мой сын Александр, студент нашего Смоленского педагогического института.
Помню, как удивительно мне было видеть эту толпу молодых молящихся мужчин. Мы привыкли за долгие десятилетия, что в церковь ходят пожилые женщины, и я подумала тогда, что эти юноши – вестники глубоких и серьёзных перемен.
Семинарские доклады и занятия посвящались истории православной Церкви, творениям святых отцов Церкви, русской религиозной философии – всему, что было у нас отнято атеистическим воспитанием и образованием и что стало насущно необходимым.
Менее всего наши встречи отличались академической сухостью. Переступив порог очередного пристанища, мы чувствовали себя в мире свободы, творчества и любви. Мы были плохие конспираторы, более того, мы не хотели конспирации: мы не занимались политикой, не выступали против власти, не призывали к её свержению и не хотели вести себя в своём отечестве, как в чужой стране. Поэтому, когда у Александра Огородникова появился, стараниями и средствами сочувствующих и друзей, свой дом в деревне, адрес этого дома, нашего постоянного в те годы приюта, сообщался всем, кто хотел его узнать. Не раз он был сообщён по «нехорошим голосам», то есть по западному радио. В деревню Редкино Калининской области стали приезжать молодые люди из разных мест, в том числе из отдалённых маленьких городков России.
Наши собрания не могли остаться тайной для КГБ. Думаю, что именно наше пренебрежение к конспирации, спокойная свобода как принцип жизни и беспрепятственный – с нашей стороны – доступ к нам всех, кто того хотел, так рассердили нашу тайную полицию. Кроме того, мы, судя по всему, были первыми. Позднее появятся подобные семинары во множестве, они будут осторожнее и более академичны. У нас же был по сути не семинар, а община, то есть не молитвенное собрание, а форма жизни.
С течением времени мы всё чаще замечали за собой слежку: обернёшься неожиданно на улице и видишь уже примелькавшуюся физиономию.
Весной 1978 года в нашу смоленскую квартиру пришли с обыском. Это была кульминация, после которой быстро наступила развязка. Во время обыска у нас нашли самиздатский журнал «Община», который выпускали Пореш и Огородников, и много религиозной литературы. Две недели спустя началась организованная травля: были пущены по городу слухи о том, что в педагогическом институте раскрыта банда «сектантов-шпионов», которую возглавляла преподавательница иностранного языка, связанная с западной разведкой. Люди испугались, бывшие коллеги и студенты боялись здороваться со мной и переходили на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи. На факультете одно за другим проходили собрания, на которых нас клеймили как врагов марксистского учения и проводников чуждой идеологии.
Меня уволили, сына и его жену Любу исключили из института. Началась пора репрессий, шёл 1978 год. Осенью арестовали Огородникова, летом 1979-го – Пореша. В самом конце 1979 года и первые дни 1980-го последовали следующие аресты: в тюрьме оказались Владимир Бурцев, Виктор Попков и я.
Политические обвинения были предъявлены только Огородникову и Порешу, остальные были арестованы по различным уголовным статьям.
В феврале 1979 года мы собрались на семинар в Москве, в квартире одного из знакомых. Туда пришла группа сотрудников милиции и дружинников, с обыском.
Моя несдержанность (дружинник грубо сдавил мне руку, чтобы я разжала пальцы и отдала ему блокнот; я взмахнула рукой, чтобы дать ему пощёчину, но лишь мазнула по подбородку) дала им возможность обвинить меня в хулиганстве. Два месяца они размышляли, давать ли ход делу; 7 апреля, в день Благовещения, мне предъявили обвинение по статье 206, части первой, но не арестовали меня, а лишь взяли подписку о невыезде. Начались допросы. Первый мой следователь был коммунист-фанатик; он смотрел на меня с ненавистью, от ярости у него ходили желваки на щеках. Он расспрашивал меня о молодых девушках, посещавших наш семинар, и повторял злобно: «Всё мог бы простить, но девчонок не прощу. Вы их вовлекли в эту вашу липкую паутину. Лучше бы они стали воровками».
«Липкая паутина» была ходячая метафора, клише, обозначавшее религию; употреблялось во всех курсах по атеизму, в антирелигиозных брошюрах и статьях.
Я чувствовала, что арест неизбежен. Я не была к нему готова. Меня мучил страх, я боялась допросов в КГБ, которые рано или поздно должны были иметь место, но ещё больше я боялась своих будущих спутниц – женщин тюрьмы и лагеря, воровок и убийц. Я молилась каждый день, прося Господа снизойти к моей слабости и отложить арест на некоторое время, чтобы мне окрепнуть духом.
В конце апреля дело было приостановлено, допросы возобновились только в сентябре. Я получила четыре месяца передышки, чтобы собраться с силами. В сентябре меня вызвал уже другой следователь – молодой, циничный, ухмылявшийся. Он объявил мне, что теперь меня обвиняют по части второй той же 206-й статьи. Я заглянула в кодекс. Часть вторая предусматривалась для случаев с тяжкими телесными повреждениями или с применением орудий и предметов. «Что, – сказала я, – после тщательного розыска в моей руке нашли кастет?» Он засмеялся: у него было чувство юмора. «Нет, – ответил он, – просто вы особо опасный преступник».
Суд был назначен на 26 декабря 1979 года. Видно, я всё-таки сильно волновалась, потому что ночью у меня был приступ глаукомы, меня привезли в глазную клинику, и несколько часов врачи спасали мой правый глаз с помощью капель и пиявок. Утром я явилась на суд с повязкой на голове. Наш суд, как известно, самый гуманный в мире: процедура и арест были отложены на две недели, до 8 января. 7 января – православное Рождество. Была очень морозная, очень ясная, дивная рождественская ночь, полная звёзд и сверкающего снега. Я провела её в московской церкви Адриана и Наталии, что на Ярославском шоссе, с друзьями за рождественским столом. Я исповедалась, причастилась и чувствовала себя готовой. Ехала на суд с вещами, понимая, что назад уже не вернусь. Мои молодые друзья пришли, но не были допущены в зал суда, который был заполнен исключительно мужчинами от тридцати до пятидесяти, с военной выправкой, хоть и в штатском. Впрочем, многие смотрели доброжелательно: кто-то открыл мне дверцу загородки для подсудимых, кто-то передал друзьям, стоявшим за дверью, мои часы (часы в тюрьме запрещены).
Во время перерыва меня выпустили в коридор, и я в последний раз стояла в объятиях друзей; они дали мне иконку Божьей Матери, которая позже сопровождала меня в путешествии в Сибирь и которая ждала меня три года в моих вещах на лагерном складе: заключённым нельзя было иметь иконы и кресты.
Когда был произнесён приговор (три года лагерей общего режима), меня повели специальной лестницей в камеру предварительного заключения, а друзья пели в это время в коридоре «Отче наш».
Начался первый день из трёх лет.
Три года – срок по нашему кодексу маленький, а колония общего режима, тем более женская, – наказание мягкое по сравнению с колониями других категорий.
Судили меня в Москве, а отбывать наказание отправили под Уссурийск. Порядок этапирования у нас такой: заключённых отправляют партиями по железной дороге, но не сразу к месту заключения, а до ближайшего большого города, в котором есть пересыльная тюрьма. Некоторых отсюда распределяют по местным колониям, другие ждут в пересылке очередного этапа, ждут неделю, две, три…
Сидевшие знают, что осуждённых у нас несметное множество: лагерники, «тюремщики», поселенцы, ссыльные, «химики», ЛТП… Когда свободы лишены миллионы, эти наказанные преступники превращаются в особую социальную категорию, засекреченность которой усугубляет её бесправность и угнетённость.
Несидевшие очень плохо представляют себе число наших колоний и их обитателей: статистические данные стали как будто появляться, но лишь в самом общем виде и в малодоступных изданиях. Представления обывателя колеблются между грандиозными кошмарами прежних времён, перенесёнными в сегодняшний день, и наивно-жестоким убеждением, что лагерей у нас теперь мало и сидеть в них легко, поэтому и преступники не переводятся. Но всё же слава наших лагерей такова, что, когда я вернулась, родные и знакомые боялись меня расспрашивать, опасаясь не столько травмировать меня воспоминаниями о пережитых ужасах, сколько травмироваться самим, – они были уверены, что меня били.
Тюремно-лагерную тему до сих пор окружает плотный туман секретности. Лишь изредка в разрывах его мелькнёт документальный кинокадр о перевоспитании опустившихся женщин или статья видного публициста об осуждении невиновного. В самое последнее время стали появляться в печати очерки о воспитательно-трудовых колониях для подростков. О колониях же для взрослых, в частности о женских, почти ничего нет по-прежнему.
Когда нас привезли в колонию, заместитель начальника по режиму предупредил: «Письма писать можно, но смотря о чём. О своей жизни пишите так (у кого есть ручки, запишите): „Здравствуйте, дорогие родственники, я здорова, живу хорошо, работаю, стараюсь выполнять норму". О том, как вы размещены, как одеты, чем кормят, где работаете, каковы нормы выработки и нормы питания, писать нельзя. Если вы больны, они вам всё равно не помогут, лекарства присылать запрещено. Зачем же зря расстраивать близких людей?»
Засекречены не только сведения о жизни осуждённых, засекречены и сами законы. Невозможно пойти и купить уголовный кодекс, поэтому никто из находившихся со мной женщин не знал заранее о том, какое наказание грозит им за их преступления. Многие были уверены, что женщин у нас вообще не сажают, во всяком случае имеющих маленьких детей: ведь у нас же самые гуманные законы, они это с детства знают.
О существовании уголовно-процессуального кодекса знают далеко не все обвиняемые, не говоря уж о гражданах, не столкнувшихся с правосудием. Исправительно-трудовой кодекс, в котором изложены правила и обязанности как осуждённых, так и тюремно-лагерной администрации, я смогла прочитать, только вернувшись домой после отбытия срока. Заключённым он недоступен.
Надо сказать, что сейчас официально принятый термин не «заключённый», а «осуждённый». Однако традиционное слово кажется мне более точным, к тому же давным-давно в ходу сокращения «зек», «зечка», поэтому я часто употребляю старые слова.
Слово «тюрьма» сейчас, оказывается, тоже официально не принято. Один офицер МВД, проходя по коридору Бутырки и услышав из наших рядов это слово (нас вели мыться), очень рассердился и закричал: «У нас нет тюрем! Тюрьмы у капиталистов! У нас есть изоляторы». Но слово «изолятор» издавна имеет медицинское значение, да и не вижу я ничего дурного в слове «тюрьма». Есть преступники – значит, есть и тюрьмы, что ж тут поделаешь.
Впрочем, изолятор ли, тюрьма ли – всё равно за решёткой. Когда я шла в зону, я думала найти там только людей уголовного мира, преступниц в полном смысле слова. Я считала, вместе с большинством нашего населения, что тот, кто там сидит, сидит за дело. Логика моя была проста: они совершили преступление, что с ними церемониться? Им должно быть плохо, и чем хуже, тем полезнее: будут знать, как грабить. О том, что эти люди имеют права, что лишение свободы ещё не есть лишение всех прав человеческих и гражданских, я догадалась уже там. Я увидела продуманную и одновременно стихийную систему мер для расчеловечивания человека, для ежедневного, ежечасного унижения человеческого достоинства, для уничтожения в человеке всех основ личности: родственных и семейных связей, различения добра и зла, самоуважения. В конце XX века человек вдруг видит себя рабом, не в переносном, а в прямом смысле – принадлежащим к касте рабов, к касте презираемой, печать которой остаётся на нём до смерти.
Однажды в новосибирской пересылке ко мне подошла женщина и сказала на ухо: «Ведь ты, когда выйдешь, напишешь про всё это?»
Через семь тюрем
Время от времени герои кинофильмов попадают по ходу сюжета в тюрьму, мы видим их в камере. Но это не та камера, какая бывает на самом деле. В настоящей камере над койкой нависала бы верхняя полка, как в вагоне, а дальше по стене, голова к голове, стояла бы такая же двухэтажная кровать либо по стенам тянулись бы двухэтажные деревянные нары, переполненные людьми. Сколько в камере народу? А сколько надо, столько и будет. На нарах бывает так тесно, что матрацы не помещаются, приходится их комкать и лежать впритык к соседкам. Но самое неприятное – спать под койкой, под шконцами, как там говорят. У мужчин это означает низшую ступень в камерной иерархии, положение парии и принуждение к сожительству. У женщин, к счастью, такой иерархии нет, и под койкой оказывается та вновь прибывшая, для которой нет места на кровати. Дверь открылась, протолкнули ещё нескольких и снова заперли.
Никто ведь не смотрит, есть там место или нет. Свободного же пространства на полу, между кроватями, если камера небольшая, нет: оно занято столом и скамейками. Но и в большой камере весь пол устлан матрацами, и кому-то неизбежно придётся ползти под нары. Я спала под кроватью десять ночей в свердловской пересылке. Это очень тяжело.
В камере можно или лежать, или сидеть. Стоять негде, ходить – где уж тут ходить! От стола до унитаза четыре-пять женских шагов (описываю камеру 310 в Краснопресненской тюрьме, где я провела полтора месяца). Однако ходим по очереди по этой крошечной тропочке, иначе станут отниматься ноги. Невозможность двигаться – страшная подробность камерной жизни, не менее разрушительная для здоровья, чем прочие её особенности, к которым перехожу.
Итак, живём сидя. Но прислониться к стене спиной в Краснопресненской тюрьме нельзя: стена мокрая. В камерах 310 и 302, где я подолгу находилась, по углам день и ночь стекала вода. В сухие дни – меньше, в сырые – струйками. Я провела там январь, февраль и почти весь март 1980 года. На потолке и верхней части стен оседали испарения. В изобилии водились мокрицы. Время от времени они падали на нас с потолка. Они не выбирали ни времени, ни места, поэтому падали и в миски с едой тоже. Особенно они донимали нас в камере 310. Это вызвало попытку протеста. Несколько раз женщины обращались к дежурным надзирательницам через кормушку (это окошечко в железной двери, через которое подаётся еда и всё остальное), прося принять какие-то меры в связи с крайней сыростью и мокрицами. У девушек, находившихся в камере уже год, начался неприятного характера постоянный кашель. Просьбы ни к чему не привели, и однажды утром все обитательницы камеры отказались от завтрака и подали в кормушку заявление (каждая своё, со своими формулировками, так как подавать коллективное заявление по какому бы то ни было поводу запрещено). Заявления содержали жалобы на сырость и мокриц. Участие приняли все без исключения, так как уклониться значило навлечь на себя презрение и гнев сокамерниц, а это в условиях тюрьмы ещё опаснее, чем гнев администрации.
От обеда мы отказались тоже. Днём пришёл заместитель начальника тюрьмы, очень сурово кричал на нас, отправил двух женщин, сочтённых им зачинщицами, в карцер и пригрозил ещё более страшными карами. После этого нас всех расселили по другим камерам, а в нашей, 310-й, сделали косметический ремонт и поселили туда других.
Первое впечатление от тюрьмы, как только переступаешь её порог, известно каждому кинозрителю. Да, это действительно устрашающий лязг и грохот запоров. Второе впечатление не менее сильно – всепроникающий особый тюремный запах. Он присутствует уже внизу, в приёмнике, а в камере он удушлив и плотен, смешан с густым табачным дымом: почти все женщины здесь, не говоря уж о мужчинах, курят. Проветривать камеру разрешается, но открытая форточка плохо помогает, тем более что окна забиты снаружи досками: не вместо решёток, а в дополнение к ним.
Эти доски заключённые называют намордниками, а поэтические натуры именуют их ресничками. Из-за них в камере темно, несмотря на круглосуточно горящую лампочку под потолком. Днём маленькие щели между досками позволяют видеть только полоску неба.
Я мельком упомянула унитаз, но этот предмет заслуживает большего внимания. До посадки я была наслышана о парашах и, морщась, готовилась к этому испытанию. Войдя в свою первую камеру, ещё в Бутырке, я увидела ослепительное, белоснежное, ничем не пахнущее фаянсовое чудо и облегчённо перевела дух. «Да оно ещё и загородочкой от камеры отделено», – заметила я про себя с умилением. От камеры, но не от двери, конечно. Со стороны двери никакой загородки нет.
Для большинства осуждённых тюрьма – жилище временное. Многие проводят там месяца два-три. Но я встречала людей, находившихся в тюрьме более полутора лет после вынесения приговора, а до этого они провели около года в следственной тюрьме (это были групповые дела). Всё это время заключённый (не забудьте, что я пишу о женщинах, в большинстве своём молодых, часто даже очень юных) находится в переполненной и душной камере, нередко сырой; он не видит ничего, кроме стен камеры и лиц соседей, как если бы камера была без окон; он не может нормально двигаться, потому что нет места; он (она!) не может уединиться даже в туалете.
Раз в день за дверью раздаётся: «На прогулку!» Охранник ведёт нас коридорами не вниз, а на самый верх здания, где вдоль обычного тюремного коридора обычные тюремные двери. Это дворики. Небольшое пространство величиной с комнату окружено серыми стенами, земли нет, асфальт. Ни травки, ни деревца. Посередине иногда скамейки. Над головой – металлическая сетка, «небо в клеточку». Шуметь нельзя, бегать и прыгать нельзя. Можно сидеть, стоять, ходить. Наша 310-я пыталась добиться официального разрешения делать коллективную зарядку под руководством одной из девушек. Не разрешили: заключённым ничего не разрешается делать коллективно, кроме работы. Мы стали всё же делать зарядку, отдавая команды тихим шёпотом. Это нам удалось: видимо, посмотрели сквозь пальцы.
Увидеть во время прогулки что-либо, кроме неба, невозможно – ни дальнего горизонта, ни башен, ни крыш. Зато можно перекликнуться с соседними двориками (это запрещено, но ведь за всем не уследишь), узнать общетюремные новости, спросить о знакомых, если они у тебя есть. Познакомиться можно в КПЗ (камере предварительного заключения), в этапке, в бане, «по телефону» (то есть через трубы парового отопления), а бывает, что сидевших в одной камере и подружившихся почему-то разлучат, переведут в разные камеры. Прогулка продолжается ровно час. Сколько бы времени человек ни провёл в тюрьме, он не увидит улицы, дома, дерева, людей до самого этапа, то есть до отправки в колонию.
Этап – это самая трудная часть отсидки, во всяком случае для тех, кого отправляют далеко. Заключённых везут от одной пересыльной тюрьмы до другой. Те, чьё место назначения поближе, отсеиваются по дороге, а такие горемыки, как я, проезжают шесть железнодорожных перегонов, каждый от одних суток до трёх. В промежутках между перегонами – пребывание в пересылках (Свердловск, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Уссурийск) от одной до нескольких недель. От Москвы до села Горного под Уссурийском, где находится моя колония, меня везли два месяца. В общей сложности я прошла через семь тюрем, включая московские.
Специальный вагон, в обиходе – зек-вагон, разделён на несколько камер-купе разного размера. Окон в них нет. Свет проникает через решётку, стеной отделяющую все камеры от вагонного коридора. В коридоре окна закрашены белой краской – ни нас не видно, ни мы не видим, где находимся.
В камеры вагона наталкивают столько народа, сколько поместится в стоячем положении, оставляя так осуждённых и день, и сутки, и трое – в зависимости от дальности перегона. Плохо, если на возглас «с вещами!» ты выходишь налегке: нечего будет есть на этапе, кроме солёной рыбы, нечем будет укрыться, не будет у тебя самых необходимых вещей, когда тебя привезут в зону. Но если у тебя вещи, то они создают дополнительные трудности на этапе. Сколько раз, задыхаясь под своим рюкзаком, когда надо было бежать бегом к зек-вагону, я выслушивала окрики охранников: «Бабка, брось мешок, золото у тебя там что ли?» Но я не бросила его и правильно сделала, потому что в нём были тёплые вещи, которые меня потом спасали в зоне. А бежать нас заставляли не потому, что мы опаздывали – зеков не могут привезти впритык – а потому, вероятно, что от нас требовалось как можно быстрее преодолеть расстояние от воронка до вагона, дабы мы не портили своим видом окружающий железнодорожный пейзаж.
Перед отправкой на этап осуждённому выдаётся дорожный рацион: чёрный хлеб и солёная рыба – селёдка, килька или салака, а также сахар. У кого есть свои запасы, тот может взять их с собой, у кого их нет – будет питаться в дороге хлебом, рыбой и водой. Но беда в том, что воду в пути дают редко и солёная рыба становится источником мучений. Заключённых полагается поить и выводить из камер в уборную через какие-то разумные промежутки времени, это оговорено в правилах. Да то ли лень, то ли доставляет удовольствие чувствовать кого-то в полной своей власти, но мучаются люди жаждой и другими муками в немыслимо переполненных камерах, а еда – солёная рыба. Всегда, везде на этапе – солёная рыба, как было и тогда, в не мною описанные времена.
Я видела своими глазами, как пожилая женщина плакала и, сползая на пол, умоляла солдатика охраны сжалиться над ней и вывести её в туалет, он стоял у решётчатой двери камеры, смотрел прямо на неё и улыбался.
Кто здесь перевоспитывается и в какую сторону?
Эти парнишки-охранники – не какие-то специальные люди, а обыкновенные солдаты срочной службы.
Когда в пересыльную тюрьму прибывает очередная партия заключённых, её сначала помещают в так называемую этапку. Здесь люди проводят от нескольких часов до нескольких дней, в условиях довольно специфических. В этапках не выдают матрацев. Контингент этапки подвижен – непрерывно кого-то выкликают для водворения в камеру, а кого-то приводят с новой партией. Незабываемая свердловская этапка… На грязных голых нарах, на захарканном, усыпанном мусором полу сидят, стоят, лежат люди. Направо какое-то возвышенье, не то эшафот, не то большая плита: не прекращается ровный шум, и мелькает огонь. Прихожу в себя, присматриваюсь. Нет, это не плита, это просто уборная: три канализационных дыры в поднятой над полом каменной площадке, без унитазов, со следочками для ног. Шум – от непрерывно бегущей воды. А огонь вообще не там, огонь ниже, в углу, там сложен костёр из грязных бумажек, вокруг него сидят на корточках женщины и, держа кружки над огнём, что-то варят. Позже я узнала, что варят они чифирь, от которого будут «балдеть».
Из всех тюрем, какие я видела, самая чистая – иркутская. Вот что значит вековая традиция.
Но почему-то эта традиция никак не сказалась на хабаровской тюрьме, здесь в этапке живут вши. Обыкновенно живут, как клопы и тараканы. Не на людях, а прямо на нарах. Такого я не видела даже во время блокады.
Уссурийскую этапку прозвали душегубкой. И как иначе её назвать? Небольшое помещение без окна – только с окошечком-кормушкой в двери, коридорная дежурная всё время закрывает его – в наказание за шум в камере. Жара, и духота такая, что приходится беречь силы, лечь на пол, а это всё равно, что лечь на пол в общественном туалете – чистота та же, – стараться не двигаться, иначе не выдержит сердце.
От КПЗ до тюрьмы, от тюрьмы до зек-вагона, от зек-вагона до колонии нас везут в воронке. В кузове воронка невозможно выпрямиться даже при моём маленьком росте – так он низок, а сидеть удаётся лишь нескольким из двух-трёх десятков набитых в кузов. Это неестественное полусогнутое положение физически мучительно, лучше было бы на коленки встать, но нет места для коленок. Это почти пытка. Пусть читающий попробует забраться в низкий шкаф и встать там, слегка согнув колени и наклонив голову и верхнюю часть спины, – долго ли он выдержит? Несколько минут, не больше. Заключённые остаются в таком положении по два часа и более, когда их везут далеко. Губительна для здоровья тюрьма, но тяжесть долгого этапа съедает последние силы. За два месяца этапа я постарела на несколько лет.
Только одна или две камеры зек-вагона предназначены для женщин, в остальных едут мужчины. Мужчин у нас сидит во много раз больше, чем женщин. Колонии давно разделены, в тюрьмах мужчины и женщины содержатся на разных этажах, и только в дороге они видят друг друга: в зек-вагоне, в воронке, при погрузке и выгрузке. И каждый раз я убеждалась в том, что с женщинами у нас обращение всё же гуманнее. Нам не надо, выйдя из вагона, садиться на корточки, нас не пихают в спину, когда мы спрыгиваем со ступеньки воронка, нас, даже если мы из-за чего-то расшумимся в зек-вагоне, не выводят поодиночке в тамбур бить, и мы не возвращаемся, обвисая на руках охранников, волоча обе ноги, с бессильно свесившейся головой и мокрыми после отливания волосами. Нас даже не заставляли брать руки за спину. За все три года я только раз услышала этот окрик: «Руки за спину!», обращенный к нашей женской колонне. Только раз я испытала на себе силу кулака охранника, но удар этот мне не предназначался. Вот как это было.
Во дворе московской тюрьмы шла посадка в воронок. Только что погрузили мужчин. Надо сказать, что при погрузке и выгрузке ни один заключённый-мужчина не минует тычка в спину – таков, вероятно, порядок. Мужчины были уже в кузове воронка, настала наша очередь. Нас было всего четверо, и я стояла первой. Молодой солдат, только что давший двадцать с чем-то тычков, по инерции поступил и со мной так же. Я влетела в дверь воронка, упала плашмя на пол и стукнулась головой о переборку. В голове у меня загудело, но сознания я не потеряла. Я увидела возле себя белое лицо солдатика. Он тряс меня за плечи и испуганно повторял: «Мать, ну мать же, вставай!» Мне оставалось только успокоить его – ничего, мол, не бойся, не убил. Этот тычок предназначался мужчине.
И с едой им труднее. Нормы одинаковые, нам хлеба хватает, а им нет. В тюрьме мы просили брать у нас остающийся хлеб и отдавать его мужчинам, но нам, конечно, ответили: «Не положено».
Перед очередной отправкой, когда раздавали этапный рацион, на хлеб довольно щедрый – по моим аппетитам, – иногда удавалось сунуть кому-то из них буханку-другую и пакет с рыбой (я рыбу даже не брала, чтобы не соблазняться).
Позднее от живых свидетелей, вышедших из лагерей, узнала об условиях их жизни в лагерях. Им намного труднее и голоднее. У нас кошки в большом количестве бегали по зоне, и много было кошатниц. А когда появлялись собачонки, их тоже находили, чем покормить. Сами же они отнюдь не становились пищей, как это часто случается в мужских зонах.
Уссурийская колония
В селе Горном Приморского края, недалеко от Уссурийска, находится женская исправительно-трудовая колония общего режима для первой судимости – ИТК 267/10. Огорожено не очень высоким забором с колючей проволокой небольшое пространство, по углам – смотровые вышки, вдоль забора свисает путанка; внутри – запретная полоса. Территория невелика: от запретки до запретки поперёк всего сто моих шагов с небольшим, вдоль – шагов пятьсот с лишним. На этом пространстве разбросано пятнадцать-семнадцать бараков и два двухэтажных здания. Бараки – это баня, больничка, столовая, приёмные начальников, школа, клуб и, конечно, жилые помещения. Всё это очень маленькое и выглядит невзрачно, серо и грязно. Зону пересекает несколько дорожек, есть обшарпанная эстрада – здесь летом бывает кино. Вдоль дорожек стоят щиты. Это обычная наглядная агитация: лозунги, призывы, плакаты, выдержки из исправительно-трудового кодекса (самого кодекса в нашем распоряжении нет): «На свободу с чистой совестью», «Повинную голову меч не сечёт», «В человеке всё должно быть прекрасно» и так далее.
В центре территории – плац для построений. Очень тесно. Маршировать с песней, как это показано в документальном кино о женщинах-алкоголичках, здесь было бы невозможно. Очевидно, в кино засняли какую-то более благоустроенную зону. Говорят, есть образцово-показательные, куда пускают даже иностранцев – с белоснежными душевыми и горячей водой, с асфальтом на плацу и с кухонной посудой, предоставленной в распоряжение женщинам. Наверное, такие колонии есть. Но я вынуждена описывать ту, которую видела. Я ведь не сама её выбирала.
Итак, на нашем плацу можно только стоять, и то если на построение выведена одна смена. Все три смены, обслуга, инвалиды занимают кроме плаца обе дорожки, идущие вдоль всей территории. К началу 1983 года в колонии было две с половиной тысячи человек. А весной 1980-го, когда я пришла в зону с майским этапом, была всего тысяча с небольшим.
Насколько плотны посадки, видно из того, что в нашей колонии встречались соседки по дому, родственницы, пациенты и врачи, соученицы, не имевшие к делам друг друга ни малейшего отношения. С точки зрения вероятности это выглядит прямо-таки неправдоподобно. В ожидании этапа женщины шли к административному зданию: «Может, знакомую встречу!» Этому есть два объяснения. Либо на Дальнем Востоке большая часть населения – преступники, либо аресты часто необоснованны. Третьего, по логике вещей, быть не может. Выражаясь по-зековски: гребут всех подряд.
В жилых помещениях тесно. Двухъярусные койки стоят так близко одна к другой, что проход между ними уже, чем в купе железнодорожного вагона, и тумбочка еле помещается, заправлять по утрам постель соседки-визави вынуждены по очереди: двоим не разойтись.
Летом 1982 года в нашей зоне ввели поистине чудовищное новшество: трёхъярусные койки. Народ-то всё прибывает, а зона не расширяется. Класть людей некуда, и какой-то рационализатор получил, вероятно, премию за те муки, на которые он обрёк тысячи людей. Трёхъярусная койка не намного выше двухъярусной. Её нижний этаж расположен у самого пола, так что под кровать не поставить ничего. Спящий на втором ярусе может находиться там только лёжа, сесть нельзя: верхняя полка над ним не даёт распрямиться сидя, тогда как на двухэтажной койке можно сидеть, не касаясь головой верхней койки, одеться, почитать, поесть, просто поразговаривать с кем-то «у себя». Не иметь своего сидячего места и жить так годами – это пытка, и человек может чувствовать себя объектом издевательства, а вовсе не справедливо покаранным. Ведь и вне койки ему негде сесть, места-то нет. Официально у нас как бы есть табуретки, практически – их нет, да и поставить было бы негде.
На каждом этаже нашего двухэтажного здания кроме огромной спальной секции (в нашей помещалось двести человек) есть ещё маленькая бытовка, где можно погладить, незаконно вскипятить банку воды и незаконно же умыться над помойным ведром. Рядом кабинет начальника отряда и так называемая комната общественника, а попросту – красный уголок с книжными полками, плакатами и телевизором – если бригаде повезёт. Бригады, живущие в бараках, не обладают и этими крошечными удобствами.
Сразу же по прибытии очередного этапа происходит переодевание: свои личные вещи мы сдаём на хранение, а надеваем на себя лагерную униформу, зимой это костюм (жакет и юбка) из серой ткани типа плотной мешковины, на ноги – кирзовые сапоги, на голову – серый полушерстяной тонкий платок. Нижнее бельё и рейтузы можно иметь свои, разрешены и красивые ночные рубашки. Но шерстяную кофточку и тёплый свитер иметь нельзя, ничего шерстяного выше пояса. Телогрейка поверх хлопчатобумажного жакета не спасёт от холода, если вниз не надето хоть что-нибудь шерстяное. Ведь выстойки на плацу предусмотрены дважды в день и долгие, а путь от зоны до фабрики удлиняется двумя проверками в воротах. Женщины перевязывают рейтузы на свитерки (конечно, нелегально), но их часто отбирают. Разрешены почему-то только китайские тёплые мужские рубашки «Дружба». Много хлопот доставляет летом белая косынка, которую надо стирать и гладить каждый день, а сделать это некогда, негде и нечем – воды нет.
Поражает бессмысленность установленных требований. Почему снизу можно зимой шерстяное, а там, где лёгкие, – нельзя? Почему летняя косынка обязательно белая, а за белый воротничок на платье будет взыскание? Почему именно китайская нижняя рубашка «Дружба», которую уже много лет негде взять, и разрешение становится бессмысленным?
Но, как ни трудно без тёплой одежды, главным вопросом зековской жизни остаётся питание. В нашей колонии за питание высчитывали в среднем по 19 рублей в месяц. Получается, по 63 копейки в день. Это хорошая, сытая зона. Есть такие, где расход на питание – по 17 и даже 16 рублей в месяц на человека. Подсчитайте сами, сколько получается в день.
Утром нам давали кашу, перловую или пшённую, иногда рисовую. Порции довольно большие, но каша была либо вовсе не заправлена, либо заправлена прогорклым жиром, либо, в хороших случаях, подсолнечным маслом – это было пиршество. В обед давали суп (так называемую баланду), сваренный в принципе на мясе (в колониях и тюрьмах полагается раз в сутки давать одно мясное блюдо), но мяса нам не доставалось. Иногда в ней плавали куски сала. Ни картошки, ни макарон не было ни разу. На ужин варили рыбный суп – это пустая жижа с рыбьими костями и головами. Хлеба полагалось 600 грамм в день, по 200 грамм за еду. Пожилым женщинам этого вполне хватает, ещё и останется, а молодёжь вечером идёт на разведку: «Мать, у тебя хлебца не осталось?» Это не помешает ей завтра выбросить остаток хлеба где попало – когда она наелась.
Это всё – не голод, далеко не голод. Но и не сытость. Прожить на описанный рацион трудно: недоедание рано или поздно скажется на работоспособности. Жиров очень мало, витаминов нет совсем, сладкого существенно не хватает, никогда ничего молочного, никогда ни кусочка сливочного масла, мясо только снится.
Единственное спасение – ларёк. Труд заключённых оплачивается значительно ниже, чем труд вольного. Из заработанных денег удерживаются положенные суммы за питание и одежду. Из того, что остаётся, мы имеем право расходовать определённую сумму (в моё время это было 6 рублей, теперь, говорят, больше) в месяц на покупку в колонийском ларьке необходимых вещей и продуктов. Расплачиваемся мы безналичным способом. За любую провинность могут этого права лишить, а могут увеличить сумму в порядке поощрения.
Если бригаде повезёт с отоваркой, она застанет в ларьке ценные для зека продукты: повидло, конфеты-подушечки, дешёвые рыбные консервы, а главное – маргарин. Маргарин заменяет заключённому и масло, и мясо, и сметану.
Вечером, после пустой рыбной баланды, не уснёшь от голода, пока не поужинаешь по-настоящему: кружкой чая с зоновским бутербродом – куском хлеба с маргарином и повидлом.
В нашей колонии есть приусадебный участок. Мы знали о нём от бесконвойниц, получивших право работать днём за пределами охраняемой территории. Они рассказывали, что на участке этом имелись разнообразные посадки овощей, разводились свиньи. Чуть ли даже не коровы были. Возможно, что кое-что из этого попадало в зековский котёл. Но ничего, содержащего витамины, мы не получали никогда. Хоть бы пол-луковки в неделю…
Скудость колонийского питания предусмотрена правилами. В столовой ИТК 267/10 висела таблица в граммах, и, если я не ошибаюсь, даже в калориях, расхода продуктов в день на человека. Таблица впечатляла своей, мягко говоря, умеренностью. Точных данных я, естественно, не запомнила, а все попытки обнаружить их в кодексах и комментариях ни к чему не привели: на воле они недоступны.
Отмечу: в число продуктов, которые запрещено присылать в колонии, входят витамины в таблетках и драже.
Скверное и скудное питание предусмотрено обще-колонийскими правилами, но у нас было ещё и своё, особое горе: привозная вода. Вся вода – и питьевая, и для мытья. Я не знаю, какому безумцу могло прийти в голову затолкать две тысячи женщин в несколько бараков на маленьком пятачке без воды.
Есть зимняя мойка для умывания – барак с двумя десятками рукомойников. Утром там умыться невозможно, очередь огромная, к тому же, как ни мала зона, а бегать туда-сюда утром некогда. Поэтому зимой идём на работу неумытые. Летом хорошо: есть летний умывальник под открытым небом. Воды там, правда, по утрам не бывает, её привозят позже, но вторая смена умывается, а первая может не выпить свой чай в столовой за завтраком, вынести его в кружке, он же не сладкий, и по дороге, пока идёт построение, ополоснуть лицо над травкой. Это запрещено, то есть запрещено выносить чай в кружке, но какая зечка не сумеет вынести кружку чая в кармане или в рукаве! Я тоже так делала. А чаю попить можно будет в цехе, во время перерыва.
Единственная возможность за день вымыть как следует руки и лицо – в цехе же, после работы, но только в нашем, закройном цехе. Он считается самым грязным, поэтому нам выданы тазики – три или четыре почерневших и ржавых тазика на смену в сорок – пятьдесят человек. Бочки с водой и ковшики есть во всех цехах, но тазики есть только у нас, в других цехах не предусмотрено мытьё рук.
Простыни свои мы должны стирать сами. Каждую неделю начальник отряда, женщина в звании офицера милиции, приходит к нам в спальное помещение и проверяет спальное бельё. Если оно недостаточно белое, она имеет право (и пользуется им) лишить осуждённую отоварки или на первый случай записать ей замечание. Несколько таких замечаний – и на «химию» не попадёшь. Начальнице надо, чтобы её отряд был первый (там, как и везде, соревнование).
Вода бывает лишь время от времени, часа на два.
И в баню, и в прачечную можно попасть только с позиции силы, иначе тебя вытолкают.
Но самое невозможное в нашей зоне – это так называемая гигиена женщины. Для этого есть две индивидуальные кабинки (две!), туда страшно зайти. Это такая грязь, такой ужас, что язык не повернётся назвать это комнатами гигиены, как они официально именуются. А больше никаких укромных мест нет, вся зона на виду, всё просматривается, да и опять же – вода. Где взять тёплую воду? Иначе как путём нарушений нельзя. Ещё не раз придётся повторить, что вся жизнь заключённых спланирована и устроена так, что человек не может, просто физически не может, при всём своём желании, не нарушать запретов. В данном щекотливом случае мы их тоже нарушаем, с риском потерять два рубля из отоварки.
Так и живём. Их дело – запрещать, наше дело – выкручиваться. Раза два в год медсестра читает нам в клубе лекцию о гигиене женщины…
После всего описанного никого не удивит, что каждый август в этой колонии бывает эпидемия дизентерии. Я пережила там три августа, один из них сама провалялась в дизентерийном бараке, а в другие ходила под окна навещать знакомых.
Каждый год по поводу дизентерии нам читают лекции в клубе. Нам объясняют, что после уборной надо мыть руки. «Где?» – раздаются голоса с мест. «Кто кричал? За выкрики два рубля долой» – это голос дежурного помощника, он имеет в виду отоварку.
Кстати, об уборных. Это центральное сооружение зоны, его издалека узнаёшь по запаху. Зимой и летом вокруг него струятся жёлтые ручьи, текущие далеко, в сторону летней эстрады и прачечной. Зима хороша тем, что мух нет.
Клятва Гиппократа
После того как прояснился вопрос с нашей гигиеной, самое время перейти к тому, как нас лечат. Начнём с теоретического обоснования.
Осенью 1987 года в ленинградской Публичной библиотеке я обнаружила журнал «Воспитание и правопорядок» (за июнь 1987 года), в котором полковник внутренней службы В. Романов, заместитель начальника Медицинского управления МВД СССР, доктор медицинских наук, опубликовал статью о медицинском обслуживании заключённых. Статья редкая и своей откровенностью, и полной бесчеловечностью. Чувствуешь себя так, как будто тебя перенесли на пятьдесят лет назад, в 37-й
Привожу выдержки из этой статьи. Наберитесь терпения, прочитайте их.
ИТУ: охрана здоровья и трудоспособность
Лечение больных осуждённых – так можно было ещё совсем недавно коротко сформулировать главную задачу медслужбы ИТУ. Задача эта, безусловно, свидетельствует о высокой гуманности советской медицины: оказание помощи человеку даже в том случае, если он умышленно наносит обществу вред. Следует сразу оговориться, что реализовать её весьма нелегко.
Чувство долга – неотъемлемое качество подавляющего большинства советских медиков, в том числе и работающих в системе ИТУ. Однако врачевание – это искусство, где большую роль играет чувство сострадания к больному, уважительное, душевное отношение к нему. А так относиться к человеку, который вчера грабил, убивал, предавал сограждан и государство, конечно же, нелегко даже самому гуманному специалисту. Налицо противоречие между чувством долга и психологией медицинского труда. Отсюда большие трудности в подборе медицинских кадров, порой ремесленнический подход медработников к лечению, нередко – отношение к медслужбе ИТУ как к формальной необходимости. <…>
Современная концепция системы здравоохранения в ИТУ определяет её генеральную цель – сохранение трудового потенциала лиц, временно содержащихся в закрытых учреждениях МВД СССР, обеспечение их трудоспособного состояния в период отбывания наказания в местах лишения свободы и при возвращении в общество. На этой основе работа медицинских служб ИТУ рассматривается как один из компонентов системы общегосударственных мер по укреплению здоровья населения и изыскания резервов в использовании трудовых ресурсов.
Реальным выражением этой новой установки здравоохранения в ИТУ является утверждённая руководством МВД СССР медицинская программа «Охрана здоровья и трудоспособность», определяющая задачи по медико-санитарному обеспечению лиц, содержащихся в ИТУ. Достижение её главной цели обеспечивается решением задач по трём основным направлениям: уменьшение временных трудопотерь, связанных с заболеваниями и травмами; сокращение стойкой утраты трудоспособности в связи с инвалидизацией; и сокращение смертности.
Главным условием успеха в этой работе является перестройка управленческой деятельности медицинского аппарата МВД, УВД. <…>
Реализация программных установок по разделу снижения временных трудопотерь, связанных с заболеваниями и травмами, зависит от упорядочения трудоиспользования осуждённых – обеспечения полной трудовой занятости.
Вот, увы, характерный пример. В одном из учреждений УВД Приморского крайисполкома осуждённые обеспечены работой совершенно условно, ради отчёта о выводе на оплачиваемые работы. Соответственно, никакой тревоги со стороны руководства ИТК относительно большого числа лиц, освобождённых по болезни, нет. Напротив, чем больше таких осуждённых, тем для него лучше – меньше спрос за показатель вывода. Вот и не скупятся медики, давая направо и налево освобождения по болезни, определяя группу инвалидности и др. И вообще, никто в подразделении не нацелен на снижение заболеваемости. Неслучайно в этом учреждении самые высокие показатели трудопотерь. <…>
Программа определяет меры по упорядочению экспертизы временной нетрудоспособности, документальное обоснование каждого случая освобождения от работы. Определено, что низкая трудовая занятость осуждённых на производстве и избыточный их вывод на оплачиваемые работы не должны снимать ответственности с медработников за определение нетрудоспособности. Предусмотрены меры по улучшению трудовой экспертизы больных туберкулёзом (почему-то организаторы производства всех больных активным туберкулёзом считают нетрудоспособными). <…>
Проведённая нами экспертиза выявила грубые недостатки в определении стойкой нетрудоспособности. Оказалось, что более чем в половине изученных материалов инвалидность была установлена необоснованно. В адрес этих мед-отделов сделаны соответствующие представления. <…>
Нетронутым резервом остаётся работа по трудовой реабилитации инвалидов путём устройства на производстве, позволяющем эффективно и без вреда для здоровья использовать и развивать их остаточную трудоспособность.
Для стимулирования этой работы предложено внедрить в практику оценки эффективности работы медчастей и больниц ИТУ показатель трудовой реабилитации осуждённых, определяющий относительное число инвалидов, переведённых из первой группы во вторую, из второй – в третью, и лиц, снятых с инвалидности. <…>
Важной проблемой здравоохранения в ИТУ является борьба с туберкулёзной инфекцией. Заболевание туберкулёзом обусловливает прежде всего высокие показатели как временной, так и стойкой нетрудоспособности. В решении этой проблемы крайне важно разорвать сложившийся к началу 8о-х годов порочный круг. Некоторый недостаток мест в туберкулёзных колониях и коек в туберкулёзных больницах уменьшает возможность своевременной изоляции больных и их раннего лечения.
Выход здесь один – создание собственной для каждой республики (края, области) базы противотуберкулёзных учреждений. <…>
Не менее важным разделом программы является комплекс мер по повышению эффективности санитарно-противоэпидемического обеспечения. Этот раздел также является одним из центральных, поскольку от успешной его реализации зависят и снижение временных и стойких трудопотерь, и успех борьбы с туберкулёзной инфекцией, и многие другие вопросы. <…>
Уменьшение трудопотерь дало экономический эффект, эквивалентный десяткам миллионов рублей. В 18 больницах, где, по данным 1985 года, была установлена необоснованно завышенная средняя длительность пребывания больного на койке, удалось в 1986 году уменьшить данный показатель в среднем на 13 %. Это эквивалентно открытию без дополнительных затрат больницы на 500 коек. <…>
Проявляют совершенно необоснованный оптимизм, надеясь справиться с проблемами трудопотерь только медицинскими силами. Целевая установка программы определена, прежде всего, в интересах экономики учреждений. Врачи ИТУ не прониклись важностью поставленных перед ними задач. До сих пор имеет место завышенная длительность пребывания больных на койке. <…>
Как ни странно, кое-где бытует мнение, что перестройка – это задача в основном производственных отраслей народного хозяйства, а медицины она касается постольку-поскольку. Глубочайшее заблуждение! XXVII съезд партии, январский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС прямо указывают на важнейшее значение в деле перестройки человеческого фактора.
Полковник внутренней службы В. Романов,
заместитель начальника Медицинского
управления МВД СССР, доктор медицинских наук
Комментировать этот цинизм особой нужды нет. Товарищ В. Романов, называющий себя врачом, откровенно пишет о том, что комплексная программа здравоохранения ИТУ вообще не ставит цель лечить больных осуждённых. Только заставить работать. Немного говорится о необходимости санитарно-противоэпидемических мер. И на том спасибо.
Как же всё-таки нас лечат? И, прежде всего, кто нас лечит?
В зоне есть так называемая больничка. Её именно так называют – снисходительно-ласково. Это, конечно, тоже барак. Здесь есть кабинет для амбулаторного приёма, процедурная, где могут даже сделать укол, и две-три палаты для лежачих, каждая на четыре-пять мест. Нет только врачей. Когда я пришла в колонию, в должности главного врача был в самом деле врач. Милая молодая женщина, только что окончившая где-то медицинский институт. С её лица не сходило растерянное выражение, как будто она никак не могла понять, где она и что тут вообще происходит. Свои обязанности принимала всерьёз и продержалась недолго: я пришла в мае, а в конце лета её уже не было. С тех пор мы врачей не видали. Приём больных вели по очереди медсестра по венерическим болезням (я имею в виду общий приём всех больных) и фельдшерица, отсидевшая здесь же свой срок и не покинувшая села Горного. Они осматривали больных, ставили диагноз, назначали лечение и давали освобождение на день-два, если считали нужным.
Но, допустим, вам прописали лекарство. Его не дадут вам на руки: заключённые не могут иметь какое бы то ни было лекарство. Его должны выдавать при каждом приёме, но не целый же день открыто окошечко аптеки. Как же получить прописанные на день таблетки? А очень просто. Дежурная аптечки заставляет всю дневную порцию лекарств принимать сразу у окошка. Лекарство прописано, оно должно быть выдано. Но выдать его нельзя, выход один – пусть проглотит всё сразу, и дело с концом. Глотают. Я потом научилась хитрить: брала часть таблеток в руку, подносила ко рту и делала вид, что сыплю в рот, другой рукой брала мензурку с водой, воду выпивала, а таблетки незаметно высыпала в карман.
Кроме упомянутых медсестры и фельдшерицы (одна из них была в должности главврача) других дипломированных медицинских работников в больничке не было. Штат этими двумя целительницами не ограничивался, но остальные были заключённые, такие же, как мы, без медицинского образования, взятые на должности медсестёр и санитарок. Долгое время лекарства нам выдавала (а стало быть, имела к ним доступ) женщина, осуждённая по статьям 62 и 210 – алкоголизм и спаивание несовершеннолетних. Звали её Светлана. Подходящий кадр для медицинской работы, не правда ли?
Между тем среди заключённых всегда, к сожалению, есть врачи. Они обычно поражены в своих докторских правах и врачами работать не могут. Но ведь их можно привлечь к работе в качестве медсестёр, пусть даже санитарок, но непременно иметь их в больнице, чтобы пользоваться консультациями в трудных случаях. Ведь знания при них, и если они лишены врачебных прав, это не значит, что они в одночасье потеряли знания и профессиональное отношение к болезни и больному. Неужели на выдачу лекарств и на уколы лучше поставить алкоголичку-совратительницу, чем врача?
За два с половиной моих лагерных года в колонии умерло несколько человек. Точного числа я не знаю, но две смерти пришлись на нашу бригаду. Я расскажу об одной из них.
В бригаду пришла бурятка Надя Ш. Её поместили на верхней полке, как раз над моей. Она много рассказывала мне о своей вере – она была буддисткой – и о своей семье. У неё остались дома муж и три дочери-школьницы. Надя читала мне их длинные нежные письма. Она была удивительно деликатный человек, боялась обидеть, помешать, быть назойливой. С её характером и обликом не вязалось вменённое ей преступление – убийство. Когда я решилась спросить её об обстоятельствах дела, она ответила неохотно и как-то невнятно, и я больше не задавала вопросов.
Срок у неё, естественно, был большой, но она отнюдь не отчаивалась. Незадолго до суда она ездила к своему родственнику, буддийскому монаху, и он сказал ей, что она пробудет в заключении ровно три месяца и после этого освободится. Она не сомневалась и спокойно ждала освобождения. Надя страдала каким-то мозговым заболеванием. Мне она однажды обмолвилась, что боится потревожить меня ночью, если с ней случится приступ. Я спросила – какой приступ? Она объяснила, что иногда теряет сознание, но что это бывает очень редко и что сейчас она чувствует себя вполне хорошо.
Истекал третий месяц её заключения. Однажды вечером Надя вернулась больная. Я уложила её на своё место, а сама улеглась наверху. Ночью Наде стало плохо. Начались судороги, потом рвота. Побежали в больницу за дежурной медсестрой. Дежурила молодая осуждённая, не имевшая к медицине никакого отношения, просто её распределили в больницу, как меня распределили в закройный цех. Она увидела, что у Нади рвота, и громко поставила диагноз: «Отравление. Несите в больницу, будем отпаивать водой».
Недалеко от Надиного места спала женщина-врач. Она была хирургом и сделала неудачную операцию (в полости оперируемой остался тампон). Свесившись со своего верхнего места, она смотрела, как мы укладываем бесчувственную Надю на одеяло. Я спросила, знает ли кто-нибудь, что Надя страдает каким-то заболеванием. Оказалось, знают, и даже знают, что её в больничке поставили на учёт. Но все тут же решили, что сейчас-то у неё, конечно, отравление. Я подняла глаза на докторшу. Лицо её было застывшим, неподвижным, и в то же время оно, несомненно, выражало какую-то борьбу чувств. Она никак не ответила на мой вопросительный взгляд и вдруг резко повернулась к стене, закуталась с головой в одеяло и больше не шевелилась.
Мы унесли Надю в больницу, сообщили на вахту о её состоянии, дежурный офицер послал в село за фельдшером. Тем временем смелая дежурная начала принимать свои меры от отравления. Я не знаю, скорректировала ли как-нибудь действия медсестры пришедшая наконец фельдшерица. Если да, то было уже поздно: к утру Надя умерла.
Необходимо пояснить поведение врача. Она была лишена права практиковать, но к ней всё время обращались за советом, и она никому не отказывала, охотно помогая словом, поскольку не могла больше помочь ничем. За день до Надиного приступа одна заключённая, активистка СПП (совета профилактики преступлений) услышала, как она даёт одной из женщин медицинские советы. Активистка предупредила докторшу, что если она ещё раз будет на этом поймана, то не видать ей ни «химии», ни УДО (условно-досрочного освобождения), поэтому врачиха не решилась вмешаться, хотя понимала, что действия невежественной медсестры повредят больной.
Плохо больному в зоне. Чтобы попасть на приём и получить освобождение, надо встать часов в пять и занять очередь у дверей больнички. Но, просидев больше двух часов на ветру или на морозе, можешь и не попасть на приём: за десять минут до открытия придут молодые, здоровые, наглые, втроём, вчетвером, оттеснят больных и войдут первыми. В кабинет войдут по очереди, хныча и жалуясь; очень может быть, что их нехитрая симуляция принесёт желанный результат: они получат освобождение от работы на день-два. А те, оттолкнутые, едва стоящие на ногах, либо вовсе не попадут на приём, потому что наши эскулапы, не стесняясь, опаздывают, либо не получат освобождения: «лимит на справки на сегодня исчерпан». Всё в зоне делается с позиции силы, поэтому среди освобождённых от работы всегда есть наглые бездельницы. Настоящие больные перехаживают болезни на ногах и в конце концов сваливаются всерьёз.
Если свалишься всерьёз, могут отправить в межобластную тюремную больницу. Это бы и неплохо, там всё же врачи лечат, но вот беда: отправляют туда этапом. Тем самым этапом, который я уже описала. Больные разделяют со здоровыми все его трудности. Тюремные межобластные больницы есть не в каждом областном городе, и не в каждой такой больнице есть все отделения. В сложных случаях могут направить в другую область, и даже очень далеко от твоей зоны. В свердловской пересылке я встретила пожилую женщину из Красноярского края. Она возвращалась этапом из Ростова-на-Дону, где находится наша лучшая тюремная больница. Анна Михайловна страдала ногами. Ей сделали в Ростове какую-то операцию. Она с трудом ходила. Можно себе представить, как мучителен был для неё бесконечный путь от Ростова до Красноярска, а потом от Красноярска до зоны – в воронке. Но она не жаловалась. Срок у неё был максимальный, пятнадцать лет, она отсидела к тому времени больше половины, ко всему привыкла и ничему не удивлялась. С горячей благодарностью говорила она о врачах и сестрах Ростовской межобластной больницы. «Лечат как больных, по-настоящему, и сестрички тебе все процедуры делают. А главное – разговаривают с тобой нормально, как будто мы – как они».
Сразу после сложных операций, после мучительной болезни – этап, сводящий на нет все усилия ростовских врачей. Но в межобластные больницы направляют только с острыми случаями, а хроники живут себе в зоне, составляя инвалидную бригаду. Среди них много совсем старух – за семьдесят, много туберкулёзных, попадаются сумасшедшие. Туберкулёзные, а по-тюремному – «тубики», получают белый хлеб и кусочек сливочного масла в день. Когда приходит этап, тюремный врач сортирует: «Тубики – сюда, остальные – туда!» – для назначения питания. Поселят их, естественно, вместе со всеми.
Сумасшедших в нашей зоне было две. Одна, судя по её поведению, сошла с ума во время следствия или после приговора. Я потому так думаю, что она бродила в зоне, непрерывно и громко разговаривая, но не сама с собой, а обращаясь к «гражданам судьям». Другая была просто слабоумная. Её взяла под свою опеку одна из женщин. Она обращалась с ней как с маленьким ребёнком, одевала её, строжилась над ней и даже ухитрялась баловать её сладеньким. Обеих наших сумасшедших никто не обижал, они свободно ходили по зоне, и, наверное, им там было лучше, чем в психбольнице.
Но было несколько полусумасшедших, ставших такими уже в лагере; состояние их ухудшалось день ото дня. Они, несомненно, нуждались в особом уходе и, главное, в гуманном внимании к их делу и в скорейшем возвращении к родным, в семью. Среди них была Алла Павловна, история которой кажется мне загадочной. Она работала в норковом питомнике и была осуждена за государственное хищение на три года. Она не согласилась с приговором и стала добиваться пересмотра дела. Пересмотрели и вынесли новый приговор: шесть лет. Она снова подала апелляцию. Снова пересмотр. Новое решение: девять лет.
Странная всё же история. Вполне возможно, что Алла Павловна провинилась; но эта последовательность: «три – шесть – девять» в ответ на попытки добиться справедливости заставляет усомниться в праведности суда. Алла Павловна была совершенно раздавленный, уничтоженный человек. Она заговаривалась; её бедный ум не справлялся с работой. Она становилась ненужной и неинтересной своим дочерям, которые выросли без неё.
Мой медицинский очерк не будет полным, если я не расскажу здесь свою историю болезни. Я столкнулась с тюремной медициной сразу после ареста, в КПЗ: у меня отобрали пузырёк с пилокарпином. Это глазные капли, без которых больной глаукомой довольно скоро и неотвратимо слепнет. Я была ещё неопытная больная: первый в жизни приступ глаукомы настиг меня накануне суда, и тот пузырёк пилокарпина был тоже первый. Через несколько дней у меня начались боли в глазу. В этот момент я уже была на Красной Пресне, в той самой камере 310, население которой позднее взбунтовалось против мокриц. Я подошла к двери и позвала дежурную. Я слышала её шаги, но она не остановилась. Я звала долго, боли усиливались, я уже не могла стоять. Легла, накрылась подушкой, старалась не кричать. Товарки мои по камере стали громко кричать, что женщине плохо. На них из коридора прикрикнули и отошли. Они барабанили в дверь непрерывно. В конце концов – спасибо упорству женщин – меня привели к врачу. Оказалось, что кабинет врача рядом – шагах в пяти.
Когда меня отправляли на этап, врач сказал, что до приступа больше доводить нельзя, каждый приступ может оказаться роковым. В моё личное дело положили медицинское заключение. «Вы непременно получите пилокарпин – сразу по приезде, а ехать недолго. Из Москвы далеко не отправляют». Меня отправили в Уссурийск. В каждой пересылке мне приходилось бороться за пилокарпин, любыми способами – криком, мольбами, угрозой написать жалобу.
Новосибирск. Приёмник пересылки. Женщина в белом халате быстро вошла, переписала «тубиков» и повернулась к выходу. «Доктор, глаукома!» – кричу я. Название моей болезни оказывает хоть какое-то действие: она замедляет шаг и кидает на ходу: «Подождёте с вашей глаукомой до завтра». Утром она приходит к двери и в окошечко раздаёт лекарства. Я опять кидаюсь к ней, прошу пилокарпин. И вдруг в ответ – выговор: «А вы что, не знали, что у вас глаукома? Почему не запаслись пилокарпином? Вы обязаны иметь его при себе, как сердечник валидол». Я молчу. Не объяснять же ей, тюремному врачу, что не только мне никто не позволит иметь при себе пилокарпин, но и сердечнику – его валидол. Затем она успокаивается и объясняет, что пилокарпина в тюрьме нет, придётся посылать в город.
Проходит ещё день и ещё ночь, и я наконец получаю свои капли. К большому моему несчастью в колонии, в селе Горном, не проявили даже и той степени оперативности, на какую оказалась способна эта ворчливая новосибирская докторша, и я, после десяти дней тщетных просьб послать за пилокарпином в райцентр, переживаю ещё один приступ. На этот раз – почти полная потеря зрения в правом глазу. Испугавшись, отправили кого-то в аптеку, положили меня в больницу, диету назначили. Зрение восстановилось.
Время от времени, раз или два в год, из Владивостокской межобластной больницы приезжали врачи-специалисты: то стоматолог, то гинеколог, то окулист. Приезжали они всегда неожиданно и нерегулярно, на один-два дня. Иногда о приезде врача объявлялось на построении, иногда нет. Легко было пропустить приезд нужного тебе специалиста: не каждый же день ходить в больничку. Заблаговременная запись не велась. В 1982 году приезжал молодой окулист – лет тридцати, как мне показалось. Он меня осмотрел и сказал с видом не то что враждебным, но отстранённым, холодно-безразличным: «Я предупреждаю вас, что не позднее чем через три месяца вы ослепнете – внезапно, полностью и на оба глаза. Принимайте меры». Меня поразила не только первая часть его тирады, но и вторая тоже. Какие меры? Как я могла их принять, даже если бы они были возможны и известны мне, будучи за колючей проволокой?
Я вышла из больнички на подгибающихся ногах. Думаю, что этот «медицинский прогноз» был одной из причин ухудшения моего состояния в последние полгода срока.
Когда, вернувшись на свободу, я пришла в глазной кабинет ленинградской «максимилиановской» поликлиники и попросила врача сказать мне, сколько времени я ещё сохраню зрение, женщина удивилась и сказала, что не может ответить на мой вопрос, во-первых, потому что никто не может знать это вполне точно, а во-вторых, это противоречило бы врачебной этике. Тогда я рассказала ей о предупреждении владивостокского доктора. «Этого не может быть! – воскликнула она. – Вы что-то путаете! Не может быть врача, который поступил бы подобным образом!» Она не бывала в зоне и не читала статьи полковника Романова.
В начале осени 1982 года одну из женщин нашей бригады разбил паралич. В состоянии полной неподвижности она лежала в нашей больничке. Её товарки по бригаде ходили туда по очереди, чтобы переворачивать и кормить её. Переворачивать было нелегко – бедняжка была грузна. Ей было за пятьдесят, она была каким-то небольшим финансовым работником, и преступление её состояло, если я не ошибаюсь, в растрате, но, вероятно, в небольших размерах, потому что срок у неё, это я хорошо помню, был небольшой – по нашим меркам. Где-то года два. Она так и лежала там, в больничке. Приезжал сын, но его не пустили к матери: нельзя же допустить, чтобы он прошёл на территорию колонии!
В начале января 1983 года я освободилась и покинула колонию. Разбитая параличом женщина оставалась всё в той же больничке, без лечения, без должного ухода, и никто не думал освобождать её по болезни, досрочно. Может быть, позднее надумали? Хорошо бы.
В своей статье полковник Романов упоминает общие профилактические осмотры заключённых. В нашей колонии они не проводились за время моего там пребывания ни разу – ни гигиенические, ни общетерапевтические, ни гинекологические. Ни одного гинекологического осмотра при женском контингенте в две с половиной тысячи человек! Трудно поверить, но это так.
Большинство заключённых – молодые женщины. Им ещё долго жить после лагеря, жить и рожать детей. Но будут ли они на это способны? Я встретила нескольких молодых женщин, которые признались мне, что уже в течение нескольких лет – у кого два года, у кого три с начала заключения – у них отсутствует физиологический цикл.
Каждый год советские лагеря выпускают на волю тысячи инвалидов души и тела.
Сроки и судьбы
Когда я поняла, что это неизбежно случится, что меня посадят в тюрьму, я очень испугалась. Испугалась я, как уже писала, не тюрьмы, не условий жизни и не тех, кто будет меня сторожить с автоматом и собакой, а этих женщин, с которыми я буду жить бок о бок долгое время, преступниц, таких беспощадных, грубых и тупых. Я боялась, что окажусь в полной их власти, и они растопчут меня. Таких, внушающих ужас, я в самом деле видела. С них я и начну, чтобы уж больше к ним не возвращаться.
В такой колонии, как наша, содержатся очень разные люди, совершившие самые разные преступления, лишь бы это была первая судимость: девчонка, стащившая соседские туфли, и жуткая баба, которая напоила мужа и подстрекнула, подтолкнула его изнасиловать девочку-школьницу, чтобы отомстить за что-то её матери.
Этих, страшных, чувствуешь даже на расстоянии, на них тяжело смотреть. У многих из них неприятные, порочные, жестокие или лишённые выражения, как бы стёртые губкой лица. Хотя есть и очаровательные, улыбчивые, с нежным голосом. Помню одну такую, в розовой косыночке, обвязанной кружевцами, с розовым личиком. Она летала по цеху, играючи делая норму – стукнула собственного маленького сына молотком по головке, чтобы развязать себе руки и уйти к любовнику. Мальчик чудом остался жив. Она и мужа пыталась убить. Или другая, такая же молоденькая, – поссорилась с любовником и нанесла ему двадцать ножевых ран. Он умер. Спрашиваю: «Люба, а не жалко тебе его?» – «Ой, Николавна, жалко. Лучше бы я мужа убила».
В первые дни моей работы на фабрике меня поставили на настил тканей. Женщина, выполнявшая основную операцию, была недовольна моей работой. «Вы что, ткани боитесь что ли?» – сказала она. – «Нет, я вас боюсь», – ответила я неожиданно для себя самой. Настильщица была небольшого роста красивая женщина лет тридцати с небольшим, у неё блестящие, но какие-то непрозрачные глаза, как будто солнечные лучи отражались от них, не проникая внутрь.
Позже я узнала, что она вдвоём с приятельницей залезла в квартиру своей сослуживицы (до этого она была обычной служащей в какой-то конторе) с целью ограбления. Они застали там бабушку и внука и убили их.
Женщины-бандитки встречаются редко, особенно действующие самостоятельно, а не ушедшие в банду за возлюбленным. Но были у нас и такие. Одна, например, организовала группу молодых девчонок, они нападали на одиноких прохожих, грабили, избивали.
Я уже упоминала о том, что нам было запрещено описывать в письмах нашу жизнь – быт, людей и так далее. Понятно, что и дневник вести я не могла, поэтому многие подробности забылись. Но, выйдя на свободу в начале 1983 года и очутившись в купе поезда дальнего следования, который увозил меня в Москву, я напрягла свою память и переписала всех, кого могла вспомнить, всех, с кем так или иначе столкнулась в тюрьме, в зоне. Их оказалось двести девяносто три человека. Из них вот таких «страшных» я вспомнила человек двадцать пять. Это не значит, что среди «нестрашных» нет убийц. Женщин-убийц я встретила в общей сложности шестьдесят два человека. Не менее половины из них – жертвы обстоятельств. Много, очень много там женщин, убивших своих мужей после многолетних пьяных побоев, даже, можно сказать, истязаний. В какой-то роковой момент взгляд падает на топор или нож – и всё кончено: и мучителя нет, и ты за решёткой. Надо сказать, что все эти женщины осуждены по статье 103, то есть за умышленное убийство, без отягчающих, но и без смягчающих обстоятельств. Всего один раз я встретила женщину со 104-й статьёй – убийство в состоянии аффекта.
Может быть, это вполне обоснованные приговоры. Я не юрист, утверждать ничего не могу. Но всё же возникает сомнение: её били, били, годами терзали её детей, все соседи знали об этом, она и в сельсовет не раз обращалась – никто ничем не помог, никто не вмешался в «семейное дело», а когда пала последняя капля и случилось непоправимое – ей 103-я – умышленное убийство. Это не конкретно чья-то история, а общий пересказ многих подобных историй.
По 103-й предусмотрено от трёх до десяти лет. Однако с тремя годами за убийство я не встречалась ни разу. Обычно у этих женщин, у всех без разбору – от семи до десяти лет. А дома остались дети. Любимые дети, не брошенные, не отказные. Дети, которых мучитель бил, держал в постоянном страхе и голоде и страдания которых нередко и бывают той последней каплей. Разговаривая с такими женщинами, я всегда спрашивала, считают ли они, что с ними поступили несправедливо. «Конечно, справедливо. Человека убила, значит, надо отсидеть срок. Ну и отсижу. Зато детям пути жизни очистила». Логика жуткая, но прямая.
И ставить на одну доску ту, которая ударила ребёнка молотком по голове, и ту, которая не выдержала многолетних побоев, нельзя. А между тем и сроки, и условия жизни в колонии у них одинаковые.
Якутка Наташа: «Русский начальник – добрый начальник. Я человека убила, а мне белую простынь дают, кушать три раза дают. Как приду домой? Как свекрови в глаза смотреть буду? Сына у матери убила». Правильно, что Наташу судили, правильно, что отправили в колонию. Она должна была понести наказание. Но не столько же лет! Пока её исправляют, её дети окажутся в детской колонии.
Знает ли наша общественность, что ни беременность, ни грудной младенец, ни любое число детей не только не отменяют наказания, но и не смягчают его, в чём бы ни заключалось преступление?
В колонии со мной сидела молоденькая бухгалтерша, совсем недолго проработавшая после окончания какого-то учебного заведения. Её втравили в махинацию, втравили пожилые, опытные работники. Общеизвестна сплошная коррупция в торговом и финансовом мире, общеизвестна круговая порука, давление вышестоящих мошенников – где ж ей было противостоять. Но ни все эти обстоятельства, ни молодость преступницы, ни – главное! – трёхмесячная дочка – не смягчили судей. Ни за одно преступление не дают таких сроков, как за растрату или хищение государственных денег (насколько это не помогает, мы все убедились). Молодая мама получила огромный срок, свою дочку она увидала во всяком случае уже школьницей.
В Бутырке в течение нескольких дней моей соседкой по койке была восемнадцатилетняя арестантка, хромая, беременная и умственно отсталая. «За что сидишь?» – «А за стрёму, – с идиотским смехом, – на стрёме стояла». За стрёму много дают, поэтому бандиты стараются использовать зависимых от них людей, слабых в чём-то – поставить вместо себя. Я угощала её конфетами, она издали следила, не открываю ли я тумбочку, и в нужный момент, шкандыбая, бежала, чтобы быть вблизи – а вдруг, не увидев её рядом, я забуду о ней.
Многие из попавших впервые были убеждены, что наши законы гуманны, что беременных у нас не сажают и матерей не разлучают с младенцами. Наверное, они помнили старый итальянский фильм, где Софи Лорен играет жизнерадостную, без конца беременную контрабандистку, которая таким образом оставляла в дураках буржуазное правосудие…
Что ж, у нас тоже гуманные законы: беременной дают белый хлеб и сливочное масло – кусочек в день.
Вспоминаю ещё одну слабоумную. Они появились в иркутской камере втроём – две жуткие несомненные бандитки и с ними – эта глупенькая певунья, которая не могла правильно произнести слов песен и пела какую-то абракадабру. Они снова и снова заставляли её петь, хохоча и потешаясь. Посадили их за шубы: они шубы воровали, используя дурочку, конечно, для стрёмы.
Две эти воровки не могли жить, не издеваясь над кем-то. Глупенькой подруги им было мало, и они прицепились к тихой безответной и очень грязной бичихе (бродяжке), которая неподвижно лежала целыми днями, никому не мешая. Никто из нас не решился вступиться за неё, кроме отчаянной Веры, которую за её отчаянность отправили из колонии отсиживать срок в крытке, то есть в тюрьме. Это самая суровая форма заключения. Чтобы женщину отправили в крытку, надо, чтобы она была или очень агрессивной, избивала солагерниц, или бунтовщицей (одно с другим не всегда совпадает). Вера шла на крытку по последнему признаку. Увидев очередную сцену глумления над бичихой, она подскочила к бандиткам (в данном случае это эпитет, а не термин) и закричала: «До тех пор пока я в камере, здесь не будут сильные издеваться над слабыми!» Меня поразило такое тюремное рыцарство. Больше я ничего подобного не встречала.
Когда наступает время декретного отпуска (ах, как мы гордимся, что не лишили наших преступниц права на него!), женщину отправляют в ДМР (дом матери и ребёнка). Это такая же зона, окружённая колючей проволокой, с вышками и собаками. Кроме места, где молодые матери, родив, будут работать (швейная фабрика и тому подобные), и жилых бараков есть ещё здание, где рожают и где содержатся дети до двух лет.
Мать грудного младенца имеет доступ к нему лишь во время кормления. Помнится, мне говорили также о часовых свиданиях, которых лишают за нарушение дисциплины. Весь уход за ребёнком лежит на медсестрах. Ребёнок с рождения считается воспитанником специального, то есть тюремного дома ребёнка. По истечении предусмотренного законом срока его отдают родственникам либо направляют в обычный дом ребёнка, а оттуда в детдом или интернат.
У «государственниц», то есть у женщин, растративших государственные деньги, сроки всегда большие, от пяти до десяти – двенадцати лет. Выйдя на волю, она встретит чужого ей, без неё выросшего ребёнка, с которым её может и не связать родственное чувство. Бывают случаи, когда мать после отсидки не может найти своего ребёнка, которого переводили из интерната в интернат. Многие десятилетия длится эта практика. Расхитителей меньше не становится, а детей загубили несметное множество.
Была там одна бухгалтерша. У неё при сроке двенадцать лет остались дома три сына, которых она воспитывала одна, без мужа. В момент ареста им было от восьми до четырнадцати лет. За годы её заключения они все, один за другим, оказались в колониях за воровство и наркотики. Представители правосудия обычно в таких случаях говорят, что у нас чуть не каждый год проводится амнистия «по мамочкам», то есть для матерей малолетних детей. Да, проводится, и часто. Но для кого? Для женщин, осуждённых за так называемые нетяжкие преступления, то есть за воровство (не у государства), бродяжничество, пьянство, уклонение от лечения венерической болезни и так далее. За эти преступления сроки невелики, от года до трёх. Таким образом, милосердие оказывается детям, чьи матери разлучены с ними не более чем на год (условное освобождение по этим статьям предусмотрено по отбытии одной трети срока), а главное, чьи матери в большинстве не собираются, вернувшись домой, отдать себя их воспитанию. Да и не могут они воспитывать детей. Они, увы, потеряли личность. Случаи нравственного пробуждения таких женщин редки. Те же, о которых пишу я, – «государственницы» – почти никогда не уходят по амнистии, так как считаются особо опасными преступницами. Ни у кого не возникает сомнения в том, что родители имеют право на своих детей.
Но ведь и дети имеют право на родителей. Во время суда это их право не весит ничего. В случае ареста матери дети теряют не только её, мать, но и родительский дом, если они жили в государственной квартире и если нет отца. Арестованный теряет право на жильё, а дети во внимание не принимаются.
У Тамары, осуждённой на шесть лет, остался дома сын лет двенадцати. Он продолжал жить в их с мамой комнате в коммунальной квартире. Соседка по квартире пообещала матери при аресте заботиться о мальчике, содержать его и воспитывать до её возвращения. Мальчик был разумный, хорошо учился и исправно писал маме письма. Писала также и соседка. Все эти письма Тамара, по лагерному обычаю, читала нам вслух по мере получения. Таким образом, в течение нескольких месяцев мы были заочными свидетелями жизни мальчика, всех событий его школьной и домашней жизни. Судя по письмам, он, несмотря на разлуку с матерью, жил нормальной жизнью, без срывов в учёбе и поведении. Вдруг письма прекратились. Через некоторое время приходит письмо от соседки, и лишь много спустя от мальчика. Вот что с ним случилось. Однажды, вернувшись из школы, он застал в своей комнате чужих людей. Они сказали ему, что эта комната теперь – их, и показали ему бумагу. Его вещи были сложены в чемодан и выставлены в переднюю. Соседка была на работе. Мальчик вышел во двор и просидел там на скамейке до темноты. Соседка, вернувшись, взяла его к себе ночевать. Утром мальчик в школу не пошёл. Он не ходил в школу несколько дней, и никто не пришёл ни из школы, ни из жилотдела узнать, где он и что с ним. В конце концов соседка отдала его в интернат. Как говорилось в мои ребяческие дни: «Спасибо за счастливое детство»…
Первое сентября. Утро. Колонна выходит из ворот. Серая униформа, белые косынки, серые лица. Посмотришь вперёд – не видно начала, посмотришь назад – не видно конца. На повороте останавливаемся, чтобы задние подтянулись. И вдруг все головы, как по команде, поворачиваются в одну сторону, все замирают, голоса умолкают, у многих слёзы на глазах. Это идут в школу дети, мальчик и девочка, нарядные, с цветами: может быть, это дети тех, кто нас стережёт, – какая разница! Сейчас все матери там, со своими детьми. Первое сентября в женской зоне – день слёз.
Из моих двухсот девяноста трех знакомых – девяносто шесть «государственниц», то есть залезших в государственный карман и особенно сурово наказанных. Удивительное дело! Только среди них я встречала максимальный срок – пятнадцать лет. Говорят, что мужчин с той же суммой государственного хищения расстреливают. Даже при самых страшных убийствах, с буквой «г» – садизм, судьи всё же, видимо, ухитряются найти какие-то смягчающие обстоятельства, поскольку эти страшные женщины не получают максимума – пятнадцати лет, а получают двенадцать – четырнадцать лет. Хоть годом, но поменьше, чем за деньги. «Государственники», много укравшие, считаются, видимо, более ужасными преступниками, чем самые страшные убийцы. Всё это как-то удивляет. На самом же деле «государственники» – это в основном продавцы, кассирши, бухгалтеры, медсестры, сёстры-хозяйки, работники детских учреждений, повара и тому подобная мелкая рыба. Редко, очень редко мелькнут среди них киты – директор фабрики, замдиректора института, завотделом исполкома. Но маленькие люди – ещё не значит маленькие сроки. У нас нет маленьких сроков. Я опишу нескольких, что называется типичных «государственниц».
Надежда Васильевна – москвичка, бывший директор винного завода. Наворовала она на максимальный срок – на пятнадцать лет. Её не терзали никакие вопросы, кроме одного: как пережить срок, сохранив по возможности здоровье? «Освобожусь – и сразу на юг, в Крым, поправляться». Она тщательно соблюдала режим и никогда ничего не нарушала, даже в лагерном бушлате она не шла, а выступала, несла себя. Каждую минуту своей жизни была занята одной собой. Никогда ни с кем ничем не делилась, но всех ругала за чёрствость. Она сидела уже несколько лет, но сохранила гордую осанку, прямую спину и тяжёлый узел волос.
В Краснопресненской тюрьме, в камере 310, сидела растратчица Юлёк, тоже москвичка. Крупная, сильная женщина лет сорока с лишним, с сильно развитой нижней челюстью, с грубым прокуренным голосом. К слабым и жалким относилась она с презрением и злобой. Одну из таких поколотила – просто так, чтоб не ревела, «не разводила сырость». Когда она разговаривала «по телефону» с мужской камерой, её голос обретал неожиданную нежность и даже вкрадчивость: «Милый зайчик…» По типу она больше походила на бандитку но была самая чистокровная «государственница», групповая, с большой суммой. «Государственников» называют также «хищниками», от слова «хищение». Оба вышеописанных типа вполне отвечают этому названию. Но гораздо больше я видела совсем, совсем других «государственниц».
Раиса работала продавщицей в своей деревне. В сельском магазине продаётся всё – и продукты, и вино, и обувь, и одежда. Жила она недалеко от магазина. По ночам из районного центра приезжали партийные и хозяйственные начальники, посылали шофёра постучать в окно, вызывали Раису. Она открывала магазин, выносила им вино, закуску. Иногда они устраивались прямо в магазине, иногда увозили ящики и пакеты с собой. Никогда не платили: «Ты продавщица, сумеешь выкрутиться». Она не сумела выкрутиться и после очередной ревизии получила семь лет.
Первые дни она не могла примириться с арестом, ждала, что сейчас откроется дверь, её вызовут и объявят, что она лишена права работать в торговле и может идти домой. Но она отсидела всё, что ей было положено, сохранила человечность, способность сочувствовать людям и «хищницей» не стала.
Рядом со мной, через маленький проход, спала бухгалтерша Октябрина, тоже из села, а может быть, из маленького городка Восточной Сибири. Она рассказала мне свою историю: «Однажды моя непосредственная начальница обратилась ко мне с просьбой: „Слушай, у меня излишки, давай сделаем то-то и то-то". А я говорю – боюсь, не буду. Тогда она вечером приходит, а мужа как раз не было – она знала, приносит бутылку, кило яблок. Мы выпили, яблоки съели, она меня уговорила, я всё сделала. А она через день подала на меня, что я взятку с неё взяла – это кило яблок и водку. Её, конечно, тоже судили как взяткодателя, но за чистосердечное признание ей дали условно. А мне – четыре года». Октябрина маленькая, незаметная, безответная и добрая. Когда умер Брежнев, она поплакала: «Бедный, он болел, мучился. Пока был жив, его прославляли, говорили – великий человек, а теперь его никто не жалеет».
Такие, как продавщица Рая и бухгалтерша Октябрина, составляли у нас в колонии большинство среди «государственниц» – скромные, несчастные продавщицы да бухгалтерши, проворовавшиеся по слабости своей. Не обеляю их, но жалею и призываю жалеть. Они заслужили наказание, но оно им намного завышено.
Такие же, как Люда Б. с кассой взаимопомощи, вообще не преступницы, это жертвы системы. «Я с этой своей кассой взаимопомощи совсем запуталась. Всё начальство идёт ко мне, всех выручи и всех срочно. Весь госпиталь выручала. А тут ревизия. Ни один из тех, кто осаждал меня, не помог, не попытался вытащить. Сколько лет работали вместе! Ведь они же знали, что я не воровка, что я запуталась из-за них же, а когда возбудили дело, все шарахнулись от меня, как от заразной».
Не только за тюремную, но и за всю свою жизнь я мало видела людей, настолько добросовестных, настолько честных, настолько доброжелательных к людям, как Люда. То, что такой человек оказался в тюрьме, несомненный признак неблагополучия в нашем правосудии.
«Мало ли что они тебе наскажут, ты всему веришь», – говорили мне знакомые, когда я вернулась. Нет, не всему. И обвинительные заключения приходилось читать, а из них многое видно, и просто – говоря с человеком, смотри ему в лицо и слушай его голос. Я не могу ни с того ни с сего считать лгуньей умную, симпатичную, образованную женщину Тамару Ивановну – весёлую, простую, с юмором, гордую своей семьёй и своими взрослыми сыновьями. В зоне она читала хорошие книги, когда удавалось их найти, и всегда готова была поговорить на интересную тему. Она помогала, когда видела, что человек нуждается в помощи, и делилась с кем угодно тем, что у неё было. Она была уверена, что всё с ней случившееся – плод интриг и недоразумений и что её скоро освободят, потому что у нас справедливый строй. До ареста она работала в горисполкоме, как и её муж, и, вероятно, у неё были основания говорить об интригах. Она утверждала, что у неё на суде выступали подставные свидетели – люди, которых она до того никогда не видела. У нас всё возможно. При Вышинском царицей доказательств было признание обвиняемым своей вины, а сегодня – показания свидетелей. Одно другого стоит. Тамару Ивановну обвиняли во взятке; подстроить и свидетельство по взятке, и даже саму взятку чрезвычайно легко. Это одно из самых трудноопровергаемых обвинений. Тамара Ивановна целый год была для меня милой приятельницей и интересной собеседницей. Она производила впечатление доброго и простодушного человека. Ещё год спустя это была чёрная полусумасшедшая старуха с трясущейся головой.
Обыкновенные, нормальные люди в зоне сразу заметны. Их отличаешь по лицам, потому что, ну конечно, не так их много.
– За что, Маша, сидишь?
– Скотине корма покупала краденые.
– Зачем же покупала, если краденые?
– А где ж их возьмёшь-то, некраденые?
– А вернёшься, где брать будешь?
– А я больше скотину держать не буду.
«Поехала я на Алтай, сестру навестить. Сама я из Бреста. Долго собиралась, много лет. Сестра больная, приехать не может. У меня муж умер, осталась одна, решила – надо съездить. И подсказали люди – возьми что-нибудь, там продашь, дорогу оправдаешь. Посоветовали взять мешочки эти, с картинками, полиэтиленовые. Их молодёжь любит, а там их нет. Я взяла чемоданчик небольшой, набила, да в поезде сдуру и показала соседям – посоветоваться. До сестры не доехала, продать ничего не успела, взяли, всё подсчитали, как будто уже продано и по какой цене другие продают. Получилось шесть лет и конфискация имущества. Я плохо сделала, я закон нарушила, но я же не ограбила никого, я же не хлебом торговала в голодные годы, я же не из детского дома сумки с едой таскала. Когда проводили конфискацию, вели себя как с врагом народа. Женщина ихняя подскочила ко мне, стала рвать серёжки из ушей. Мне их покойный муж дарил…»
Формально все обитатели колонии – одинаковые уголовные преступники. На самом же деле и сами заключённые, и администрация различают просто людей, нарушивших закон, и собственно уголовников – людей дна. Эти последние составляют большинство в любой колонии, хотя всё же не всегда подавляющее большинство. Основная часть уголовников – молодёжь, основное население женской колонии – воровки, венерички, пьяницы, бродяжки. Это оставшиеся сто пятьдесят три мои знакомки. Близкого знакомства у меня в этих кругах ни с кем не получилось – не тянуло как-то, хоть и было любопытно. В памяти моей они составили одну, почти неразличимую, почти не распадающуюся на личности массу
Вот воровка Таня, лет сорока, специалистка «по курям» – кур ворует. Толстая, тупая, неповоротливая – как это она, думаю, с курами-то управлялась? Вот старуха с лилией на плече: в молодости прелестной воровкой сделала себе модную в её среде татуировочку Жизнь прожила в тюрьмах, очень любит Сталина и вообще большая патриотка: «Наши тюрьмы – лучшие в мире». Вот Светка-воровка – её в зоне никто иначе не называет, хотя, казалось бы, здесь не тот мир, где подобное наименование может быть принято за отличительный признак. Но она, бедняга, просто не может не воровать, ежедневно, ежечасно, у чужих, у своих, что нужно и что вовсе не нужно. Полина 3. – колоритная в своём роде женщина, типичная уголовница. Она не может не пить, не скандалить, не драться. Её выпустили по сроку, она напилась, едва добравшись до дому, устроила дебош и вернулась в зону через три дня. Такие не могут ввести себя в рамки. Они обречены на колонию.
Жалкие, неумные, истеричные женщины; дешёвые актёрки, лишённые всякого внутреннего стержня, наводящие на мысль о душевной патологии. Да, они не могут держаться сами, их надо держать. Растратчицы презирают воровок.
– Николавна, а правда, что есть такая заповедь, что красть нельзя?
– Правда.
– Но ведь это про карман, да? Про карман, про сумочку, про то, что человек заработал. Про государственное же не говорится, правда же?
Очень трудно довести до их сознания абсолютный смысл заповеди. Им не хочется его признавать. Им хочется положить грань между собою и женщинами дна, воровками. Они не хотят быть в одной категории с этими грязнулями, у которых вечно бегающие глаза и руки, к которым чужое липнет само собой. Дело в том, что многие из «государственников» лично честны: никогда не залезут в чужой карман или сумку, тумбочку. Но, увы, ни у тех, ни у других нет понятия о грани, разделяющей своё и не своё. Чувство собственности тщательно и жестоко выкорчёвывалось. С детского сада мы знаем, что всё должно быть общее, что общее лучше, чем собственное; «собственнические инстинкты» бывают только у буржуев. Все учились в младших классах школы, даже те, кто не поднялся выше шестого класса, стало быть, все читали рассказ Максима Горького про мальчика Пепе: «Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто делёжка».
Многолетнее советское воспитание привело к тому, что грань, отделяющая честное от нечестного, стёрлась; порочность системы заставила всех замараться. «Государственницы» знают всё это, и это знание не способствует их раскаянию. Среди уголовниц есть множество обыкновенных девочек, которые попали туда потому, что никогда не слышали живого слова, обращенного к ним. Они не отсталые в развитии, не лишены доброты и чувства справедливости. Их бы да в хорошие руки…
Шуруп, Шура из 310-й камеры Краснопресненской тюрьмы. Когда я пришла туда, она была грозой камеры, ей нравилось, что её боятся. Непонятно, чем она навела такой страх на сокамерниц: маленькая, хрупкая, никого не била, но, правда, острая на язык, насмешками донимала. «Я – районная хулиганка», – говорила она с гордостью. Однажды, когда она развлекалась тем, что изводила одну жалкую и смешную старуху, я ей тихонько сказала, что большой доблести нет обижать того, кто слабее тебя, и что это унижает не старуху, а её, Шурупа. Она задумалась и очень серьёзно сказала: «Поняла, больше этого не будет». И больше этого не было. Шуру арестовали летом, а я появилась в камере зимой. Её скоро должны были отправить на этап. Она была в летних брючках и блузке без рукавов. За всё это время никто ничего ей не передал с воли, хотя по закону носильные вещи можно передавать в тюрьму без ограничений, а продукты – согласно правилам. Я решила, что она сирота. Оказалось – вовсе нет. Есть папа, мама и старшая сестра, все трое работают. Есть трёхкомнатная квартира в центре Москвы. И есть младшая дочка – Шуруп, на которую все трое махнули рукой, бросили, предали.
Я могла бы назвать ещё нескольких молоденьких героинь подобных историй, но все эти истории сводятся к двум ситуациям – или родители в тюрьме, или родители добропорядочные, и такая хулиганка (воровка, наркоманка) им не нужна.
Таня, которую мы прозвали «тюремный цветок», худенькая, бледная девочка, едва восемнадцать лет, на вид меньше. Всегда голодная. В тюрьме у неё началась, по-видимому, цинга – шла кровь из дёсен и шатались зубы. У неё ничего нет, никаких вещей, только то, что на ней. Её мать почти не бывает на воле, всегда за решёткой. Отец неизвестен. Она не знает другого мира, кроме уголовного.
В иркутской тюрьме я провела целую неделю в молодёжном обществе: девять девочек от восемнадцати до двадцати лет и я. Я предложила им поиграть в игры. Это вызвало бурную радость, но оказалось, что они не знают никаких игр, кроме карточных. Пришлось учить их и «Молве», и «Чепухе», и живым загадкам. Они веселились, как самые обычные школьницы.
Галерею женских портретов в тюремном интерьере я завершу неизвестной бичихой, бродяжкой.
Дело было в этапке Краснопресненской тюрьмы. Нас было человек шесть, и мы очень удачно подобрались: все – по первому разу и ни одной воровки. Мы объединили свои съестные припасы, всё делили поровну, рассказывали по очереди интересные книги и фильмы и мечтали, что нас поселят вместе. На третий день к нам подселили странную женщину. На ней была мини-юбка из какой-то дерюжки и нечто неопределённое сверху, затрудняюсь это обозначить, но что-то драное. Был январь. Она не произнесла ни одного слова, не поздоровалась, залезла в глубину нар, свернулась там и спала, дрожа всем телом. Мы накрыли её тёплой кофтой и положили рядом её порцию из наших, конечно, запасов – бутерброд с колбасой и сладкую булочку. Она проснулась и, не открывая глаз, втянула носом воздух. Потом раздался скорее скрип, чем голос: «Волей пахнет». Она, зажмурившись, с выражением страдания нюхала кофту. Когда открыла глаза и села, увидела бутерброд и булочку – и замерла. Прошло время, прежде чем она решилась спросить: «Это – мне?» Мы все не спускали с неё глаз, настолько она нас поразила.
Через день, когда она уже привыкла, что мы делим еду поровну, добавляя своё к тюремному рациону, и кладём ей равную со всеми порцию, и к тому, что у нас нет никакой командирши, и за эту вкусную еду ничего не надо для нас делать – ни стирать для нас, ни мыть пол для дежурного, – она рассказала о себе, вернее, ответила на наши вопросы, потому что связной речью она не очень владела.
Она бродит лет пятнадцать. Она вовсе не хотела становиться бродяжкой. Когда-то она работала на предприятии и жила в общежитии. За что-то (я забыла) попала в тюрьму. Когда вышла, ей совершенно некуда было деться, на работу её, судимую, нигде не взяли. Так и началось. Случалось ей приходить в милицию, в КПЗ, особенно зимой, и просить приюта. Её, конечно, прогоняли, а один «добрый» милиционер прямо посоветовал: «Да ты укради что-нибудь, получишь крышу и еду!»
Впереди у неё нет ничего, кроме зоны. Она сказала нам, что никогда за всю свою жизнь не видела таких хороших людей, как мы, и что если бы ей кто-нибудь такое рассказал, она бы не поверила. Каков же должен быть жизненный опыт человека, если своих лучших людей человек находит в этапке тюрьмы, среди осуждённых за уголовные преступления?
Повреждённая любовь
Об этом явлении я узнала ещё в тюрьме. В камере 310 ненадолго задержалась Юлька, шедшая этапом из образцово-показательной зоны откуда-то из-под Иванова, там она проштрафилась настолько, что её отправляли в другое место, не столь образцовое. Её тюремная биография началась ещё на малолетке – она была участницей какого-то группового преступления подростков.
Теперь ей было не более двадцати, но она вела себя как весьма опытная, уверенная в себе и привыкшая к лидерству. По отношению к ней я впервые услышала сказанное шёпотом слово «кобёл». За день-два Юлька совершенно поработила вялую, тихую Наташу. Юлька пробыла у нас неделю. Всё это время Наташа была её тенью. Смотрела только на неё, обстирывала её, обшивала, ночью они ложились рядом и занавешивались простынёй. Когда Юльку увели, Наташа сказала: «С такой девчонкой я согласна пробыть в зоне всю жизнь».
В колонии я убедилась в том, что «зоновская любовь» – не единичные случаи патологического отклонения, а массовое явление. Почти все молодые заключённые женщины, одни раньше, другие позже, вступают в гомосексуальные отношения. Некоторые стойко держатся год, два, три, но если срок большой, то можно сказать с уверенностью, что в конце концов они предадутся соблазну, тем более что на них идёт непрерывная атака, сильнейший и неотступный нажим со стороны «зоновских мальчиков», иначе «коблов». В женских колониях участницы гомосексуальных союзов не подвергаются презрению ни в женской роли, ни в мужской. Когда в зону приходит этап, новеньких уже ждут у дверей «женихи», которые без стеснения оглядывают выходящую из дверей молодёжь, выбирая себе очередную «невесту».
Эти противоестественные отношения накладывают свой отпечаток на физическое состояние и внешний облик «мальчиков», многие из них не только приобретают мужскую психологию и ухватки, с ними, несомненно, происходит в какой-то степени перерождение на физиологическом уровне: плечи становятся шире бёдер, меняется походка. Но есть и такие, кто сохраняет свой женский облик и силуэт при явно изменившейся психологии.
Не следует думать, что эти отношения всегда основаны на вульгарном разврате. Если в тюрьмах женщины ухитряются всерьёз влюбляться по запискам в людей, которых они никогда не видели в глаза, то здесь, в колонии, где мужчины – это те, кто их сторожит и кто обычно не в счёт, они влюбляются друг в друга. Насилие над природой не проходит бесследно.
Однажды кто-то из женщин нашей бригады нашёл на дороге оброненную записку, она оказалась любовной, и её читали вслух. Это было самое настоящее любовное письмо, со всем красноречием страсти. Относительно пола адресатки и автора сомнений быть не могло: в русском языке пол хорошо выражается грамматически. Помню поразивший всю зону случай: к женщине приехали на свидание мать, муж и двое детей, а она отказалась к ним выйти, заявив, что отныне у неё нет никого, кроме её возлюбленной.
Гомосексуальные пары образуют «зоновские семьи»: празднуется свадьба, молодым дарят подарки, подруги меняются местами, чтобы поселить их рядом. «Муж» заботится о пропитании, достаёт где что можно, «жена» устраивает быт, проявляет нежную заботу. Надо сказать, что «семьи» образуются и без всякой эротической основы. Почти все объединяются по двое, по трое, так легче выжить. Это тоже называется «семья», союз, основанный на моральной и хозяйственной взаимопомощи.
Мне думается, что среди «зоновских мальчиков» есть патологические индивидуумы, склонные к такого рода отношениям с раннего возраста и независимо от обстоятельств жизни (многие из них охотно рассказывали о себе), но есть и вполне нормальные от природы женщины, которые просто не в силах выдержать многолетнее воздержание. «Мужской» же путь они избирают потому, что он более престижен в их собственных глазах и, возможно, отвечает каким-то чертам их характера. В нашей колонии «пацаны» составляли особое рабочее звено и выполняли строительные, плотницкие и прочие подобные работы, впрочем многие из «мальчиков» сидели за швейной машинкой, а некоторые строители вовсе не принадлежали к «пацанам».
Администрация полностью в курсе дела, ей известны многие пары. Нельзя сказать, что начальство совсем не борется с этим явлением. Запрещено занавешиваться – но ведь не сидит же начальник всю ночь в спальном помещении. Проводятся беседы в стиле «фу, как вам не противно», – а им не противно. Запреты, конечно, были бы бессильны. Какие, собственно, меры можно здесь принять, если главные причины распространённости гомосексуализма в колониях – это укоренившаяся десятилетиями традиция и невыносимые по длительности сроки заключения. Нужны психологи, сексопатологи, но главное – нужна содержательная, наполненная смыслом жизнь.
Гомосексуальными отношениями охвачены все наши колонии, мужские и женские, взрослые и подростковые. Я не врач, я не знаю, вредно ли это физически, но совершенно очевидно, что вредно психически и духовно. Думаю, что многолетняя гомосексуальная практика не способствует в дальнейшем нормальным супружеским отношениям и созданию хорошей семьи. Даже тот, кто слышал об этом явлении, вряд ли представляет себе его масштабы. Повторяю: речь идёт не об отдельных извращениях, а о сотнях тысяч молодых людей, рука отказывается написать – миллионах, а надо бы. В нашей колонии было в 1983 году две с половиной тысячи женщин. Напоминаю номер колонии – 267-я. Это ведь не последний номер в стране. Вот и считайте. Подавляющее большинство – молодёжь. Подавляющее число этой молодёжи делилось на гомосексуальные пары. Каждые несколько лет население колонии сменяется, ситуация при этом остаётся прежней. И если сексуальное лицо страны через двадцать-тридцать лет изменится до неузнаваемости, то корни этого ищите в наших исправительных учреждениях.
Искупление трудом
Наши колонии для взрослых называются исправительно-трудовыми, в отличие от подростковых, которые называются воспитательными. Видимо, составители кодексов не сочли возможным употребить одно и то же слово для заблудших ребят и для взрослых преступников: вместе с тем было идеологически невозможно признать, что наши места лишения свободы лишь карают и изолируют – так появился термин «исправительные». Неясно, как вершители правосудия представляют себе в данном случае разницу между воспитанием и исправлением. Разница в применяемых методах невелика.
У нас принято воспитывать массы, «вести воспитательную работу». Ведётся она и здесь. Считается, что человек, благополучно отправленный по условному освобождению на «химию», исправился. Или перевоспитался, если угодно. Я опросила десятки женщин, проведших в колонии много лет, обращаясь к ним с одним и тем же вопросом: «Как ты думаешь, ты стала лучше, чем была до посадки?» Некоторые смеялись мне в лицо, другие задумывались, охотно говорили о себе, но никто не ответил утвердительно.
«Кто же здесь станет лучше? Здесь же джунгли. Кругом звери, и сам становишься зверем. Я никогда не видела столько плохих людей сразу, как же мне стать лучше?»
По всей территории развешены плакаты, призывы, назидания, с цитатами от Чехова до Адама Смита, в нашем корпусе висела даже небольшая подробная схема самовоспитания – как, в какой последовательности работать над собой. Она, наверное, и сейчас висит, а в своё время кто-то получал за неё благодарность в приказе. Я ни разу не видела, чтобы кто-нибудь эту схему читал: слова непонятные и вообще ни к чему.
Главным средством перевоспитания преступника у нас считается труд. Это основа нашей исправительной системы. Нигде и никем у нас в стране не оспаривается, что принудительный труд может исправить человека, но почему-то никто никогда не встречал человека, исправившегося при помощи принудительного труда.
Принуждение заключённых к труду обусловлено сложившейся десятилетия назад экономической системой ГУИТУ (Главного управления исправительно-трудовых учреждений), бывшего ГУЛАГа: фабрики и лесопункты, где работают заключённые, не могут не иметь своих производственных планов, они, естественно, включены в общий производственный план соответствующей отрасли. Эта экономическая необходимость диктует свои условия. Необходимо либо постоянное техническое усовершенствование, что на предприятиях ИТУ вряд ли осуществимо, либо непрерывное увеличение числа рабочих рук – а это сколько угодно. Совершенно очевидно, что при низком уровне техники система ИТУ экономически заинтересована не в уменьшении, а в увеличении числа осуждённых в стране.
Я понимаю, что повседневный труд необходим в зоне, он нужен, чтобы дисциплинировать разболтанных и ленивых, не приученных ни к какому порядку женщин социального дна, дать какое-то наполнение долгим годам отсидки, упорядочить жизнь, приучить к ответственности. Да просто-напросто каждый должен зарабатывать свой хлеб. В этом смысле труд, конечно, имеет воспитательное значение, если он не изнурителен и если заключённые в самом деле преступники.
Возмущение вызывает не труд сам по себе, а то, что он объявлен главным средством воспитания, более того, средством искупления содеянного. Помню, как наш начальник цеха, женщина вполне достойная, говорила нам: «Подумайте сами, как вы можете искупить ваши преступления? Трудом, только трудом».
Для тех, чьё преступление заключается в посягательстве на материальные ценности, личные или государственные, это ещё имеет смысл. Стоимость похищенного надо вернуть. Вряд ли можно назвать это искуплением вины, скорее, это возмещение ущерба, но оно, конечно, необходимо. Но в нашем цехе было собрано больше убийц, чем воровок, были бандитки, садистки. Перевыполнением нормы они искупали содеянное?
Это глубоко безнравственно – скрыть правду об экономических, а не о воспитательных двигателях принудительного труда заключённых и объявить этот труд искупающим кровавые преступления. Ребёнка молотком по голове – и искупила это хорошей работой! Работала эта мать-убийца отлично: молодая, ловкая, она, видимо, получала удовольствие от первенства. Подругу ножом в живот – и отличная производственница, получает благодарности, объявлена исправившейся. Своего новорождённого кинула, живого, свиньям – и искупила тем, что аккуратно и быстро кроила ткань!
Что заключённых заставляют работать вовсе не ради их исправления и что на самом деле у начальства другие заботы, а собственно перевоспитанием не занимается никто, видно из того, как организовано пребывание людей в тюрьме, то есть во временном изоляторе, где, как вы помните, люди проводят от двух недель до двух лет.
За мои два с половиной тюремных месяца я не раз задавала себе вопрос: как представляют себе столпы нашего правосудия день заключённого в тюрьме? Ведь лица, находящиеся в изоляции, не заняты работой (за небольшим исключением, которое ничего не меняет).
Тюремный день длинен. Что делать женщине? Чем занять свои руки и свой ум? Многие спят, некоторые, одурев от духоты и безделья и ослабев от вынужденной неподвижности, спят большую часть суток, просыпаясь лишь по зову физических потребностей. Другие рассказывают о себе, сплетничают о соседках, ссорятся, кричат, плачут. «Занимаются собой», то есть красятся и делают причёски друг Другу. Большая удача, если удаётся постирать. Есть небольшой тазик, выдаётся хозяйственное мыло. Но тазик один, а нас в камере от десяти до пятидесяти, так что нечасто можно побаловаться постирушкой, пошевелиться, размяться, сделать что-нибудь. (Выстиранное развешивается здесь же, прибавляя свои испарения к уже парящим миазмам.) Единственная игра, предусмотренная у нас для заключённых, – это домино. Но сколько можно «забивать козла»! Обычно бывают в камере два-три любителя, которые дуются в домино каждый вечер. Никаких других игр нет. Не знаю, запрещены ли они законом или это нерадивость начальства.
Всем, что описано, легальные занятия исчерпываются. Всё остальное запрещено, но делается. Запрещены карты, но они всегда есть в каждой камере. Если их отберут, всегда найдутся умельцы, которые сделают новые. Запрещено вязать и шить, потому что запрещены колющие и режущие предметы, но вяжут во всех женских камерах. Вяжут не крючками и не спицами, которых нет, а пустыми стержнями, и очень искусно это делают. Конечно, нитки взять негде, распускают собственные носки, колготки, кофты – и вяжут что-нибудь другое, лишь бы не сидеть без дела. Но дежурный, следящий в глазок, врывается и отбирает стержни и вязание: «Вязать запрещено!»
Делают ручки: оплетают стержень полосками, например, из капроновых ниток, вывязывая при этом имя владельца – своё или того, кому предназначен подарок. Ручки получаются удобнее и красивее, чем магазинные. Их тоже отбирают: запрещено. Хотела бы я понять, какими правилами можно объяснить, во-первых, то, что эти ручки изымаются, а во-вторых, то, что изъятыми при обысках ручками пользуется вся администрация тюрьмы. Я сама видела их на столе коридорной дежурной и в кабинете врача.
Особенно искусны в поделках мужчины. Они каким-то образом делают пластмассу прямо в камере. Изготавливают сувениры, фигурки, коробочки. Девушки из нашей камеры получали эти вещицы в подарок. Расписывают «марочки», то есть носовые платки – на это и среди женщин немало искусниц. Сюжеты обычные для тюрьмы – головки красавиц, купола церквей, летящие птицы.
Можно было бы в камере читать, но библиотечное обслуживание поставлено в уголовной тюрьме из рук вон плохо. Я расскажу о чтении в отдельной главе.
Можно было бы петь, и как охотно пели бы лирические песни с какой-нибудь массовичкой, но массовичка штатом не предусмотрена, а самостоятельное пение запрещено правилами. Правила висят в каждой камере. Специальный пункт гласит, что категорически воспрещается петь что бы то ни было.
Когда открывается дверь и дежурная приглашает: «Кто хочет идти мыть этапки?» – целая гурьба с радостным воплем кидается вперёд. Пройти по тюрьме, что-то услышать, увидеть, да просто пошевелиться, поработать, переменить обстановку – уже событие.
Однако всё это – не главное. Главное же, чего жаждет душа заключённой женщины – это общение, и лучше всего с противоположным полом. Как только этажом ниже или выше поселяют вновь прибывших мужчин, молодёжь охватывает лихорадка ожидания. Вскоре раздаётся стук по батарее, и с помощью двух алюминиевых кружек, приставленных к трубе, начинаются «телефонные разговоры». Завязываются знакомства. Ночью не спят: ждут «коня». «Конь» – это спускаемый на нитке по наружной стене мешочек с записками, а иногда и с подарками. Его ловят и с большой ловкостью протаскивают сквозь щели «намордника» в форточку. Первые записки – это «визитные карточки», в которых желающие завязать переписку сообщают о себе основные сведения – возраст, внешность, интересы – истинны эти сведения или вымышлены, зависит от желания автора. Кавалеров разбирают, и начинается ежедневная переписка, которой не мешают ни стены, ни запоры, ни «намордники». Возникает бурная тюремная романтика, игра в великую любовь, которая якобы связала двух никогда не видевших друг друга людей. Многие женщины так увлекаются этой игрой, что она становится для них реальностью. Случается, что и вены режут от разлуки или из ревности. Но если до таких крайностей дело не доходит, если игра остаётся игрой, цель всё равно достигнута: на какое-то время обеспечена полнота жизни.
Я попала в зону со швейной фабрикой. Это для женской колонии частый, естественно, случай. Фабрика расположена отдельно от жилой зоны, в этом же посёлке, на расстоянии нескольких минут ходьбы, если идти не строем, без остановок и проверок. У нас времени на этот переход уходит больше: пока построят у ворот по пятёркам, пока проверят в целом внешний вид, пока посчитают: «Первая пятёрка… вторая пятёрка…» – и та же процедура при входе на фабрику. Хорошо, что рабочая зона не слита с жилой. Можно пройти по улице, увидеть дома, вольных людей, детей с ранцами.
Войдя в рабочую зону, мы рассыпаемся, расходимся по цехам. Каждый цех – небольшой деревянный барак, какие стоят и в жилой зоне. Есть паровое отопление, но это почти как улицу топить: стены тонкие, летние, всё выдувает тут же. Ко второй половине дня бараки нагреваются нашими же телами. Видимо, эти бараки были когда-то построены наспех, временно, да так и существуют, благо не падают.
Фабричка наша шьёт спецодежду, медицинские халаты, казённые костюмы для заключённых, трусы – не очень ответственные виды одежды.
По стенам те же лозунги, что и на воле, те же графики выполнения, списки передовиков, только соревнование у нас не социалистическое, а трудовое. Проводятся производственные собрания, обсуждаются отстающие и выясняются причины брака – всё, как на обычной фабрике, только развалюшка непохожа на цех и зарплату не выдают на руки.
Фабрика – единственное место, где заключённые встречаются с вольными, не охраняющими их, а работающими вместе с ними. Бригадир – заключённая, мастер – вольный, начальник цеха – тем более. Складами заведуют заключённые (никак не могу понять эту логику), в бухгалтерии работают и те, и другие.
План обычно слегка перевыполнен. Начальству процент перевыполнения кажется недостаточным, и оно всеми способами подгоняет людей. Способ самый действенный – лишение выходных. В субботу нам объявляют, что завтра рабочий день – вот и всё. Производственная необходимость. В месяц у нас почти никогда не бывает всех четырёх выходных. Выпадают такие месяцы, когда мы отдыхаем, в лучшем случае, одно воскресенье, а то и ни одного. Никаких отпусков, разумеется, не положено. Если женщина осуждена на десять – пятнадцать лет, то она так и работает подряд все годы заключения, и единственная возможность передохнуть – это заболеть.
Рабочий день у заключённых по закону нормальный, восьмичасовой. При сменной работе задержек не бывает, поджимает следующая смена. А вот если работа односменная, тогда беда – часто задерживают на работе и на два, и на три часа. За свой недолгий срок я узнала оба вида работы.
В полуразвалившихся бараках, при очень плохом питании, в дерюжной, насквозь продуваемой одежде зеки всё же делают то, что от них требуют: планы перевыполняются, начальство получает премии.
Рабочий день окончен. Мы очередной раз сосчитаны при входе в ворота. Прямо от ворот мы идём в столовую, получаем свою рыбную водицу и наконец-то бредём домой, в нашу «жилую секцию». Сдёргиваем простыни-покрывала, чтобы хоть на минуту прилечь или присесть и спрятать в тумбочке остаток хлебной пайки для своего вечернего чая и, кому повезло, выловленную в баланде картофелину. Иногда к ней найдётся чудом раздобытая луковка, или долька чеснока, или сэкономленный кусочек селёдки, а кто получает посылки, тот, бывает, и ломтик сала положит вечером на хлеб с картофелиной.
Не успеешь навести в тумбочке должный порядок, чтобы не бросались в глаза твои сокровища любопытной дневалке или, тем более, начальнице, совершающей обход, как уже звонок. Это вечерняя поверка. Строимся на плацу, долго ждём – дождь ли, мороз ли – каких-нибудь запоздавших лихих нарушительниц режима. За ними посылают во все концы зоны, а им всё нипочём и на режим они плевать хотели. Наконец вот и они. Ног своих мы уже не чувствуем, а нас только начинают пересчитывать, а после пересчёта объявляют новости («переходим на зимнюю форму одежды, разрешены резиновые сапоги на осень») или читают мораль («в такой-то бригаде произошло такое-то ЧП»). Время позднее, а зимой уже темно, мы после рабочего дня, завтра вставать в шесть часов утра – казалось бы, нам должны дать отдохнуть до отбоя. Так оно и бывает после построения – в других колониях. В женских, мужских – всяких. После вечерней поверки до отбоя – свободное время, когда можно постирать, посушить, починить одежду, написать письмо, почитать, посмотреть телевизор, сходить в больницу к врачу или за лекарством, пойти на приём к начальнику по какому-то своему делу. Но в нашей колонии – свои порядки.
Каждый день после вечерней поверки нас гонят в клуб на так называемый политчас. На самом деле это лишь изредка политчас, и это хорошо, когда политчас. Оперуполномоченный рассказывает о событиях в мире, говорит он не шибко грамотно, но бойко, и слушать его легко. Или замполит почитает нам трогательные письма чьей-нибудь матери. Но чаще бывает обыкновенная накачка, разговор ни о чём, нудное распекание какой-то провинившейся, понятное только ей одной, или очередная беседа о гигиене женщины, не только бессмысленная, но издевательская в зоне, где нет воды, чтобы вымыть руки. Женщины дремлют. Проходит час, полтора, два. Наконец нас отпускают.
Со всех ног бежим мы, кому куда надо. Времени до отбоя осталось так мало – нет, не успеть, опять не успеть. Ни постирать, ни почитать. Не говоря уже о том, что, когда люди проводят годы, многие годы в таком месте, у них, конечно же, возникают свои дела, свои знакомства, своя жизнь. Не может человек только есть, работать, спать, хоть и очень это было бы удобно начальству, и на это направлены требования. Конечно, среди этих возникающих дел бывают и запретные – отчасти потому, что уж очень много запретов, а отчасти потому, что не ангелов там собрали. Но те, у кого интересы криминальные (сварить чифирь, скроить блузку из краденой ткани, продать в соседней бригаде полученную в бандероли сорочку за три пачки чая), так или иначе намерения свои осуществляют.
От ежедневного политчаса освобождаются только школьники, у которых каждый вечер уроки. Политчасы, конечно, предусмотрены режимом и бывают в каждой колонии, где раз в неделю, где два. Но сколько я ни разговаривала с бывшими зеками, я не слышала, чтобы где-то ещё политчас устраивался каждый день, кроме выходных и суббот.
Наше начальство вывело свою колонию на какие-то новые воспитательные рубежи. Решили, вероятно, что открыли замечательный воспитательный приём: не оставлять свободного времени, занять каждый час, каждую минуту, чем – всё равно – довести женщин до такого отупения, чтобы они были способны только на эти функции – работать, есть и спать.
Раза два в месяц бывает кино в клубе. У отрядов-счастливчиков есть телевизор в общественной комнате. Смотреть его можно только в выходные дни, в будни некогда. Зато в выходные любительницы не отрываются от экрана с утра до отбоя. Любительницами стать не так просто: надо иметь возможность купить чьи-то услуги в прачечной. За пачку чая тебе и постирают, и посушат, и погладят на всю неделю: чай, чифирь – зоновская замена алкоголя. Без чая не будут работать, не дадут плана. Но многие не могут смотреть ни кино, ни телевизор – нервы не выдерживают вида вольной жизни. Посмотрев фильм, они плачут, даже если это комедия, и долго не могут вернуться к нормальному состоянию.
В выходные дни они спят, отрываясь от сна только для просчётов и еды (в выходные дни, конечно, тоже пересчитывают дважды всю зону). Кроме кино, сна и чтения, заняться нечем. Никаких физкультурных занятий нет, кроме волейбольного мяча и сетки. Раз в год устраивается принудительный общеколонийский забег, необходимый начальству для какого-нибудь отчёта.
За три года не было ни одной лекции, которая могла бы растрогать душу, разбудить ум, дать пищу воображению. Ничего сколько-нибудь похожего на культурную жизнь, одна казённая самодеятельность. Уровень её низок, и не потому, что туда не попадают способные девчата – туда, увы, попадают всякие – а потому, что никому ничего не нужно, кроме галочки в отчёте. Уровень самодеятельности как раз соответствует общему впечатлению от зоны: серые бараки, серые ватники, плывущий над всем запах уборной…
Деревьев в зоне не положено, потому что территория должна просматриваться. Но почему запрещены цветы? Вместо клумб – круги, заложенные кирпичом, вокруг – скамейки для курения. В центре «клумбы» – палка с дощечкой «Место для курения». Для некурящих не предусмотрено скамеек, курить, таким образом, приглашают всех. Говорят, очень высокое начальство против цветов в колониях: «Это же не санаторий, а место заключения». Всё тот же принцип: «пусть им будет как можно хуже».
Дни государственных праздников нерабочие для всех: для администрации, для конвоя, а стало быть, для заключённых тоже. Правда, не более одного дня. Обычно не выводят на работу 7 ноября и 1 мая, а 8 ноября и 2 мая – рабочие дни. По праздникам дают какое-нибудь праздничное блюдо (например, манную кашу или варёную картошку, которых по будням не давали никогда) и сверх всего по стакану компота из сухофруктов. Обычно под праздничный день разрешают вечер отдыха. В общественной комнате включают проигрыватель и принаряженные пары танцуют. Откуда наряды? Да всё оттуда же, с фабрики. Шились тайком, прятались усердно, при ближайшем обыске будут обнаружены и изъяты. Но это уже неважно, главное – покрасоваться хоть денёк. Сделают модный вырез, причёску, накрасятся самодельными или контрабандными красками – и счастливы.
Под Новый год иногда, не каждый раз, разрешают маленькую ёлочку, в общественной комнате. Варят свой чай-чифирь, без которого не живёт ни одна зона, и делают торты. Торт – главное украшение праздника. Самый распространённый рецепт: печенье, полученное в ларьке и собранное в складчину; крем, сбитый долгими стараниями из маргарина с сахарным песком; розочки и прочие фигурки из крема, окрашенного с помощью, например, губной помады. Есть большие искусницы: на новогоднем торте сделают и Снегурочку, и Деда Мороза, и зайчиков.
Вот и всё готово. Наступает время праздника. Обычно это часа два-три после вечерней поверки. Каждая компания усаживается на койках вокруг сдвинутых тумбочек или устраивается полулёжа, как древние греки, вокруг «стола», расстеленного здесь же, на кровати. Болтают, пьют чифирь, лакомятся тортом и, конечно, поют. Бывает, что в самый разгар пиршества приходят контролёрши – «дубачки». «Немедленно всё убрать, разойтись по спальным местам, полная тишина». Но их две на всю зону, им ещё ходить и ходить, а начальница отряда уже ушла домой, её рабочий день окончен, так что мы перетерпим это вторжение, всё как бы уберём, а после их ухода продолжим, просто постараемся петь потише. Они из-за песен и пришли. А если не петь – как прожить?
Что же там поют, какие песни? О, поют всякое, от и до. На этапе, в поездах, поют такое страшненькое, что уши бы мои не слыхали. И откуда только они, впервые сюда попавшие, узнают эти жуткие песенки, почти без цензурных слов и совершенно нецензурные по смыслу. Так дружно все их подхватывают, как будто с детства знают. В зоне за такие песенки был бы карцер. Но в зоне и настроение другое – настроение нормальной, введённой в берега жизни тихой повседневности.
Поётся советская лирика, популярная, но с некоторым отставанием от вольной моды. Поётся и тюремная лирика, сентиментальная, со слезой. Там обычно фигурирует мать, тщетно ждущая возвращения своего осуждённого сына, или красавица-воровка, которую застрелил злой начальник. Песни эти примитивны, и только одна из них меня растрогала:
Ой вы, добрые люди, Ой вы, русские люди, Пожалейте же, люди, Вы своих дочерей. Уберите заборы, Не делите Россию И не стройте вы больше Никаких лагерей.Наши воспитатели
Высшее начальство колонии в подавляющем большинстве – мужчины. Это сотрудники МВД, люди в форме, майоры и полковники. А повседневной нашей жизнью руководит начальство ближайшее, непосредственное. Это – начальники отрядов. В женской колонии эту должность могут занимать только женщины. По замыслу, очевидно, начальник отряда – это наша непосредственная воспитательница, наша отрядная «мама». Фактически эту должность занимают – по крайней мере в описываемой колонии – люди случайные, никак к этой своей роли не подготовленные. Я не встречала там людей, которые хотели бы и могли бы поговорить с женщинами по-человечески. Нашему отряду досталась женщина лет тридцати с небольшим, окончившая какой-то техникум, не имеющий отношения ни к колониям, ни к воспитанию. У неё явно был вкус к власти над людьми – к небольшой власти, по своим меркам. Она не была чрезмерно жестока, но слово «надзирательница» подошло бы ей вполне. Крупная, с правильным лицом, которое она очень скоро сумела сделать каменно-непроницаемым, она говорила мало, смотрела холодно и прямо, поверх наших глаз. Никогда не улыбалась.
Получив наш отряд, она стала знакомиться с нами индивидуально и вызывала нас по одной в кабинет. Дошла очередь до меня. Я вошла, доложилась, как положено (когда заключённый входит к начальнику, он называет себя, свою статью, номер отряда и бригады), она указала мне на стул и спросила, знаю ли я, в чём состоит моя главная обязанность по отношению к ней, начальнице. Я молчала в недоумении. «Вы обязаны открыть мне свою душу», – сказала она железным голосом.
Администрация исправительных заведений уверена, что у заключённых слишком много прав. Сколько раз я слышала там эту фразу и думала: «Что же ещё нужно, какие бездны унижения ещё нужны, чтобы эти люди осознали своё отношение к заключённым как негуманное?»
Среди колонийской администрации был один сотрудник, которого осуждённые уважали. Он выделялся культурой манер, речи, вежливым обращением с заключёнными женщинами. Однажды во время построения, вечером, он сделал замечание женщине, курившей в строю. То ли она не услышала замечания, то ли не смогла расстаться сразу с сигаретой, но она сделала ещё одну-две затяжки. Сверкнул огонёк сигареты, начальник быстро подошёл и ударил женщину по лицу Строй ахнул. «А я-то его человеком считала», – послышалось сзади.
В тюрьме и в колонии предусмотрены регулярные обыски. Первому обыску человек подвергается ещё в КПЗ, второму, капитальному, – при водворении в тюремную камеру. Эти первые два обыска остались в моей памяти как бредовый кошмар. Женщины, производящие обыск, находятся с осуждённой один на один. Они совершенно бесконтрольны, безнаказанны. Понятно, что сама процедура обыска унизительна для человеческого достоинства, но провести её можно по-разному. Тюремные контролёры, производящие обыск, усугубляют его унизительность, как только могут. Они оскорбляют обыскиваемого словами, тоном, жестами, обращением с его личными вещами – например, с фотографиями. Одна из этих женщин издевалась надо мной, держа в руках фотографию моего сына и отпуская по её поводу шуточки. Она ощупывала каждый предмет из моей сумки и внимательно наблюдала за моим лицом. Уловив волнение, она весело кричала: «Нельзя! Этого нельзя!» – и отбирала вещь.
Регулярные обыски производились обычно в банные дни, пока мы мылись, а в лагере – пока мы были на работе. Отобрать могли всё что угодно, например письма из дома, если так захотелось контролёрше. В тюрьме были случаи несомненного издевательства: мы возвращаемся из бани и видим посреди камеры на полу кучу вещей. Всё перемешано – сахар, табак, письма, трусы, печенье, грязное бельё, расчёски – из всех сумок, со всех постелей всё свалено в одну кучу
На каждом шагу унижается женское достоинство. Если медицинский осмотр в тюрьме производит мужчина, он непременно сопровождает его циничными шутками: подразумевается, что все осуждённые женщины – это воровки, пьяницы, проститутки и бродяжки. В Новосибирской пересыльной тюрьме вход в баню устроен так, что уже раздетые догола группы мужчин и женщин встречаются в коридоре. Какая разница? Это же зеки!
В тюрьме невозможно обратиться к дежурной с простой просьбой: хороший тон у них – не слышать заключённого. Презумпция вечной виновности по любому поводу. Каждый, самый мелкий служащий администрации считает себя вправе ежеминутно наказывать зеков – осуществлять правосудие своими силами, «чтобы им всегда было плохо». Но человек не может всегда, ежеминутно, беспрерывно ощущать себя преступником. Иногда он должен чувствовать себя просто человеком. Если всё время заставлять страдать, человек перестаёт сознавать себя справедливо наказанным, даже совестливый человек, и начинает ощущать себя жертвой, – и он прав. Нельзя возродиться, если тебя презирают и обращаются с тобой заведомо как с животным. Эти рассуждения могут показаться бесспорными, даже банальными, но там дело обстоит именно так. Сколько раз я замечала, как смотрят на заключённых – с отвращением, с нарочитым движением – как бы случайно не коснуться! Последняя контролёрша, так же ворующая и так же достойная решётки, как зекские грабительницы, высокомерно заявляет: «То вы, а то – мы», – искренне. Ведь она же не зечка. Ты в моей власти, значит, ты хуже меня – рабовладельческая логика. Зеки ощущают к себе постоянное презрение, почти физическое отвращение вовсе не за то, что они сделали, а за принадлежность к низшей не только социальной, но и биологической категории.
И сами они видят свой позор не в содеянном, а в переходе в эту низшую категорию людей: для них позорна сама отсидка, положение арестанта, независимо от того, виноваты ли они и в чём именно.
Но страшнее всего, страшнее позора, несправедливости, полуголодного пайка и тесноты – ложь. Ложь, что зоновский труд перевоспитывает. Ложь, что перевоспитание – цель системы ГУИТУ Система занята тремя задачами: как перевыполнить производственный план; как распихать все новые партии заключённых; как удержать эту ораву от бунта. Ложь, что не унижается человеческое достоинство и не наносится ущерба здоровью миллионов людей. Им не просто наносят ущерб, их калечат уже непоправимо, и физически, и духовно. Весь уклад зоны с её отсутствием впечатлений и положительных эмоций, с её непредставимой на воле монотонностью и серостью ведёт к деградации личности. В течение многих лет человек живёт как рабочее животное, без участия разумной воли, ума, чувств – они ему не нужны в колонии. Все эти слагаемые его личности мало-помалу атрофируются, остаётся лишь низшее в нём, то, что даёт силы выслеживать добычу и бороться за неё. В зоне выживает самый жестокий и самый хитрый.
Традиционный лживый штамп – забота о женщине. Разве не женщина та молодая бухгалтерша, которую оторвали от трёхмесячной дочки? Другого наказания, кроме зоны, наши юридические умы не могут предусмотреть для подобных случаев? «Она имеет право взять ребёнка с собой в тюрьму». Да, имеет. Но о тюрьме я уже рассказала.
У множества этих женщин, преступных служащих, но нормальных жён и матерей, гибнут оставшиеся без присмотра дети (две дочери наших лагерниц заболели и без материнского глаза умерли). А сколько пополнило детские колонии? Распадаются семьи: какой муж будет ждать жену десять, восемь, даже пять лет? Моральное потрясение от вида тюрьмы и от приговора так велико, что у многих женщин прерывается физиологический цикл – хорошо, если на время, а у некоторых на долгие годы, я встречала таких. Они обращаются к фельдшеру, а тот, хохоча над своей остротой, отвечает, что та второй год как беременна.
Ложь, что ведётся индивидуальная работа с заключёнными. Никакой вообще воспитательной работы не ведётся, не только индивидуальной. Перемешивание людей дна с должностными преступниками, преступников со случайно оступившимися жертвами обстоятельств и просто невиновными развращает людей, снимает с них чувство вины, если оно и было.
«На волю с чистой совестью» – лживый лозунг. Все знают, что на воле их ждёт непрописка и отказ принять на работу, что милиция ухватится за первый же промах, чтобы отправить на повторный срок.
Главная же ложь обращена не к зекам. Главная ложь – обществу: что наша исправительная система работает, что она исправляет преступников и возвращает обществу полноценных людей.
Был случай, когда ложь явилась перед нами, заключёнными, в конкретной форме, чёрным по белому. Одна из зечек случайно увидела журнальную публикацию о советских исправительных учреждениях.
Это была беседа голландского публициста Л. Ван Эка с иркутской судьёй Викторией Земцовой. Беседа помещена в журнале «Культура и жизнь» (не путать с газетой под тем же названием) за 1981 год (№ 6, стр. 28), в рубрике «СССР глазами иностранцев», под заголовком «Скорый и правый». Я приведу часть этой беседы.
Л. Ван Эк: Сколько видов исправительно-трудовых колоний имеется у вас?
В. Земцова: Четыре вида (перечисляет. – Т. Щ.). В колониях с общим режимом содержатся лица, совершившие нетяжкие преступления, или же тяжкие, но в первый раз и при смягчающих обстоятельствах и приговорённые к сроку до трёх лет лишения свободы (ложь. – Т. Щ.). Они работают, зарплату получают на руки (ложь. – Т. Щ.), имеют регулярные свидания с родственниками, могут заочно учиться (ложь. – Т. Щ.). Часто работают в городе на предприятиях, а в колонию возвращаются только на ночь (ложь. – Т. Щ.). В исправительно-трудовых колониях строгого режима содержатся особо опасные преступники, а также лица, уже отбывавшие ранее наказание в местах лишения свободы. Там заключённым меньше даётся денег на руки из заработанных ими (ложь: совсем не даётся. – Т. Щ.), реже разрешается писать письма. Л. Ван Эк: Что делается, чтобы подготовить осуждённого к возвращению в общество?
В. Земцова: Вся наша система наказания построена на принципе перевоспитания (неправда. – Т. Щ.). В колониях люди могут получать специальность, могут учиться заочно, там есть библиотека, клубы, организуются вечера отдыха, просмотры кинофильмов, лекции, концерты самодеятельности (формально всё это есть, реализуется же это как пародия. – Т.Щ.).
Л. Ван Эк: Обследуют ли заключённых психиатры? В. Земцова: Само собой разумеется, в каждой колонии есть поликлиника, есть там и психиатры (абсолютная ложь. – Т. Щ.).
Много я читала неправды в газетах и журналах и могу твёрдо заявить, что такое явное, наглое и вполне конкретное враньё встречается редко. Как надо презирать нас всех, читателей, заключённых и вольных, чтобы опубликовать такое?
Ещё одна ложь и форма нравственного растления заключённых под маской их воспитания – это так называемая общественная работа. Все осуждённые, находящиеся в наших колониях, носят на одежде, с правой стороны, нагрудный знак – прямоугольник из картона, обтянутый синей материей, со своей фамилией и номером отряда, в нашей же колонии к обычному прямоугольнику прикрепляется ещё ромбик, у большинства синий с римскими цифрами I или II, а у некоторых красный с цифрой III. Это – обозначение степени исправления, которой достиг заключённый. Степень исправления определяется по трудовым показателям, а также по наличию или отсутствию нарушений и заслуг. Долгое время я была уверена, что ромбики со степенями введены во всех лагерях, но позднее выяснила, что они существуют только в нашей колонии. Для того, чтобы получить более высокую степень, мало не нарушать порядка. Нужно удовлетворять обычному набору требований: выполнение (желательно перевыполнение) нормы, соблюдение режима плюс участие в общественной работе. Первые два требования понятны. Но как можно превращать общественную активность осуждённого преступника из пожелания в категорическое требование, настолько, что в зависимость от него ставится уход женщин на «химию» и даже по амнистии? Год-два назад она грабила людей, а сегодня, если она записалась в так называемую самодеятельную организацию, она считается «решительно вставшей на путь исправления». Это ли не абсурд? Однако что же это за организации и вправду ли они самодеятельные? Я запомнила две из них: СПП – совет профилактики преступлений и СКО – совет коллектива отряда. Главная из них – СПП. Члены этого совета должны дежурить по очереди, предотвращать нарушения и, если заметят их, сообщать начальству. Я услышала об этой организации ещё на этапе от женщин, которые шли на «химию». Они объясняли мне, что, по их мнению, лучше бы совсем в эту организацию не вступать, но тогда рискуешь не уйти в свой срок на «химию». Поэтому они вступили, а во время дежурства ходили по зоне, напевая предупреждающую песенку: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».
В тюрьмах тоже предусмотрена воспитательная работа. Однажды я видела воспитательницу в тюрьме – по крайней мере женщины уверяли меня, что это воспитательница. Дело было при моём переселении из Бутырок на Красную Пресню. Мы находились в этапке – временной камере, и нас вдруг стали вызывать по одной в какой-то кабинет. За столом сидела миловидная, беленькая, очень молодая женщина. Она листала моё дело и, изредка поднимая глаза, задавала мне анкетные вопросы, сверяя ответы с написанным. Потом вдруг спросила: «Вы хотите выйти из заключения до срока?» – «Конечно», – сказала я. «Тогда вы должны сотрудничать с нами». – «Как?» – «Ну сотрудничать с администрацией. Помогать нам узнавать то, что нам нужно». – «Нет, это не для меня». Она нахмурилась: «Ваше дело, но я бы вам не советовала так себя вести». Она позвонила конвойному, и меня увели. Логика начальства проста как линейка: «Стукачи, конечно, люди подлые, но должны же мы знать, что делается в отрядах».
Мои наблюдения приводят меня к печальному выводу: не все активистки – доносчицы, но все, склонные к доносам, становятся активистками. Начальники отрядов и стукачи составляют общую систему, сеть наблюдения и устрашения, во главе которой стоит оперчасть. Начальник оперчасти и есть главный «воспитатель». Вызов в оперчасть – это тот дамоклов меч, который заставляет заключённых соглашаться на мелкие и крупные подлости по отношению к своим товарищам.
Следует рассказать о том, как складывались мои отношения с зоновским начальством. Что я осуждена на самом деле не за хулиганство, а за религиозное просвещение, они знали с самого начала, с первого моего дня в колонии: это, несомненно, было написано в моём деле. Но эта наша деятельность вырастала в их глазах до гигантских размеров. Они были уверены, что в стране существует мощная организация инакомыслящих с Сахаровым во главе. Мне они тоже приписывали какую-то функцию в этой структуре. Что человек может действовать по своей инициативе, не будучи понуждаем никаким приказом сверху, им не приходило в голову. Они предполагали кроме всего прочего невероятную техническую оснащённость этой воображаемой организации, сравнимую с силами КГБ. Иначе они не могли себе объяснить, как нас столько лет гонит и давит эта могучая машина, а мы всё живём.
Вскоре после моего прихода в колонию на моё имя пришла посылка из-за границы. Замначальника оперчасти («второй опер») вызвал меня, сообщил о посылке и спросил, откуда она. Я оглянулась – пакета нигде не было. «Вы же понимаете, что я не могу вам её показать, – сказал он, – а мы же не умеем читать по-иностранному». Долго мы с ним обсуждали, как прочитать обратный адрес, не видя его, пока я не догадалась спросить, на что похожа первая буква названия страны. «Она похожа на русское большое В», – ответил он. Я ему сказала, что посылка, возможно, из Бельгии. Тогда оперативник попросил прекратить всё это. «Но как же я могу это сделать? Ведь я не знаю ни этих людей, ни их адреса и не имею права ответить им». – «Вы сами знаете, как это сделать». Я засмеялась: «Не думаете же вы, что я прячу на зоне радиопередатчик?» – «Я не сомневаюсь в этом», – сказал он совершенно серьёзно.
В целом у меня сохранились с лагерным начальством приличные отношения. Со мной всегда были вежливы. Колонийское начальство иногда давало понять мне, что я не им принадлежу, что мной занимаются «московские». Время от времени мой пакет с письмами и тетрадями исчезал из моих вещей надолго. Я ходила на вахту узнать, когда же мне его вернут, но там многозначительно отвечали: «До Москвы и обратно путь не близкий». Каждый раз пакет мой ко мне возвращался почти целиком. Не хватало обычно одной странички в тетради, или одного письма, или даже конверта, который почему-то приобщили к делу.
Недели за две до освобождения меня вызвали в кабинет начальника оперчасти. Со мной приехал побеседовать некий важный человек, в штатском, сразу было видно, что в больших чинах. Держался он барственно-повелительно, и наш главный опер заискивал перед ним, даже в спине согнулся. Важную эту шишку сопровождал молодой и кудрявый, всё время отлучавшийся в уголок за занавеску, к своей аппаратуре. Она щёлкала и шипела.
В течение двух часов эта парочка пугала меня, добиваясь, чтобы я подписала обещание ничего не сообщать о том, что я видела в тюрьмах и в лагере. «Ну кому это нужно, Татьяна Николаевна? Всё уже описано, ничего нового вы не скажете». И другой аргумент: «Это вы сидели за хулиганство, а за религию вы ещё не сидели». И, вынув толстый том семинарского дела, они листали его, показывая мне наиболее опасные для меня абзацы и главы. Под конец они выложили свой главный козырь – пачку доносов, написанных в этом самом кабинете бедными зечками, которых вызывали из-за разговоров со мной в оперчасть.
Проступки и наказания
Как уже было сказано, поведение осуждённого в колонии оценивается, в первую очередь, по двум показателям: выполнение нормы и соблюдение режима. Нарушение этих двух требований ведёт к наказаниям. «Воры в законе», считающие для себя зазорным работать («западло»), – это чаще всего мужчины. Однако видела и я несколысих таких законниц. Большую часть отсидки они проводят в штрафном изоляторе, а это наказание не из лёгких. ШИзо – камера с цементным или каменным полом, обычно с выносной парашей, койка на день поднимается и крепится к стене, так что сесть можно только на пол. Во многих колониях ШИзо холодные, так было и в нашей. В некоторых из этих штрафных камер выбиты стёкла, зимой стены покрыты инеем. По рассказам очевидцев, холод в ШИзо необязателен, есть колонии, где в штрафных камерах нормальная температура.
Шерстяные рейтузы в ШИзо запрещены, а тёплые кофты и свитера вообще не разрешаются в колонии. В нашей зоне девочек, направляемых в ШИзо (я говорю – девочек, потому что туда чаще всего попадают самые молоденькие обитательницы зоны), облачают в специальные позорные балахоны из серой мешковины с выхваченной ножницами вкривь и вкось горловиной и с короткими, тоже с торчащими лохмами, рукавами.
Кормят там через день: день «лётный», день «нелётный». В «нелётный» приносят только пайку хлеба и кружку кипятку, но кипяток в данном случае – понятие условное. Обычно это просто чуть тёплая вода. Еду для штрафников готовят отдельно. Когда мимо несут ведро с этим пойлом, невольно отворачиваешься и задерживаешь дыхание, несмотря на свои привычные к вони зековские ноздри. Пахнет как из параши.
В ШИзо бьют. Я видела своими глазами, как ДПНК (дежурный помощник начальника колонии), осуществляющий повседневное руководство всей жизнью зоны, тащил в ШИзо упирающуюся молодую заключённую, непрерывно колотя её кулаками. Видела я и избитых девочек, в синяках, с текущей из ушей кровью, только что вернувшихся после трёх-четырёхнедельного пребывания в ШИзо. Замечу, что согласно исправительно-трудовому кодексу максимальный срок пребывания в штрафном изоляторе – пятнадцать дней.
За что туда можно попасть? Чаще всего на моей памяти туда попадали: за отказ от работы, за драку, за грубость с представителями администрации (грубостью считается также настойчивое возражение, попытка защитить своё достоинство, любая форма борьбы за справедливость), за наколки (то есть за татуировки), за повторное нарушение формы одежды, за распитие нелегально принесённых спиртных напитков.
В женской зоне одна из самых неистребимых форм самоутверждения – это одежда, сшитая (перешитая из форменной) по-своему, по моде, то есть с добавлением каких-либо вовсе не предусмотренных регламентом деталей. Женщины не хотят годами мириться с уродливой, топорной и, главное, совершенно одинаковой у всех одеждой и готовы претерпеть наказание за свою красоту, как они её понимают. Это для них способ защиты личного достоинства. По частоте нарушений форма одежды и косметика стоят, вероятно, во всех женских зонах на первом месте.
Конечно, ШИзо – не единственное и не первое наказание. На первый раз могут ограничиться замечанием в личном деле, затем – лишение посылки, отоварки, свидания, неотправка на «химию». Право на получение посылки заключённый получает только отбыв половину срока. Хорошо, если у тебя три года, а если десять – ждёшь посылки пять лет. Можно получить только три посылки в год. Не разрешается присылать ни лекарств, ни витаминов. Лишение свиданий затрагивает всех, к кому приезжают. Много и одиноких, у кого порваны связи с родными, и много молоденьких девчонок, от которых отказались родители. Свидания даются всего два раза в год длительные (на два-три дня) и три раза краткие (разговор в присутствии администрации). В тюрьме есть ещё и наручники как форма наказания. Применение наручников к женщине я видела только раз. Расскажу об этом.
Это было в иркутской пересылке. Пришёл очередной этап; молоденьких девчонок, вчерашних малолеток, было больше обычного. Одной из них восемнадцать исполнилось за день до этапа. Она была очень мала ростом, очень худа, производила впечатление подростка-дистрофика (глядя на неё, я вспомнила войну), но очень хотела казаться взрослой, прожжённой, прошедшей всё на свете. На ней были туфли на огромных каблуках, они были ей велики и всё время сваливались. Серое личико и визгливый голос – ощипанный цыплёнок, синий и никому не нужный. Она шла с малолетки досиживать во взрослую зону. Устроившись мало-мальски, она кинулась к окну – посмотреть, пока светло, как «конь» ночью пройдёт. В глазок её увидели и велели отойти от окна. Она отошла, но вскоре снова оказалась около него, прижавшись носом к стеклу. Ей снова замечание, а она, войдя в роль бывалой и отчаянной, огрызнулась на дверь. В один миг дверь открылась, вошли две надзирательницы и уволокли цыплёнка. Увидели мы её только на следующий день, с чёрно-багровыми следами на предплечьях. Оказалось, что накануне её сразу же потащили в карцер, и не просто так, а в наручниках. То ли потому, что наручники свалились с её цыплячьих лапок, то ли теперь так принято, но закрепили их на верхней части рук, оставив её так на всю ночь.
В колонии к нарушениям режима, за которые при желании могут последовать суровые наказания, относится также беспорядок в тумбочке, причём за отсутствие порядка может быть сочтена сдвинутая и чуть смятая салфетка при идеальной чистоте на полке – всё зависит от настроения проверяющего. Вообще меня удивляло, как много мелких придирок принимается всерьёз и становится причиной больших неприятностей, в то время как серьёзные проступки и даже преступления, такие как кражи с фабрики, остаются безнаказанными.
Не могу не рассказать об одной такой придирке, поразившей всех нас. Среди множества запретов, налагаемых на осуждённых женщин, есть запрет на косметику. Как почти все зоновские запреты, он удивительно непоследователен. Казалось бы, так и надо, всё правильно – ты под арестом, какая тебе косметика? Но дело в том, что губы красить разрешено – пожалуйста, сколько угодно, а вот ресницы, глаза и ногти нельзя ни в коем случае. Ну где логика? Конечно, все красят всё, чем ни попадя. А держать ухоженными и красивыми ногти на нашей швейной зоне – такой же предмет женской гордости, как и на воле.
Была у нас Катя С-ва, молодая, красивая женщина, получукча-полурусская, с удивительно приятной внешностью: милые, русские черты, слегка тронутые северной национальной экзотикой. Катя – одна из безусловно хороших женщин, встреченных мной за решёткой. Она без скидок хорошая: строгая к себе, справедливая к товарищам (она была звеньевой), сдержанная в манерах и словах. Она никогда не употребляла нецензурных выражений, это очень большая редкость в зоне. Очень много читала. Когда я её вспоминаю, то вижу её с книгой в руках, сидящей на корточках в рядах, построенных на плацу и ждущих пересчёта. Она отлично работала, это был тот редкий случай, когда человека искренне уважают и товарищи по несчастью, и администрация. Дома у неё осталась маленькая дочка. Катя сидела за убийство мужа. Однажды, вернувшись домой, она застала у себя большую компанию, весёлую и пьяную. У её мужа сидела на коленях незнакомая девица. Катя, ни слова не сказав, прошла в спальню и стала собирать чемодан. Вошёл муж, стал отнимать чемодан, ударил Катю, потом стал избивать. В какой-то момент сознание её отключилось. Говорит, что нескольких мгновений как бы не было, они выпали. Когда она очнулась, увидела мужа неподвижно лежащим с ножом в груди, а себя стоящей над ним. Ей дали 103-ю – умышленное убийство.
Наказание настолько не соответствует её преступлению, что однажды наш начальник оперчасти, человек, мягко говоря, несентиментальный, вызвал её и сказал, чтобы она подала апелляцию, потому что ей дали не ту статью и, соответственно, не тот срок. Мы, узнав об этом, заахали наперебой: «Как хорошо, как правильно, подавай апелляцию». – «Какая разница, та или эта статья – человека-то нет», – ответила Катя и апелляцию не подала. Приближался срок её условного освобождения, то есть отправки на «химию». Претензий к ней не было никаких. После работы мы, как всегда, строем вошли в клуб, началась административная комиссия. Вызвали Катю. Она вышла вперёд в телогрейке, платке и рукавичках. Рукавички ей недавно мама прислала – жёлтенькие, яркие. Вот эти рукавички её и подвели. Она уже, можно сказать, прошла комиссию, быстро и без ухабов, и вдруг кто-то из администрации ей говорит: «А почему вы в варежках? Снимите». Она сняла, и все увидели красные ногти. Этого было довольно: её не отпустили, заставили ждать следующей комиссии, срок которой был через полгода, то есть продлили ей пребывание за решёткой на полгода, без всякой вины, которую можно было бы принять всерьёз, только за красные ногти. Как будто речь шла о школьнице и её отправке, например, на олимпиаду – подход тот же.
В этом одном факте – всё наше узаконенное беззаконие, всё лицемерие нашего «режима содержания». От человека не требуется ни раскаяния, ни вообще каких-либо душевных изменений – ничего, кроме работы и мелочного соблюдения произвольного набора правил.
В колонии, как во всяком замкнутом мирке, все обо всех всё знают: кто что делает и кто каков. Несправедливое решение администрации, при постоянном попустительстве по отношению к заведомым воровкам, отдаётся очень далёким эхом. Кто же эти заведомые воровки? Кончается рабочий день, мы строимся. Снова: «Первая пятёрка, вторая пятёрка…» У ворот жилой зоны – ежедневный обыск, и не поверхностный осмотр, как при выходе на работу, а настоящий обыск, но почему-то чаще всего бесплодный. По сторонам ворот стоят две, иногда четыре контролёрши, простые местные женщины, обычно пожилые. Они залезают руками за пазухи, под рубашки, шарят по голому телу – ощупывают, ищут украденную ткань. Намётанным взглядом окинув очередную пятёрку, выбирают одну какую-то женщину, и одна из контролёрш исчезает с ней в соседнем казённом бараке. Там она заставит её раздеться догола. Часто таким образом находят запретное: водку, деньги, наркотическую травку. Но украденную ткань находят редко, а крадут между тем всё время. Редко находят, я думаю, потому, что крупные куски не несут в зону, а сплавляют куда-то прямо с фабрики.
Проносимые под одеждой небольшие куски материи – на блузку, на юбку – это сущие пустяки по сравнению с теми серьёзными делами, что проворачиваются на фабрике. В колониях, на колонийских фабриках и складах очень много материальных ценностей, в том числе дефицитных. Работать на этих складах почему-то поручено полуголодным, лишённым всех радостей жизни и не воспитанным в нравственных понятиях женщинам. Их же, в свою очередь, проверяют такие же, как они, простецкие женщины, только в вольной одежде, того же уровня развития и даже живущие немногим лучше – в селе-то Горном, где и воды питьевой нет.
Вот так они друг друга и перевоспитывают. Кражи и всякого рода тёмные дела обнаруживаются всё время, то на фабрике, то в зоне, но ни разу за мои три года не был вынесен сор из избы.
Одна из работниц склада пересылала на волю готовые платьица для своей маленькой дочки: она кроила их и шила у себя на постели. Это, конечно, вполне невинное воровство. А вот другой случай. Есть такая должность – завхоз зоны. У завхоза в руках вся казённая одежда, вся обувь, вся утварь. Занимает эту должность всегда осуждённая. Незадолго до конца моего срока на территории зоны нашли яму, куда тогдашняя заведующая колонийским хозяйством прятала краденое. Чего там только не было! И вовсе не только лагерного происхождения вещи, совсем напротив – множество вольных вещей, которые не могли к ней попасть иначе как через вольнонаёмных. И реализовать их иным путём тоже нельзя.
Сколько раз ловили на воровстве с фабрики одну из женщин нашей бригады. Её прорабатывали, воспитывали, подвергали всяким рядовым наказаниям (лишали отоварки, посылки и так далее), но о том, чтобы возбудить уголовное дело, и речи не было: слишком все связаны друг с другом. Невозможно возбудить дело о воровстве на фабрике, не обнаружив запутавшихся в сетях правосудия «вольняшек», а такое громкое уголовное дело отбросит колонию вниз, и начальник вместе со всей администрацией очень много потеряет в престиже и продвижении по службе. На какое-либо расследование краж личных вещей и продуктов тем более не приходится надеяться. Случались не просто кражи, а настоящие ограбления: две-три бандитки залезали в спальное помещение, когда бригада на работе, и уносили все только что купленные продукты, двухнедельный запас. Подобных жалоб администрация даже не дослушивала до конца: «Сами разбирайтесь». Это в сущности означало одно: «Творите самосуд, в колонии царит право сильного, волчий закон – это хорошо, пусть так и будет». То, за что на воле судят, в лагере можно делать безнаказанно.
Может ли осуждённый пожаловаться на несправедливость, попросить защиты? Согласно кодексу может. Письмо на имя прокурора подаётся заклеенным, и администрация не должна его проверять. Но на деле – проверяет, часто не отправляет, и осуждённый здесь бессилен: даже если он ухитрился отправить жалобу левым путём, её не будут рассматривать – она отправлена незаконно.
В тюрьмах прибегают ко всяким ухищрениям, чтобы избежать жалоб. В Новосибирске при обыске отбирали ручки и карандаши. Я спрашиваю, имеем ли мы право направлять заявления начальнику тюрьмы. «Конечно, имеете», – с готовностью. «Но чем же я напишу заявление?» – «Не знаю, у меня приказ». Это было в 1980 году, в конце зимы.
Большинство осуждённых женщин жаловаться не решаются. Они свои права представляют себе смутно и несправедливость воспринимают как неизбежное.
На территории колонии стоят большие щиты с цитатами и лозунгами. Есть среди них выдержки из ИТК – исправительно-трудового кодекса. Но самого кодекса нет. Он осуждённым неизвестен. Удобнее держать всю эту массу в полной правовой неграмотности.
Мне осталось рассказать то, что я слышала о страшной камере – «резинке». О ней упоминали женщины из краснопресненской камеры 310, упоминали мельком, вовсе ничем не возмущаясь и никого не разоблачая. Речь у нас шла о мытье этапок – камер для вновь прибывающих заключённых. Они объясняли мне, как это здорово – пройти по всей тюрьме. Пока то да сё, многое можно увидеть и услышать. «Или вот ещё берут „резинку" мыть…» – «Какую „резинку"?» – спросила я без интереса. Они объяснили мне, что это такая камера, в которой пол, стены и потолок обиты резиной или чем-то таким гладким. «Она для наказания самых отпетых» – так они выразились. В ней бьют этих отпетых, и, естественно, надо потом помыть эту камеру. Одна из женщин сама однажды мыла; по её словам, на стенах и на полу была кровь. Но вообще эта камера – не для битья, она оборудована не то для понижения давления, не то для повышения, там у самого пола есть второй глазок кроме обычного. В этот второй глазок виден заключённый, когда он уже упал. За ним, лежачим, наблюдают и, когда надо, открывают дверь и приводят его в чувство.
Всё это напоминало фантастическую антиутопию, и я не очень верила. И так бы и не верила, и не написала бы здесь об этом, если бы не тот случай с бунтом из-за мокриц, в камере 310.
Я писала уже, что, когда мы отказались не только от завтрака, но и от обеда, к нам в камеру пришёл разгневанный заместитель начальника тюрьмы. Он очень громко на нас кричал. И вдруг я услышала: «Вы что – в „резинку" захотели? Могу и в „резинку" отправить. Но на первый раз отправлю только в карцер, скажите спасибо». Так я удостоверилась, что, во-первых, «резинка» существует, а во-вторых, что она страшнее карцера.
Школа на шконцах
И в тюрьмах, и в колониях есть библиотеки. Тюремная библиотека работает следующим образом: вдруг открывается кормушка в двери и раздаётся голос: «Библиотека! Меняйте книги!» В кормушку просовывается листок с отпечатанными на машинке названиями книг. С трудом разбираю: печать слепая, света в камере мало. Вижу, что подбор книг случайный. Из двадцати названий только два-три художественных произведения, много назидательных и политических брошюр, последние тома классиков с письмами и примечаниями, учебник по электротехнике, руководство по токарному делу и так далее. Мне-то хорошо, я беру том писем Гончарова, а соседкам моим читать нечего. Раздаёт книги дежурная заключённая, а отнюдь не библиотечный работник, который стремился бы занять ум и душу изнывающих от безделья женщин.
Колонийская библиотека тоже оказалась бедной.
Весь её фонд умещается в одной комнате, на нескольких стеллажах (на две с половиной тысячи потенциальных читателей!). Не менее половины места занимают брошюры разного рода, политические и другие. В каждом отряде, в комнате общественника – если она, конечно, есть у отряда – имеется и своя отрядная библиотека, то есть две-три полки с книгами и брошюрами. При мне приезжали шефы (не помню, какая организация), привезли несколько коробок печатной продукции. Это оказались в основном опять-таки брошюры.
Не хватает не только книг. Нет людей, которые пропагандировали бы хорошую книгу, могли бы организовать кружок читателей, рассказать о хороших книгах. В библиотеке работают заключённые, но не из самых образованных, во всяком случае подбирают их не по этому признаку, а по каким-то другим, простым смертным непонятным.
Начальник отряда только один раз читала нам вслух книгу. Это была «Малая земля» Брежнева.
Начальники отрядов у нас, прямо скажем, не эрудиты, но достичь уровня районного библиотекаря они, подтянувшись, могут, но ведь их не на это нацеливают.
Есть в колонии школа. Все женщины, не имеющие среднего образования и не достигшие тридцати лет, учатся и автоматически кончают школу. А раз есть школа, есть и учителя. Единственный учитель, которого я, не учившаяся в этой школе, видела своими глазами, была директор школы, она же преподаватель русского языка и литературы. Она раза два-три выступала в клубе на общественно-политические темы. Больше никто из учителей участия в воспитательной работе не принимал.
И администрация, и учителя хорошо знают, что в зоне не говорят на обычном русском языке, а употребляют особую лексику, которую можно назвать матерщинным языком. Все части речи в этом языке – производные от матерных слов, они передают любое действие, любую характеристику лица или предмета, а при желании обозначают и само это лицо или предмет. Слова эти режут ухо только слушателю-новичку, а для самих носителей этой речи они стёрты, никаких образов не вызывают и ничего не выражают кроме того, что человек хочет сказать. Официально матерщина в колонии запрещена, и в присутствии начальства все говорят как нормальные люди. Я не знаю, что надо было бы сделать для искоренения этой чудовищной традиции (я уверена, что речь во многом формирует сознание), но на эту тему не думает, по-моему, никто. Вероятно, дело в системе ценностей, принятой там: миру насилия и зла приличествует чёрное слово.
Как-то, уже на воле, я слышала радиопередачу об американском писателе Джоне Чивере. Он пришёл в одну из тюрем и стал вести там литературный кружок. Участники кружка увлеклись занятиями, некоторые поступили заочно в университет, а у нескольких обнаружилось литературное дарование, их произведения появились в… печати, когда они ещё не покинули стен тюрьмы. У нас этого невозможно и представить себе. Даже официально назначенные шефы не вели у нас никаких кружков. О публикации же литературных произведений авторов-осуждённых нечего и говорить, да и когда писать? Что касается университета, в нашем кодексе ИТУ о заочном обучении в вузе не сказано ничего, говорится только о среднем образовании и производственном обучении.
Я встретила там нескольких молодых женщин, живо интересовавшихся языками, литературой и историей, имевших среднее образование и вполне достаточную подготовку для учёбы в вузе. В тюрьме я собирала таких вокруг себя и, сидя на шконцах, читала им что-то вроде лекций на гуманитарные темы.
Всё это затеяла Лида М. – та самая, что шёпотом вела наши физкультурные минутки во дворике Краснопресненской тюрьмы. Лиде было тогда лет двадцать семь, осуждена она была по известному в те годы «делу карусельщиков» и получила восемь лет.
Лида жила в Москве с мужем, дочкой и мамой. Муж её, инженер или техник – не помню, подрабатывал отлаживая импортные аттракционы в парке культуры. Вместе с ним там подрабатывали и другие молодые люди – инженеры, аспиранты, студенты-старшекурсники. В лето катастрофы (это было за полтора года до нашей встречи с Лидой в камере 310) Игорь, муж её, стал чаще обычного отсутствовать. Его объяснения не успокаивали жену, и она заподозрила интрижку. Лиде захотелось проверить свои подозрения и, если они подтвердятся, застать любовников врасплох. Она по каким-то деталям поняла, что пропадает он в парке культуры, и решила, что соперница её работает там. Поэтому она поступила на лето, временно, кассиршей к этим самым аттракционам. Недели через две их всех арестовали, её в том числе. Оказалось, что Игорь организовал тайный бизнес: молодые люди так хорошо отлаживали механику, что число катаний на этих аттракционах увеличилось чуть не вдвое. Они ввели в курс дела кассиров, те рвали билеты пополам, чтобы хватило на целый день, а выручку делили между всеми. Лида как жена главаря была объявлена его помощницей и получила полный срок. Она рассказывала мне о следствии, которое шло очень долго. Женщин переводили из свидетелей в обвиняемые и обратно, чтобы добиться нужных следствию показаний. Мужчин били; однажды избили и одну из женщин, молодую мать, предварительно взяв у неё из рук ребёнка.
Лида держалась мужественно, свою несуществующую вину не признавала; она провела в тюрьме больше года и, когда меня отправили на этап, была полна энергии и собиралась объявить голодовку протеста.
У неё было среднее образование; она огорчалась, что слишком рано обзавелась семьёй и не стала учиться. Интересы её были разнообразны и лежали в области гуманитарной. Всё началось с современной русской поэзии. Оказалось, что Лида не знает ни Ахматовой, ни Пастернака, ни Цветаевой; я постаралась вспомнить как можно больше стихов, хотя память в тюрьме слабеет очень скоро и сильно. Пастернаковские стихи из романа обратили нас к христианской теме, и очень быстро она стала центром всех наших разговоров. Камера невелика, как ни понижай голос, чтобы не мешать соседям, всё равно все всё слышат. Вскоре, одна за другой, к нам присоединились ещё четыре девушки. Они всерьёз вели конспекты, перечитывали записи, задавали вопросы.
Утром Лида просыпалась, оборачивала ко мне своё ясное личико и спрашивала: «Доброе утро, а мы сегодня будем заниматься?»
Когда я очутилась в уссурийской колонии, я поняла, что в тюрьме люди ведут себя значительно свободнее, так как там состав подвижный, народ всё время сменяется, меньше опасности стать объектом слежки и доноса. В лагере все крайне осторожны; меня сразу же предупредили, что здесь на каждом шагу – уши и глаза. Самое же главное было – исключительность моего положения в лагере. О каждом разговоре моём с кем-либо из женщин становилось известно начальству, и после двух-трёх разговоров женщину вызывали в оперчасть и проводили с ней беседу, объясняя, что я – почти враг народа и за дружбу со мной можно серьёзно поплатиться.
Однако и здесь возник такой лекционный кружок. Всё началось со школьного учебника литературы. Три девушки, учившиеся в девятом классе лагерной школы, попросили меня помочь им написать сочинение по творчеству Достоевского. Всего материала у них было – школьный учебник и роман «Преступление и наказание». Консультация по школьной программе всё же не могла быть сочтена криминалом, и несколько бесед мы провели по Достоевскому и вокруг него. Участниц было несколько. Затем, видимо, начались вызовы в оперчасть и угрозы, потому что ряды моих слушательниц поредели, пока не осталась одна-единственная – Лена. Я уговорила её перейти на письменную форму общения. Она писала свои вопросы и клала листок в карман моего ватника, а я таким же образом отдавала ей свои письменные ответы. Переписка наша велась вокруг двух главных тем: история западноевропейской культуры и судьба России в XX веке. Особенно много вопросов возникло у Лены в связи со второй темой, и мы постепенно перешли из области историко-культурной в сферу духовную.
Другая моя лагерная ученица, Валя М., не столь начитанна, не столь серьёзна, не так заинтересована общими вопросами, но она любит и знает русскую классическую литературу, особенно поэзию. Наши беседы начались с того, что Валя попросила меня напомнить ей забытые строчки в стихотворении Фета. Отбой уже был, свет выключен. Вдруг слышу – тихий голос зовёт меня: «Николаевна, подскажи, я забыла: „Шёпот, робкое дыханье, трели соловья…" – как дальше?» Общими усилиями мы вспоминаем с начала до конца это стихотворение, потом другое, третье. Валя неплохо знает Лермонтова и Фета, но об Ахматовой едва слыхала, мы с ней решаем завести толстую тетрадь и записывать все стихи великих русских поэтов, какие сумеем вспомнить. В тюрьме и лагере катастрофически слабеет память, я с большими усилиями вспоминала, слово за словом, стихотворения, знакомые с детства, о которых я и предположить не могла бы, что я их забуду. Очень помогала Люба, жена сына, – в своих письмах мне она присылала по два-три стихотворения. Переписывать эти стихи из книг мы не могли: как только в библиотеке появляется томик стихов Пушкина или Лермонтова, его тут же берут, и он больше не возвращается: «потеряли». Это вызывает возмущение начальства, а я радовалась – люди, которые крадут стихи, ещё не потеряны. Я уверена, что в каждой бригаде женской колонии должны быть на полке хорошие стихи, и именно любовная лирика.
Тетрадь наша мало-помалу заполнялась, ходила по рукам и пользовалась успехом. Были там и Алексей Константинович Толстой, и Блок, и Ахматова. Их переписывали в личные тетрадки, вперемежку с глупыми куплетами неведомых тюремных сочинителей, и меня это не шокировало, а радовало.
Тетрадка была нелегальной: я была в колонии лицом подозрительным, и тетрадь, попади она в руки начальства, была бы изъята. Они запрещали всё, что исходило от меня, – на всякий случай.
Я попыталась заниматься французским языком с добровольцами, но это было тут же пресечено: администрация не могла допустить, чтобы в колонии звучал язык, которого никто из них не понимает. Сотрудник оперчасти сказал: «Я, слава Богу, никаких языков, кроме русского, не знаю». Я получила взыскание, и меня даже на собрании проработали. Собрание было проведено в лучших традициях наших советских проработок. Одна из заключённых-активисток вышла вперёд и произнесла речь, построенную в виде вопросов и ответов: «Нужен ли нам в колонии иностранный язык? Нет, нам не нужен иностранный язык. Какие идеи может передавать книга, написанная на иностранном языке? Она может передавать чуждые нам идеи…» – и так далее.
Я была лишена очередной посылки, и больше никому не приходило в голову спрашивать меня, как по-французски то или это. Наши заключённые отгорожены не только от мира, но и от всякой умственной и творческой деятельности.
В «Литературной газете» был опубликован рассказ Б. Галанова о необычном кинофестивале в Италии («Фестиваль коротких штанишек»). Необычность его в том, что жюри составляют дети. Вот отрывок из статьи: «Кстати, в жюри входило несколько малолетних правонарушителей. Программу фестиваля они смотрели в местах заключения по прямой телесвязи, и их мнение, переданное по телефону, учитывалось наравне с другими. „Эти дети, – сказали нам организаторы фестиваля, – должны знать, что, наказав, общество не отлучило их от себя. Фестиваль помогает преодолеть чувство одиночества и отчуждения. Ведь у каждого впереди ещё целая жизнь"». Конечно, это о подростках, а я пишу о взрослых. Но возможно ли что-либо подобное в колонии для малолеток? Есть ли живой контакт у наших малолетних заключённых с нормальным вольным миром? И их творческое участие в делах этого мира?
Да ладно, не надо творческого кружка, ведомого писателем, не надо кинофестиваля. Библиотеку бы приличную и хорошего библиотекаря к ней. Хорошо бы журнал, предназначенный для этой категории граждан, – ведь их так много, и надо же выходить из этой гулаговской ситуации – журнал, или хотя бы газету, где можно было бы найти и доступные им рассказы, и повести, занимательные и в меру назидательные, и толковые советы, как устроить жизнь по выходе на волю, и психологические консультации.
В комнате общественника шумно и оживлённо: ожидается визит замполита зоны. Она будет проверять отрядную библиотеку. Эти показатели учитываются в соревновании бригад. Наш начальник здесь же распределил работы. Самым образованным, двум заведующим детскими садиками, поручено ответственное дело – оформление нового стенда «Всё для человека, всё во имя человека». Они уже приготовили цветные фотографии, вырезанные из журналов, и теперь прикрепляют их к стенду. У стола – отрядный библиотекарь над ворохом формуляров. Формуляры пустые: библиотечка наша доступна каждому, никто ничего не записывает в формуляры, но вдруг замполит захочет проверить уровень читаемости. Отрядный библиотекарь (это такая общественная должность) записывает в каждый формуляр названия книг и тут же вычёркивает, как будто книга сдана. «Я тебе запишу „Горе от ума", ладно?» – «Нет, не надо, вдруг она спросит про что там. Запиши мне лучше „Обломов" Максима Горького (!), я его лучше помню…» А они бы читали, если бы было что читать, особенно стихи.
Я стою на табуретке, прикрепляю кнопками газетные вырезки к стенду «Новости недели». В одной руке у меня статья о международном положении, в другой – стихотворение Ахматовой, то, где «перчатка с левой руки». Возле меня останавливается маленький заморыш, жалкая воровка с серым личиком. «Вот, – говорю, – Тома, не знаю, что повесить: статью про политику или стихи про любовь. Места-то мало». Её лицо оживляется, она робко шепчет: «Стихи…» Эту общественную работу – заполнять еженедельно стенд всякими новостями – я взяла на себя добровольно, чем приятно удивила нашу начальницу отряда. Посреди газетной трескотни, которую никто не читал, я вывешивала стихи, и их – я видела это – переписывали в тетради.
На всякий совет: «Прочти, это интересно» – всегда было много откликов. Смешно и трогательно: зимой 1981 года книга прозы Пушкина стала бестселлером в нашем отряде. Я перечитывала «Капитанскую дочку» и дала почитать соседке. Ей понравилось, за книгой выстроилась очередь. Надо было слышать, как непосредственно они клеймили подлость Швабрина и восхищались благородством Гринёва и верностью Марьи Ивановны. Правда, словарь их оставался при этом привычным, тем, от которого у меня до конца так и не перестало сжиматься сердце. Мои солагерницы выражали мне своё уважение тем, что, обращаясь ко мне, не употребляли нецензурных аналогов нормальной речи, но, разговаривая в моём присутствии между собой, пользовались привычной лексикой.
Особенный их интерес вызывали книги о тюрьмах, о старой каторге. Эти книги помогали им осознать себя, осмыслить свою лагерную жизнь и своё место в ней, оценить соотношение своего преступления с претерпеваемым ими наказанием. Второе по популярности место после «Капитанской дочки» заняла повесть Виктора Гюго «Клод Ге» – об обитателях тюремной камеры. За ней шла книга Чехова о путешествии на Сахалин. К сожалению, в колонии не оказалось «Записок из мёртвого дома».
Как они слушали «тюремные» стихи Лермонтова! Эти стихи возвышали их над собственным убогим восприятием мира, они облагораживали их естественную тоску по воле.
Я знакомила их с современной русской литературой, которая не печаталась в те годы в нашей стране и знать которую они не могли. Зрелость гражданского сознания не менее важна, чем культура. Я считала недопустимым согласиться на книжные пайки, отмеренные партийными идеологами, как для себя, так и для других. Я читала им «Реквием» Ахматовой; они хотели записать, но я объяснила, насколько это опасно, и они выучили наизусть. Я рассказывала им о Солженицыне. Мы были очень осторожны: риск был велик. Страх сковывал людей как по ту сторону колючей проволоки, так и по эту. Люди боялись не только говорить, но и додумывать до конца то, что приходило в голову. Однако тем ярче выглядят исключения.
Анна Михайловна, сибирячка с больными ногами, которую я встретила в Свердловске и о которой упоминала в главе «Клятва Гиппократа», – одно из таких исключений. Когда я вошла в камеру, неся на плече матрац с подушкой и волоча за собой сумку, а следом за мной втолкнули ещё нескольких таких же, женщина, сидевшая на кровати спиной к нам, мельком глянула на вошедших и громко сказала: «Как они боятся своего народа! Они готовы всех, все миллионы затолкать за заборы!» «Интересная женщина», – подумала я и не ошиблась. Анна Михайловна оказалась умной собеседницей. Я рада была и рассказать ей всё, что знала о противостоянии системе, и послушать её. Она рассказала мне много подробностей о лагерях и о жизни сибирских ссыльных. Сама она не была политзаключённой, но много знала от родных и друзей и просто из наблюдений над жизнью. Некоторые её рассказы о Сибири 30-х годов буквально совпадали с фактами, которые приводит А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ». Она эту книгу не читала и узнала о ней от меня. Анна Михайловна была в лагере уже около десяти лет, да и жила она до своего несчастья в тайге, книг особенно не читала и о самиздате не слышала. Она была женой лесника. Однажды её муж сильно поссорился с местным милиционером, который поднял револьвер, а Анна Михайловна в этот момент входила в избу с ружьём в руках. Она выстрелила, убила нападавшего и получила пятнадцать лет.
У большинства моих солагерниц представление о мире, в котором мы жили, было таким же, как и у всех советских граждан: они, конечно, видели и на себе чувствовали несправедливость нашего социального устройства, но относили её на счёт нечестных и корыстных людей, пробравшихся в аппарат власти. Все, за очень малым исключением (я говорю о женском лагере), верили в светлый образ дедушки Ленина, как им его преподнесли ещё в детском саду, и боялись происков американской военщины. Они верили тому, что было написано в газетах о Солженицыне. Надо сказать, что в московской тюрьме я слышала здравые речи. Москвичи любых слоев общества – люди осведомлённые. Но что касается веры в доброго Владимира Ильича, то она живёт и в них. Лида М., проходившая по «делу карусельщиков», выразила однажды твёрдую уверенность в его гуманности и в том, что во всём виноват этот кровожадный Сталин, о котором добрый дедушка предостерегал. Я ответила Лиде вольной цитатой из Ильича относительно того, что воров, спекулянтов и саботажников надо травить, «как вредных насекомых», и если расстрелять «десяток-другой», то это только на пользу пойдёт. Лида ответила твёрдо: «Ленин так не мог сказать». На следующее утро захрипел наш камерный громкоговоритель и объявил, что радиоузел нашего изолятора начинает политчас. Будет прочитана статья Владимира Ильича о борьбе с преступностью. И прозвучала эта самая статья, с «вредными насекомыми». Такие вот бывают совпадения.
Чем дальше на восток, тем больше попадалось людей несведущих, слишком доверчивых и просто невежественных во всех отношениях, в том числе и в политическом. Штатные пропагандисты, которых слушали до ареста мои зечки, как и все советские граждане, на еженедельных или ежемесячных политзанятиях, не задумываясь, лили любую грязь на всякую жертву газетной кампании. И не всегда они так уж точно повторяли формулы центральной печати, иногда в пылу красноречия и своё добавляли – разумеется, никогда не преуменьшая вины разоблачаемого, но, напротив, сгущая краски, по принципу «каши маслом не испортишь». От нескольких женщин, жительниц разных городов Сибири и Дальнего Востока, я слышала версию, что Солженицын «сбежал на Запад». Я возражала им, что постановление о насильственной высылке было опубликовано во всех центральных газетах; они отвечали, что им их пропагандист объяснил дело так, что сначала Солженицын сам каким-то образом уехал, а потом было вынесено постановление о его высылке, чтобы он не смог вернуться. Переубедить их было трудно. Им уже было втолковано, что Александр Исаевич – наёмник американского империализма.
Такого рода легковерие легко сочеталось с рабством и невежеством. Помню спор в камере: где тюрьма лучше. Каждая хвалит тюрьму своего города. И вдруг Анна Михайловна, гордая душа, как хватит кулаком об стол: «Да постыдитесь вы! Я согласна сейчас, сию минуту очутиться у себя в тайге на вольной волюшке, на голой земле, побыть минуту – и умереть». Мы не рабы…
Осознание политической реальности не менее важно для правильной оценки своей жизни, чем нравственная грамотность и общая культура, поскольку политическая реальность – это часть действительности, а как осознать себя и свои поступки, живя в мире каких бы то ни было иллюзий? Но крах иллюзий болезнен, даже иногда мучителен. Я знаю это по себе. Я помню чувство почти физической боли, когда я переживала перестройку сознания. Менялись все оценки, а мысль норовила снова и снова въехать в наезженную колею.
В лагере я столкнулась с тяжёлым случаем утраты иллюзий. Валентина, подруга Лены, тоже приходила послушать и поговорить, ещё до того, как мы с Леной перешли на письменную форму общения, в период разговоров о Достоевском. Разговоры долго носили общеисторический характер, как вдруг в нашей отрядной библиотечке неожиданно появились «Бесы». Книга была старая, потрёпанная, не иначе как наша начальница отряда принесла из дома за ненадобностью, чтобы побольше книг стояло в её отрядной библиотечке, – не подозревая, конечно, что это за книга. «Бесы» сильно продвинули нас вперёд на нашем рискованном пути: сначала у Лены, потом у Вали раскрылись глаза, они увидели осуществлённый шатовский идеал в чертах знакомой с детства жизни и ужаснулись. Но это произвело на них неодинаковое впечатление: Лену это толкнуло к духовным поискам, а Валентина не выдержала, её психика оказалась слишком хрупкой, она пережила нервный срыв, не могла говорить, заикалась, руки её дрожали, не могла работать. Недели две она пробыла в нашей больничке, потом, слава Богу, вернулась – во всяком случае внешне – в нормальное состояние. Я кляла себя за свою неосторожность. Но кто бы мог предвидеть, что утрата веры в коммунистический идеал может привести к нервному заболеванию.
Верующие и вера в лагере
До ареста я опасалась насмешек и издевательств над моей верой со стороны уголовных женщин, но ничего подобного на меня не обрушилось. Общее отношение зеков к верующим, скорее, положительное: уважение и сочувствие, смешанное с некоторой опаской – а вдруг этот человек обладает какой-нибудь таинственной силой?
Есть там и воинствующие безбожники, и злобные насмешники, но общественное мнение обычно на стороне верующего, и хулителю разгуляться не дадут.
Основу женской зоны составляют женщины из самых низких слоев общества: они приносят с собой свои смутные воспоминания о вере бабушек, смешанные с суевериями и новыми легендами («в семинариях, знаешь, какое образование дают? Там и математику, и всё-всё изучают», «в Библии всё в точности сказано – и про телевидение, и про атомную бомбу, и что в каком веке будет»). Униженные до последней крайности люди жаждут веры, но некому рассказывать, нечем напитать жажду. Свято место пусто не бывает: в зоне его заполняет чёрная мистика.
В новосибирской пересылке я в первый раз увидела игру в «принцессу». Игра происходит ночью. Десять-двенадцать девушек встают вокруг стола, на котором лежит «принцесса». Они поют рифмованные заклинания-обращения к сатане, прося помочь им поднять «принцессу» как можно выше. Каждая из них держит пальцы сжатыми в кулак, один палец вытянут и подсунут под лежащую. С последним словом все делают общее усилие, и «принцесса» подлетает вверх на пальцах. Тут главное поймать её, чтобы не расшиблась.
В зоне популярно гадание на книге, но не так, как это многие делают, раскрывая книгу наугад, а насаживая книгу на палку, длинный нож или карандаш. Книга висит свободно; зечка, обращаясь к духу, договаривается: «Если да – кувыркнёшься один раз, если нет – два» – и начинает задавать вопросы. Книжка вертится вокруг стержня с такой скоростью, что только страницы шелестят. Я не поверила, заподозрила мошенничество, взялась сама за конец стержня – крутится! Не только никакого усилия не делаю, но и удержать не могу – как с блюдечком, когда занимаются спиритизмом.
Однажды вечером две девицы, играя таким образом, чрезмерно увлеклись. Они больше часа беседовали с нечистой силой, приглашая чёрта прийти к ним, кокетничали с ним, расспрашивали, как он выглядит, при этом
хохотали неудержимо, как от щекотки. Среди ночи одна из них меня разбудила: она не могла заснуть от ужаса, её трясло (её в самом деле била такая дрожь, что она с трудом выговаривала слова), она просила меня сделать что-нибудь. Я спросила её, была ли она когда-нибудь в церкви – нет, никогда не была; видела ли она в книгах старинную картинку – женщина сидит, на голове покрывало, на руках ребёнка держит, вокруг головы золотой круг. Да, она помнит, она понимает, о какой картинке я говорю. Я посоветовала ей лечь, закрыть глаза, вызвать в памяти этот образ, сосредоточиться на нём и повторять: «помоги мне». На другой день она сказала, что теперь знает, Кого просить, когда очень плохо.
Бесконечны рассказы о снах, толкование снов продолжается иногда часами, по зонам ходят какие-то отрывки из гадальных книг. И в самом деле – свидетельствую, что сны там снятся не такие, как на воле. Часто, очень часто мне снились там сны, которые так и просились быть истолкованными, сны «со значением», не банальные. Когда в 1981 году сыну разрешили приехать в Горное на свидание со мной, мы проговорили двое суток. Я пересказывала свои сны и позже, уже в Ленинграде, он уговаривал меня записать их. Но что-то останавливает меня.
Сейчас, в 1987 году зона вспоминается как чёрная низина, полная миазмов особого рода. Близость тёмных сил ощущается всеми женщинами, многие утверждают, что видели или слышали сверхъестественное (всегда, конечно, бесовское), многие рады погадать или поворожить, хотя в целом, надо сказать, культура ворожбы утрачена. Фольклорные формы общения с тёмными силами забыты, что само по себе не вызывало бы у меня сожалений, если бы при этом не путались все представления.
«Мать, ты молитвы знаешь? Напиши хоть одну, посильнее, чтоб от неё эта гадина Люська ослепла или оглохла».
Но таких молитв у меня просили раза три за все три года, а настоящих им написала многие десятки. Тоже не обходилось без курьёзных вопросов: «А где её держать, чтобы лучше подействовала? Под рубашкой?» Я шла на хитрость: «Под рубашкой у тебя её зашмонают, лучше всего в голове». – «Как это?» – «А наизусть выучи». Без восторга, но учили: оттуда не зашмонают.
Встречались и такие, что знали «Отче наш» и просили меня написать им 90-й псалом («Живый в помощи Вышнего»), до сих пор называемый в народе «Живые помощи» и до сих пор не забытый.
Когда я попала в тюрьму, я не знала этот псалом наизусть и очень горевала, что не успела выучить его до ареста. В первой же этапке я встретила женщину которая, узнав, что я верующая, отвела меня в уголок и показала мне православный охранительный пояс – это длинная чёрная лента, какие делают у нас для продажи в церкви, с написанным на ней полностью 90-м псалмом. Я поспешила переписать его и выучить.
На религиозные темы женщины говорят охотно, но для большинства всё религиозное – что-то вроде гадательного, вроде ворожбы: от креста и молитвы ждут магического действия. Поэтому, видимо, столь большим спросом пользуются изделия зоновских самодельных промыслов: разнообразные крестики (пластмассовые, капроновые, металлические); каким-то чудом попавшие в зону и передаваемые при освобождении остающимся образки: носовые платки («марочки») с крестами, куполами, иногда с изображениями Спасителя или Богородицы, если художник поискуснее, – хотя тут же рядом может оказаться и портрет какой-нибудь красотки, и блатной афоризм.
Невежество ужасающее, утрачены азбучные понятия. К Церкви отношение почтительное, но не все помнят, чья это Церковь, не все могут назвать имя Христово. Впрочем на воле то же самое.
Помнят, что есть церковные праздники и что в праздник нельзя стирать и шить: на меня обижались, если я забывала кого-то предупредить о празднике: «Ты меня в грех ввела». Но что это за праздник, что, собственно, празднуется, этого они не знали и не очень-то интересовались: «Птица гнезда не вьёт, девица косы не плетёт» – вот в чём праздник Благовещения. Однако у многих религиозное чувство проявлялось как чувство вины и страха: «А тебе написать молитву?» – «А что мне молитвы писать? Я пропащая, Бог меня не простит, вон я что наделала».
Многие спрашивают о заповедях (очень многие): что именно Бог запрещает и всё ли у всех запрещено красть. «Ведь Бог, наверное, только у людей запретил красть, а у государства, небось, можно, оно само бессовестное, всех грабит».
У некоторых страх столь силён, что он не пускает их приблизиться мыслью к Богу: они боятся даже говорить о Нём, как будто боятся привлечь к себе Его внимание.
Но при всём этом – при почти полном забвении всего относящегося к вере, при безнадёжном невежестве, при этой плачевной погруженности в чернуху и грубые суеверия, а вернее, под всем этим живет и бьётся чистый родник. Со сколь многими достаточно было поговорить подольше – и прояснялись глаза, другими становились лица. Да, ненадолго, но кто из нас способен всегда пребывать на высоте своей веры? И они втягиваются в своё вязкое болото, как мы, на воле, – в своё.
Иногда они удивляли меня. Та Валя, с которой мы вместе вспоминали стихи для поэтического сборника, слышала как-то мой разговор с одной из женщин. «Зачем, – сказала Валя потом, – зачем ты так долго доказывала ей, что Бог есть? Ведь она и сама это знает». Я возразила, что женщина эта в Бога не верит. «Нет людей неверующих, – сказала вдруг моя Валя. – Все в душе знают, что Бог есть». – «Если бы все в душе знали это, они бы так и говорили». – «Нет, вовсе нет, – говорит Валя, – если скажешь это всеми словами, придётся жизнь менять, а на это никто не решается».
Иногда обнаруживалось, что и православие они помнят и понимают лучше, чем можно было бы ожидать. Окружили они меня однажды и спрашивают: какая разница между баптистской верой и православной? Объяснять им про Евхаристию было бы бесполезно, я сказала, что баптисты в церковь не ходят, но женщин это не удовлетворило: «А у них свои молитвенные дома есть, это не разница»; я говорю им о священниках, они мне – о пресвитерах; я им об иконах, они мне: «А у них в молитвенных домах картинки висят, хоть и не иконы, но ведь тоже Иисус Христос изображён, это не разница». Тогда я им сказала, что баптисты не почитают Богородицу, видя в Ней простую женщину. «Да ну?! Вот с этого бы и начала. Если Богородицу не признают, какая же это вера?» И ушли довольные.
Когда нашим контролёрам во время плановых и внеплановых обысков случалось обнаружить «атрибуты религиозного культа», они впадали в ярость. Ежедневно в воротах, при обыске после работы срывали у кого-нибудь с шеи крест. Если это была молодая женщина, ей говорили: «Ты же неверующая, зачем тебе крест?» Если женщина была пожилая, ей говорилось: «Ты верующая – тебе тем более нельзя. Ты будешь своим крестом вести религиозную пропаганду».
Казалось бы, женщин-контролёрш, способных сорвать и отшвырнуть крест, надо отнести к активным антирелигиозным силам, предположить в них воинствующее безбожие. Ничего подобного! Как-то я зашла зачем-то к ним на вахту. Они сидели в своей дежурке, отдыхая между двумя обходами. При моём появлении они переглянулись: «А мы как раз хотели вас видеть. Вы, наверное, скажете нам, когда нынче Пасха». Это не значит, конечно, что они верующие, отнюдь нет; интерес их – житейского плана, но они не безбожницы революционных лет. А крестики они срывают, потому что «надо слушаться. Сказано – нельзя, значит, нельзя». И даже мне: «Верующая, а не слушаетесь». Однако бывали и страшные вещи.
Однажды возле вахты я встретила знакомую женщину, всю в слезах, почти в нервном припадке. Оказалось, что у неё нашли Евангелие. Книгу эту дала ей с собою мать и велела её хранить. Они обе не знали, что Евангелие – запрещённый в местах заключения предмет (что это именно так, я много раз слышала от администрации).
Дочь не была верующей и Евангелие не читала. Она его хранила как святыню, данную ей матерью. Контролёрша, найдя Евангелие, пришла в такую ярость, что разорвала книгу, бросила её на землю и топтала ногами. Вот это более всего потрясло мою знакомую – святыню её матери топтали ногами.
Начальник оперчасти свирепел при виде меня, у него краснела шея, и он не уставал повторять: «Таких, как она, надо стрелять». Впрочем, у себя в кабинете он бывал вежлив и всегда предлагал сесть.
Они, бедные, не знали, что со мной делать: всю жизнь имели дело с уголовными преступниками – и вдруг им привозят из Москвы «религиозницу», замаскированную под хулиганку. Непонятно, что ей можно, что нельзя. Когда ныне покойный отец Сергий Желудков начал присылать мне православные помесячные календарики в письмах, они сначала изымали их, и я сама находила это естественным и протестовала лишь слегка, из принципа. Но месяца через два календарики перестали изымать, и я получила возможность жить одной молитвенной жизнью с Церковью. Однако по прошествии нескольких месяцев календарики снова запретили, но не отняли уже пришедших. Логика в их поступках, прямо скажем, не просматривается. Невежеством – и религиозным, и общим – они отличались не меньшим, чем зечки. Одна контролёрша спрашивает у другой, когда в этом году Вербное воскресенье. «А сейчас все воскресенья вербные, ведь верба цветёт». И всё это странным образом сочетается с внутренним, я бы сказала, безоговорочным, само собою разумеющимся принятием бытия Божия.
После обыска в бараке, офицер администрации: «Вы, Татьяна Николаевна, должны стойко переносить все эти обыски и прочие неприятности. Ведь вам это всё предсказано в Евангелии, я знаю. Значит, этого всё равно не избежать. Потому что так и быть должно».
Этот знаток Евангелия очень тщательно провёл тот обыск, вспорол матрац и подушку. Неизвестно, что он искал, но маленький яркий бумажный образок Божией Матери, переданный нам зарубежниками ещё до моей посадки, он себе присвоил. Я не сержусь на него. Пусть у него в доме будет икона, даже если он взял её, чтобы похвастаться диковинкой перед друзьями.
Несколько первых месяцев я была в зоне единственной христианкой, арестованной за исповедание своей веры. Но вот осенью 1980 года прибегают девушки и возбуждённо сообщают мне: «Пришла ещё одна, такая, как ты, только молодая». Потом другая женщина, постарше, уточнила: «Пришла баптистка из Белоруссии, сидит за веру». Я пошла знакомиться. До ареста я была знакома со смоленскими баптистами, и это знакомство показало мне, что общение между нами весьма затруднено и различными вероисповеданиями, и укоренившимися предрассудками. Поэтому я шла с некоторым беспокойством – как меня встретят. Я увидела милую девушку лет двадцати двух, смотревшую на меня с тем же беспокойством, что и я на неё. Секунду мы так постояли, а потом обнялись и обе решили: если Господь послал обеих в один лагерь, то уж верно не за тем, чтобы мы выясняли, чья вера лучше, а чтобы мы научились любить друг друга при всех различиях. Так мы и жили с Галочкой Вильчинской в любви и согласии. Все наши праздники мы проводили вместе, в молитве и радости, в будни помогали друг Другу, но помощь Гали была значительно больше. Она старалась облегчить мне самое тяжёлое – стирку.
Галя была из Бреста. Их обширная и сильная белорусская община организовала летний лагерь для детей общины. Галя была в этом лагере воспитательницей. Лагерь был, конечно, тайным, так как действовало законодательство 1929 года, согласно которому уголовно наказуемой была организация не только детского христианского лагеря, но даже кружков вязания для верующих старушек. Детский лагерь выследили с вертолёта (он находился в горах), детей вернули домой, а воспитателей арестовали за нарушение законодательства о культах. Галя Вильчинская получила три года лагерей и была отправлена из Белоруссии в Приморский край.
Добрая, чистая девушка, доброжелательная и общительная, Галя не отгораживалась от соседок по бригаде, не ставила себя в положение избранной или праведной, относилась ко всем просто, как бы не зная, что имеет дело с преступницами. У неё появилось много приятельниц, она никогда не была одинока – внешне, во всяком случае. И для Гали, и для меня важным вопросом было, как нам быть, если нас пошлют на работу в воскресенье. Мы знали, что многие лагерницы, верующие, предпочитали перетерпеть наказание, идти в карцер, но не выходили в воскресенье на работу Мы с Галей приняли другое решение – разделить со всеми все труды, все невзгоды и лишения. В глазах других женщин наша борьба за воскресенье была бы борьбой за отдых, за выходной день, и мы от такой борьбы отказались.
Что касается двунадесятых праздников, то как-то так само собой получалось, что в праздники – на Рождество, на Пасху – мы обе оказывались дома, то есть не работали. То одна из нас больна, а другую перевели в вечернюю смену, то ещё какая-то причина, но в праздники мы были вместе.
Галины родители и вообще брестская община установили связь с уссурийскими баптистами, которые начали писать Гале и передавать ей посылки. Однажды летом две девушки в светлых платьях появились по ту сторону нашего забора. Галя – она, конечно, знала о визите заранее – стояла на крыльце, они махали друг другу, и девушки пели баптистские гимны.
Галя освободилась в 1982-м, а несколько месяцев спустя приехала в гости к дальневосточным баптистам и посетила село Горное: она хотела сфотографировать его. Это не может быть нарушением закона: швейная фабрика не военный объект, перевоспитание преступников не государственная тайна. Галя сфотографировала колонну женщин, идущих на работу, – эту нескончаемую серую змею, заполняющую собой дважды в день всю протяжённость села Горного. Когда несколько дней спустя она подходила к самолёту, чтобы лететь в Брест, к ней подошли двое. Один из них сунул руку в её карман и, вынув руку, показал кусок какого-то вещества, которое эксперты потом признали наркотическим. Галя получила ещё три года – за сбыт наркотиков. Этот второй срок Галя отбывала в Хабаровском лагере.
Галя, пожалуй, единственная из моих солагерниц, чья дальнейшая судьба мне известна. Она вышла замуж. Живёт в баптистской общине Новокузнецка и воспитывает детей. Я не смогла, освободившись в 1983 году, переписываться с оставшимися там женщинами, так как моих писем им не отдавали. Не могла я и взять с собой чьи-то домашние адреса: перед освобождением человек проходит тщательный обыск, и, если бы у меня нашли адреса, у этих женщин были бы неприятности.
Галя относилась с одинаково ровной добротой и к осуждённым женщинам, и к нашим начальникам. Для меня же первое было легко и несомненно, а второе подверглось однажды духовному испытанию.
Я уже упомянула о наказаниях, которым меня подвергли за попытку заниматься французским языком с добровольцами. То ли я слишком резко выразила своё возмущение этими санкциями, то ли надвигалась очередная амнистия и надо было испортить моё лагерное досье, но отношение ко мне ужесточилось. В ответ на взыскания я объявила, что буду бойкотировать политзанятия, на которые до этого исправно ходила, следуя своему решению разделить с заключёнными все трудности жизни. Однажды, когда закончилась поверка на плацу и все строем двинулись в клуб, я, к изумлению начальства, вышла из рядов и спокойно пошла в наш отрядный дом. Так продолжалось недели две. Лагерь пришёл в восторг. Ко мне уже подходили женщины из других отрядов, выражали свою моральную поддержку, подбадривали и говорили: «Не уступай им, гадам». Чем большей героиней я становилась с течением дней, тем более накалялись мои отношения с администрацией. Начальство смотрело на меня с яростью, на меня сыпались наказания, но не за непосещение политзанятий, которые, судя по всему, не предусмотрены ежедневными, а за какие-то мелкие промахи. Накалялась и я. Мной владела ненависть, ненависть к этим мундирам, к этим лицам, к этим командам. Я чувствовала себя сжатой в твёрдый комок и готовой к сопротивлению любой ценой. В начале второй недели меня вызвали в кабинет замполита. Там собралось всё руководство колонии. Видно было, что они несколько растеряны. Открытое моё неповиновение очень опасно в уголовной зоне – так они мне объяснили. Оно может спровоцировать беспорядки. Я в ответ выразила им своё возмущение тем, что кресты срывают, тем, что Евангелие запрещено. Начальник оперчасти выкрикнул, как обычно, что меня надо расстрелять, на том мы и разошлись. Я продолжала быть героиней, и Галя одобряла меня: при всём добром отношении к отдельным представителям власти, к самой этой антихристианской власти мы с Галей относились одинаково, и чувствовать силу собственного сопротивления было приятно.
Ещё через несколько дней мне – чуть не написала «приснился сон». Но сна я не помню. Я проснулась в слезах, подушка была мокрая. Я не сразу вспомнила, где я; чувствовала только, что я всех люблю, что я вся внутри мягкая, оттаявшая и что я счастлива. Одевшись, я бегом побежала к Гале. Я встретила её на полдороге, она бежала мне навстречу, с потрясённым лицом, с глазами, увидевшими нечто прекрасное. Мы обнялись, я быстро сказала: «Галя, я прекращаю этот бойкот, я не хочу больше жить в состоянии ненависти». Галя ответила, что она с этим бежала ко мне, потому что сегодня, перед самым утром, на неё обрушилось нечто, что растопило её.
«Любите врагов ваших…» Один раз в жизни мне было дано это почувствовать полной мерой. Я считаю это переживание самым главным в том духовном опыте, который дал мне лагерь.
Наше с Галей христианское общение укреплялось чтением Евангелия, которое у нас было на протяжении почти всего совместно проведённого времени. Евангелие привёз мой сын, приехавший ко мне на свидание вскоре после моего приезда в село Горное. Каким-то образом он сумел уговорить администрацию, и мне позволили иметь Евангелие при условии, что я никому не буду его давать. Какое-то время я более или менее соблюдала это условие, то есть давала книгу желающим, но потихоньку, и чтобы читали неподалёку от меня и тут же возвращали. Но вскоре пришла в зону Галя, у неё появилось много подруг, и нашу книгу нашли при очередном обыске в вещах у Галиной соседки. Книгу у нас забрали.
Через некоторое время, однако, мы получили Новый Завет нелегальным путем. Его передали Галине члены баптистской общины в Уссурийске. Наученные горьким опытом, мы берегли книгу, как только могли; когда Галя освободилась, Новый Завет остался мне, а после моего освобождения – оставшимся. Что же касается первой книги, той, изъятой, я попыталась при освобождении получить её обратно. Я пришла на приём к начальнику лагеря и напомнила ему, что изъятые предметы, сами по себе не представляющие криминала, должны быть при освобождении возвращены бывшему заключённому как его личная собственность. Полковник подтвердил справедливость моих слов и заверил меня, что книгу положат в мешок с моими личными вещами, дожидающимися меня в камере хранения. Немного погодя я ещё раз зашла к начальнику: оказалось, что книга по-прежнему у него. Он снова пообещал вернуть её. В третий раз я напомнила ему о книге за неделю до конца срока, и тут его реакция была неожиданной. «Татьяна Николаевна, должны же вы понять, что нам тоже хочется почитать эту книгу, а где её взять? Позвольте прочитать». Я, разумеется, позволила и попросила только, чтобы книгу вернули мне в день отъезда. Но в день моего отъезда начальника в лагере не было, и о книге никто ничего не знал. Так она там и осталась, чему я, конечно, очень рада. Новый Завет всегда найдёт своего читателя.
Рассказывая в предыдущей главе о Лене, моей «слушательнице в письменной форме», я упомянула о том, что наши разговоры с ней вскоре перешли из исторической сферы в духовную.
Дело в том, что Лена прошла за годы отсидки большой внутренний путь. Я сразу почувствовала в ней личность, но контакта долго не возникало. Однажды произошёл случай, взбудораживший всю зону: одна из женщин, листая журнал, наткнулась на интервью с иркутской судьёй, в котором та рассказывала голландскому журналисту о наших исправительно-трудовых колониях. Я уже рассказывала об этом интервью в главе «Наши воспитатели». В нём не было ни слова правды. Такая циничная наглость ошеломила женщину, она ходила по зоне с журналом в руках; вскоре все знали об этой статье. Лена была среди тех, кого статья наиболее сильно задела. Сама она говорила позднее, что это для неё был переворот. В тот день, во время перерыва, все меня окружили прямо в цехе и попросили объяснить, с моей точки зрения, как такое возможно и как я к этому отношусь. Я объяснила.
Лену больше всего потрясло то, что автор не принял в расчёт тех заключённых и сидевших, которые прочтут его лживые заявления. «Значит, мы не в счёт. Значит, мы не люди», – повторяла она, сидя возле меня на стопке раскроенной фланели и глядя в одну точку
Вскоре её подруги попросили меня помочь им с Достоевским, она присоединилась к нам, а затем осталась единственной собеседницей. У Лены был большой срок и очень страшное преступление: она продавала наркотики. Собственно, это были не наркотики, а лекарства, которые в определённых дозах и сочетаниях используются наркоманами. Лекарства эти были списаны, но не уничтожены, не спрятаны под замок – что называется валялись. Когда я услышала об этих девушках-медсестрах, я пришла в ужас: торговки наркотиками – это звучит страшно. Потом я познакомилась с ними, с некоторыми из них у меня установились тёплые отношения.
Многое в зоне удивительно для нового человека, эти продавцы таблеток – одно из самых удивительных для меня явлений. Я увидела хороших, умных, вполне нормальных девочек, не циничных, не более корыстных, чем другие. Когда мы познакомились поближе, я спросила, как они могли это совершить. По их рассказам картина у меня сложилась такая. На сером фоне их однообразной жизни появились новые друзья из более высоких сфер: студенты (дело было во Владивостоке). Студенты хипповали, наркотики были элементом их хипповой жизни, запретными и интригующими. По их словам, вреда от них – «если с умом» – не было. В медицинском училище ни в одном курсе лекций ни разу не упомянули о наркотиках и наркоманах. Дружбой со студентами девочки дорожили, а тайные эти дела кроме дополнительных денег, шедших на общую «красивую жизнь», приносили остроту ощущений, приятное чувство не очень серьёзной, как им казалось, опасности и иллюзию смелого оппозиционерства. Какие сроки им грозят и, тем более, в какие условия они попадут в случае ареста, они не знали. Они получили по восемь-десять лет. Как сказала Лена, «мне хватило бы КПЗ».
Уже в лагере Лена узнала правду о наркотиках и наркомании, пережила вместе с Валентиной свою вину (они были из одной компании), но чем глубже осознавала свою личность, тем острее чувствовала унижения лагерной жизни. Ей принадлежит фраза, которая потрясла меня: «Чем больше проходит лет, тем меньше я чувствую себя преступницей и тем больше – жертвой».
Лена жила напряжённой и глубокой внутренней жизнью, в которой она через некоторое время распознала струю веры. Наши беседы, устные и письменные, сосредоточились с этого момента на одной теме. Она шла быстро, как будто давно была готова. Скоро она начала читать Евангелие, и именно ей и Валентине я оставила Новый Завет, полученный Галей от уссурийских баптистов.
Когда уже здесь, на воле, меня спрашивали, скольких я обратила там к вере, такой вопрос всегда вызывал у меня улыбку (спрашивали, конечно, несведущие): разве мы можем обратить? Обращает Господь, а мы можем только рассказать то, что знаем. Но и рассказать мы можем не всем, а лишь тем, кто готов, кто способен слушать и слышать, то есть раскрыть и уши, и души. Если бы была только одна Лена, я и это считала бы незаслуженным мною даром, но была ещё одна юная женщина, до Лены, и воспоминание о ней греет мне душу.
Её звали Наташей, она появилась 15 февраля – пришла с этапом из владивостокской тюрьмы. Она сама нашла меня: принесла мне привет от женщины, которая за три месяца до того освободилась из нашей колонии, вышла по сроку. Наташа познакомилась с ней в тюрьме, что меня немало удивило: упомянутая женщина, Галина С, была мать троих детей, в любви к которым она так меня уверяла. И преступление своё она будто бы совершила из любви к ним. И вдруг, не пробыв с детьми и трёх месяцев, она снова за решёткой.
Хотя рассказать я хочу о Наташе, но без Галины С. мне не обойтись. Галина С, как показало время, оказалась тюремной стукачкой, провокаторшей, но, когда я с ней познакомилась, я не знала этого.
Галина С. – женщина вполне культурная, умная, прекрасно говорит и тактично держится. Она оказалась возле меня в первые же дни. Возле – не в смысле рядом стоящих коек, а так как-то, в смысле случайных встреч на каждом шагу. Разговоры завязывались всегда интересные, часто – с политическим уклоном. О себе Галина сказала, что занималась валютными операциями. Она из порта Находка, там всегда стоят иностранные суда. По словам Галины, половина жителей зарабатывает незаконным обменом валюты. Когда она почувствовала, что за ней есть слежка, она нарочно украла у какого-то человека портфель, её арестовали за кражу личного имущества, и она таким образом ускользнула от страшной 88-й статьи. Она мне и эту свою ложную кражу описала.
Галина С. иногда высказывала идеи, вполне циничные по сути и производящие впечатление отдельных частей цельной системы взглядов. Подробно она их передо мной не развивала и, высказав (не удержавшись) кое-что, спешила каждый раз добавить: «Но, утверждая своё „я" и ища свою выгоду, не делать людям зла».
Помню её любимую метафору: чтобы её дети могли взойти на самые вершины жизни, она будет посыпать их пути деньгами, как увлажняют почву водой.
Заканчивалась эта тирада всегда утверждением, что они-то, её дети, и переделают всю нашу систему на справедливых началах. Это даже не звучало глупо, настолько было ясно, что это реверанс в мою сторону. Теперь я возвращаюсь к Наташе. Она передала мне привет от Галины С. из владивостокской тюрьмы. Галина, зная, что Наташу направят непременно в село Горное, так как другой женской зоны для первоходок на Дальнем Востоке нет, назвала ей меня как человека, к которому можно обратиться на первых порах, когда ещё никого не знаешь. Наташа провела в обществе Галины С. месяц – от дня осуждения до отправки в лагерь. Она была ею, Галиной, совершенно очарована – я имею в виду старый смысл этого глагола, этимологический, от слова «чары». Она больше говорила о Галине, чем о себе, восхищалась её умом и той необыкновенной доктриной, которую преподала ей эта женщина. Доктрина была – воинствующий эгоизм с ницшеанским отливом, выраженный красиво и философично – в восприятии Наташи. У неё было такое чувство, словно перед ней распахнули дверь, откинули какую-то завесу – одним словом, ощущение освобождения, выхода на простор. Она повторяла: «До сих пор я жила как слепая, теперь я вижу мир». Она восхищалась практической ловкостью Галины С, которая занималась ремеслом умных людей – валютными делами, а когда на её след напали ищейки, сумела обмануть их – нарочно совершила пустяковую кражу и получила небольшой срок. «Постой, – сказала я в этом месте, – уж не портфель ли она украла у респектабельного мужчины?» – «А откуда вы знаете?» Я объяснила ей откуда. Было несомненно, что Галина С. говорила неправду: не могла она дважды обмануть следователей совершенно одинаковым образом (совпали даже мелкие детали, например внешность потерпевшего). Зачем она лгала и что за этим скрывается, было непонятно, но, главное, сразу же удалось если не сбросить Галину С. с пьедестала, то подрубить пьедестал. (Галина С. ещё раз появилась в моей жизни год спустя после моего возвращения домой, появилась, правда, не во плоти, а тенью, персонажем писем. Галочка Вильчинская, отбывая свой второй срок в хабаровском лагере, писала мне, уже освободившейся, о своём житье-бытье и о том, в частности, что Галина С. тоже там, в хабаровской зоне, и что она, Галина С, уделяет ей, Гале Вильчинской, много внимания.)
Но возвращаюсь к Наташе. Это было у меня, в нашей спальной секции. Мы проговорили уже час, когда пришла Галочка Вильчинская: было Сретенье, и мы ещё раньше договорились, что она ко мне придёт вечером. Мы сидели втроём, пили чай, вскипячённый в стеклянной банке с помощью незаконного самодельного кипятильника, и ели хлеб с повидлом. Мы рассказывали Наташе о Сретенье. Она знала, что Сретенье значит «встреча», но думала, что это встреча зимы и весны – так объясняют христианские праздники в антирелигиозных брошюрах. Мы рассказали Наташе о приходе Спасителя в мир и о Его главном завете: «Любите друг друга». Позже мы убедились, что с ней только так и нужно было говорить: по самой сути и сразу. Прибегать ко мне она стала каждый день и всегда с вопросами. Она сама говорила: «Я лечу к вам как на крыльях». Все мысли её были об одном: добро и зло, проблема, в которую её ткнула носом Галина С. Отсюда и чувство освобождения: после бездуховной, безвопросной жизни она вышла на простор исканий, к проблеме проблем.
Правда, бегать и тем более летать Наташе становилось с каждой неделей труднее: она ждала ребёнка.
Наташе было лет двадцать, она работала на складе в порту. Два её приятеля напомнили ей, что завтра день её рождения, и сказали, что придут праздновать. Она ответила, что у неё есть только бутылка шампанского, а больше ничего нет. Вечером, когда Наташа выходила со склада, её ждали за углом оба друга с коробкой в руках. Коробку они вручили ей, она была полна шоколадных плиток. Наташа говорила, что впервые в жизни она была счастлива: она шла и раздавала плитки детям. День рождения они отпраздновали шампанским и шоколадом, а через несколько дней всех троих арестовали: мальчиков за государственную кражу, Наташу за соучастие. Она была приговорена к году исправительно-трудового лагеря. В дни суда Наташа обнаружила, что беременна. Она сообщила об этом суду, но это не изменило приговора. Фактически её отправили отбывать в лагере срок беременности, то есть наказали будущего ребёнка. Летом, месяца за два до родов, Наташу отпустили по условно-досрочному освобождению. Отец её ребёнка служил в армии. Родителей у неё не было, была только бабушка, которая жила в Центральной России, и Наташа собиралась ехать к ней – план, который я очень одобряла, но не знаю, осуществила ли его Наташа и как сложилась её жизнь.
К сожалению, в то время у нас не было Нового Завета: первую книгу у нас уже отобрали, а вторую мы ещё не получили. Наташа говорила, что у её бабушки есть Библия и молитвослов, и собиралась читать и то и другое. Перед отъездом Наташа пришла ко мне попрощаться. Она сказала, что теперь никогда не забудет праздник Сретенья, потому что он стали для неё Встречей – она сказала: «Встречей с большой буквы».
В начале этой главы я назвала лагерь чёрной низиной, полной миазмов зла, – и это правда. Но тем удивительнее, что и в том страшном мире живут доброта, сочувствие, любовь.
Там тоже люди, и им не чужды добрые чувства. Уголовная убийца, увидев меня в окно с ведром бригадного чая, бежала ко мне навстречу раздетая, оползая по обледенелому склону, и брала ведро у меня из рук. Она не ждала от меня никакой платы: я не была богатой зечкой, взять с меня было нечего, кроме «спасибо».
На этапе незнакомые женщины, шедшие на «химию», отдали мне всё, что у них было полезного для жизни в колонии – шариковые стержни, мыло, даже тёплый платок на голову, без которого я не знаю, как бы там зимовала.
Со мной всё время делились – и вещами, и раздобытыми продуктами, и добрым словом. Были и такие, что отпихивали, обижали, но ведь это не может удивлять, к этому в лагере каждый готов ежеминутно. Проявления же доброты, сердечности и участия в таком месте поражают и не забываются.
Невозможно забыть Соню. Ищу слово, которое определило бы её, и нахожу единственное подходящее – кроткая. Не только в лагере, но и на воле нелегко сегодня найти человека, к которому подошло бы это евангельское слово, а к ней оно подходит. Она работала дневалкой, то есть уборщицей, в одном из соседних отрядов, куда я иногда заходила в гости. Когда ни придёшь, она моет пол и приговаривает: «Вытри ножки, детка, чтобы тебе потом по чистому ходить, а не по грязному», «Не беспокойтесь, доченьки, сидите, я вас обойду». Лицо её светилось добротой. Она всегда была ясная, светлая, ласковая. Не только брани никто от неё не слыхал, но даже раздражения в голосе её не было, когда наглые девахи топали в грязных сапогах по только что вымытому полу. «Деточка», «доченька» – других обращений она не знала, и это никогда не было подобострастием, но всегда – материнской прощающей лаской. В церкви она была раз или два в жизни, когда ездила к родным во Владивосток. В её маленьком городке, как и в близлежащих городах и сёлах, церкви не было. Я спросила её однажды, верует ли она в Бога. «А как же не верить», – удивилась она. «А что ты о Боге знаешь?» – «А что я знаю? Наверное, что все знают, то и я. Господь наш Иисус Христос за нас пострадал. Он велит и нам терпеть и всех любить, вот и всё. И ещё Богородице молиться надо. Она всегда заступится». Такое у неё было короткое кредо, однако вмещающее всё главное.
А сидела она за убийство мужа, и срок у неё был – десять лет. Муж издевался над ней, бил её много лет, и не просто бил, как-то садистски изощрённо мучил. Подрастал сын от первого брака, наконец вырос и однажды, застав сцену мучительства, убил отчима. Мать взяла убийство на себя.
Она призналась мне в этом перед самым моим уходом. Глаза её сияли: «Ты понимаешь теперь, какая я счастливая? У меня каждый день из этих десяти лет – радостный: я здесь, а сыночек на воле. А других мне так жаль. За себя, наверное, трудно сидеть».
Может быть, Соня и была единственная христианка в нашем лагере.
1985–1987 Ленинград
Татьяна Щипкова (1930–2009)
Татьяна Николаевна Щипкова родилась 7 февраля 1930 года в Алтайском крае, в городе Рубцовске. В том же году её родители переехали в Ленинград. Отец – Николай Щипков – был врачом. Мама – Галина Пиотровская – работала научным сотрудником в Этнографическом музее. Жили в Лесном, в домах Политехнического института. Начальная школа, затем блокада, потеря матери. Очень радовалась, узнав, что на месте блокадного крематория будет построен храм… Практически воспитанием Тани занималась бабушка Антонина Дмитриевна Щипкова, вдова сельского священника.
В 1953 году Татьяна Николаевна окончила Ленинградский университет по специальности «Романская филология». По распределению работала учительницей французского и русского языков в молдавской сельской школе. В 1958 году поступила в аспирантуру Института иностранных языков АН СССР, по окончании которой была приглашена преподавателем на факультет иностранных языков Смоленского педагогического института. Преподавала латынь и французский язык. Читала курсы по теоретической грамматике и истории французского языка. Защитила кандидатскую диссертацию по истории старорумынского языка. Материалом для научного исследования служили средневековые переводы Священного Писания на румынский язык. Библия и иконы, перешедшие по наследству от деда-священника – барнаульского клирика Дионисия Щипкова, служившего в знаменитой Алтайской миссии, – всегда бережно хранились в доме, но настоящее воцерковление пришло в 70-е годы, когда Татьяна Николаевна познакомилась со священником Дмитрием Дудко и кругом его духовных чад.
В 60-е и 70-е годы на своих лекциях Татьяна Николаевна рассказывала студентам о Евангелии, о влиянии христианства на культуру и историю, о том, что Христос – не выдумка, а реальный человек, и почему «Бог» нужно писать с большой буквы.
В 1978 году в смоленской квартире Татьяны Николаевны молодые православные интеллигенты, многие из которых ранее были её студентами, попытались напечатать самиздатский православный журнал «Община». Эта попытка была пресечена властями. Последовало увольнение с работы и лишение учёной степени. В 1979 году против неё было сфабриковано нелепое уголовное дело: её обвинили в умышленном избиении двадцатилетнего дружинника, который вместе с милицией принимал участие в обыске одной из московских квартир, где находилась Татьяна Щипкова. Дружинник силой пытался вырвать у Татьяны Николаевны из рук её записную книжку. Она сопротивлялась. Рассвирепевший дружинник, оказавшийся впоследствии мастером спорта по борьбе, применил болевой приём, забрал книжку. Суд назначили в Ленинском райсуде города Москвы на 26 декабря 1979 года. Сопротивление Щипковой представителю власти было оценено в три года лагерей по второй части 206-й статьи (заранее спланированное злостное хулиганство). Во время суда случился сильнейший приступ глаукомы. Рассмотрение дела перенесли на 8-е января. Господь дал возможность быть с близкими на рождественском богослужении в храме Адриана и Наталии и причаститься. Трёхмесячный этап от Москвы до Уссурийска, повторяющиеся приступы и запрет на применение лекарственных препаратов грозили полной слепотой. Бог миловал.
В уссурийском лагере, на самой границе с Китаем, Татьяна Николаевна работала на швейном производстве и занималась воспитанием и образованием уголовниц, большая часть которых состояла из молодых девушек. Она учила их французскому языку, разбирала романы Достоевского, по памяти составляла рукописные сборники любовной лирики, знакомя с Лермонтовым, Ахматовой, Кольцовым, Пастернаком. Вся эта лагерная школа существовала подпольно, но ни одна зечка не выдала «учительницу из Москвы». Лагерное начальство просило «не заниматься проповедью», да разве это проповедь – кому молитву Ефрема Сирина продиктовать, кому «что-нибудь о здоровье деток», особенно первого сентября – в день самых обильных слёз в женских лагерях…
После освобождения в 1983 году – запрет на жительство в родном Ленинграде. Без прописки, без работы – грозил новый срок за тунеядство. Больше года Татьяна Николаевна жила на нелегальном положении, скрывалась по квартирам в Ленинграде, затем знакомые священники спрятали её на Псковщине. Молодой лейтенант, участковый одного из псковских сёл, рискуя служебной карьерой, «выправил» ей паспорт. Она вернулась в Ленинград и поселилась на канале Грибоедова неподалёку от Никольского собора.
Там, на канале, в течение двух лет с 1985 по 1987 годы Татьяна Николаевна писала свои записки о лагере. Она не разоблачала политическую систему, она не оправдывала воровок и убийц, с которыми жила бок о бок три года. Она видела, что эти женщины нуждаются в любви и помощи, и надеялась, что когда-нибудь власть задумается о том, что сложившаяся в Советском Союзе пенитенциарная система занимается не «перевоспитанием и исправлением» преступниц, а их расчеловечиванием. Болью за женщин, находящихся в исправительной колонии № 267/10, пронизаны записки Татьяны Щипковой.
Начало перестройки облегчило жизнь. Приняли на работу вахтёром. Можно было открыто гулять по Литейному, зайти в филипповскую булочную или купить билеты в филармонию. У свободы свой вкус, вкус пшеничного хлеба и музыки. Но главное – ученики. Опять появились ученики: кому помочь двойки исправить, кому – в университет поступить.
А в 1991-м пригласили преподавать в гуманитарную школу, где Татьяна Николаевна проработала до 77 лет. Ежегодно к Рождеству и Пасхе она писала для внуков очередную детскую пьеску, в которой добро обязательно побеждает зло. Переводы богословских романов Леона Блуа, четырёхтомный учебник французского языка для гуманитарных школ да блокадные воспоминания, написанные уже в Москве незадолго до смерти, так и лежат в нижнем ящике рабочего стола немногословной учительницы, многие ученики которой даже не подозревали, что французской грамматике их обучала по-настоящему героическая русская женщина, отстоявшая своё право быть христианкой, быть свободной.
Татьяна Николаевна Щипкова умерла в Москве 11 июля 2009 года. Похоронена в Тарусе, на новом кладбище.
Любовь Балакирева
Моя главная школьная учительница
В христианском богословии с первых веков существования земной Церкви присутствует такое явление, как опыт инкультурации. Это непривычное для русского слуха наименование означает вхождение в иную культуру и в стихию иного языка для того, чтобы при помощи средств воспринятого языка и в категориях познаваемой культуры свидетельствовать об универсальной и вселенской истине. Выдающимся примером реализации подобного опыта является учёная и педагогическая деятельность Татьяны Николаевны Щипковой. Мне довелось учиться у Татьяны Николаевны на протяжении трёх лет в старших классах школы при Санкт-Петербургском Институте богословия и философии. Этот период наложил серьёзный отпечаток на всю мою дальнейшую учебную и научную деятельность. Уже первая встреча, знакомство с Татьяной Николаевной произвели на меня неизгладимое впечатление.
Жарким майским днём 1996 года я пришёл в памятный для каждого петербуржца дом номер 7 на набережной Обводного канала. В этом доме, который был некогда зданием Санкт-Петербургской Императорской Духовной Академии, в северном флигеле располагался Институт богословия и философии. При нём существовали старшие гуманитарные классы, в которые я собирался подавать документы. Классы привлекали тем, что в них, как мне рассказывали старшеклассники, сочеталось преподавание классических дисциплин: древних языков и философии – с подлинно христианской и творческой атмосферой повседневного культурного общения. Я вошёл в аудиторию с большими окнами, в которой проходило собеседование: аудитория была заполнена преподавателями института и гуманитарных классов. Собеседование заключалось в том, что каждый кандидат должен был изложить цель своего прихода, рассказать о своих интересах и творческих предпочтениях, а также ответить на вопросы отдельных преподавателей. Ответив на краткие вопросы директора гуманитарных классов, обменявшись несколькими фразами об инквизиции с преподавателем истории, я уже думал, что собеседование завершилось. Однако в конце собеседования совершенно неожиданно ко мне обратилась преподаватель французского языка, и я сразу почувствовал, насколько поверхностно и облегчённо я представлял себе доселе обучение гуманитарному знанию. Татьяна Николаевна задала мне только один вопрос: «В наших классах особое внимание уделяется изучению языков. Готовы ли Вы осуществлять каждодневную черновую работу необходимую для освоения иностранного языка, делать упражнения, писать контрольные и заучивать грамматические парадигмы?» Вопрос Татьяны Николаевны почему-то сразу заставил меня проникнуться уважением к тому заведению, в стены которого я поступал. Ни разу ещё я не слышал, чтобы кто-либо из учителей спрашивал учащихся о том, готовы ли они лично заниматься тем или иным предметом, тем более языками. Языки (а точнее, один язык – английский) во всех школах, где я учился ранее, вели по привычке из ряда вон плохо, никто даже не пытался пробудить какой бы то ни было интерес к изучаемому предмету. Услышав вопрос Татьяны Николаевны, я сразу почувствовал поразительное доверие к себе – ещё подростку, и вместе с тем осознал некое ещё таинственное, но несомненное значение французского языка для меня лично и для моих внутренних устремлений. Воодушевлённый таким серьёзным отношением, я сразу же ответил, что готов, и был зачислен.
Уже первые занятия французским языком, которые вела Татьяна Николаевна, всецело захватили меня, завладели моим сознанием. Прежде всего, Татьяна Николаевна находила всегда удивительно точные и верные слова для того, чтобы объяснить, раскрыть содержание французских слов и грамматических форм. Ясное представление об изучаемом предмете стимулировало дальнейший интерес. Каждое занятие мы узнавали что-то новое, постепенно, без суетной спешки обогащали свой словарный запас. Вместе с тем Татьяна Николаевна уделяла внимание всем своим ученикам в отдельности, проявляла внимание к личности учащегося, с тем чтобы внушить необходимую для любого занятия личную причастность к рассматриваемому материалу. С особой благодарностью мне хотелось бы вспомнить в высшей степени интересные занятия, которые Татьяна Николаевна провела для меня, уделив мне время перед моим поступлением в университет.
Подробно разбирая отдельные грамматические формы, усваивая новые слова, мы имели возможность благодаря вниманию Татьяны Николаевны постепенно постигать то, чем же всё-таки является французский язык лично для каждого из нас. С этой точки зрения можно сказать, что метод Татьяны Николаевны представлял собой органичное развитие того отношения к изучаемому языку, которое было характерно для дореволюционной российской филологической школы. Это отношение предполагало восприятие языка через осознание внутренней логики его развития и через интуитивное приобщение к тому культурному пространству, которое сформировано изучаемым языком. Иными словами, изучение грамматики и лексики французского языка происходило при помощи упоминавшейся выше инкультурации, при помощи вхождения в языковую культуру. В самом деле, когда мы анализировали под руководством Татьяны Николаевны те или иные грамматические конструкции, мы неизменно обращались к литературным памятникам, которые делали для нас этот язык живым. Когда мы читали рассказы Мопассана, перед нами представали овеянные трагизмом и опустошением франко-прусской войны – этого логического следствия революции 1789–1792 годов – пейзажи Иль-де-Франс. Когда мы открывали произведения Стендаля и Мериме, нас пленяли образы не востребованных жизнью героев, подобных античным персонажам, сошедшим с картин Давида и Жерико, – героев, которые, однако, были обречены влачить жалкое и пустое существование среди внешнего бытового благополучия после того, как сошёл в могилу тот, кто своей треугольной шляпой и серым походным сюртуком двадцать лет повергал в оцепенение Старый Свет. Когда мы беседовали о религиозных войнах, ужас противостояния между христианами XVI века, тени герцога де Гиза, коннетабля де Монморанси и Гаспара де Колиньи как будто незримо слетались к окнам нашей аудитории и смотрели в них сквозь дождевую пелену. Экскурсы Жака Ле Гоффа в историю французского рыцарства и описание чина посвящения в рыцари становились для нас живыми и яркими благодаря глубоким комментариям Татьяны Николаевны. Татьяна Николаевна представала перед нами не только непосредственной носительницей французского языка, но также носительницей французской, и даже в более широком смысле, романской культуры, как бы передавая нам духовный дар, оставленный лично для нас Хлодвигом и Людовиком Святым, Жанной д'Арк и Бланкой Кастильской.
Это живое культурное свидетельство, этот дар прекрасной Франции приобретал для нас особенную ценность ещё и потому, что его передача и восприятие были выстраданы тем опытом – опытом борения за истину, исповедания истины, – о котором нам рассказывала Татьяна Николаевна во время перемен или пауз в занятиях. Опыт страдания за правду Божью, к которому приобщилась Татьяна Николаевна, был для нас – пятнадцатилетних подростков – живым, экзистенциальным символом того, что рыцарские добродетели, о которых мы читали вместе с ней в повествованиях о Жанне д'Арк, могут воплощаться и в наше время в конкретных наших наставниках.
Франция, на лик твой просветлённый я ещё, ещё раз обернусь, И как в омут погружусь бездонный, в дикую мою, родную Русь… —писал Николай Гумилёв в трагические дни 1917 года. Эти строки поэта чрезвычайно точно характеризуют состояние наших душ, когда мы после чтения Мериме или Гюго спрашивали Татьяну Николаевну о тех лагерных испытаниях, которые ей выпало перенести в советское время в период богоборчества. Особенно поразили меня удивительные воспоминания Татьяны Николаевны о том, как она встретилась в лагере с другой заключённой за веру – баптисткой. Воспоминания эти произвели на нас неизгладимое впечатление, прежде всего тем, как единство Церкви Христовой независимо от конфессиональных различий между христианами неожиданно проявляет себя именно в критических ситуациях личного апокалипсиса, в момент исповедания веры. Когда Татьяна Николаевна описывала нам то, как её арестовали, за что ей вынесли приговор, мы действительно становились свидетелями опыта личного христианского исповедничества. Для многих из нас было удивительно, что это исповедничество происходило не в первые века христианской истории, а совсем недавно, за какие-то несколько лет до нашего рождения. То обстоятельство, что Татьяна Николаевна делилась с нами своим жизненным опытом, восхищало нас, и мы, сидя за партами, слушали затаив дыхание. Ответы Татьяны Николаевны на наши вопросы, касавшиеся её жизни и её лагерного опыта, были очень простыми, ясными, лишёнными эмоций, но наполненными поразительной духовной силой.
Для нас, совсем ещё юных слушателей, было очевидно, что та благородная рыцарственность духа, которая вызывала в наших сердцах образы Жанны д'Арк и маркизы де Боншан и которая явственно предстала перед нами в лице Татьяны Николаевны, была всегда неизменной. Она была всегда одной и той же и в классе за учительским столом, и в лагерном бараке, среди уголовниц, которые, будучи воспитанными без малейшего представления о Боге и о Евангелии, обретали в лице Татьяны Николаевны подлинный пример духовного борения за истину Христову.
Благодаря Татьяне Николаевне я приобщился к неисчерпаемому богатству французского языка и культуры. Каждый раз, когда я приезжал в Париж или в какой-либо иной франкоговорящий город, уроки и заветы Татьяны Николаевны выручали меня в самых запутанных и авантюрных ситуациях, помогали ощутить сердцем дуновение небесного эфира галльской земли. И вместе с тем именно свидетельство Татьяны Николаевны об истине Христовой, её стойкость среди житейских испытаний позволили мне осознать в живом опыте общения с ней, что красота и глубина интеллектуального знания и культурного предания реализуются в полной мере только в личной деятельной христианской жизни. В этом заключается сущность того православного церковного опыта, которым одарила меня Татьяна Николаевна и который, я надеюсь, поможет мне оставаться её достойным учеником.
Андрей Митрофанов,
к девятому дню со дня кончины
Татьяны Николаевны Щипковой,
19 июля 2009 года, Франция




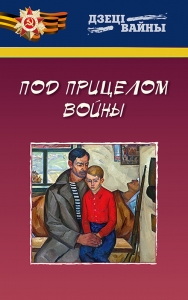

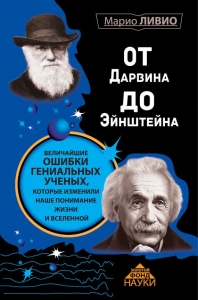
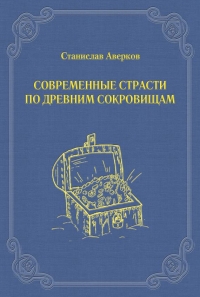
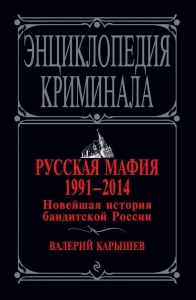

Комментарии к книге «Женский портрет в тюремном интерьере», Татьяна Николаевна Щипкова
Всего 0 комментариев