Эндрю Ливербарроу Чернобыль 01:23:40
Представьте себе самолет на огромной высоте. Во время полета экипаж решает провести испытания: открывают двери, отключают различные системы… Факты показали, что конструкторы должны предусмотреть даже такую ситуацию[1].
Валерий Легасов, глава советской делегации на конференции МАГАТЭ в Вене, 25–29 августа 1986 г.© Andrew Leatherbarrow; печатается с разрешения автора
© Г.Л. Григорьев, перевод, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
* * *
При первом знакомстве с книгами о Чернобыле чтение давалось мне трудно. Первой была «Чернобыльская тетрадь» советского инженера-ядерщика Григория Медведева, прекрасная книга, которая, однако, требует от читателя некоторой осведомленности о ядерных системах, да и перевод шероховатый. Со временем – читая все больше и больше – я стал лучше разбираться в технологии и терминологии, но мне все равно казалось, что для обычного читателя эти книги слишком сложны. Чернобыльская катастрофа – одно из самых невероятных событий последних ста лет, она имеет значение для всего мира, но при этом лишь немногие понимают, что же, собственно, тогда произошло.
Недопонимание – отчасти следствие неполноты информации, доступной в первые пять лет после инцидента. В угоду официальной версии все публикации возлагали вину на персонал ЧАЭС. Из просачивавшихся по капле сведений вырастали мифы и легенды, хотя позднее ошибки первоначальной версии были прояснены. Каждая новая книга, документальный фильм, публикация в прессе или в сети предлагали свою версию событий, чем-то отличную от прежних, и противоречия в них остаются по сей день. Кроме того, мне не удалось найти ни единого материала, где основное внимание уделялось бы тем моментам, которые интересовали меня сильнее всего. Саму аварию по большей части затрагивают лишь вкратце, основное содержание посвящено ее последствиям. Если же источник описывает аварию подробно – скажем, та же «Чернобыльская тетрадь», – то почти совсем обходит тему последствий. Остальные материалы слишком сосредоточены или на политике, или на экологии, или на бесконечных цифрах. После долгих поисков мне так и не удалось найти книгу, объединяющую все, что мне хотелось бы прочесть, и я решил написать ее сам.
Не хочу раздувать вокруг этой темы новые сенсации. Случившееся само по себе уже сенсация, но многие ради вящего эффекта допускают преувеличения. Это нечестно, да и неуместно: реальные события и без того достаточно драматичны. Также я не ставлю себе задачу никого обвинить или оправдать. Мне не по душе, когда авторы документальных книг навязывают читателям свою позицию, поэтому я хочу просто представить факты так, как я их вижу.
Я всеми силами старался избежать ошибок и неточностей в деталях, но некоторые аспекты – в основном касающиеся работы реактора – намеренно упростил, чтобы текст был понятней. Для краткости я свел к минимуму число персонажей, уделив внимание лишь тем, чья роль в случившемся особенно важна. Мне хотелось, чтобы эта история выглядела как можно более жизненной, и потому я использовал много цитат из рассказов тех, кто видел все своими глазами. Постепенно я пришел к выводу, что стопроцентно корректное описание событий невозможно из-за противоречащих друг другу слов самих свидетелей, но я постарался сделать свою книгу максимально правдивой. Когда в чем-то у меня уверенности не было, я отмечал это в примечаниях. Если вы заметите, что я где-то ошибся, и у вас есть тому доказательства, пожалуйста, немедленно сообщите мне, поскольку я не хотел бы участвовать в распространении лжи, которой и так хватает.
Я решил включить в книгу рассказ о своей поездке в Чернобыль в 2011 году, которая лишь усилила мое желание глубже изучить катастрофу. Поездка стала для меня очень важным опытом и радикально изменила мою жизнь. Эта вторая сюжетная линия, конечно, менее интересна, чем хроника исторических событий, но она разбивает книгу на части и, надеюсь, привносит кое-что в общую композицию. Некоторые нюансы и разговоры из этой поездки в памяти не сохранились, но мне не хотелось что-то специально выдумывать, только чтобы закрыть лакуны, и я решил обойтись без этих подробностей. Все фотографии Припяти и Чернобыля, вошедшие в книгу, сделаны во время той поездки. Полную подборку примерно из тысячи фото можно найти по ссылке .
Четыре с половиной года тысячи часов своего свободного времени я посвящал поиску данных и записям. В первые года два у меня не было намерения издать книгу. Я писал просто для себя – думал, может, распечатаю один экземпляр и поставлю на полку. И совершил характерную для дилетанта ошибку – не вел список источников, так что потом пришлось заново искать огромное количество информации. Поэтому ссылки в книге далеко не всегда указывают те источники, где я обнаружил ту или иную информацию впервые. Продолжая работать над текстом, я разместил его в бесплатном доступе в интернете, и он рос по мере добавления новых данных. Но лишь когда на мой электронный адрес стали приходить отклики, где меня призывали выпустить бумажную версию, я над этим задумался. Чтобы собрать средства на редактора, в начале 2015 года я завел аккаунт на сайте Kickstarter, но затея с треском провалилась, и я забросил весь этот проект с книгой.
К двадцать девятой годовщине аварии в апреле того же года я выложил на социальном новостном сайте Reddit альбом из ста пятидесяти исторических чернобыльских фотографий, снабдив их подписями из своей книги. Реакция меня ошеломила. Люди просили опубликовать книгу как есть, и я на два дня ее выложил. Загрузил ее на сайт, предоставляющий контент «по запросу», и оказалось, что за эти два дня книгу купили семьсот пользователей. А я ведь был никто и звать меня никак! Выяснилось, что людям интересна эта тема.
Через пять недель родился мой первый ребенок, Ноа, и Чернобыль временно отошел на второй план. Но к сентябрю я решил, что глупо бросать книгу, которая уже так близка к завершению. Денег на оплату профессионала у меня не было, поэтому я нашел специальную компьютерную программу и принялся за редактуру самостоятельно. Те месяцы, пока я не занимался книгой, позволили мне увидеть в ней места, требовавшие дополнительных уточнений; к тому же я получил много бесценных откликов от людей, купивших неотредактированную книгу на Reddit. Я внес изменения, и книга от этого, вне всяких сомнений, только выиграла. В марте 2016 года – после шести бессонных (благодаря Ноа) месяцев – я ее завершил. Потом произошло чудо: юная девушка-редактор с Reddit прочла мою рукопись и предложила бесплатную помощь. Она лихорадочно трудилась несколько недель и проделала потрясающую работу. Reddit оказался неоценимым источником помощи. Инженеры-ядерщики исправляли то, что касается физики, университетские историки – историю, а русские читатели – мои переводы, и я в неоплатном долгу перед всеми этими замечательными людьми с Reddit.
Я не писатель, по крайней мере в традиционном смысле. Я никогда ничему подобному не учился и до этого проекта не написал ни строчки. Мои первые наброски были ужасны, и я не могу упомнить, сколько раз пришлось переписывать весь текст от корки до корки, но со временем пришел опыт, пусть и мизерный. Я первым готов признать, что это далеко не лучшая из известных мне книг, но я сделал все, что в моих силах, и надеюсь, вы прочтете ее с интересом.
В заключение хотелось бы официально заявить, что я – сторонник атомной энергетики в развитых странах при условии строгого соблюдения всех стандартов здравоохранения, безопасности и экологии.
Дополнение
В июле 2019-го, через три года после первого издания, я слегка подправил грамматику и изменил формат. За это время Новый безопасный конфайнмент уже накрыл собой чернобыльский саркофаг, и он простоит там следующую сотню лет. Мне хотелось своими глазами увидеть, как его устанавливают, я даже забронировал и оплатил вторую поездку в Чернобыль, но в последний момент объявили, что въезд на станцию будет в этот период закрыт, и мне пришлось с сожалением отменить поездку.
В мае 2019-го канал НВО выпустил мини-сериал, посвященный Чернобылю. Мне посчастливилось немного поучаствовать в его создании – я помогал автору сценария выяснить некоторые технические детали. Позднее он любезно пригласил меня в Литву, где проходили съемки, и я присутствовал при большинстве сцен, где действие происходит у щита управления. Для меня провели экскурсию, показали потрясающую работу художников, костюмы и реквизит, я познакомился с руководством разных цехов и некоторыми актерами, провел много времени, обсуждая аварию. Это была удивительная, незабываемая поездка.
Сейчас я работаю над второй книгой, которая расскажет об истории японской ядерной энергетики до фукусимской катастрофы включительно.
Глава 1 Краткая история ядерной энергетики
Пожалуй, из всех явлений радиацию люди понимают хуже всего. Даже сегодня, когда о воздействии радиации известно достаточно много, само это слово продолжает вызывать у большинства сильные эмоции, главная из которых – страх. В первые десятилетия после открытия радиации, а произошло это на рубеже XIX и ХХ веков, люди – не зная, с чем имеют дело, и пребывая в эйфории – относились к ней куда легкомысленнее. Мария Кюри, самый знаменитый из пионеров-исследователей в этой области, скончалась в 1934 году от апластической анемии – из-за многолетнего контакта с тускло мерцающими веществами, которые она носила в карманах и хранила в ящике стола. Работая без устали в «заброшенном сарае», который «медицинский факультет [Парижского университета] некогда использовал для вскрытий»[2], супруги Мария и Пьер продолжали исследование лучей, названных в честь Вильгельма Рентгена, открывшего их в 1895 году. Кюри писала, каким счастьем для них было «возвращаться [в лабораторию] вечером… [и видеть] слабо светящиеся точки, казавшиеся висящими в темноте»[3]. Изучая уран, Мария и Пьер открыли торий, полоний и радий и дали им эти названия, а также немало времени изучали необычные волны, которые испускали эти четыре элемента. Мария назвала эти волны «радиацией» и получила за свою работу Нобелевскую премию. До того времени считалось, что мельчайшие из существующих частиц – атомы: наука полагала, что они неделимы и представляют собой кирпичики, из которых построена Вселенная. Кюри обнаружила, что радиация – это результат деления атомов, и ее открытие разрушило все существующие каноны.
Открытое Марией Кюри свойство радиевого излучения убивать больные клетки быстрее, чем здоровые, породило в начале ХХ века целое направление в медицине: свойства (в основном воображаемые) нового чудодейственного элемента активно рекламировали доверчивой, введенной в заблуждение публике. Всеобщий ажиотаж подкреплялся авторитетными суждениями: доктор К. Дэвис, например, писал в «Американском журнале клинической медицины», что «радиоактивность предупреждает слабоумие, стимулирует благородные эмоции, замедляет старение и служит источником лучезарной, полной юношеской энергии счастливой жизни»[4]. Циферблаты, маникюр, армейские приборные щиты, прицелы и даже детские игрушки – все светилось радием, который вручную наносили молодые работницы на фабриках корпорации «Американский радий». Ничего не подозревая, они облизывали кончик кисти для тонкости мазка, проглатывая при этом частицы радия, – несколько лет спустя их зубы и черепные кости начали разрушаться. Один из медицинских радиевых препаратов той эпохи под названием «Радитор» – «современный инструмент науки врачевания» – продавался как лекарство от ревматизма, артрита и неврита[5]. Несколько лет популярностью пользовались сулившие омоложение радиевые зубные пасты и косметика наряду с прочими модными радиоактивными продуктами: радиевыми презервативами, шоколадками, сигаретами, хлебом, медицинскими свечами, ватой, мылом, глазными каплями, средством для мужской потенции «Мошоночный экдокринатор» (от того же гения, что подарил нам «Радитор») и даже песком для детских песочниц, который реклама расхваливала как «самый гигиеничный и… более целебный, чем грязь из всемирно известных грязевых ванн»[6]. Лишь в тридцатые-сороковые годы широкая общественность осознала, насколько опасен радий, чья радиоактивность примерно в 2,7 миллиона раз выше, чем у урана[7].
В первые десятилетия ХХ века европейские ученые, напряженно пытаясь раскрыть тайны атома, совершили немало революционных прорывов[8]. В 1932 году английский физик Джеймс Чедвик открыл нейтрон, последнее недостающее звено головоломки, за что позднее получил Нобелевскую премию. Теперь стала понятна структура атома: электроны окружают ядро, центральный элемент, который состоит из протонов и нейтронов. Наступило подлинное начало атомного века.
Несколько лет спустя, в 1939 году, физики Лиза Мейтнер, Отто Фриш и Нильс Бор установили, что при расщеплении атомного ядра и возникновении новых (этот процесс называется делением ядра) высвобождается огромное количество энергии, и показали возможность цепной реакции. Эта новость легла в основу теории, что подобная реакция в управляемом виде может послужить неисчерпаемым источником чистой энергии для кораблей, самолетов, заводов и жилых домов, а в неуправляемом – оружием невиданной разрушительной силы. Всего за два дня до начала Второй мировой войны Нильс Бор и Джон Уилер опубликовали гипотезу, согласно которой цепная реакция будет протекать интенсивнее в среде с «замедлителем», который снизит скорость движения нейтронов внутри атома, тем самым повышая вероятность их столкновения и отделения друг от друга[9].
С ростом информации об опасности радиоактивных продуктов их популярность в быту сошла на нет, но экстремальные условия в годы Второй мировой подтолкнули мир к существенному прогрессу в ядерной сфере. Англия с самого начала билась над разгадкой тайн, которые позволили бы использовать деление ядра в военных целях. У Германии тоже была собственная ядерная программа, но главный упор в ней ставился на разработку энергетического реактора. Американцев в основном интересовали возможности применения ядерной энергии на флоте, но, после того как 7 декабря 1941 года японцы атаковали Перл-Харбор, США начали собственные серьезные исследования ядерного деления и вложили огромные ресурсы и силы в создание атомной бомбы. Всего за год в университете Чикаго под руководством нобелевского лауреата Энрико Ферми в рамках проекта «Манхэттен» был собран первый в мире ядерный реактор, «Чикагская поленница-1». Первый опыт по достижению надкритического состояния с развитием самоподдерживающейся цепной реакции на этой установке (которую Ферми описал знаменитой фразой: «Примитивная груда черных кирпичей и бревен»[10]), состоялся 2 декабря 1942 года. В качестве замедлителя использовался графит, какие бы то ни было системы радиационной защиты и охлаждения отсутствовали[11]. Это был колоссальный и безрассудный риск со стороны Ферми, ему пришлось убеждать коллег, что его расчеты достаточно точны и вероятность взрыва можно исключить.
О том, что в США, Англии и Германии серьезно занялись изучением деления ядра, Сталин узнал, только когда вернувшийся с фронта молодой ученый Георгий Флеров заметил: международные научные журналы перестали публиковать материалы по ядерной физике. Флеров (сегодня в его честь назван искусственный химический элемент флеровий) понял, что материалы на эту тему засекретили, и написал письмо Сталину, подчеркивая важность отсутствия публикаций[12] и необходимость незамедлительного создания «урановой бомбы»[13],[14]. Диктатор не оставил письмо без внимания, и на изучение потенциала ядерной энергии были брошены дополнительные силы. Он приказал видному русскому ученому Игорю Курчатову заняться систематизацией разведданных по проекту «Манхэттен» и оценить, что необходимо Советскому Союзу для создания бомбы. Из соображений абсолютной секретности Курчатов проводил свои исследования в закрытой лаборатории, специально для этого созданной в подмосковных лесах.
8 мая 1945 года союзники объявили о победе над Германией, США оставалось только разгромить Японию. Исследования Курчатова тем временем быстро продвигались вперед, но все равно отставали от американских. 16 июля 1945 года в 05:29:21 неподалеку от Аламогордо, штат Нью-Мексико, под руководством Роберта Оппенгеймера состоялись успешные испытания первого атомного устройства[15]. Поскольку оружие такой разрушительной мощи испытывалось впервые и последствия были никому заранее не известны, Ферми предложил присутствующим физикам и армейским офицерам делать ставки на то, воспламенит ли бомба атмосферу, и если да, то уничтожит ли только Нью-Мексико или всю планету[16]. В месте под кодовым названием Тринити взрыв создал температуру в десятки миллионов градусов и оставил воронку диаметром свыше 350 метров. В ужасе от зрелища, которое предстало его глазам, физик Георгий Кистяковский сказал: «На пороге конца света последний человек в последнюю миллисекунду существования Земли увидит то же, что мы сейчас»[17]. Всего три недели спустя, 6 августа, модифицированный «боинг Б-29» «Суперкрепость» сбросил первую атомную бомбу на японский город Хиросима с 350 тысячами жителей. 0,6 грамма урана породили энергию, эквивалентную взрыву 16 тысяч тонн тротила. Через три дня вторая бомба упала на Нагасаки. Более ста тысяч человек – в основном гражданских – погибли на месте. Япония вскоре капитулировала, и Вторая мировая война закончилась.
Несмотря на весь ужас этого зрелища, в некоторых частях планеты страх постепенно сменился удивлением и оптимизмом от того, что столь небольшое устройство способно произвести такое огромное количество энергии. Разработка вооружений стала продолжаться. В 1948 году на советском заводе «Маяк» был запущен реактор для наработки плутония (искусственного элемента, в чистом виде в природе не встречающегося), а уже в августе 1949 года в казахских степях прошло испытание первой советской атомной бомбы[18]. Тем временем на Западе ученые переключились на использование беспрецедентного энергетического потенциала ядерного распада в мирных целях[19]. За пять дней до Рождества 1951 года в Америке был введен в действие малый «Экспериментальный бридерный реактор-1», первый в мире реактор для производства электроэнергии – его мощности хватило бы на четыре 200-ваттные лампочки[20]. Два года спустя президент Эйзенхауэр объявил о начале программы «Мирный атом» и, выступая с речью в ООН, пообещал, что «Соединенные Штаты проявят полную решимость в преодолении ужасной атомной дилеммы – посвятить все свои помыслы отысканию путей, благодаря которым чудодейственная сила человеческой изобретательности была бы направлена не на смерть, а на сохранение жизни»[21]. Программа «Мирный атом» отчасти действительно ставила целью развитие гражданской ядерной инфраструктуры и дальнейшие научные исследования, но отчасти это был пропагандистский маневр, чтобы создать прикрытие для наращивания ядерных вооружений, – в любом случае, в итоге она привела к появлению американских атомных электростанций[22].
Один из советских реакторов для производства оружейного плутония был модифицирован для электрогенерации и получил название АМ-1 («Атом мирный»). В июне 1952 года в СССР заработала первая в мире гражданская атомная электростанция мощностью 6 МВт[23]. Замедлителем в АМ-1 выступал графит, охлаждающей средой – вода, а его конструкция послужила прототипом для реакторов РБМК, которые использовались в том числе в Чернобыле. Два года спустя королева Елизавета II открыла в Уиндскейле первый британский коммерческий ядерный реактор мощностью 50 МВт, и правительство объявило, что Англия стала первой в мире страной, производящей «электричество из ядерной энергии в полном промышленном масштабе»[24].
Обе доминирующие сверхдержавы, США и СССР, разглядели очевидный потенциал корабельной ядерной энергетической установки, которая не требует заправки несколько лет, и приложили немало усилий, чтобы уменьшить габариты своих реакторов. Штаты добились в этом деле существенного прогресса и в 1954 году спустили на воду первую в мире атомную подводную лодку «Наутилус»; в следующие пять лет надводные атомоходы появились уже у обеих стран.
В 1973 году в Ленинградской области запустили мощный реактор РБМК-1000 – ту же модель, что и в Чернобыле, где строительство АЭС на тот момент еще только начиналось. США и большинство других западных стран остановили свой выбор на водо-водяных реакторах, посчитав их наиболее безопасными. С конца 1980-х по начало 2000-х производство новых реакторов было приостановлено. С одной стороны, это объяснялось международной реакцией на последствия аварий в Чернобыле и на Три-Майл-Айленд, а с другой – повышением мощности и эффективности существующих реакторов. По числу действующих реакторов мировая ядерная энергетика достигла пика к 2002 году, когда в мире эксплуатировалось 444 реактора, но по объему производства электроэнергии на ядерных установках АЭС рекорд поставили в 2006 году, суммарно произведя 2660 ТВт-часов[25].
К 2011 году доля ядерной энергетики в мировом производстве электроэнергии (более 430 реакторов в 31 стране) составила 11,7 %[26]. Объем генерирующих мощностей в общей сложности – 372 000 МВт (эл.). Крупнейшая на сегодняшний день АЭС – японская Касивадзаки-Карива, семь ее энергоблоков способны производить 8000 МВт, правда, в настоящий момент она не эксплуатируется[27]. Самая зависимая от ядерной энергетики страна – Франция: примерно 75 % потребляемой там электроэнергии производится на АЭС, в то время как в России и Америке, например, этот показатель приблизительно 20 %. Кроме Франции, доля атомной электроэнергии превышает 50 % только в Словакии и Венгрии (на конец 2014 года), хотя Украина, где расположена Чернобыльская АЭС, отстает не намного – 49 %[28].
Ядерные энергоустановки нашли широкое применение на кораблях. Экстремум в этой области был достигнут в начале 1990-х, когда суммарная мощность ядерных реакторов на судах (в основном военных, включая 400 подлодок)[29] была выше мощности всех коммерческих энергоблоков мира[30]. Эта цифра с тех пор несколько сократилась, но ядерными установками по-прежнему оснащено сто пятьдесят надводных и подводных судов. В 2016 году Россия построила плавучую АЭС для эксплуатации в Арктике, несамоходное судно, которое может быть отбуксировано в любое место, требующее энергоснабжения. У него на борту установлены два ледокольных реактора общей мощностью 70 МВт. Ввод в строй был произведен в сентябре 2016 года[31],[32]. Россия претендует на первенство в строительстве атомных барж, однако эта идея отнюдь не нова. Первая плавучая ядерная станция была построена американцами в шестидесятые годы на модифицированном корабле «Либерти» времен Второй мировой, и она давно уже выведена из эксплуатации. Китай тоже выходит на этот рынок – пуск его первой плавучей АЭС запланирован на 2020 год[33].
Предыдущие аварии
Невозможно точно сказать, сколько именно людей стали жертвами радиации, поскольку симптомы рака и иных заболеваний, вызванных воздействием излучения, зачастую неотличимы от заболеваний другого генеза. Здесь возможны лишь примерные оценки. Так, с достаточной уверенностью можно утверждать, что Марию Кюри и других пионеров ядерных исследований (а также первых пациентов, которых подвергали слишком интенсивному рентгеновскому излучению)[34] убил сам объект их изучения. Научная работа день ото дня разрушала здоровье Кюри и ее коллег, но, несмотря на это, она до самой смерти (в 1934 году) продолжала отрицать опасность радиации. Излучение погубило и двух детей Кюри, которые продолжили ее дело и тоже стали нобелевскими лауреатами[35],[36]. Даже смертность от острой лучевой болезни не имеет надежной статистики, поскольку вплоть до чернобыльской катастрофы Советский Союз все серьезные аварии замалчивал. Не исключено, что сторонящиеся публичности ядерные державы, известные высоким уровнем бюрократической коррупции, – такие как Пакистан, Иран и Северная Корея, – ведут себя так и сегодня.
Общественности известно около семидесяти связанных с радиацией инцидентов, повлекших человеческие жертвы. В подавляющем большинстве случаев число жертв не превысило десяти, хотя данные по смертности, вне всяких сомнений, впоследствии были приуменьшены[37]. Любопытно отметить, что многие из этих происшествий связаны с неполадками медицинского оборудования или его хищениями.
Так, например, в сентябре 1987 года под воздействие радиации попали 240 человек в бразильском городе Гояния, где два мародера разобрали свинцово-стальную капсулу с радиоактивным цезием от аппарата для радиотерапии, украденную ими из заброшенной больницы. Они спрятали капсулу в саду на заднем дворе и несколько дней пытались ее вскрыть, пока им не удалось наконец проделать отверстие в защитной стальной оболочке – причем обоим к тому моменту уже стало нездоровиться. Они приписали недомогание недоброкачественной пище, не догадываясь заподозрить свою добычу, которую в итоге продали владельцу свалки Девару Феррейре. В тот же вечер Девар заметил, что материал внутри капсулы светится голубым, и решил, что внутри – нечто ценное или даже сверхъестественное. Он припрятал капсулу в своем доме, где жил вместе с женой Габриэлой, и раздаривал ее фрагменты и содержащийся в ней порошок друзьям и родственникам – в числе прочих брату, который дал немного цезиевого порошка шестилетней дочери. Зачарованная голубым свечением, девочка играла с порошком, намазала на себя, как блестки, какая-то часть порошка попала ей внутрь. Двое работников Девара несколько дней продолжали разбирать капсулу, чтобы извлечь свинец.
Первым, кто обратил внимание на серьезное недомогание окружающих, была Габриэла. Она не стала слушать врача, который диагностировал аллергическую реакцию на еду, и заподозрила, что во всем виновато таинственное вещество, которым так восхищались ее родные. Габриэла забрала капсулу у торговца утилем, который уже успел купить ее у Девара, и отправилась – на автобусе! – в ближайшую больницу, где заявила, что эта штука «убивает ее семью»[38]. Если бы не прозорливость Габриэлы, инцидент мог иметь куда более серьезные последствия.
Цезий пролежал во дворе до следующего дня. Приехавший туда по просьбе больничного врача специалист по медицинской физике чудом успел вовремя, чтобы «отговорить вызванных пожарных от намерения выбросить “источник” в реку»[39]. Габриэлу, девочку и тех двух работников Девара спасти не удалось. Сам Девар Феррейра выжил, хотя получил дозу больше, чем любой из четверых скончавшихся. Поскольку капсула две недели оставалась открытой, причем ее несколько раз перевозили с места на место, заражение затронуло несколько городских районов, и многие дома пришлось снести[40].
Смертность при гражданском применении ядерной энергии относительно невысока – гораздо ниже, чем в обычной энергетике, включая угольную, нефтяную и гидроэнергетику. Чтобы составить себе представление, обратимся к цифрам по смертности в ходе самых трагических инцидентов, связанных с обычной энергетикой. Огромная доля приходится на угледобычу – отрасль, печально известную своей опасностью. Тридцать два самых масштабных происшествия на шахтах унесли в сумме почти 10 тысяч жизней[41], а общее число смертей в американской угольной отрасли начиная с 1839 года превышает 15 тысяч[42]. Самая крупная из зафиксированных аварий произошла ровно за 44 года до Чернобыля – 26 апреля 1942 года – на китайской шахте Бэньсиху, где в результате взрыва погибли 1549 горняков[43].
В 1998 году в результате взрыва на трубопроводе «Джесси», принадлежащем Национальной нефтяной корпорации Нигерии, погибло более 700 человек – и это был лишь один из десятков подобных случаев в этой стране. Что именно послужило причиной взрыва, осталось неизвестным, поскольку никто из находившихся поблизости не выжил, но произошел он либо из-за ошибок в эксплуатации, либо – что не менее вероятно – из-за целенаправленной диверсии мусорщиков, которые хотели поживиться нефтью[44]. Другая впечатляющая масштабами катастрофа произошла в России неподалеку от Уфы. На крупном газопроводе, проходящем рядом с Транссибирской магистралью, началась утечка, но, вместо того чтобы найти ее и устранить, рабочие решили восстановить давление, увеличив подачу газа. Горючая смесь пропана, бутана и других соединений начала наполнять низину. Стали поступать сообщения о запахе газа от людей, находившихся оттуда в пяти милях (восьми километрах). 4 июня 1989 года два встречных состава, где в основном были люди, ехавшие в отпуск и возвращавшиеся из него, оказались рядом вблизи места утечки. Искры из-под колес воспламенили скопившийся газ, последовал ужасающий взрыв мощностью 10 килотонн ТНТ. По словам генерала Михаила Моисеева, начальника Генштаба ВС СССР, оба локомотива и все 38 вагонов загорелись и сошли с путей[45]. «Взрыв был такой силы, что повалил деревья в радиусе четырех километров», – рассказывал он. Эта катастрофа унесла жизни 675 человек, в том числе более сотни детей[46].
Причиной самой масштабной катастрофы, связанной с гидроэнергетикой, стал огромной силы тайфун Нина, обрушившийся на китайскую провинцию Хэнань в 1975 году. За сутки выпала годовая норма осадков. По прогнозу пекинской Центральной метеорологической обсерватории, осадки ожидались на уровне не более 100 мм, и люди оказались не подготовлены к тому, что случилось дальше. В кульминационный период выпадало до 190 мм осадков в час[47]. «Пока хлестал тот дождь, день было невозможно отличить от ночи, струи летели словно стрелы, – рассказывали те, кому посчастливилось выжить. – Горы были сплошь усыпаны мертвыми воробьями». 8 августа в час ночи раздался грохот, «словно рухнули небеса и разверзлась земля»[48]. Это прорвало дамбу Баньцяо. Не знающий преград поток воды вызвал цепную реакцию, разрушившую в общей сложности шестьдесят две дамбы. Возникшая в результате волна шириной 11 километров, несшаяся со скоростью 50 км/ч, унесла жизни 171 тысячи человек. 11 миллионов остались без крыши над головой. Целые города и поселки были стерты с лица земли[49].
Имеет смысл отдельно остановиться на некоторых ядерных инцидентах. В двух из них – оба произошли в исследовательской лаборатории Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико, – фигурировал один и тот же кусок плутония массой 6,2 кг, который впоследствии получил прозвище «Заряд-демон». Первый инцидент случился 21 августа 1945 года. Ученый Гарри Даглян, работая в лаборатории в одиночестве, случайно уронил отражающий нейтроны блок на плутоний, инициировав тем самым неуправляемую цепную реакцию[50]. Он понимал, что произошло, но, чтобы удалить упавший блок, ему пришлось частично разобрать созданную в ходе опыта конструкцию, и за это время он успел получить смертельную дозу радиации. Двадцать пять дней спустя он скончался. Хотя инцидент был зафиксирован в протоколах безопасности, менее чем через год произошел еще один инцидент с участием все того же куска плутония. Физик Луи Злотин проводил опыт, где вещество помещалось между двумя отражающими полусферами. В какой-то момент полусферы случайно захлопнулись, и плутоний перешел в надкритическое состояние. Менее чем за секунду Злотин получил смертельную дозу радиации и через девять дней умер от полного отказа кишечника[51]. После второго инцидента эксперименты с непосредственным присутствием человека приостановили, и дальнейшие подобные опыты проводили только с помощью устройств с дистанционным управлением. «Заряд-демон» в конце концов поместили внутрь бомбы и – уже после войны – взорвали под водой у атолла Бикини в рамках операции «Перекресток» с целью испытать эффект ядерного оружия на кораблях.
Самая крупная ядерная авария в истории Англии произошла в 1957 году в Уиндскейле (сейчас Селлафилд), графство Камбрия на северо-западе страны. Это было прямое следствие непродуманного проекта по конверсии двух реакторов – переключения их с производства плутония на производство трития для создания термоядерной бомбы. Графитовые реакторы с воздушным охлаждением плохо подходят для этой задачи – проект предполагал более высокие тепловые нагрузки и большую интенсивность реакции, чем те, на которые реакторы были рассчитаны изначально. Модификация активной зоны позволяла приступить к производству трития, но за счет снижения безопасности. Предварительные испытания были пройдены успешно, не выявив никаких очевидных проблем, и началась полномасштабная эксплуатация установки. Никто не подозревал, что модификация привела к угрожающему перераспределению нагрева в пределах активной зоны и что тепло теперь стало проникать туда, где в силу отсутствия необходимости не были установлены температурные сенсоры. Когда проектировали и строили уиндскейлские реакторы, британские ученые еще не знали, как нейтронная бомбардировка изменяет кристаллическую структуру графита, который при этом аккумулирует энергию, способную к опасному внезапному выплеску. Проблему обнаружили, уже когда реакторы заработали и вносить коррективы в конструкцию было поздно. Решение проблемы надежностью не отличалось, оно состояло в том, чтобы медленно прокаливать графитовую кладку, затем дать ей остыть, в результате чего прошедший прокаливание графит возвращался в исходное состояние, отдав при нагреве накопленную энергию.
7 октября 1957 года уиндскейлский персонал приступил к плановому отжигу, разогнав реактор, а затем заглушив его для остывания, но вскоре сотрудники заметили, что процесс отличается от ожидаемого. Они повторно прогрели активную зону, но к утру 10 октября стало понятно: что-то идет не так. По мере замедления выхода энергии температура в активной зоне должна была падать, но она, наоборот, росла. Внутри реактора загорелось урановое топливо. (Стоит отметить, что в первых отчетах фигурировало возгорание графита, и лишь позднейшие анализы показали, что на самом деле горел уран.) Операторы этого не знали и потому усилили поддув, но воздух лишь распалил пламя. Тут заметили, что датчики радиации на трубах воздуховода зашкаливают. Оперативное обследование установки выявило воспламенение, которое, судя по всему, началось еще двое суток назад. После лихорадочных попыток затушить пламя сначала углекислотой, а потом – водой, руководитель Уиндскейла Том Туохи приказал эвакуировать весь персонал, кроме ключевых сотрудников, выключить поддув и закрыть все вентиляторы. Затем он несколько раз забирался на трубу воздуховода, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит в активной зоне, и убедиться, что пламя погашено. «Я стоял там, в общем-то, с надеждой, но, когда ты смотришь прямо на активную зону заглушенного реактора, свою дозу радиации получишь наверняка», – вспоминал он позднее[52].
Этот инцидент, достаточно серьезный сам по себе, мог перерасти в масштабную катастрофу, если бы не «прихоть Кокрофта». Джон Кокрофт возглавлял британский Научно-исследовательский центр по атомной энергии (AERE). В 1951 году они вместе с Эрнестом Уолтоном получили Нобелевскую премию «за новаторские исследования в области преобразования атомного ядра с помощью искусственно ускоряемых атомных частиц»[53]. Когда строительство Уиндскейла шло уже полным ходом, Кокрофт вмешался в процесс и настоял, отметая любые возражения, на том, чтобы комплекс был оснащен дорогостоящими фильтрами. Образ напоминающих набалдашники фильтров на трубах стал известным и узнаваемым, а сами фильтры получили прозвище «прихоть Кокрофта»: их называли так, пока не стало ясно, что именно эти фильтры предотвратили катастрофическое распространение радиоактивных частиц по окрестности. Полную информацию об этом случае впервые обнародовали лишь тридцать лет спустя, в 1987 году, но в докладе, выпущенном в 1983 году Национальным управлением по радиологической защите, уже говорилось, что предположительно авария стала причиной рака щитовидной железы примерно в 260 случаях, а свыше 30 человек на тот момент либо уже скончались, либо понесли «отсроченный по действию ущерб их генетике, который может привести к нарушению здоровья или гибели их потомков»[54]. Авария на комплексе в Уиндскейле считалась самым серьезным инцидентом, связанным с ядерными реакторами, до происшествия на американской АЭС Три-Майл-Айленд, – но уиндскейлская история заслуживает внимания сама по себе[55].
Первая в американской истории радиационная авария (и единственная, во время которой погибли люди) произошла 3 января 1961 года на экспериментальном реакторе SL-1[56]. Для мероприятий по техобслуживанию потребовалось отсоединить главный стержень управления от привода. Чтобы потом восстановить соединение, одному из операторов, Джону Бирнсу, нужно было приподнять стержень на несколько сантиметров. Однако он поднял его выше допустимого, и за доли секунды реактор достиг критического уровня. В активной зоне произошло взрывное парообразование, создавшее волну, которая ударила в крышку и подбросила корпус реактора вверх, выбив стержни управления и защитные пробки. Одна из пробок вошла стоявшему на реакторе инженеру-электрику Ричарду Леггсу в пах и вышла через плечо, пронзив его насквозь и пригвоздив к потолку. Самого Бирнса убило водой и паром, стоявший рядом стажер позднее тоже скончался от полученных ранений. Бытовала версия, что это был не несчастный случай, а убийство/самоубийство – дескать, Бирнс подозревал, что у его жены был роман с его коллегой по смене[57].
Особо следует отметить две радиационные аварии на подлодках. 4 июля 1961 года в охладительной системе реактора советской субмарины К-19 с баллистическими ракетами на борту появилась серьезная течь, из-за которой полностью вышли из строя циркуляционные насосы. Чтобы нейтрализовать реакцию, в активную зону были введены стержни управления, но остаточное тепловыделение (процесс распада радиоизотопов, которые по мере потери энергии выделяют тепло, – подобные процессы создают значительную долю тепла в земном ядре) повысило температуру до 800 °С. Когда лодку еще только строили, на одну из труб в контуре охлаждения случайно капнули сваркой, и на том месте образовалась микротрещина. Во время учений трещина под давлением расширилась. Капитан Николай Затеев понял, что единственный выход – собрать нештатную систему охлаждения, подключив подачу воды через магистраль воздухоудаления. «Это был Чернобыль, только на 30 лет раньше»[58], – скажет потом член экипажа Александр Фатеев. Нештатное решение сработало, но команда подлодки получила большие дозы радиации. Шестеро отважных моряков, работавших с трубами непосредственно в реакторном отсеке, через несколько недель скончались. Позднее их судьбу разделили еще шестнадцать человек. «Облучившиеся буквально тут же начинали распухать, – вспоминал капитан Затеев уже после распада Советского Союза. – Лица покраснели. Через два часа из-под волос потекла сукровица. Вскоре на глаза, распухшие губы трудно было смотреть, обезображены они стали полностью. Еле ворочая языком, люди жаловались на боли во всем теле». Эта катастрофа легла в основу фильма «К-19» с Харрисоном Фордом в главной роли[59].
Два с лишним десятка лет спустя, 10 августа 1985 года, подлодка К-431 класса «Эхо»[60] стояла в доке судоремонтного завода в неспокойных водах бухты Чажма к юго-востоку от Владивостока на стыке трех государственных границ – советской, китайской и северокорейской[61]. Субмарина, которой на тот момент исполнилось двадцать лет, проходила завершающую стадию десятиэтапной операции перезарядки активной зоны реактора. Для загрузки в реактор новых тепловыделяющих сборок в ходе операции потребовалось отсоединить двенадцатитонную крышку реактора от стержней управления, затем приподнять ее краном, установленным на пришвартованной рядом плавучей мастерской. После этого крышку вернули на место, закрепили стержни и залили воду в систему охлаждения, но тут работавший на лодке персонал обнаружил, что крышка прилегает неплотно. Не доложив начальству, как положено по инструкции, они решили самостоятельно решить проблему и вновь приподняли крышку краном на несколько сантиметров, оставив стержни – чтобы сэкономить время – на своих местах. И вдруг в самый неподходящий момент мимо пронесся катер-торпедолов, создав волну, качнувшую плавучую мастерскую вместе с краном. Прикрепленную к его стропам крышку вместе со стержнями сдернуло выше, и реактор вышел на пусковой режим, что вызвало тепловой взрыв, который выбросил из реакторного отсека все содержимое активной зоны и разорвал прочный корпус подлодки. От взрыва на месте сразу же погибли восемь офицеров и два матроса, а затем в четырехчасовой битве с огнем еще 290 человек получили серьезные дозы облучения[62]. Информация об этой аварии хранилась в тайне вплоть до 1993 года, когда, уже после распада Советского Союза, в свет вышел сборник рассекреченных документов.
Кыштым
События, которые сегодня известны под названием Кыштымская катастрофа, произошли в закрытом советском городе Челябинск-40[63] в 120 километрах от границы с Казахстаном. Существование закрытых городов во времена холодной войны считалось государственной тайной, и информацию о них держали в секрете даже от рядовых советских граждан, поскольку там жили работники ядерной промышленности, военных заводов и других стратегических объектов. Их названия не фигурировали на картах и дорожных знаках. Для въезда требовалось особое разрешение, а жителям в беседе с посторонними лицами строго запрещалось говорить, где они живут и чем занимаются. Из-за этой секретности авария и называется кыштымской: Кыштым – ближайший к тому месту открытый город. Челябинск-40 построили вместе с заводом «Маяк», предприятием по производству оружейного плутония, регенерации ядерного топлива и утилизации ядерных отходов; там была собрана первая советская атомная бомба. Советское правительство не отличалось особой заботой о безопасности своих граждан или окружающей среды, и «Маяк», строительство которого завершилось в 1948 году, не стал исключением: с этим названием связан длинный список утечек радиации и других примеров экологического варварства. К моменту Кыштымской катастрофы «Маяк» уже успел загрязнить окружающую местность, сбрасывая ядерные и химические отходы в водоемы речной системы Теча-Исеть-Тобол, причем загрязнение достигло таких уровней, что и через десятки лет эта территория все еще считалась самой загрязненной на планете.
Часть ядерных отходов на «Маяке» охлаждалась в стальных емкостях («банках»), которые находились в подземном бетонном резервуаре; каждая из емкостей содержала 300 кубометров (около 80 тонн) вещества. В сентябре 1957 года у одной из емкостей отказала система охлаждения. Процесс тепловыделения остался незамеченным, несмотря на то что температура внутри емкости поднялась до 350 °С. 29 сентября во второй половине дня возросшее внутреннее давление прорвало «банку». Взрыв мощностью от 70 до 100 тонн ТНТ отбросил бетонное перекрытие весом 160 тонн, повредил две соседние емкости, произошел выброс 740 тысяч терабеккерелей радиоактивных частиц – вдвое больше, чем выброс Чернобыля.
Преобладающий в тех местах северо-восточный ветер разнес радиоактивный шлейф по территории площадью 20 тысяч квадратных километров, причем на 800 квадратных километрах заражение достигло достаточно серьезных уровней. Достоверную медицинскую статистику найти невозможно, поскольку сам факт аварии власти скрывали и никто не вел никаких записей о состоянии здоровья тех, кто оказался в зоне. После ничем не оправданной недельной задержки началась эвакуация – за два года было отселено более 10 тысяч человек. Обратившимся за медицинской помощью врачи ставили диагноз «особое заболевание»: секретный статус «Маяка» исключал любые упоминания о радиации. И меры по соблюдению секретности сработали – информацию об аварии удавалось скрывать вплоть до 1976 года, когда Жорес Медведев[64] (позднее написавший замечательную книгу «Наследие Чернобыля») сообщил о ней в статье в журнале «Нью Саентист». Кыштымской аварии присвоен 6-й уровень по Международной шкале ядерных событий, и она заняла третье место в списке крупнейших в истории ядерных катастроф. Советский ученый Лев Тумерман[65], которому в 1960 году довелось проезжать через эту местность, подтвердил сообщение Медведева. «Примерно в 100 км от Свердловска дорожные знаки предупреждали водителей машин не делать остановок на протяжении следующих 30 километров и двигаться на максимальной скорости. По обе стороны дороги, насколько мы могли видеть, пространство было мертвым, не было ни деревень, ни поселений, остались только печи от сгоревших домов. Не было видно ни посевов, ни полей, ни скота, ни людей…» – писал он[66]. Стало известно, что ЦРУ знало о катастрофе почти за пятнадцать лет до сообщения Медведева, но умолчало о ней, чтобы не провоцировать у американцев страх по отношению к ядерной энергетике.
Десять лет спустя произошел еще один серьезный ядерный инцидент, связанный с «Маяком». На территории промплощадки комбината есть небольшое озеро Карачай, куда долгое время сваливали радиоактивные отходы. Взрыв не положил конец этой практике, и к середине шестидесятых годов загрязнение достигло огромного масштаба: стоя на берегу, можно было за час получить смертельную дозу облучения. 1965 и 1966 годы выдались маловодными, и озеро начало подсыхать. Весной 1967 года, во время засухи, мелкие участки озера полностью высохли, и оголившийся донный осадок оказался под открытым небом. Пронесшийся ураганный ветер разнес 185 тысяч терабеккерелей (эквивалентно хиросимской бомбе) загрязненных частиц на сотни километров, подвергнув облучению полмиллиона человек – в основном тех же самых, кто уже пострадал десять лет назад. Лишь годы спустя началась кардинальная засыпка озера с применением тысяч полых бетонных блоков, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем[67].
Ядерные аварии в Советском Союзе происходили не только на оборонных объектах[68]. Так, персонал Белоярской АЭС дважды получал серьезные дозы радиации – в 1977 году, когда расплавилась часть активной зоны одного из реакторов, и год спустя во время пожара на реакторе. При этом Лев Феоктистов, замдиректора Института атомной энергии им. И.В. Курчатова (этот институт и сегодня считается ведущим российским научно-проектным центром в области ядерной энергетики), за год до Чернобыльской катастрофы писал в журнале «Совьет Лайф»: «За тридцать лет со дня пуска первой советской ядерной установки не было ни единого случая, когда работники станции или жители прилегающих территорий подвергались бы серьезной опасности, ни единого перебоя в работе систем, который мог бы привести к загрязнению воздуха, воды или почвы. Тщательнейшие исследования, проведенные в Советском Союзе, полностью доказали безопасность АЭС для здоровья граждан»[69].
Три-Майл-Айленд
Самый известный из «дочернобыльских» инцидентов на АЭС произошел на станции Три-Майл-Айленд в штате Пенсильвания 28 марта 1979 года – из-за отказа системы охлаждения расплавилась активная зона недавно установленного второго реактора. Хотя в результате аварии никто не пострадал, она все равно считается самой серьезной в истории американской ядерной энергетики. Как и в случае с Чернобылем, к инциденту привела сложная комбинация ошибок и недосмотра.
За одиннадцать часов до аварии во время чистки конденсатного фильтра произошла закупорка трубопровода, и операторы попытались ее ликвидировать, подавая сжатый воздух в водяную трубу с расчетом на то, что напор воды прочистит фильтр. Так и получилось, но вода случайно попала в систему управления насосами, что привело к сбою, который в тот момент остался незамеченным – это поняли уже после аварии.
Через одиннадцать часов, в четыре утра, из-за мелкой неисправности поток нерадиоактивной воды во втором контуре оказался перекрыт, что вызвало нарушение теплоотвода и рост температуры теплоносителя в первом контуре. Автоматика заглушила реактор, и цепная реакция остановилась, но температура в активной зоне из-за остаточного тепловыделения продолжала расти. Само по себе это не проблема, поскольку конструкторы реакторов всегда учитывают остаточное тепло и для предотвращения аварии предусматривают установку многочисленных автоматических, дублирующих, независимых друг от друга систем безопасности. Но по несчастливой случайности три вспомогательных водяных насоса, которые тоже были активированы этими системами, не смогли выполнить свою функцию, поскольку их клапаны были перекрыты из-за планового техобслуживания. Остаточное тепло вызвало рост давления – примерно так же, как на «Маяке», – в результате чего в компенсаторе давления открылось импульсное предохранительное устройство (ИПУ). Давление в итоге стабилизировалось, но тут-то и начались главные неприятности. На сцену вышла механическая проблема с насосами, случившаяся одиннадцать часов назад, – она помешала клапанам ИПУ вернуться в закрытое положение. Операторы на втором реакторе ошибочно считали клапаны закрытыми, поскольку приборы показывали, что система подала соответствующий сигнал. В результате они не заметили продолжавшуюся несколько часов утечку теплоносителя и совершили целый ряд неверных шагов.
Чтобы восполнить нехватку быстро вытекающего теплоносителя, управляющий компьютер включил подачу из резервных емкостей. Эта вода точно так же вытекала через ИПУ, но датчики показывали, что жидкости в компенсаторе давления уже должно быть больше чем достаточно, и не подозревающие о протечке операторы решили, будто в системе охлаждения избыток воды. Поэтому они снизили резервную подачу, непреднамеренно создав дефицит жидкости в реакторе, и образовавшийся пар стал наращивать давление в системе охлаждения первого контура. Когда в жидкости образуются пузырьки, их схлопывание вызывает гидравлические удары, способные разрушать стенки труб. Это явление называется кавитацией. Для ее предотвращения операторы, все еще пребывая в уверенности, что воды в системе охлаждения вполне достаточно, отключили насосы. Уровень воды стал падать, постепенно обнажив верхнюю часть топливных элементов, которые вскоре достигли критической температуры и стали плавиться, выделяя радиоактивные частицы в оставшуюся воду. В течение всего этого процесса операторы пытались понять, что происходит, – но без толку.
Пришедшая в шесть утра новая смена взглянула на ситуацию свежим взглядом. И заметив, что температура в ИПУ выше положенного уровня, в 6:22 они закрыли отсечной клапан между впускным клапаном и компенсатором давления. Утечка теплоносителя прекратилась, но из-за перегретого пара вода не могла циркулировать нормально, поэтому операторы постепенно стали повышать давление, нагнетая воду в систему охлаждения. Через шестнадцать с лишним часов после начала инцидента давление поднялось до уровня, достаточного для запуска главных циркуляционных насосов без риска кавитации. Это сработало: температура в реакторе упала, но к тому времени половина активной зоны и 90 % оболочек тепловыделяющих элементов успели расплавиться. Инцидент не перерос в масштабную катастрофу благодаря тому, что вокруг активной зоны на корпусе высокого давления реактора был массивнейший металлический щит, который выдержал температуру расплавленного радиоактивного вещества. Такая жизненно необходимая конструкция на чернобыльском РБМК отсутствовала[70].
Как и после Чернобыля, основной причиной аварии поначалу провозгласили ошибки операторов, но созданная Джимми Картером президентская комиссия после семимесячного расследования пришла к более прагматичным выводам[71]. В ее докладе было выделено множество слабых мест, нуждающихся в совершенствовании. «Даже если эксплуатацию установки в нормальных условиях преподавали персоналу на должном уровне, действиям в случае серьезных инцидентов уделялось недостаточно внимания». В докладе отмечалось, что «инструкции, применимые в случае данного инцидента, сформулированы по меньшей мере нечетко, и одно из их возможных прочтений предписывает именно те действия, которые операторы и выполнили». Авторы доклада также указали на проблемы с интерфейсом «человек—машина» системы управления энергоблоком: «Щит блока управления имеет множество недостатков. Он огромен, на нем сотни сигнальных индикаторов, причем некоторые из ключевых индикаторов расположены так, что операторам они не видны… В первые минуты инцидента включилось более ста индикаторов при отсутствии устройства, которое могло бы заблокировать несущественные сигналы и дать операторам возможность сосредоточиться на главной информации». Наконец, свою роль сыграло и извечное нежелание учиться на прошлых ошибках: выяснилось, что примерно за год до аварии подобный инцидент уже имел место на одной из американских АЭС, но операторам на других станциях об этом не сообщили[72].
Если рассматривать вышеописанные аварии вне общего контекста, они вселяют тревогу, поэтому важно помнить, что атомная энергетика остается наименее опасным способом производства энергии. В 2013 году специалисты НАСА подсчитали, что с 1971 по 2009 год ядерные установки предотвратили 1,84 миллиона смертей, связанных с загрязнением воздуха, а также выброс парникового газа, эквивалентный 64 гигатоннам СО2, – именно такие цифры были бы зафиксированы, если бы энергия в тот период вырабатывалась исключительно на органическом топливе[73]. Причем расчеты основаны на данных по европейским и американским станциям, которые в целом экологически чище, чем энергоблоки в других частях мира, – то есть в реальности приведенные цифры были бы еще больше. Согласно оценкам Тэн Фэя, китайского ученого из университета Цинхуа, загрязнение от сжигания угля в Китае за 2012 год привело к 670 тысячам смертей[74], в то время как средняя «угольная» смертность в мире составляет 170 смертей на 1 тераватт-час выработанной электроэнергии. Для сравнения: данные за 2012 год показывают, что этот показатель в «нефтяной» электрогенерации составил 36 смертей на ТВт-час, в биотопливной – 24 на ТВт-час, в ветряной – 0,15 на ТВт-час, в гидроэнергетике – 1,4 на ТВт-час (если принимать в расчет катастрофу на Баньцяо, а если не принимать, все равно необходимо учитывать, какой общий ущерб она наносит окружающей среде). В ядерной энергетике – даже включая аварии в Чернобыле и на Фукусиме, – мы имеем всего 0,09 смерти на ТВт-час[75].
Глава 2 Чернобыль
Строительство Чернобыльской АЭС, ЧАЭС, или, как ее официально называли в советские времена, Чернобыльской атомной электростанции им. В.И. Ленина, началось в 1970 году в глухой болотистой местности на севере Украины в 15 километрах к северо-востоку от городка Чернобыль. Выбор места был обусловлен сравнительной близостью – но на безопасном расстоянии – от украинской столицы, наличием готового водного ресурса в виде реки Припять, а также железнодорожной линии, соединяющей Овруч на западе с Черниговом на востоке. Это первая украинская АЭС, и она считалась на тот момент лучшей и самой надежной советской атомной станцией[76]. Одновременно в трех километрах от нее возвели девятый советский атомоград – город Припять, куда заселили 50 тысяч человек, занятых в этом масштабном проекте: операторов, строителей, вспомогательный персонал и членов их семей. Припять была одним из самых молодых городов в Советском Союзе – средний возраст жителей составлял всего 26 лет.
Руководить гигантской стройкой поставили тридцатипятилетнего инженера по турбинам, убежденного коммуниста Виктора Брюханова – на пост директора Чернобыльской АЭС его перевели с востока Украины, где он работал заместителем главного инженера Славянской ГРЭС[77]. Судя по всему, на станции его любили и уважали как директора. «Я его считаю выдающимся инженером», – так охарактеризовал Брюханова один из заместителей главного инженера[78]. На новом посту Брюханов отвечал за обе стройки – и станции, и города – и должен был лично организовывать абсолютно все, от найма рабочих до поставок техники и стройматериалов. Он трудился не покладая рук, но, несмотря на все его усилия, проект страдал от множества проблем, типичных для коммунистической системы. Постоянно не хватало тысяч тонн железобетона, спецоборудование было не выбить, а когда его наконец доставляли, оно оказывалось низкокачественным, так что Брюханову приходилось изготавливать комплектующие в импровизированных мастерских здесь же, на стройке[79]. Из-за этих сложностей проект отставал от запланированных сроков, но в конце концов 26 ноября 1976 года после многомесячных испытаний был запущен первый энергоблок ЧАЭС, за которым последовал пуск второго (1978), третьего (1981) и четвертого (1983) блоков.
Все четыре реактора были относительно новой конструкции – из серии РБМК («Реактор большой мощности канальный») по 1000 МВт. В блоке с каждым реактором работало по два паровых турбогенератора по 500 МВт. РБМК – графито-водный реактор кипящего типа. Эта необычная и к тому времени немного устаревшая конструкция разрабатывалась в шестидесятые годы, она считалась мощной, не требующей больших финансовых и временны́х затрат при строительстве и монтаже, относительно несложной в обслуживании и имеющей долгий срок эксплуатации. Реакторы отличались довольно крупными размерами – 7 метров в высоту и 11,8 метра в ширину[80]. К 1986 году в стране эксплуатировалось четырнадцать реакторов этой серии, еще восемь энергоблоков находилось на стадии строительства, включая два блока на самой ЧАЭС (пятый блок планировали завершить в том же году). Четыре действующих реактора суммарно вырабатывали 10 % всей электроэнергии, потребляемой в то время Украиной. Если бы строительство пятого и шестого блоков было завершено, Чернобыльская АЭС стала бы самой мощной электростанцией в мире, не считая ГЭС[81]. Для справки: крупнейшая в мире китайская ГЭС «Три ущелья» способна генерировать фантастическую мощность – 22 500 МВт[82].
В основе работы реактора лежит ядерный распад – этот процесс еще называют расщеплением атома, – энергия которого используется для электрогенерации. Материя состоит из атомов, причем основная часть внутреннего пространства атома – пустота; на долю крошечного ядра, состоящего из связанных вместе протонов и нейтронов, приходится почти вся атомная масса. Вокруг ядра вращаются по своим орбитам электроны. Атомы разных элементов отличаются друг от друга числом протонов и нейтронов в ядре. Скажем, в атоме золота, довольно тяжелого элемента, 79 протонов. В атоме меди – всего 29 протонов, медь обладает куда меньшей плотностью. У кислорода – 8 протонов. Число электронов в любом атоме равно числу протонов, а вот число нейтронов в атомах одного и того же элемента может быть разное. Такие вариации элемента называются изотопами. Можно сказать, что изотопы – это как машины одной марки, но разной комплектации и класса оборудования. Компания «Мерседес», например, выпускает множество моделей – элементов, – и машины отличаются друг от друга мощностью двигателя, обивкой сидений, качеством окраски. «Мерседесы» остаются «Мерседесами», но по форме могут быть не совсем одинаковыми. Стабильные изотопы – такие, которые не подвержены самопроизвольному радиоактивному распаду, – называются стабильными нуклидами, а нестабильные изотопы – радионуклидами. Продукты распада, возникающие в процессе деления ядра, большей частью состоят из нестабильных радионуклидов. Это отходы работы реактора, им свойственна высокая температура, и они крайне токсичны.
Как и почти во всех коммерческих ядерных реакторах, в РБМК топливом служит уран – самый тяжелый из встречающихся в природе элементов, в его ядре 92 протона. Природный уран содержит только 0,7 % способного к делению изотопа U-235 (92 протона плюс 143 нейтрона). 190 тонн топлива в реакторе РБМК второго поколения (как на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС) – это дешевый, низкообогащенный уран (там всего 2 % U-235) внутри 1661 вертикального канала. В процессе ядерной реакции в активной зоне происходит столкновение нейтронов с ядрами других атомов U-235, и ядра расщепляются с выделением энергии в виде тепла. При расщеплении высвобождаются еще два-три нейтрона, которые, в свою очередь, сталкиваются с ядрами, высвобождая новые нейтроны, и так далее. Этот процесс называется самоподдерживающейся ядерной реакцией, и именно благодаря ей в реакторе вырабатывается тепловая энергия. Одновременно возникают новые элементы – продукты ядерного распада[83].
В ядерной энергетике используется та же реакция, что и в атомной бомбе, но контроль над высвобождением нейтронов позволяет генерировать требуемое количество тепла и предотвращает ядерный взрыв. Топливо в реакторе на АЭС содержит низкообогащенный уран или плутоний, и оно распределено на большой площади вокруг регулирующих стержней, которые способны сдерживать реакцию, тогда как конструкция атомной бомбы подразумевает неконтролируемую и гораздо более интенсивную цепную реакцию (ее инициирует детонация взрывчатки, в результате которой одно полушарие с обогащенным ураном вжимается в другое, создавая критическую массу).
Предотвращение радиоактивного выброса – главный приоритет на любом ядерном объекте, именно поэтому строительство и эксплуатация АЭС строятся на идее «глубоко эшелонированной защиты» (ГЭЗ). Она подразумевает наличие определенной культуры безопасности, но при этом допускает, что механические (и человеческие) ошибки неизбежны. По этой причине в конструкцию включено множество дублирующих и запасных вариантов ответа на ту или иную возможную проблему. Это создает многоуровневую (эшелонированную) защитную систему – подобно тому как в матрешке открываешь куклу за куклой, пока не дойдешь до последней фигурки внутри. Первый барьер безопасности – керамическая оболочка топливных таблеток, за ним следует циркониевое покрытие тепловыделяющих элементов. В обычной современной коммерческой ядерной установке активная зона, где протекает реакция, помещается внутри третьего барьера – практически не поддающейся разрушению металлической капсулы, известной как корпус высокого давления. В реакторах РБМК от такого корпуса в целях экономии отказались, заменив его железобетонными конструкциями по бокам и тяжелыми металлическими плитами сверху и снизу. Если бы РБМК снабдили корпусом в соответствии с теми стандартами и уровнем сложности, каких требует такой реактор, его стоимость бы удвоилась. Четвертый и последний барьер – герметичная непробиваемая оболочка. Хорошо известно, что гермооболочка ядерного реактора – это наисерьезнейшим образом укрепленная конструкция, толщина бетонных и/или стальных стен которой может достигать нескольких метров. Гермооболочка рассчитана на то, чтобы выдержать столкновение с авиалайнером, врезающимся в нее на скорости несколько сотен километров в час, но ее устанавливают еще и на случай, если случится невероятное – возникнет пробоина в корпусе высокого давления. Это вопиющий факт, но назвать ограждение РБМК настоящей гермооболочкой никак нельзя – что, вероятно, тоже объяснятся соображениями экономии[84].
Отсутствие у РБМК самых критически важных радиационных барьеров не укладывается в голове, это конструктивный дефект, который нельзя было допускать даже в мыслях, не говоря о том, чтобы такой проект разрабатывать, утверждать и реализовывать. Еще до того как Совет министров приступил к отбору вариантов, его члены были осведомлены об этих недостатках, но все равно отдали предпочтение РБМК, а не конкурирующему ВВЭР («Водо-водяному энергетическому реактору»), модели более безопасной, но, правда, более дорогой и чуть-чуть менее мощной. В то время все считали, что на РБМК никаких масштабных инцидентов произойти не может, поскольку все принятые в отрасли инструкции будут неукоснительно соблюдаться. В итоге решили, что дополнительные меры безопасности ни к чему[85].
Реакция деления ядра обеспечивается замедлителем нейтронов, его функции в РБМК выполняют вертикальные графитовые блоки вокруг топливных каналов. В каждом реакторе РБМК – 1850 тонн графита. Графит замедляет скорость движения нейтронов в топливе, значительно увеличивая вероятность их столкновения с ядрами урана U-235. Если мячик при игре в гольф лежит в паре сантиметров от лунки, вы не станете лупить по нему изо всех сил, а лишь слегка подтолкнете. Тот же принцип работает и здесь. Чем чаще в результате столкновения расщепляется ядро, тем лучше самоподдерживается цепная реакция и тем больше выделяется энергии. Иными словами, замедлитель создает нужную среду для цепной реакции. Это как кислород для обычного огня: даже будь у вас все топливо мира, без кислорода оно гореть не будет.
Использовать графит в качестве замедлителя – дело чрезвычайно рискованное, поскольку в отсутствие охлаждающей воды или при наличии пузырьков пара (так называемых пустот) реакция продолжится и даже станет более интенсивной. Это явление измеряется пустотным коэффициентом реактивности, положительные значения которого свидетельствуют о серьезных недостатках конструкции. В США графитовые реакторы применялись в пятидесятые годы для исследовательских работ и производства плутония, но американцы вскоре поняли, насколько эти реакторы небезопасны. Сегодня почти на всех западных АЭС эксплуатируются либо реакторы с водой под давлением (PWR), либо водные реакторы кипящего типа (BWR). В этих реакторах замедлителем, обеспечивающим цепную реакцию, выступает та же вода, что подается в реактор в качестве теплоносителя. То есть, если прекращается подача воды, прекратится и деление ядер, поскольку реакция перестанет быть самоподдерживающейся, – и этот принцип куда более безопасен. Однако в некоторых моделях реакторов по-прежнему используется графит. Кроме РБМК и его модифицированной версии ЭГП-6, в их число входит лишь еще одна модель – британский AGR («Усовершенствованный газоохлаждаемый реактор»). Этот список вскоре пополнится реакторами нового типа на строящейся в Китае АЭС «Шидаовань». На станции будут работать высокотемпературные графитовые реакторы HTR PM, которые планируется запустить в 2017 году[86].
Поскольку в процессе ядерного распада выделяется огромное количество тепла, охлаждение активной зоны – насущная необходимость. Это особенно актуально в случае с РБМК, который, по словам английского ученого Эрика Войса, работает «на поразительно высоких температурах» в сравнении с другими реакторами – 500 °С, а в отдельных точках – до 700 °С. Рабочая температура в обычном PWR – порядка 275 °С. В разных моделях реакторов – разные типы теплоносителя. Это может быть газ, воздух, жидкий металл, соль, но в Чернобыле, как и в большинстве других реакторов, использовали легкую (читай – обычную) воду. Поначалу планировалось, что теплоносителем будет газ, но из-за дефицита необходимого оборудования решение изменили[87]. Вода под высоким давлением (65 атмосфер) подается в нижнюю часть реактора, откуда, закипев, поднимается вверх и отводится из реактора в сепаратор, который собирает пар, а оставшаяся вода закачивается обратно в реактор. Пар тем временем попадает в паровую турбину, генерирующую электроэнергию. Реактор РБМК производит 5800 тонн пара в час[88]. На выходе из турбогенератора пар конденсируется, и конденсат поступает к насосам, где цикл начинается заново.
Этому методу охлаждения органически присущ один серьезный недостаток. В отличие от обычного PWR, в реактор попадает та же вода, что прошла через насос системы охлаждения, а потом – в виде пара – через турбины, – то есть вода, подвергшаяся высоким уровням радиации, присутствует во всех частях системы. В PWR предусмотрен специальный теплообменник, обеспечивающий передачу тепла от воды из реактора подаваемой под более низким давлением чистой воде, что позволяет турбинам оставаться незагрязненными. С точки зрения безопасности, техобслуживания и управления отходами эта схема лучше. Вторая проблема РБМК в том, что парообразование происходит в активной зоне, а это повышает вероятность возникновения паровых пустот и, следовательно, увеличения пустотного коэффициента реактивности. В обычных водных реакторах кипящего типа (таких как PWR) этой проблемы нет, но в графитовых AGR она тоже присутствует.
Для контроля количества энергии, которую производит ядерный реактор, используются стержни управления. В РБМК это длинные тонкие цилиндры, заполненные главным образом карбидом бора, поглощающим нейтроны и замедляющим реакцию. Концевые секции стержней выполнены из графита: когда стержень поднимется из активной зоны, они не дают охлаждающей воде (которая тоже способна поглощать нейтроны) попасть туда, где находилась борная секция, – это повышает влияние стержней на то, как протекает реакция. Каждый из чернобыльских реакторов имел по 211 стержней управления, которые по мере необходимости можно было опускать внутрь активной зоны, а также дополнительно по 24 укороченных «стержня-поглотителя». Поглотители обеспечивают равномерное распределение энергии по всей ширине активной зоны и перемещаются снизу вверх. Чем больше стержней в активной зоне и чем глубже они в нее погружены, тем ниже интенсивность реакции. И наоборот: меньше стержней – больше энергии. Стержни управления можно перемещать одновременно на заданную оператором глубину, а можно их разъединить и перемещать группами – в зависимости от ситуации[89]. По западным стандартам, скорость движения стержней в РБМК невероятно низкая: перемещение из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее занимает от 18 до 21 секунды, тогда как, например, канадскому CANDU на ту же операцию достаточно одной секунды[90].
Мало кто знает, что еще до известной катастрофы 1986 года на ЧАЭС уже случалась авария, которая привела к частичному расплавлению активной зоны первого энергоблока. Инцидент произошел 9 сентября 1982 года, несколько лет информацию о нем держали в тайне. Трудно добыть подробные и надежные сведения (особенно на английском), но, судя по всему, причиной аварии стало перекрытие клапана в канале теплоносителя, что привело к перегреву канала и частичному повреждению топливных сборок и графита. В секретном рапорте КГБ, датированном следующим после аварии днем, говорится: «В связи с проведением планового капитального ремонта 1 энергоблока Чернобыльской АЭС, который намечено завершить 13 сентября с.г., 9.9.82 г. проводился пробный пуск реактора. При подъеме его мощности до 20 процентов произошел разрыв одного из тысячи шестисот сорока технологических каналов, загруженных ТВС (тепловыделяющие сборки). При этом произошел обрыв штанги, на которой крепятся ТВС, а также частичное увлажнение графитовой кладки»[91]. В результате началось вымывание топлива и графита через трубы, и продукты распада попали в вентиляционную систему, что, в свою очередь, преградило путь теплоносителю и привело к частичному расплавлению активной зоны.
Операторы долго не могли понять, что происходит, и почти полчаса не обращали внимания на сигналы оповещения. В проведенном КГБ расследовании халатность персонала (сознательное перекрытие теплоносителя), похоже, не рассматривалась. Две независимые друг от друга комиссии, замерявшие уровень радиации в окрестностях станции, тоже пришли к разным выводам: межведомственная комиссия практически никакого загрязнения не выявила, в то время как группа биофизиков из Института ядерных исследований украинской Академии наук выявила уровни радиации, в сотни раз превышающие допустимые нормы[92]. Два авторитетных специалиста, которые позднее будут анализировать катастрофу 1986 года, в 1982 году тоже не согласились с официальной трактовкой событий. Дежурившие в тот день операторы отрицали возможные оплошности со своей стороны. «Как очевидец этой аварии и участник ликвидации ее последствий, могу добавить немногое: версия НИКИЭТа [Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники], обвинившего инженера цеха наладки ЧАЭС в полном закрытии подачи воды в канал, так и осталась версией, – пишет Николай Карпан, работавший в 1979–1986 годах заместителем главного инженера станции по науке. – И руководитель работ, и вся бригада операторов, занимавшаяся в тот день регулировкой поканальных расходов, от навязываемой им ошибки упорно отбивалась. В тот день они работали, как всегда, строго по инструкции, которая обязывала до начала работы ставить на регулятор ограничительную планку, механически препятствующую полному закрытию клапана подачи воды в канал»[93]. Скорее всего, инцидент произошел главным образом из-за конструктивного дефекта или – еще вероятнее – из-за производственного брака, но политики решили пойти путем наименьшего сопротивления и свалить вину на дежурного инженера. Объявить о единичной человеческой ошибке легче, чем признать дефект в конструкции твоих новеньких с иголочки ядерных реакторов, разработка и создание которых стоили уйму денег; к тому же они уже эксплуатируются на двух других станциях. Эту неофициальную версию поддерживал и заместитель главного инженера по науке: «Исследования показали, что причиной разрушения канальных труб из циркония оказалось остаточное внутреннее напряжение в… стенках. Завод по своей инициативе изменил технологию изготовления канальных труб, и результатом этого “технологического новшества” стала авария»[94].
Еще до инцидента 1982 года имела место еще одна серьезная авария с реактором РБМК – на Ленинградской АЭС, где в ноябре 1975 года произошло частичное расплавление энергоблока[95]. Подробную информацию о том происшествии разыскать еще сложнее, чем о Чернобыле-1982, но ему посвящена страница на сайте Виктора Дмитриева, русского инженера-ядерщика, работавшего во ВНИИ по эксплуатации атомных электростанций. У аварии на ЛАЭС есть заметные схожие черты с чернобыльской катастрофой 1986 года. Первый энергоблок перезапускали после плановых работ по обслуживанию, но, когда мощность достигла 800 МВт, из-за каких-то неполадок был отключен один из турбогенераторов. Чтобы поддержать реактор в стабильном состоянии, мощность снизили до 500 МВт, и после этого вечерняя смена передала управление ночной. В два часа ночи кто-то по ошибке отключил единственный работавший турбогенератор, и аварийная защита заглушила реактор. Началось отравление реактора (я подробнее остановлюсь на этом явлении ниже), и операторы встали перед выбором: или выводить реактор на полную мощность, или позволить ему остановиться полностью, – причем каждый из вариантов имел свои негативные последствия. В итоге решено было – как и десятилетие спустя в Чернобыле – выводить реактор на мощность. И в процессе этого столкнулись с теми же проблемами. «При подъеме мощности после останова, без воздействия оператора на изменение реактивности (без извлечения стержней), вдруг реактор самопроизвольно уменьшал период разгона, т. е. самопроизвольно разгонялся, другими словами, стремился взорваться, – описывал происходившее стажер с Чернобыльской АЭС В.И. Борец, случайно оказавшийся в той смене. – Дважды разгон реактора останавливала аварийная защита. [На самом деле защита срабатывала больше чем дважды – из-за избытка мощности и из-за скорости ее роста. – В. Дмитриев. ] Попытки оператора снизить скорость подъема мощности штатными средствами, погружая одновременно группу стержней ручного регулирования плюс четыре стержня автоматического регулятора, эффекта не давали, разгон мощности увеличивался. И только срабатывание аварийной защиты останавливало реактор». Прежде чем реактор был остановлен, он достиг 1720 МВт – то есть почти вдвое превысил проектную мощность[96].
Правительственная комиссия, которая расследовала инцидент, обнаружила серьезные конструктивные недочеты и в 1976 году рекомендовала снизить пустотный коэффициент реактивности, изменить конструкцию стержней управления и установить новые стержни в целях обеспечения оперативной защиты. Конструкцию стержней изменили, но ни один новый стержень так и не был установлен. В докладе, поданном в КГБ 16 октября 1981 года, выражалась озабоченность по поводу качества оборудования на Чернобыльской АЭС. Указывалось, что за первые четыре года эксплуатации на станции произошло 29 аварийных остановок – «из них 8 по вине обслуживающего персонала, а остальные по различным техническим причинам» – и что «контрольно-измерительные приборы… не соответствуют требованиям надежности». На момент написания доклада вопрос об этих проблемах «неоднократно» ставился перед Минэнерго и проектными организациями, разрабатывавшими реактор, «однако он до сих пор не решен»[97].
В конце 1983 года начались испытания реактора РБМК на только что построенной в Литве Игналинской АЭС, и сразу же обнаружилась проблема: при одновременном входе стержней управления в активную зону возникает скачок мощности. Именно эта проблема через несколько лет станет одной из причин чернобыльской катастрофы. При этом в Игналине топливо было абсолютно свежим, реактор – стабильным, а стержни с карбидом бора свободно перемещались по всей высоте, позволяя беспрепятственно контролировать реакцию. О выявленной опасности сообщили всем задействованным в проекте министерствам и институтам, но снова ничего не изменилось. В очередном рапорте КГБ в октябре 1984 года были указаны недостатки в системах охлаждения в первом энергоблоке. До главного проектировщика на тот момент донесли всю необходимую информацию, «однако даже на строящихся 5 и 6 энергоблоках замечания не учтены»[98]. В свете этих примеров ничем не оправданной повторяющейся халатности я склонен согласиться с Анатолием Дятловым (на момент аварии он был заместителем главного инженера Чернобыльской АЭС по эксплуатации), который спустя годы после тех событий сказал: «РБМК был обречен взорваться»[99].
Глава 3 Увлечение
Не помню, когда именно я впервые заинтересовался Чернобылем. В детстве до меня то и дело долетали обрывки рассказов о городе, брошенном людьми после взрыва на ядерном реакторе. Я не имел ни малейшего представления о том, что такое взрыв на ядерном реакторе, для мальчишки это было вроде строчки из научной фантастики. Но любопытство мое возбудила не эта фантастичность, а именно мысль, что где-то – в реальном мире – стоит настоящий опустевший город. Этот образ меня потряс. Я постоянно раздумывал, каково это – бродить по его улицам, оказаться в местах, которые когда-то были родными, а теперь обезлюдели, пытался представить, как здесь жили, пока на людей не обрушилась трагедия, что бы ни скрывалось за этим словом.
Но по-настоящему эта история захватила меня в 2005 году, уже в университете, когда я увидел подборку фотографий, снятых мотоциклисткой, которая в одиночку отважилась отправиться в зону отчуждения задолго до того, как поездки туда приобрели популярность (правда, позднее ее рассказы оказались фальшивкой). Я раскопал все фото, какие только смог, и известный на весь мир силуэт чернобыльской вентиляционной трубы прочно отпечатался у меня в сознании. Появившаяся в 2007 году мрачная компьютерная игра «с открытым миром» «Сталкер: Тень Чернобыля» дала мне возможность внимательно рассмотреть ландшафты, уже знакомые по статьям и фотографиям, фигурально выражаясь, почти вживую. Игра разворачивается в альтернативной истории, действие происходит среди странных, сверхъестественных аномалий, возникших в зоне отчуждения после катастрофы. У игры есть свои недостатки, но украинским разработчикам удалось с фотографической точностью воспроизвести многие узнаваемые места и передать атмосферу. Чем больше я погружался в игру, тем сильнее росло желание поехать туда и увидеть станцию своими глазами. Но студенческая жизнь богата событиями, и вскоре я переключился на другие, не менее захватывающие вещи. Потом я еще несколько раз возвращался к чернобыльским событиям, и с каждым разом во мне усиливалось стремление узнать о них как можно больше.
Переломным моментом стала Фукусима. 11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени в 70 километрах к востоку от японского полуострова Осика (регион Тохоку) в море произошло подводное землетрясение магнитудой 9 баллов по шкале Рихтера (пятый в списке самых сильных толчков, зафиксированных в истории). Толчок вызвал 40-метровое цунами, которое, сметая все на своем пути, накрыла 10 километров суши. Катастрофа унесла жизни более 16 тысяч мужчин, женщин и детей. Почти миллион зданий было повреждено или полностью уничтожено, 400 тысяч человек остались без крова. По оценкам Всемирного банка, финансовый ущерб стал рекордным в истории стихийных бедствий и составил 235 миллиардов долларов[100]. Волна с легкостью преодолела построенную сорок лет назад, не рассчитанную на такую высоту воды защитную дамбу на АЭС Фукусима-Дайити и затопила всю местность, выведя из строя немалую часть оборудования станции, включая резервные дизель-генераторы. В момент фиксации подводного толчка операторы заглушили три реактора и запустили аварийные дизели для расхолаживания и снятия остаточного тепловыделения. Но генераторы оказались затоплены и пришли в негодность. По развороченным дорогам до станции с трудом добрались пожарные машины, но попытки подсоединить шланги к насосам для подачи воды в реактор оказались безуспешными из-за отсутствия подходящих переходников. Несмотря на героические усилия персонала Фукусимы, во всех трех реакторах произошло расплавление, а взрывы водорода серьезно повредили защитные оболочки. По своим масштабам Фукусима стала второй крупнейшей в мире катастрофой на АЭС, получив – наряду с Чернобылем – максимальный седьмой уровень по Международной шкале ядерных событий. Во время аварии три из шести реакторов на Фукусиме не работали: их заглушили для перезагрузки топлива, и, если бы не это обстоятельство, кто знает, к чему бы привела катастрофа[101].
Когда роковая волна захлестнула японскую АЭС, я буквально прилип к монитору, шаря по сети и стараясь не пропустить ни одного свежего сообщения. Я вновь и вновь ошарашенно пересматривал леденящие кровь ролики, загруженные с телефонов на YouTube теми, кому удалось спастись от этой неуклонно надвигающейся водяной стены. Она сметала всё. Землю, словно клочки бумаги, усыпали транспортные средства – от велосипедов до массивных рыболовных судов; катастрофа сровняла с землей целые города и унесла обломки в глубь суши. По мере того как ситуация на Фукусиме ухудшалась, пользователи на форумах и в блогах обсуждали, что же дальше. Станет ли катастрофа новым Чернобылем? Откуда ни возьмись на свет божий явился целый сонм диванных атомщиков, и у каждого было собственное мнение о ядерной безопасности и готовности Японии к таким инцидентам.
Оказалось, человек, которого я считал наиболее информированным, ошибался, когда говорил, что реакторы на Фукусиме практически неуязвимы и способны выдержать даже такое цунами. Как и все, я размышлял о возможных последствиях аварии для окружающей среды и жителей прилегающих к станции районов. И вдруг осознал, что, несмотря на весь свой интерес к теме, не обладаю четким базовым пониманием принципов работы ядерного реактора и надежности его систем безопасности. Гринписовцы и иже с ними громко и безапелляционно заявляли: мол, АЭС вредны, так как вырабатывают токсичные, не поддающиеся утилизации отходы. Оппоненты возражали, что в пропорциональном отношении ядерная энергетика влечет втрое меньший уровень смертности, чем угольная; что выхлоп из труб угольных станций вместе с зольной пылью выносит в окружающую среду в 100 раз больше радиации при производстве того же количества энергии; и что АЭС вообще экологически чище любых других промышленных электростанций[102].
Так кто же прав? Вокруг ядерной энергетики столько страхов и пропаганды, что несведущему человеку почти невозможно разобраться, кому верить. Мне захотелось докопаться до истины самому, и я приступил к более глубокому изучению тайн атомной энергии и потенциальных опасностей, которыми чревато ее использование. Какой пример может быть лучшей иллюстрацией, чем самая масштабная в истории антропогенная катастрофа? Я поставил перед собой задачу понять: что в Чернобыле пошло не так, почему это случилось, кто несет ответственность, чем разрешилась эта ситуация и какие уроки из нее извлечены? Первым делом я ознакомился со всеми документальными фильмами, какие смог найти. Одни казались объективными и информативными, а другие – спекулятивными, вплоть до откровенной лжи и фальсификации фактов. Еще более запутывала ситуацию недостоверность официальных советских отчетов. Следовательно, множество книг, написанных за годы, прошедшие после аварии, содержали некорректную информацию. Я увидел, что эта ставшая легендой катастрофа окружена вымыслами. Слышали о ней все, но лишь немногие знают, что случилось на самом деле. Дефицит правдивой информации только придал мне решимости докопаться до истины.
В конце 2011 года я впервые за много месяцев забрел на фотофорум и в одной из веток обнаружил рекламу тура с экскурсией в зону отчуждения. Все места были уже забронированы, но ближе к делу некоторые участники отказались. До намеченного на 8 октября выезда оставались считаные недели. Я знал, что групповые туры обычно предусматривают наличие гидов, которые водят любопытных туристов по достопримечательностям, причем, во избежание случаев вандализма, путешественников ограничивают в свободе передвижения строго утвержденными маршрутами. Тут же все предполагалось не так: участникам обещали неограниченный доступ в Припять. Я не знал никого из группы, но на тот момент (я был двадцатишестилетним безработным без гроша в кармане) решил, что должен присоединиться. Цена оказалась ниже, чем я ожидал, – 425 фунтов плюс билеты и расходы на ужин, – то есть цель вполне достижима. Разумеется, нужно было еще добраться от дома – а жил я в шотландском округе Абердиншир – до Лондона, а потом лететь в Киев и обратно, так что это увеличивало стоимость поездки где-то до тысячи фунтов. В цену входили автобусные билеты, размещение, гиды, завтрак и – подозреваю, это составляло основную часть расходов – взятки.
Где я всего за пару недель добыл тысячу фунтов? Мне пришлось продать свою первую настоящую электрогитару, блестящую алую красавицу Ibanez Joe Satriani Signature JS-100, и превосходный 105-миллиметровый макросъемочный объектив «Никон», которым я пользовался не так часто, чтобы хоть немного оправдать выложенные за него 650 фунтов. Мне было грустно расставаться с гитарой – из инструментов она была моей первой любовью, – но еще за год до того я купил ей на смену юбилейный Schecter C-1, а «Никоном» я все равно фотографировал лишь раз в несколько месяцев, так что выложил обе вещи на eBay. Из-за двух африканских жуликов продажа растянулась на несколько недель, но меня великодушно выручили родители, одолжив недостающую сумму.
Предполагалось, что наша группа встречается 8 октября в аэропорту в сорока километрах от Лондона, откуда мы летим в киевский Борисполь, где должны встретиться с остальными участниками из разных стран. Но мне еще надо было добраться до Лондона от своего дома – старой каменной мельницы в деревушке к северу от Абердина, – то есть преодолеть расстояние, больше которого в Британии просто не бывает. Выбирая между адским двенадцатичасовым автобусным марафоном и железной дорогой – два с половиной часа на электричке до Эдинбурга, а потом ночь в экспрессе до Лондона, – я предпочел поезда. С детства мечтал прокатиться в спальном вагоне. Это ассоциировалось с приключениями (помните «Убийство в Восточном экспрессе»?), а кроме того, там можно было нормально отдохнуть, в отличие от битком набитого неудобного автобуса.
В пятницу вечером отец довозит меня до ближайшей автобусной остановки в пяти милях от дома, где мы и прощаемся. Еще пятьдесят километров езды, и через час я уже вхожу в элегантный викторианский вокзал Абердина с недавно отремонтированным потолком из стекла и кованого металла, а там сажусь на первый из двух своих поездов. Поездка вдоль восточного побережья Шотландии – вещь ничем не примечательная, к тому же вскоре в окне остается лишь мое отражение, поэтому я откидываюсь на спинку сиденья, вынимаю телефон и загружаю мобильную версию «Майнкрафт». Она в тот день только вышла, и я – из каких-то странных соображений – предвкушаю восторг от того, что стану первым, кто сыграет в «Майнкрафт» в Чернобыле. Электричка пересекает величественный железнодорожный мост Форт-Бридж, и мы прибываем на конечный пункт первой части моего маршрута – вокзал Эдинбург-Уэверли. Выйдя на перрон, я нахожу свой следующий поезд – тот тихо стоит себе в укромном уголке на другом конце вокзала. На всякий случай уточняю у проводницы в форме, лондонский ли это поезд.
Однажды я сел в поезд «Верджин Пендолино» из девяти вагонов, чтобы проехать 25 километров от Престона до Ланкастера, и лишь через полчаса до меня дошло, что мы не остановились. Мой вопрос не произвел на проводника особого впечатления, и он, изо всех сил стараясь сохранять невозмутимость, сообщил, что это экспресс до Глазго, который идет без остановок, и что мы проехали уже 300 километров. Боже… Тогда, вопреки расписанию, на полпути, в Карлайле, поезд сделал секундную остановку – только ради меня.
«Нет, сейчас не тот случай, – заверяет меня проводница. – У нас сегодня поезд битком». Я прохожу к своему купе и открываю дверь. Соседа еще нет, и я по-детски решаю застолбить за собой верхнюю полку, водрузив на нее сумку, словно флаг. Время течет, а в купе никто не заходит. Когда мы уже вот-вот должны тронуться, раздается стук в дверь, в нее просовывает голову та самая проводница и извещает, что сосед, наверное, не придет. Все тесное купе в моем распоряжении; правда, вскоре выяснилось, что спать в поезде не так-то просто. Пока я мчусь на юг, к столице, он постоянно то лязгает, то качается, то притормаживает, то разгоняется снова.
Оглянуться не успел, уже четыре утра, поезд на малом ходу вползает в Лондон. Я замерз и устал, но после бодрящей прогулки между станциями вновь сижу в электричке, которая через два часа доставит меня в аэропорт Гатвик. Хотя мне добираться дольше всех из группы, на место я прибываю первым, но к девяти утра подтягиваются и остальные. Я подхожу к собравшимся и представляюсь. Приятно, когда имена людей, с которыми ты виртуально общался последние пару недель, обретают наконец лица. В тот день я познакомился со многими прекрасными людьми, но особенно это касается Дэнни, Кейти и Давида. Мы вчетвером будем держаться друг друга всю дорогу.
Беспристрастный голос из динамиков сообщает, что самолет готов к посадке, и мы шагаем через перрон к ожидающему аэробусу А320 Международных авиалиний Украины. Я стараюсь выглядеть спокойно, но внутри жутко паникую; до этого я летал лишь дважды, оба раза ночью, и мне это ужасно не понравилось. Меня всегда страшила возможность попасть в авиакатастрофу, где ты не в силах ни на что повлиять, и это превратилось в мой кошмар. Хотя из иллюминатора за левым крылом открывается прекрасный вид, телефон куда успешнее успокаивает мои нервы, – но вот стюардесса просит отключить все устройства. Я закрываю глаза, чтобы отгородиться от всего, а тем временем мощные двигатели лайнера вдавливают меня в кресло. Трепет возбуждения и ужас – я хорошо это помню.
Вид из окна летящего самолета гораздо лучше, чем я мог вообразить; когда впервые смотришь на мир с такой высоты, волей-неволей задумываешься, насколько мы на самом деле незначительны – как бы банально это ни звучало. Половину времени полета я усиленно пытаюсь прикинуть, на каком мы расстоянии от видимых береговых линий, и столь же усиленно стараюсь не думать о тридцати пяти тысячах футов (10 000 м), отделяющих меня от земли. Время близится к вечеру, и через четыре с половиной часа в воздухе самолет начинает тряский спуск сквозь темнеющие облака к аэропорту Борисполя. За бортом пасмурно и дождливо, но мне наплевать: я вновь на твердой земле и могу теперь на некоторое время отвлечься от аэрофобии. И как только с ней справляются летные экипажи?
Наша группа, похоже, выделяется на общем фоне: стоило нам войти в терминал, окружающие принялись на нас глазеть. Нас заранее предупредили, чтобы мы ни в коем случае не сообщали никому в Борисполе истинную цель визита. Мы должны говорить, что прилетели в Украину пофотографировать. Из будки меня пристально разглядывает худощавый человек с непроницаемым лицом. Может, все иностранцы прилетают сюда, чтобы съездить в Чернобыль? Сильно сомневаюсь, но на всякий случай одариваю его краткой невинной улыбкой. По всей видимости, зная здесь, зачем мы прилетели, нам, вероятно, не разрешили бы въезд в страну, хотя и не понимаю почему.
У нас есть несколько часов, которые некуда девать. Автобус приедет за нами в восемь вечера, до тех пор – свободное время. Я меняю деньги, и мы с Дэнни, Кейти, Давидом и приветливым парнем по имени Джош отправляемся искать, где можно поесть. Подобно тупым туристам – а мы, впрочем, они и есть – мы останавливаем выбор на первом же кафе, где мне померещилось что-то родное, – это расположенный в главном терминале небольшой ресторанчик в стиле классической американской закусочной пятидесятых. Стены увешаны черно-белыми ретрофотографиями Нью-Йорка вперемешку со старой рекламой кока-колы. Меню стилизовано под первую полосу газеты «Таймс». Мы умираем с голоду, но, поскольку никто из нас, кроме разве что поляка Давида, не знает ни слова по-украински, а официантка не говорит по-английски, приходится довольствоваться чаем. Думаю, чай – штука общемировая.
Мы с новыми друзьями попиваем обжигающий зеленый чай и болтаем о Чернобыле, о своих фотокамерах, рассказываем, кто откуда приехал, и радостно делимся надеждами, связанными с поездкой. Время пролетает незаметно, и вот мы уже в автобусе, который повезет нас в тысячелетний город Белая Церковь в восьмидесяти километрах от аэропорта – там мы переночуем, а затем отправимся южнее, в ракетный музей. К одиннадцати вечера мы без всяких приключений добираемся до Белой Церкви, где на темных подъездах к гостинице внимание привлекает только какой-то интригующий, освещенный прожекторами промышленный объект. Пока сопровождающие что-то долго обсуждают с персоналом, мы минут двадцать торчим в вестибюле, а потом нам велят подниматься по украшенной витражами мраморной лестнице. У меня такое впечатление, что нас здесь никто не ждал. На верхнем этаже мы вновь оказываемся в одиночестве, и на выручку приходит Давид: перемежая жесты и польские слова, он объясняет ситуацию уборщице. Бросив вещи в своих комнатах и обследовав здание (первым делом мы, естественно, ринулись к выходу на крышу, но он оказался закрыт), наша группа приняла коллективное решение расслабиться в гостиничном пабе.
Ну, то есть коллективное, если не считать меня. Я устал не меньше остальных, но весь этот путь я проделал не затем, чтобы тусоваться и бухать, – мне не терпится начать обследовать окрестности. Давид соглашается составить мне компанию, и мы, прихватив с собой штативы и камеры, выходим в ночь. Гостиница стоит на северном углу ярко освещенного перекрестка с парой ресторанов и магазинов, но за перекрестком фонари начинают редеть, погружая в темноту длинные участки заросших травой тротуаров и покрытые выбоинами дороги. Мы пытаемся по памяти восстановить маршрут к промышленному объекту, мимо которого проезжали на автобусе. По дороге я сталкиваюсь с первым неожиданным зрелищем – бродячие собаки. Мы идем всего десять минут, и навстречу нам уже попались две или три – не обращая на нас никакого внимания, они беспечно совершали ночную прогулку. Может, для кого-то в этом нет ничего необычного, но на севере Шотландии бродячая собака – это не то, что первым делом увидишь на улице. Вид собак уравновешивается зрелищем, которого я ожидал, – «Лада Рива», ставшая известным на весь мир символом советских машин.
Центральное белое здание промышленного объекта – нечто вроде зернового элеватора, оно состоит из двух групп по двенадцать одинаковых башен, разделенных посередине высоким строением, и еще двух огромных башен – по одной на каждом конце, – и все они соединены горизонтальной, хлипкой с виду галереей. Мы с Давидом делаем снимки, спрятавшись под деревом, стараясь не попасть в поле зрения человека в бывшем армейском грузовике, что стоит напротив. Надолго мы там не задерживаемся – лишь проходим немного дальше, фотографируем котельную этого объекта и отправляемся в гостиницу спать.
Музей ракетных войск стратегического назначения раньше был секретной советской базой с ракетами шахтного базирования SS-24 «Скальпель»[103]. Среди двух тысяч других любопытных экспонатов – 35-метровая, внушавшая страх SS-18 «Сатана»[104], самая мощная в мире межконтинентальная баллистическая ракета с зарядом 20 мегатонн и площадью поражения 800 квадратных миль (2000 кв. км). Для сравнения: бомба, сброшенная на Хиросиму, обладала мощностью «всего» 16 килотонн. После распада Советского Союза все украинские ракетные базы в рамках советско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) были демонтированы. Осталась только эта – ее превратили в музей. На базе очень интересно: у меня есть возможность как следует осмотреть командный пункт глубиной в двенадцать этажей, расположенный в сорокаметровой шахте, заснять кучу экзотического военного транспорта и своими глазами увидеть впечатляющие образцы ракетной технологии, – но все время идет дождь, и потом, это все же не то, ради чего мы проделали такой путь до Украины. Нам не терпится попасть в Чернобыль[105].
Мы покидаем музей в полтретьего и десять часов тащимся в автобусе до Славутича, города, который на ближайшие несколько дней станет базовым лагерем нашей операции. За окном понемногу темнеет, и я разгоняю скуку, снимая световые шлейфы проносящихся мимо машин. Остальные члены группы тоже устали от скуки, и вскоре почти весь автобус занимается тем же, чем и я. Мы проезжаем через Киев, но из автобуса почти ничего не видно, кроме бесформенных, мокнущих под дождем силуэтов и огромного, освещенного прожекторами 102-метрового памятника «Родина-мать», несущего дозор на самом высоком киевском холме. За городской чертой – абсолютно прямая разбитая дорога, окруженная кромешной тьмой. Нет никаких фонарей, машины навстречу попадаются лишь изредка; в тусклом свете фар нашего автобуса я вижу лишь призрачный коридор деревьев. Чтобы хоть чем-то себя занять, я рассказываю Дэнни, Кейти и Давиду, что именно случилось в Чернобыле. В какой-то момент вдруг показалось, что наш автобус загорелся. Переполошились все, кроме водителя. Мы слышим запах гари, видим дым в кабине, а ему хоть бы что, ведет себе автобус как ни в чем не бывало. Я оценил невозмутимость украинцев.
Так проходит десять лишенных жизни нескончаемых часов, и вот мы въезжаем в Славутич. Строительство города в пятидесяти километрах к востоку от Чернобыля началось в 1986 году, вскоре после аварии, чтобы переселить туда чернобыльских работников и их семьи из ставшей непригодной для жизни Припяти. Славутич – древнее славянское название протекающего рядом Днепра. В городе живет 25 тысяч человек, их социально-экономическое положение сильно зависит от станции и других объектов в чернобыльской зоне, поскольку многие там работали, а то и продолжают работать. Город проектировали архитекторы, приглашенные из восьми разных советских республик, и в результате он как бы разделен на восемь разных частей, у каждой – свой архитектурный стиль и свой колорит. Славутич выглядит очень современным в сравнении с другими украинскими городами, но, с тех пор как в декабре 2000 года заглушили последний реактор, здесь сильно вырос уровень безработицы: работу имеют лишь три тысячи горожан.
Нам сказали разбиться на группы для расселения, и мы с друзьями выбираем себе квартиру с четырьмя спальнями, чтобы жить вместе. Автобус ползает по Славутичу, время от времени высаживая группы, пока не настает и наша очередь. Мы выходим у пятиэтажного дома, где нас ожидает невысокая, пухленькая темноволосая женщина лет сорока. Она жестами зовет нас за собой, и мы поднимаемся на верхний этаж в пятикомнатную квартиру – ее собственную! Поляк Давид чуть-чуть понимает украинский и объясняет, что она сдает жилье, чтобы хоть немного подзаработать, а сама с детьми пока поживет у матери на той же лестничной площадке. Это симпатичная небольшая квартира, в ней тепло и уютно, по стенам – семейные фотографии, а в спальнях – мягкие игрушки; тут куда удобнее и по-домашнему, чем в любой гостинице. Я чувствую вину за то, что мы сюда заселяемся, но стараюсь утешать себя тем, что все стороны от этого только выиграют. Мы располагаемся, пьем по нескольку чашек вкусного чая, которым нас угощает хозяйка, немного болтаем, но вскоре разбредаемся по комнатам в предвкушении предстоящих дней.
Глава 4 Авария
26 апреля 1986 года в начале второго ночи на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС должны были начаться испытания. Последовавшие события обернулись самой масштабной в истории ядерной катастрофой. В ту ночную смену на станции работало 176 человек персонала плюс 286 строителей, занимавшихся монтажом пятого энергоблока в нескольких сотнях метров к юго-востоку от четвертого. Операторы, дежурившие на щите управления вместе со специалистом из института «Донтехэнерго», проектировавшего турбины для ЧАЭС, тестировали дополнительный аварийный режим турбогенератора, который должен был обеспечить автономное электроснабжение блока в течение одной минуты в случае полного отключения других источников.
Одна из главных проблем ядерного реактора – особенно РБМК, где в качестве замедлителя используется графит, – необходимость постоянной подачи охлаждающей воды в активную зону, иначе – взрыв или расплавление. Даже если реактор заглушен, его топливо все равно будет выделять остаточное тепло, которое без охлаждения может разрушить активную зону. Насосы охлаждающей воды работают на электричестве, которое вырабатывают турбогенераторы самой станции, а в случае остановки генераторов питание пойдет от внешней сети. Если же и эта схема вдруг перестанет работать, автоматически включатся дизель-генераторы, но, чтобы они достигли производительности, достаточной для питания мощных насосов, потребуется порядка пятидесяти секунд. На блоке было шесть аварийных цистерн с 250 тоннами воды, которая начала бы поступать в активную зону уже через три с половиной секунды, хотя реактору РБМК нужно 37 тысяч тонн воды в час, то есть 10 тонн в секунду, поэтому на 50 секунд этих 250 тонн бы не хватило[106].
Еще один термин, который нужно знать, – режим выбега ротора турбогенератора[107]. При отключении электропитания тепловыделение не остановится, а вода еще какое-то время будет продолжать двигаться по трубам, то есть выработка пара прекратится не сразу. Турбины, в свою очередь, за счет этого пара будут генерировать электричество, хотя и с убывающими по экспоненте параметрами. Это остаточное электричество можно использовать для питания насосов в течение тех самых жизненно важных секунд, необходимых дизель-генераторам, чтобы выйти на нужную мощность. Работу механических узлов, задействованных в этом процессе, и собирались испытывать.
В официальных советских докладах утверждалось, что цель эксперимента состояла в проверке принципиально новой аварийной системы, но на самом деле выбег ротора турбогенератора – составная часть требований, заложенных в проект РБМК, и как функционирует этот режим, должны были проверить еще три года назад – при сдаче энергоблока в эксплуатацию. Тогда, ради отчета о досрочном выполнении плана, руководитель ЧАЭС Виктор Брюханов вместе с представителями разных министерств, участвовавших в строительстве и эксплуатации станции, заверил акт об испытаниях, которые еще не проводились; при этом как бы подразумевалось неписаное обещание завершить работы позднее. Сегодня это кажется безответственной авантюрой, но в то время было самой обычной в Советском Союзе практикой, поскольку выполнившие план досрочно получали разного рода награды и премии. Механические узлы требовали точной калибровки и настройки, и на третьем энергоблоке подобные испытания на тот момент проводились уже трижды – в 1982, 1984 и 1985 годах. Все три раза они завершились неудачей, поэтому инженеры внесли некоторые изменения в конструкцию регуляторов напряжения, и доработанное оборудование требовало новых испытаний. Сначала их планировали проводить во второй половине дня 25 апреля, но диспетчер «Киевэнерго» попросил главного инженера Николая Фомина отложить начало до того, как будет пройден вечерний пик потребления электроэнергии[108]. Специалисты дневной смены были хорошо подготовлены к испытаниям и знали, что делать, но после работы они разошлись по домам. Наступила вечерняя смена, но и она закончилась, и ответственность за начало испытаний легла на ночной персонал, не имевший достаточного опыта в проведении таких работ, не подготовленный к ним и не ожидавший, что сегодня они будут этим заниматься.
Ситуация усугублялась тем, что четвертый энергоблок был на последнем этапе топливного цикла. Одна из особенностей конструкции РБМК – возможность заменять топливо в рабочем режиме, то есть не заглушая реактор. Поскольку сжигание ядерного топлива в активной зоне происходит неравномерно, в реакторе может одновременно находиться и свежее топливо, и старое, которое обычно полностью заменяют каждые два года. 26 апреля 75 % топлива в реакторе четвертого блока почти отработало свой срок[109]. К тому моменту в нем накопилось много высокорадиоактивных продуктов ядерного распада, а это значит, что малейший сбой в подаче охлаждающей воды мог сразу же привести к повреждению старых топливных каналов и росту тепловыделения до уровней, на которые реактор не рассчитан. Предполагалось, что сразу после испытаний четвертый блок заглушат и поставят на плановое техобслуживание, включая выгрузку отработавшего топлива. Куда разумнее было бы проводить испытания на свежем топливе, но руководство решило не ждать.
План включал в себя частичное погружение всех 211 стержней в активную зону, что позволило бы снизить мощность и сымитировать отключение электропитания, при этом продолжая охлаждать реактор, чтобы компенсировать тепловыделение продуктов распада. Сначала использовать остаточный пар, а потом остановить подачу пара на турбину и дать ей «выбежать», вращаясь по инерции и продолжая генерировать электричество. Замеры позволили бы инженерам понять, хватит ли этой электроэнергии для аварийного питания насосов. Поскольку управляющий компьютер счел бы, что снижение мощности реактора произошло из-за перебоев в питании, и активировал бы системы безопасности, их – в том числе дизель-генераторы и системы аварийного охлаждения реактора (САОР) – отключили, чтобы в случае неудачи сразу провести повторный тест. В противном случае САОР автоматически заглушили бы реактор, и новые испытания пришлось бы отложить еще на год. Самое поразительное в том, что эти меры не противоречили инструкциям по безопасности – хотя в последующих докладах многократно заявлялось обратное, – и поэтому заместитель главного инженера их утвердил[110]. Помогли бы САОР предотвратить катастрофу или нет – можно, конечно, обсуждать, но решение их отключить в любом случае было идиотским. Виктор Брюханов и утвердивший отключение систем Николай Фомин поплатились за него десятью годами тюрьмы и исключением из КПСС[111]. А огромное число других людей заплатило за него своим здоровьем и жизнями.
Все пошло не так с самого начала. Программа испытаний, которую дали ночной смене, изобиловала пояснениями и внесенными от руки исправлениями. Ужас охватывает, когда читаешь, например, фрагмент записи телефонного разговора между операторами: «“Тут в программе написано, что делать, а потом зачеркнуто многое, как быть?” Его собеседник немножко подумал и говорит: “А ты действуй по зачеркнутому”»[112]. В 00:28 при снижении мощности до необходимого для испытаний уровня – этот процесс должен был занять примерно час, – старший инженер управления реактором Леонид Топтунов переключился по ошибке с ручного режима управления на автоматический, и в результате стержни погрузились гораздо ниже, чем планировалось[113]. Топтунов пришел на эту должность всего пару месяцев назад, и за время работы ему еще не доводилось снижать мощность реактора[114]. Возможно, у него сдали нервы. Мощность реактора – вместо запланированных на время испытаний 1500 МВт (тепловых) – упала до 30 МВт. (У реактора тепловая мощность, а у турбогенератора – электрическая. В процессе преобразования кинетической энергии пара в электроэнергию часть энергии теряется, поэтому тепловая мощность всегда выше.) Следует отметить, что на «чернобыльских» судебных заседаниях утверждалось, будто мощность упала до нуля, и специально оговаривалось, что цифра «30 МВт» ошибочна, хотя во всех остальных известных мне источниках указывается именно 30 МВт[115]. Но как бы то ни было, 30 МВт – это практически полная остановка, поскольку этой энергии не хватит даже для запуска водяных насосов. При таком низком уровне мощности начинается процесс под названием «отравление реактора», в результате которого накапливается короткоживущий изотоп ксенона Xe-135, который существенно тормозит ядерную реакцию, так что сами испытания, казалось бы, завершились не начавшись. Не случись столь сильного падения мощности, испытания могли пройти без дальнейших проблем, и опасные недостатки РБМК так бы и не вскрылись. Однако руководивший испытаниями заместитель главного инженера, 55-летний Анатолий Дятлов, остановиться не захотел.
Дятлов родился в сибирской глубинке в бедной семье. Исполненный решимости достичь в жизни больше, чем удалось его родителям, он много и упорно работал над собой; это был эрудированный юноша, всего добившийся самостоятельно. В 1959 году он с отличием окончил Московский инженерно-физический институт. До 1973 года, когда его перевели в Чернобыль, он работал на Дальнем Востоке, участвовал в снаряжении подводных лодок небольшими реакторами ВВЭР[116]. Подчиненные в глубине души недолюбливали его за вспыльчивый нрав, нетерпимость к ошибкам и злопамятность[117]. Когда днем 25 апреля испытания отложили, присутствовавший там Дятлов вышел из себя[118]. А затем, уже ночью, вместо того чтобы смириться с неудачей, он, по воспоминаниям, разъярился и стал с руганью носиться по залу щита управления. Он не хотел тратить время на новые испытания, ставить под удар свою репутацию и приказал операторам вновь выводить реактор на мощность. Продолжение эксперимента после столь серьезного падения мощности привело к достаточной для взрыва потере устойчивости реактора, и на Дятлове лежит вся ответственность за это необратимое решение[119]. Его поведение можно отчасти объяснить тем, что никто из операторов на советских АЭС не знал о предыдущих авариях, хотя таких аварий было достаточно. Власти держали в секрете информацию о катастрофах и гибели людей, заверяя общественность, что лучшая в мире советская технология безотказна. Операторы считали, что разрыв пары водяных труб – худшее, что может случиться с РБМК, а вероятность взрыва смехотворна.
Топтунов счел решение Дятлова противоречащим инструкциям безопасности, поэтому сперва подчиниться отказался. Его поддержал начальник смены блока Александр Акимов[120]. Как и большинство других руководящих сотрудников станции, Акимов был родом из России. Он родился 6 мая 1953 года в Новосибирске, третьем по величине российском городе, в 1976 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов». На Чернобыльской АЭС работал с 1979 года, специализируясь на турбинах[121].
Рассвирепевший Дятлов заявил, что, если они не займутся делом, он найдет других. Акимов и относительно неопытный Топтунов – ему было всего 26 лет – в конце концов уступили, и испытания продолжились. Тут нужно напомнить, что должность оператора ядерной станции считалась весьма престижной, имела свои приятные бонусы, и рисковать ею никто не хотел. К тому же очень может быть, что именно Дятлов был самым опытным ядерщиком на станции. Даже главный инженер Фомин имел специальность электрика и – как и Брюханов – турбиниста. Дятлова хоть и не любили, но уважали за знания.
К 01:00, когда с начала испытаний прошло уже больше получаса, Акимов и Топтунов подняли половину стержней из активной зоны и довели мощность до 200 МВт, но максимум, который удалось выжать, даже не приближался к требуемым 700 МВт. Ксеноновое отравление уже сделало свое дело: реактивность топлива значительно упала. Российские нормы безопасности с тех пор сильно изменились, и, согласно современным требованиям, 700 МВт – минимальный уровень мощности реактора РБМК при эксплуатации в штатном режиме: более низкие значения ведут к термогидравлической неустойчивости. Понимая, что 200 МВт – слишком мало для испытаний, Акимов и Топтунов отключили автоматику и продолжили извлечение стержней в ручном режиме, чтобы скомпенсировать отравление[122]. Одновременно они включили все восемь главных циркуляционных насосов, доведя подачу охлаждающей воды в активную зону примерно до 69 тысяч тонн в час[123]. Это было очередным нарушением норм безопасности, поскольку слишком большой объем воды приводит к кавитации в трубах. Чем сильнее охлаждение, тем ниже реактивность и выработка пара, поэтому скорость вращения турбин вскоре стала падать. Чтобы справиться с высокой отрицательной реактивностью, возникшей из-за дополнительной подачи воды, операторы вывели из активной зоны большую часть из еще остававшихся там стержней управления; в итоге суммарный эффект стержней в активной зоне соответствовал восьми полностью погруженным[124]. Нормы безопасности предписывали, что абсолютный минимум – пятнадцать стержней в активной зоне; в сегодняшних инструкциях говорится, что их должно быть не меньше тридцати[125].
В нормальных обстоятельствах автоматика уже несколько раз заглушила бы реактор. Топтунов и его коллеги сохраняли спокойствие, но показания приборов их все же тревожили. «Перед испытаниями на щите управления было неспокойно, – рассказывал на суде замначальника турбинного цеха Разим Давлетбаев. – Дятлов говорил Акимову: “Чего вы тянете?”»[126] Я никак не могу понять, почему Дятлов во что бы то ни стало хотел продолжить испытания. Реактор был явно неустойчив, мощность даже близко не соответствовала необходимым для эксперимента параметрам – то есть независимо от развития ситуации получить полезные данные все равно бы не удалось. Смирись Дятлов с бессмысленностью попыток, его подчиненные смогли бы заглушить реактор. Но он не пожелал, и испытания начались.
Мне неведомо, из каких соображений исходил Дятлов, но давление сверху на него явно оказывали. Этот эксперимент уже столько раз проваливался, что Брюханову и членам советской Академии наук уже не терпелось завершить это дело. Не исключено, что Дятлову было наплевать на полезность результатов. Он просто хотел доложить, что испытания проведены. Разумеется, это досужие домыслы, но они помогают понять, как получилось, что абсолютно разумный человек повел себя столь неразумно.
В 01:23:04 турбогенератор № 8 отключили, и турбина начала выбег[127]. Операторы по-прежнему не подозревали, что их вот-вот ожидает, и спокойно обсуждали, что реактор пора глушить[128]. Картина дальнейших событий до конца не ясна. Дятлов позднее утверждал, что испытания проходили нормально и без каких бы то ни было проблем и что кнопку аварийной защиты (АЗ-5) нажали просто для запланированной на конец испытаний заглушки реактора. Другие свидетели вспоминают, что услышали крики и что Акимов нажал на кнопку, когда Топтунов увидел на щите управления данные приборов, указывающие на серьезную проблему. По мере замедления турбины реактивность слегка повысилась, но, согласно некоторым позднейшим заключениям и расчетам, до нажатия кнопки ничего странного не происходило, и для тех условий показания приборов были в норме. В одном из таких заключений, которые приведены в докладе МАГАТЭ, говорится, что «для объяснения аварии в дополнение к неблагоприятному толчку реактивности, наносимому стержнями СУЗ, необходимо одновременное проявление еще каких-либо факторов: кавитация ГЦН, попадание неравновесного пара на вход активной зоны, опережающее сигнал АЗ отключение выбегающих ГЦН, вскипание теплоносителя на входе в реактор, частичные нарушения герметичности нижних водяных каналов, кратковременное открытие паровых предохранителей каналов».
Как бы то ни было, 26 апреля 1986 года в 01:23:40 тридцатидвухлетний Александр Акимов принял роковое решение и объявил, что нажимает кнопку АЗ-5 для аварийной остановки реактора – то есть для медленного погружения всех стержней в активную зону[129]. Это решение изменило ход истории. Акимов считал, что у него нет иного выбора – как и возможности управлять реактором, когда почти все 211 стержней выведены из активной зоны[130]. Если Топтунов и правда что-то ему кричал, он тем более мог считать останов реактора единственным выходом, учитывая, сколько аварийных систем было отключено. Но, увы, выбор оказался худшим из возможных. Несколько секунд спустя стержни перестали перемещаться.
В главных циркуляционных насосах началась кавитация, они стали наполняться паром, снижая подачу бесценной охлаждающей воды, что привело к образованию в активной зоне паровых пустот (полостей, заполненных паром). А положительный пустотный коэффициент реактивности означает экспоненциальный рост мощности в отсутствие охлаждающей воды. Проще говоря: больше пара = меньше воды = больше мощность = больше тепла = больше пара. Поскольку четыре из восьми насосов приводились в действие турбогенератором, снижающим обороты, подача воды стала падать, а мощность реактора – расти. По всему зданию слышался стук, идущий из реакторного зала. По приборам Акимов увидел, что стержни продвинулись от верхней позиции лишь на два с половиной метра и намертво встали. Он не мешкая обесточил муфты сервоприводов, чтобы тяжелые стержни упали в активную зону под действием собственного веса. Но этого не произошло – стержни заклинило. «Я думал, у меня сейчас глаза вылезут из орбит. Этому не было никаких объяснений, – вспоминал Дятлов шесть лет спустя. – Стало ясно, что это не просто авария, а что-то более ужасное. Это катастрофа»[131],[132].
Акимов тоже не мог понять, что происходит. Как и все остальные операторы на щите управления, он не знал о губительном роковом дефекте в конструкции реактора – так называемом концевом эффекте. Секция длиной примерно пять метров в стержнях управления состоит из карбида бора, который поглощает нейтроны и тормозит реакцию, в то время как концевики заполнены графитом, тем самым материалом, который увеличивает реактивность и используется в активной зоне РБМК в качестве замедлителя. А между карбидом бора и графитом – полые зоны. Функция графитовой секции – вытеснять воду (которая тоже является замедлителем, хоть и слабее графита) из канала на пути стержня, тем самым повышая гасящий эффект борной части[133]. В тот момент, когда графитовые концевики начали входить в реактор, в нижней части активной зоны произошел скачок положительной реактивности, приведший к огромному росту тепловыделения и парообразования. Это тепло частично разрушило топливные сборки, приведя к деформации каналов, в результате чего стержни заклинило. Когда стержень управления полностью опущен, концевик выходит за пределы активной зоны, но в той ситуации все 200 с лишним стержней застряли на середине.
При создании первого РБМК конструкторы не знали об этом эффекте, но позднее, уже узнав о нем – как они сами впоследствии признались, – позабыли сообщить «по рассеянности»[134],[135]. Я не могу понять, как получилось, что столько людей проглядели столь очевидный конструктивный дефект. В голове не укладывается, что система, сама цель которой – остановить ядерную реакцию, увеличивает реактивность в самый что ни на есть аварийный момент (когда уже возникает необходимость жать на кнопку АЗ-5), поскольку на первой же стадии работы защиты в активную зону вводится замедлитель. Любому, кто хоть немного знаком с процессом деления ядра, должно быть ясно, что регулирующие стержни должны иметь иную конструкцию. Это на самом деле настолько очевидно, что я даже вынужден заподозрить некий серьезный пробел в своих инженерных познаниях, поскольку ни один разумный, здравомыслящий человек создать такую систему не может. Или же тут просто вопрос престижа (нельзя наносить урон репутации советской науки) и денег (корректировка проекта потребовала бы существенных финансовых вливаний и затянула бы ввод в эксплуатацию исключительно важного генерирующего источника).
За четыре секунды тепловая мощность реактора взлетела до уровней, в несколько раз превышающих расчетную. Высвободившаяся теплоэнергия и давление внутри активной зоны разрушили топливные каналы, а затем – водяные трубы, в результате чего автоматически закрылись предохранительные клапаны в насосах. Подача теплоносителя прекратилась, а скорость парообразования из-за снижения подачи воды в активную зону возросла. Сработали предохранительные клапаны реактора, но, не выдержав огромного давления пара, они тоже разрушились.
Примечательно, что в огромном реакторном зале четвертого энергоблока в тот момент находился человек, который наблюдал все это воочию, – начальник смены реакторного цеха Валерий Перевозченко[136]. Верхушка оболочки реактора – диск диаметром 15 метров, состоявший из 2000 отдельных металлических кубиков-колпачков, насаженных на предохранительные клапаны технологических каналов. И он вдруг увидел, как эти колпачки стали подпрыгивать. Он бросился вон из зала. Урановое топливо экспоненциально наращивало мощность, температура достигла 3000 °С, а давление пара росло со скоростью 15 атмосфер в секунду. В 01:23:58, всего через 18 секунд после того, как Акимов нажал кнопку АЗ-5, пар разорвал реактор четвертого чернобыльского энергоблока. Взрыв подбросил крышку реактора весом 450 тонн, которая затем рухнула вниз и встала поперек над бушующим жерлом. Активная зона оголилась[137].
Долю секунды спустя пар вместе с ворвавшимся внутрь воздухом вступили в реакцию с циркониевой оболочкой разрушенных тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), и образовавшаяся смесь водорода и кислорода вызвала второй, более мощный взрыв[138]. В атмосферу вылетело 50 тонн газообразного ядерного топлива, которое ядовитым облаком разнеслось потом по большей части Европы. Кроме того, на территорию площадью в несколько квадратных километров высыпалось 700 тонн радиоактивных обломков – большей частью графитовых – с периферии активной зоны. Обломки упали также на крыши машинного зала и третьего энергоблока, на вентиляционную трубу, общую для третьего и четвертого блоков, – и все эти конструкции охватило пламя. Огромная температура топлива в сочетании с хлынувшим через образовавшуюся дыру воздухом вызвала возгорание оставшегося в активной зоне графита, и начался кромешный ад, полыхавший несколько недель. В разрушенном здании энергоблока взрыв вынес все стекла, вывел из строя освещение и приборы, осталось лишь тусклое мерцание аварийных светильников[139].
«Раздался глухой тяжелый удар, – вспоминал инженер Саша Ювченко в интервью британской газете “Гардиан”. В 1986 году ему было всего двадцать четыре. – Через пару секунд я почувствовал, как через зал идет волна. Толстые бетонные стены стали прогибаться, как резиновые. Я думал, война. Мы кинулись искать Ходемчука, но он был у насосов, и его превратило в пар. Все вокруг обволокло паром – темнота и жуткое шипенье. Потолка не было, только небо, все в звездах». Ювченко выбежал на улицу посмотреть, что произошло. «Полблока исчезло, – говорит он. – Мы уже ничего не могли поделать»[140],[141]. Один человек погиб на месте – 35-летний оператор Валерий Ходемчук. К несчастью, он находился в уничтоженном взрывом машинном зале у главных циркуляционных насосов. Его тело так и не нашли, он погребен в здании четвертого энергоблока.
Замер уровня радиации – дело мудреное. Она измеряется в кюри, беккерелях, радах, бэрах, рентгенах, греях, зивертах и кулонах. В Чернобыле в 1986 году главной единицей измерения экспозиционной дозы радиации служил рентген. Сейчас рентген вышел из употребления, но я в книге буду пользоваться именно им, поскольку, во-первых, это проще, а во-вторых, почти во всех отчетах о чернобыльской аварии данные указаны в рентгенах. Мы с вами постоянно находимся под воздействием радиации из разных источников: самолеты, горные породы, некоторые продукты питания, солнце. Средний уровень фоновой радиации безвреден – 23 мкР/ч, или 0,00023 Р/ч. При рентгеновском снимке грудной клетки вы получаете 0,8 Р. Годовая норма, установленная американской Комиссией по ядерному регулированию для тех, кто работает на объектах, связанных с радиацией, соответствует 0,0028 Р/ч, а для остальной части общества – 0,1 Р/год. Для членов летных экипажей, поскольку они проводят много времени в верхних слоях атмосферы, слабее защищенных от солнечной радиации, чем земная поверхность, эта норма соответствует 0,3 Р/год[142]. Уровень радиации в реакторном зале четвертого энергоблока сразу после аварии составлял 30 000 Р/ч, это мгновенная смерть. 500 Р в течение 5 часов – смертельная доза. При 400 Р выживает лишь 50 % облучившихся. Если доза хотя бы приближается к этой цифре, вы, если повезет, несколько месяцев проведете в больнице, а если не повезет, на всю жизнь останетесь инвалидом. По объему и интенсивности излучения радиоактивные частицы, выброшенные той ночью в атмосферу, эквивалентны десяти хиросимским бомбам – и это не считая сотен тонн ядерного топлива и графита, покрывших местность вокруг станции.
Вернувшийся в зал щита управления Акимов пытался вызвать по телефону пожарных – которые, оперативно среагировав на происходящее, к тому времени уже сами ехали на станцию, – но связи не было[143]. Взрывом вырвало трубы для подачи теплоносителя в донную часть активной зоны. Операторы, увы, этого не поняли – или же боялись и мысли такой допустить, учитывая жуткие последствия, которые может повлечь за собой взрыв реактора, – и это продиктовало им неверную последовательность действий, из-за чего ситуация лишь усугубилась и стоила многих жизней. Заместитель главного инженера Дятлов пребывал в уверенности, что взорвался водород в аварийной водяной цистерне системы безопасности, а сам реактор – в целости и сохранности. Несмотря на то что оснований для такой уверенности не было ни малейших – а чтобы понять свою ошибку, достаточно было взглянуть в окно, – он во всех своих последующих действиях исходил именно из этого убеждения. Иначе трудно объяснить, как получилось, что умный и рациональный человек проигнорировал очевидное. Его версию пересказывали всем, кто интересовался (позднее она прозвучала и в докладе Брюханова на правительственном совещании в Москве), и ей полностью доверяли в течение всего того дня. Любопытно отметить, что Дятлов, уже признав, что поначалу ошибочно винил во взрыве водород в водяной цистерне, позднее сказал: «Не знаю, откуда [Брюханов] это взял [что реактор не разрушен]. Он меня не спрашивал, цел реактор или нет, – а сам я не мог ничего сказать, меня тошнило. От моих внутренностей тогда уже ничего не осталось»[144],[145]. Ложь? Забывчивость? Не знаю. Это противоречие, которое я не могу объяснить.
Все присутствовавшие на щите управления были в шоке и недоумевали – они были уверены, что в данных обстоятельствах все сделали правильно. Акимов, которого Дятлов убедил, что реактор можно спасти, попытался запустить дизель-генераторы и увидел, как его начальник отправляет двух молодых стажеров, Виктора Проскурякова и Александра Кудрявцева, в реакторный зал опустить стержни вручную. Он послал их на смерть. Дятлов раскаивался потом всю жизнь. «Когда они выбежали в коридор, я понял, что это глупость. Если стержни не опустились ни с помощью электроприводов, ни под силой тяжести, то вручную это тем более бесполезно. Я бросился за ними, но они уже исчезли», – рассказывал он за несколько лет до своей смерти[146]. Мимо разрушенных помещений и лифтов стажеры дошли до огромного реакторного зала и, ошеломленные зрелищем, оставались там не больше минуты, но этого хватило. Они скончались через пару недель. Покрытые темно-коричневым загаром от полученной дозы, они вернулись к щиту управления и доложили, что реактора больше попросту нет. Дятлов отказывался верить, настаивал, что они ошибаются и реактор цел и невредим, что взорвалась смесь водорода и кислорода в цистерне с аварийной водой. В активную зону нужно подавать воду!
Дежурные специалисты – в особенности Дятлов – наглядно продемонстрировали явные признаки так называемого группового мышления, о котором нередко говорят в контексте антропогенных катастроф. При групповом мышлении «конформизм или желание социальной гармонии в группе людей приводят к некорректному или нерациональному принятию решений». Психолог Джеймс Ризон считает групповое мышление одним из определяющих факторов для поведения операторов в четвертом энергоблоке. «Их действия явно указывают на иллюзию неуязвимости. Похоже, их разум отметал все тревожные сигналы, которые могли указывать на то, что они ведут себя опасно»[147]. Ризон имеет в виду последний час перед взрывом, но его слова подходят и к дальнейшим событиям.
Валерий Перевозченко – тридцативосьмилетний начальник смены, увидевший «танец» колпачков над реактором, – был первым из руководящего звена, кто понял и осознал, что происходит. Он схватил радиометр, рассчитанный на излучение до 1000 микрорентген (а это гораздо выше, чем нормальная величина). Прибор зашкалил. В голове не укладывается, но на станции не нашлось радиометров для замера более высокой радиации – если не считать двух приборов, один из которых засыпало взрывом, другой лежал в запертом сейфе, – а все датчики в здании сгорели[148]. Даже стандартное оборудование оказалось в запертых или недоступных местах[149]. Перевозченко навскидку оценил уровень радиации как 5 Р/ч. Это даже близко не соответствовало действительности. Он взял инициативу в свои руки и отправил двух коллег на поиски пропавших людей. Вместе им удалось найти и вытащить из-под упавшей балки лежащего без сознания Владимира Шашенка. Взрыв уничтожил помещение, где Шашенок, молодой инженер-наладчик систем автоматики, проверял индикаторы давления; Владимир получил глубокие тепловые и радиационные ожоги по всему телу. Отважные спасатели тоже не обошлись без серьезных радиационных повреждений. Так, у одного из спасателей оказался радиационный ожог на спине – там, где лежала рука Шашенка, пока того несли. Оба спасателя чудесным образом остались живы, хотя один получил дозу, значительно превышающую смертельную. Владимир Шашенок, отец двоих детей, за четыре дня до аварии отметивший тридцатипятилетие, четыре с половиной часа спустя скончался от полученных травм в больнице, так и не придя в сознание. В первый день аварии погибло двое, и Шашенок стал вторым. Когда его увидела жена, зрелище повергло ее в шок: «Это был не мой муж, а сплошной распухший волдырь»[150],[151].
Перевозченко в поисках Ходемчука – который к тому времени был уже мертв – пробирался в темноте сквозь завалы, разгребая голыми руками куски топлива и графита, не жалея сил ради спасения друга. Но видел Перевозченко лишь обломки да покореженный металл и, свыкшись после изнурительных поисков с мыслью, что Ходемчука уже не найти, вернулся назад в четвертый блок. Начали сказываться результаты сильного облучения: по дороге к щиту управления его то и дело рвало, он впадал в бессознательное состояние. Оказавшись наконец на месте, он сообщил Дятлову, что реактор уничтожен, но тот не стал слушать. Ведь операторы уже включили подачу воды в активную зону.
Повсюду – радиоактивные обломки топлива и графита. Часть кровли рухнула в машинный зал, вызвав возгорание турбогенератора № 7 и повредив масляную трубу, отчего пламя усилилось и перекинулось на крышу зала. Летящие вниз обломки разбили фланец питательного насоса, из которого теперь хлестал радиоактивный кипяток[152]. Люди беспорядочно метались среди кусков уранового топлива, изо всех сил стараясь сдержать пламя, изолировать электрооборудование, вручную открыть маслоотводные и водяные клапаны. Многие из этих отважных людей потом умрут, так и не узнав, что в тот момент вокруг них валялось ядерное топливо. Акимов и Топтунов оставались на станции даже утром, после окончания смены, не прекращая отчаянных попыток спасти ситуацию. Они решили, что подаче воды в реактор мешают закрытые где-то на трубопроводе задвижки, и вместе отправились в полуразрушенное помещение питательного узла, где им удалось вручную приоткрыть клапаны на двух нитках трубопровода. Потом они перешли в соседнее помещение и там, стоя по колено в радиоактивной смеси топлива и воды, продолжили открывать задвижки, пока радиация не высосала из них последние силы. Их эвакуировали в припятскую медсанчасть[153]. Но их благородные усилия оказались тщетными. Трубопроводы были разрушены вместе с реактором. Они открывали клапаны на трубах, ведущих в никуда, а операторы на щите управления продолжали направлять воду в реактор еще шесть часов после взрыва.
Сотрудники Чернобыльской АЭС в ту ночь показали себя истинными героями в подлинном смысле этого слова. Они не бросились спасаться бегством, хотя имели для этого все возможности. Вместо этого они самоотверженно остались на посту – заменяли в генераторах водород азотом, чтобы избежать взрыва, сливали масло из поврежденной турбины в аварийные емкости снаружи энергоблока, наполняли маслобаки водой. Не сделай они всего этого, пожар охватил бы весь 600-метровый машинный зал и, скорее всего, рухнула бы оставшаяся часть кровли. Пламя переметнулось бы на первый, второй и третий энергоблоки, а это могло привести к разрушению всех реакторов.
Хотелось бы, если позволите, привести целый абзац из книги Григория Медведева «Чернобыльская тетрадь», который ярко иллюстрирует проявленную в ту ночь доблесть. «Александр Григорьевич Лелеченко, оберегая молодых электриков от лишних хождений в зону высокой радиации, сам трижды ходил в электролизерную, чтобы отключить подачу водорода к аварийным генераторам. Если учесть, что электролизерная находилась рядом с завалом, всюду обломки топлива и реакторного графита, активность достигала от 5 до 15 тысяч рентген в час, можно представить, насколько высоконравственным и героическим был этот пятидесятилетний человек, сознательно прикрывший собой молодые жизни. А потом по колено в высокоактивной воде изучал состояние распредустройств, пытаясь подать напряжение на питательные насосы… Общая экспозиционная доза, им полученная, составила 2500 рад [2851 рентген], этого хватило бы на пять смертей. Но, получив в припятской медсанчасти первую помощь (ему влили в вену физраствор), Лелеченко сбежал на блок и работал там еще несколько часов». Это лишь один пример подвига одного человека. А было их бессчетное число. И больше всего угнетает, что действия, предпринятые ради спасения реактора, лишь усугубляли ситуацию. Эти люди жертвовали своими жизнями впустую.
Уже вернувшись на станцию – невозможно постичь, откуда только у него взялось столько сил, – Лелеченко всех убеждал, что он в порядке, и отказывался ехать в больницу. Он почти не спал и все равно нашел в себе достаточно энергии, чтобы с утра отправиться на работу, объяснив жене: «Ты не представляешь, что там творится. Надо спасать станцию»[154]. Лелеченко умер в киевской больнице через две недели, 7 мая, и стал третьей жертвой Чернобыля. Его состояние было столь тяжелым, что он не перенес бы транспортировку в самолете в московскую специализированную клинику для пострадавших от радиации. За свое мужество Лелеченко был посмертно удостоен ордена Ленина, высшей советской награды[155].
Глава 5 Прибытие
Всего пять часов сна, а писк будильника уже вытаскивает меня из дремы, и мне не терпится тотчас приняться за дело. После долгих лет ожидания и бесчисленных часов, проведенных за изучением каждого аспекта аварии, сегодня наконец наступил день, когда я увижу Чернобыль собственными глазами. Заспанные, но готовые к старту, мы вчетвером проходим пару кварталов до кафе, где у нас завтрак с остальной группой. Сразу видно, что Славутич ярче и современнее других украинских городов, которые мы видели вчера. Здесь, конечно, тоже есть узнаваемая советская архитектура, но все же на вид он не такой устаревший, более уверенный и знающий себе цену. Возможно, потому, что город возводили, когда Советский Союз уже разваливался. Улицы широки и опрятны, вдоль дорог и на каждом свободном пятачке между зданиями растут сосны. Он даже в чем-то слишком идилличен, слишком чист – чувствуется, что народу тут живет меньше, чем могло бы.
Кафе стоит на северо-восточном углу главной городской площади. Это белое, бетонное, ничем не выделяющееся среди прочих здание, в нем нет окон, через которые можно заглянуть внутрь, и мы поначалу даже не уверены, туда ли пришли. Шагнув в дверь без какой-либо вывески, мы обнаруживаем небольшой вестибюль с облицованным мраморной плиткой полом и лестницей в конце – ни людей, ни мебели – и идем наверх, где наконец видим знакомые лица. Я пристраиваю свое снаряжение в общую кучу сумок у лестницы, занимаю место и осматриваюсь. Довольно сюрреалистическое место для завтрака. Просторный зал декорирован красной и белой тканью, драпировка стульев и другие детали интерьера уместны скорее для свадебного банкета, чем для легкого завтрака усталых иностранных туристов, приехавших посмотреть место ядерной катастрофы. Здесь, наверное, проводятся важные городские мероприятия. За стойкой четыре девушки лет двадцати в однотонных блузках и юбках подают кофе и чай под бдительным оком невысокой пышной женщины чуть за пятьдесят. Натянутой улыбкой и начальственным видом она напоминает босса мафии.
Я до отказа набил живот курицей, помидорами и огурцами (все без исключения наши приемы пищи в Украине будут состоять из этих трех компонентов), выхлебал столько чая, сколько позволили время и мочевой пузырь; мы берем сумки и отправляемся на вокзал. Стоит промозглое пасмурное утро, ни намека на тепло, но нам везет: те десять минут, что мы идем к вокзалу, приходятся как раз на краткий разрыв между тучами. Я наблюдаю, как с разных сторон материализуются местные жители, и все до единого молча шагают по главной улице в одном направлении с нами.
Железнодорожная ветка, что-то вроде артерии из сердца-Чернобыля, дает Славутичу жизнь. Без нее лишь немногие из трех тысяч человек, которые по-прежнему поддерживают станцию и изучают Зону, смогли бы выполнять свою работу. Прямой автотрассы для машин или автобусов нет, а летать навряд ли кто-то умеет, так что электричка – практически единственный вид транспорта. Если бы Чернобыль полностью закрыли, думаю, большинство жителей этого стоящего на отшибе городка – если не все – уехали бы отсюда. Это грустно осознавать, но еще грустнее то, насколько распространены среди местного населения заболевания, связанные с радиацией. До приезда я и понятия не имел, что на станции до сих пор работает столько народу. Даже после такой катастрофы и в таких условиях люди зависят от АЭС как от источника средств к существованию, и это заставляет по-новому оценить собственные обстоятельства, взглянуть на них под иным углом.
Мы проходим через небольшой, но оживленный привокзальный рынок и поднимаемся по растрескавшимся бетонным ступенькам на ближайшую из четырех платформ. Остальные три безлюдны. За самой дальней платформой – несколько длинных белых двухэтажных (вероятно, офисных) зданий; гофрированные металлические крыши делают их похожими на перепрофилированные сараи. В темных окнах не видно ни души. До электрички остается несколько минут, и платформа заполняется. Я единственный из группы достаю камеру и начинаю снимать, стремясь запечатлеть все, что вижу, но, заметив через видоискатель взгляды горожан, быстро прекращаю это занятие. Они не рады, что их фотографируют. По правде говоря, они вообще нам не рады.
К платформе, тарахтя, подъезжает старый добрый, украшенный спереди бирюзовыми и красными полосами серый электровоз, волоча за собой остальной состав. Автоматически срабатывает привычка бросаться на свободные места, выработанная годами, когда мне приходилось ездить на работу в пригородном поезде, и я проскальзываю в ближайшую дверь, чтобы поскорее занять место. Сидящие в вагоне пассажиры не особо стараются скрыть, что мое соседство будет им неприятно, поэтому я останавливаю выбор на незанятой скамейке у входа спиной к двери. Мы вчетвером, теснясь, усаживаемся, и только тут я понимаю, что наша группа, хоть и сидит в разных вагонах, но занимает сидячих мест в общей сложности на целый вагон, а здешние претенденты на места вынуждены из-за этого стоять. Хоть я и не владею языком, но слышу в их интонациях законное недовольство. Подозреваю, они видят во мне человека, ненадолго оторвавшегося от благополучной жизни в современном доме и явившегося поглазеть на реальность, в которой они вынуждены существовать каждый божий день, и мне приходится признать, что они, вообще говоря, правы. Несмотря на весь свой искренний, даже страстный интерес к тому, что здесь произошло, – интерес, скорее всего, куда более глубокий, чем у моих спутников или даже у некоторых из тех, кто здесь работает, – я не могу отрицать, что живу побогаче здешних обитателей и в любой момент могу переехать куда захочу. Я помню грустные истории о людях, эвакуированных из Припяти, от которых все шарахались из-за иррационального страха перед радиацией, – многим из них пришлось вернуться в Зону. Во мне закипает чувство вины и стыда за свою бестактность. Никогда больше я не буду занимать их места.
Дух захватывает, когда электричка с грохотом подъезжает к Чернобылю. На первом отрезке маршрута мы проезжали пару ферм и несколько домиков, разбросанных между перелесками, пересекли Днепр и Припять и даже на пару минут сделали остановку у какой-то деревеньки. А вторая половина пути – сплошное болото до самого горизонта, вид просто невероятный. Рискую прослыть каким-то извращенцем, но в точности так мое воображение и рисовало пейзаж вокруг места ядерной катастрофы; я даже поймал себя на сожалении, что нет тумана. Само собой, Украина и Беларусь выглядят так же, как и в те времена, когда никто еще не мечтал даже об угольной энергетике – не говоря уже о ядерной, – но этот пейзаж все же очень вписывается в контекст. Сейчас осень, и природа вокруг ожидаемо тускнеет и отступает перед зимой, но я все равно удивлен такой монотонностью цвета и формы. Признаки жизни видны лишь в редких бледно-зеленых вкраплениях среди кустарника. Громко стуча колесами, мы проезжаем пятнадцать километров по соседней Беларуси, хотя здесь нет никаких пограничных ограждений или знаков.
Мой первый чернобыльский вид – пронзающая горизонт 75-метровая градирня, словно памятник опасности, – мне ее видно, пока электричка делает плавный поворот. Затем она исчезает из поля зрения, и мы начинаем двигаться прямо к станции. Напряжение среди моих спутников нарастает. Наш состав въезжает на вокзал, подстраивая двери вагонов к дверям закрытой платформы, и останавливается. Мы, не толкаясь, даем выйти ежедневным пассажирам. Я провожаю их взглядом, но вижу лишь, как они молча просачиваются через единственный выход на дальнем конце платформы. Куда теперь? Нам никто ничего не сказал. Что снаружи – не видно; холодные серые стены закрытого пространства сделаны из листового гофрированного металла, оно разделено пополам шеренгой толстых голубых колонн, подпирающих наклонную крышу. Судя по всему, сооружение планировалось как временное. От группы местных работников, материализовавшихся на платформе, отделяется наш проводник и окликает нас. С ним мы проходим к пятачку на перекрестке двух коридоров, где поджидают суровые, внушительного вида, стриженные под ежик мужчины в армейской форме. Двое молча наблюдают, а третий караулит стол, вооружившись канцелярским планшетом. Он неторопливо называет по списку наши имена и проверяет паспорта, а мы тем временем молимся про себя, чтобы весь этот путь не оказался напрасным. Спустя десять тревожных минут мы без всяких проблем получаем разрешение на проход, и нас толпой ведут в конец широкого низкого коридора, где продолжают тянуться гофрированные металлические стены, подсвеченные золотом флуоресцентных ламп.
Нашего проводника зовут доктор Марек Рабиньский. У него пышные седые усы, лысая голова и очки в толстой оправе – внешность как у хрестоматийного рассеянного гения, я сразу же проникаюсь к нему симпатией. Он руководит кафедрой физики и технологии плазмы в Институте ядерных исследований Анджея Солтана, выступает сооснователем Польского ядерного общества и считается экспертом по Чернобыльской аварии. Марек произносит пространный монолог по технике безопасности, а потом зачитывает сегодняшний маршрут, который мы и без того помним наизусть. Никто не собирается лезть на крыши и сигать оттуда вниз (при желании мы могли заняться этим дома), но, разумеется, он все равно обязан нас предупредить. Группа, и я том числе, проявляет нескрываемое растущее нетерпение: мы ворчим, переминаемся с ноги на ногу, каждые пару секунд меняем позу, озираемся по сторонам. Стоять без дела, когда ты уже у цели, доставляет почти физическую боль – это как любимый деликатес перед носом, который нельзя съесть. У нас так мало драгоценного времени. Преамбула тормозится еще и тем, что идет она через переводчика, поскольку Марек не говорит по-английски, и мне кажется, что мы стоим здесь, сгорая от нетерпения, уже не меньше получаса. И вот наконец выходим наружу.
Станция перестала быть силуэтом вдали, и я могу теперь с расстояния в несколько сотен метров разглядеть детали и цвета Саркофага. От выхода, где стою я, его частично скрывает огромный проржавевший рельсовый кран, но я, не обращая внимания на помеху, все равно снимаю, изо всех сил стараясь выбрать ракурс получше. Как и ожидалось, с бесцветного неба закапал дождь, так что я убираю камеру и вместе с другими залезаю в чудесный старый красно-белый автобус семидесятых годов. Именно такими автобусами после аварии эвакуировали людей. Нас будет сопровождать военный неопределенного звания – возможно, из младших офицеров. Сказать точнее трудно, поскольку знаки отличия скрыты под плащом. Он с бритой головой, немного ниже меня – метр семьдесят с лишним, – носит очки-«капельки», непрерывно жует резинку, и у него вязкий, как смола, выговор – настолько вязкий, что фонетически даже напоминает английский. Мне нравится его слушать, но, увы, он редко открывает рот – как и мрачный, морщинистый водитель: оба всем своим видом показывают, что у них есть миллион дел поинтереснее, чем нянчиться с нами.
Но я слишком воодушевлен, и мне наплевать. Вся группа залезает в автобус, и нас минут пять везут к четвертому энергоблоку. Стоя перед ним, я могу теперь рассмотреть Саркофаг во всем его жутком великолепии. Он необъятен! Я, конечно, знал, что он большой, но и представить не мог, насколько чудовищны его размеры в реальности. Труба – около 150 метров, такую высоту трудно зрительно вообразить человеку, выросшему на столетней каменной двухэтажной мельнице в деревне. Кстати говоря, два года спустя я соорудил полноразмерную модель Чернобыля в «Майнкрафте», используя несколько схем, которые удалось найти в интернете, и еще раз убедился, какой он на самом деле гигантский.
Меня переполняют эмоции; не знаю, почему эта поездка столько для меня значит, но это так. Я пересмотрел множество документальных и игровых фильмов о катастрофе, перечитал массу материалов о людях, которых она затронула, и сейчас, стоя на том самом месте, где разворачивались все эти события, я потрясен. Наверное, то же самое испытывают некоторые люди, приезжая в Освенцим или на берега Нормандии.
И все же комплекс выглядит немного не так, как я его себе представлял. До сегодняшнего дня основное внимание в своем исследовании я уделял событиям до 1987 года, когда построили Саркофаг. Теперь, двадцать пять лет спустя, его крыша и западное крыло поддерживаются 63-метровой ССК (стальная стабилизационная конструкция), сооружение которой завершили в 2007 году в рамках планов SIP, долгосрочного проекта по строительству Нового безопасного конфайнмента, призванного обеспечить радиационную безопасность объекта на будущие десятилетия. Изначально вес крыши Саркофага несли на себе две огромные металлические балки, закрепленные на остатках поврежденной взрывом западной стены четвертого энергоблока и оказывавшие на нее немалое давление. К началу 2000-х возникла серьезная опасность обрушения конструкции, и сейчас, дабы этого избежать, 80 % тяжести 800-тонной кровли взяли на себя консоли ярко-желто-зеленой ССК[156].
На покрытом ухоженной травой пятачке в 150 метрах от Саркофага стоит каменный памятник – здание блока и его труба в сложенных чашкой ладонях. Надпись на памятнике гласит: «Героям, профессионалам, тем, кто защитил мир от ядерной беды. В ознаменование 20-летия сооружения объекта “Укрытие”». Дождь усиливается, но я продолжаю снимать ветшающий Саркофаг, пока нас не приглашают в информационный центр, расположенный здесь же, у бетонной стены, обнесенной колючей проволокой. В единственной тесной комнатке стоит великолепная посекционная модель четвертого блока, где в масштабе тщательно воссозданы внутренние разрушения. Секция с насосами, где погиб Ходемчук, полностью засыпана. Справа от модели – стеклянная стена, за которой открывается вся АЭС в деталях; это лучший ракурс за всю нашу поездку, но нам неожиданно запрещают фотографировать станцию с этой превосходной для съемки позиции. Почему – неясно; моей досаде нет границ. Местная чиновница в деловом костюме вкратце излагает, как продвигается строительство Нового безопасного конфайнмента и на какой стадии оно находится. И вскользь замечает, что для монтажа НБК, который должен завершиться через несколько лет, потребуется разобрать знаменитую вентиляционную трубу. За прошедшее с тех пор время это уже произошло – в феврале 2014 года.
Выйдя на воздух, наша группа по просьбе организатора тура выстраивается на фоне станции для общего снимка. У меня хранится забавная фотография того момента: каждый из нас попросил сделать такой же снимок для себя, и организатор стоит с парой десятков «зеркалок», свисающих с шеи. По округе разносится ритмичный гулкий звук, словно удары опущенного в воду церковного колокола, по которому бьют молотком. Это бригада строителей за стеной с колючей проволокой вбивает сваи для фундамента под рельсовый путь, который будут использовать, чтобы надвинуть арки НБК на здание реактора. Следующие два дня этот звук будет сопровождать нас повсюду. Он станет для меня «звуком Зоны».
Мы катим на автобусе к Припяти. На подъезде к городу одинокий скучающий солдат, караулящий блокпост, поднимает обычный шлагбаум, пропуская автобус на огражденную территорию. Нас выгружают на одной из центральных улиц и просят вернуться через девяносто минут. Мы с Дэнни, Кейти, Давидом и еще парочкой примкнувших к нам людей откалываемся от основной группы и направляемся к самому высокому зданию Припяти, которое удачно обращено к северо-западному углу. По моему первому впечатлению, все именно так, как я ожидал. Все на месте: уличные фонари, дорожные знаки, детский велосипед на обочине, но это – история о прошлой жизни. В фонарях нет лампочек, сами дорожные знаки проржавели, а изображения на них выцвели, у велосипеда отсутствуют колеса и руль. Сколько лет я езжу по брошенным местам, но столь тотальное ощущение утраченной жизни сообщества вижу лишь второй раз. Предыдущий пример – Бангурская больница, построенная в 1906 году на территории в 960 акров в деревне неподалеку от Эдинбурга, одна из первых в Шотландии психиатрических «лечебниц-деревень». Она стоит обезлюдевшей уже больше десяти лет, но за ней ухаживают по сей день, ты видишь там церковь, магазинчик, фонари, автобусные остановки, дорожную разметку и другие детали, о которых даже не думаешь в нормальной жизни. В Припяти тоже полно этих мелочей, но в несопоставимом масштабе.
Десять минут бодрой ходьбы, и вот мы у шестнадцатиэтажного многоквартирного дома, который называли Фудзиямой в честь японской горы (понятия не имею почему). После изнурительного подъема – карабкаясь по лестнице, я кляну себя, что прихватил столько оборудования, и начинаю пересматривать свою багажную философию, – вылезаю на пустынную крышу. Вид оттуда – просто не передать словами: передо мной раскинулся заброшенный, заросший город – как во сне. Брутальные бело-серые бетонные сооружения без каких бы то ни было отличительных особенностей проступают сквозь ландшафт, превратившийся в сущности в дикий лес, а на горизонте сквозь дымку виднеется нечеткий силуэт Чернобыля. В воздухе висят темные тучи, пропитывая все вокруг влагой, но это выглядит даже уместно. Нигде на всей земле вы не испытаете таких чувств, как здесь – в этом запустевшем, неописуемом городе, превращающемся в руины. Я стою среди безмолвия – лишь ветер свистит в ушах, – как будто на земле уже давным-давно никого не осталось, а я как-то уцелел, и это ощущение пробирает до костей. Меня вдруг охватывает невыносимое одиночество, хотя друзья рядом. Интересно, они чувствуют то же самое? Спрашивать я не стал.
Мы помним, что у нас строго девяносто минут, и не задерживаемся там дольше, чем нужно. На чердачном этаже среди голого бетона, баков для воды и труб мы натыкаемся на мумифицированный труп собаки. Как она сюда попала? Может, искала убежище или пропавших хозяев? По всему туловищу дыры. Пулевые отверстия? Не исключено, что ей не удалось скрыться от ликвидационных патрулей, которые охотились на животных, оставшихся после эвакуации, но прошло двадцать пять лет, и эти дыры могли взяться откуда угодно. Лучевая болезнь – тяжелый недуг и для человека, но ему по крайней мере расскажут о симптомах и лечении. А для пса, который понятия не имеет, что случилось и почему люди, которые о нем заботились, вдруг исчезли, последние недели жизни были, наверное, совсем невыносимы. Надеюсь, это несчастное создание не дожило до худших последствий облучения и умерло просто от голода.
Возвращаясь к автобусу, мы ненадолго заглядываем в один из многочисленных припятских детских садов. В умолкнувших комнатах – пустые кроватки и игрушки, стены красочно разрисованы: улыбающиеся звери, мультяшные пейзажи, цифры, буквы алфавита. Когда вся группа собралась в назначенном месте (одного человека недосчитались было, но он появился), нас повезли из Припяти в исследовательские здания, откуда ученые ведут мониторинг уровня радиации по всей Зоне. Мы проезжаем мимо печально известного Рыжего леса – его зеленые листья после аварии покраснели из-за облучившей его интенсивнейшей радиации, – а потом наш путь лежит через древний город Чернобыль, от которого и получила свое название станция. Жаль, я совсем не помню, что нам рассказали о своей работе ученые, с которыми мы встречались, – снова началась эта тягомотина с переводом, и от раздражения я быстро утратил интерес. Дальше мы останавливаемся еще в паре примечательных мест. Одно – колоритная, в белых, золотых и ярко-голубых тонах Ильинская церковь, единственный действующий храм в Зоне. Батюшка – один из немногих постоянных жителей города, а сама церковь знаменита тем, что, по легенде, сразу после аварии ее почти не затронула радиация. Другое место – старая пристань на реке Припять, где еле держатся на плаву ржавые, кренящиеся радиоактивные суда.
По пути на станцию мы на пару минут останавливаемся у памятника пожарным – скульптурной группы в натуральную величину, изображающей шестерых отважных мужчин в схватке с огнем. Немного позади от них – врач. Трудно сказать, какой вариант трагичнее – тот, где эти несчастные люди на крыше не понимают, с чем они столкнулись, или же тот, где они сознательно жертвуют собой. Интересно, многие ли отдавали себе отчет, что обломки, на которых они стоят, – это ядерное топливо и радиоактивный графит, что воздух, который они вдыхают, отравлен смертельными радионуклидами, за минуты превращающими их в ходячих мертвецов. Как бы то ни было, эти люди оставались на посту, погасили, невзирая ни на что, почти сорок пожаров, и их жертва остановила готовое разразиться бедствие. Табличка на памятнике с полной серьезностью гласит: «Тем, кто спас мир».
Последняя наша остановка перед обедом – на открытом участке дороги в миле к юго-востоку от станции. Оттуда издали открывается поразительный вид на остатки четвертого энергоблока и его Саркофаг. На другом берегу реки справа от меня – недостроенная градирня и почти завершенный пятый блок, который должны были открыть через пару месяцев после рокового дня. Его так и не достроили; рабочие бросили свои инструменты, а краны оставили там, где они стояли на тот момент.
На поздний обед мы приезжаем в рабочую столовую, где раньше кормили персонал АЭС. Вступив перед входом в красную жидкость для дезактивации радиоактивной пыли, если та вдруг попала нам на обувь, мы моем руки и поднимаемся в обеденный зал. Кроме кухонных работников там почти никого, так что мы по очереди получаем обед и впервые с момента прибытия плотно едим. После обеда нас везут рассмотреть поближе пятый энергоблок, он стоит в окружении ржавых башенных кранов, которые работали прямо в момент взрыва. Я бы все отдал, чтобы попасть внутрь… Фотографии этого сооружения вышли ужасными. Я не свожу глаз с пятого блока, поглощенный поисками удачных ракурсов, – впустую трачу драгоценное время. К автобусу я возвращаюсь через небольшой перелесок, усеянный не поддающимися определению деталями бывшей техники, и вдруг натыкаюсь на компанию милых и игривых бездомных щенков, за которыми, по всей видимости, присматривают солдаты из местной части. Может, это потомки собак, которые жили здесь до аварии? Скорее всего. Едва ли солдатам разрешено держать на службе домашних животных. Когда мы уже отъезжаем, я успеваю мельком заметить огромный черный рельсовый кран – точно такие же краны постоянно попадаются на фотографиях с чернобыльских стройплощадок. Но он тут же исчезает из поля зрения, а я ругаю себя последними словами, что не заметил его раньше.
Отведенное нам время близится к концу, и мы едем к главному мемориалу погибшим. Я всегда считал, что четвертый энергоблок – это «перед» станции, а первый – «зад», просто потому что большинство здешних фотографий снималось в направлении с востока на запад; а теперь я оказался на другом конце – за первым блоком, по другую сторону от машинного зала, рядом с административными зданиями. Отсюда открывается масштабная панорама всего чернобыльского комплекса. Мне это особенно интересно, поскольку я почему-то никогда – вообще ни разу – не видел ни одной фотографии, снятой с этого ракурса. Я беру камеру и делаю серию снимков, из которых потом составлю панораму. Чей-то голос запоздало кричит, чтобы я не фотографировал ничем не примечательные административные здания, так что я поворачиваюсь обратно к мемориалу. К красной полутораметровой стене прикреплена тридцать одна черная мраморная табличка, на каждой – имя одного из погибших от облучения. В центре – красная кирпичная арка с висящим в ней черным колоколом. На черной мраморной плите выгравированы слова «Жизнь ради жизни» и символ атома. Мемориал довольно сдержанный, но видно, что за ним хорошо ухаживают. Интересно, что чувствуют родственники бесчисленных жертв, чьи имена здесь не указаны, у кого нет своего памятника?
Последняя на сегодняшний день остановка – Янов, железнодорожная станция, расположенная строго на запад от ЧАЭС. Мои силы уже на исходе, по дороге к Янову я просматриваю сегодняшние снимки. Из-за плохой погоды многие фото не получились, а жаль. Автобус останавливается. Как, уже?! Первое, что я вижу, выйдя на воздух, – два стареньких, но исполненных величия дизельных локомотива. Они стоят ко мне боком и греются на угасающем предвечернем солнце. Я захожу в проем между ними и тут обнаруживаю, что эти два дизеля не одиноки: через проем видны еще четыре колеи, и только одна из них пустует. Пути сплошной линией идут в обе стороны, сходясь у горизонта. Здесь, среди старой техники, самое сильное впечатление производит выделяющаяся на фоне ржавых собратьев новенькая ярко-желтая платформа с краном. Зачем она здесь? Ключ к одному из возможных ответов находится рядом: еще одна платформа с почерневшими чурбанами. Между ними стоит приземистый бордовый вагон-цистерна, и Кейти, тут же бросившись к нему стрелой, моментально вскарабкивается наверх; некоторые члены группы следуют ее примеру.
Выходка Кейти оказывается заразительной – я тоже, оперев штатив на огромный синий дизель, который только что фотографировал, взбираюсь туда. Не проверив – на свою беду, – есть ли кто в кабине, я через пару секунд оказываюсь на крыше. Кому-то из наших в голову приходит та же мысль, и вот он уже стоит на другом локомотиве метрах в пятидесяти по тому же пути. С этой удобной точки обзора я разглядываю, что там внизу, и в этот самый момент солнце пробивает тяжелые тучи, наполняя окружающий ландшафт теплыми, насыщенными красками. Вид отсюда просто идеальный. И момент идеальный. Темные тучи, всевозможные осенние оттенки желтого, красного и зеленого, вокруг ржавеющее железо, сияние низко висящего солнца – все это подчеркивает текстуру каждой детали.
Я слышу, как со стороны стоящих слева зданий что-то орут по-украински. А голос где-то ближе кричит уже по-английски, чтобы я спускался. Оказывается, локомотив не так уж пуст! Карабкаясь вниз, я замечаю, как из-за автобуса выходят несколько сердитого вида мужчин – вероятно, машинисты. Вот блин! Я хватаю штатив и торопливо иду к веренице вагонов, стараясь держаться подальше от синего дизеля на случай, если машинисты захотят потолковать со мной по-мужски, и задним числом понимая, что это было хамство с моей стороны.
Мне не хочется уезжать. Теперь, когда вышло солнце и мне впервые за день стало тепло, делается грустно, что этот чудесный день подходит к концу. Это как дочитывать полюбившийся роман. Печально знать, что книга скоро закончится, и в глубине души тебе уже неохота читать дальше – так хочется растянуть удовольствие, – вот такое же чувство у меня сейчас. Я бы с удовольствием провел этот вечер, в одиночку шагая неведомо куда вдоль путей под звуки Зоны. Вернулся бы на станцию побеседовать с тамошними работниками о выводе АЭС из эксплуатации и о возведении Нового безопасного конфайнмента. Выслушал бы, что они думают об аварии, о ее последствиях, о том, как им живется в этой неприветливой, изолированной части мира, и, главное, каким они видят свое будущее. Провел бы ночь на крыше заброшенной припятской гостиницы, разглядывая город в холодном свете далекой луны. Но больше всего мне хотелось бы отважиться и забраться в четвертый блок, обойти руины его коридоров и хотя бы на миг увидеть реактор своими глазами. Но этому не бывать. В последний раз на сегодня Марек созывает нас к автобусу (скоро отходит электричка на Славутич), и я впервые задерживаюсь. Мне хочется хотя бы еще на несколько секунд продлить ощущение от этого удивительного места.
На вокзале путь к платформе заблокирован людьми, толпящимися у ряда радиационных сканеров. Их не обойти, и я, пожав плечами, проталкиваю свое снаряжение под барьером и шагаю в кабинку. Расположив руки и ноги на четырех датчиках, я чувствую холодок под кожей и надеюсь, что это стандартная процедура. Загоревшаяся зеленая лампочка, полагаю, означает, что я не особо радиоактивен. Члены нашей группы по одному проходят через сканеры, и мы направляемся на сине-зеленую платформу к электричке. Я не забываю остаться в тамбуре вместе с еще двумя людьми из группы, чтобы не занимать места усталых чернобыльских рабочих.
Кажется, что назад мы едем быстрее, чем сюда, и что электричка грохочет еще сильнее, словно все узлы этого дряхлого состава раскачиваются в коллективном стремлении как можно скорее убраться подальше от Чернобыля. Мы мчимся мимо рек, болот, заброшенных грунтовых дорог и лесов и все трое молчим, погруженные в свои мысли. Я снимаю некоторые фрагменты на видео телефоном, чтобы точно помнить, как выглядят подъезды к месту, где произошла самая трагическая в истории антропогенная катастрофа.
В Славутиче мы с Давидом, Кейти и Дэнни вновь собираемся вчетвером и отправляемся в местный магазин купить что-нибудь на ужин. Я подхожу к продавцу – приветливому тридцатилетнему парню, который немного знает английский, – и спрашиваю, как по-русски и по-украински сказать «будьте добры» и «спасибо», чтобы поблагодарить кассиров. Он с улыбкой консультирует нас. Все вокруг выглядит незнакомо – я не могу ни прочесть надписи на упаковках, ни, зачастую, понять, что в них лежит. В итоге, стесняясь своего невежества и к тому же слишком устав, чтобы готовить, я покупаю две единственные вещи, в которых абсолютно уверен и которые не требуют готовки, – мороженое и бисквитный кекс.
Глава 6 Чрезвычайная ситуация
Директору АЭС Виктору Брюханову немедленно сообщили об аварии, и тот в полтретьего ночи прибыл на станцию[157]. Он распорядился открыть аварийные бункеры, включая главный административный, а после направился прямо в кабинет. По пути он увидел, что реакторное здание повреждено, и заподозрил худшее. После неудачных попыток связаться по телефону с руководящим персоналом АЭС он созвал совещание в главном бункере[158]. Там ему сообщили о серьезном инциденте: в одной из аварийных водяных цистерн взорвался накопившийся водород, но реактор цел[159]. Операторы налаживают насос для подачи воды в реактор, а пожарные борются с пламенем на кровле и в машинном зале. На вопрос об уровне радиации на станции и в окрестностях дозиметристы доложили, что в их распоряжении только один функционирующий радиометр, и он показывает 1000 мкР/с, то есть 3,6 Р/ч. Это высокий уровень радиации в сравнении с нормальными условиями, но непосредственной угрозы жизни нет. Брюханов и Дятлов сочли результаты замеров корректными, хотя им было известно, что 1000 мкР/с – это просто максимум, на который рассчитан прибор[160]. На самом же деле радиация в отдельных помещениях станции достигала жутких величин – до 8 000 000 мкР/с, или 30 000 Р/ч.
Брюханов расслабился: 1000 мкР/с – не очень критично. Вскоре к Брюханову за его солидным столом в командном бункере присоединилось местное коммунистическое руководство – его начальство по партийной линии. Они рассматривали возможность эвакуации, но опасались паники и вероятных последствий, если окажется, что такой необходимости не было[161]. Они совместно решили делать вид, что события развиваются по самому оптимистичному сценарию. Брюханов доложил московскому руководству, что реактор цел и что, мол, инцидент, к счастью, не так ужасен, как показалось вначале. Ему поручили составить график возвращения четвертого энергоблока в эксплуатацию, а он в ответ заверил, что все проблемы будут решены. Вскоре после этого операторам удалось найти радиометр на 200 Р/ч, но и он зашкаливал. Брюханов сказал, что прибор сломан, и отказался верить его показаниям. Донесения других специалистов, которых после этого отправили за данными, Брюханов с Дятловым тоже проигнорировали, назвав их идиотами, а приборы – никудышным хламом. Через пару часов от полученной дозы облучения Дятлову стало плохо. Он уже и сам видел, что на станции по земле разбросаны куски графита, но все равно никак не мог смириться с тем, что произошло.
Чернобыльские пожарные сыграли ключевую роль в том, чтобы не дать аварии, которая и без того уже приобрела характер катастрофы, перерасти в невообразимо более масштабное бедствие. Двадцатитрехлетний лейтенант Владимир Правик и его расчет прибыли на место уже через несколько минут, и он сразу же понял: у них не хватит ни оборудования, ни людей, чтобы справиться со столь обширным и разрушительным пламенем. Он запросил подмогу из Припяти и Киевской области и отдал приказ своим ребятам разбиться на группы и сосредоточиться на кровлях третьего энергоблока и машинного зала[162]. Третий и четвертый блоки располагались в одном здании, у всех четырех реакторов – общий машинный зал, и, если огонь доберется до этих помещений, наступит полная катастрофа[163].
Падающие обломки реактора подожгли на своем пути все, что могло легко воспламениться. И ответственность за это лежит на Брюханове – так же как и за решение проводить испытания с выбегом турбины. По проекту, во время строительства станции полагалось, по очевидным причинам, герметизировать кровлю негорючими материалами. Но таких материалов на стройке в нужных количествах не оказалось, и потому Брюханов, чтобы выполнить план в срок, распорядился использовать битум, которого на складах хватало с избытком[164]. Битум – весьма огнеопасное вещество, и к тому времени уже десять лет как запрещенное в советском промышленном строительстве (возможно, именно поэтому он и валялся на складах без дела)[165]. В таком пекле битум расплавился и стал налипать на ботинки пожарных, затруднять их передвижения, отравлять их легкие ядовитым дымом. Взвалить всю вину на Брюханова несложно, но едва ли у него был богатый выбор. В силу масштабности и новизны проект постоянно страдал от дефицита материалов и техники: инфраструктуры для снабжения многочисленных строившихся в то время АЭС попросту не существовало. Откажись Брюханов от битума, строительство отстало бы от графика, его сняли бы с должности, а на его место поставили другого, который сделал бы то же самое. Но я все равно считаю, что использование на кровле легковоспламеняющегося материала было одной из главных ошибок Брюханова – ему следовало искать иные решения.
Трагедия пожарных, первыми прибывших бороться с огнем, состояла в том, что хотя это и был штатный расчет атомной станции, но они, видимо, не осознавали в полной мере опасность, которую таит в себе радиация. Что уж говорить о пожарных, приехавших из других мест. Информация на эту тему весьма противоречива, но есть письменные свидетельства самих пожарных, из которых видно, что о радиации они вообще не думали, пока не стали ощущать слабость и тошноту; они считали, что пожар – это пожар, и боролись с огнем как обычно. Некоторые к тому же списывали дурноту на дым и пекло. В западных странах пожарные на атомных станциях проходят специальное обучение и получают противорадиационное снаряжение. А на советских АЭС пожарным не выдавали никаких защитных костюмов, у них не было даже обычных респираторов, лишь дыхательные маски с фильтром[166].
Один из пожарных позднее скажет: «Толком про радиацию мы не знали. А кто работал – тот и понятия не имел. Машины пустили воду, Миша цистерну водой пополнял, вода идет наверх – и вот тогда эти пацаны, что погибли, пошли наверх: и Ващук Коля, и другие, и этот же Володя Правик… Они по лестнице, которая приставная, поцарапались туда наверх… И больше их не видел»[167]. Однако другой пожарный, Анатолий Захаров, беседуя в 2006 году с журналистом из газеты «Гардиан», говорит иное. «Разумеется, всё мы знали! – смеется он. – Работай мы по инструкциям, до реактора и близко бы не добрались. Но это был наш моральный долг, наша обязанность. Мы были вроде камикадзе»[168],[169]. Полковник Телятников руководил второй очередью пожарных, которая прибыла на место через двадцать пять минут после взрыва. «Сейчас уже не помню, кто рассказал мне о радиации, – вспоминал он. – Кто-то на станции. Они все были в белых спецкостюмах. Когда мы тушили огонь, было такое впечатление, что видишь радиацию. Многие вещества светились, даже сверкали, как бенгальские огни. Вспышки скакали с места на место, словно их перебрасывают. На крыше, где работали люди, был какой-то газ. Но не дым. Хотя дым там тоже был. Но этот газ – вроде как туман. С особым запахом»[170],[171]. Никого из тех, кого полковник Телятников отправил на крышу, не осталось в живых, и сам он, получив при тушении сотни рентген, в пятьдесят три года умер от рака в 2004 году.
Невозможно поверить, но, как выяснилось позднее, на станции ни разу не проводили полномасштабных пожарных учений. Даже сам протокол пожаротушения в Чернобыле практически ничем не отличался от принятого на обычных промышленных объектах, в нем не учитывалась возможность облучения – настолько сильна была вера высшего руководства, что ничего не произойдет[172]. За время, прошедшее с момента взрыва до половины седьмого утра, когда пламя почти везде уже было потушено – кроме активной зоны реактора, – на борьбу с огнем прибыло 37 пожарных расчетов – 186 человек и 81 машина[173]. Некоторым отважным людям удалось даже пробраться в сам реакторный зал четвертого блока – они попытались лить воду прямо в реактор и получили смертельную дозу радиации меньше чем за минуту. Как и все остальные попытки охладить реактор, которые предпринимались в последующие дни, их старания лишь усугубляли ситуацию. В ядерном аду, куда они закачивали воду, царило такое пекло, что вода либо распадалась, образуя гремучую смесь водорода и кислорода, либо тут же испарялась, а оставшаяся вода затапливала подвальные помещения. Многим пожарным в процессе тушения становилось плохо, и их срочно везли в припятскую медсанчасть, которая оказалась не подготовлена к работе с лучевой болезнью. Тела пациентов были настолько заражены, что сами стали источником радиации, облучившим врачей и медсестер.
Поначалу на самой станции присутствовал лишь один квалифицированный медик – двадцативосьмилетний припятский врач «Скорой помощи» Валентин Белоконь, который примчался после звонка со станции, ничего не зная о ядерной аварии[174]. Он приехал через полчаса после взрыва и обнаружил, что в здравпункте АЭС практически ничего нет[175]. Теми немногими средствами, которыми располагал Белоконь, он делал все возможное и вскоре заметил у пациентов одинаковые симптомы: головную боль, опухшие гланды, сухость в горле, тошноту, рвоту. Он понял, что это значит, но самоотверженно продолжал работать, еще несколько часов помогая облученным работникам станции и пожарным, пока ему самому не стало плохо. «В шесть часов и я почувствовал першение в горле, головную боль, – рассказывал он потом. – Понимал ли опасность, боялся ли? Понимал. Боялся. Но когда люди видят, что рядом человек в белом халате, это их успокаивает. Я стоял, как и все, без респиратора, без средств защиты… А где его [респиратор] взять? Я было кинулся – нигде ничего нет. Я в медсанчасть звоню: “Есть у вас «лепестки»?” – “Нет у нас «лепестков»”. Ну и все. В маске марлевой работать? Она ничего не дает»[176]. Вскоре к нему присоединился второй врач. Доктор Орлов три часа провел в реакторной зоне, оказывая первую помощь пострадавшим пожарным, пока сам, по его словам, не ощутил «металлический привкус и головную боль до тошноты»[177],[178]. Даже водители «Скорых», которые доставляли пострадавших в припятскую медсанчасть, получили облучение от своих пассажиров[179].
Третий реактор тоже оказался под угрозой. Начальник смены в третьем энергоблоке Юрий Багдасаров понял, что в случае аварии его реактор охлаждать будет нечем, поскольку все аварийные водяные цистерны переключены на терпящий бедствие соседний блок, и обратился за разрешением остановить реактор к главному инженеру Николаю Фомину, который к тому времени уже приехал на станцию. Но Фомин, отчаянно пытавшийся преодолеть кризис, просьбу отклонил. К пяти утра Багдасаров, не без оснований опасаясь худшего, раздал своему персоналу респираторы и йодные таблетки, способные предупредить накопление радиоактивного йода в щитовидной железе, а затем, нарушив запрет руководства, на свой страх и риск распорядился заглушить реактор[180]. Благодаря ему и пожарным катастрофа еще на одном реакторе была предотвращена. Работу первого и второго блоков решили прекратить лишь спустя шестнадцать часов. Фомин тем временем отправил доверенного специалиста-физика обследовать состояние четвертого блока, но доклад физика, как и все предыдущие, был оставлен без внимания. Сам физик позднее умер. Разные люди не уставали повторять Брюханову и Фомину, что реактор полностью разрушен, но они вновь и вновь отмахивались.
Капитан Сергей Володин, пилот транспортного вертолета, на своем специально оборудованном Ми-8 облетел чуть ли не всю Украину. У него на борту имелся дозиметр, и, пролетая вблизи Чернобыля, он порой включал прибор просто из любопытства. Вплоть до 26 апреля 1986 года прибор ни разу не показал отклонений. В ночь аварии Володин и его экипаж несли вахту аварийно-спасательной службы Киевской области, поэтому их вертолет был первым летательным средством, прибывшим на место происшествия. Ни у кого на борту не было защитной одежды. Когда они облетали Припять, дозиметр стал зашкаливать на всех настройках по очереди – 10, 100, 250, 500 рентген, и Володин решил, что прибор барахлит. «Выше пятисот, – вспоминает он. – При таком уровне люди не живут, а машины не работают». Пока он разглядывал эти показания, в кабину ворвался летевший с ними майор с собственным дозиметром и с криками: «Ты убийца! Ты убил нас всех!» Воздух излучал 1500 Р/ч. «Мы приняли такую большую дозу, – говорит пилот, – он думал, что нас уже нет в живых»[181],[182].
Об аварии никому не сказали ни слова, и в восемь часов вся утренняя смена, включая рабочих со строительства пятого блока, в полном составе вышла на работу, невзирая на царившие вокруг разрушения[183]. Начальник стройки, которому тоже никто ничего не сообщил, к двенадцати часам распустил рабочих по домам, а персонал станции остался на местах. 26 апреля в течение всего дня пожарные и операторы продолжали закачивать воду в реактор, но лишь все сильнее и сильнее затопляли радиоактивной жидкостью подвальные помещения. Брюханов наконец признал факт, что реактор разрушен, и постепенно начал приходить в себя. Вопрос об эвакуации Припяти уже ставился сразу после взрыва, но подобное решение виделось Брюханову слишком значительным, чтобы принимать его без одобрения сверху. Он снова связался с Москвой и запросил разрешение эвакуировать город, но чиновники от КПСС, не ведая масштабов угрозы – ведь сам же Брюханов столько раз их заверял, что ущерб минимален, – отказались обсуждать этот план. Не дай бог возникнет паника и поползут слухи – так что никакой эвакуации и никаких оповещений[184].
В течение суток ожидалось прибытие специальной правительственной комиссии – партийных функционеров и ученых. Комиссию возглавлял Борис Щербина, заместитель председателя Совета министров СССР и бывший министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. Он хоть и занимал довольно высокий пост, все же не входил в Политбюро, то есть не принадлежал к советской политической элите, и назначили его, потому что в тот момент никто в правительстве еще не осознавал серьезности этой аварии. В научной части комиссии самой видной фигурой был сорокадевятилетний академик Валерий Легасов. Он сравнительно рано защитил докторскую и, будучи весьма одаренным человеком, необычайно быстро, по меркам советских научных кругов, получил пост первого заместителя директора престижного Института ядерной энергетики им. Курчатова. Он не занимался реакторами, но был чрезвычайно грамотным, опытным и влиятельным специалистом, пользовавшимся высоким авторитетом как у партии, так и в глазах мирового научного сообщества[185].
Суббота 26 апреля выдалась погожей и теплой. 15 тысяч припятских детей – а дети особо уязвимы для радиоактивного йода – отправились в школу (в СССР школы по субботам работали), остальные горожане занимались своими обычными делами. Днем даже кто-то сыграл свадьбу. А тем временем все до единого жители Припяти подвергались тихому облучению. «Сосед наш… полез на крышу и лег там в плавках позагорать, – вспоминал бывший работник станции Геннадий Петров в беседе с Григорием Медведевым. – Потом один раз спускался попить, говорит, загар сегодня отлично пристает, просто как никогда. От кожи сразу, говорит, паленым запахло. И бодрит очень, будто пропустил стопарик… К вечеру у соседа… началась сильная рвота, и его увезли в медсанчасть». «Просочилось что-то об аварии и пожаре на четвертом энергоблоке, но что именно произошло, никто толком не знал, – рассказывала другая свидетельница. – Группа соседских ребят ездила на велосипедах на путепровод (мост), оттуда хорошо был виден аварийный блок со стороны станции Янов. Это, как мы позже узнали, было самое радиоактивное место в городе… У этих детей развилась потом тяжелая лучевая болезнь»[186].
По понятным причинам – ведь город построили специально для чернобыльских строителей и работников – стали быстро распространяться вести о серьезном инциденте на станции. «Об аварии разные люди узнали в разное время, но к вечеру 26 апреля знали почти все, – вспоминает старший инженер Людмила Харитонова. – Но все равно реакция была спокойная, так как все магазины, школы, учреждения работали. Значит, думали мы, не так опасно. Ближе к вечеру стало тревожнее»[187]. В тот вечер многие горожане высыпали на балконы – а если не было балкона, шли к друзьям, – чтобы полюбоваться на таинственное свечение изнутри разрушенного реактора[188]. Это может прозвучать странно, но жителям Припяти и прилегающих районов очень повезло, что в ночь аварии и в последующие дни стояла прекрасная погода. При дожде радиация лилась бы с небес в Днепр, и число жертв выросло бы в разы. Но частицы в основном остались высоко в воздухе, и их воздействие было все же не таким сильным. С тем, что авария случилась в ночь на субботу, им тоже повезло – перед весенними выходными многие уехали из города. А оставшиеся дома спали в квартирах, защищенные стенами во время самого опасного выброса.
Теперь же те, кто хотел выехать из Припяти, обнаруживали милицейские заслоны на пути как выезжающих, так и въезжающих. Это можно объяснить лишь одним: власти пытались пресечь распространение слухов, поскольку на тот момент об аварии знали лишь местные жители и партийные чиновники. Если бы милиция только не впускала в город, это было бы объяснимо, но выехать люди тоже не могли. Во избежание паники власти скрывали любую информацию. Ситуация породила, разумеется, безумные домыслы, и многие попытались сбежать из города в обход блокпостов, через лес. Женщины пробирались среди деревьев, толкая перед собой коляски с ничем не защищенными младенцами. Эту местность позднее стали называть Рыжим лесом: все сосны в нем покраснели и погибли от первого, самого смертельного облака частиц, извергнутых реактором. Рыжий лес остается одним из самых радиационно загрязненных мест на планете.
Уже в субботу специалисты химических войск прибыли в киевский аэропорт и затем отправились в Чернобыль, где произвели первые точные замеры радиации у поверхности земли[189]. Цифры оказались чрезвычайно высокими и продолжали расти. К вечеру надежные замеры появились уже и на самой станции – тысячи рентген в час, то есть смертельная доза за несколько минут. Несколько месяцев спустя постоянный мониторинг радиации будут проводить с помощью приборов на двухстах сорока точках, распределенных по местности, но на тот момент дистанционных средств дозиметрии в распоряжении специалистов не имелось, и излучение приходилось замерять вручную[190]. Специальных удаленно управляемых летательных аппаратов тоже не было, поэтому атмосферные замеры производились летчиками, сознательно направлявшими свои машины в опасные шлейфы.
Группа старших членов комиссии осмотрела станцию с вертолета, и в том, что реактор разрушен, никаких сомнений наконец не осталось. После этого провели чрезвычайное совещание, чтобы выработать план действий. Присутствующие партийные чиновники не представляли последствий аварии и тратили драгоценное время на дилетантские предложения. После долгих бессмысленных споров Легасову и другим ученым удалось их убедить, что произошедшее – не обычный инцидент, который можно втихую замести под ковер, а авария планетарного масштаба с серьезными и продолжительными последствиями и бороться с ней традиционными методами пожаротушения не получится. Располагая лишь ограниченным арсеналом возможных средств, группа в итоге согласилась, что лучшее на тот момент решение – забрасывать с вертолетов в активную зону мешки с бором, доломитом и свинцом, которые будут, соответственно, поглощать нейтроны, абсорбировать тепловую энергию и снижать температуру огня. На это потребуются десятки тысяч тяжелых мешков.
Щербина, который поначалу неоднократно отклонял предложения Легасова об эвакуации, к вечеру 26-го уступил и согласился, что всех, проживающих в радиусе десяти километров от станции, необходимо вывезти на безопасное расстояние. Но даже принятое решение выполнялось безалаберно. Ученые считали, что горожан необходимо эвакуировать в принудительном и срочном порядке, но Щербина распорядился до утра никого ни о чем не извещать. Людей не предупредили, что выходить из дома опасно, и не дали времени на сборы. Для вывоза жителей Припяти ночью из Киева пришла колонна – тысяча сто автобусов. Выезд на личных автомобилях был запрещен, якобы во избежание пробок – чтобы не нарушился ритм эвакуации.
Легасов вспоминал, что даже 27 апреля, при пиковом уровне излучения, «можно было видеть и матерей, везущих в колясках детей, и детей, играющих на улице»[191]. Чтобы обеспечить максимально широкое информирование, по квартирам ходили добровольцы с листовками. В одиннадцать утра по радио передали объявление об эвакуации: «Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако с целью обеспечения полной безопасности людей – и в первую очередь детей, – возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в населенные пункты Киевской области. Для этого к каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут охраняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации»[192].
Это была абсолютная ложь. «Я понимал, что город эвакуируется навсегда, – говорил Легасов в записях, сделанных им два года спустя. – Но вот психологически у меня не было сил, возможностей людям это объявить. Я рассуждал, что если сейчас людям это объявишь, то эвакуация затянется, люди начнут очень долго собираться, а активность в это время уже росла по экспоненте. Поэтому я посоветовал… объявить, что срок эвакуации пока мы точно назвать не можем»[193]. При всем моем сочувствии к положению Легасова, эти слова больше похожи на самооправдание. Заяви он, что тогда люди поволокут за собой чемоданы, набитые радиоактивными фамильными ценностями, я, пожалуй, принял бы это объяснение, но утверждение, что они, мол, стали бы тянуть со сборами, когда у них в распоряжении могли быть целые ночь и утро, звучит сомнительно. Никто – дабы обеспечить спокойную эвакуацию – громко и внятно не предупредил людей об опасности, которой они подвергаются, никто даже не намекнул, что их отсутствие в городе может затянуться. Если бы им сообщили о планах полного переселения, семьи имели бы возможность взять все необходимое, чтобы легче пережить переходный период, а те, у кого были машины, покинули бы город еще ночью. А так – люди рассаживались в автобусы со смехом и улыбками, пребывая в блаженном неведении, что домой они больше не вернутся. С другой стороны, некоторые горожане понимали всю серьезность ситуации – работники станции, знавшие о происшедшем, – и они успели собраться как следует, но таких было совсем немного. Люди оставили своих собак, кошек и других домашних животных. Кого-то заперли в квартире, кого-то выпустили на улицу, некоторые бежали за спасательными автобусами. Если не считать пары случаев, когда старики отказывались покидать дом или прятались от спасателей, эвакуация прошла на удивление оперативно и заняла чуть больше двух часов.
Через шесть дней, когда новые, более масштабные замеры выявили чудовищный уровень загрязнения, из Москвы пришло распоряжение: радиус зоны эвакуации должен быть увеличен с изначально установленных десяти километров до тридцати, и зона теперь охватила территорию в 2800 квадратных километров. В результате люди, которых вывезли в ближайшие населенные пункты, столкнулись с необходимостью нового переезда. Не оставляя попыток сохранить секретность, власти перевезли жителей Припяти и прилежащих деревень на расстояние в пределах 60 километров от АЭС и беспорядочно разместили по городкам и селам. Известно о случаях, когда семьи оказывались разделены, когда хозяева отказывались пускать к себе беженцев и когда люди заботились о чужих детях. Следуя указаниям ехать налегке, некоторые оставили дома даже деньги и документы (а в СССР без документов и шагу нельзя было ступить), и это впоследствии создаст им немало дополнительных проблем. Многие люди вполне резонно считали, что уехали недостаточно далеко от места аварии, и пытались своим ходом убраться подальше. Один вертолетчик позднее рассказывал, что он видел с воздуха: «Огромные толпы легко одетых людей, женщин с детьми, стариков шли по дороге и обочинам в сторону Киева»[194]. Уже в мае, когда стало очевидно, что загрязнение остается опасно высоким, зону эвакуации еще больше расширили для беременных женщин и детей – причем из-за радиоактивного дождя пришлось эвакуировать даже населенные пункты, расположенные в четырехстах километрах от Чернобыля. В общей сложности в 1986 году свои дома покинули около 116 тысяч человек из 170 городов и сел[195]. Позднее было вывезено еще 220 тысяч человек в Украине, России и Беларуси[196].
Получивших самые большие дозы 129 человек – сюда вошли пожарные, работники станции и одна охранница – самолетом отправили из припятской медсанчасти в знаменитую московскую Шестую больницу, которая специализируется на радиационной медицине. Доставили их в уже очень тяжелом состоянии. Членам семей запретили к ним приближаться, поскольку их тела сами стали источниками излучения, а других пациентов переместили с их этажа в другие отделения[197]. Даже местный персонал боялся к ним подходить. «Многие врачи, медсестры, особенно санитарки этой больницы через какое-то время заболеют. Умрут. Но никто тогда этого не знал…» – рассказывает Людмила Игнатенко, жена одного из погибших пожарных, в пронзительной книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва»[198]. Алексиевич приводит много врезающихся в память монологов. Иван, один из пожарных, вспоминает: «Я проснулся в больнице, в Москве, там нас было сорок пожарных. Мы сначала шутили о радиации. Но потом услышали, что у одного нашего товарища сначала кровь из носа и рта пошла, а потом он весь почернел и умер. Шутки кончились»[199]. Не исключено, что он имел в виду Правика, который был одним из первых погибших от облучения. Когда в Шестой больнице мест не осталось, лечение серьезно пострадавшим организовали в больницах номер семь и двенадцать. Увы, о пациентах тех двух больниц – в отличие от Шестой – никакой информации нет[200].
Людмила Игнатенко вспоминает о последствиях аварии в жутких деталях: «Врачи почему-то твердили, что они отравились газами, никто не говорил о радиации… Он стал меняться – каждый день я уже встречала другого человека. Ожоги выходили наверх. Во рту, на языке, щеках сначала появились маленькие язвочки, потом они разрослись… Другие барокамеры, где лежали наши ребята, обслуживали солдаты, потому что штатные санитары отказались, требовали защитной одежды. Солдаты выносили судно. Протирали полы, меняли постельное белье. Полностью обслуживали… [Это были солдаты из той же части химических войск, которая сделала первые замеры в Чернобыле. – Э.Л.] Только он… Он… А каждый день слышу: умер, умер. Умер Тищура. Умер Титенок. Умер… Стул двадцать пять – тридцать раз в сутки. С кровью и слизью. Кожа начала трескаться на руках, ногах. Все тело покрылось волдырями. Когда он ворочал головой, на подушке оставались клочья волос… В морге спросили: “Хотите, мы покажем вам, во что его оденем?” Хочу! Одели в парадную форму, фуражку наверх на грудь положили. Обувь не подобрали, потому что ноги распухли… Парадную форму тоже разрезали, натянуть не могли, не было уже целого тела… В больнице последние два дня… Кусочки легкого, кусочки печени шли через рот. Захлебывался своими внутренностями»[201].
Через два месяца она родила ребенка. Девочка прожила всего четыре часа, а потом умерла от врожденного порока сердца. У нее был цирроз печени – она получила 28 рентген от отца, одного из двадцати девяти, погибших от острого облучения.
Свои последние, предсмертные недели чернобыльские операторы провели в размышлениях, что могло стать причиной взрыва. «В курилке 6-й клиники собирались каждый день выздоравливающие, и всех мучило одно: почему взрыв? – вспоминал В.Г. Смагин, начальник утренней смены на четвертом энергоблоке, принявший вахту у Акимова. – Думали-гадали. Предполагали, что гремучка могла собраться в сливном коллекторе охлаждающей воды СУЗ. Мог произойти хлопок, и регулирующие стержни выстрелило из реактора. В результате – разгон на мгновенных нейтронах. Думали также о “концевом эффекте” поглощающих стержней. Если парообразование и “концевой эффект” совпали – тоже разгон и взрыв. Где-то все постепенно сошлись на выбросе мощности»[202].
Особенно страдал Акимов. Он медленно, мучительно, неотвратимо умирал на больничной койке, терзаясь мыслями, что все это его вина, ведь именно он нажал роковую кнопку, и никак не мог понять, почему все пошло настолько не так. Жена видела его в последний раз за день до смерти. «Пока мог говорить, он все время повторял отцу и матери, что все делал правильно, – пересказывает ее слова Григорий Медведев в “Чернобыльской тетради”. – Это его мучило до самой кончины… [В мое последнее посещение] он уже не мог говорить. Но в глазах была боль. Я знаю, он думал о той проклятой ночи, проигрывал все в себе снова и снова и не мог признать себя виновным. Он получил дозу 1500 рентген, а может быть, и больше, и был обречен. Он все более чернел и в день смерти лежал черный как негр. Он весь обуглился. Умер с открытыми глазами»[203]. Это было 10 мая, погожий весенний день. Вслед за Акимовым быстро ушли и другие: сначала пожарные, а потом операторы – те, кто облучился сильнее всех. Двадцатишестилетний Леонид Топтунов умер 14-го. Дятлов провел в больнице полгода, но остался в живых[204].
Доктор Орлов, которому исполнился сорок один год, – он был вторым из медиков, кто прибыл в Чернобыль, – тоже провел последние дни в Шестой клинике. «Когда я увидел Орлова впервые, у него уже были все признаки тяжелой лучевой болезни, – вспоминает Роберт Гейл в своей книге “Чернобыль: Последнее предупреждение”. Гейл – американский врач, который вместе с советскими коллегами боролся за жизнь самых безнадежных пациентов Шестой клиники. – Все лицо в черных герпетических волдырях, десны – в белых кандидозных струпьях, похожих на соцветия дикой моркови. Потом за несколько дней с него сошла кожа, а десны стали цвета пожарной машины – как сырая говядина. Тело покрыто язвами. Кишечные мембраны разрушились, и у него началась кровавая диарея. Для облегчения боли мы вводили морфий, но и тогда, в бреду, он испытывал сильнейшие страдания. Природа радиационных ожогов такова, что они не излечиваются, а, наоборот, становятся хуже, поскольку старые клетки отмирают, а новые из-за поражения воспроизводиться не могут. Ближе к концу Орлов стал практически неузнаваем, и, когда через несколько дней после катастрофы он умер, его смерть показалась благословенным избавлением»[205].
В общей сложности после катастрофы около ста тысяч человек прошли обследование, восемнадцати тысячам из них потребовалась госпитализация. Потребовались совместные усилия тысячи двухсот врачей, девятисот медсестер, трех тысяч интернов и семисот студентов-медиков – все посменно работали, чтобы обеспечить им круглосуточный уход[206].
Мир какое-то время оставался в полном неведении о том, что произошло. Но утром в понедельник 28 апреля (по совпадению, я пишу эти строки как раз 28 апреля) датчики радиационного контроля на проходной шведской АЭС Форсмарк – в тысяче с лишним километров от Чернобыля, – когда через проходную шел инженер Клифф Робинсон, вдруг сработали. «Первое, что пришло в голову: началась война и где-то сбросили атомную бомбу, – говорит Робинсон. – Либо авария случилась на Форсмарке, мы перепугались»[207]. Со станции эвакуировали большую часть персонала – около шестисот человек, – а оставшиеся специалисты тут же занялись поисками утечки. Анализ изотопов из воздуха показал, что источник, к счастью, – не бомба, а реактор. Изучение траектории радиоактивных частиц, проведенное шведским Институтом метеорологии и гидрологии, выявило, что летят они с юго-востока, с территории Советского Союза. Посол Швеции в Москве позвонил в Государственный комитет СССР по использованию ядерной энергии, но ему ответили, что комитет никакой информацией не располагает. Другие министерства, куда были направлены запросы, тоже заявили, что им неизвестно ни о каких авариях. К вечеру финские и норвежские станции мониторинга тоже обнаружили в атмосфере высокое содержание радиоактивных частиц[208].
Шила в мешке не утаишь, и советскому руководству ничего не оставалось делать, кроме как скрепя сердце признаться миру: мол, да, авария имела место. По московскому радио передали краткое уклончивое сообщение: «На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия». Отказ обнародовать подробности, кроме воспринятой с недоверием информации о двух жертвах (которая, впрочем, на тот момент соответствовала действительности), породил на Западе множество домыслов. Информационное агентство «Юнайтед Пресс» со ссылкой на сомнительный киевский источник, близкий к местным спасательным службам, опубликовало новость о двух тысячах погибших, и все ее подхватили. «Восемьдесят человек скончались на месте, – передало агентство, – и около двух тысяч умерло по дороге в больницу»[209]. Газета «Нью-Йорк Пост» решила переплюнуть коллег и 2 мая опубликовала нелепую и провокационную передовицу под заголовком «Массовая могила для 15 000 жертв»[210].
Когда разобрались с эвакуацией Припяти, все внимание было вновь сосредоточено на двух задачах: потушить реактор и прекратить выброс продуктов распада из активной зоны. Легко сказать, конечно, но комиссия пользовалась полномасштабной правительственной поддержкой, а это означало, что в ее распоряжении были любые необходимые ресурсы. Вертолетчики – а некоторых из них даже отозвали с афганской войны – совершали постоянные облеты четвертого энергоблока и сбрасывали мешки с песком в плавящийся кратер. Самая первая бригада по наполнению этих мешков состояла из трех человек: два замминистра и генерал-майор ВВС Антошкин. «Быстро упарились, – вспоминал заместитель министра энергетики и электрификации СССР Геннадий Шашарин. – Работали кто в чем был: я и Мешков – в московских костюмах и штиблетах, генерал – в парадном мундире. Все без респираторов и дозиметров»[211]. Состояние здоровья первых нескольких десятков экипажей вскоре сильно ухудшилось: им пришлось летать на высоте 200 метров над реактором при температуре до 200 °С и сбрасывать мешки вручную один за другим, высовываясь из кабины для прицела. Конструкторы вскоре придумали систему, которая при помощи подвешенной под фюзеляжем сетки и рычага в кабине позволяла сбрасывать по восемь мешков за полет[212].
Благодаря мешкам температура горения быстро упала, но резко выросло содержание радиоактивных частиц в воздухе, поскольку при ударах тяжелых мешков увеличивались выбросы осколков и пепла. К концу первого дня генерал-майор Антошкин с гордостью доложил Щербине, что в реактор сброшено 150 тонн. Тот ответил: «Сто пятьдесят тонн песка такому реактору – как слону дробина»[213]. Ошеломленный генерал распорядился, чтобы в Зону привезли больше солдат и вертолетчиков. Эти молодые пилоты после многократных вылетов к реактору придумали засовывать под сиденья свинцовые пластины для минимизации излучения снизу. Несмотря на эти кустарные средства защиты, многие из них получили смертельные дозы и умерли.
28 апреля с вертолетов сбросили 300 тонн песка. 29-го – 750 тонн, 30-го – 1500 тонн, в Первомай – 1900 тонн. В общей сложности в реактор упало около 5000 тонн. К вечеру 1 мая ежедневный сброс решили вдвое сократить, опасаясь, что такого веса не выдержит бетонная опора реактора[214]. Если это случится, то все рухнет в бассейн-барботер – специальный резервуар с холодной водой для аварийных охлаждающих насосов, который также служит системой для сброса давления – в нештатных ситуациях там конденсируются излишки пара. И тогда может произойти тепловой взрыв, который, по оценкам советских физиков, превратит в пар топливо из оставшихся трех реакторов и сровняет с землей территорию в 200 квадратных километров, оставит без чистой воды 30 миллионов человек и навсегда сделает север Украины и юг Беларуси непригодными для жизни[215]. Шансы на такой исход считались минимальными, но полностью их со счетов не сбрасывали. На самом деле столь масштабной катастрофы произойти не могло, поскольку расплавленный уран не способен вызвать ядерный взрыв, но все равно ситуация бы по меньшей мере ухудшилась.
Тушение пожаров на станции стало важным шагом на пути к тому, чтобы взять ситуацию под контроль, но главная опасность отнюдь не миновала. Как мы знаем сегодня, в активную зону попала лишь малая часть нейтронопоглощающей боровой смеси. Мешки с песком частично закупорили открытый зазор между накренившейся плитой верхней биозащиты и находящейся снизу стенкой реактора. В результате из-за снижения теплообмена между активной зоной и окружающей средой температура внутри выросла. Она поднялась по меньшей мере до 2250 °С. Это температура плавления рутения, который был обнаружен в радиоактивных испарениях из активной зоны, что подтвердило версию о расплавлении[216]. Вместе с тем рос выброс продуктов распада в атмосферу. Наивный план Легасова, родившийся из отчаянной потребности сделать хоть что-нибудь, лишь усугубил ситуацию.
При высоких температурах компоненты активной зоны (топливо, оболочки ТВЭЛов, стержни управления и т. д.) плавятся, образуя лавообразную радиоактивную массу. Она способна прожечь гермооболочку реактора и, теоретически, даже бетонный фундамент реакторного зала. Если это случится и лава достигнет водоносного горизонта, с некоторой вероятностью может произойти колоссальный тепловой взрыв с теми же последствиями, что и взрыв в бассейне-барботере. Интересно отметить, что в современных российских реакторах предусмотрено специальное устройство – ловушка расплава, – созданное на случай такого развития событий и представляющее собой резервуар с металлическим сплавом. Если расплавленные компоненты активной зоны пройдут сквозь гермооболочку, сплав в ловушке растворится в лаве, при этом энерговыделение снизится и возникнут завихряющиеся потоки, которые отнесут расплав к охлаждаемым стальным стенам.
Когда варианты решения проблемы в Чернобыле иссякли, членам чрезвычайной правительственной комиссии осталось лишь – по их словам – «считать жизни»[217]. Это была отвратительная необходимость: поскольку спасение Чернобыля требовало огромного числа человеческих жертв, Легасов, Щербина и другие члены комиссии, обсуждая на заседаниях те или иные меры, оценивали: «На это надо положить столько-то жизней».
Как я уже сказал, главную озабоченность вызывало то, что активная зона прожжет нижнюю биозащиту и попадет в бассейн-барботер, а оттуда пойдет к фундаменту. Для минимизации риска требовалось сделать две вещи. Во-первых, осушить бассейн – но обе его заслонки, расположенные в подвале, где после тушения пожара стояла радиоактивная вода, можно было открыть только вручную. Во-вторых, комиссия решила, что землю под реакторным залом необходимо заморозить жидким азотом – это укрепит грунт, создаст дополнительную поддержку для опоры и снизит температуру перегретой лавы.
6 мая три отважных добровольца вместе спустились в гидрокостюмах в подвальные помещения[218]. Это были старший инженер-механик реакторного цеха Алексей Ананенко (он знал расположение задвижек), старший инженер турбинного цеха Валерий Беспалов (позднее он откроет вторую задвижку) и начальник смены Борис Баранов (он выполнял функции страховочного дублера-спасателя и освещал путь). Они прекрасно понимали все риски и знали, какой внизу уровень радиации, но им, скорее всего, пообещали, что об их семьях хорошо позаботятся[219]. «Иногда пропадал свет, действовали на ощупь, – рассказывал Ананенко в интервью ТАСС вскоре после возвращения. – И вот чудо: под руками заслонка. Попробовал повернуть – поддается. От радости аж сердце екнуло»[220]. Когда они отвернули вентили, «послышался характерный шум или плеск – вода пошла. И нам оставалось только вернуться и подняться». Из бассейна вышло 3200 тонн воды, но герои не выжили – симптомы лучевой болезни проявились, уже когда они только вышли из воды. Так гласит легенда[221].
Как все было на самом деле и что стало с ними самими? Опасность проникновения в подвал существовала, но в современной мифологии она все же несколько преувеличена. Доступу к заслонкам бассейна-барботера мешала вода, заполнявшая герметичные коридоры и прилегающие помещения. Для решения задачи потребовалась группа обученных пожарных в респираторах и резиновых костюмах и военных из химических войск, которые установили насосные машины в транспортном коридоре под реактором и проложили к воде четыре специальных сверхдлинных шланга. После этого они укрылись в безопасном бункере Брюханова под административным зданием. Прошло три часа, а вода все не убывала, и пожарные пришли к неутешительному выводу: на шланги, скорее всего, наехала насосная машина и они отсоединились. Сменившие их коллеги доставили двадцать новых шлангов и вошли в здание. Через час пожарные вышли – они выбились из сил, их мутило, но вид у них все равно был довольный: шланги установлены, откачку радиоактивной воды можно начинать[222].
Когда пожарная операция завершилась, в подвальных помещениях еще оставалась вода, но к вентилям уже можно было пройти. Сначала туда отправили «разведчиков» для замера радиации в разных частях подвала. В некоторых надежных источниках упоминаются еще несколько человек, заходивших внутрь, но их роль неясна или, возможно, речь шла о тех же «разведчиках». Что касается выбора Ананенко, Беспалова и Баранова – просто так получилось, что они заступили на смену как раз тогда, когда завершилась откачка. Баранов был старше своих коллег по должности, поэтому принял решение: Ананенко с Беспаловым пойдут перекрывать заслонки, а он будет сопровождать их для страховки. Они в гидрокостюмах пробирались по воде, которая местами была по колено, в коридоре, битком набитом всевозможными трубами и вентилями. У каждого имелось по два дозиметра, один привязан к грудной клетке, а другой – к лодыжке. Когда они оказались в главном коридоре, Баранов остался у входа, а Ананенко пошел вдоль трубы, которая, как он надеялся, ведет к бассейну. И он не ошибся. Опасения, что в темном лабиринте из бетона и металла ему не удастся найти нужную заслонку или что сам вентиль заклинит, оказались напрасными. Спустив воду из бассейна, они вернулись наверх.
В некоторых фольклорных рассказах говорится, что они умерли через пару часов, в других – что прожили еще несколько недель или даже месяцев, но в сообщении ТАСС, которое и послужило первоисточником этой истории, нет никаких упоминаний об их самочувствии. Нам известно, что у них, вероятно, были проблемы со здоровьем – в основном из-за той вылазки, но и вследствие общей радиационной обстановки на станции. Однако вода служит превосходным щитом от нейтронов, так что она-то, видимо, и предотвратила куда более серьезное облучение. В статье от 16 мая 1986 года об этих героях говорится, что они скромны и «смущаются проявленным к ним вниманием», так что на тот момент они чувствовали себя нормально[223].
Алексей Ананенко здравствует по сей день. Он по-прежнему служит в ядерной отрасли и участвует в чернобыльских работах. Я говорил с ним в марте 2016 года – правда, очень кратко. В книге Роберта Гейла упоминается пациент с фамилией Баранов, который умер через несколько недель после облучения. Но это электрик Анатолий Иванович Баранов, скончавшийся от острой лучевой болезни 20 мая[224]. А Борис Баранов умер от сердечного приступа в 2005 году в возрасте 65 лет[225]. Информации о Беспалове почти нет[226], но известно, что он жив. Рассказывая в одном из интервью о пережитом, Ананенко кратко, но выразительно говорит о Беспалове: «Стараясь восстановить те далекие события, я позвонил моему товарищу Валере Беспалову, и он рассказал мне про эпизод, который я не запомнил, но который очень хорошо характеризует тогдашнюю обстановку на АЭС. По его словам, когда мы на пути следования к “два ноля первому” приблизились ко входу в транспортный коридор четвертого блока, Баранов остановился, выдвинул телескопическую ручку ДП-5 на полную длину и высунул датчик в коридор. “Я глянул через плечо Баранова на показания, – вспоминает Валера, – прибор зашкаливало на всех поддиапазонах. Тогда последовала короткая команда: «Двигаться очень быстро!» Перебегая опасное пространство, я не удержался, оглянулся и увидел гигантский черный конус фрагментов взорванного реактора вперемешку с бетонной крошкой, просыпавшейся сверху через технологический проем из центрального зала. Во рту появился знакомый металлический привкус…”»[227]
То, что все трое, оказывается, столько прожили после аварии, стало для меня настоящим откровением, поскольку история о водолазах, отдавших жизни ради спасения станции, – одна из самых знаменитых чернобыльских легенд. Во всех англоязычных источниках, с которыми я успел познакомиться до момента этого откровения в 2016 году, – будь то книга, документальный фильм или сайт, – говорится, что они умерли. В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко во время поездки на АЭС наградил всех троих орденами «За мужество». Лично присутствовал на награждении лишь Ананенко (он держал в руке трость – после автомобильной аварии), но на церемонии сообщили, что Беспалов, несмотря на отсутствие, тоже жив. Баранов получил орден посмертно. Год спустя, после того как выпущенный американской студией HBO мини-сериал «Чернобыль» напомнил миру о той катастрофе, теперешний президент Украины Владимир Зеленский сделал следующий шаг вслед за своим предшественником – выпустил указ о присвоении Ананенко, Беспалову и Баранову звания «Герой Украины».
В тот же день, когда выпускали воду из бассейна, на территории станции установили буровое оборудование и стали готовиться вводить в грунт под фундаментом жидкий азот, однако заказанный азот не везли уже больше суток. Разъяренный этой задержкой зампредседателя Совета министров СССР Иван Силаев позвонил Брюханову: «Разыщи азот, или тебя расстреляют»[228],[229]. И тот разыскал: водители автоцистерны боялись приближаться к станции, но проведенный армейскими офицерами сеанс убеждения заставил их вновь тронуться в путь. Закачку азота начали, не дожидаясь рассвета.
Примерно в это же время на станцию пригласили двух высоких чинов из МАГАТЭ – генерального директора Агентства шведа Ханса Бликса и американца Морриса Розена, руководителя Отдела ядерной безопасности. Они обсудили с местными чиновниками аварию и меры, предпринимаемые для минимизации последствий. По возвращении они дали интервью немецкому журналу «Шпигель», но их ответы были малоинформативными и односложными «”Как по-вашему, советские реакторы менее или более безопасны, чем западные?” “Это разные типы реакторов”, – сказал Розен. “Насколько высока была интенсивность излучения?” – “Мы об этом не спрашивали”»[230].
10 мая температура и уровень радиоактивных выбросов пошли на спад. К 11-му числу, через несколько дней после спуска воды, группа техников прошла в нижние части здания, просверлила в стене отверстие на уровне ниже активной зоны и через него сделала замеры. Подтвердились худшие опасения: расплавленные компоненты активной зоны вызвали трещины в бетонной опоре реактора и по меньшей мере частично просочились в подвальные помещения. Еще чуть-чуть, и лава, пройдя сквозь фундамент самого здания, достигнет водоносного горизонта. Требовалось лучшее и более радикальное решение проблемы, чем подача жидкого азота.
На следующий же день делегации из Москвы отправились в советские шахтерские регионы на поиски людей для выполнения операции по охлаждению грунта под разрушенным реактором. Их доставили в Чернобыль 13 мая, и они приступили к работе. «Задача у нас стояла одна, – рассказывает один из тульских шахтеров, – это от третьего реактора пройти туннель сто пятьдесят метров под аварийный четвертый реактор, смонтировать камеру тридцать на тридцать метров в периметре для того, чтобы там потом установить [холодильное оборудование], [которое будет] охлаждать реактор из-под земли»[231]. Ученые опасались, что отбойные молотки нарушат целостность опоры реактора, поэтому шахтерам сказали работать ручными инструментами. Чтобы уменьшить облучение, туннель к четвертому блоку проходил на глубине двенадцати метров. Шахтеры работали круглые сутки и завершили туннель через месяц и четыре дня – в обычной шахте на эту работу ушло бы три месяца. Сами условия прохождения туннеля не позволяли организовать вентиляцию, поэтому доступ кислорода был весьма ограниченным, а температура достигала 50 °С.
Радиоактивность в туннеле составляла как минимум 1 Р/ч, но из-за чрезвычайной срочности и огромного темпа работ шахтеры рыли без защитного снаряжения – даже имевшиеся в распоряжении респираторы все равно за несколько минут наполнялись влагой и становились бесполезны. В конце туннеля, на подходе к реактору, радиоактивность достигала 300 Р/ч, но шахтеров никто не предупредил о реальном уровне опасности, и все до единого получили значительную дозу облучения. Один из шахтеров, Владимир Амельков, спустя много лет рассказывал: «Ехать нужно было, не мы, так другие. Но кому-то нужно было ехать… Мы сделали свое дело. Нужно или не нужно – теперь об этом говорить поздно. Но я считаю, что не зря туда съездил»[232]. Шахтеры выполнили свою задачу, но охладитель под четвертым блоком так и не установили, поскольку температура активной зоны начала падать сама. Подземную камеру в итоге залили жаростойким бетоном. Официальные данные не публиковались, но, согласно оценкам, примерно каждый пятый шахтер – им всем было от двадцати до тридцати лет – умер, не дожив до сорока[233]. «Шахтеры погибли напрасно, – со скорбью говорит руководитель учебных программ станции Вениа мин Прянишников. – Все, что мы делали, было впустую»[234],[235].
Глава 7 Радиация
Мой беспробудный сон прерывает будильник. Такое чувство, что я спал не восемь часов, а два. Пошатываясь и протирая спросонья глаза, встаю с кровати, поднимаю разбросанные на полу вещи и бреду на нашу тесную кухоньку выпить утреннюю чашку сладкого чая. Мы выезжаем рано, сегодня наш главный объект исследования – Припять.
Я стараюсь путешествовать налегке. Это продиктованный практикой сознательный выбор, чтобы не волноваться о потерянном багаже или не таскать с собой ненужную ношу. Дэнни, например, взял с собой целую охапку фотоальбомов. Две смены белья, зубная щетка и вдоволь дезодоранта – вот и все, что требуется, если уезжаешь на пару дней. Признаю, кого-то это может раздражать, но я терпеть не могу, когда в руках больше чем одна сумка, за единственным исключением – штатив в чехле. И, конечно же, вместо одежды я набираю с собой целую кучу фотопринадлежностей, а объективы, надо сказать, несколько тяжелее носков. Такое количество объективов мне в жизни не пригодится, как и гора батареек, с которыми можно наснимать столько кадров, что они не влезут на все мои многочисленные карты памяти; а еще – зарядки для телефона, камеры и лэптопа; два кардридера (один запасной); кабели для всего сущего в природе (если, мало ли, оба кардридера вдруг сломаются); бленды для объективов; масса чистящих принадлежностей; насадка на штатив для телефона, чтобы снимать видео (ни разу в жизни еще не пригодилась); и еще целая коллекция самых разных мелочей. Результат предсказуем: вся моя экономия на вещах с лихвой покрывается – и по весу, и по объему – нелепой и беспорядочной массой фотоснаряжения. Я постоянно предаюсь горьким сожалениям по поводу своей багажной философии, которая оправдывается лишь в такие редкие дни, как сегодня.
Мне понадобится много сил, и я с усердием олимпийского спринтера поглощаю целую тарелку курицы с огурцами и помидорами. Мы хватаем сумки и шеренгой выходим на сырой воздух, а там нас встречает живописнейший восход – я такого уже много месяцев не видел. Вся наша группа любуется красным пятном, которое разливается по ярко-синему небу, давая жизнь новому дню и расплескивая блики света по лужам и окнам. Как и накануне, люди в почти полной тишине медленно движутся к вокзалу. Это похоже на похоронную процессию, и даже мы друг с другом почти не говорим – возможно, на настроение нашей группы повлияли вчерашние впечатления. Насколько я понимаю, электричка идет прямо из Чернигова, что примерно в сорока километрах к востоку от Славутича. Она подъезжает к платформе, внутри – никого, если не считать машиниста, а значит, едва ли у нее где-то были еще остановки. Мы заходим – я остаюсь стоять, – и вот мы с грохотом мчимся мимо тихих топей и болот, простирающихся по обе стороны от дороги. Сейчас октябрь, цветы не цветут, ландшафт за моим запотевшим окном настолько уныл, что невозможно представить, как сюда могут забрести явно чуждые этому краю яркие краски. Но север Украины – одно из самых плодородных мест в Европе, так что весной здесь вид, наверное, совсем иной.
В Припяти нам сначала пришлось трястись в автобусе по ухабам к нашему первому на сегодня пункту – свалке на грязном пустыре под названием Буряковка в 10 километрах к востоку-юго-востоку от ЧАЭС, где в 1986 году ликвидаторы аварии организовали могильник для захоронения радиоактивных отходов низкого уровня загрязнения – снесенных зданий, домашней утвари, разного рода техники. Могильник состоит из выкопанных в два ряда тридцати траншей 150×50 метров, емкость каждой – 22 тысячи кубометров[236]. Пустует лишь одна, остальные похожи на покрытые травой холмики, а я сейчас стою на кладбище подвижной техники в юго-восточном углу пустыря. «Остановка – пять минут, здесь очень высокая радиация, – объявил через переводчика Марек, обводя нас мрачным взглядом. – “Пять минут” следует понимать буквально. Ничего не трогайте. Когда я крикну: “Время!”, вы бегом – именно бегом – возвращаетесь к автобусу».
У меня падает сердце. Тут, наверное, сотни разных машин – все выстроены в ряд на огромном открытом пространстве. Я теряюсь, с чего начать. Сначала взгляд падает на бронированные машины химических войск – на них возили солдат по Чернобылю. За ними стоят бульдозеры – такие же, как я видел в хронике и на фотографиях Игоря Костина, они работали в зараженных и не подлежащих спасению деревнях. Я мечусь с места на место, не обращая внимания на композицию в кадре, у меня нет времени даже толком разглядеть сами объекты. Ничего, разгляжу уже на снимках, у меня для этого будет целая вечность. Щелк – и бегом, щелк – и бегом. Бесчисленные тускло-зелено-бурые грузовики; случайный выпотрошенный автобус; автоцистерны; прицепы; фрагменты самолетных корпусов; пожарные машины, чья красная краска уже практически неотличима от ржавчины. Многие ли из их экипажей сегодня еще живы?
И вдруг – ничего себе! Я в полном экстазе: передо мной, уютно пристроившись между двумя грузовиками, стоит часть транспортного робота-«лунохода» СТР-1, который сбрасывал ядерное топливо и графит с кровли ЧАЭС. Он меньше, чем я ожидал, его серебристо-белая окраска и пухлые металлические колеса выделяются среди спущенных покрышек на общем зеленовато-коричневом фоне. Я останавливаюсь разглядеть его как следует. Показываю на него другому стоящему неподалеку фотографу, но тот смотрит с недоумением. Он не понимает всей важности этой машины, вероятно, даже не знает, на что именно смотреть, – ведь это всего лишь груда металлолома. Для меня чистка той кровли – нечто мифологическое, это как легенда, которую рассказывают у костра. Радиация была столь высока, что даже этот робот – спроектированный для работы в космосе, в самой неблагоприятной для человека среде – не выдержал, и на смену ему в порыве отчаянного самопожертвования пришли люди. Отведенное время моментально кончилось, а я еще не видел и половины машин. На некотором удалении замечаю вертолеты, стиснутые между другими удивительными, легендарными фрагментами истории, но времени на съемку больше нет. Всего один день.
Мы с Дэнни, Кейти и Давидом – матерые, многоопытные исследователи городских пространств. Я проникал с фотоаппаратом в заброшенные больницы, школы, особняки, гостиницы, замки, самые разные мельницы, ТЭЦ, наземные и подземные железнодорожные станции, винокурни, церкви, целые деревни и даже – предмет моей особой гордости – в бывший сверхсекретный испытательный центр времен холодной войны под названием Национальный газотурбинный институт в Пайстоке, затаившийся в сосновом бору к западу от Лондона. И несмотря на весь свой опыт, я не видел ничего, хотя бы приближающегося к масштабам Припяти.
Сегодня у нас шесть часов на весь город. Сразу ясно, что этого времени – как всегда бывает с самыми лучшими местами – катастрофически мало, чтобы увидеть и заснять все интересное. Припять была, конечно, сравнительно небольшим городом и по площади, и по населению, но все равно она слишком велика, чтобы обойти ее пешком за один день. Заранее спланировать, как именно провести эти шесть часов, чрезвычайно важно. Поэтому мы еще накануне вечером за чаем наметили, какие здания хотим увидеть. Изучив фотоальбомы из чемодана Дэнни, мы составили грандиозный список самых интересных, на наш взгляд, мест. Позже выяснилось, что из всей группы так поступили только мы и потому успели посмотреть гораздо больше других. Остальные просто бесцельно бродили по улицам, а некоторые вообще провели весь день в одном здании.
Медсанчасть номер 126 – единственная заслуживающая внимания цель к юго-востоку от места нашей высадки и самый удаленный от автобуса объект, так что мы начинаем маршрут с нее. Проходим мимо бесчисленных высоких многоквартирных домов, ярких панно на стенах и необычных конструкций, назначение которых я определить не берусь. Ради более многообещающих мест приходится полностью игнорировать здания, которым при других обстоятельствах я уделил бы целый день. В ночь аварии в эту медсанчасть привезли первых пораженных радиацией операторов и пожарных – Акимова, Топтунова, Дятлова, Перевозченко, Правика. Все они некоторое время пролежали здесь. Жаль, что я не знаю, в какие именно палаты их определили и сохранились ли медицинские записи среди тысяч бумаг, валяющихся в каждом помещении. Увы, даже если бы я увидел их имена, то не разобрал бы кириллицу.
На подходе к больничному зданию, облицованному песчано-коричневой плиткой и закамуфлированному золотой листвой деревьев, я замечаю у входа одиноко ржавеющее гинекологическое кресло. Мне всегда любопытно, как тот или иной предмет оказался там, где оказался. В какой момент из этих двадцати пяти лет кто-то решил вытащить кресло из кабинета, прокатить его по коридору и через главный вестибюль, потом протащить в двери, спустить по ступенькам и поставить здесь? Для чего это кому-то понадобилось? В кромешной тьме подвала валяются излучающие радиацию пожарные шлемы, робы и ботинки, и я не решаюсь спуститься. Это сырое, клаустрофобическое, похожее на лабиринт пространство – самое зараженное место в городе. Даже со своим фонариком я имею все шансы там заблудиться, рискуя при этом наглотаться ядовитой пыли, а это куда опаснее, чем облучение кожи. Как и любой другой объект в Припяти, медсанчасть была многократно разграблена корыстными гостями. Поначалу – хитростью или подкупив солдат – сюда пробирались воры в поисках чего-нибудь ценного, оставшегося после эвакуации, и некоторым из них пришлось поплатиться, поскольку добыча могла оказаться весьма радиоактивной. А в последние лет десять любопытные туристы тоже, увы, то и дело прихватывали с собой какую-нибудь мелочь. Порой – на продажу (это совсем непростительно), порой – чтобы сберечь. Мне понятно их искушение. Когда видишь, как на земле валяется частица истории, первый инстинкт – подобрать и сохранить, но тут нужно всегда напоминать себе, что этот предмет не твой. Он – фрагмент чернобыльской легенды, и место ему – там, где он лежит.
Я прохожу первый этаж без остановки и сразу поднимаюсь по бетонной лестнице, надеясь, что верхние этажи, быть может, не так сильно осквернены вандалами. Но ничего подобного – наверху царит такой же разор, как внизу, да и что тут удивляться, прошло столько времени. Вокруг валяются сломанные стулья, снятые с петель двери, коробки, лампы дневного света, шкафы, остовы кроватей. Большинство палат – лишь голые стены с облупившейся краской, пустые комнаты с толстыми слоями пыли. Но кое-где обнаруживаются и сокровища. В запечатанных, размером с палец склянках на пыльных стеклянных полках чудесным образом сохранилась какая-то прозрачная жидкость. В некоторых кабинетах полно книг, медицинских карточек, административных документов. Операционный стол с нависающим классическим хирургическим светильником. Цветной настенный щит, объясняющий, как накладывать шину.
Как и с утра в Буряковке, на меня давит лимит времени: я постоянно помню, что мне нельзя ни на секунду спокойно и внимательно оглядеться, я вынужден нестись сломя голову, не успевая усвоить увиденное. Едва ли у меня получился хоть один снимок с осмысленной композицией, лишь чистая документалистика; сначала ты смотришь и слушаешь, а образы приходят лишь потом. У меня возникает чувство, что это как-то несправедливо по отношению к страдавшим здесь людям – носиться, как ребенок, стараясь увидеть как можно больше, пока время не схватило тебя за руку. По тому же досадному шаблону, что будет повторяться сегодня весь день, я покидаю медсанчасть совершенно неудовлетворенный тем, что мне удалось снять.
Дальше наш путь лежит в кинотеатр и музыкальную школу. Это рядом с гостиницей, которая, вместе с дворцом культуры, знаменитым колесом обозрения и аттракционом с машинками входит в кластер главных точек городского центра. Когда закончится отведенное на это время, мы направимся в еще одно медучреждение, в детсад и потом в бассейн. Завершим нашу прогулку посещением главной школы, а затем вернемся к автобусу. Столько всего нужно увидеть, а у нас, увы, лишь шесть часов, так что приходится обойти вниманием многие любопытные места – в том числе, например, завод «Юпитер».
У Дэнни замечательная идея: он собирается взять наши снимки за основу фотоальбома о наследии Чернобыля, который хочет выпустить к 25-летию аварии. Он сдержал слово, и книга увидела свет.
Прогулка по Припяти – трансцендентный опыт. Поздняя осень, повсюду опавшие листья, словно асфальт застелили золотым покрывалом. Мы шагаем по узким, растрескавшимся, стиснутым порослью дорожкам, вокруг нас все желто-оранжевое самых разных оттенков; дома и мостовые в дымке цвета виски служат постоянным напоминанием о надвигающейся зиме. Вокруг царит спокойствие, единственные звуки – ветерок, нашептывающий пожухлым листьям, что им пора признать поражение и опасть, еле слышные, но неумолимые, как колокол, удары сваебойной машины и мои собственные шаги. Все это наполняет меня почти новым, тревожным, не поддающимся описанию чувством, словно я во сне или иду через огороженную съемочную площадку. Куда бы я ни свернул, ощущение не исчезает, и это не декорации и не сон, а я действительно бреду по мертвому городу. В глубине души я допускаю, что сейчас зайду за угол, а там окажется, что это не настоящие дома, а просто сделанные из дерева фасады и где-то за ними слоняется скучающая съемочная группа в ожидании вызова на площадку.
Я называю это чувство почти новым, потому что уже однажды испытывал подобные ощущения – в непроглядной тьме подземной «Камеры 3» Пайстока. В Пайстоке разрабатывались и проходили испытания двигатели для «Конкорда» и британских военно-воздушных и военно-морских сил. Когда попадаешь в наземную часть здания, «Камера 3» поначалу кажется голым, ничем не примечательным помещением. Метров семь в длину и тридцать-сорок в ширину, окна от пола до потолка, на высоте вдоль стен какие-то переходы, в центре пустого пола – огороженный участок. В сравнении с другими объектами Пайстока все это смотрится скучно. Но, подойдя к ограждениям, видишь в полу колодец, а там – лежащий на боку массивный цилиндр, края которого не видны ни с одной, ни с другой стороны. На верхней стороне цилиндра отсутствует одна секция, но очевидного прохода вниз нет. Если найти, как туда попасть, – лично я спустился по шаткой шестидесятилетней деревянной лестнице, любезно оставленной сбоку одним из предыдущих исследователей, – то оказываешься внутри грандиозной машины.
На одном конце «Камеры 3» – десять зарешеченных вентиляционных отверстий вокруг центральной большой вытяжки, соединенной с тем местом, где устанавливался тестируемый турбореактивный двигатель. На другом конце – внушительная, промышленного вида откатная дверь. Но при близком осмотре выясняется, что она ненастоящая и сделана из дерева. В этом месте снимали логово главного злодея из боевика 2005 года (довольно заурядного) «Сахара» с Мэтью Макконахи. За дверью, согнувшись в три погибели, ты преодолеваешь узкий пятнадцатиметровый цилиндрический туннель и оказываешься в задней части «Камеры 3». Именно там-то я и ощутил себя словно во сне. Это пространство почти не поддается описанию. Туннель к концу расширяется и принимает форму барабана диаметром метров пять-шесть, в котором из покоробленных, освещенных светом фонарика стенок повсюду торчат останки непонятных механизмов. Дно залито мутной, медянистого цвета жидкостью с каким-то мусором на поверхности, из-за которого глубина кажется больше, чем на самом деле. Отсоединенные концы десятков труб со всех сторон тянутся к круглой, ребристой штуковине в центре – возможно, это что-то вроде теплопоглотителя, – сверху и позади нее можно с трудом разглядеть огромную черную дыру в потолке. Она напоминает о подземных туннелях, по которым рассекал корабль «Навуходоносор» в «Матрице».
В Припяти было все, что ожидаешь увидеть в небольшом городке, – правда, у меня не хватает времени, чтобы обойти хотя бы малую часть. Кроме упомянутой медсанчасти и соседствующих с ней клиник, в Припяти было пятнадцать детсадов, пять школ, профтехучилище и школа музыки и искусств, обширный парк, где дети могли играть, и тридцать пять детских площадок поменьше. Для досуга горожан там имелись десять спортзалов, три бассейна, десять тиров, два стадиона, четыре библиотеки и кинотеатр, издавалась своя газета. Торговля была представлена двадцатью пятью магазинами – включая книжный, универсам, гастрономы, спорттовары, электротовары и крупный торговый центр на главной площади. Сеть общепита состояла из двадцати семи закусочных, кафе и ресторанов, работавших по всему городу.
С каждой новой зимой здания в городе становятся все более небезопасными: дождевая вода попадает в щели на стенах, где замерзает, увеличиваясь в объеме и повреждая кирпичную кладку. А когда лед тает, вода вымывает раствор, вызывая обрушения. В школе № 1 за последние несколько лет подобные обрушения случались дважды, и вероятнее всего, многие припятские здания пришли в не менее аварийное состояние, поскольку за этим никто не следит. Думаю, еще лет двадцать пять, и большинство домов попросту рухнет. Удивительно, как относительно мало времени нужно природе, чтобы вернуть себе захваченное городом.
За купой деревьев виднеется кинотеатр «Прометей», имя которому дал вулканически-черный памятник греческому титану, стоявший у входа в те времена, когда в городе еще кипела жизнь. Мы заглядываем внутрь, но видим лишь не представляющую интереса полую оболочку. Нас гонит время, и мы спешим дальше. Проходим сквозь очередной сектор урбанистических джунглей и видим вход в музыкальную школу, а над ним – абстрактная мозаика из плитки, такую встретишь не каждый день. Мозаика не столь пресная, как основная часть припятских экстерьеров, она создает приятное впечатление. Думаю, ее назначением было стимулировать творческие и новаторские импульсы; я обожаю подобные архитектурно-философские вкрапления. В актовом зале на пустой сцене – величественный брошенный рояль. Прискорбно видеть, что такой роскошный инструмент оставили здесь гнить, и в глубине души мне жаль, что его никто не украл, хотя эта задача практически невыполнима. Но на нем, по крайней мере, тогда еще могли бы играть – а сейчас, когда я нажимаю на облупленные клавиши, лишившиеся своего покрытия цвета слоновой кости, слышу в ответ лишь безрадостные сдавленные щелчки. У задней стенки стоит одинокий стул, кем-то развернутый лицом к сцене. В зале, который мог бы кипеть жизнью, он смотрится неуместно – последний в своем роде. Наверху в классной комнате с пугающе пружинящим полом – еще один рояль, но его состояние куда хуже. У него нет ножек и нескольких клавиш, а порванные и перекрученные струны топорщатся в воздухе, словно кишки.
Теперь я хочу подробнее остановиться на лучевой болезни (официальное название – «острый радиационный синдром»), поскольку мне кажется важным понять, что испытывает человеческий организм, получивший огромную дозу радиации, – как те, кто спасал Чернобыль. Низкие дозы сравнительно безвредны. Мы все ежесекундно подвергаемся воздействию естественного фонового излучения в городах, самолетах, от телефонов и даже от самой земли. Конечно, каждый организм реагирует по-своему, но я постараюсь описать общие признаки этого недуга. Нередко можно услышать, что у радиации нет вкуса, но все, кто получил в Чернобыле самые высокие дозы, говорили, что во рту мгновенно появляется металлический привкус – то есть, по всей видимости, подвергшись смертельной дозе излучения, вы почувствуете ее на вкус. Также стоит отметить, что в этой ситуации само ваше тело становится источником опасности для окружающих.
После облучения вас почти сразу начнет тошнить и рвать, вскоре отекут веки и язык, а вслед за ними – и все тело. Вы почувствуете слабость, словно из вас выжали все жизненные соки. Если вы получили высокую дозу через прямое облучение – как в чернобыльском сценарии, – ваша кожа приобретет темно-багровый цвет; это явление часто называют ядерным загаром. Через час-другой вы почувствуете пульсирующую головную боль, лихорадку и диарею, после чего наступит шок и потеря сознания. За первым приступом нередко следует латентный период, и у вас возникнет иллюзия выздоровления. Тошнота отступит, отек частично сойдет, но некоторые симптомы останутся. Продолжительность латентного периода может быть разной, до нескольких дней, – многое, разумеется, зависит от дозы. И это жестоко – ведь появляется надежда, но потом вам становится неизмеримо хуже. Рвота и диарея возвращаются вместе с лихорадкой. Непрестанная мучительная боль охватывает все тело от кожи до костей, начинается кровотечение из носа, рта и прямой кишки. Выпадают волосы, а кожа рвется от малейших прикосновений, трескается и покрывается волдырями. Кости начинают гнить изнутри, лишая организм способности создавать новые кровяные клетки. Ближе к концу полностью отказывает иммунная система. Легкие, сердце и другие органы начинают распадаться и выходить вместе с кашлем. Кожа в итоге разрушится окончательно, и в организм беспрепятственно проникнет инфекция. Один человек из Чернобыля рассказывал, что стоило ему встать, как кожа с ноги соскользнула, как носок. При больших дозах радиация изменяет саму структуру ДНК – то есть вы буквально превращаетесь в другого человека. И потом в агонии умираете.
Глава 8 Дезактивация зоны
Когда первоочередные проблемы, связанные с горящим реактором, были решены, началась титаническая работа: требовалось очистить от радиоактивного мусора тридцатикилометровую зону отчуждения – в первую очередь вокруг станции, – а также спроектировать и построить гигантскую защитную оболочку, чтобы изолировать четвертый энергоблок от окружающей среды. Для участия в ликвидации последствий аварии привлекли военных и гражданских специалистов со всего Советского Союза, которых мы знаем как ликвидаторов. По данным ВОЗ, статус ликвидатора получили примерно 240 тысяч человек, работавших в зоне отчуждения в 1986–1987 годах. Операция в относительно широких масштабах продолжалась и позднее, и к 1990 году число получивших удостоверения ликвидаторов составило 600 тысяч[237].
Предстоял огромный объем работ. Одна смена у ликвидаторов могла длиться от нескольких минут до десяти часов – в зависимости от уровня радиации. В первую очередь построили одну крупную дамбу и несколько дамб поменьше, чтобы дожди не смывали радиоактивные мусор и пыль в реку Припять, жизненно важный для страны источник воды[238]. Это дало время, чтобы собрать, вывезти и захоронить все, что разнеслось по окружающей территории, в том числе погибшие деревья из Рыжего леса. Другие предложения по дезактивации леса – например, сжечь деревья – не были приняты, поскольку ветер и дождь продолжили бы распространение зараженных частиц[239]. Самые мощные транспортные вертолеты России круглосуточно облетали территорию, сбрасывая специальный полимерный композит для пылеподавления, чтобы подвижная техника не поднимала пыль в воздух, и ликвидаторы могли снимать верхний слой почвы для захоронения, а чтобы предотвратить разнос радиоактивных частиц автотехникой, в зоне прокладывали новые дороги[240]. Вдоль этих дорог на определенном расстоянии друг от друга расставили милицейские посты. Вооруженные дозиметрами и специальным дезактивирующим спреем, постовые окатывали этим спреем все проходившие мимо грузовики, легковые машины и бронетехнику. Принимали и еще более радикальные меры: например, самые зараженные деревни сносили бульдозерами и захоранивали, причем некоторые приходилось перезахоранивать дважды, а то и трижды[241]. Тысячи зданий, которые минула эта участь – включая весь город Припять, – тщательнейшим образом обработали химреагентами, а на улицах положили новый асфальт. На самой АЭС целиком заменили весь верхний слой почвы и все дороги. Вывезли и захоронили в общей сложности 300 тысяч кубометров грунта, а места захоронения залили бетоном. Это потребовало долгих месяцев работы. Ситуацию усугубляло то, что всякий раз, стоило в радиусе 100 километров от станции пройти дождю, появлялись новые пятна серьезного заражения благодаря тому, что лилось на землю из радиоактивных туч.
Охотничьи отряды неделями прочесывали зону, отстреливая брошенных домашних животных, которые уже стали сбиваться в стаи. Это было необходимое зло, чтобы избежать распространения радиации и нападений на ликвидаторов, а также спасти от страданий самих животных. «Первый раз приехали – собаки бегают возле своих домов. Сторожат. Людей ждут, – вспоминал Виктор Вержиковский, председатель Хойникского добровольного общества охотников и рыболовов. – Обрадовались нам, бегут на человеческий голос… Стреляли в доме, в сарае, на огороде. Вытаскивали на улицу и грузили в самосвалы. Оно, конечно, неприятно. Они не могли понять: почему мы их убиваем? Убивать было легко. Домашние животные… У них нет страха оружия, страха человека»[242]. Не все погибли от рук охотников. Николай Гощицкий, инженер, приехавший в начале июня в командировку с Белоярской АЭС, встречал во время поездки избежавших пули животных. «[Они] ползали по земле, полуживые, истерзанные болью… Птицы, как будто вылезшие из воды, с куцыми, свалявшимися перьями – ни летать, ни ходить… Кошки с нечистой, словно прожженной местами шерстью, и тоже не могут ни есть, ни пить толком»[243]. Животные, которые к тому моменту еще продолжали жить, все ослепли.
Дезактивация имела для ее участников свои последствия. «Нам сказали, что из-за этой работы нам нельзя пять лет иметь детей, – вспоминает Игорь, солдат-ликвидатор, который помогал эвакуировать семьи и убирать зараженный верхний слой почвы[244]. – А как объяснишь жене или девушке? Обычно ничего и не объясняли, надеялись, обойдется. Нашей задачей было снять верхний слой и грузить в самосвалы. Я думал, что захоронения – это такие серьезные, сложные сооружения, а это оказались просто открытые ямы, даже ничем не обложенные! Мы сворачивали эти слои в большие рулоны, как ковры, а в них оставались все червячки-жучки-паучки. Но нельзя же снять кожу со всей территории вместе со всем, что в ней живет. Мы сняли тысячи километров – не только земля, а кусты, дома, школы, всё. По вечерам мы напивались. Иначе никак»[245]. Выпивка среди ликвидаторов была обычным делом – тем более их убедили, что водка защищает от радиации.
В программу дезактивации также вошел проект, который неофициально назывался «Стена в грунте», – его целью было изолировать станцию от грунтовых вод. Вот что говорится в книге Жореса Медведева «Наследие Чернобыля»[246]: «Предотвратить попадание грунтовых вод из очага заражения в Припять и другие водоемы могло создание водонепроницаемого барьера… Слой глины располагался на глубине 30 метров от поверхности. Вокруг территории станции прорыли гигантскую траншею 32 метра в глубину [и 60 сантиметров в ширину] и залили в нее специальный бетонит и другие нерастворимые соединения. Получилась громадная водонепроницаемая панель с повышенными противофильтровальными свойствами. Отгороженная от гидрологической среды территория должна была выходить далеко за пределы саркофага, которым предполагалось накрыть реактор (то есть примерно 2–3 километра радиусом])»[247]. Подобный проект сейчас реализуется на Фукусиме, только там речь идет не о бетонном наполнителе, а о создании ледяной стены путем заморозки грунта.
На протяжении всей операции у ликвидаторов были проблемы с обеспечением средствами защиты – особую озабоченность это вызывало у тех, кто работал в непосредственной близости от станции. Им выдали по три комплекта на полгода. Некоторые демонстрировали легкомысленное отношение к своему здоровью. «Защитные средства – респираторы, противогазы, но никто ими не пользовался, потому что жара до тридцати градусов, – рассказывает Иван Жмыхов в книге “Чернобыльская молитва”[248], – напялишь – умрешь сразу. Расписались как за дополнительную амуницию и забыли». Почти на всех фотографиях, которые только можно найти, ликвидаторы – без противогазов: молодых ребят мало заботил невидимый враг. Григорий Медведев, участник ликвидации и расследования обстоятельств аварии, автор «Чернобыльской тетради», вспоминал: «Солдаты и офицеры собирали графит руками. Ходили с ведрами и собирали… Графит валялся и за изгородью рядом с нашей машиной. Я открыл дверь, подсунул датчик радиометра почти вплотную к графитовому блоку. 2 тысячи рентген в час. Закрыл дверь. Пахнет озоном, гарью, пылью и еще чем-то. Может быть, жареной человечиной»[249]. Солдаты, собирающие графит руками, – эта картинка иллюстрирует уровень информированности людей в первые дни ликвидации. Трудно представить, чтобы кто-то из увиденных Медведевым людей выжил. Ликвидаторы большей частью спали в обычных палатках, стоящих прямо в чистом поле. Некоторым из тех, кто работал поблизости от реактора, повезло: их разместили на восьми шикарных пассажирских теплоходах, пришвартованных у пристани в 50 километрах вниз по Припяти и служивших плавучими гостиницами для измученных работников[250]. Припятский бассейн и некоторые места отдыха скрупулезно и многократно очистили, чтобы людям в свободное время было где прийти в себя. Есть черно-белые фотографии, где ликвидаторы плавают в бассейне – отличный способ снять стресс после каждодневной работы по дезактивации.
К концу 1986 года ликвидаторы дезактивировали более шестисот городов и сел. В мае и июне из бронетранспортеров постоянно обрабатывали киевские дома. Еще два с лишним года после аварии в украинской столице иметь личный дозиметр считалось преступлением. Правительство ужесточило контроль за торговлей продуктами питания и запретило открытые палатки. В докладах украинского санэпиднадзора отмечалось, что с киевских улиц исчезли тысячи точек по продаже мороженого, сладостей и напитков[251].
Вскоре после аварии по всей стране прошли первомайские демонстрации. Огромные толпы людей радостно шагали по улицам Киева в те минуты, когда уровень радиации достигал пика. Но об аварии никто не сообщил, и все подверглись облучению. Никому не известно, у скольких людей появились позднее проблемы со здоровьем из-за того, что в те дни они выходили на улицу. 15 мая – с огромным запозданием – из города с 2,5-миллионным населением вывезли на четыре месяца детей, их матерей и беременных женщин.
С самого начала стало очевидно, что четвертый энергоблок ЧАЭС не удастся просто захоронить вместе с другими зараженными объектами и что его придется поместить внутрь некоего нового строения. Этот проект официально назывался обыденным словом «Укрытие», но те, кто возводил эту железобетонную конструкцию, вскоре дали ей более мрачное имя – «Саркофаг». Он стал масштабнейшим и сложнейшим инженерным сооружением в современной истории. Ни один сопоставимый по важности объект никогда не проектировался и не строился в столь сжатые сроки и в столь экстремальных условиях. Требовалось создать конструкцию 170 метров в длину и 66 – в ширину, которая станет оболочкой, целиком накрывающей четвертый блок. Саркофаг должен был обладать достаточной прочностью, чтобы в украинских климатических условиях простоять двадцать лет (за это время предстояло найти более долгосрочное решение), сдерживая внутри астрономические уровни радиации. В его сооружении участвовало четверть миллиона рабочих, и всем им за время стройки досталась доза радиации, которую в обычных условиях они получили бы за всю жизнь. Прежде чем приступить к строительству, нужно было собрать и захоронить радиоактивный графит и реакторное топливо. Для вскапывания грунта доставили дистанционно управляемые бульдозеры из Западной Германии, Японии и России. Рабочие поначалу складывали обломки в кучу у основания четвертого блока, которую просто заливали бетоном, но этого хватило ненадолго. «Гейзеры из жидкого бетона начали бить. На топливо в завале как попадет жидкость, начинается то ли разгон атомный, то ли просто нарушение теплообмена и рост температуры. Резко ухудшается радиационная обстановка», – докладывал тогдашний начальник стройки Василий Кизима[252].
Главным препятствием для создания Саркофага были бесчисленные обломки графита, извергнутые из реактора на крышу третьего блока и на общую для обоих энергоблоков трубу. Их требовалось удалить, но радиация на крыше блоков существенно превышала смертельный для человека уровень, к тому же кровля оказалась недостаточно прочной для тяжелых бульдозеров. Выход из положения виделся в применении дистанционно управляемых легких роботов, доставленных на место из России, Германии и Японии (включая экспериментальные СТР-1, луноходы из советской космической программы), которые должны были подгребать обломки к краю крыши и сбрасывать их вниз с шестидесятиметровой высоты. Там их соберут в кучи бульдозерами и захоронят. Однако дело неожиданно приняло хоть и прискорбный, но любопытный оборот: одни роботы залипли в растаявшем битуме или застряли среди обломков, другие не выдержали радиации.
Фотограф Игорь Костин вспоминал, как один немецкий робот, выйдя из строя, перестал слушаться команд, подкатился к краю крыши и свалился вниз, будто сам спрыгнул[253]. Ломались даже большие дистанционно управляемые немецкие бульдозеры, работавшие внизу. С помощью роботов удалось сбросить примерно 90 тонн обломков, но на крыше оставалось во много раз больше. Бульдозеры для работы внизу заменили обычными, управляемыми человеком эквивалентами с кабинами, экранированными свинцом, чтобы хоть как-то защитить водителей. Для работ на кровле альтернатив не было, и там пришлось работать людям – в среде, где погибали даже машины. «Лучшими роботами, – с горечью объясняет Николай Штейнберг, назначенный после аварии главным инженером ЧАЭС, – были люди»[254],[255].
10 тысяч рентген в час – этого достаточно, чтобы убить человека за минуту, и с таким уровнем излучения до того момента не сталкивался никто из ликвидаторов. Поэтому трудившиеся на крыше называли себя «биороботами». Никому не доводилось работать в таких условиях – ни до, ни после. «Некоторые не стремились туда, конечно, ехать, – вспоминает Александр Федотов, бывший «биоробот». – Но как военнообязанные должны ехать. А вот лично мое мнение – надо было ехать и отдать свой долг… А кто вместо меня поедет?.. Кто закроет эту аварию… чтобы радиация не распространялась по всей территории, по земному шару? Надо же было кому-то делать»[256]. И это правда. Согласно расчетам, чтобы не получить смертельную дозу, человеку можно было работать на крыше не дольше сорока секунд за один выход. В течение всего дня самые разные по основной профессии люди в ужасе мчались через крышу, хватали кусок реакторного графита, который мог весить 40–50 килограммов, сбрасывали его вниз и неслись назад. Сделанные вручную костюмы, напыленные свинцом, служили им единственной защитой – причем каждым костюмом можно было пользоваться лишь один раз из-за того, что свинец способен поглощать большое количество радиации. По ночам группа дозиметристов-разведчиков, которых называли «ночными котами», бегло делали на крыше замеры, чтобы те, кто придет днем, могли избежать наиболее загрязненных мест[257].
В реальности сорокасекундного лимита придерживались не всегда, если верить словам бывшего «биоробота» Александра Кудрягина: «Время – сорок-пятьдесят секунд. По инструкции. Но это невозможно – требовалось хотя бы несколько минут. Туда – назад, забег – бросок. Кто-то нагрузил носилки, другие сбросили. Туда, в развалины, в дыру. Сбросил, но вниз не смотри, нельзя»[258]. Чтобы преодолеть страх, люди шутили, рассказывали анекдоты: «Американского робота отправили на крышу, пять минут поработал – стоп. Японский робот девять минут поработал – стоп. Русский робот два часа работает. Команда по рации: “Рядовой Иванов, можете спуститься вниз на перекур”»[259]. Американские роботы для работы в радиоактивной среде и в самом деле существовали, но, в отличие от анекдота, в Чернобыле их никогда не было. Америка предлагала помощь, но советское правительство предложение отклонило.
Для операции, которую в нормальных условиях выполнил бы один человек за час, на чернобыльской крыше требовалось шестьдесят человек. Работа заняла две с половиной недели, и в большинстве случаев каждый «биоробот» ходил на крышу лишь один раз, хотя были и такие, кто поднимался до пяти раз, а разведчики-«коты» – гораздо больше. Механические роботы успели выполнить лишь 10 % зачистки. Остальной объем выполнили 5 тысяч человек, получившие суммарно 130 тысяч рентген, по оценкам Юрия Самойленко, заместителя главного инженера по дезактивации[260]. Киевский кинорежиссер Владимир Шевченко скончался через год после съемок жутких кадров на крыше, где запечатлены разрушенный реактор и «биороботы», работающие без всякой защиты. Его камеры сами стали источником излучения, и их пришлось захоронить.
После очистки крыши быстрыми темпами началась сборка Саркофага из заранее изготовленных узлов. За 206 дней стройки, которая завершилась в конце ноября 1986 года, на нее ушло 400 000 кубометров бетона и 7300 тонн стали. Инженеры далеко не везде могли вручную закручивать болты или заваривать соединения, не было у них и возможности на глаз определять места просадок нижней конструкции, когда сверху добавлялись новые габаритные компоненты, поэтому в Саркофаге полно нежелательных дыр. Боковые части и крыша конструкции просто лежат на стальных опорных балках, которые, в свою очередь, стоят на поврежденном бетоне – Саркофаг никогда не отличался особой прочностью и имел протечки с самого начала. Но это не было серьезной проблемой, ведь создание полностью герметичной оболочки и не планировалось: это привело бы к опасному росту давления внутри конструкции. Выбросы от 740 тысяч кубометров чернобыльских радиоактивных материалов уже в 400 раз превысили уровень излучения хиросимской бомбы. Чернобыль останется радиоактивным еще много тысяч лет, а плутония в нем хватит, чтобы уничтожить миллионы людей.
Несмотря на лимит времени, установленный для защиты «биороботов», немалая часть этих людей впоследствии умерла. Учитывая интенсивность облучения, пусть даже непродолжительного, вполне справедливо будет предположить, что их проблемы со здоровьем напрямую связаны с полученной дозой. За свою жертву каждый из них получил удостоверение ликвидатора и премию в сто рублей. Теоретически действительно существует определенная предельная доза, получив которую, человек может вернуться домой в полном здравии. Но на практике – как видно из свидетельств бывших ликвидаторов – в Чернобыле о здоровье людей мало кто думал. «В военный билет в конце срока, – говорит работавший в зоне инженер-химик Иван Жмыхов, – каждому вписали одинаковую цифру: среднюю дозу радиации умножили на число дней пребывания. Замерили среднюю дозу в палатках, где мы жили»[261]. Вертолетчик Эдуард Коротков тоже отмечал проблемы с замером дозы облучения. «В карточку мне записали двадцать один рентген, но я не уверен, что это на самом деле так, – говорит он. – Там сидел дозиметрист в десяти-пятнадцати километрах от станции, он производил замеры фона. Эти замеры потом умножались на количество часов, которое мы налетали за день. Но я оттуда поднялся на вертолете и полетел на реактор: туда-назад, проход в двух направлениях, сегодня там – восемьдесят рентген, завтра – сто двадцать… Ночью кружусь над реактором – два часа»[262]. Правда, некоторые ликвидаторы – в основном добровольно пошедшие работать на самые загрязненные участки, вроде тех самых «ночных котов», – сознательно занижали дозы в записях: они «не могли допустить мысли, что самое главное в зоне будет сделано без них»[263].
По неофициальным данным Чернобыльского союза, организации, объединяющей бывших ликвидаторов, от облучения умерло 25 тысяч человек и 200 тысяч стали инвалидами[264],[265]. Цифры, вероятнее всего, несколько завышены, но все равно имеющиеся свидетельства доказывают, что число тех, кто продолжает страдать, очень велико. Один из шахтеров, рывших туннель к бассейну, через двадцать лет после аварии говорил: «У нас у всех букеты заболеваний: и сердце, и нервная система, и психика, и опорно-двигательный аппарат. Мало того что мы дышали там всеми элементами, у нас еще и химическое отравление было, кроме радиации»[266].
О бедственном положении ликвидаторов можно написать отдельную книгу, но, чтобы не нарушать баланс повествования, ограничусь этой главой. Главное, они показали себя героями, чья отвага не знала предела. По ходу своего исследования я то и дело в самых разных источниках сталкивался с одним и тем же фактом (и он, похоже, раскрывает советский менталитет как таковой): люди с полной готовностью выполняли все, что необходимо было сделать. Бесчисленное множество мужчин и женщин пожертвовали здоровьем и самой жизнью ради всех нас, и то, что правительства бывших советских республик сегодня почти забыли об этих людях после подвига, который они совершили, – вопиющая несправедливость.
Дополнение. После выхода снятого каналом HBO сериала «Чернобыль» премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о двукратном повышении размера пенсий, выплачиваемых ликвидаторам. Надеюсь, этот прекрасный почин – лишь первый шаг, за которым последуют и другие.
Глава 9 Продолжаем исследовать Припять
Мы приближаемся к гостинице «Полесье». На стене ее ресторана – бередящее душу граффити: черные детские силуэты. Рядом кто-то по-английски приписал: Dead Kids Don’t Cry[267]. Здание стоит на главной площади, и с него открывается одна из лучших городских панорам, поэтому мы прямиком идем по лестнице на крышу, не соблазняясь по пути манящими этажами. Отсюда видно все на мили вокруг. На горизонте за заброшенными домами – сама ЧАЭС, а в ста пятидесяти метрах от гостиницы сквозь ковер древесных крон прорастает верхушка колеса обозрения. И я решаю подойти к колесу поближе, пока мои друзья увлеченно снимают виды с крыши. Впервые оказавшись здесь на улице один, я разглядываю заросшую, потрескавшуюся площадь и вспоминаю старые фотографии: солнечные дни, кусты роз с едва раскрывшимися бутонами, праздники, улыбающиеся лица. А сейчас тут безлюдная пустота. Одиночка по природе, я любил фантазировать о том, насколько удивительно было бы оказаться последним человеком на земле, иметь неограниченную свободу идти куда вздумается и делать все что заблагорассудится. Меня всегда завораживали постапокалиптические сюжеты. Ирония в том, что теперь, действительно оказавшись в некоем подобии этой воображаемой ситуации, я чувствую себя очень неуютно. Я натыкаюсь на круглое здание, где в центре доминирует разбитый боксерский ринг – видимо, какой-то спортзал. Сделав снимки и выбравшись наружу, приближаюсь к самой, пожалуй, символичной конструкции, которая у всех ассоциируется с чернобыльской аварией, если не считать самой станции.
Странное чувство – впервые видеть своими глазами нечто знакомое по фотографиям, как Эйфелеву башню или пирамиды. То, что объект так знаком, отнюдь не мешает ощущать трепет. Ты помнишь все основные детали, все цвета и формы, но обнаруживаешь и массу подробностей, которых не замечал раньше. И, разумеется, чрезвычайно важен контекст: ты охватываешь все, что окружает объект, все, находящееся поблизости и в отдалении, – и то, чего никак не ожидал увидеть с этой конкретной точки. Рядом с колесом, на котором так никто и не успел прокатиться (его собирались открыть на праздновании Первомая), – знаменитый аттракцион с машинками. Полдюжины электромобилей из пластика и резины стоят без дела за голой стальной оградой, где когда-то были закреплены навесы от дождя, на площадке размером 10×20 метров. Этот ничем не защищенный металлический пол – одно из самых радиоактивных мест в городе. Сами машинки – учитывая обстоятельства – во вполне приличном состоянии. Я раньше видел прекрасную фотографию этого аттракциона и сейчас пытаюсь найти удачную композицию для собственного снимка, но мысли о разочарованных детишках в Первомай 1986 года не дают мне сосредоточиться. Они с таким нетерпением ждали праздника, чтобы оказаться там, где сейчас стою я, и с веселым смехом таранить друг дружку.
Вдруг до меня доходит, что уже полчаса я гуляю один. Я думал, Дэнни с другими ребятами последуют за мной через пару минут, но их нигде не видно, не слышно. Может, подтянутся позднее? А я вообще сказал кому-нибудь, куда иду?
Возвращаюсь к гостинице, окидываю взглядом крышу, где видел их в последний раз, но знакомых лиц не обнаруживаю. Может, пошли в давешний спортзал? По коридору от ринга попадаешь в грязный, абсолютно сухой бассейн. Интересно, его осушили ликвидаторы или он постепенно высох сам? Как бы то ни было, там тоже никого. Я останавливаюсь и прислушиваюсь – звук шагов по битому стеклу обычно слышен издалека, – но ничто не нарушает здешнюю тишину. Неужели они ушли? К колонне у просторного входа в здание прислонен квадратный холст с меня ростом, украшенный праздничной надписью белым жирным шрифтом «СССР 60» на кроваво-красном советском фоне. Оказывается, этот спортзал – задняя часть припятского Дворца культуры, одного из самых узнаваемых и заметных в городе зданий. Дворцами культуры назывались советские общественные центры с кинозалами, театрами, танцплощадками, бассейнами, гимнастическими залами и другими спортивными сооружениями вроде вышеупомянутого ринга. К концу восьмидесятых в Советском Союзе насчитывалось более 125 тысяч подобных центров. Мимо ободранных кресел я выхожу в центральную дверь на улицу и оглядываю окружающий ландшафт. Никого.
Сделав пару кривых беглых снимков, я решаю вернуться. И тут – буквально в двадцати футах (6 м) от места, где я стоял всего несколько секунд назад, – натыкаюсь на Давида, который фотографирует красный холст. Откуда он взялся? Он с улыбкой говорит, что Дэнни и Кейти обследуют здание где-то наверху. Я галопом мчусь по широкой лестнице и вбегаю в главный танцевально-выставочный зал, чья левая стена (левая относительно меня, а на самом деле это центральная часть здания) по всей длине состоит из огромных, от пола до потолка, окон. Стекол в них, понятное дело, давно нет, но видно, что в свое время этот зал производил грандиозное впечатление. Мои друзья фотографируют с балкона надо мной. Наконец-то мы снова все вместе. Справа на десятиметровой ширины ярком панно изображено славное торжество коммунизма, оно словно пристыло к бетону – безнадежная борьба.
Мы вчетвером обходим здание по периметру. На восточном углу я прохожу в трехсекционные двери и оказываюсь на задах то ли театра, то ли концертного зала (то ли и того и другого вместе). Им я займусь позднее, прежде нужно изучить забитую хламом комнатку справа, где хранятся написанные маслом портреты советских руководителей – квадраты размером как тот холст «СССР 60». Горбачева я узнаю сразу, а вот остальные мне неизвестны. Я ожидал увидеть Ленина или Сталина, но их там нет – слишком лакомый кусочек для мародеров. По крайней мере, Ленин здесь точно когда-то был – он гордо стоял на транспаранте, украшавшем фасад здания. Но его портрет, вероятно, успели украсть за все эти годы после аварии. Снимки готовы, и я нетерпеливо возвращаюсь за кулисы.
Пространство над сценой выше других помещений Дворца культуры, чтобы колосники с прожекторами оставались невидимы для публики. Такие же прожекторы валяются по всей сцене. Десятки висящих вокруг меня металлических кабелей пропущены сквозь просветы в каменной кладке. Я чуть было не поддаюсь соблазну залезть на верхние конструкции ради необычного угла съемки, но, поразмыслив, прихожу к выводу, что целые кости важнее. Из некогда стоявших здесь кресел не осталось ни одного, если не считать парочки никуда не годных грязных, выпотрошенных сидений. Странно: похоже, что все настенные панели разворовали. Повсюду видны голые кирпичи, а в одном углу стоят явно самодельные хлипкие козлы до потолка, изготовленные из досок сцены. Наверняка их сколотил человек, который не мог принести с собой подходящее оборудование. Козлы поставили сюда, чтобы украсть то, что висело на стенах, – единственное приходящее на ум объяснение. Тут смотреть больше не на что, наша группа хочет наведаться к колесу обозрения, и мы выходим на свет дня.
Пока мои друзья заняты съемкой, я стараюсь проникнуться здешней атмосферой, потом позирую для неизбежного группового снимка, и мы продолжаем путь. Наша небольшая компания ненадолго заглядывает в поликлинику, и мы сходимся во мнении, что ничего интересного там не осталось (единственный мой сносный кадр оттуда – забравшиеся внутрь сквозь раму открытого окна ярко-красные листья). Следующая из сегодняшних главных целей – детский сад «Золотой ключик», самое большое из пятнадцати дошкольных учреждений города. Его фотографий в интернете пруд пруди, и это неудивительно, поскольку здесь – настоящий заповедник потрясающих уникальных образов. «Золотой ключик» находится в центре города, неподалеку от площади, в окружении высотных многоквартирных домов, которые за деревьями мне не сразу удается разглядеть. На подходе к зданию детсада мне под ноги попадаются всё новые и новые никому не нужные игрушки. Первое, что бросается в глаза внутри, – кукла, сидящая, откинувшись на спинку стульчика для малышей. На ней выцветшая рубаха в красно-белую клетку и черные штаны, но лицо и почти все волосы скрыты под советским противогазом детского размера. Очевидно, композицию этой сцены специально составил кто-то из предыдущих фотографов, чтобы искусственно создать западающий в память образ, но какая разница? Образ действительно западает в память, если знаешь, что здесь произошло.
Тут столько всего, достойного внимания. Куда ни повернись, повсюду виды, которые можно изучать часами, – всего просто не объять. Я бесцельно брожу по зданию с камерой, безжизненно болтающейся на плече. Заставив себя наконец приступить к фотографии, я не могу выстроить композицию – объектов столько, что никак не решить, какой из них станет центром. В каждой комнате полно детских кроваток (интересно, это для тихого часа или дети здесь оставались и на ночь?), крошечных парт, стульев, книг и противогазов. Игрушечные звери, игрушечные кирпичики, игрушечные инструменты, игрушечные дома, игрушечные столовые приборы, машинки, куклы. Но некоторые объекты несомненно выделяются и заслуживают пристального изучения. Вокруг низенького – сантиметров тридцать от пола – белого деревянного столика рассажены пластиковая утка и две куклы – мальчик и девочка. Глаз поначалу привлекают насыщенные цвета ярко-желтой утки и темно-синий костюм мальчика, но настоящего внимания требует именно сравнительно тусклая девочка. За двадцать пять лет забвения ее эластичное силиконовое личико высохло, потрескалось и выцвело до серых оттенков. Кружевное белое платьице запачкалось и тоже стало серым. Когда-то причесанные волосы цвета сепии теперь выглядят неопрятно с вкраплениями тонкой паутины и частиц краски, снегом осыпавшейся с потолка. Единственные оставшиеся у нее цвета – розовый пластик тела, проглядывающего сквозь прорехи в платье, и пронзительные небесно-голубые глаза.
Мне ужасно не хочется уходить из детского сада, но время не ждет – нам нельзя снижать темп, если хотим посмотреть все, что запланировали. Следующий в нашем списке – городской бассейн, который в 2007 году приобрел известность у всех геймеров мира, став местом действия революционно новаторской игры Call of Duty 4: Modern Warfare (уровень «Припять»). Не помню, когда я впервые увидел его на фото, но это было задолго до игры, и с тех пор я всегда узнавал это изображение, даже не зная еще ничего о чернобыльской катастрофе. В самом облике опустевшего бассейна есть для меня что-то тревожное, застревающее в голове. Проходя мимо места встречи, где стоит наш автобус в ожидании трех часов дня, я радуюсь, что иду вместе с Дэнни, Давидом и Кейти, которые всегда знают маршрут. Если бы я целый день исследовал Припять в одиночку, то не смог бы разыскать большую часть мест. Одна из черт этого города, которые мне особенно нравятся, – густорастущие деревья и кусты, из-за которых дома внезапно выскакивают перед тобой, будто из ниоткуда. Такое уже случалось сегодня несколько раз, и сейчас, на подходе к бассейну, то же самое. Мы попадаем в здание через одностворчатую пожарную дверь в голой стене. Внутри – почти кромешная тьма, и мы, осторожно ступая, идем через освещенные нашими фонариками раздевалки. Добравшись до дальнего угла, карабкаемся вверх по крутой ржавой лестнице и выходим на свет. И я вновь лишаюсь дара речи.
Как можно без подготовки запечатлеть то, что сто раз фотографировали до тебя, придав при этом картинке свое уникальное виденье? Ответ: никак, так что мои снимки из бассейна ничем не отличаются от прочих его фотографий. В 2011 году во время этой поездки я снимал почти исключительно широкоугольником, чтобы впихнуть в каждый кадр как можно больше содержания и контекста. Вернись я туда сегодня – снимал бы совсем по-иному: другие точки и углы съемки, другой объектив, другие настройки камеры. Посидев пару минут на корточках у бассейна, я оборачиваюсь и вижу, что Кейти – вот уж кто любит приключения – забралась на один из двух трамплинов – тот, что повыше, – и теперь выглядывает, перегнувшись через край. Оттуда, наверное, вид получше.
Я закидываю сумку и штатив на первую снизу платформу, подтягиваюсь (нижней части лестницы нет и в помине) и тоже лезу наверх. Вид и впрямь лучше – не то слово. Не уверен, что размеры бассейна соответствуют олимпийским стандартам, но он все равно немаленький – шесть дорожек и добрых четыре-пять метров глубиной. Свет проникает в помещение через лишенные стекол окна. Они идут по всей длине здания и еще с боков доходят почти до конца стены. Подозреваю, какая-то усердная душа попыталась навести здесь некоторый порядок (интересно, зачем?), поскольку потолочные панели, которые давно выпали из своих гнезд, не валяются тем не менее в бассейне – кроме двух-трех. Интересно, с какой целью? На галерее появляется Давид, и тут я понимаю, что потратил почти все время на съемку самого бассейна. Но нужно посмотреть и остальные части здания, и я выбегаю в боковую дверь, несусь через очередную раздевалку и неожиданно обнаруживаю баскетбольный зал. Отшлифованные доски покоробились и с одного края отошли от пола – в общем, весьма живописно. И вот опять – через пару минут пора идти дальше. Ужасно досадно.
Я вымотан. Держать такой темп столько часов, да еще без еды и питья – завтракали мы уже давно, – все это начинает сказываться. Но отдыхать некогда, впереди нас ждет одна из припятских школ. По пути мы проходим через природный коридор из деревьев, которые, точно часовые, стоят над уходящим вдаль, усыпанным опавшими листьями пространством. Это место напоминает мне дорогу из желтого кирпича в стране Оз.
Шагая иными коридорами искусственного происхождения – бетонными, голыми, безликими, – мы сбиваемся с пути, но, вернувшись немного назад, обнаруживаем то, что искали. Вся школьная столовая затоплена океаном из сотен – если не тысяч – пыльных противогазов: их распотрошили здесь мародеры, пытаясь извлечь из фильтров крупицы серебра. На поверхности океана – останки глобуса, его отколотая половина с Европой – где-то на дне.
Осталось осмотреть последнее здание, очередную школу, но ей предстояло нас разочаровать. Мы составляли свой список по одному из фотоальбомов Дэнни, но он уже не новый, и та школа успела стать жертвой многих лет, что прошли с момента выпуска альбома и полностью оголили почти все школьные помещения. Парочку самых интересных кабинетов я фотографирую, а потом решаю провести последние двадцать минут, просто вдыхая атмосферу этого удивительного места. И забираюсь на крышу, где ко мне присоединяется Кейти: мы созерцаем безмолвие, которое будет длиться еще десять тысяч лет.
Глава 10 Комплексная экспедиция
За те полгода, что прошли после аварии, группа отважных ученых из Института атомной энергетики им. И.В. Курчатова несколько раз проникала в четвертый энергоблок в рамках исследовательской миссии, получившей название «Комплексная экспедиция»[268]. «[Все боялись одного]: не может ли повториться взрыв, ведь реактор остался без управления, – вспоминает глава экспедиции физик-ядерщик Виктор Попов. – Не сложились ли обстоятельства там… таким образом, что опять может произойти катастрофа?»[269] В ходе операции, которую в обычных условиях сочли бы самоубийством, ученым предстояло прежде всего выяснить судьбу топлива в реакторе и оценить возможность новых самопроизвольных ядерных реакций. Обследованием разрушенных и обесточенных нижних уровней блока они занимались в ватных масках и с фонариками в руках. «В то время, – говорит Попов, – безопасных мест на блоке в понимании нормального человека не было… Мы входили в большие поля – и 100, и 200, и 250 рентген… Ситуация могла быть совершенно неожиданной. Вы идете по коридору, и здесь – ну, ничего – 1, 2, 5 рентген. Только за угол человек попадает – 500. Сразу назад, бежать надо»[270].
После долгих и напряженных поисков с помощью камер – их просовывали на шестах в отверстия, проделанные в стене, – к декабрю ученые наконец обнаружили топливо. Оно продолжало излучать 10 тысяч рентген в час. «Она [“Слоновья нога”, см. ниже. – Пер. ] вызывала самое высокое уважение, – вспоминает участник экспедиции Юрий Бузулуков, – поскольку приблизиться к ней означало верную гибель»[271]. В подвальных помещениях на немалом удалении от реактора был обнаружен двухметровой ширины «язык» некоей субстанции – она попала сюда через дыру в потолке и застыла, превратившись в темную стеклянистую массу. За свою морщинистую, округлую поверхность «язык» получил прозвище «Слоновья нога». Благодаря одному топливу такое возникнуть не могло: чтобы субстанция остекленела, нужен был гигантский прорыв. Для дальнейших исследований требовались образцы, но миниатюрным роботам, которых отправили сделать сколы, «Слоновья нога» оказалась не под силу. «Потом появилась хорошая идея: если ничего больше не выходит, может, ее расстрелять? – смеется Бузулуков. – Сначала мы обратились в армию. Там нас отправили в милицию. Из милиции – в КГБ, а потом снова в милицию, и там нам выделили один “калашников”. Но с условием: мы возьмем с собой их добровольца – очень хороший, приятный парень, – и он будет стрелять куда покажем. На следующий день он без проблем отстрелял тридцать очередей по целям, которые я определял с видеокамерой. Он был абсолютно спокоен. Мы в итоге получили образцы из нижних помещений, верхнюю часть “Ноги”, как выяснилось, мы полностью разнесли: к нашему приятному удивлению, оказалось, что она состоит из слоев, как кора у дерева. С каждым выстрелом очередной слой “коры” отходил, и мы принимались за следующий, и так далее. Мы получили множество образцов, но разрушили красоту “Слоновьей ноги”»[272].
Дальше требовалось внимательнее осмотреть сам реактор; для этого приглашенные нефтяники пробурили в железобетонной гермооболочке пробные скважины. Бурение проводилось в суровых условиях, оно заняло полтора года и завершилось к лету 1988-го. «Было много предсказаний, что мы там увидим, – говорит Бузулуков. – Но все они базировались на том, что мы увидим там более или менее… разрушенную активную зону, то есть куски графита, перемеженные искалеченными стержнями, которые содержат топливо»[273]. Каково же было удивление ученых, когда реактор оказался попросту пустым – они могли ясно разглядеть его гладкую металлическую внутреннюю поверхность. Это всех потрясло. Пробурив еще одну скважину в донной части, ученые обнаружили там несколько кусков графита, но факт оставался фактом: в целом реактор пуст. «После первого момента удивления появился громадный вопрос: а где же оно?» – смеется Бузулуков.
Судя по объему «Слоновьей ноги», в ней не могло содержаться все исчезнувшее топливо, и ученые решили обратить более пристальное внимание на пространство под реактором, где был зафиксирован огромный уровень тепловыделения и радиоизлучения. В отсутствие компактного робота, способного пролезть в узкую скважину, пришлось прибегнуть к импровизации. Вместо робота взяли купленный за пятнадцать рублей в Москве игрушечный танк и привязали к нему фонарик и камеру. Качество изображения вышло отвратительным, но этого хватило, чтобы разглядеть какую-то гигантскую массу. Участники экспедиции не располагали защитным снаряжением, позволяющим пробраться в бо́льшую часть подвальных помещений, и еще год ушел на то, чтобы получить возможность получше разглядеть, что там находится. Когда это наконец удалось, стало ясно, что помещения полуразрушены и топлива в них тоже нет.
К 1991 году измотанные постоянным напряжением члены экспедиции поняли, что единственный выход – самим пробраться в заваленный реакторный зал четвертого блока. Опасность второго взрыва была слишком велика, чтобы ей пренебречь. Не имея достаточного финансирования и подходящего защитного снаряжения, специальная группа ученых – в комбинезонах, к которым перчатки и ботинки буквально прилепили изолентой ради пыленепроницаемости, и в простых одноразовых масках – проникла в разрушенное помещение. Преодолев завалы кусков графита, вынесенных взрывом из реактора и сброшенных с крыши, они увидели окутанный паром бетон, который нагревало лежащее под ним топливо. Тщательнее изучив помещение, они обнаружили радиоактивную лаву, и это была потрясающая находка. Когда ученые преодолевали узкий раскуроченный коридор, примыкающий к основанию реактора (тем временем дозиметры в свете фонариков отщелкивали запредельные 1000 рентген в час), один из них заметил, что нижняя часть биозащиты проломила расположенную под ней бетонную оболочку. Последняя деталь головоломки встала на свое место.
Взрыв, сорвавший крышку реактора в то роковое апрельское утро 1986 года, привел к вытеснению песка и бетона из толстых стенок оболочки РБМК. Одновременно мощная ударная волна выдавила в нижнее пространство всю донную часть сборки активной зоны, включая нижнюю биозащиту. В течение следующей недели тепло, выделявшееся при горении и ядерном распаде, продолжало расти. Когда температура достигла уровня, достаточного, чтобы топливная сборка расплавилась, расплав вытек за пределы активной зоны и соединился там с песчано-бетонной смесью, образовав радиоактивную лаву, получившую название кориум. Затем через трубы, протоки и трещины в поврежденной конструкции эта лава просочилась в нижние помещения. «Слоновья нога» – один из «отрогов» застывшей лавы, которая приняла стеклянистую структуру. Выход расплавленного топлива из оставшегося без защиты реактора и послужил, по-видимому, причиной внезапного спада температуры и излучения, зафиксированного в начале мая 1986 года. Расплавленная активная зона способна прожечь тридцать сантиметров бетона за считаные часы, потому и бились тогда изо всех сил, чтобы не допустить такого развития событий[274].
Ученые сочли, что, учитывая ослабленное состояние топлива в отсутствие контакта с водой, вероятность нового взрыва невелика. Однако к 1996 году все изменилось. Через многочисленные прорехи конденсат и вода проникли в Саркофаг и просочились к отвердевшей лаве. Реакция воды с ураном привела к всплеску радиоактивности. Саркофаг к тому времени уже простоял десять лет, а вероятность того, что еще десятилетие он не протянет, специалисты оценивали в 70 %, – и потому финансирование переключили с научных исследований на инженерные работы. Частью решения этой опасной проблемы стало создание стальной стабилизационной конструкции, о которой упоминалось в главе 5. Серьезные исследования кориума с тех пор не проводились.
Когда в 1986 году началось строительство объекта «Укрытие», в центре внимания мировой общественности оказалась советская элита, которой теперь предстояло определить, кто ответит за чернобыльскую катастрофу. Список возможных виновных включал в себя операторов подведомственного Минэнерго энергоблока, действия которых привели к аварии; ученых из Курчатовского института, авторов технологии, по которой работал реактор; старший конструкторский состав института НИКИЭТ, спроектировавшего саму установку; руководителей секретного Министерства среднего машиностроения, которые подписали проект реактора в производство, зная о его многочисленных серьезных недостатках и понимая потенциальные риски (хотя об этом никогда не упоминалось открыто); членов Госкоматома, отвечавших за общий контроль безопасности в атомной энергетике.
Этот вопрос обсуждался на двух заседаниях межведомственного научно-технического совета 2 и 17 июня 1986 года. Начальник группы по надежности и безопасности АЭС Курчатовского института В.П. Волков представил совету информацию о конструктивных недостатках реактора, которые привели к аварии, но признать перед всем миром, что советские реакторы не идеальны хоть в чем-то, было невозможно. Вера в науку была одной из базовых ценностей СССР, который всегда кичился статусом технологической сверхдержавы, к тому же члены совета опасались негативной реакции общественности в адрес ядерной энергетики, как это случилось в Америке после аварии на Три-Майл-Айленд. Допустить этого было нельзя, и козлов отпущения в лице чернобыльских операторов назначили заранее. Разумеется, невозможно утверждать, что некоторые операторы не проявили халатности – несомненно проявили, – но даже их пренебрежение инструкциями по безопасности не привело бы к катастрофе такого масштаба, будь РБМК спроектирован должным образом.
Последовал ряд увольнений с высоких должностей. Председатель Госкоматома, первый замминистра среднего машиностроения, замминистра из Минэнерго (тот самый Геннадий Шашарин, который прилежно, в дорогом костюме, наполнял в апреле мешки песком, а позднее пытался обнародовать доклад об истинных причинах аварии), генеральный конструктор «чернобыльской» модели РБМК из НИКИЭТ[275] – все они лишились постов. Около шестидесяти пяти партийных чиновников рангом пониже и руководящих работников ЧАЭС были либо уволены, либо понижены в должности, половину из них исключили из партии[276]. Кого и за что именно – определить трудно, поскольку в их числе также присутствовали дезертиры, которые сами быстро уволились сразу после аварии, и приведенная цифра, возможно, учитывает и их. В августе 1986 года КГБ арестовал шестерых человек, так или иначе повинных в катастрофе. Это директор ЧАЭС Виктор Брюханов, который в ожидании суда проведет год в одиночной камере; главный инженер Николай Фомин; заместитель главного инженера Анатолий Дятлов, составивший программу испытаний турбогенератора; начальник смены ЧАЭС Борис Рогожкин, дежуривший в ночь 26 апреля; начальник реакторного цеха Александр Коваленко, который вместе с Брюхановым, Фоминым и Лаушкиным дал добро на испытания. Сначала суд над ними назначили на март 1987 года, чтобы дать прокурорам время на сбор данных для обвинения, но потом заседание перенесли на 7 июля, после того как Фомин попытался в камере покончить с собой – он разбил очки и вскрыл осколками запястья, но его успели спасти[277].
Импровизированный зал суда располагался во Дворце культуры города Чернобыль, к тому времени уже эвакуированного. Он стал местом проведения последнего советского показательного процесса. По советским законам суды проводились максимально близко к месту преступления, а радиационная обстановка давала удобный предлог, чтобы ограничить число присутствующих, поскольку для проезда в Зону требовался специальный пропуск. Официально слушания считались открытыми, но журналистов и членов семей жертв пригласили только на первое и последнее заседания, а основная часть трехнедельного процесса шла за закрытыми дверями. Обвинения касались ввода станции в эксплуатацию, в ходе которого полагалось провести испытания, и затрагивали хроническое несоблюдение правил техники безопасности и отсутствие должного обучения персонала. Брюханов заявил о своей неосведомленности как о том, что при вводе ЧАЭС испытания не проводились, так и о том, что роковой эксперимент был назначен на ту ночь (мы так никогда и не узнаем, говорил ли он правду), но признал, что практика соблюдения техники безопасности и организация обучения не соответствовали стандартам. Инспектора из Госкоматома Лаушкина обвинили в преступной халатности, в том, что он игнорировал многочисленные нарушения норм безопасности на станции, и в том, что он подписал разрешение на испытания не глядя. В ту ночь на четвертом энергоблоке требовалось присутствие представителя надзорного органа, а Дятлов не имел права начинать эксперимент без одобрения высших научных чинов.
Полная стенограмма и представленные улики остаются засекреченными по сей день, так что выявленные на суде детали так, вероятно, и останутся для нас тайной. Однако заместитель главного инженера ЧАЭС по науке и ядерной безопасности Николай Карпан, который в свои выходные посещал заседания, позднее выпустил книгу, написанную на основе заметок из зала суда. Некоторые из присутствующих тоже вели свои записи, но КГБ их все конфисковал. Полагаю, у Карпана заметки не изъяли из-за его высокого поста в ядерной энергетике. Из них видно, что председателя суда не интересовали дефекты реактора. Правительственная комиссия Щербины и Легасова, выявившая эти дефекты, пришла к заключению, что виноват в аварии собственно реактор, но судьи приняли во внимание только те части доклада комиссии, где критиковались действия операторов. На самом деле так называемых независимых экспертов специально подобрали из числа сотрудников институтов, принимавших участие в создании реактора, – то есть это были люди, в первую очередь заинтересованные, чтобы не пострадала репутация их детища. Их заявления – мол, во всем виноваты операторы – в лучшем случае ожидаемы, в худшем – смахивают на фарс. Свидетели и обвиняемые многократно пытались обратить внимание судей на конструктивные недостатки РБМК, но их либо перебивали, либо пропускали их выступления мимо ушей. То же касалось и замечаний, что в инструкциях по эксплуатации ничего не говорится о ненадежности систем управления и защиты при низких мощностях, что операторы не могли знать ни о том, что реактор на таких режимах неустойчив и взрывоопасен, ни о том, что критические системы безопасности можно отключать, лишь если на это есть разрешение главного инженера или его замов. Дятлов в течение всего процесса пытался опровергнуть официальную версию, но даже он признал, что, учитывая число человеческих жертв, не может настаивать на своей полной невиновности. На вопрос суда, почему в инструкциях не разъяснена опасность работы реактора при низкой тепловой мощности, эксперты ответили: «Этих пояснений и не надо. Иначе регламент распухнет»[278].
Все прекрасно знали (хотя открыто это никогда не признавалось), что проблемы коммунистического режима обусловлены в том числе неэффективностью плановой системы. Представителям всех профессий и иерархических уровней приходилось импровизировать. Люди, которых во время смены на ЧАЭС видели с игральными картами в руках, играли именно потому, что заняться на станции им больше было нечем: коммунистическая система велела им выполнять ненужную работу, которую уже сделали другие. Признать это было нельзя, особенно когда на тебя смотрит весь мир, поэтому суд разыгрывался так, словно СССР – идеальное общество. Все присутствующие, включая шестерых обвиняемых, понимали, что этот процесс – показуха. Один из свидетелей даже осмелился открыто заявить: «Я думаю, что вся зарубежная печать сообщит, вся советская общественность узнает, что в аварии виновен персонал станции. Персонал виновен, но не в тех масштабах, которые определил суд. Мы работали на ядерноопасных реакторах. Мы не знали, что они взрывоопасны». Дятлов думал так же. «[На суде] произошло то, что обычно происходит в таких случаях, – скажет он позднее. – Расследование проводили люди, ответственные за дефектную конструкцию реактора. Признай они, что в аварии виновен реактор, и Запад потребовал бы закрыть все реакторы этого типа. Это нанесло бы удар по советской промышленности»[279]. Анализируя впоследствии дело, Карпан одним предложением описал однобокость процесса (восклицательный и вопросительный знаки авторские): «В обвинительном заключении [дефекты] характеризуются всего лишь как некие “присущие реактору особенности и недостатки”, сыгравшие в развитии аварии опять же некую непонятную “свою роль” (!?)»[280].
В конечном счете судья объявил, что «на АЭС создалась атмосфера бесконтрольности и безответственности», и признал всех шестерых виновными в аварии[281]. Суд определил, что персонал не получил достаточной профессиональной подготовки; проверки безопасности не проводились; программа испытаний не была проработана; действия руководства не проходили согласования за пределами станции; те, кто утвердил испытания, не ознакомились как следует с программой или не смогли выявить проблемы; в частности, к аварии привело нарушение инструкций Дятловым; Брюханов скрыл от московского руководства масштабы аварии. И, пожалуй, самое главное – руководство станции не смогло ввести в действие план мероприятий по защите населения, и в результате тысячи людей получили гораздо большие дозы радиации, чем это было необходимо[282]. Брюханов и Фомин как самые старшие по должности получили по десять лет, Дятлов – пять, Коваленко и Рогожкин – по три года, и Лаушкин – два. Брюханова и Дятлова – который позднее написал книгу, где изложил свое видение ситуации и всю вину возложил на конструкторов реактора, – выпустили досрочно по состоянию здоровья из-за вызванных облучением заболеваний. Главного инженера Николая Фомина в 1990 году признали невменяемым и перевели в психиатрическую больницу. В это трудно поверить, но после выздоровления он стал работать на Калининской АЭС неподалеку от Москвы.
Глава 11 Отъезд
Я убираю свой тяжеленный «Никон» и ставлю рюкзак на крышу – надоело разглядывать это невероятное место через видоискатель, хочется просто посмотреть глазами. Вечная история: годами лазаешь по заброшенным зданиям, делая снимки, потом понимаешь, что толком-то и не видел ничего, полностью сосредоточившись на поисках лучших кадров в объективе. В эту поездку я сознательно стараюсь найти баланс между съемкой и впитыванием того, что меня окружает. На еще один объект времени у нас нет, и я лучше проникнусь картинами, звуками и запахами, чем буду в эти последние минуты лихорадочно носиться туда-сюда как угорелый.
Крыша четырехэтажной школы расположена ниже соседних зданий и деревьев, так что ничего вокруг особо не увидишь. Теплица с чудом уцелевшим стеклянным покрытием, бесчисленные деревья, россыпь заурядных, медленно крошащихся многоквартирных домов. Здесь царит безмятежность – я слышу лишь шуршанье листвы и тихие, но несмолкающие удары далекого сваебоя-колокола. Мы с Кейти сидим молча, стараясь максимально продлить момент, но скоро – гораздо скорее, чем хотелось бы, – нам уже будет пора идти.
По голой бетонной лестнице мы спускаемся на верхний этаж, где находим Дэнни и Давида, и те в один голос говорят: в этой школе, где больше нет детей, практически ничего не осталось. Я счастлив, что принял верное решение, как провести последние минуты, и мы нехотя тащимся назад к автобусу – по золотой тропе, усыпанной ветками и листьями. Я подавлен, словно эта недолгая поездка в Зону необратимо сделала меня иным, и уже ясно, что она навсегда останется со мной.
Как ни пытаюсь, не могу представить это место наполненным жизнью. Я видел фотографии здешних улиц: улыбающиеся семьи и новенькие машины, пары, танцующие во Дворце культуры и покупающие телевизоры в местном магазине. Сейчас большинство мест этого города абсолютно неузнаваемы, если сравнивать с их прежними фотографиями – кажется, будто те снимки сделаны вообще не здесь. Где раньше были открытые широкие пространства между домами, сегодня – лабиринт зарослей, порой настолько густых, что, проходя между двумя зданиями, можно их не заметить, если не задрать голову и не посмотреть поверх крон. И хотя повсюду здесь – свидетельства прошлой жизни, я не в силах мысленно перенести их в настоящее.
Прежде чем сесть в электричку до Славутича, мы делаем финальную, мимолетную остановку в Зоне – у знаменитого белокаменного указателя «Припять 1970», который приветствует въезжающих в город. Из бесчисленного множества припятских знаков и настенных изображений этот, пожалуй, самый узнаваемый. Мы выстраиваемся перед ним для группового снимка – прямо как семейства на черно-белых свадебных фотографиях в доэвакуационные времена. На этом все и заканчивается.
На следующее утро у нас есть немного свободного времени до отъезда из Славутича. Насладившись последней чашкой украинского чая, по хлипкой приставной лестнице, опасно прислоненной к стене прямо над пятиэтажным лестничным пролетом, мы с Кейти выбираемся на крышу нашего дома. Город утопает в зелени. Куда ни кинь взгляд, повсюду трава и плотные группы высоких сосен между зданиями, словно те, кто проектировал этот город, просто сбросили дома в лес, вырубив деревья лишь там, где они не давали встать зданиям.
Мы кидаем сумки в автобус, и, чтобы убить оставшиеся полчаса, я подхожу к чернобыльскому мемориалу на углу городской площади. Тридцать один человек – те, кто погиб в первые месяцы после аварии; их портреты вырублены в черном камне на двух плитах, обрамленных цветами. Они отвечают на мой взгляд. Некоторых я узнаю – Акимов, Топтунов, Правик, – а с большинством из остальных еще предстоит познакомиться, хотя я этого пока не знаю.
Атмосфера в автобусе по дороге из Славутича разительно отличается от настроения, царившего здесь шестьдесят часов назад, – сейчас все притихли. Разговоров почти не слышно, члены группы в основном или спят, утомившись за последние два дня, или, погруженные в свои мысли, смотрят в окно. Неподалеку от выезда из города мы замечаем человека в камуфляже и армейских ботинках: закаленный жизнью, он восседает на груде овощей на древней деревянной телеге с лошадью. Потрясающий контраст. Транспорт, которым люди пользуются уже тысячелетия, – всего в нескольких десятках километров от ядерного реактора, одной из самых сложных и точных машин, когда-либо изобретенных человечеством, о принципе действия которой еще сто лет назад не могли бы помыслить даже лучшие умы.
Глядя на проплывающие за окном размытые пейзажи плоского, невыразительного североукраинского ландшафта, не могу отделаться от размышлений о той ночи. Что, если бы турбогенераторы должным образом испытали перед вводом блока в эксплуатацию? А если бы электроэнергетики не настояли на переносе эксперимента с дневного времени на ночное и его проводили бы более опытные операторы? А если бы Дятлов не уперся и не приказал бы, вопреки логике и разуму, продолжать испытания после падения мощности? А если бы Акимов и Топтунов, проявив твердость, решительно отказались это делать? А если бы их поддержали остальные, находившиеся в ту ночь у щита управления? Была ли авария все равно неизбежна? Пусть не в Чернобыле, а на РБМК где-нибудь в другом месте – в России или в Литве? О конструктивных дефектах реактора знали лишь немногие, но эти немногие были наделены властью, достаточной, чтобы при желании эти дефекты исправить. Но такого желания у них, по всей видимости, не было, иначе не понадобилась бы глобальная катастрофа, чтобы заставить их действовать. К чему раскачивать лодку? Что, если бы пожарные, операторы и ликвидаторы не проявили такой самоотверженности, стараясь минимизировать последствия аварии? Или «биороботы», которые, забыв о самосохранении, штурмовали зараженную крышу? Что, если бы ветер в тот день дул на юг, к Киеву, где живет без малого три миллиона человек, а не на север и восток в сторону малонаселенных сельхозземель? Что, если Советский Союз отреагировал бы неспешно, неохотно и безынициативно, если бы финансовые вопросы волновали его больше, чем возможные последствия катастрофы, как это было в случае с японской энергокорпорацией ТЭПКО и Фукусимой?
В таких раздумьях незаметно пролетают два часа, и вот мы уже подъезжаем к единственному пункту остановки на пути в Киев – стрелковому полигону. Я живу в Британии и на тот момент не имел опыта обращения с огнестрельным оружием, но всегда хотел попробовать. Все эти герои в боевиках, которые с небрежной легкостью палят по движущимся мишеням, – неужели в жизни все так же просто? Перейдя поле, усыпанное пустыми гильзами, я вскоре получаю ответ на свой вопрос, и ответ этот категорически отрицательный.
Мне выдали советскую классику – снайперскую винтовку Драгунова и «калашников». Когда подходит моя очередь, я опускаюсь на шаткую деревянную табуретку, кладу ствол Драгунова на рябую подставку и прижимаю приклад к плечу. Резиновый глазок – не на одном уровне с прицелом, а слегка наклонен, поэтому я, безуспешно сперва попытавшись его поправить, вынужден смотреть в прицел под углом. Опять же я видел достаточно фильмов, чтобы знать основы: дышать медленно и глубоко, расслабиться, выдохнуть и мягко – не рывком – спустить курок.
Ба-бах! Грохот крошечного взрыва внутри винтовки оглушителен, не спасают даже толстые наушники. «Мимо», – объявляет через переводчика Марек, глядя на неприлично близко висящую мишень – до нее нет и пятнадцати метров. Но мне плевать: моя задача – ощутить, как пользуются инструментом для убийства людей, а не поразить цель. Я опустошаю магазин Драгунова, но попадаю лишь в грязь. Инструктора я не вижу, но знаю, что он глядит на меня с равнодушной смесью жалости и терпения.
Он протягивает мне АК-47, самое знаменитое в истории и распространенное оружие. «Калашников» выпускается с 1949 года, и сегодня, по данным Всемирного банка, этих автоматов насчитывается в мире больше 75 миллионов. Он состоит на вооружении почти в сотне стран, у него характерный низкий звук, и он стал синонимом войны. Я снова мажу, но, после того как все отстрелялись, нас спрашивают, не хочет ли кто-нибудь заплатить за второй раз, и я протягиваю деньги. У меня есть одна мысль. До сих пор мы вели стрельбу в полуавтоматическом режиме. Но мне хочется опорожнить весь магазин очередью – как в фильмах восьмидесятых. Как и ожидалось, автомат дико пляшет в моих руках, и я изо всех сил стараюсь удерживать его ровно, пока по полю свистит выпущенный из него металл. На этот раз я и сам знаю, что никуда не попал; так и есть. Неудивительно, что необученные солдаты несут больше потерь, чем опытные бойцы; если ведешь стрельбу не короткими очередями, то, хотя число пуль заведомо больше, попасть можно разве что случайно.
Вскоре после полудня на горизонте начинает вырисовываться ломаная, подернутая дымкой небесная линия Киева. Мы заселяемся в самый большой в городе отель с удручающим названием «Турист» в паре сотен метров к западу от могучего Днепра. Регистрация проходит быстро, и мы нетерпеливо расходимся по номерам, чтобы насладиться видом. А вид изумительный. Я хватаю фотоаппарат и, еле сдерживаясь, чтобы не лететь сломя голову, выхожу в коридор, где обнаруживаю, что почти все до единого члены нашей группы одновременно, не сговариваясь, устремились на крышу. Но нас ждет разочарование, и мы вскоре вынуждены смириться: нужные двери, разумеется, заперты, так что большинство разбредается по своим номерам. Я настроен более решительно. Осторожно исследовав коридоры последнего этажа, я в конце концов нахожу стеклянную дверь на балкон, поворачиваю ручку, и дверь – о чудо! – открывается. Бормоча про себя слова благодарности Украине за то, что она не пала жертвой британской мании охраны здоровья и безопасности, я пересекаю порог.
Вид оттуда приводит в абсолютный восторг, это поистине один из самых памятных моментов в моей жизни. В октябрьском небе низко висит послеполуденное солнце, драпируя все голые бетонные здания и осенние деревья до самого горизонта жестким, но теплым светом. Вдали, слева от меня, заводские трубы выдувают белые столбы дыма, выделяющиеся на фоне темнеющего неба. Справа оживленная магистраль, на которой стоит наша гостиница, уходит к Днепру и Десенке, пересекая поросшие лесом острова. Впереди, на фоне тяжелых облаков, окруженная сиянием, высоко подняв меч и щит, стоит на страже над городом Родина-мать. Я ощущаю внезапный порыв приблизиться к ней. Перегнувшись через пугающе тонкое ограждение высотой по пояс, замечаю на балконе пятью этажами ниже группу соотечественников. Окликаю их, они поднимают глаза и смеются, даря мне великолепный кадр.
Потом я совершаю еще ряд прогулок вверх и вниз по зданию – иногда с друзьями – или вновь в одиночку выбираюсь на тот верхний балкон. Разгуливая по гостинице, натыкаюсь на австралийца, который работает здесь в прекрасном угловом офисе на последнем этаже. Мы обмениваемся парой слов о городе, Украине и Чернобыле. Он говорит, что ему нравится здесь работать, что он много путешествует и обычно проводит пару лет в каком-то одном месте, а потом переезжает в другое. Завидую. Под конец беседы он рекомендует мне непременно, пока я тут, прогуляться по вечернему городу – что ж, решено.
Следующие пару часов мы с Давидом, Кейти и Дэнни сидим у открытого окна, любуемся закатом и слушаем звуки города. Когда наступают сумерки, спускаемся на лифте, выходим из гостиницы, поворачиваем направо и шагаем по шумной улице к Днепру. Через сотню метров дорога приводит нас к коротенькому мосту. Там мы оставляем остальных пешеходов за спиной и через перелесок идем по крутой грязной тропинке к берегу. Закончив с фотографиями, отправляемся отведать местную киевскую кухню – в виде «Макдоналдса». После строгой огуречно-помидорно-куриной диеты мне не терпится съесть что-нибудь привычное. Пусть дешевое и жирное, но привычное. Неловкий диалог у кассы, всем по биг маку, и мы вновь выходим на вечернюю улицу. Мои друзья хотят вернуться в гостиницу и отдохнуть, но я – хоть и сам почти без ног – полон решимости пройтись по городу. Преодолевая убедительные отговорки Кейти, я все же уламываю ее составить мне компанию.
Первая наша остановка – расположенный неподалеку от гостиницы Воскресенский собор, отгороженный стенкой от окружающей его стройплощадки. Как выясняется, он открылся полгода назад, но окружающая территория еще не благоустроена, на освещенной площадке повсюду какая-то техника и кирпичи. Мы с Кейти находим укромный тенистый уголок, перелезаем через стенку, аккуратно спрыгиваем на землю и фотографируем впечатляющую бело-зелено-золотую церковь. Чтобы тайком заглянуть внутрь, пробуем дверь, но она наглухо заперта, так что мы уходим оттуда и возвращаемся к 700-метровому мосту метро. Это бетонный, построенный в шестидесятые годы комбинированный мост для пешеходов, машин и метро, царство советского духа и резкого октябрьского ветра. Болтая (и дрожа), мы идем через мост, нашу беседу то и дело прерывает грохот золотисто-голубых вагонов, чьи огни проносятся мимо.
На другой стороне мы сначала думаем сесть в метро, но не знаем, в какую сторону ехать, чтобы попасть на Печерские холмы на западном берегу Днепра. Не имея карты, мы выбираем неандертальский метод и карабкаемся – порой на четвереньках – по недлинному, но крутому и явно не предназначенному для пешеходов подъему через лесок. Наш путь освещают лишь пляшущие фары машин, проезжающих внизу и наверху. Мы вполне сносные альпинисты и привыкли потайными, нередко опасными ходами проникать в заброшенные здания, поэтому вскоре без особых трудностей выбираемся на поперечную дорогу, идущую слегка под углом.
Поднимаемся по пологой лесенке, ведущей от дороги к мемориальному парку, потом сворачиваем к северу на широкую пустынную улицу. В конце улицы, дойдя до перекрестка, мы оказываемся у ротонды Никольской церкви. Этому оранжево-белому неоклассическому зданию двести с лишним лет. Делаем по паре фотографий, возвращаемся к многоярусному парку Вечной Славы, где каждая извилистая дорожка очень красиво освещена фонарями разной высоты, и идем прямиком к впечатляющим памятникам. Первый на нашем пути – памятник Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата, двадцатисемиметровый гранитный обелиск, у которого горит вечный огонь. Он установлен в память о великом множестве безымянных солдат, павших на поле боя в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Этот огонь согревает нас, пока мы делаем передышку – ведь мы прошагали уже пять километров. Рядом стоит Свеча памяти, филигранный монумент жертвам голодомора, геноцида 1932–1933 годов, – искусственно созданного голода, унесшего жизни семи с половиной миллионов украинцев. Это современный, весьма эффектный памятник: тридцатиметровый шестигранник, на каждой стороне которого – белые панели до самой верхушки с вырезанными в них сотнями крестиков. У основания его окружают огромные, подсвеченные сзади кресты, сделанные из решеток, а венчает сияющее символическое изображение пламени.
Из почти безлюдного парка мы с Кейти выходим в десятом часу и по Лаврской улице направляемся в ту сторону, где, по идее, стоит Родина-мать. Проходим вдоль высокой – метров шесть – стены Киево-Печерской лавры, удивительного бело-золотого двухсотвосьмидесятилетнего[283] православного монастыря (по иронии судьбы расположенного напротив «Арсенала», одного из крупнейших украинских оружейных заводов). Причудливо украшенные фигурами ангелов и святых ворота заперты, поскольку уже поздно, так что ничего не остается, кроме как полюбоваться росписью, сделать пару снимков и двигаться дальше. Навстречу то и дело попадаются бесчисленные чудные образцы восточноевропейской архитектуры.
По обыкновению жалея, что у нас так мало времени, я пытаюсь представить себе ощущения киевлян, после Чернобыля наблюдавших, как военный транспорт ежедневно проводит антирадиационную чистку города. Судя по свидетельствам современников, их ощущения представляли собой противоречивую смесь страха и спокойствия. Страх порождали тревожные слухи из Чернобыля, а также то, что киевских мужчин поднимали ночью с постели и отправляли в зону и что КГБ изъял все дозиметры из городских лабораторий. Спокойствие объяснялось беспрестанными заверениями чиновников всех уровней, что ситуация под контролем и опасаться нечего. Как известно, все билеты на поезда были раскуплены – возник даже черный рынок железнодорожных билетов, – а в сберкассах 6 мая кончились наличные деньги – паника началась после того, как журналистам разрешили сообщить об аварии. Мы идем, а я постоянно думаю о первомайских мероприятиях в Киеве 1986 года, когда на праздник вышли десятки тысяч ничего не подозревающих мужчин, женщин и детей всех возрастов. Некоторые партийные чиновники – а они уже знали об опасности – даже вывели на демонстрацию собственных детей, тщетно и эгоистически имитируя нормальную жизнь. В первое время бессмысленные попытки избежать массовой паники оказались важнее человеческих жизней.
Проходя по тихой и пустой пешеходной зоне, где днем, скорее всего, идет торговля, слышим окрики за спиной. Мы с Кейти никого не видим, но, обернувшись, замечаем двух полицейских в форме, которые направляются к нам. Похоже, они поначалу не поняли, что мы туристы, поскольку один из них произносит несколько предложений, знаками указывая на мой увесистый штатив «Манфротто». Очевидно, что-то в нем им не нравится. Может, издалека и в темноте они приняли его за оружие? Мы, как можем, пытаемся сдержанными жестами объяснить, что мы туристы, фотографируем город и не хотим причинять никаких неприятностей. Несколько мгновений я гадаю, арестуют ли нас, но полицейские приходят к выводу, что дело того не стоит, и машут нам, разрешая идти своей дорогой.
Я глазам не верю, когда мы, завернув за угол, вдруг натыкаемся на небольшую коллекцию советской бронетехники у основания невысокого холма. Такое встретишь не каждый день – танки прямо на улице. Сначала я вижу только шесть танков и бэтээров: основные боевые танки Т-54, Т-55, Т-62 и две боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, – но дальше моим глазам открываются новые сокровища. Самоходная зенитная установка со счетверенной пушкой «Шилка», легкий плавающий танк ПТ-76, самоходная гаубица «Гвоздика» и почтеннейший, любимый с детства военный вертолет Ми-24. Из освещения здесь – лишь тускло-янтарные лучи уличного фонаря и луна в небе, поэтому для нормального изображения я выставляю выдержку 30 секунд. За следующим поворотом нас ждет дивное зрелище – огромная наружная секция музея Великой Отечественной войны. Там стоят винтовые и реактивные самолеты, большие и малые танки, бронемашины, ракеты и даже бронепоезд.
Эта эклектичная экспозиция защищена самой мощной в мире охранной системой – цепью, подвешенной на уровне коленей к двум низким деревянным столбикам. Мы с Кейти без промедления перешагиваем через нее и принимаемся восхищенно изучать экспонаты, относящиеся, насколько я могу судить, к периоду между Второй мировой и семидесятыми годами. Первое, что бросается мне в глаза, – это массивный оливково-серый транспортный самолет Ли-2, построенный Россией на базе лицензионного производства американского двухдвигательного «дугласа» DC-3. За ним стоит серия боевых самолетов: реактивные МиГ-17 1952 года, МиГ-21 1959 года и МиГ-23, а также винтовой Як-9 времен войны, самый массовый советский истребитель – в 1942–1948 годах выпустили 16 769 таких самолетов. В углу за советскими танками, самоходной артиллерией и ракетами приютился бронепоезд с двумя башнями с обеих сторон.
Наконец мы подходим к памятнику Родина-мать, к которому добирались весь вечер, – и оно того стоило. Серебристая фигура с распростертыми руками стоит на холме над городом. Ее стальной меч выглядит слегка обрубленным – его укоротили, когда обнаружилось, что монумент получился выше креста расположенной неподалеку Киево-Печерской лавры. Несмотря на это, стодвухметровый монумент смотрится весьма внушительно. Мощный щит (тринадцать на восемь метров) в левой руке украшен советским гербом, а поза и общий стиль напоминают статую Свободы. Родину-мать возвели до аварии, и я волей-неволей задумываюсь: что, интересно, видели эти серые глаза? Монумент буквально стоит на музее Великой Отечественной войны, а напротив, чуть ниже по склону, – обширная площадь для парадов. Там сейчас пусто, если не считать нас и двух танков друг напротив друга со скрещенными стволами. В небе – ни облачка, и вся эта сцена освещена (если не считать редких прожекторов) лишь тонкими неземными лучами луны и звезд. Вновь – отличный кадр.
Мы с Кейти совершаем небольшую прогулку по площади и, практически не переговариваясь, фотографируем танки, скульптуры и вид на город. Я испытываю жгучее желание узнать, что она думает, что чувствует, но вопросов не задаю. Довольные, что нам удалось слегка попробовать на вкус этот чудесный город, мы почти молча проделываем шестикилометровый путь до гостиницы.
Я устал как собака и засыпаю без задних ног. Следующее утро проходит словно в тумане. После легкого завтрака мы вчетвером садимся в пожилое черное стереотипно экс-советское такси – понятия не имею, кто его вызвал, – и едем в аэропорт. Не считая вчерашней поездки, когда автобус по трассе вез нас к гостинице, мы впервые едем по Киеву при свете дня, и я сижу, не отрывая глаз от окна. Гляжу на проплывающий мимо город, как вдруг эмоции, которые я сдерживал все эти дни, захлестывают меня, и я начинаю беззвучно плакать, уткнувшись в стекло. Это глупо, неловко, необъяснимо. В смущении я прячу лицо. Чернобыльская катастрофа раньше не будила во мне особых чувств, но эта поездка навсегда изменила меня, оставила в моей душе неизгладимую отметину, и я теперь знаю, что никогда ее не забуду. И не забыл. Дня не проходит, чтобы я не возвращался мыслями к этому месту и к людям, чьи жизни забрала авария.
Глава 12 Последствия и уроки
Чернобыльская авария стала первой крупной катастрофой при недавно назначенном и еще не очень опытном генеральном секретаре Михаиле Горбачеве. Первые три недели он не делал никаких публичных заявлений – видимо, решил дать время специалистам как следует разобраться с ситуацией. 14 мая, выразив негодование по поводу развернувшейся вокруг Чернобыля западной пропаганды, он объявил всему миру, что информация об аварии будет полностью обнародована и что в августе совместно с МАГАТЭ в Вене будет проведена беспрецедентная конференция. Однако за столь короткий срок оказалось не так просто преодолеть наследие десятилетий информационной закрытости, и хотя венские документы в самом деле опубликовали на Западе, в Советском Союзе они были засекречены. То есть меньше всего информации получили главные пострадавшие в катастрофе. Кроме того, будучи подробным и корректным, доклад советской делегации тем не менее давал несколько обманчивую картину. Доклад писали в ключе официальной версии – мол, всю ответственность несут операторы, – так его авторы намеренно затемнили важнейшие данные о конструкции реактора.
После выступления в Вене главы советской делегации Валерия Легасова скептически настроенные эксперты со всего мира три часа задавали вопросы и в конце аплодировали ему стоя. Это был политический триумф. Однако, как выяснилось позднее, «члены советской делегации получили четкие инструкции: с иностранцами не общаться, ни на один вопрос не отвечать, говорить слово в слово то, что написано в подготовленном материале. Только благодаря решительной позиции В.А. Легасова… удалось отойти от этой схемы»[284].
Легасова нельзя назвать безупречным, но все же он был хорошим, добросовестным человеком, который чувствовал вину как за собственное бездействие до аварии, так и за официальную линию полуправды, которой был вынужден придерживаться после нее, но пытался этому противостоять. Однако было уже поздно. Изначальная ложь с одной стороны, с другой – то, с каким жаром он принялся критиковать советскую систему, породившую веру в неуязвимость ЧАЭС, – плохо отразились на его репутации. Выступая в октябре 1986 года на заседании в Академии наук, он заявил: в Вене «я не врал, но я не говорил всей правды»[285]. Легасов решил занять твердую позицию против официальной версии и написал несколько статей на эту тему. Он критиковал ставшие причиной аварии дефекты РБМК, низкое качество профессиональной подготовки операторов АЭС, благодушие, царившее в советских научных кругах и особенно в атомной энергетике (цитировал директора одной из АЭС, который сказал, что ядерный реактор – это чайник, он «гораздо проще обычной установки»[286]), и предлагал работать над созданием более безопасных реакторов[287]. Те записи прошли через КГБ и были либо цензурированы, либо оставлены без публикации[288].
Подорванная репутация, потерянное из-за полученных в Чернобыле доз радиации здоровье, разочарование из-за отказа его страны уделять больше внимания вопросам безопасности, груз ответственности за погибших – все это привело к трагедии: на вторую годовщину аварии Валерий Легасов повесился после того, как накануне были отвергнуты его предложения по реформированию советской науки. Перед смертью он надиктовал на пленку свои воспоминания, где, в частности, говорил, что чернобыльская катастрофа – это «апофеоз, это вершина всего того неправильного ведения хозяйства, которое осуществлялось в нашей стране в течение многих десятков лет»[289]. Ходили слухи, что Легасову заткнули рот за его высказывания против системы безопасности, принятой в советской ядерной энергетике, и это подтолкнуло власти к расследованию обстоятельств его смерти, но факт убийства официально так и не был установлен. 20 сентября 1996 года тогдашний президент России Борис Ельцин посмертно наградил Легасова почетным званием Героя Российской Федерации за «мужество и героизм», проявленные во время расследования причин катастрофы.
29 сентября 1986 года вновь началась эксплуатация ЧАЭС. Как сообщила газета «Известия», первый энергоблок был выведен на «минимально контролируемый уровень»[290]. Однако не все прошло гладко, и после устранения неполадок блок перезапустили 20 октября, а позднее вывели на полную мощность. Поскольку авария привела к критической нехватке электроэнергии в Украине, правительство торопило с возвращением станции в рабочее состояние. Вскоре после первого блока начал работу второй, а вот третий требовал серьезного ремонта, и его запуск состоялся лишь 4 декабря 1987 года.
После венской конференции миф о том, что ответственность за аварию на четвертом блоке почти целиком лежит на персонале станции, всячески поддерживался еще несколько лет как советскими властями, так и экспертами МАГАТЭ. Однако доклад, сделанный в 1991 году на заседании Госпроматомнадзора, рисовал совсем иную картину и показывал, что в информации, полученной МАГАТЭ в 1986–1987 годах, отсутствует целый ряд важнейших фактов. Доклад в нехарактерной для СССР жесткой манере не оставлял камня на камне от конструкции реактора и содержал множество претензий, как то: «РБМК-1000, из-за ошибочно выбранных его разработчиками физических и конструктивных параметров активной зоны, представлял собой систему, динамически неустойчивую по отношению к возмущению как по мощности, так и по паросодержанию»; «очевидному несоответствию фактических характеристик активных зон их ожидаемым проектным значениям не было дано должной оценки, вследствие чего поведение РБМК в аварийной ситуации оставалось неизвестным»; «для ряда важнейших параметров, нарушение которых 26.04.86 г. разработчики реактора считали критическими для возникновения и развития аварии, не были предусмотрены проектом ни аварийные, ни предупредительные сигналы»; «имеются основания считать, что разработчики реактора не смогли оценить эффективность аварийной защиты в возможных эксплуатационных ситуациях»; «разработчики проекта и типового технологического регламента по эксплуатации РБМК-1000 не довели до сведения персонала действительную опасность проявления ряда характеристик реактора»; и, пожалуй, самое суровое замечание: «Комиссия считает необходимым особо подчеркнуть, что практически все конструктивные недоработки [стержней] СУЗ были известны до аварии». И так далее, и тому подобное: в конструкции реактора имелись десятки дефектов, критически нарушающих нормы безопасности. Чернобыльская авария, вызванная ошибочными действиями эксплуатационного персонала, имела несоразмерно катастрофические последствия из-за недостатков в конструкции реактора, заключили авторы документа[291].
В докладе 1991 года вскрылась еще одна критически важная проблема: отсутствие внятной ответственности в управленческих кругах советской ядерной энергетики, что и сделало возможным выдачу разрешения на производство столь опасного реактора, как РБМК-1000. «Все участники создания и эксплуатации АЭС несут ответственность только за те части работы, которые они непосредственно выполняют. В соответствии с международными нормами и практикой такая общая ответственность возлагается на эксплуатирующие организации. В [СССР] до настоящего времени таких организаций нет. Выполнение их функций в части принятия наиболее важных, общих для АЭС в целом решений обычно возлагалось и возлагается на соответствующие министерства, являющиеся органами государственного управления. Тем самым право принимать решения оторвано от ответственности за него. Более того, ввиду неоднократных преобразований органов государственного управления исчезли даже те структуры, которые принимали ответственные решения. Таким образом, опасные объекты есть, а несущих ответственность за них нет»[292].
После публикации доклада взгляд на чернобыльскую аварию в научных кругах изменился. Новая информация сняла с персонала станции большую часть обвинений, показав, что они не нарушали эксплуатационные инструкции в инкриминируемых масштабах, что важные разделы документации реактора были составлены некорректно и что одну из главных ролей в происшедшем сыграли недостатки конструкции. В 1992 году Международная консультативная группа по ядерной безопасности МАГАТЭ переработала свой доклад, включив в него новые данные, и выпустила документ под названием ИНСАГ-7. В нем четко указывалось, что при наличии в советской ядерной отрасли надлежащей культуры безопасности, практики обратной связи и контроля аварии бы не случилось. Частичная ответственность за аварию по-прежнему лежала на операторах, но в новом докладе вновь и вновь подчеркивалась главная мысль: «Конструкции АЭС должны быть в наиболее возможной степени невосприимчивы к ошибке оператора и к преднамеренному нарушению регламентов безопасности»[293]. МАГАТЭ насчитало в общей сложности сорок пять проблем с безопасностью на ЧАЭС: девятнадцать крупных, двадцать четыре средней степени важности и две незначительные.
В конструкцию РБМК внесли существенные улучшения: была увеличена скорость погружения стержней управления при сигнале аварийной защиты – на полное погружение теперь требуется не 18 секунд, а 12; снижен положительный пустотный коэффициент реактивности, а также уменьшено влияние на реактивность полного запаривания активной зоны; внедрена быстродействующая аварийная защита (БАЗ), которую в том числе обеспечивают 24 дополнительных стержня управления; предотвращена возможность отключения аварийных систем защиты во время работы реактора на мощности; и самое главное, модернизирована конструкция стержней управления – удлинена борная секция (поглотитель) и исключены столбы воды в нижней части каналов. Но графитовые концевые секции остались на месте[294].
Несмотря на призывы мировой общественности закрыть ЧАЭС немедленно, процесс ее ухода из жизни затянулся надолго. 11 октября 1991 года, всего через пять лет после взрыва четвертого энергоблока, на станции произошла третья крупная авария – на сей раз на втором блоке. Незадолго до того блок временно вывели из эксплуатации после еще одного инцидента – пожара в секции машинного зала, вспыхнувшего во время мелких ремонтных работ на турбогенераторе. Пламя погасили, генератор изолировали, и в тот момент, когда его турбина еще по инерции вращалась с частотой около 150 оборотов в минуту, один из выключателей вдруг включился, и генератор вновь вошел в рабочий режим. Турбина менее чем за полминуты разогналась до 3000 об/мин. Согласно данным из доклада Комиссии по ядерному регулированию США от 1993 года, «подача напряжения на турбогенератор ТГ4 стала причиной перегрева проводящих элементов и повреждения механических соединений ротора и обмоток. Возникшая центробежная разбалансировка привела к разуплотнению подшипников 10–14 и масляной системы и к выбросу водорода и масла с последующим их воспламенением от электрической дуги и теплоты трения. Высота пламени достигала 8 метров. Видимость в помещении была затруднена из-за густого дыма. Когда горящее масло достигло шин генератора, произошло трехфазное короткое замыкание с силой тока 120 000 ампер»[295]. Пожарные прибыли незамедлительно. Они не опасались воспламенения кровли, поскольку все горючие материалы с крыш станции убрали еще после аварии 1986 года, но вентиляционные системы не могли справиться с дымом и жаром. Пожарные понимали, что опорные фермы кровли – в отсутствие огнеупорного покрытия и автоматических систем пожаротушения – могут не выдержать высоких температур. Несмотря на экстренную подачу дополнительной воды, мощности насосов не хватило одновременно на спринклеры и пожарные шланги, и фрагмент кровли размером 50 на 50 метров рухнул в машинный зал[296].
Сам реактор остался цел, но дальнейшая эксплуатация второго блока требовала серьезного ремонта. Новый состав украинского парламента решил, что блок следует закрыть. Первый блок прекратил работу 30 ноября 1996 года, за что украинское правительство получило 300 миллионов долларов на модернизацию энергетической отрасли, включая усовершенствование оставшегося реактора на третьем блоке. Но, несмотря на финансирование, третьему блоку под конец пришлось пережить остановку реактора – из-за вызванных погодными условиями повреждений электроинфраструктуры и выброса пара. На показанной по телевидению церемонии президент Леонид Кучма в прямом эфире дал указание заглушить установку: «Во исполнение решений Украины и международных обязательств нашего государства приказываю начать работы по досрочному выводу из эксплуатации третьего блока Чернобыльской атомной станции»[297]. Так завершилась выработка электроэнергии на последнем чернобыльском реакторе.
Еще в советское время большинство работ по проектированию и строительству новых АЭС было заморожено или вовсе прекращено, а несколько действующих станций из-за ужесточения регламентов безопасности пришлось по разным причинам закрыть. К 1989 году планы выработки электроэнергии ядерными установками урезали на 28 000 МВт (для сравнения: четвертый блок ЧАЭС с самым мощным на тот момент реактором производил 1000 МВт). Правительство в итоге отказалось от дальнейшей разработки РБМК, оставив лишь программы по обслуживанию и совершенствованию существующих реакторов. Уже ведущиеся работы по строительству РБМК благополучно завершили, а новые реакторы строить не стали. Из семнадцати РБМК, введенных в эксплуатацию, одиннадцать функционируют по сей день. После чернобыльской катастрофы в России строят только реакторы ВВЭР – эта конструкция была конкурентом РБМК с самого начала.
По официальным советским данным, в чернобыльской аварии погибли тридцать мужчин и одна женщина из охраны. Но это лишь люди, находившиеся непосредственно на станции в первые часы после взрыва и умершие от острой лучевой болезни или ожогов. В списке не учтены военные, погибшие от облучения во время ликвидации последствий, гражданское население прилегающей территории и многие из посещавших Зону вскоре после катастрофы (журналисты, врачи и т. д.). Тех, чьи тела были найдены, похоронили в заваренных цинковых гробах, чтобы их радиоактивные останки не заражали почву.
Хотя специалисты всего мира уделяли (и продолжают уделять) беспрецедентное внимание медицинским последствиям аварии, «реальное число смертей… вряд ли будет известно точно», говорится в докладе экспертной группы «Здоровье» Чернобыльского форума ООН 2006 года. Загрязненная площадь чрезвычайно велика – около 400 тысяч квадратных километров, включая 23 % территории Беларуси, 7 % – Украины и ряд местностей на западе России и в восточноевропейских странах (оценки зависят от того, что вкладывать в слово «загрязненный»), – кроме того, проблемы со здоровьем, связанные с облучением, не всегда различимы на фоне общей заболеваемости, а случаи смертельных заболеваний могут проявиться лишь годы, а то и десятилетия спустя[298]. Результаты каждого нового исследования вероятной «чернобыльской» смертности отличаются от предыдущих[299].
Я обычно игнорирую самые высокие и самые низкие цифры и полагаю, что истину нужно искать где-то посередине. МАГАТЭ говорит о приблизительно 4 тысячах смертельных случаев, но эта оценка, по всей видимости, лежит у нижней границы, и я сомневаюсь, что ее можно принять, учитывая, сколько вполне здоровых прежде людей, так или иначе связанных с аварией, умерли в течение десяти лет после нее. По словам Николая Омельянца, заместителя руководителя Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины, «постоянно действующего высшего независимого коллегиального научно-экспертного совещательно-консультативного органа по вопросам противорадиационной защиты и радиационной безопасности населения Украины», «не менее 500 тысяч человек, а то и больше, уже умерли – это из тех 2 миллионов в Украине, которые официально числятся жертвами Чернобыля. [Исследования показывают, что] 34 499 человек, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, умерли со времени катастрофы. Среди них смертность от рака почти втрое больше, чем у остального населения»[300],[301]. Он также утверждает, что, по данным его специалистов, младенческая смертность – по-видимому, речь идет о зараженных зонах – после аварии выросла на 20–30 % из-за хронического облучения. «У нас полно случаев рака щитовидной железы, лейкемии и генетических мутаций, которые не зафиксированы в данных ВОЗ и которых двадцать лет назад Украина не знала»[302], – говорит специалист украинского Научного центра радиационной медицины Евгения Степанова[303]. В опубликованном в 2006 году отчете под названием «Иной доклад о Чернобыле» (The Other Report on Chernobyl; TORCH) – который, правда, не вызывает большого доверия, поскольку подготовлен по заказу противников атомной энергетики[304], – говорится о 30–60 тысяч случаях смерти от рака. Похоже, взяли самые высокие показатели, какие удалось найти (местами дело доходит до семизначных чисел), и вслепую сочли их корректными. Оценив достоинства всех этих докладов и ознакомившись с соответствующей критикой, лично я полагаю, что реальная цифра – где-то порядка 10 тысяч, но хочу подчеркнуть, что это абсолютно ненаучная оценка. Просто мне трудно поверить в «4 тысячи», поскольку мы имеем массу фактических свидетельств, которым это число противоречит. Но утверждать что-либо с определенностью здесь невозможно, поскольку нет ни одного документа, который так или иначе нельзя было бы подвергнуть сомнению.
Смертность, разумеется, не единственный показатель: огромное число переживших катастрофу по-прежнему страдают от серьезных проблем со здоровьем, вызванных облучением. Практически невозможно найти надежную медицинскую статистику за годы, предшествовавшие 1986-му, и поэтому нельзя провести сравнительный анализ, однако, судя по всему, число случаев врожденных дефектов, пороков развития и детской лейкемии в первые пять лет после аварии резко возросло. «В тридцати больницах нашего региона [Ровно, 500 километров к западу от Чернобыля] до 30 процентов людей, которые находились на пораженных радиацией территориях, имеют физические нарушения: сердечно-сосудистые заболевания, рак, болезни дыхательных органов. Почти каждый третий новорожденный имеет патологии, в основном внутренние»[305], – говорил в 2006 году врач одного из специализированных диспансеров радиологической защиты населения[306]. Даже сегодня в некоторых белорусских поликлиниках висят таблички, извещающие, что жертвы Чернобыля обслуживаются вне очереди.
Нью-Йоркская академия наук указала на существенный рост заболеваемости по всем видам рака, заболеваниям центральной нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой, эндокринной систем, органов дыхания, а также на рост младенческой и перинатальной смертности, числа случаев задержек умственного развития и слепоты на затронутых аварией территориях[307].
Как и в случае с другими видами статистики по Чернобылю, неизвестно, сколько именно людей пострадало от несмертельных заболеваний. Зато мы знаем, что очень многие чернобыльцы оказались отторгнуты обществом и столкнулись с невозможностью жить где-либо, кроме Зоны. Они подвергаются социальной стигматизации, их не берут на работу, с ними не хотят общаться из-за невежественного пагубного страха перед радиацией. Некоторые из этих людей получают государственные компенсации, но их число невелико и продолжает снижаться. Некоторые спустя какое-то время после аварии вернулись в Зону, где жить по-прежнему небезопасно, и они объясняют свое решение в первую очередь тем, что их нигде не принимали. Восточноевропейские фермеры до сих пор не могут продавать свою продукцию, поскольку их скот пасется на земле, которую считают радиоактивной и небезвредной для здоровья.
Чернобыль послужил прямым напоминанием всем странам мира об ужасах, которые сулит применение ядерного оружия. 15 мая 1986 года доктор Роберт Гейл провел в советском МИДе первую пресс-конференцию об аварии. Описав ситуацию с состоянием пациентов, он затем посвятил немало времени ответам на вопросы. Один из них касался уроков Чернобыля. «Думаю, нам следует рассматривать события последних недель в более широком контексте, – сказал он. – Мы имеем дело со сравнительно некрупным инцидентом, но даже при международном содействии очевидно, насколько мы ограничены в возможности отвечать на этот вызов и оказывать помощь пострадавшим. Если нам так трудно спасти три сотни жертв, представьте себе, какие усилия потребуются в случае применения ядерного оружия – и их явно будет недостаточно. Заблуждаются те, кто верит в возможность медицинской помощи после ядерной войны»[308]. Он открыто озвучил проблему, с которой Кремлю волей-неволей пришлось столкнуться почти через сорок лет после начала холодной войны. У правительства СССР имелся план действий на случай аварии, подобной чернобыльской, но всего одного инцидента оказалось достаточно, чтобы впервые наглядно продемонстрировать Политбюро ЦК КПСС, какими будут последствия ядерной войны. Всего одна атомная станция, один относительно небольшой (в сравнении с ядерным оружием) взрыв в одном реакторе – и правительство вынуждено задействовать все имеющиеся ресурсы, в том числе предпринять самую масштабную в истории мирную мобилизацию армии. Радиация сводит на нет любой стандартный план действий и заставляет признать, что взорвать даже одну атомную бомбу – не говоря уже о 65 тысячах бомб, существовавших на тот момент, – дело немыслимое.
11 октября 1986 года, через пять месяцев после катастрофы, Михаил Горбачев встретился с американским президентом Рональдом Рейганом, чтобы обсудить возможность уничтожения ядерных арсеналов. Они согласились, что определенные шаги в этом направлении необходимы, и 8 декабря 1987 года состоялось подписание советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, в котором шла речь обо всех ракетах наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Менее чем через год после аварии в Москве прошел исторический Форум за безъядерный мир, за выживание человечества с участием выдающихся представителей разных стран и сфер деятельности. Эта встреча на фоне долговременных последствий чернобыльской катастрофы заставила многих советских «жестких» политиков согласиться, что ядерная война недопустима, что в ней не может быть победителей, так как она уничтожит планету. Число ядерных испытаний в мире сократилось. К 1996 году был разработан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и физические испытания на время прекратились – их заменили компьютерные симуляции. Всего два года спустя Индия и Пакистан испытали собственное ядерное оружие, однако это, к счастью, были единичные случаи. Единственной страной, которая не прислушивается к здравому смыслу, остается КНДР.
Через два года после Чернобыльской катастрофы СССР подтвердил, что она обошлась в 11 миллиардов рублей (рубль в то время стоил примерно доллар), а в 2006 году сам Горбачев назвал сумму в 18 миллиардов. Сюда не включены сопутствующие расходы, но даже в этом случае цифра выглядит сильно преуменьшенной – если судить по докладу, выпущенному белорусским МИДом в 2009 году. Согласно документу, «чернобыльские» затраты правительства Беларуси на тот момент продолжали составлять около миллиона долларов в день. «Ущерб от чернобыльской аварии оценивается примерно в 235 миллиардов долларов США. Однако суммарные затраты Беларуси и мирового сообщества на ликвидацию последствий аварии составляют лишь 8 процентов от общей суммы ущерба»[309],[310]. Эти убытки были катастрофическими для советской экономики, к тому же авария рикошетом ударила по угольной и гидроэнергетике. Упавшие вдвое цены на нефть усугубили экономическую катастрофу. Для Горбачева Чернобыль послужил тем рычагом, который помог ему заставить своих высокопоставленных военных и политических оппонентов принять идеи повышения прозрачности компартии и приблизить наступление эпохи гласности. СССР так и не оправился, и Чернобыль считается одним из главных катализаторов его распада.
Многих людей, о которых идет речь в этой книге, уже нет с нами – включая Анатолия Дятлова, который умер в 1995 году от сердечного приступа. Он отстаивал свою невиновность до самого конца. В 1992 году в одном из интервью он еще раз сказал: «Я столкнулся с ложью, с огромной ложью, которую вновь и вновь повторяли как руководители нашего правительства, так и простые инженеры. И эта бесстыдная ложь меня подкосила. У меня нет ни малейших сомнений в том, что конструкторы реактора сразу поняли, что произошло [он прав, так и было. – Э.Л.], но сделали все, чтобы свалить всю вину на операторов»[311],[312]. Виктору Брюханову сейчас восемьдесят лет, и он до сих пор ясно помнит, что происходило в Чернобыле. «Никто не струсил, не уклонился, – сказал он в интервью в 2011 году. – Все были преданы станции, любили ее, защищали ее»[313],[314].
Глава 13 Взгляд в будущее
Саркофаг проектировали не как капитальное сооружение, которое полностью решит проблему. Главной задачей на тот момент было в максимально короткие сроки создать конструкцию, которая задержит радиоактивные выбросы. Расчетный срок эксплуатации Саркофага составлял двадцать лет, и этот срок уже давно истек. В 1997 году при финансовом участии сорока шести стран и организаций стартовал проект оценочной стоимостью 2 миллиарда евро по строительству нового «Укрытия», получившего название «Новый безопасный конфайнмент» (НБК). К его сооружению приступили в 2011 году – примерно во время моей чернобыльской поездки. НБК представляет собой огромную уникальную арку 250 метров в ширину и 165 – в длину с колоссальным весом в 30 тысяч тонн. Ее смонтировали из предварительно изготовленных секций на специально подготовленной площадке в 400 метрах от здания четвертого блока. Сборка первой половины арки завершилась в конце марта 2014 года. Годом позже две части соединили. К апрелю 2016 года закончен монтаж по обустройству внешнего пространства арки, продолжаются внутренние работы. Первоначально арку планировали возвести к 2015 году, но из-за сложностей финансирования сроки сдвинулись[315]. После полного окончания сборки арку по специально построенным рельсам надвинут на существующий Саркофаг – этот процесс займет около двух дней. Она станет самой крупной в истории передвижной конструкцией. В отличие от Саркофага, НБК должен прослужить сто лет, и за этот срок предстоит полностью вывести из эксплуатации и демонтировать четвертый блок.
Каждая половина арки состоит из нескольких секций. В собранном виде их поэтапно подняли на высоту 110 метров с помощью огромных механизмов, которые до этого эксплуатировались лишь однажды – при извлечении подводной лодки «Курск» в 2001 году. Внутри конструкции доставка оборудования и людей осуществляется мощными дистанционно управляемыми мостовыми кранами.
Для предотвращения коррозии стальных конструкций проектировщики предусмотрели сложную систему кондиционирования, способную за час перемещать 45 тысяч кубометров теплого воздуха в областях, прилегающих к сооружению. «На свете есть стальные конструкции, которые простояли сто лет, – взять хотя бы Эйфелеву башню, – но их регулярно покрывают новой краской, – рассказывал в 2013 году Эрик Шмиман, старший консультант американской Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, в интервью журналу “Уайрд”. – После надвижки мы не сможем делать то же самое: радиация слишком высока, чтобы отправлять туда людей. Как мы поступим? Будем кондиционировать поступающий воздух, чтобы относительная влажность не превышала сорока процентов»[316].
Когда установка полностью завершится, инженеры приступят к демонтажу Саркофага, что, по оценкам, займет около пяти лет. И только потом – предположительно в 2023 году, когда истечет гарантированный срок службы стальной стабилизирующей конструкции, поддерживающей западную стену, – можно будет начать работы по извлечению топливосодержащих материалов из четвертого блока. На это есть сто лет. Кажется, что это большой срок, но вывод из эксплуатации ядерной установки – процесс, известный своей трудоемкостью. Пожар на станции Уиндскейл произошел еще в 1957 году, а полная ее ликвидация завершится не раньше 2041-го.
Фукусимскую катастрофу вполне можно отнести к разряду антропогенных, а история последующих событий представляет не меньший интерес, чем чернобыльская. Интерес этот, увы, вызван некомпетентностью, проявленной при ликвидации. В первые годы после цунами и недели не проходило без новых сообщений то об очередном выбросе радиоактивной воды, то о высоких дозах излучения, которые получают рабочие-ликвидаторы, то о ненадлежащем оборудовании или мерах безопасности, которые можно было бы назвать смехотворными, если бы речь не шла о риске для человеческих жизней, не говоря уже об экологии. Там даже повторили одну из самых досадных ошибок 1986 года: решили, что уровень радиации соответствует максимуму, на который рассчитан зашкаливающий дозиметр. И, наконец, самый потрясающий скандал был связан с тем, что ликвидацию, как выяснилось, проводили неквалифицированные люди – бездомные, которых прямо на улице набрали субподрядчики – фирмы, зачастую связанные с организованной преступностью. Эти нищие люди проживали и работали в жутких условиях, а их работодатели, те самые субподрядчики, прикарманивали более трети от их зарплат[317]. В отличие от советского правительства, которое не жалело на ликвидацию чернобыльской аварии ни людей, ни денег, лишь бы справиться с проблемой, владелец и оператор Фукусимы, компания ТЭПКО – это акционерное общество (правда, фактически национализированное в 2012 году, когда крупные государственные вливания спасли его от краха), которому нужно создавать прибыль и угождать инвесторам. Поэтому она потратила на ликвидацию сумму, минимально необходимую, чтобы избежать наказания, создавая видимость, будто проблема решается.
В октябре 2013 года японский премьер Синдзо Абэ положил конец двухлетнему периоду упорных отказов от международной помощи и обратился к зарубежным специалистам-ядерщикам за содействием в ликвидации последствий аварии. Всего через несколько недель выяснилось, что раздраженное действиями ТЭПКО японское правительство даже собиралось лишить компанию прав на владение станцией, подготовив соответствующий законопроект. В начале ноября того же года операторы Фукусимы, моральный дух которых к тому времени уже подрасшатался, приступили к подготовке самой тонкой и опасной на тот момент фазы проекта – извлечению отработавшего топлива из охладительного бассейна реактора № 4. Глава японской регулирующей комиссии по вопросам ядерной энергетики лично посоветовал президенту ТЭПКО подойти к операции с крайней осторожностью, но когда у главы отдела коммуникаций компании Йосими Хитосуги поинтересовались, что он думает по этому вопросу, он ответил: «Мы считаем, это не опасно».
Сумма средств налогоплательщиков, выделенных ТЭПКО на ликвидацию последствий аварии, к марту 2015 года составила 1,6 миллиарда долларов, и треть этой суммы ушла на мероприятия, из которых можно составить каталог неудач и ошибок. План радикальных мер по предотвращению утечек радиации с Фукусимы в грунт и в океан получил одобрение и необходимое оборудование. При содействии правительства ТЭПКО приступила к работе над проектом, который предусматривал заморозку грунта с помощью громадной тридцатиметровой стены, состоящей из 1568 труб. Противники проекта указывали на непродуманность технико-экономического обоснования, но правительство продолжало настаивать на своем. Первая попытка заморозить грунт, предпринятая в 2014 году, завершилась конфузом: ТЭПКО не удалось получить нужный уровень температуры даже после того, как в используемую для охлаждения смесь добавили десять тонн льда. Следующую попытку запланировали провести в марте 2016 года, и, если все пойдет по плану, она займет от семи до восьми месяцев[318],[319].
Самым затратным пунктом программы стала специально спроектированная машина стоимостью 270 миллионов долларов для очистки от радиоактивного цезия воды, попадающей в океан из трех поврежденных реакторов. Машина так и не заработала как следует, она отфильтровала лишь 77 тысяч тонн воды при запланированной ежедневной производительности 300 тысяч тонн, и от нее в итоге отказались. Цистерны для откачиваемой зараженной воды обошлись в 135 миллионов долларов, но они протекли, и их сейчас меняют на новые[320].
До Фукусимской аварии ядерная энергетика переживала нечто вроде ренессанса в оправившемся от Чернобыля мире. Новая катастрофа вынесла на поверхность старые страхи, и многие страны начали пересматривать свою политику в этой сфере. Япония со своей стороны немедленно остановила все оставшиеся у нее сорок восемь реакторов и лишь недавно вновь запустила некоторые из них. Другой крупный потребитель атомной энергии, Германия, тоже стала выводить свои станции из эксплуатации; ее примеру последовали Швеция, Испания, Италия. Даже Франция, где 75 процентов электроэнергии генерируется на атомных станциях, собирается, похоже, отказываться от ядерных установок. Администрации Обамы удалось создать стимулы для строительства первых за несколько десятилетий новых АЭС, но эти проекты уже сегодня вышли за рамки заложенного бюджета и запланированных сроков. Изменить тенденцию могли бы новые технологии – например, жидкосоляные реакторы, где основой охлаждающей жидкости служат расплавы солей, – но из-за высокой цены возможность их коммерческого использования пока остается экономически нецелесообразной, и к тому же их вероятные недостатки зачастую перевешивают теоретические преимущества. Существующие же реакторы постепенно приближаются к окончанию срока эксплуатации и вскоре будут остановлены навсегда. Будущее ядерной энергетики, внушающей иррациональные страхи, в настоящее время туманно.
Однако все не так плохо. Даже экологи, самые непримиримые противники атомной энергетики, массово приходят к выводу, что это наш единственный масштабируемый, устойчивый и чистый источник энергии, а Индия, Южная Корея, Россия и особенно Китай продолжают строить у себя АЭС – в общей сложности более шестидесяти станций. Индия разрабатывает перспективнейшие новые технологии и собирается к 2017 году построить первый в мире пилотный коммерческий ториевый реактор, в котором используется деление ядер урана, полученного из тория – то есть из природного радиоактивного элемента[321]. Он может четыре месяца работать без вмешательства человека, а срок его эксплуатации втрое дольше обычного – сто лет. После Фукусимы мысли ученых обратились к проектированию цунамистойких станций, и сейчас группа ядерщиков из Массачусетского технологического института работает над созданием плавучего реактора, чьи подводные секции смогут в неограниченном количестве получать теплоноситель из моря. Возобновляемая энергетика тоже постоянно совершенствуется, и, возможно, через несколько десятков лет ветер или солнце станут реальной альтернативой углю, нефти и ядерному топливу, но пока, похоже, только атомная генерация дает возможность производить чистую энергию в мировом масштабе. Будем надеяться, что те, у кого есть деньги и власть строить и эксплуатировать АЭС, уже научились уделять вопросам безопасности первоочередное внимание.
Фотографии
Александр Акимов
Леонид Топтунов
Виктор Брюханов на суде
Анатолий Дятлов на суде
Белая Церковь. Прячемся в тени
Памятник у бывшего четвертого энергоблока
Вид на Припять с крыши Фудзиямы
Труп собаки в Фудзияме
Чернобыль. Вид на станцию с востока
Станция Янов. На крыше локомотива
Буряковка. БМП (возможно, принадлежавшая химическим войскам)
Буряковка. Военный автотранспорт, включая останки вертолета (слева)
Припять. Один из многих домов с панно
Припять. Медсанчасть № 4
Припять. Журнал регистрации в медсанчасти
Припять. Две палаты в медсанчасти
Припять. Вход музыкальную школу
Припять. Рояль в школе музыки и искусств
Припять. Вход в здание горкома партии
Припять. Вид на Чернобыль с крыши гостиницы
Припять. Вид из гостиничного окна
Припять. Дворец культуры. Цилиндрический зал с рингом – за кадром справа
Припять. Детский сад «Золотой ключик» Комната для занятий
Припять. Детский сад «Золотой ключик». Кукла
Припять. Транспарант к 60-летию СССР
Припять. Детский сад «Золотой ключик». Другая кукла
Припять. Аттракцион с машинками
Припять. Знаменитое колесо обозрения
Припять. Бассейн
Припять. Противогазы в школе
Припять. Знак на въезде в город
Я стреляю из «Калашникова»
На схеме не видна большая часть продуктов взрыва, которые отнесло в северную часть здания. Но можно получить общее представление о том, что было внутри четвертого блока через несколько недель после аварии.
Примечания
1
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)2
Кюри, М., Кюри, Е. Пьер и Мария Кюри / пер. Е. Шукарева. М.: Молодая гвардия, 1959. (ЖЗЛ). [*]
(обратно)3
Там же. [*]
(обратно)4
Wells J.C.K., Strickland S.S., Laland K.N. Social Information Transmission and Human Biology. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis, 2006. [*]
(обратно)5
Radithor (ca. 1925–1928) // Oak Ridge Associated Universities. 17.02.09. . [*]
(обратно)6
Clark C. Radium Girls, Women and Industrial Health Reform: 1910–1935. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1997. [*]
(обратно)7
Malley M.C. Radioactivity: A History of a Mysterious Science. New York: Oxford University Press, 2011. [*]
(обратно)8
Orci T. How We Realized Putting Radium in Everything Was Not the Answer // The Atlantic. 07.03.13. [*]
(обратно)9
Rhodes R. The Making of the Atomic Bomb. New York: Simon & Schuster, 1986. [*]
(обратно)10
Wood J. Nuclear Power. London: Institution of Engineering and Technology, 2007. [*]
(обратно)11
Rhodes R. The Making of the Atomic Bomb. New York: Simon & Schuster, 1986. [*]
(обратно)12
На самом деле Флеров сообщил об этом факте не в письме Сталину, а в другом, адресованном С.В. Кафтанову, уполномоченному Государственного комитета обороны по науке. [*]
(обратно)13
Cochran Th.B., Norris R.S., Bukharin O. Making the Russian Bomb: From Stalin to Yeltsin. Boulder, CO: Westview Press, 1995. [*]
(обратно)14
Авторы книги, на которую ссылается Летербарроу, очевидно, допустили неточность: фраза про «урановую бомбу» в письме отсутствует. [*]
(обратно)15
Gutenberg B. Interpretation of Records Obtained from the New Mexico Atomic Test, July 16, 1945: Report // Bulletin of the Seismological Society of America. ISSN 0037–1106. 1945. [*]
(обратно)16
Lakoff A. Disaster and the Politics of Intervention. New York: Columbia University Press, 2010. [*]
(обратно)17
Powaski R.E. March to Armageddon: The United States and the Nuclear Arms Race, 1939 to the Present. New York: Oxford University Press, 1987. [*]
(обратно)18
Cochran Th.B., Norris R.S., Bukharin O. Making the Russian Bomb: From Stalin to Yeltsin. Boulder, CO: Westview Press, 1995. [*]
(обратно)19
Burr W. U.S. Intelligence and the Detection of the First Soviet Nuclear Test, September 1949 // The National Security Archive, George Washington University. 22.09.09. [*]
(обратно)20
Michal R. Fifty Years Ago in December: Atomic Reactor EBR-1 Produced First Electricity: report. American Nuclear Society, 2001. [*]
(обратно)21
60 Years of Atoms for Peace // Nuclear Engineering International. 23.01.14. [*]
(обратно)22
Там же. [*]
(обратно)23
Josephson P.R. Red Atom: Russia’s Nuclear Power Program from Stalin to Today. New York: W.H. Freeman, 2000. [*]
(обратно)24
Taylor S. Privatisation and Financial Collapse in the Nuclear Industry: The Origins and Causes of the British Energy Crisis of 2002. London: Routledge, 2007. [*]
(обратно)25
Nuclear Power in the World Today // World Nuclear Association. 01.2016. [*]
(обратно)26
Энергетика 2013: Международная статистика: доклад. Париж: МАГАТЭ, 2013. [*]
(обратно)27
Перезапуск первых двух энергоблоков запланирован на конец 2019 года. [*]
(обратно)28
Ядерные реакторы в мире: доклад. Вена. МАГАТЭ, 2015. [*]
(обратно)29
Shultis J.K., Faw R.E. Fundamentals of Nuclear Science and Engineering, Marcel Dekker, 2002. [*]
(обратно)30
Nuclear Weapons at Sea // Bulletin of the Atomic Scientists. September 1990. [*]
(обратно)31
Floating Plant To Be Delivered in 2016 // World Nuclear News. [*]
(обратно)32
В 2016 году «Академик Ломоносов» был спущен на воду и доставлен к месту испытаний (Мурманск). На момент работы над переводом ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. [*]
(обратно)33
CGN to Build Floating Reactor // World Nuclear News. [*]
(обратно)34
Sansare K., Khanna V., Karjodkar F. Early Victims of X-Rays: A Tribute and Current Perception // Dentomaxillofacial Radiology. 2011. Vol. 40. № 2. P. 123–125. [*]
(обратно)35
Автор путает. На самом деле продолжила дело родителей лишь одна дочь – Ирен. Это она и ее супруг Фредерик Жолио-Кюри стали нобелевскими лауреатами. Вторая же дочь – Ева – была журналистом, музыкантом и общественным деятелем. Ее связь с физикой ограничилась лишь тем, что она написала биографию своей матери, которая удостоилась Национальной книжной премии США (примеч. ред.).
(обратно)36
Grady D. A Glow in the Dark, and a Lesson in Scientific Peril // The New York Times. 1998. [*]
(обратно)37
Johnston W.R. (Ph.D.). Radiation Accidents and Other Events Causing Radiation Casualties // Johnston Archive. 20.01.14. [*]
(обратно)38
Delves D., Flitton S. The Radiological Accident in Goiânia. Publication. Vienna: International Atomic Energy Agency, 1988. [*]
(обратно)39
Там же. [*]
(обратно)40
Там же. [*]
(обратно)41
Wikipedia. . Сам по себе не очень надежный источник, но я решил использовать этот список в качестве иллюстрации. [*]
(обратно)42
All Mining Disasters: 1839 to Present // Centers for Disease Control and Prevention. 26.02.13. [*]
(обратно)43
Honkeiko Colliery Mining Disaster | China [1942] // Encyclopedia Britannica Online. [*]
(обратно)44
Aigbogan F. Pipeline Explosion Kills 700 // Ludington Daily News, 22.10.98. [*]
(обратно)45
Keller B. 500 on 2 Trains Reported Killed By Soviet Gas Pipeline Explosion // The New York Times (New York), 04.06.89; Careless Workers Blamed For Explosion // Observer-Reporter (Washington), 06.06.89. [*]
(обратно)46
Russia Remembers 1989 Ufa Train Disaster // Sputnik News. 04.06.09. [*]
(обратно)47
Hurricanes: Science and Society: 1975 Super Typhoon Nina // Hurricane Science. [*]
(обратно)48
After 30 Years, Secrets, Lessons of China’s Worst Dams Burst Accident Surface // People’s Daily Online. 01.10.05. [*]
(обратно)49
Typhoon Nina-Banqiao Dam Failure | Chinese History [1975] // Encyclopedia Britannica Online. 04.06.14. [*]
(обратно)50
McLaughlin Th.P., Monahan Sh.P., Pruvost N.L. A Review of Criticality Accidents: report // Oak Ridge: Los Alamos National Laboratory, 2000. [*]
(обратно)51
May 21, 1946: Louis Slotin Becomes Second Victim of “Demon Core” // American Physical Society. [*]
(обратно)52
Goldman L. Oxford Dictionary of National Biography, 2005–2008. Oxford: Oxford University Press, 2009. [*]
(обратно)53
Physics Laureates: Fields // The Nobel Prize. [*]
(обратно)54
National Radiological Protection Board Assessment of the Radiological Impact of the Windscale Reactor Fire, October 1957: The Collective Radiation Dose Received by the Population; Addendum Concerning the Release of Polonium and Other Radionuclides: report // National Radiological Protection Board. 1983. [*]
(обратно)55
Arnold L. Windscale, 1957: Anatomy of a Nuclear Accident. New York: St. Martin’s Press, 1992; Hubbell M.W. The Fundamentals of Nuclear Power Generation: Questions & Answers. Bloomington, IN: AuthorHouse, 2011; Mahaffey J.A. Atomic Awakening: A New Look at the History and Future of Nuclear Power. New York: Pegasus Books, 2009. [*]
(обратно)56
Poole M., Dainton J., Chattopadhyay S. Cockcroft’s Subatomic Legacy: Splitting the Atom // CERN Courier – International Journal of High-Energy Physics. 20.11.07. [*]
(обратно)57
Stacy S.M. Proving the Principle: A History of the Idaho National Engineering and Environmental Laboratory, 1949–1999. ID Falls, ID: Idaho Operations Office of the Dept. of Energy, 2000. [*]
(обратно)58
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)59
Bivens M. Horror of Soviet Nuclear Sub’s ‘61 Tragedy Told // The Los Angeles Times (Los Angeles), 03.01.94. [*]
(обратно)60
Класс «Эхо» – по классификации НАТО. [*]
(обратно)61
Долгодворов В. Субмарина, сберегшая мир // Труд. 21.11.02. [*]
(обратно)62
Takano M., Romanova V., Yamazawa H., Sivintsev Y., Compton K., Novikov V., Parker F. Reactivity Accident of Nuclear Submarine near Vladivostok // Journal of Nuclear Science and Technology. 2000. Vol. 38. № 2 (16.10.2000). [*]
(обратно)63
Город назывался Челябинск-40 до 1966 года. Затем стал называться Челябинск-65. После 1994 года – Озёрск. [*]
(обратно)64
Жорес Медведев (1925–2018) – советский биолог, диссидент. В 1973 году лишен советского гражданства и с тех пор жил в Великобритании. В 1990 году советское гражданство было ему возвращено. [*]
(обратно)65
Лев Тумерман (1898–1986) – советский биолог. В 1974 году вынужденно эмигрировал в Израиль. [*]
(обратно)66
Soran D.M., Stellman D.B. An Analysis of the Alleged Kyshtym Disaster: report. New Mexico: Los Alamos National Laboratory, 1982. [*]
(обратно)67
Feshbach M. Ecological Disaster: Cleaning Up the Hidden Legacy of the Soviet Regime. New York: Twentieth Century Fund Press, 1995; Production Association “MAYAK” // Global Security; Postol T.A. The Incident in Chelyabinsk // Science. 1979. Vol. 206. № 4416 (19.10.79); Rabl Th. The Nuclear Disaster of Kyshtym 1957 and the Politics of the Cold War // Environment & Society Portal, Arcadia. 2012. № 20. Rachel Carson Center for Environment and Society. [*]
(обратно)68
Ural Mountains Radiation Pollution // American University, Washington DC. [*]
(обратно)69
Hopkins A.T. Unchained Reactions: Chernobyl, Glasnost, and Nuclear Deterrence. Washington, DC: National Defense University Press, 1993. [*]
(обратно)70
Walker J.S. Three Mile Island: A Nuclear Crisis in Historical Perspective. Berkeley: University of California Press, 2004. [*]
(обратно)71
Rogovin M. (director). Three Mile Island – A Report to the Commissioners and to the Public: report. Vol. 1. Washington D.C.: Nuclear Regulatory Commission Special Inquiry Group, 1980. [*]
(обратно)72
Kemeny J.G. (chairman). Report of The President’s Commission on the Accident at Three Mile Island. Report. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1979. [*]
(обратно)73
Kharecha P.A., Hansen J.E. Prevented Mortality and Greenhouse Gas Emissions from Historical and Projected Nuclear Power // Environmental Science & Technology. 2013. Vol. 47. № 9. [*]
(обратно)74
Smith G. The Cost of China’s Dependence on Coal – 670,000 Deaths a Year // Fortune. 05.11.14. [*]
(обратно)75
Conca J. How Deadly Is Your Kilowatt? We Rank The Killer Energy Sources // Forbes. 10.06.12. [*]
(обратно)76
Gelino N., Babarro M.-R., Siegler M.A., Sood D., Verlinden C. Chernobyl – Nuclear Disaster. An Accident Investigation Report Submitted for IOE491, Human Error & Complex System Failures: report. 2005. [*]
(обратно)77
Medvedev G., Sakharov A. The Truth About Chernobyl. New York: BasicBooks, 1991. [*]
(обратно)78
Карпан Н. Чернобыль. Месть мирного атома. Часть 5. Чернобыльский суд. [*]
(обратно)79
Read P.P. Ablaze: The Story of Chernobyl. London: Secker & Warburg, 1993. [*]
(обратно)80
Международная консультативная группа по ядерной безопасности. INSAG-7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1. Вена. МАГАТЭ, 1992. [*]
(обратно)81
Pedraza J.M. Electrical Energy Generation in Europe: The Current Situation and Perspectives in the Use of Renewable Energy Sources and Nuclear Power for Regional Electricity Generation. Berlin: Springer, 2015. [*]
(обратно)82
Xuequan M. Three Gorges Breaks World Record for Hydropower Generation // Xinhua. 01.01.15. [*]
(обратно)83
Medvedev Zh.A. The Legacy of Chernobyl. Oxford: Basil Blackwell, 1990. [*]
(обратно)84
Domaratzki Z. Defence in Depth in Nuclear Safety: A Report by the International Nuclear Safety Advisory Group. Vienna: International Atomic Energy Agency, 1996. [*]
(обратно)85
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)86
На момент работы над переводом станция еще не запущена. [*]
(обратно)87
Международная консультативная группа по ядерной безопасности. INSAG-7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1. Вена. МАГАТЭ, 1992. [*]
(обратно)88
Строительство атомных электростанций / под ред. В. Дубровского. [*]
(обратно)89
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)90
Международная консультативная группа по ядерной безопасности. INSAG-7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1. Вена. МАГАТЭ, 1992. [*]
(обратно)91
При переводе использовались тексты документов, размещенных на сайте pripyat-city.ru. [*]
(обратно)92
При переводе использовались тексты документов, размещенных на сайте pripyat-city.ru. [*]
(обратно)93
Карпан Н. Чернобыль. Месть мирного атома. [*]
(обратно)94
Там же. [*]
(обратно)95
Дмитриев В. Авария 1982 г. на 1-м блоке ЧАЭС // accidont.ru. [*]
(обратно)96
Дмитриев В. Авария на ЛАЭС 75 г. // accidont.ru. [*]
(обратно)97
При переводе использовались тексты документов, размещенных на сайте pripyat-city.ru. [*]
(обратно)98
При переводе использовались тексты документов, размещенных на сайте pripyat-city.ru. [*]
(обратно)99
Dyatlov A. Why INSAG Has Still Got It Wrong // Nuclear Engineering International. 08.04.06. (Впервые статья опубликована в сентябре 1995 года. – Пер.) [*]
(обратно)100
The Recent Earthquake and Tsunami in Japan: Implications for East Asia; report. World Bank, 2011; Damage Situation and Police Countermeasures Associated with 2011 Tohoku District – Off The Pacific Ocean Earthquake: report. Tokyo: National Police Agency of Japan, 2016. [*]
(обратно)101
Kitazawa K. (chairman). The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Disaster: Investigating the Myth and Reality. London: Routledge, 2014. [*]
(обратно)102
Hvistendahl M. Coal Ash Is More Radioactive than Nuclear Waste // Scientific American. 13.12.07. [*]
(обратно)103
По классификации НАТО. Российское название – РТ-23 УТТХ «Мо́лодец». [*]
(обратно)104
По классификации НАТО. Российское название – Р-36М. [*]
(обратно)105
Музей ракетных войск стратегического назначения. rvsp.net.ua. [*]
(обратно)106
Medvedev Zh.A. The Legacy of Chernobyl. Oxford: Basil Blackwell, 1990. [*]
(обратно)107
Там же. [*]
(обратно)108
Дятлов А. Чернобыль. Как это было. [*]
(обратно)109
Medvedev G., Sakharov A. The Truth About Chernobyl. New York: BasicBooks, 1991. [*]
(обратно)110
Международная консультативная группа по ядерной безопасности. INSAG-7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1. Вена. МАГАТЭ, 1992. [*]
(обратно)111
Карпан Н. Чернобыль. Месть мирного атома. Часть 5. Чернобыльский суд. [*]
(обратно)112
Легасов В. Мой долг – рассказать об этом // Правда. 20.05.88. Цитируется по: Medvedev Zh.A. The Legacy of Chernobyl. Oxford: Basil Blackwell, 1990. [*]
(обратно)113
Международная консультативная группа по ядерной безопасности. INSAG-7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1. Вена. МАГАТЭ, 1992. [*]
(обратно)114
Щербак Ю. Чернобыль. [*]
(обратно)115
Карпан Н. Чернобыль. Месть мирного атома. Часть 5. Чернобыльский суд. [*]
(обратно)116
Дятлов А. Чернобыль. Как это было. [*]
(обратно)117
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)118
Read P.P. Ablaze: The Story of Chernobyl. London: Secker & Warburg, 1993. [*]
(обратно)119
Дятлов впоследствии утверждал, что при падении мощности не присутствовал и никаких решений о продолжении испытаний не принимал. Однако его слова противоречат свидетельствам нескольких очевидцев. [*]
(обратно)120
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)121
Раздел “Heroes – Liquidators” в английской версии сайта Чернобыльской АЭС (chnpp.gov.ua). На момент перевода этот раздел на сайте отсутствовал. [*]
(обратно)122
Medvedev Zh.A. The Legacy of Chernobyl. Oxford: Basil Blackwell, 1990. [*]
(обратно)123
Международная консультативная группа по ядерной безопасности. INSAG-7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1. Вена. МАГАТЭ, 1992. [*]
(обратно)124
Там же. [*]
(обратно)125
Григорий Медведев в «Чернобыльской тетради» несколько раз упоминает, что нормы требовали не менее 30 стержней в активной зоне. Однако, учитывая уровень его компетенции, он не мог не знать, что в то время эта цифра составляла 15. [*]
(обратно)126
Карпан Н. Чернобыль. Месть мирного атома. Часть 5. Чернобыльский суд. [*]
(обратно)127
Международная консультативная группа по ядерной безопасности. INSAG-7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1. Вена. МАГАТЭ, 1992. [*]
(обратно)128
Карпан Н. Чернобыль. Месть мирного атома. Часть 5. Чернобыльский суд. [*]
(обратно)129
Разные источники расходятся во мнениях о том, кто именно нажал на кнопку – Топтунов или Акимов. Акимова называют гораздо чаще, так что эта версия более вероятна. [*]
(обратно)130
Международная консультативная группа по ядерной безопасности. INSAG-7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1. Вена. МАГАТЭ, 1992. [*]
(обратно)131
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)132
Dobbs M. Chernobyl’s “Shameless Lies” // Washington Post. 27.04.92. [*]
(обратно)133
Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия: доклад. Вена: Государственный комитет СССР по использованию ядерной энергии, 1986. [*]
(обратно)134
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)135
Dyatlov A. Why INSAG Has Still Got It Wrong // Nuclear Engineering International. 08.04.06. (Я видел оригинальный источник, но сегодня не удается его найти. – Э.Л.) [*]
(обратно)136
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)137
В описании взрыва здесь и в следующем абзаце используется информация из разных источников. [*]
(обратно)138
Существует мнение, что этот взрыв был по своей природе ядерным, но согласно общепринятой точке зрения взорвался водород. [*]
(обратно)139
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь; Medvedev Zh.A. The Legacy of Chernobyl. Oxford: Basil Blackwell, 1990. [*]
(обратно)140
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)141
Parry V. How I Survived Chernobyl // The Guardian. 24.08.04. [*]
(обратно)142
radiologyinfo.org [*]
(обратно)143
Карпан Н. Чернобыль. Месть мирного атома. Часть 5. Чернобыльский суд. [*]
(обратно)144
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)145
Dobbs M. Chernobyl’s “Shameless Lies” // Washington Post. 27.04.92. [*]
(обратно)146
Там же. [*]
(обратно)147
Reason J.T. (dr.). The Chernobyl Errors // Bulletin on the British Psychological Society. 987. Vol. 40. [*]
(обратно)148
До конца неясно: возможно, радиометр под обломками и радиометр в сейфе – один и тот же прибор. В некоторых отчетах говорится, что прибор был один и лежал в засыпанном сейфе, а из других вытекает, что это разные приборы. В любом случае налицо хроническая нехватка приборов радиационного контроля. [*]
(обратно)149
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)150
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)151
Lisova N. Widows Recall the Painful Days After Chernobyl // The Moscow Times. 26.04.06. [*]
(обратно)152
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)153
Там же. [*]
(обратно)154
Read P.P. Ablaze: The Story of Chernobyl. London: Secker & Warburg, 1993. [*]
(обратно)155
Раздел “Heroes – Liquidators” в английской версии сайта Чернобыльской АЭС (chnpp.gov.ua). На момент перевода этот раздел на сайте отсутствовал. [*]
(обратно)156
The Chernobyl Shelter Implementation Plan // European Bank for Reconstruction and Development. ebrd.com. [*]
(обратно)157
Medvedev Zh.A. The Legacy of Chernobyl. Oxford: Basil Blackwell, 1990. [*]
(обратно)158
Карпан Н. Чернобыль. Месть мирного атома. Часть 5. Чернобыльский суд. [*]
(обратно)159
Согласно позднейшим утверждениям Брюханова, ему с самого начала стало ясно, что реактор разрушен, однако это противоречит как другим свидетельствам, так и его собственному докладу в Москву. См: Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)160
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)161
Read P.P. Ablaze: The Story of Chernobyl. London: Secker & Warburg, 1993. [*]
(обратно)162
Medvedev Zh.A. The Legacy of Chernobyl. Oxford: Basil Blackwell, 1990. [*]
(обратно)163
Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия: доклад. Вена: Государственный комитет СССР по использованию ядерной энергии, 1986. [*]
(обратно)164
Губарев В. [*]
(обратно)165
Medvedev Zh.A. The Legacy of Chernobyl. Oxford: Basil Blackwell, 1990. [*]
(обратно)166
Там же. [*]
(обратно)167
Щербак Ю. Чернобыль. [*]
(обратно)168
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)169
Higginbotham A. Chernobyl 20 Years On // The Guardian. 26.03.06. [*]
(обратно)170
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)171
Barringer F. One Year After Chernobyl, An Intense Tale Of Survival // The New York Times (New York), 06.04.87. [*]
(обратно)172
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)173
Там же. [*]
(обратно)174
Там же. [*]
(обратно)175
Mould R.F. Chernobyl – The Real Story. Oxford, England: Pergamon Press, 1988. [*]
(обратно)176
Щербак Ю. Чернобыль. [*]
(обратно)177
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)178
Anatomy of an Accident: A Logistical Nightmare // The Washington Post (Washington D.C.), 26.10.86. [*]
(обратно)179
Read P.P. Ablaze: The Story of Chernobyl. London: Secker & Warburg, 1993. [*]
(обратно)180
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)181
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)182
Higginbotham A. Chernobyl 20 Years On // The Guardian. 26.03.06. [*]
(обратно)183
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)184
Там же. [*]
(обратно)185
Mould R.F. Chernobyl Record: The Definitive History of the Chernobyl Catastrophe. Bristol, UK: Institute of Physics Publishing, 2000. Цитируется: Легасов В. Мой долг – рассказать об этом // Правда. 20.05.88. [*]
(обратно)186
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)187
Там же. [*]
(обратно)188
Алексиевич С. Чернобыльская молитва. [*]
(обратно)189
Зона ответственности. Чернобыльские герои // Правда. 25.12.86. Цитируется в: Mould R.F. Chernobyl – The Real Story. Oxford, England: Pergamon Press, 1988. [*]
(обратно)190
Mould R.F. Chernobyl – The Real Story. Oxford, England: Pergamon Press, 1988. [*]
(обратно)191
Mould R.F. Chernobyl Record: The Definitive History of the Chernobyl Catastrophe. Bristol, UK: Institute of Physics Publishing, 2000. Цитируется: Легасов В. Мой долг – рассказать об этом // Правда. 20.05.88. [*]
(обратно)192
The Chernobyl Gallery. chernobylgallery.com. [*]
(обратно)193
Текст с магнитофонных кассет, надиктованных академиком В. А. Легасовым «Об аварии на Чернобыльской АЭС». [*]
(обратно)194
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)195
Беннетт Б., Репачоли М., Карр Ж. Медицинские последствия Чернобыльской аварии и специальные программы здравоохранения. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2006. По первоначальным советским оценкам, было эвакуировано 135 тысяч человек, но позднее эта цифра снизилась до 116 тысяч. [*]
(обратно)196
Там же. [*]
(обратно)197
Gale, Robert Peter, and Thomas Hauser. Chernobyl: The Final Warning. London: Hamish Hamilton, 1988. [*]
(обратно)198
Алексиевич С. Чернобыльская молитва. [*]
(обратно)199
“The Liquidators – Chernobyl Children International”. Chernobyl Children International. chernobyl-international.com. На момент перевода эта страница на сайте недоступна. – Пер. [*]
(обратно)200
Gale R.P., Hauser Th. Chernobyl: The Final Warning. London: Hamish Hamilton, 1988. [*]
(обратно)201
Алексиевич С. Чернобыльская молитва. [*]
(обратно)202
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)203
Там же. [*]
(обратно)204
Gale R.P., Hauser Th. Chernobyl: The Final Warning. London: Hamish Hamilton, 1988. [*]
(обратно)205
Там же. [*]
(обратно)206
Там же. [*]
(обратно)207
Chernobyl Haunts Engineer Who Alerted World // CNN. 26.04.96. [*]
(обратно)208
Jensen M., Lindhé J.-Ch. Monitoring the Fallout. Report. Vienna: International Atomic Energy Agency, 1986 // IAEA Bulletin. August 1986. [*]
(обратно)209
Means H. How Did Chernobyl Corpse Report Get Into Thousands – And Why? // Orlando Sentinel (Orlando). 18.05.86. [*]
(обратно)210
Rosenstiel Th.B. Soviet Secrecy Blamed for Exaggerated American Reports on Chernobyl Disaster // Los Angeles Times (Los Angeles). 10.05.86. [*]
(обратно)211
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)212
Medvedev Zh.A. The Legacy of Chernobyl. Oxford: Basil Blackwell, 1990. [*]
(обратно)213
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)214
Там же. [*]
(обратно)215
Документальный фильм «Битва за Чернобыль» (The Battle of Chernobyl). Режиссер Томас Джонсон. Цитируется: Василий Нестеренко. [*]
(обратно)216
Medvedev Zh.A. The Legacy of Chernobyl. Oxford: Basil Blackwell, 1990. [*]
(обратно)217
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)218
Ананенко полагает, что это было 6 мая, но он не уверен. Мне встречались варианты 4, 6, 10 мая. [*]
(обратно)219
Речь могла идти о квартирах, машинах и т. д. Возможно, это фольклорное преувеличение, но неправдоподобным оно не выглядит. [*]
(обратно)220
В настоящем переводе цитируется другой материал – из газеты «Труд». 1986. [*]
(обратно)221
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)222
Read P.P. Ablaze: The Story of Chernobyl. London: Secker & Warburg, 1993. [*]
(обратно)223
Жуковский В., Иткин В., Черненко Л. Чернобыль: адрес мужества // ТАСС (Москва). 16.05.86. [*]
(обратно)224
Раздел “Heroes – Liquidators” в английской версии сайта Чернобыльской АЭС (chnpp.gov.ua). На момент перевода этот раздел на сайте отсутствовал. [*]
(обратно)225
Незадолго до смерти Баранов дал интервью, но, увы, эта веб-страница сегодня недоступна, а ее содержание я в свое время не скопировал и сейчас плохо помню, о чем именно шла речь. [*]
(обратно)226
В списке наблюдателей от Всемирной организации работников ядерной отрасли на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 2004 года числится человек по имени Валерий Беспалов, но я не смог найти никакой информации о нем. [*]
(обратно)227
Разоблачение чернобыльских мифов. Воспоминания старшего инженера-механика реакторного цеха № 2 Алексея Ананенко. souzchernobyl.org. [*]
(обратно)228
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)229
Read P.P. Ablaze: The Story of Chernobyl. London: Secker & Warburg, 1993. Я использую эту цитату с оговоркой, что в указанной книге нет списка источников, и поэтому мне не известно, где автор нашел эту фразу. [*]
(обратно)230
Von Franke K., Martin H.-P. Das Ist Rin Trauriger Anblick // Der Spiegel (Hamburg). 19.05.86. [*]
(обратно)231
Документальный фильм «Битва за Чернобыль» (The Battle of Chernobyl). Режиссер Томас Джонсон. [*]
(обратно)232
Там же. [*]
(обратно)233
Там же. [*]
(обратно)234
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)235
Higginbotham A. Chernobyl 20 Years On // The Guardian. 26.03.06. [*]
(обратно)236
Рябцев В., Насвит О. Восстановление чернобыльской зоны и текущее состояние саркофага: доклад. Совет национальной безопасности и обороны Украины, 2010. [*]
(обратно)237
Бертон Б., Репачоли М., Карр Ж. Медицинские последствия Чернобыльской аварии и специальные программы здравоохранения. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2006. [*]
(обратно)238
Mould R.F. Chernobyl Record: The Definitive History of the Chernobyl Catastrophe. Bristol, UK: Institute of Physics Publishing, 2000. [*]
(обратно)239
Там же. [*]
(обратно)240
Mould R.F. Chernobyl – The Real Story. Oxford, England: Pergamon Press, 1988. [*]
(обратно)241
Kostin I.F., Johnson Th. Chernobyl: Confessions of a Reporter. First ed. New York: Umbrage Editions, 2006. [*]
(обратно)242
Алексиевич С. Чернобыльская молитва. [*]
(обратно)243
Гощицкий Н. Упала звезда Полынь. [*]
(обратно)244
“The Liquidators – Chernobyl Children International”. Chernobyl Children International. (chernobyl-international.com) [*]
(обратно)245
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)246
Medvedev Zh.A. The Legacy of Chernobyl. Oxford: Basil Blackwell, 1990. [*]
(обратно)247
Mould R.F. Chernobyl – The Real Story. Oxford, England: Pergamon Press, 1988. [*]
(обратно)248
Алексиевич С. Чернобыльская молитва. [*]
(обратно)249
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)250
Mould R.F. Chernobyl – The Real Story. Oxford, England: Pergamon Press, 1988. [*]
(обратно)251
Газета «Известия». 02.05.86. [*]
(обратно)252
Медведев Г. Чернобыльская тетрадь. [*]
(обратно)253
Kostin I.F., Johnson Th. Chernobyl: Confessions of a Reporter. First ed. New York: Umbrage Editions, 2006. [*]
(обратно)254
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)255
Higginbotham A. Chernobyl 20 Years On // The Guardian. 26.03.06. [*]
(обратно)256
Документальный фильм «Битва за Чернобыль» (The Battle of Chernobyl). Режиссер Томас Джонсон. [*]
(обратно)257
Kostin I.F., Johnson Th. Chernobyl: Confessions of a Reporter. First ed. New York: Umbrage Editions, 2006. [*]
(обратно)258
Алексиевич С. Чернобыльская молитва. [*]
(обратно)259
Там же. [*]
(обратно)260
Anderson Ch. Soviet Official Admits That Robots Couldn’t Handle Chernobyl Cleanup // The Scientist. 20.01.90. [*]
(обратно)261
Алексиевич С. Чернобыльская молитва. [*]
(обратно)262
Там же. [*]
(обратно)263
Kostin I.F., Johnson Th. Chernobyl: Confessions of a Reporter. First ed. New York: Umbrage Editions, 2006. [*]
(обратно)264
Les Chiffres De L’ONU Sur Les Victimes De Tchernobyl Auraient été Sous-estimés // Le Monde. 07.04.06. [*]
(обратно)265
Данные в «Википедии» со ссылкой на тот же случай несколько отличаются: «“25 000 ликвидаторов из России сейчас мертвы и 70 000 – инвалиды, приблизительно такая ситуация и на Украине, и 10 000 ликвидаторов из Белоруссии сейчас мертвы и 25 000 имеют инвалидность”, что составляет общее число 60 000 погибших (10 % от 600 000 ликвидаторов) и 165 000 инвалидов». [*]
(обратно)266
Документальный фильм «Битва за Чернобыль» (The Battle of Chernobyl). Режиссер Томас Джонсон. [*]
(обратно)267
«Мертвые дети не плачут» (англ.).
(обратно)268
Я столкнулся с дефицитом данных о Комплексной экспедиции. Основная часть информации, изложенной в следующих нескольких абзацах, взята из документального фильма «Внутри чернобыльского саркофага» (Inside Chernobyl’s Sarcophagus), снятого телестудией BBC «Horizon». Учитывая авторитетность источника, а также тот факт, что создатели фильма включили в него множество бесед с самими учеными, я полагаю, что эта информация достоверна. [*]
(обратно)269
Документальный фильм «Внутри чернобыльского саркофага» (Inside Chernobyl’s Sarcophagus). BBC, 1996. [*]
(обратно)270
Там же. [*]
(обратно)271
Там же. [*]
(обратно)272
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)273
Там же. [*]
(обратно)274
Nuclear Reactor Severe Accident Experiments // Argonne National Laboratory. 28.07.14. [*]
(обратно)275
Read P.P. Ablaze: The Story of Chernobyl. London: Secker & Warburg, 1993. [*]
(обратно)276
Eaton W.J. 6 Go on Trial in Chernobyl Disaster: Former Chief of Nuclear Plant, 5 Aides Face Prison Terms // Los Angeles Times (Los Angeles), 08.07.87. [*]
(обратно)277
Там же. [*]
(обратно)278
Карпан Н. Чернобыль. Месть мирного атома. Часть 5. Чернобыльский суд. Почти все, изложенное в этом и двух следующих абзацах, основано на документе Карпана, поскольку он – единственный источник информации о суде, не считая материалов о первом и последнем днях заседания. [*]
(обратно)279
Dobbs M. Chernobyl’s “Shameless Lies” // Washington Post (Washington). 27.04.92. [*]
(обратно)280
Карпан Н. Чернобыль. Месть мирного атома. Часть 5. Чернобыльский суд. [*]
(обратно)281
Там же. [*]
(обратно)282
Здесь я сочувствую обвиняемым, поскольку это тот случай, когда «сделаешь – плохо, не сделаешь – еще хуже». Они не объявили эвакуацию из страха перед начальством, и за это их сейчас наказывают, но объяви они эвакуацию сразу, не дожидаясь разрешения, их, вероятнее всего, за это тоже бы наказали. [*]
(обратно)283
Автор, очевидно, имеет в виду Успенский собор, пострадавший при пожаре в 1718 году и открытый после восстановления в 1729 году. [*]
(обратно)284
Shlyakhter A., Wilson R. Chernobyl: The Inevitable Results of Secrecy // Public Understanding of Science. July 1992. Vol. 1. P. 254. Цитируется статья А. Калугина из журнала «Природа», ноябрь 1990. [*]
(обратно)285
Sakharov A. Facets of a Life. Gif-sur-Yvette, France: Atlantica Séguier Frontières, 1991. [*]
(обратно)286
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)287
Legasov Suicide Leaves Unanswered Questions // Nuclear Engineering International. [*]
(обратно)288
Chernobyl: Valery Legasov’s Battle // Chernobyl: Valery Legasov’s Battle. TV-Novosti. 2008. Телесюжет о В. Легасове на английском языке. Многое в этом и последующих абзацах взято из этого телефильма; Записи В. Легасова. Информация из них использована как в этом абзаце, так и в других разделах книги. [*]
(обратно)289
Legasov Suicide Leaves Unanswered Questions // Nuclear Engineering International. [*]
(обратно)290
Moscow Reports Restart Of a Chernobyl Reactor // The New York Times (New York), 30.09.86. [*]
(обратно)291
Международная консультативная группа по ядерной безопасности. INSAG-7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1. Вена. МАГАТЭ, 1992. Приложение I; Доклад Комиссии Государственного комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике. «О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года (Москва, 1991 г.) Все приведенные цитаты взяты из этого доклада. [*]
(обратно)292
Там же. [*]
(обратно)293
Международная консультативная группа по ядерной безопасности. INSAG-7. Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1. Вена. МАГАТЭ, 1992. [*]
(обратно)294
Там же. [*]
(обратно)295
Information Notice No. 93–71: Fire At Chernobyl Unit 2: report. Washington D.C.: United States Nuclear Regulatory Commission, 1993. [*]
(обратно)296
Там же. [*]
(обратно)297
BBC News | EUROPE | Chernobyl Shut Down For Good // BBC News. 15.12.2000. [*]
(обратно)298
Бертон Б., Репачоли М., Карр Ж. Медицинские последствия Чернобыльской аварии и специальные программы здравоохранения. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2006. [*]
(обратно)299
Чернобыльская катастрофа: доклад. Минск. Министерство иностранных дел Республики Беларусь, 2009. [*]
(обратно)300
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)301
Vidal J. UN Accused of Ignoring 500,000 Chernobyl Deaths // The Guardian. 25.03.06. [*]
(обратно)302
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)303
Там же. [*]
(обратно)304
Доклад написан британскими специалистами Йеном Фэйрли и Дэвидом Самнером по заказу представительницы «Европейских зеленых», члена Европейского парламента Ребекки Хармс в ответ на доклад Чернобыльского форума ООН (несколько раз цитируется в настоящей книге), который вызвал нарекания со стороны «зеленых». [*]
(обратно)305
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)306
Там же. [*]
(обратно)307
Yablokov A.V., Nesterenko V.B., Nesterenko A.V. Chernobyl: Consequences of the Chernobyl Catastrophe for the Environment // Annals of the New York Academy of Sciences. 2009. Vol. 1181. № 1. [*]
(обратно)308
Gale R.P., Hauser Th. Chernobyl: The Final Warning. London: Hamish Hamilton, 1988. [*]
(обратно)309
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)310
Чернобыльская катастрофа: доклад. Минск. Министерство иностранных дел Республики Беларусь, 2009. [*]
(обратно)311
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)312
Dobbs M. Chernobyl’s “Shameless Lies” // Washington Post. 27.04.92. [*]
(обратно)313
Пер. Г. Григорьева.
(обратно)314
Асауляк М. Виктор Брюханов: «Меня могли расстрелять за Чернобыль» // Kyiv Weekly. 28.04.11. [*]
(обратно)315
НБК введен в эксплуатацию 10 июля 2019 года. [*]
(обратно)316
Hankinson A. Containing Chernobyl: The Mission to Diffuse the World’s Worst Nuclear Disaster Site // Wired UK. 03.01.13. [*]
(обратно)317
Slodkowski A., Saito M. Special Report: Help Wanted in Fukushima: Low Pay, High Risks and Gangsters // Reuters. 25.10.13. [*]
(обратно)318
Fukushima Daiichi Ice Wall Equipment in Place // World Nuclear News. 10.02.16. [*]
(обратно)319
Установка «ледяной стены» завершена, и на настоящий момент она функционирует. Однако, судя по некоторым сообщениям, она не полностью справляется со своей задачей – то есть чистые грунтовые воды продолжают проникать в загрязненную часть почвы под реакторами. По словам специалистов ТЭПКО, компания отдает себе отчет, что проблема до конца пока не решена, и продолжает работать над ней. [*]
(обратно)320
Yamaguchi M. Japan Audit: Millions of Dollars Wasted in Fukushima Cleanup // AP. 24.03.15. [*]
(обратно)321
На момент работы над переводом строительство еще не завершено. [*]
(обратно)





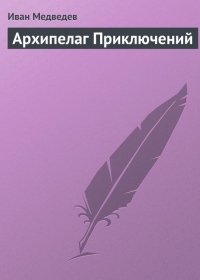

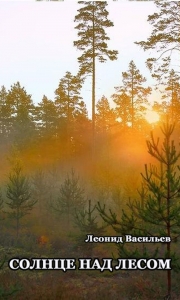

Комментарии к книге «Чернобыль 01:23:40», Эндрю Ливербарроу
Всего 0 комментариев