МИХАИЛ БЕЛЕЦКИЙ
ЧТО ВСПОМНЮ
Перед чистым листом
Почти всю жизнь я думал о том, что когда-нибудь сяду писать воспоминания.
Пожалуй, в школьном детстве я думал не совсем об этом. А о том, что так или иначе необходимо будет оставить свидетельство нашей жизни – поскольку свидетельство каждой эпохи необходимо, а ничего похожего на нашу жизнь в доступной мне литературе я не находил. Речь шла скорее не о воспоминаниях, а о каком-то художественном вымысле. Амбициозный замысел, и сделать хотя бы шаг к его осуществлению мне не довелось. По счастью, и задача стала неактуальной – сегодня художественных свидетельств моей эпохи достаточно.
А сразу после школьной скамьи моя жизнь стала складываться весьма интересно. Не всегда, конечно, но в ней были достаточно яркие куски, я был свидетелем многих интересных событий, сталкивался с замечательными людьми, многие из которых оставили своё имя и след в истории. И вот уже в университете я стал подумывать о том, что когда-нибудь нужно будет рассказать именно о том, что я видел своими глазами. И каждый раз, когда в моей жизни происходило интересное событие или встреча, я думал: ну, когда-нибудь я должен об этом рассказать.
Последний десяток лет это «когда-нибудь» стало означать: как только выберу время. Но вот с этим-то «выберу время» и было нелегко. Я не отношусь к числу счастливых людей, которые могут делать какое бы то ни было дело, постоянно от него отрываясь и используя каждую выдавшуюся минуту. Чтобы написать любой текст, мне нужно сидеть в пустой комнате, зная, что туда никто не войдёт и не помешает. А чтобы делать большую работу, нужно много совершенно свободных дней. В советское время я думал, что такие дни будут после 60, когда я уйду на пенсию. Как известно, сейчас таких пенсий не бывает. Я работал и после 60, и по большей части – работал с интересом. Но на мемуары ни времени, ни сил не оставалось. После 70 я пытаюсь всё меньше заниматься основной работой. Но ведь и сил становится всё меньше.
Сейчас я надеюсь организовать свою жизнь так, что в ней каждую неделю будет 2-3 свободных дня. Одни из них – чистый отдых, это дело святое. А в остальные попробую писать. И вот сегодня сажусь впервые.
Объясню, к чему я стремлюсь. Я не намерен рассказывать о личном, поскольку, на мой взгляд, это не представляет общего интереса. Я человек по натуре замкнутый и не склонен выставлять напоказ свои эмоции. Тем более, не считаю возможным касаться тем, затрагивающих личную жизнь других людей. Я преклоняюсь перед Руссо и Герценом, которые рассказали о самых интимных сторонах своей жизни. Бесспорно, эта сторона воспоминаний нужна хотя бы для лучшего понимания человеческой природы. Но я на неё не способен.
Я хочу рассказать об эпохе, в которой жил, об интересных событиях, свидетелем которых был и в которых участвовал, об интересных людях, которых знал. О себе я хочу говорить как о современнике этих людей и событий. (Замечательное название у Короленко: «История моего современника»). Конечно, граница между тем, что, по моему мнению, заслуживает и что не заслуживает общего внимания, весьма условна. Так я не собираюсь рассказывать о своей первой любви, но, наверное, не обойду туристские походы. Не упомяну о прекрасных людях, отношения с которыми были очень важны для меня, но носили чисто личный характер. Но немало места посвящу изложению своих размышлений. А иногда даже какая-нибудь мелкая черта частного характера может помочь почувствовать воздух эпохи. (Это относится, например, к рассказу о детстве).
Мне трудно представить, что выйдет из моего замысла. У меня нет никакого плана. (Я вообще никогда не составляю плана даже небольшой статьи, логика изложения возникает по ходу написания). Не представляю, каких размеров получится текст. И уж тем более – сколько времени он у меня займёт, успею ли и даже станет ли сил и терпения его продолжить.
Больше всего меня беспокоит проблема собственной памяти – она совершенно не приспособлена для написания мемуаров. Я – один из наиболее беспамятных среди известных мне людей. Даже об очень дорогих мне людях у меня в памяти часто сохраняется только общий фон, общее настроение, которое трудно передать словами. И почти никаких деталей. А какой может быть рассказ без деталей? (Так однажды я пытался и не смог написать краткие воспоминания об Иване Светличном – а ведь это был для меня один из самых любимых людей, я вспоминаю и вижу его как живого). Такое противоречие: много видел, хотел бы много рассказать, а так мало помню.
Но буду писать, что вспомню. Единственное, что берусь обещать, – не буду врать сознательно. Если что искажу, то невольно. Только сумею ли выудить из памяти достаточно интересного и достойного внимания других?
Итак, начинаю. Передо мною чистый лист, точнее – чистый дисплей. Бог мне в помощь!
25 августа 2006
Часть I. Детство
Глава 1. Родные
Пожалуй, лучше всего начать со своей родословной. Тем более что мои сведения о ней простираются недалеко.
Отец в детстве
Отец рассказывал, что в его дореволюционном паспорте (или другом документе?) была запись: «Казак села Гоголева Остёрского уезда Черниговской губернии». Это значит, что мои предки по отцовской линии были не крепостными, а вольными крестьянами, в давние столетия – казаками.
Отец, Белецкий Иван Иванович, родился в 1899 году, в упомянутом Гоголеве, в очень бедной крестьянской семье. Дед мой, тоже Иван Иванович, умер ещё до рождения отца, оставив бабушку, Ульяну Ивановну, с кучей детей. Не знаю, сколько из них умерло, но выжили, по крайней мере, пятеро: братья Евстратий, Григорий и Иван и сёстры Маруся и Варвара.
Из своего раннего детства отец вспоминал только то, как пас коров и, гоняясь за ними по стерне, до кости подрезал себе пальцы, поскольку с ранней весны до поздней осени бегал босиком. Окончил два класса церковно-приходской школы. А когда чуть подрос, его, как и двух старших братьев, отправили «в люди», в Киев. К тому времени там уже заметно обосновался дядя Евстратий, который опекал младшего брата, помогал ему устроиться. Отец поступил на работу «мальчиком» в обувной магазин «Скороход», потом работал продавцом в этом магазине (а может, и в каких других), где его и застала мировая война.
Как для него прошла эта, а затем гражданская война, не знаю. Корю себя, что не расспросил. Единственный рассказ, который я запомнил, относится ко временам первой украинской независимости. Отец ехал на побывку, по-видимому, из Киева в родное село. В Козельце к нему подошла группа крестьян и, поскольку незадолго до того произошла очередная смена власти, стала задавать ему как сведущему городскому человеку самые насущные вопросы: „Ну, як воно тепер буде?” И здесь отец, по тому времени человек нестреляный, неосторожно ответил: „Не знаю, чи буде краще, а вже гірше не буде, бо нема куди”. Не успел он это сказать, как за спиной возникла пара дюжих молодцов и представилась: „Державна Варта”. Тут же его взяли и отвезли в Остёр, где поместили в холодную. По счастью, сведения об аресте удалось передать в родной Гоголев. Оттуда приехал дядя Гриша с возом, гружёным всякими сельскими припасами, включая горилку, благодаря которым удалось сговориться с тюремной и прочей администрацией, и отца благополучно выпустили. Но урок о том, что власть вслух лучше не критиковать, он усвоил на всю жизнь, тем более что последующие исторические события тысячекратно подтвердили его справедливость.
Дед Миша
Место рождения моего деда по материнской линии, Пигуренко Михаила Анисимовича, по семейному – деда Миши, точно не знаю, но основную часть своей жизни он прожил в Киеве, так что в моём представлении он – коренной киевлянин. Работал наборщиком в типографии. По семейным преданиям, он был едва ли не единственным, кто набирал статьи и книги Патона (Евгения Оскаровича, конечно), поскольку никто больше не мог разобрать почерк последнего. Эту профессию он как-то совмещал со специальностью фельдшера, по которой работал в годы войны и непосредственно после неё. В общем, представитель рабочей аристократии, ещё не «белый», но уже не совсем «синий воротничок».
(В скобках отмечу, что, таким образом, формально я обладаю идеальным происхождением для обеих отечественных властей, при которых мне пришлось жить: советскую власть должно бы было умилить моё рабоче-крестьянское, а идеологов нынешней – чисто украинское происхождение).
Мама, Мария Михайловна, была единственной дочерью деда и бабушки, Марии Васильевны. Как я представляю, жили относительно обеспеченно. Такая мещанская или полубуржуазная семья. Мама училась в гимназии Жеребцовой, но вряд ли окончила её в связи с революцией.
Родители
Знакомство отца и мамы произошло при романтических обстоятельствах. Отца, который к тому времени оказался в каких-то полумилицейских формированиях, свалил тиф, и он попал в больницу, где дед был фельдшером. Там он познакомился с мамой и, выздоровев, начал за ней ухаживать. Нужно сказать, что оба они в молодости были совершенными красавцами, это видно из фотографий. Папа довольно быстро вошёл в семью Пигуренков, чем-то пришёлся по душе и дедушке, и бабушке, наверное, общей мягкостью и внутренней интеллигентностью.
Было начало двадцатых, входил в обиход и становился модным украинский язык, о котором мама до тех пор не имела представления. Папа стал её обучать. На одном из уроков он сказал: „Прошу вас бути моєю дружиною”. Мама не поняла незнакомого слова и попросила перевести. После перевода она некоторое время подумала и потом согласилась. Было это в 1924 году.
Мама к тому времени никогда серьёзно не работала, но находила себе интересные развлечения. Так она несколько лет была в любительской театральной труппе и как будто бы подавала надежды. Мама вспоминала, что в той же труппе были Любовь Добржанская и, если я не ошибаюсь, Наталья Ужвий. Ещё она вела какие-то курсы по ликвидации неграмотности. С гимназических времён у неё было несколько близких подруг, дружба с которыми сохранилась на долгие годы.
Где-то примерно в это время папа выбрал себе профессию. Он окончил курсы бухгалтеров и работал по этой специальности всю оставшуюся жизнь. Казалось, для этой профессии он и родился. Помню его в конце месяца постоянно работающим по ночам: нужно составить месячный отчёт, а днём отвлекают текущие дела. А в отчёте всё должно сойтись до копейки. Такая убеждённость в необходимости абсолютной точности и абсолютной правдивости каждой цифры. Помню, как папа постоянно вёл борьбу со своими директорами, которые хотели где-то сжульничать, что-то показать неправильно. И он, человек по натуре мягкий, склонный к компромиссам, за свои цифры, казалось бы, никому не нужные, стоял с фанатичным упорством. Бывало, это ему дорого обходилось.
Мама позже тоже окончила подобные курсы, и большую часть жизни работала вместе с папой, под его началом.
До моего рождения и всё моё детство родители работали и жили на нефтебазах. Причём, за исключением небольшого периода во время войны и оккупации – в небольших городках Киевской области. Как это выглядело, я расскажу позже. Не припомню, чтобы слышал о каких-либо знаменательных событиях в их довоенной жизни.
Так получилось, что первым, что я написал об отце, оказались его профессиональные качества. Думаю, здесь самое место охарактеризовать его чуть подробнее, равно как и других моих родных.
Наверное, почти всякий человек, предложи ему рассказать о своих родителях, будет вспоминать о них самое лучшее. Я это понимаю, и всё же, когда думаю о своём отце, мне представляется почти идеальный образ, так что, боюсь, его трудно будет сделать достоверным для возможного читателя. Если предложить мне назвать главные черты отца, я бы назвал честность, мягкость и глубокую внутреннюю интеллигентность. Я вторично употребляю последнее слово. Может показаться странным его подчёркивание по отношению к крестьянскому сыну, не получившему никакого образования – только два класса церковно-приходской школы да бухгалтерские курсы. Но интеллигентность – не результат образования. Это внутреннее свойство человека, задатки его он получает при рождении, а дальше может развить в себе в самых неблагоприятных обстоятельствах. Это чувство собственного достоинства, уважение к другим людям, уважение к труду, неприятие грубости, деликатность. Всё это было как бы сконцентрировано в моём отце. Не могу представить, чтобы он сказал грубое слово. Или солгал. (Конечно, не считая ритуальной идеологической лжи в официальной обстановке). Папу могло искренне растрогать какое-нибудь литературное произведение. Помню, как он смотрел фильм «Без вины виноватые» и утирал слёзы. И ещё – я чувствовал, как он содрогается при упоминании о мучениях и зверствах, столь характерных для нашего времени. Мне кажется, что каждое такое упоминание приносило ему почти физическую боль.
К слову сказать, внешне ничто в папе не выдавало его крестьянское происхождение. Обычный городской интеллигентный вид. Только на фотографиях начала 20-х годов – красавец-парубок по моде того времени в вышитой сорочке и в бараньей шапке, но не из простых, а «вышедший в люди» и знающий себе цену.
Папа очень следил за политическими событиями. Газеты он читал почти от корки до корки, в порядке поступления, времени не хватало, и они накапливались большими стопками. Читал он критически, зная им цену и выискивая в потоках лжи и пропаганды намёки на реальную информацию. Мне кажется, так стало принятым читать уже в гораздо более позднее время.
В заключение маленькая забавная черта – отец совершенно не переносил спиртного. Даже выпить рюмку вина было для него большим испытанием. А так как в наших местах при любом застолье на стол выставлялся самогон, ему тоже приходилось отдавать дань обычаю, он пригубливал рюмку, чуть отпивал, а потом весь кривился и долго откашливался.
Мне кажется, что папа внушал любовь всем, сколько-нибудь с ним знакомым. Во всяком случае, многократно уже после его смерти, когда разговор заходил о нём, мне случалось слышать что-нибудь вроде: «Какой это был человек!»
Мама была человеком с другим характером – сильным и бурным. У человека, особенно женщины, с таким характером он и запоминается в первую очередь, и с него начинаешь. В отличие от папы, мама любила распоряжаться, во всём настоять на своём, могла под горячую руку накричать на человека. Понятно, что хозяйкой в доме была она. Но при этом, в отличие от многих семей с подобным раскладом, которые мне приходилось видеть впоследствии, она любила и глубоко уважала папу и никогда не позволила бы себе не посчитаться с ним, сделать что-то такое, что бы его обидело или по-серьёзному было для него неприятно. И, хотя не обходилось без мелких стычек, они составляли дружную семью.
У родителей были приняты ласковые обращения друг к другу. Мама называла папу Ивасик, а он её – Мусинька. Я перенял это обращение и с детства привык так называть маму. Мне казалось, что это сокращение от «мамусинька».
Главной чертой моей мамы была совершенно непомерная любовь к единственному сыну – ко мне. Это бросалось в глаза каждому внимательному человеку. Помню, как была поражена одна из моих университетских приятельниц (Ира Бородина), когда мама приехала ко мне в гости: «Как она тебя любит!» Началось это, по-видимому, ещё до моего рождения и продолжалось всю мамину жизнь. Я был для неё центром Вселенной, и она действительно жила для меня.
Здесь скажу, что вообще на мою долю досталось много больше любви и заботы родных, чем приходится на среднего ребёнка. Думаю, это была редкостная доля. Если бы любовь и заботу можно было измерить и охарактеризовать количественно, я мог бы претендовать на место в Книге Гиннеса.
Папа тоже любил меня много больше, чем средний отец. Наверное, это не проявлялось так ярко, как у мамы, но я всё время чувствовал любовь их обоих. Как он всегда был добр, ласков, заботлив ко мне! И маленькая, но трогательная деталь. В 1947 году, вернувшись из Кисловодска после лечения, папа привёз мне в подарок стакан с надписью: «Миша! Люби жизнь, науку и труд. Папа». Хотелось бы этому следовать.
Носились со мной и бабушки с дедушкой, для которых я был единственным и неповторимым.
К стыду своему, я не сумел отплатить папе и маме своей любовью или хотя бы вниманием. Сколько я принёс им страданий! Некоторые из них были связаны с общим выбором жизненного пути, и тут уж ничего не поделаешь. Но тысячи раз случалось, что я просто не думал о них, забывал подать весть о себе, сказать доброе слово. Сейчас это не восстановишь. И это главный грех в моей жизни.
Рассказывая о моих родителях, нельзя не сказать об одной стороне их мировосприятия, по-видимому, объединяющей их с огромным большинством соотечественников и современников. Это – страх, всеобъемлющий и всеохватывающий страх перед монстром сталинского государства. Террор 30-х годов непосредственно не задел нашей семьи, но он прошёл так близко, что память о нём и страх перед ним остались в их душах навсегда. И как бы потом ни складывалась государственная политика, какие бы «оттепели» не наступали, они твёрдо знали, что за этими «оттепелями» могут мгновенно последовать «заморозки» и по улицам снова покатятся «шины чёрных марусь». И, конечно, больше всего боялись, чтобы этот монстр не раздавил их сына.
Впрочем, с машиной советского расследования маме один раз пришлось столкнуться, но само это столкновение носило скорее анекдотический характер. Не знаю, кто из мелких должностных лиц имел с ней разговор и от какого ведомства он был – чекистского или партийного. Мама охотно рассказывала этот эпизод. Чиновник спросил её фамилию, она ответила: «Белецкая», за чем последовал вопрос: «Так это ваш брат был белым офицером?» Она ответила, что у неё нет брата, а если бы был, то не носил бы фамилию Белецкий. «Ну, тогда сын». Были 30-е, и маме было около 30 лет. Она выразительно посмотрела на него, он сообразил, на том разговор кончился и, к счастью для неё, не возобновлялся.
Что входило в круг интересов моих родителей? Конечно, были чисто материальные заботы, нужно было в тяжёлых условиях прокормить большую семью, содержать дом. Но у них никогда не было стремлений к богатству и внешнему шику, превышающему эти минимальные потребности. Было много рутинной работы, домашней и служебной. Они были очень внимательны к моему школьному обучению.
А свободного времени оставалось не так и много. Оставалось его и на книги – папа с мамой читали, может быть, не так уж много, но во всяком случае больше, чем сегодня читает средняя семья кандидатов наук, и читали серьёзные книги. Кроме художественной, папа любил литературу по истории, мемуары, речи дореволюционных адвокатов. Вообще в доме царило уважение к книге.
Мы нередко ходили в кино. Театров и музеев в моём детстве вокруг, как правило, не было. Впрочем, здесь я уже забегаю вперёд. Во всяком случае, у нас была семья с нормальными культурными интересами, – такая, какие я вижу сейчас в своём непосредственном окружении.
Бабушки и дед
Расскажу немного и о старшем поколении.
Бабушка Уля, или баба Уля, как мы её все называли, была обычная пожилая крестьянка. Где-то с середины 20-х годов она жила в городе у кого-нибудь из своих детей. У нас она жила все годы от моего рождения и почти до поступления в университет, после чего переехала, если не ошибаюсь, к тёте Варе, где и умерла. Все эти годы вела наше хозяйство и почти не выходила за пределы дома. Так что у неё не было надобности выучить русский язык, и до конца дней она говорила только по-украински.
Кстати, о языке. В нашей семье все, кроме бабушки Ули, общались друг с другом по-русски. Это был обычный русский язык, используемый относительно образованными людьми в городах Украины в течение нескольких столетий и, с точностью до незначительных особенностей произношения, не отличающийся от языка горожан России. Иногда в речь вкраплялись украинские слова и выражения, например, пословицы, но делалось это подчёркнуто и сознательно и нисколько не напоминало суржика, распространённого в менее образованных слоях, когда русские и украинские слова в речи смешиваются и искажаются. А вот с бабушкой Улей папа, а вслед за ним и я говорили только по-украински, на народном сельском языке XIX столетия. Так я и привык с детства говорить с каждым на его языке и самих языков не путать.
Как папа был любимым сыном бабушки Ули, так и я стал её любимым внуком. Меня она называла не иначе как „Мишеня”. Рассказывали забавный эпизод, как я, будучи совсем крохой, нечаянно отодвинул табурет бабы Ули, и она грохнула на пол, держа в руках миску с варениками. Бабушка, любившая прибегать к беззлобным народным проклятиям, начала на лету: „А щоб...”, но спохватилась, что проклятие может отнестись ко мне, и закончила: „А щоб я сказилася!” Я тоже любил бабушку Улю, с одной стороны, просто по-человечески, как любящую бабушку, а с другой – несколько по-книжному, как человека из народа и тем самым носительницу «народной правды».
К сожалению, бабушку Маню мне охарактеризовать труднее, хотя и с ней я прожил всё своё детство: она была менее колоритной. Тоже добрая, тоже любящая. Хорошо представляю себе, как она выглядела, – невысокая полноватая старушка с мягкими чертами лица.
Дедушку Мишу я запомнил уже в последний период его жизни, когда у него помутился разум. По маминым рассказам представляю его как доброго, медведеобразного, послушного бабушке, несколько неуклюжего и вообще не от мира сего. О нём рассказывали разные анекдотические истории, вроде такой. Дед встречается с отдалённым знакомым. «Здравствуйте, господин Козлов» - «Я не Козлов, а Баранов» - «Ну, всё равно, помню, что какая-то скотина». Соль истории в том, что дед совсем не имел в виду сострить или обидеть человека, это был естественный ход мысли. О его невписанности в жизнь такой факт. С момента революции он не мог привыкнуть к новому обращению «товарищ» и любое выступление начинал с обращения: «Господа!», вызывая шок и трепет окружающих. Но зато, когда пришли немцы, стал обращаться ко всем не иначе как «Товарищи!».
Не помню, каким он был в начале моего детства, но в нашем доме в Белой Церкви (после 44-го года) помню его забывшим человеческую речь, что-то мычащим и бессмысленно бродящим по комнатам в то время как мама и бабушка пытаются уложить его в постель. Впрочем, он был при этом совершенно безобидным – по-видимому, таким же, каким привык быть всю предыдущую жизнь.
Хронология
Для облегчения ориентации стоит привести годы жизни моих родных – двух поколений, единственно мне известных.
Дед – Белецкий Иван Иванович: умер в 1898 или 1899.
Бабушка – Белецкая Ульяна Ивановна: 1870 – 1954.
Дед – Пигуренко Михаил Анисимович: 1870 – 1946.
Бабушка – Пигуренко Мария Васильевна: 1872 – 1950.
Отец – Белецкий Иван Иванович: 1899 – 1982.
Мать – Белецкая Мария Михайловна: 1905 – 1993.
Дядя Евстратий и тётя Варя
Несколько слов о других упомянутых здесь родственниках.
Дядя Евстратий, или по-семейному дядя Евстраша, по своему характеру, по складу личности был удивительно похож на папу, что и сблизило их на всю жизнь. У них была та же честность, та же интеллигентность. Наверное, он как старший сильно влиял на папу.
Жизнь у него сложилась довольно бурно. Не берусь рассказать о ней подробно, но в начале мировой войны он оказался офицером. Помню его непонятным образом сохранившуюся фотографию в офицерском мундире – в советское время лучше было не хранить такие свидетельства. После революции он ухитрился как-то скрыть своё прошлое, получил зоотехническое образование и стал директором какого-то хозяйства (зоофермы? скотного двора?). Обладая той же абсолютной производственной честностью, что и мой отец, не позволил местному партийному начальству воровать на этом хозяйстве. Оно подвело его под суд, обвинило в хозяйственных злоупотреблениях (зная его, могу гарантировать, что абсурдных), он был осуждён и попал в ссылку. Как оказалось, к счастью для себя, потому что спокойно провёл там 37-й и прочие подобные годы; будучи на свободе, он как «белый офицер» наверняка окончил бы гораздо хуже. Уже после войны он вернулся в европейскую часть Союза, и мне ещё посчастливилось его увидеть.
Тётя Варя вышла замуж за почтового работника Онуфрия Сидоровича Олифера. Жили они в разных сёлах на Киевщине.
С потомками дяди Евстратия и тёти Вари мне много доводилось встречаться. Надеюсь в этих записях рассказать о них подробнее.
Тётю Марусю я никогда не видел, но говорят, что в детстве был внешне на неё похож. Во время войны она как будто бы была связана с партизанами, и её повесили немцы.
Я родился
Я родился 9 апреля 1935 года. Назвали меня в честь дедушки.
Мама рожала в Киеве, потому что там считалось лучшим обслуживание при родах. Кроме того, там жили дедушка и бабушка.
Вскоре после рождения меня крестили. Факт достаточно удивительный, поскольку папа и мама, как люди современные, были совершенно нерелигиозными, а, кроме того, крещение ребёнка в те годы требовало определённой смелости, которой они явно не обладали. Впоследствии мама объясняла это решение таким соображением: а вдруг всё-таки Что-то есть (Бог, то есть). Думаю, на моём крещении настаивала бабушка Маня, сохранившая веру и представления о том, как должно жить, ещё с «мирного времени». (Именно так она называла период до 1914 года. Всё последующее время для неё уже мирным не было). Так или иначе, но всё моё детство прошло под иконами и теплившимися иногда под ними лампадками, которые, невзирая ни на какой режим, поддерживали обе бабушки.
Как я знаю по маминым рассказам, родители заранее продумали ближайшие жизненные планы, исходя из свой установки «Жить для ребёнка». Предполагалось первые годы после моего рождения прожить в провинции – так ребёнку здоровее. А к моменту поступления в школу переехать в Киев – там лучше образование.
Так и жили. Недалеко от Киева – сначала в Бородянке, потом в Белой Церкви. А весной 1941 года переехали в Киев.
Глава 2. При немцах
Вступление немцев
Одно из первых моих воспоминаний – вступление немцев в Киев. (Литература подсказывает, что это произошло 19 сентября 1941 года).
Мне представляется большой коридор, звонок в дверь, появление какого-то человека, который взволнованно рассказывает, что немцы уже в Киеве, мотоциклисты едут по Крещатику. Кто этот человек, не знаю и не припомню, видел ли его впоследствии. Но – странный финт памяти – почему-то уверен, что это хороший папин и мамин знакомый, и мало того – представляю, что у него украинские усы a la Шевченко, благодаря которым он остался в моей памяти таким довоенным украинским интеллигентом, которых к тому времени вроде бы и вообще не осталось.
Здесь небольшое отступление – о моей детской памяти. Какие-то обрывки всплывают в ней и до этого эпизода, частично накладываясь на то, что слышал из рассказов. Но он выделяется из остальных, потому что связан с действительно важным событием. Странно, но бомбёжка Киева и сообщение о начале войны не отложились в моей памяти. Вижу людей, прислушивающихся к уличному репродуктору, но это настолько напоминает тысячи раз повторенные фотографии и кинокадры, что сомневаюсь – может быть, я вспоминаю именно их. А ведь мне уже было шесть лет, я был развитым мальчиком, прочёл кучу книг, и не только детских. Сейчас, глядя на свою шестилетнюю внучку Машеньку, я иногда думаю: вот ведь совсем взрослый ребёнок; неужели и она так же забудет эти годы?
Горит Крещатик
Продолжение воспоминаний – горит Крещатик (24 сентября). Мы выходим на балкон и видим совсем неподалеку, в нескольких кварталах от нас поднимающиеся к небу огонь и дым.
Всё это происходило в доме, где жили дедушка Миша и бабушка Маня, а с ними и недавно перебравшаяся в Киев наша семья. Дом стоял на Пушкинской улице, между улицами Ленина и Свердлова (сейчас Богдана Хмельницкого и Прорезной), на чётной стороне, в двух шагах от офиса, в котором я работаю последний десяток лет. Квартира была на третьем или четвёртом этаже, и с её балкона огонь и дым на Крещатике можно было хорошо разглядеть.
С этим или одним из ближайших дней связан один печальный эпизод, который я знаю только по рассказам. Я был очень напуган и ревел, наша соседка Сара Соломоновна (мы жили в коммунальной квартире) пыталась меня утешать, а я объяснил ей сквозь слёзы: «Это жиды проклятые во всём виноваты». Присутствующая при этом мама готова была провалиться сквозь землю. Так навсегда и осталось непонятным, откуда я мог подхватить эту фразу – уж во всяком случае, не в семье, где употребление самого слова «жид» было немыслимо, да и слова «еврей» я, наверное, ещё не слышал.
Вообще квартира была большой, и все жильцы, кроме нас, были евреями. Ещё одно яркое воспоминание этих нескольких дней: они жгут в печке еврейские книги, мне запомнился яркий огонь и необычные буквы, которых я никогда не видел. Зачем они это делали? По-видимому, в приступе паники, когда начали осознавать ужас положения, в котором оказались. До Бабьего Яра оставалось несколько дней.
Не знаю, кто и когда будет это читать. Для совсем не знакомых с этими реалиями нужно сообщить, что все эти пожары были хорошо подготовлены отступающей советской властью, а непосредственно устроены оставшимися диверсионными группами. Впоследствии германская пропаганда нередко представляла Бабий Яр как «акцию возмездия» за масштабные взрывы и поджоги в Киеве.
Между тем, огонь распространялся. С Крещатика он уже перекинулся на прилегающие улицы, включая Пушкинскую. Пожарные не могли с ним справиться. (Киевляне утверждали, что диверсанты препятствовали тушению пожаров, перерезая пожарные шланги). Тогда, чтобы остановить огонь, начали взрывать дома на его пути.
В числе домов, подлежащих взрыванию, оказался и наш. За какое-то время до этого нас предупредили. Ещё можно было вынести что-то из вещей. Папа поднимался в квартиру за последними вещами, а мама страшно беспокоилась, чтобы сейчас не взорвали дом.
Поздним вечером наше большое семейство вместе с небольшой кучкой тюков со спасёнными вещами сидело на углу Пушкинской и Ленина, там, где позже был магазин «Поэзия», а сейчас – салон красоты “Beauty”. Эта бессонная ночь с заревом близких пожаров чётко врезалась мне в память. Рядом расположились такие же погорельцы. Не помню, была ли какая еда, но был чайник с водой. Так мы просидели всю ночь, а утром взрослые пошли искать жильё.
Нашли, как мне представляется, быстро – в те дни в Киеве пустовало много квартир, брошенных уехавшими в эвакуацию. (Через несколько дней, после Бабьего Яра, их стало ещё больше). На Предславинской улице был дом, где дедушка с бабушкой и мамой жили когда-то раньше. Их там знали, теперь там пустовала то ли их квартира, то ли соседняя, в ней мы и поселились. В этой квартире мы прожили ближайшие два года.
Я подрастал, и эти годы сохранились в моей памяти лучше. Как-то запомнилась и квартира. Две комнаты с кухней, старинная изразцовая печь. Соседей не припомню – очевидно, это была отдельная квартира, по тем временам роскошь. Вероятнее всего, мы въехали не в пустую квартиру. Во всяком случае, она запомнилась мне достаточно обставленной, хотя бы мебелью, а мы вряд ли могли спасти много своих вещей.
(Замечательная игра судьбы. На той же Предславинской улице в одном из соседних домов перед войной жила моя будущая жена Ирина со своими родителями).
Папина работа
Семья наша состояла из шести человек: кроме нас с папой и мамой, ещё две бабушки – Маня и Уля – и дедушка Миша. Бабушка Уля жила с нами давно, по крайней мере, с моего рождения, а бабушка Маня и дедушка – со времени нашего переезда в Киев. Ещё с нами жила собака Пушинка, милое пушистое существо.
Все в старшем поколении были в возрасте около 70. Обе бабушки никогда официально не работали, занимались домашним хозяйством. Дед Миша, понятно, к тому времени тоже уже не работал.
Работали папа с мамой. Поначалу вместе – там же, где и при советской власти, на нефтебазе, расположенной на месте нынешнего Дворца бракосочетаний.
Ну вот, здесь снова пришло время рассказать о работе родителей. Насколько я представляю, она не слишком отличалась от той, которую они выполняли при советской власти до войны, а затем после освобождения. В конце концов, чем различаются подсчёты нефтепродуктов, отпускаемых при разных властях? Новым было одно – возглавлял нефтебазу немец, и назывался не директор, а шеф. Был там, кажется, ещё один немец, его помощник, остальной персонал оставался тем же. Папа с мамой иногда говорили о своей работе, и я помню, что своего шефа упоминали с симпатией. Мне запомнился такой его неординарный поступок. К его появлению кто-то из наших людей услужливо повесил в кабинете портрет Гитлера. Первым, что, входя, сказал шеф, было: «Уберите это Scheise». Поступок, я бы сказал, из ряда вон выходящий и никак не вписывающийся в картину запуганности немцев своим режимом. Представить нечто аналогичное со стороны советского человека невозможно. Может, это легенда?
Через некоторое время папа «пошёл на повышение», т. е. перевёлся на работу в офис следующего уровня, на советском языке – главк. Называлась эта контора “Ukraineцl” и была расположена в здании на Ленина, где сейчас печально известный „Нафтогаз України”. Как-то он приводил меня туда, я увидел довольно представительный офис с высоким потолком, где стояло несколько столов. Это место работы имело одно преимущество. Сотрудников ежедневно кормили, причём кормили по тому времени довольно хорошо. Если не ошибаюсь, наши люди ели в столовой вместе с немцами. Папа пытался что можно унести домой, хотя это не поощрялось. Так он приносил нечто вроде бутерброда: хлеб с котлетами. Котлеты, конечно, предназначались для меня.
Голод. Забота обо мне
Здесь я перехожу к теме питания, лучше сказать, голода. Ясно, что с едой было тяжело. Конечно, ели всё, что представлялось хотя бы отдалённо съедобным. Какую-то траву. Перерабатывали картофельные очистки (на нашем языке, «лушпайки»). Не знаю, из чего готовился выдаваемый по карточкам хлеб, но он был ужасным и по вкусу, и по виду, напоминая молотую солому.
Но при всём этом моё положение было исключительным: за всё это время я не испытал голода. Мне трудно назвать своего сверстника, который мог бы повторить эти слова. Такова была исключительная самоотверженность родителей и вообще всех взрослых в нашей семье. Считалось само собой разумеющимся, что главная задача – максимально обеспечить едой ребёнка, то есть меня. Помню даже коробочку немецких конфет, подаренную мне на день рождения. Такая небольшая коробочка с нарисованным красивым цветком. Я ещё где-то обнаружил её за несколько дней до дня рождения, и папа, чтобы не испортить сюрприз, должен был сказать мне, что это коробка с табаком. А потом оказалось, что конфеты.
А все остальные члены семьи жили впроголодь. Понимал ли я это тогда? Во всяком случае, моё особое положение не казалось мне неестественным.
Откуда в то время бралась еда? Трудный вопрос. Зарплаты малые, цены высокие. Что-то выдавалось по карточкам, но крайне мало. Горожане старались продать всё, что можно, из домашних вещей, чтобы купить продукты. Вспоминаю: холодный зимний день, за окном метёт. Папа с мамой грузят какие-то вещи на санки, чтобы отвезти в село и там обменять или продать. Кажется, таки продали. Сегодня не могу понять: что это могло быть за село, до которого можно было добраться из центра Киева, в пургу, при полном отсутствии транспорта?
Что-то продавали и солдатам. Так мы продали какой-то ковёр венгерскому солдату, которого называли герр Карп. Собирались продать ему что-то ещё, но он не пришёл, а потом оказалось, что его расстреляли, потому что он еврей.
Тяжелее всех голод отразился на папе. Однажды днём к нашему дому подъехала машина, и из неё вынесли папу. На работе у него началось кровохарканье, он потерял сознание. Открылась язва желудка. Немного поболел, вышел на работу, но жил с этой язвой долгие годы, мучился приступами. Пока уже в лучшие времена ему не сделали операцию.
Школа
Именно наша голодная жизнь подтолкнула родителей отдать меня в школу. Дело в том, что в школе кормили. (Факт остаётся фактом: в оккупированном Киеве питание и служащих, и школьников было организовано лучше, чем в то же время в неоккупированной части Союза. О последнем я знаю из рассказов Ирины). Еда, конечно, была не ахти, но всё-таки первое и второе: жидкая похлёбка, в которой плавали какие-то горошинки, что-то наподобие каши или картофельного пюре, наконец, кусочек хлеба. Меня, конечно, пытались кормить пищей получше, а эту делили между двумя бабушками и дедушкой. Мама шутила, что я кормлю трёх стариков. Дедушка приходил в школу с двумя судками, ему черпали это подобие еды, и он уносил домой.
Мама рассказывала, что при поступлении в школу нужно было сдать что-то вроде экзамена, тем более, что мне было только 6 лет. С чтением было всё в порядке. Но вот когда дошло до сложения, возникло недоразумение. На вопрос, сколько будет 4 плюс 4, я отвечал 16 и т. п. Вскоре оно рассеялось: прибавлять-то я умел, но не знал, что такое «плюс» и принял его за знак умножения.
О самой школе у меня сохранились смутные воспоминания. Помню, что учили на украинском языке. Учебники, конечно, были старые, советские, но многие страницы из них были вырваны, а больше всего запомнилось то, что многие портреты были замазаны. Зимой школа не отапливалась, и потому на несколько зимних месяцев нас отпускали на каникулы. У меня появилась твёрдая уверенность, что каникулы и полагается проводить зимой и что само их название происходит от слова «коньки», в чём я пытался убедить родителей.
Но одно из самых ярких впечатлений связано с таким эпизодом. Один из учеников был записным хулиганом, по крайней мере, как таковой рассматривался администрацией. Я даже запомнил его фамилию – Подабулкин. И вот после его очередного хулиганства было объявлено, что его высекут. Подабулкина вытащили из класса, и я помню, как он возвращался после экзекуции по коридору – весь несчастный и зарёванный. Нечего и говорить, в каком ужасе был я и, надо думать, другие дети.
Вот, кажется, и всё, что осталось у меня в памяти от «немецкой» школы, в которой я проучился около двух лет. Не думаю, чтобы она меня обогатила какими-то знаниями.
Зато помню, как трудно было добираться в неё летом босиком по горячему асфальту. Так ходили все дети. А у меня ноги были нежные, к босому передвижению непривычные. И даже мои родители не смогли обеспечить ребёнка обувью. Правда, через короткое время они нашли выход. Мне сшили тапочки из тряпок, а подошвы к ним – из мотка толстой верёвки.
Ещё одной самоделкой были тетради. Их готовил папа, по-видимому, из своей канцелярской бумаги, которую он со свойственной ему аккуратностью графил в клеточку или косую линейку. Думаю, таких аккуратных тетрадей не было больше ни у кого в классе.
Газеты, кино
Что же ещё запомнилось из жизни в оккупированном Киеве?
Запомнилось освещение по вечерам – «каганцы», представляющие собой плошку с каким-то маслом, куда вставлен фитиль, горящий не ярким, но довольно ровным пламенем, всё-таки позволяющим различать предметы и даже читать. Под этими каганцами мы по вечерам играли в лото или в карты.
Запомнились газеты, которые папа так же аккуратно читал. Сначала „Українське слово”, его закрыли, были слухи, что за неблагонадёжность. Потом „Нове українське слово”. Внимательно вчитывались в военные сводки, рубрика называлась странно: „Головна квартира фюрера”. Где-то году в 43-м папа с ехидством отмечал стилистику этих сводок. В них никогда не говорилось об отступлении, а только о «выравнивании линии фронта». И он с интересом следил за тем, как линия выравнивалась и выравнивалась. Среди украинских газет вспоминается одна русская под огромной шапкой: «Смерть Сталина – Спасение России». Я было подумал, что это действительно сообщение о смерти названного персонажа, но оказалось, что просто издевательская расшифровка известной аббревиатуры.
Были ещё какие-то Селянські календарі, запомнившиеся подчёркнутым украинским духом; вспоминая их в советское время, я догадывался, что это и был страшный украинский (а то и украинско-немецкий) буржуазный национализм.
Однако, надо же такая особенность памяти! С трудом вспоминая что-нибудь из своей, так сказать, физической жизни (например, пребывание в школе), я легко нахожу в памяти разные мелочи, касающиеся книг, газет и тому подобного.
Например, вспоминаю, как меня удивили откуда-то появившиеся несколько детских книг религиозного содержания. Какие-то христианские истории для детей. Это были старые дореволюционные книги, на отличной мелованной бумаге, с красочными рисунками. А запомнились именно потому, что я сразу ощутил необычность такого рода литературы, как бы невписываемость её в общий литературный контекст, к которому привык.
Вспоминаю и какие-то элементы оккупационной пропаганды. Часто повторяющийся тезис, что большевики и евреи угнетали Украину. А также утверждения, что Сталин готовился напасть на Германию, но фюрер мудро его упредил. Хорошо запомнил это с детства. Так что, встретившись с этими идеями в новейшее время (с первой – в ряде «патриотических» изданий независимой Украины, со второй – в трудах Виктора Суворова), я сразу же узнал что-то давно знакомое. Правда, как ни странно, но, в отличие от нашего времени, специальных нападок на москалей не могу припомнить.
Тема еврейских злодеяний запомнилась мне и по кинематографу. Недалеко от нашего дома находился кинотеатр, впоследствии имени Ватутина, и мы его время от времени посещали. Перед фильмами шли киножурналы с изображением побед германской армии или пропагандистские короткометражки. Вот одну из них я и запомнил: камера пыток ГПУ, в которой субъект подчёркнуто еврейского вида с типичным носом и произношением пытает украинского крестьянина. В национальности злодея нельзя было усомниться, поскольку весь его вид полностью соответствовал образцу, известному мне по многочисленным карикатурам.
Раз уж зашла речь о кино, нужно сказать и о фильмах. Мне запомнился только один из них, точнее две серии одного фильма: «Эшнапурский тигр» и «Индийская гробница». Фильм мне, конечно, очень понравился, и запомнился если не сюжет (героя там, кажется, бросают в клетку с тигром), то общий дух – таинственная Индия, магараджа (именно это слово запомнил), красавица по имени Сита, охота на тигра, опасности, приключения и всё такое. Жалею, что не посмотрел его, когда он шёл много позже. Ещё от одного фильма запомнил только название: «Афёра Махина». От остальных (а они явно были) – ничего.
Дважды мы с папой и мамой побывали и в театре. Как он тогда назывался, не помню, а размещался в здании нынешнего Театра оперетты. Один раз это был „Запорожець за Дунаєм”, а другой – „Наталка-Полтавка”. Выглядело всё совсем как должно быть в мирное время: роскошный (по моим представлениям) зал, богатый красный занавес, сверкающие люстры и всё такое. Саму игру сейчас оценить мне, конечно, трудно, но от всего осталось впечатление большого праздника.
Ещё один запомнившийся праздник был другого рода. В одно из воскресений мы пошли на пляж. Насколько помню, пешеходный мост на Труханов остров был разрушен, и туда перевозили на лодках. Мы расположились в центре пляжа, чуть левее того места, где сейчас мост. Провели там целый день, который показался мне бесконечным. Целый день плещешься в воде, валяешься на золотом песке. Рай! Так бы жить всю жизнь! Это был один из самых радостных дней в моём раннем детстве. Правда, на пляже я несколько обгорел, и какое-то время это чувствовалось, но какое это имеет значение по сравнению с полученным удовольствием! К сожалению, такой выход у нас был единственным – по-видимому, было не до того.
Что ещё могу вспомнить? Разве что то, как гонял со сверстниками по улицам, впрочем, не отбегая далеко от дома. Только один раз предпринял далёкое путешествие: дошёл до памятника Шевченко перед университетом, и мне показалось, что побывал на краю света.
Выселение из Киева
Между тем, время шло, и линия фронта всё больше «выравнивалась». Мы могли это ощутить непосредственно по начавшимся, а затем участившимся налётам советской авиации. Не знаю, каковы были установки для советских бомбардировщиков, но жители Киева были уверены, что при бомбёжках их щадить не собираются. Не знаю также, были ли в Киеве бомбоубежища, предназначавшиеся для местных жителей, но в наших окрестностях их не было, и все бомбёжки мы пересидели в собственной квартире. За окном гремели взрывы. Стреляли по самолётам почему-то трассирующими, т. е. светящимися снарядами. Довольно яркое впечатление, когда видишь за окном мелькание этих огненных полос, сопровождающееся взрывами.
Немцам пришла пора готовиться к обороне. Судя и по непосредственным впечатлениям того времени, и по появившейся впоследствии литературе, к обороне Киева они готовились основательно, рассчитывая дать здесь если не последний, то уж точно решительный бой. Об этой решимости могли свидетельствовать и работы на Большой Васильковской, или Красноармейской улице (она неоднократно меняла эти названия – как до моего рождения, так и в новейшее время). Для постройки оборонительных укреплений на ней рыли ров во всю ширину проезжей части глубиной около десятка метров.
А в начале осени 43-го года было объявлено, что в целях укрепления обороны Киева жителям предлагается покинуть город. Если не ошибаюсь, поэтапно: сначала центр, потом район, прилегающий к центру, и т. д. Указывались предельные сроки. Кто будет обнаружен в запрещённой зоне после этого – расстрел.
Для работников средней категории была организована эвакуация, причём, как и полагается немцам, организована неплохо. Отца направляли главным бухгалтером на нефтебазу в Белой Церкви, для перевозки семьи была выделена грузовая машина.
Однако при этом не предоставлялось жилья, что для нашей большой семьи играло определяющую роль. Если папа и мама со мной ещё как-то могли рассчитывать где-то пристроиться, то совсем нереально было рассчитывать на это, имея с собой трёх стариков. И вот приняли трудное решение – оставить их в Киеве. Как я сейчас представляю, такой выбор сделали многие киевляне, прежде всего те, кто жил в собственных маленьких хатках далеко от центра. Притаиться в этих хатках и дожидаться прихода Красной армии. Расчёт был на то, что до этого осталось недолго, а немцы не станут особо старательно проверять пригороды. На первый взгляд, последняя надежда казалась странной, но, тем не менее, так действительно и произошло.
Наши дальние родственники имели хатку где-то на Куренёвке, деваться им было некуда, там они и решили пережидать уход немцев. С ними мы и оставили троих стариков и собаку Пушинку.
В Белой Церкви
Так мы оказались в Белой Церкви.
Белая Церковь – довольно большой провинциальный город в 90 километрах от Киева, на сегодня самый большой в области. В то время он был почти полностью застроен хатами селянского типа, и только в центральной его части было несколько действительно городских кварталов.
В одной из таких хат мы каким-то образом и поселились – не знаю, на каких условиях. Впрочем, в ту пору различного рода эвакуированные были не в диковинку, так что, очевидно, выработались и какие-то стандарты их отношений с местными жителями. В достаточно просторной хате нам была выделена одна комната. О хозяевах ничего вспомнить не могу, кроме того, что была у них дочка примерно моего возраста, довольно сопливая.
Зато запомнились ещё одни постояльцы. Жителям ставили на постой немецких солдат, поселили их и в нашей хате. Мои воспоминания о них резко отличаются от того, что после приходилось читать в литературе. Это были крепкие молодые ребята, добродушные, ничем никого из нас не обидевшие. Они то ли угощали нас, то ли продавали или меняли что-то из своего пайка, мне запомнились удивительно вкусные хлеб, масло и мёд. Кстати, о хлебе: говорили, что он был испечен несколько лет назад и хранился в специальных условиях; упакован он был в какие-то прозрачные пакеты. Немцы весьма дружелюбно общались со мной. Как-то мама хотела меня купать, я сопротивлялся, и тогда кто-то из солдат пообещал, что после купанья даст мне шоколадку. И действительно выполнил это обещание. Как-то они ужинали с выпивкой, я с интересом смотрел на них, и они предложили мне глоток коньяка. Я подумал, что это что-то вроде бабушкиной вишнёвой наливки, которую любил, под их смех хлебнул, но напиток оказался горьким и не пришёлся по вкусу, хотя я, кажется, не был особенно им ошарашен. Ещё помню, как они играли в карты в Чёрного Петера. Это было похоже на уже известную мне игру в «ведьму»: раздаются карты, потом играющие тянут их друг у друга и выбрасывают парные, пока не остаётся кто-то с непарной картой. Только у нас это пиковая дама, а у них был чёрный валет, и проигравшему полагалось мазать лицо сажей, что остальных очень веселило. Я это хорошо запомнил, потому что сам играл вместе с ними.
Последние дни оккупации
Между тем, приближался фронт. Участились налёты советской авиации. В нашем дворе хозяева стали копать землянку, чтобы укрыться от налётов. Устроена она была так же, как солдатские окопы, которые я позже видел в фильмах: глубиной примерно в человеческий рост, узкая и довольно короткая – с таким расчётом, чтобы кое-как могли разместиться наши семьи.
Я помню, как лазил по этой землянке, но не помню, чтобы мы ею пользовались. А как раз наиболее задевший нас налёт пережили в хате. Бомба разорвалась среди улицы, метрах в 50 или 100 от нашей хаты. После неё осталась огромная воронка, которая зияла ещё много месяцев. Это было ночью, и мы уже, наверное, спали. Я лежал под иконой, от взрыва эта икона упала на меня. Мама в ужасе бросилась ко мне, но оказалось, что икона меня нисколько не повредила. У мамы даже сохранилась уверенность, что именно икона меня защитила. Воронку я потом долго видел и хорошо представляю до сих пор, а вот от падения на меня иконы ничего в памяти не сохранилось, знаю только по маминым рассказам.
Мы с нетерпением ждали прихода красных. Как-то так уже надоела жизнь при немцах, а, кроме того, было ясно, что немцы уйдут, наши придут, так что скорей бы уже это кончилось. Фронт был совсем близко, 7 ноября освободили Киев. Однако почему-то именно на отделяющей нас от Киева сотне километров наступление застопорилось. Прошёл ноябрь, потом декабрь, а наших всё не было.
У нашей семьи была дополнительная причина ждать прихода красных войск: мы мучилась неизвестностью, что там в Киеве с нашими стариками, и ждали момента, когда, наконец, можно будет поехать и узнать.
В последние недели перед уходом немцы начали устраивать облавы на мужчин. Солдаты ходили по домам, забирали и уводили мужчин. Знаю я это только по рассказам, по крайней мере, тогда все об этом говорили и боялись этого. Мы прятались от них в подвале дома. Правда, по тем же рассказам, немецкие солдаты проводили эти обыски без всякой заинтересованности, а как бы «для галочки». Они открывали дверь дома или погреба и на ломаном языке спрашивали: «Пан есть?» Им, конечно, отвечали, что нет, и они уходили. По крайней мере, так рассказывали потом. В этом отношении Белой Церкви повезло. Судя по всему, там стояли регулярные армейские части. Мне приходилось слышать о массовом уничтожении мужчин в других городах, где свирепствовали эсэсовцы. А как мы прятались в погребе, ожидая облав, я помню. И вроде даже припоминаю открывающуюся дверь и слышу голос проверяющего.
А освобождение произошло совсем тихо. Немцы просто отступили ночью без боя. Мне почему-то видится ночь, наша улица с воронкой, и маленькая колонна отступающих немцев. Идут совсем недолго и скрываются за поворотом. Вряд ли я мог это действительно видеть, наверное, вообразил по рассказам взрослых.
А ранним утром, до рассвета появляются уже первые наши солдаты. Тихо, по-видимому, опасаясь засевших немцев, ещё не уверенные, что те ушли. Я так же вижу или воображаю, что вижу, наших солдат. Они стучатся в дверь, им открывают, бросаются обнимать, и начинается всеобщее ликование: «Наши пришли! Наши!»
Было это в первой половине января 44-го года.
А нашим бабушкам и деду таки удалось выжить. Они хоронились в заколоченном доме, стараясь не подавать признаков жизни. Печь топить было нельзя, готовили на керосинке. И ещё боялись, как бы их не выдал собачий лай. Но живущая с ними собака Пушинка, наверное, что-то понимала и не лаяла. По счастью, им не пришлось сильно мёрзнуть – Киев освободили ещё до морозов. Им осталось ждать несколько месяцев воссоединения с нами.
Глава 3. Белая Церковь: дом, двор и город
Как я писал, в Белую Церковь (или просто в Белую, как называла моя мама) мы приехали осенью 1943 года. И прожили в ней около 5 лет.
Как-то так получилось, что очень скоро после освобождения нам предоставили квартиру на нефтебазе. Вообще в системе Укрнефтесбыта, где работали родители, существовал такой порядок. Директора и главные бухгалтера нефтебаз считались номенклатурой треста, они не были привязаны к одному месту, их могли перебрасывать из одного населённого пункта в другой. И в каждом поселяли в квартире, специально отведенной на территории нефтебазы. Всё моё детство, кроме краткого периода оккупации, прошло на этих нефтебазах.
Вскоре после этого папа и мама взяли казённый грузовик и поехали в Киев в надежде застать в живых и перевезти бабушек и дедушку. Вернулись они из Киева все вместе. Какая была радость, когда оказалось, что все живы!
Теперь мы жили все вместе, а вскоре появилась Катя.
Наша семья
В бухгалтерии нефтебазы работали три человека. Казалось бы, зачем столько на такую маленькую организацию, где всего работников было человек 20. Но – социализм это учёт. И без дела они не сидели.
Папа был главным бухгалтером, мама бухгалтером, и была ещё одна должность, уж не знаю, как она называлась, где не требовалась особая квалификация. Вот на этой младшей должности работала сначала такая хорошенькая стройная девушка Вера. По-видимому, к этому времени маме явно не хватало дочери, появилось инстинктивное стремление найти ей замену, опекать молоденькую девушку. Вот в роли такой опекаемой поначалу оказалась Вера. Но она довольно скоро вышла замуж, помню, как мы гуляли на её свадьбе. Это было простонародное застолье, обычное в наших местах, с самогоном и хорошей закуской. Жених показался мне простоватым парнем, не достойным такой милой невесты. Но почему-то вскоре после женитьбы Вера должна была бросить работу – то ли ждала ребёнка, то ли уезжала.
Вот здесь на её месте в конторе появилась Катя, которая, кажется, была её подругой.
Кате к тому времени было около 20 лет. (Родилась она в 1924 году.) Она была крестьянской девушкой, родом из какого-то села неподалёку, на Киевщине. Во время оккупации её забрали в Германию, где она работала у фермера. Особо плохих воспоминаний от того времени у неё не осталось, хозяева её вроде бы не обижали. А после освобождения она не захотела возвращаться в родное село. С одной стороны, это было общее явление – из колхозного села бежали все, кто могли (бежать из этого крепостного состояния могли далеко не все желающие), а у Кати ещё неразрывной частью памяти о селе была память о голодоморе. С другой стороны, у неё довольно плохо сложились отношения с собственной семьёй – не знаю, как и почему, но видеть своих она не хотела. Так что в Белой Церкви она оказалась с твёрдым намерением обучиться какой-нибудь городской профессии и остаться в городе. Так попала на нефтебазу и встретилась с моей мамой.
Перед мамой возникла бойкая, весёлая, открытая, сметливая, располагающая к себе девушка, которой ей так не хватало. Прошло немного времени, и Катя вошла в нашу семью. Будучи по натуре человеком живым и восприимчивым, она довольно скоро овладела и приёмами бухгалтерской профессии, и навыками городской жизни, включая русский язык, и общим стилем жизни нашей семьи. В общем, реально она стала папе и маме приёмной дочерью. Причём дочерью, гораздо лучшей, чем я был сыном. Она прожила с родителями всю их оставшуюся жизнь, заботилась о них и похоронила обоих.
Итак, у нас сложилась семья из семи человек. Со временем она естественным образом уменьшалась. Смерть дедушки была первой смертью, которую я увидел в своей жизни. Вряд ли мои родные, да и я сам сильно переживали, потому что безумный и полусознательный дедушка уже давно воспринимался как не вполне живой человек. Помню, как наш столяр тесал ему гроб, потом дедушку, лежащего в гробу, дорогу на кладбище. О церковном отпевании в то время не могло быть и речи.
Дедушка Миша умер ещё в Белой Церкви, а бабушка Маня уже позже, в Фастове. Расстояние между двумя городками небольшое, её тело перевезли в Белую и похоронили рядом с дедушкой. На их могилах стояло два железных креста. На них таблички, на которых я написал имена и годы жизни.
Почти через три десятка лет я с родителями посетил Белую Церковь, и мы пытались найти эти могилы. Но их не оказалось – всё вокруг изменилось, на месте маленького кладбища был разбит довольно жалкий скверик, и никто из встретившихся нам людей о кладбище не помнил.
А бабушка Уля жила с нами подольше, но потом её забрала к себе тётя Варя.
Так что до моего отъезда в университет неизменных членов нашей семьи было четверо: папа, мама, Катя и я.
Война и победа
Воспоминания о жизни в Белой Церкви мне трудно расположить во времени.
Если же начать с того, что было точно в последние полтора года войны, то вспоминается, как мама с папой волновались, как бы папу не мобилизовали и не отправили на фронт. Часто шла речь о брони, которую он имел, будучи как-никак специалистом (по тому времени бухгалтеры подпадали под эту категорию), но всё же она была не очень надёжной. Я вмешивался в эти разговоры, выражая намерение в случае мобилизации тоже отправиться с папой на фронт.
Начались уже немецкие налёты. Причём мы были в более опасном положении, чем раньше: в дом бомба могла попасть случайно, а такой объект, как нефтебаза, могли бомбить прицельно, да и последствия от взрыва резервуара с бензином могли быть серьёзными. Тем не менее, обошлось – специально нашу нефтебазу так ни разу и не бомбили. И сами эти бомбёжки мне меньше запомнились, чем советские, описанные выше. Может быть, потому, что их было не так много.
Ещё одно воспоминание времён войны. Пришедшая советская власть заимствовала у изгнанных немцев обычай публично вешать врагов. Часто после освобождения населённого пункта на центральной площади вешали некоторых немецких начальников (уж не знаю, по какому принципу отобранных) и украинских полицаев. Довольно широко афишировалась казнь, прошедшая в Киеве, отголоски её дошли и до нас. Нечто подобное было и в самой Белой Церкви, хотя и в меньших масштабах. Многие из окружающих видели казнь, она потом долго и с интересом обсуждалась. Разумеется, без всякого сочувствия к повешенным, общее мнение было, что они это заслужили. Конечно, мои родители не пошли на это зрелище.
Запомнилось 8 мая 45-го года – правда, не деталями, а общей атмосферой напряжённого ожидания. Все уже знали, что война вот-вот должна кончиться, что-то там должны подписать. (Наверное, взрослые знали детальнее, но я понимал только это.) Все репродукторы были включены, и мне кажется, что никто ничем не мог заниматься – только ждали. Но вот день прошёл, и ничего не было объявлено.
А на другой день ранним утром по радио объявили: победа! И вот здесь – атмосфера радости, которую невозможно передать. (Не могу в очередной раз не пожаловаться на свою память.)
По аналогии с днём победы расскажу другой эпизод. Как я писал, папа всю жизнь активно следил за политическими событиями, от корки до корки читал газеты (в основном, «Известия»). В ту пору и ещё долгие десятилетия было принято проводить лекции на политические темы. Занимались этим горкомы и райкомы партии, при которых состоял штат лекторов. Лекторы выезжали в «трудовые коллективы» или просто читали открытые лекции, на которые мог прийти любой желающий. Бытовала общая уверенность, что, во-первых, каждый из таких лекторов очень много знает, а во-вторых, готов рассказать гораздо больше, чем пишут в газетах. И, как ни парадоксально, последнее частично имело место. По-видимому, срабатывал эффект глубоко укоренившейся боязни советской власти перед печатным словом. Как бы в воздухе висело, что представитель власти устно ещё может сказать что-то содержательное, но печатно – никогда. Потому люди, интересующиеся политикой, т. е. значительная часть мужского населения, охотно посещали такие лекции. И вот в одни сентябрьский день 1945 года папа пошёл на одну из них. В ту пору всеобщее внимание было приковано к Японии – несколько дней назад американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и больше всего волновал вопрос: вступит ли в войну Советский Союз? Папа и задал этот вопрос лектору. Придя домой, он нас успокоил, передав ответ лектора: «Ни в коем случае! У нас с Японией договор о ненападении» и т. д. На следующее утро, включив радио, мы услышали, что Советский Союз объявил Японии войну. Но эта война была такой далёкой и нас не касающейся, что не оставила по себе никаких воспоминаний.
Двор нефтебазы
При упомянутом посещении Белой Церкви через тридцать без малого лет мы с родителями зашли и на нефтебазу. Охранник покосился на нас, вызвал кого-то из начальства, мы объяснили, что когда-то давно здесь жили и сейчас хотели бы посмотреть. И, переступив порог будки охранника, я поразился тому, как всё уменьшилось в размерах. Маленький дворик, до всего можно достать рукой.
А в детстве это была огромная территория, целый мир, в значительной мере мне принадлежащий. Интересно, что как раз двор белоцерковской нефтебазы запомнился мне во всех подробностях, и я сейчас бы мог без труда нарисовать его план. Запомнился гораздо лучше, чем более поздние дворы в моём детстве. Минуешь охрану, и сразу слева большой дом. С лицевой стороны контора, там прямо кабинет директора, а справа бухгалтерия. Входишь в неё, и перед тобой стол папы, а с левой стороны столы мамы и Кати. С противоположной стороны дома – вход в нашу квартиру. В ней две большие комнаты и большая же кухня. В одной из комнат спят папа, мама и я, в другой – бабушка Маня, дедушка и Катя, в кухне – бабушка Уля. В кухне большая украинская печь с лежанкой. Какие вкусные вещи готовила в этой печи бабушка! Например гарбуз печений – у меня так до сих пор и не поворачивается язык назвать гарбуз тыквой.
Но главное впечатление от самого двора. Большой (по моим тогдашним представлениям) двор, огороды, свежая трава, много плодовых деревьев. Вообще эти годы вспоминаются мне как годы жизни на природе, почти как в селе. Всё лето я провожу в этом дворе, конечно, бегаю в затрапезных брюках или трусах (о шортах ещё много десятилетий и не слыхивали), в майке и босиком. Подошвы к этому времени у меня уже были хорошо закалёнными, но по острому шлаку, которым были посыпаны дорожки вокруг дома, всё же приходилось ступать осторожно.
Во дворе штук пять огромных шелковиц. Шелковицы обладают замечательными свойствами. Одно из них – ягоды созревают постепенно, дерево при всём желании нельзя объесть сразу. Сколько бы ты ни съел сегодня, завтра появляются новые ягоды. И так всё лето. Второе – ягоды на каждом дереве имеют свой вид и вкус. Например, на шелковице у дома ягоды сладкие и сочные. А на той, что у забора, сухие и кислые, но это имеет свою прелесть. И, наконец, шелковица – дерево, исключительно удобное для лазания. Нижние ветки толстые, висят низко, подтянешься – и ты уже на них. Все ветки крепкие, на них удобно сидеть или стоять, очень увлекательно перебираться с одной из них на другую, дотягиваясь до ягод. Наедаешься до отвала и слезаешь с полностью перемазанными пальцами и губами. Никогда позже я не встречал таких вкусных шелковиц. Наверное, потому, что есть их нужно, прямо срывая с дерева, через короткое время они теряют вкус.
Иное дело вишни. Прежде всего, потому, что над шелковицами я был полновластный хозяин, а вишни – это коллективная собственность, их нужно поделить не только между теми, кто здесь живёт, но и между всеми сотрудниками нефтебазы. Когда они созреют, собирается много людей с вёдрами. Лазать по вишням нельзя, дерево нежное, его легко повредить, потому рвут, стоя на лестницах. Мы с Катей, конечно, тоже принимаем в этом участие. Потом вишни делят, несколько вёдер достаётся и нам. Это уже промышленный сбор, но, конечно, никто не запретит пацану и до того слегка пощипать вишни.
Хозяйство. Питание
Но я упомянул огород. Это особый рассказ. Тянулся наш огород от дома до забора, казалось, что это очень много. Там росло всё, что нужно из овощей: огурцы, помидоры, лук, укроп, кукуруза, дыни, арбузы (по-нашему – кавуны, чтобы не путать с гарбузами). Арбузы, правда, не такие огромные, как мы сейчас видим на базарах, и не такие сладкие, но мы ели с удовольствием. Картошка росла уже не на этом дворе, а на отдельном поле, в километре или двух. Картошку сажали и выкапывали всей семьёй. А на ближних огородах орудовали только бабушка Уля и Катя. К стыду моему, моё участие в этом было минимальным. Однажды мне поручили выполоть бурьян, и одним из первых движений сапкой я снёс себе ноготь на большом пальце ноги. Кровь сочилась вовсю, ногу замотали бинтом. Меня погрузили на подводу (по-русски, наверное, нужно сказать «телегу») и отвезли в медпункт, где перевязали более профессионально и сделали противостолбнячный укол. После этого меня почти совсем не привлекали к работам на огороде, а сапку в следующий раз я взял в руки уже во взрослом состоянии на работе в колхозе.
А по двору бегала домашняя живность – куры и утки. Было их у нас довольно много. Как-то папа привёз из инкубатора ящик с цыплятами, они росли у нас на глазах, и мы их понемногу подъедали. Птица удобная, сама ищет себе пищу, только иногда нужно подкармливать крупой.
Но и это не всё. Рядом с домом был сарай, в котором откармливали кабанчиков. Время от времени одного из них резали. Приходил больший мастер этого дела Семенюк, наклонялся над кабанчиком, чесал ему живот, ласково говорил «Паця, паця», нащупывал нужное место под лопаткой, а через минуту кабанчик уже лежал с ножом в боку. Его долго разделывали, сало укладывалось в погреб, частично шло на базар, набивались колбасы.
У сарая стояли клетки с кроликами. Мы рвали для них траву, а иногда выпускали пастись самих, но тогда приходилось хорошенько присматривать, чтобы не разбежались.
Потом купили корову. Это уже было делом одной Кати, как и последующий уход за ней, Катя в этой области считалась непререкаемым специалистом. Корову назвали Любкой. И корова оказалась замечательной. Катя любила её, ухаживала за ней, разговаривала с ней как с человеком. Молоко она давала исключительно вкусное, такими же были приготовленные из него сметана, творог и масло.
Вообще, как только у нас появился огород, а затем ещё и скотина, голод для нашей семьи полностью кончился. Наступило время сытости. Вообще, мне кажется, что в эти годы наша семья, живущая в небольшом городке, работающая на государственной службе и при этом имеющая небольшое хозяйство, оказывалась в самом выгодном положении по сравнению с большинством соотечественников. Известно, что в селе в эти годы был голод. Голодно было и в больших городах, что мы видели по своим киевским знакомым, время от время приезжающим к нам в гости. Так в одно лето у нас в гостях жила старая мамина подруга по гимназии, мне известная как тётя Нина, с дочерью Таней несколько младше меня. Даже я обратил внимание на то, какие они худые и голодные, как поражались изобилию на нашем столе.
Раз уж я заговорил о питании, необходимо упомянуть о продовольственных карточках, по которым выдавались необходимые дефицитные продукты. Таковых я помню два: хлеб и сахар. С хлебом в это время мы как будто бы не испытывали проблем – получаемого по карточкам хватало, учитывая наличие других продуктов. Хлеб был вполне качественный, особенно если сравнивать его с тем, что был в годы оккупации, но только чёрный. Помню, как я удивился, увидев в 51-м году в Москве белый хлеб в свободной продаже. А вот сахару действительно не хватало. В годы войны, особенно при немцах, его нам заменял сахарин, тоже в ограниченном количестве. Вспоминаю, в каких чудовищных очередях мне приходилось стоять за сахаром даже где-то в году 50-м.
И ещё вспоминаю продукты, которыми нас по ленд-лизу снабжала Америка. Странно, но у меня сохранились более чёткие воспоминания о них, чем у моих сверстников. Мне кажется, что эти продукты, вкусные и качественные, занимали значительную часть в нашем рационе. Что же, мы, т. е. сотрудники белоцерковской нефтебазы, и здесь почему-то оказались в привилегированном положении за счёт обделённых киевлян? Я могу без труда перечислить эти продукты. Яичный порошок, бывший для нас не слишком актуальной роскошью, поскольку были свои куры. Но из него получался отличный омлет. Корнфлекс, с этим словом я познакомился в те годы, не разделяя его на отдельно переводимые части, и с удовольствием встретился с ним как со старым знакомым совсем недавно в Канаде. До чего же хорошо он шёл со сливками из Любкиного молока! И, наконец, знаменитая свиная тушёнка, для людей того времени настолько ассоциировавшаяся с американской помощью, что само её непривычное название казалось взятым из английского языка. К этому добавлю ещё два вида консервов: нечто типа ветчины и уж совсем экзотические китовые консервы – очень вкусные, в широких, но невысоких коробках. Почему-то никто их сегодня не помнит.
Жизнь на нефтебазе
Говоря о нашей нефтебазе, я не сказал о её месторасположении. Она была у самой железной дороги, и к ней вела короткая железнодорожная ветка, по которой подходили цистерны с нефтепродуктами (по-видимому, в основном с бензином). Нефтепродукты перекачивались в три или четыре огромных резервуара. Функционально же нефтебаза была чем-то вроде современных бензоколонок, поставляя горючее окрестным хозяйствам. Отличие от последних в том, что потребителями были только государственные учреждения и колхозы, отпускали нефтепродукты в рамках жёстких лимитов, причём наличные деньги не использовались, а расчёт вёлся только на бумаге. За всем этим и должна была следить бухгалтерия.
Похоже, что нефтебазы, и, в частности, наша, занимали не последнее место в «народном хозяйстве», привлекая к себе внимание «партии и правительства». Во всяком случае, нашу нефтебазу однажды посетил сам Хрущёв. Конечно, в ту пору он ещё не был тем Хрущёвым, которого мы увидели после 53-го года, но всё же – первое лицо на Украине (первый секретарь ЦК КПУ), а тем самым и одно из главных лиц государства. Я издали следил за тем, как он со свитой ходил между резервуарами, а руководство нефтебазы, в том числе мой папа, ему что-то объясняли. Могли ли они тогда себе представить его речь на XX съезде?
Вернусь к нефтебазе. Её воздух весь пропитан запахом бензина, который был для меня естественной и приятной частью окружающей среды и вдыхался как «дым отечества». Двор был набит грузовиками и телегами из колхозов или от городских учреждений. (Кстати, забавно вспомнить: в ту пору телега была куда более привычным видом транспорта, и езда на ней не представляла никакого интереса – то ли дело грузовик.) Рабочие нефтебазы, с ног до головы облитые бензином и перемазанные дизтопливом, вкатывали на эти грузовики и телеги бочки с горючим. Я их всех хорошо знал и был с ними в приятельских отношениях.
Отношения с окружающими – особая тема. Сколько я себя помню, в коллективах, где работал отец, все держались на равных. В общем, мы и жили одинаково со всеми, разве что книги были в доме. А так рабочие нефтебазы тоже не голодали, как правило, имели собственные дома, своё хозяйство. Некоторые строились. (Впрочем, помню одно исключение. Это был уж совсем чернорабочий по имени Карпо, судя по всему, не вполне нормальный и вроде бы не имеющий жилья – по-современному, бомж. Я как-то с ужасом услышал, что он голодает и ест жом, такой корм для скота; было это в голодный 1948 год, так что услышанное выглядело вполне правдоподобным).
Время от времени устраивались общие застолья у нас или у кого другого, иногда на природе. Разумеется, с обязательными бутылями самогона. Папа пригубливал стаканчик, кривился и откашливался. Со мной же было странно. Мама, вообще очень следившая за мной и державшая меня под контролем, в вопросе о водке проявляла несвойственный ей либерализм: «Пусть ребёнок узнает, если хочет. Когда вырастет, не будет кортеть». И я из лихости выпивал полстаканчика самогона. Тем более что в моё время в наших местах так вели себя большинство детей моего возраста. И, как видите, не стал пьяницей.
Вообще странно. Припоминая нашу жизнь в Белой Церкви, я помню только лето. Двор нефтебазы, залитый солнцем (даже дождя не помню), типичные небо и деревья Киевщины, травы – подорожник, спорыш. Беседка, заросшая диким виноградом. Ясно и немного лениво.
Одно только зимнее воспоминание, но кажется, ещё немецкого периода. Я пытаюсь справиться с огромными немецкими (или финскими) лыжами – тяжёлыми, белыми с зелёной полосой. Но это мне плохо удаётся: они застревают в снегу, и я не могу развернуться. Папа их где-то для меня достал. Вспоминается, что они солдатские, но с другой стороны – не слышал, чтобы немецкие солдаты ходили на лыжах. К этому воспоминанию я иногда возвращаюсь, потому что это были мои первые лыжи, а в последующей жизни лыжи для меня немало значили.
И ещё одно. Я всё о дворе, о дворе – а что же дом? Я ведь его тоже представляю хорошо. Только что о нём расскажешь? Я в нём делаю уроки, читаю. Ну, о чтении речь будет позже. А ещё иногда слушаю радио. В то время радио заменяло нынешний телевизор, только не съедало столько времени и не превращалось в манию. Вот и я слушал главным образом литературные и детские передачи. Последние были не такими плохими. Например, беседы профессора Глобуса – в них в занимательной форме давалось немало интересных сведений. (Позже, в университете Глеб Сакович, о котором ещё будет идти речь, представлялся как профессор Глобус.) А по утрам перед школой я слушал Пионерскую зорьку.
Феб
Помимо всей хозяйственной живности, о которой я сказал выше, у нас был пёс Феб. Кажется, иногда были кошки.
Вообще наша семья была неравнодушна к собакам. И до моего рождения, и при мне до самого моего отъезда у родителей обязательно была какая-нибудь собака. Я помню рассказы о необычайно умном и злом псе по имени Макс, который был ещё до меня. В Киеве и недолго в Белой у нас была собака Пушинка, о которой я писал. В условиях жизни на нефтебазах держать собак было естественно, а и им самим хорошо жилось на природе.
Вскорости после того, как Пушинка сдохла, мой приятель Шура Семенюк однажды принёс мне маленького чёрного щенка, который всем нам очень понравился. В то время я читал «Мифы древней Греции», а потому решил дать ему какое-нибудь мифологическое имя. Подбирал я его по удобству звучания и остановился на имени Феб. Мне как-то не пришло в голову, что имя светлого бога, покровителя муз не очень подходит чёрному псу. А вырос он в небольшого, но красивого иссиня чёрного пса с белыми лапами и гладкой жёсткой шерстью. Впрочем, он был беспородным – как у нас говорили, дворянской породы.
Вскоре после появления у нас Феб пережил аварию – кажется, попал под велосипед, и ему повредило правую лапу. По-видимому, был задет нерв. После этого бегал он по-прежнему на четырёх, хотя и прихрамывал. Но сидел, приподняв правую лапу, и она равномерно подрагивала. Как будто дирижирует, – говорила мама.
Феб стал для меня отличным товарищем, сопровождающим меня во всех играх. На его примере я понял справедливость высказывания: собака – друг человека. Мы чувствовали, что он к нам безгранично привязан. Приятно было откуда-нибудь возвращаться в дом – он сразу бросался к тебе с такой радостью. Особенно после долгих поездок, которые иногда бывали у папы.
Мы несколько разбаловали его слишком комфортными условиями жизни. Спал он в доме на мягкой подстилке. Спал только на боку, как человек, положив голову на маленькую подушечку, чего я никогда не видел у других собак. Когда постарел, его стали укрывать одеялом. Он часто взвизгивал во сне – по-видимому, видел какие-то собачьи сны.
Мама, по своему обыкновению, несколько переусердствовала с его кормлением. Вообще в нашей семье было принято накладывать всем большие порции, уговаривать есть больше, в результате чего люди напрочь лишались аппетита. Сам я начал чувствовать аппетит (а вернее, голод) только после того, как покинул родительский дом. Не миновал этот обычай и Феба. В миску накладывалась еда, его подтаскивали к ней и начинали уговаривать. Он увиливал, пытался спрятаться под кроватью. И здесь мама пускалась на хитрость. Она радостно восклицала: «Ивасик пришёл!» И Феб, ожидая увидеть папу, выскакивал из-под кровати, тут его хватали и тащили к миске с едой. Позже, когда я уехал, его вызывали криком: «Миша приехал!» Интересно то, что пёс, при всём своём уме, был настолько доверчив и настолько ждал встречи с любимым хозяином, что изо дня в день покупался на одну и ту же уловку.
Феб ездил с нами из города в город и окончил свои дни уже после моего отъезда, в Донецке, в городских условиях, мало приспособленных для собачьей жизни. Как он радовался, когда я приезжал! Он был уже совсем старым. Однажды я, играясь с ним, побежал, чтобы он меня догонял. Папа строго отчитал меня – разве можно так обращаться со старой собакой. Смерть Феба родители тяжело переживали («Как будто человек умер», – говорила мама) и после этого собак больше не заводили.
Говоря о жизни на нефтебазе, нельзя не упомянуть одного традиционного развлечения. К нам время от времени, как помнится, не очень редко, приезжала кинопередвижка. Появлялась она к концу рабочего дня. Киномеханик заходил в клубное помещение, что-то колдовал со своей аппаратурой, понемногу сходился народ. Одним из первых в зале появлялся Феб, очень любивший это зрелище. Он садился перед первым рядом посредине, уставившись мордой в экран, и дирижировал лапой. «Феб пришёл, можно начинать», – смеялись рабочие. Так я повидал кучу фильмов. Тех же «Без вины виноватых», о которых как-то упоминал.
Здесь маленькое отступление о собаках. Любовь к собакам у меня врождённая, такова вся наша семья. Впоследствии такой же собачницей оказалась и Ирина, такими выросли и наши дети, и внучка Машенька. Встретив собаку, мы любим с ней поговорить, а если есть хозяин, то с его разрешения и погладить. И надо же – в Белой Церкви меня однажды собака укусила. Не помню, как это было, но я к этому повода не давал. Мама тотчас рассудила, что нормальная собака меня укусить не может (действительно, с чего бы?), следовательно – собака бешеная. И меня долго водили на прививки, процедура довольно неприятная. Но, по счастью, на моё отношение к собакам этот неблаговидный поступок одного из их сородичей не повлиял.
Юра Олифер
Я писал, что время от времени у нас гостил кто-нибудь из Киева. С одним из таких гостей моя судьба и дальше переплеталась довольно часто, я дружен с ним до сих пор. Это был мой двоюродный брат Юра (официально – Георгий) Олифер, сын тёти Вари и Онуфрия Сидоровича (о них я уже упоминал). Много позже мой маленький сын Ваня называл его «братом Юрой», и с тех пор это наименование привилось в нашей семье.
Брат Юра был студент, как раз перевёлся из Ленинградского политехнического в Киевский, поближе к родителям, которые в это время жили в селе Ставище недалеко от нас. Учился и перевёлся вместе со своим братом Виктором. Однако Виктор у нас в Белой не бывал (или почти не бывал), да и дальше общаться с ним мне довелось значительно реже.
Юра появился как-то вдруг, без предупреждения и сразу завоевал мою симпатию. Живой, весёлый, общительный. И, конечно, голодный. С ним был неизменный фотоаппарат – самый простенький, но по моим тогдашним представлениям – чудо техники. Он много снимал и дарил фотографии, маленькие, 6 на 9, но и они меня восхищали. Эти фотографии остались практически единственным визуальным свидетельством того времени. Добавлю, что многими аналогичными свидетельствами Юра обеспечивал меня и позже: он занимался фотографией серьёзно, и это сохранилось на всю жизнь.
Юра рассказывал всякие весёлые истории, со мной держался по-дружески. Пел студенческие песни, одной из них меня обучил:
«В Москву приехал Джордж из Динки-джаза
Пополнить там познания свои.
Решил среди студентов
Искать он инцидентов
И вскоре докатился до МАИ.»
(«Джордж из Динки-джаза» был популярный английский фильм военного времени; на мотив из него и была сложена студенческая песня.)
Наверное, Юре у нас понравилось, и он стал к нам время от времени наезжать. Впрочем, мне кажется, что он всюду чувствовал себя легко и со всеми на равной ноге – комплексов у него явно не было.
Город. Кино
Я всё о нашем доме и дворе, а надо рассказать и о городе. Мне сейчас трудно судить, насколько далеко мы жили от его центра, всё никак не соберусь съездить в Белую. По тому времени казалось, что далековато. От нефтебазы нужно было идти довольно длинной почти сельской улицей мимо хаты, в которой мы жили сначала. По ней приходишь на цепочку улиц, как бы городских, почти шоссе, с домами городского типа, иногда в три-четыре этажа, с относительно оживлённым движением: запряжённые лошадьми телеги попадаются уже реже, а больше грузовики и виллисы. С какого-то момента начинается улица Переца – странное название для советского городка – с населением подстать этому названию: старые евреи на лавочках у своих небольших домиков. Вообще во всех городках моего детства евреи встречались гораздо чаще, чем в последующей жизни; среди моих одноклассников их была чуть ли не половина.
Вернёмся, однако, на улицу Переца. Она приводит уже в самый центр, с большими домами и магазинами. Здесь находится и главное здание, собственно ради которого я и добирался до центра, – кинотеатр. Сейчас кажется, что бывал я там частенько, – наверное, несколько раз в месяц. Так же я бегал в кино потом в других городках. (Забавно, но я прекрасно помню кинотеатр в Белой, когда был поменьше, чуть похуже в Фастове – постарше, и совсем не помню кинотеатр в Смеле, где был совсем большим). Фильмы, виденные в разных городках и в разное время, у меня смешались в общую кучу, не помню, где и когда я их видел. В основном это были трофейные фильмы, среди них признанная ныне классика: «Тарзан», «Путешествие будет опасным» (в оригинале «Дилижанс»), «Девушка моей мечты», «Серенада Солнечной долины», «Судьба солдата в Америке» (советское пропагандистское название), «В старом Чикаго» и многое другое. Разумеется, шли фильмы и из советской классики: «Броненосец Потёмкин», «Потомок Чингиз-хана», «Путёвка в жизнь», «Волга-Волга», «Цирк», а также современные: «Подвиг разведчика», «Встреча на Эльбе», «Щедрое лето», «Русский вопрос». Большинство из последних носили явно пропагандистский характер, рекламируя счастливую жизнь в советских колхозах или разоблачая «поджигателей войны». Конечно, я назвал незначительную часть того, что видел, и даже того, что помню (и без того боюсь, не утомил ли возможного читателя). А список привёл для того, чтобы последний представил себе репертуар того времени. Я очень любил кино, о большом впечатлении от фильмов может свидетельствовать то, что кое-что из них запомнилось до сих пор – кстати, зачастую лучше, чем события внешней жизни. Я глотал приключенческие фильмы, а нередко встречающиеся серьёзные давали, наряду с книгами, пищу для размышлений. Могу назвать два из них: «Побег с каторги» – добротный американский социальный фильм, поразивший меня именно темой тюрьмы; и «Я обвиняю» – фильм об Эмиле Золя с упором на дело Дрейфуса. (Уже в старшем школьном возрасте я познакомился с итальянским неореализмом, но это другой период. А оба названные фильма видел именно в Белой).
В кино я приходил обычно днём в воскресенье. Перед этим полагалось купить порцию мороженого. Продавец стоял рядом с кинотеатром, перед ним большой чан с мороженым, он клал в специальную давилку маленькую круглую вафлю, затем мороженое, чуть побольше или поменьше – в зависимости от цены, затем снова вафля, и выдавливал порцию. Порции были мизерными, самая большая из них в несколько раз меньше тех, которые много позже я увидел в Москве. Съев мороженое, я покупал билет и заходил в фойе, встречавшее огромным лозунгом – белым по красному – из Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». За тяжёлой красной шторой был небольшой зал.
Стоит сказать, что кинотеатр был едва ли не единственным местом, куда меня отпускали из дому (кроме, конечно, школы, да ещё библиотеки). Ограниченный пределами дома и двора, я страшно завидовал своим сверстникам, которые могли свободно гулять всюду в течение всего дня. Неуютность от этого ограничения свободы по сравнению с окружающими стала заметной частью моего мироощущения, своего рода комплексом. Но это уже другая тема.
Говоря о кино, упомяну о нескольких посещениях театра. Своего театра в Белой Церкви не было, и в обоих запомнившихся мне случаях это были какие-то гастролирующие труппы – довольно жалкие, даже по моим скромным представлениям. Да и зал был жалкий, маленький провинциальный клуб, не шедший ни в какое сравнение с залом Театра оперетты в Киеве, где, как я писал, мне уже довелось побывать. Так что особого впечатления не осталось, хотя я и был рад, что побывал хоть в каком-то театре. Сами же спектакли были: «Принцесса Турандот» и „Маруся Богуславка”, патриотическая, или, как сказали бы позже, националистическая пьеса из украинской истории.
(Забавная штука. Я начал писать о театре, и тут же вспомнил своё, наверное, первое посещение театра в самые древние времена, ещё до войны. Это был кукольный театр. Его месторасположение я тоже хорошо запомнил – там же, где он оставался до самой перестройки, в здании прежней и нынешней синагоги Бродского. В пьесе шла речь о каком-то чучеле, и пели песню: «Чучело, чучело, ты меня замучило»).
Подарки родителей
Я долгое время мечтал о велосипеде и выпрашивал его у родителей. Наконец, мне его подарили, наверное, за какие-нибудь успехи в учёбе. Некоторое время я усиленно его эксплуатировал – не только носился по двору, но выезжал за ворота и доезжал до самого центра города. С ним связано два эпизода. Однажды я ехал по упомянутой улице Переца, моя штанина застряла между цепью и зубьями, я потерял управление и наехал на прохожего, который отругал меня и надавал по шее. В другой раз уже у нас во дворе я слишком разогнался, не успел свернуть и врезался в доску почёта. Это кончилось плачевно не только для меня (разбитое колено и физиономия), но, что печальнее, для велосипеда: совершенно изогнутое колесо, переломанные спицы и тому подобное. Не помню, удалось ли вообще его после этого починить.
Другой подарок родители сделали по собственному почину. Юрин фотоаппарат произвёл на них настолько сильное впечатление, что они решили, что и мне будет приятно приучиться к этому делу. Мне подарили фотоаппарат, маленький, смешной, делавший крохотные квадратные фотографии где-то примерно 5 на 5 сантиметров. В ту пору фотография была занятием хлопотным, нынешнему поколению этого не понять. Отснятую плёнку сам фотограф должен был проявлять, то есть последовательно выдерживать в двух жидкостях – проявителе и закрепителе. Обе он готовил самостоятельно из купленных в магазине реактивов. Потом на специальном хитром приспособлении (кто упомнит его название?) изображение переносилось с негатива, т. е. плёнки, на фотобумагу (миную описание процесса), а последнюю снова нужно было подвергать воздействию проявителя и закрепителя. Всё делалось в совершенно тёмной комнате, слабо освещаемой красным фонарём.
Описанная процедура получалась у меня довольно плохо. Какие-то фотографии получались, но очень низкого качества. Мама нашла выход – отдала меня в обучение профессиональному фотографу. Не знаю, пришлось ли ей доплачивать или он сам был заинтересован в моей бесплатной помощи. В общем, я некоторое время являлся в фотоателье на улице Переца и наблюдал за процессом фотографирования: фотограф (еврей, конечно) усаживал клиента, устанавливал штатив, вставлял в аппарат фотопластинку (или как она там называлась), говорил «Спокойно, снимаю», снимал крышку с объектива и снова надевал. Потом клиент уходил, а он в лаборатории колдовал сначала с негативом, потом с самими фотографиями, я при этом присутствовал, наблюдал, в чём-то ему помогал. Но учеником оказался никчемным – фотографии мои лучше не стали, и довольно скоро я вообще утратил интерес к этому делу.
Заодно расскажу ещё об одном родительском подарке, тоже не пошедшем мне на пользу. Это были часы, большие карманные часы, которые я с гордостью положил в боковой карман пиджака. Через несколько дней в этом пиджаке с этими часами я пошёл в кино. А домой вернулся уже без часов – то ли по дороге, то ли на сеансе их у меня вытянули.
Поездки в Киев и в Ставище
Как помните, Белая Церковь расположена сравнительно недалеко от Киева. И отцу по служебным делам нередко приходилось в нём бывать – едва ли не каждый месяц, потому что он часто возил в главк месячные отчёты. Почти каждый раз возвращался с подарком – привозил мне книгу.
Я же этим поездкам очень завидовал. Вообще Киев занимал в моём сознании примерно то место, что Москва у трёх сестёр: я чувствовал себя изгнанным из настоящего большого города с большими домами, парками, памятниками и всей душой тянулся к нему.
Несколько раз, не очень много, мне тоже удалось побывать в Киеве с папой, а иногда и вместе с мамой. В ту пору как-то не было принято пользоваться поездами, так что добирались мы на какой-нибудь машине, идущей от нефтебазы, чаще на грузовике. (Грузовики тогда были приспособлены для перевозки пассажиров: в кузове размещались скамейки, над ним натягивалась брезентовая крыша).
Почему-то вид разрушенного Киева у меня связывается именно с первой поездкой в него из Белой, уже после войны, хотя, например, Крещатик был весь в развалинах и при немцах. Когда же я там появился, развалины, напротив того, уже начали разбирать, там копошились люди, кажется, немецкие военнопленные.
И, тем не менее, мне приятно было пройти по знакомым улицам. Запомнились и здесь старушки на скамейках у домов, говорящие по-еврейски, – теперь это всё ушло в далёкое прошлое. Очень вкусным показалось столовское питание – котлета с макаронами.
Большим и запоминающимся событием для меня стало первое в жизни большое самостоятельное путешествие. Даже не знаю, как мама решилась меня отпустить.
Это была поездка в гости к тёте Варе в Ставище. Междугородного автобусного сообщения в ту пору не знали, добираться можно было только на машинах. Ловить нужную машину следовало при выезде из города, на так называемой гатке (плотине) через Рось. Кто-то из взрослых, наверное, Катя, отвёл меня на гатку, остановил нужную машину и договорился с шофёром. А в Ставищах меня уже ожидала тётя Варя. Большой разницы с нашим домом я не почувствовал – ведь мы тоже жили практически в сельских условиях. Время было летнее, там же проводил каникулы и брат Юра, что меня очень радовало. Запомнил одну нашу проделку: мы (по его инициативе) выцеживали готовящуюся вишнёвую наливку из большой бутыли, а туда добавляли воду. Такую наливку я любил с раннего детства – у нас её готовила бабушка Маня. Позже Юра со смехом рассказывал, как его мама удивлялась, почему наливка оказалась такой слабой.
Пионерлагерь
Была у меня и ещё одна, более длительная отлучка от дома: летом меня отправили в пионерлагерь в Ворзель. (В каком году это было? Может быть, уже после 8-го класса в Фастове? Нет, всё-таки скорее в Белой).
Моему отъезду предшествовало беспокойство мамы: как же это отпускать Мишу, одного, что там с ним будет? Сам лагерь мне запомнился мало. Помню только, что меня очень радовало, что я теперь вроде как самостоятельный, совсем без родительской опеки. Пионерское начальство не в счёт – оно установило какие-то формальные ограничения, а мною специально не заботилось. Жили в больших палатках, это мне тоже нравилось. С ребятами у меня никаких серьёзных отношений не установилось – ни дружбы, ни вражды. В палатке у нас был довольно славный парнишка, манерам и умениям которого я даже немного завидовал (что со мной случалось нечасто). У него была очень привлекательная манера поведения – держался он твёрдо, уверенно, но не нагло. Не имел обыкновения сквернословить, что тоже встречалось нечасто. А главное – был отличным рассказчиком и выдумщиком, по вечерам рассказывал нам бесконечные приключенческие истории своего сочинения. И, тем не менее, мне так и не случилось с ним подружиться. Наверное, помешала робость.
Глава 4. Белая Церковь: школа
После освобождения. 3-й класс
Пора рассказать о школе.
После двух лет обучения в Киеве у меня наступил естественный полугодичный перерыв. Здесь, в Белой Церкви, при агонизирующем оккупационном режиме отдавать меня в школу не было никакого материального стимула, и никому это не приходило в голову.
Новые, советские школы стали открываться сразу же после освобождения. Красные вернулись в январе 44-го, а школы заработали уже в феврале. В одну из них, в 3-й класс меня тотчас же и отдали.
Это была украинская школа. Об обучении в ней я совершенно ничего не помню, кроме того, что в классах было очень холодно. И того, что здание было маленькое, и учились в три смены.
Так как учебный год в нашем городе начался в феврале, то предполагалось, что будет он сокращённым и продолжится где-то до конца осени, после чего наступит следующий, тоже сокращённый, но кончающийся естественным образом – к лету. Однако мне в таком режиме учиться не довелось. В сентябре открылась новая школа, уже русская, и родители решили отдать меня в неё. Здесь учебный год начался уже нормально, в сентябре. Третьего класса я так и не окончил, вряд ли были какие-то документы о двух предыдущих, но в то время наличием подобных документов особенно не интересовались. В сентябре 1944 в возрасте 9 лет я оказался в 4-м классе, сильно опередив своих сверстников. Они, как правило, в результате войны теряли один – два года учёбы, а я, напротив того, год выиграл. Так и был я все школьные годы на 2, а то и на 3 года младше своих одноклассников, и только немногие из них были старше меня всего на год. То же повторилось потом и в университете.
Вообще о школе
Рассказу о белоцерковской школе предпошлю несколько слов, характеризующих моё школьное обучение в целом.
Учился я хорошо. Наверное, более-менее так же учился бы и в случае, если бы был предоставлен сам себе, но срабатывал ещё один фактор: за моим обучением очень следили родители, особенно мама. О том, чтобы мне помогать, речи не было, как не было и надобности. Вмешательство мамы сводилось к тому, что она регулярно следила за моими оценками. Каждая четвёрка считалась ЧП, перед концом четверти только и было заботы, не окажется ли у меня четвёрки в табеле. Ну, а несколько заработанных за мою школьную карьеру троек воспринимались как конец света. Нечего и говорить, что мама регулярно посещала родительские собрания, нередко и так заходила в школу, разговаривала с учителями, особенно с теми, по чьим предметам мне угрожала четвёрка в четверти. Плохая успеваемость (несколько текущих четвёрок) грозила мне не только неприятным наставлением, но и невручением приготовленного подарка. Так привезенная мне из Киева книга («Порт-Артур» Степанова), к моему огорчению, была спрятана в сундук, пока я не исправлю нескольких четвёрок. Конечно, такая опека меня заметно угнетала, но, к счастью, не отбила охоту к учёбе. Стыдно было и перед товарищами, ни у кого из которых родители подобного рвения не проявляли. Я готов был провалиться под землю на торжественном вечере по окончании 7-го класса, где подводились итоги, раздавались аттестаты и грамоты, звучали похвальные речи, а мою маму поздравили с таким замечательным сыном. Она же в ответ поделилась родительским опытом, посоветовав другим родителям так же внимательно следить за школьными успехами своих детей.
Однако, из года в год, если у меня в четвертях и попадались четвёрки, то все годовые оценки были пятёрки, за чем следовала похвальная грамота, которую мама с гордостью складывала вместе с предыдущими. Так же я получил какой-то особенно похвальный аттестат о неполном среднем образовании – в Белой Церкви я как раз успел окончить 7 классов, а это была ступень в образовании. (В то время было три ступени школьного образования: начальное – 4 класса, неполное среднее – 7, среднее – 10. Начальное было обязательным, и осуществлялся переход к обязательному неполному среднему. После 7-го класса можно было поступать в профучилище или в техникум, а можно и вообще не учиться. Но большинство моих соучеников продолжали учиться в 8-м классе).
А мои школьные интересы были таковы. Из всех уроков любимыми были математика и русская литература. Математика была интересна сама по себе, а, кроме того, мне очень повезло с учителями, все они были хорошими специалистами и вызывающими уважение людьми.
С литературой было труднее – идеологический предмет включал заметную долю демагогии, но сам предмет изучения был исключительно интересен по существу. Впоследствии мне часто приходилось слышать от разных людей, что школьные уроки оттолкнули их от литературы. Я же считаю, что школьные уроки были для меня полезными. И не потому, что имел хороших учителей – они-то как раз были разными. Но школьная программа была полезна тем, что позволила увидеть русскую литературу в историческом процессе. Без этого я видел бы в ней только отдельных авторов, как вижу до сих пор в других литературах. Я веду речь об изучении в старших классах и даже эже – с 9-го до середины 10-го (это в моё время), от Пушкина до Шолохова, дальше уже был в основном мусор. А всё, что было до Пушкина, (за исключением, может быть, Крылова) я бы в школе не учил, это предмет специального интереса.
Уроки русской литературы отличались одной замечательной особенностью (не знаю, как сейчас, так было в моё время, сталкивался я с этим и позже). Это были единственные уроки, на которых не только разрешались, но и поощрялись дискуссии. Более того, дискуссии были формой учебного процесса. На первый взгляд, шло обсуждение далёких от нас тем, и звучали они казённо: образ Татьяны Лариной, образ Пьера Безухова. Но обычно с самого начала возникала какая-то моральная проблема: правильно ли поступила Татьяна Ларина, отказав в своей любви Онегину? И этот вопрос вдруг глубоко волновал мальчиков и девочек, напоминал им о каких-то собственных жизненных проблемах, каждый хотел высказаться. А герои литературных произведений становились для них живыми людьми. И здесь даже не требовалось высокой квалификации учителя – лишь бы он не был настолько глуп, чтобы заглушить голос самих учеников.
Чуть меньше меня интересовали физика и история. В истории отпугивала её необъятность по сравнению с литературой. В литературе я чувствовал себя владеющим предметом – о каком бы писателе ни шла речь, я, как правило, его читал и знал значительно больше, чем требовалось программой. А вот в истории почти каждая тема была новой, я понимал, что мои знания слабы и несовершенны, и жизни не хватит, чтобы довести их до надлежащего уровня.
Украинская литература не была для меня настолько интересной, как русская, – и как школьный предмет, и «по жизни». И вот что характерно – этот предмет не располагал к обсуждению. За все школьные годы я не припомню ни одной интересной дискуссии по украинской литературе – и это при тех же учителях.
А уж совсем скучными были такие предметы, как география, биология, химия.
В заключение темы хочу высказать две общих оценки.
Первая – в течение всего пребывания в школе меня угнетала атмосфера советской идеологической демагогии, пропитавшая учебники и подчинившая себе учителей. Осадок от этого остался на долгие годы.
Вторая – несмотря на это, скажу несколько добрых слов о советской школе того времени. Ведь я учился не в каких-нибудь привилегированных, а в самых рядовых провинциальных школах. И всё же там было много хороших учителей, которые любили своё дело и хотели передать детям знания. Зачастую это им удавалось гораздо лучше, чем удаётся сегодня как в нашей стране, так и на Западе. Кроме того, советская школа выгодно отличалась от нынешней украинской своей языковой политикой: русские и украинские язык и литература в ней преподавались на равных и в равном объёме. (Я уже не говорю о том, что родители свободно выбирали школу с желаемым языком преподавания).
4-й класс
Вернёмся к моей белоцерковской школе – той, где я учился с 4-го класса.
Обучение в ней началось не вполне удачно. Совершенно не было учебников, а уроки всё равно задавались. Здесь я проявил нерасторопность, не раздобывал задачника (их было один или два на класс), соответственно не делал домашних заданий и получал двойки. Впрочем, это продолжалось недолго.
Весной же я сдал экзамены по русскому языку и арифметике, получил табель с пятёрками и похвальную грамоту. Запомнилось, как страшно было идти на первые в моей жизни экзамены. Однако, когда начался письменный экзамен по русскому языку – изложение по рассказу Толстого «Акула», страх куда-то прошёл, я увлёкся и писал с интересом. Таким образом, я перешёл первый официальный учебный рубеж, получив право писать в анкетах, что имею начальное образование.
Кстати, с течением лет становилось легче с учебниками. Уже в 5-м классе выдавали по учебнику на 2-3 человек. А позже учебники в школе накапливались, использовались прошлогодние и поступали новые, так что мы были почти полностью ими обеспечены. А мне, как отличнику, при распределении обычно доставались самые свежие.
5-й класс. Екатерина Ефимовна
5-й класс – это была совсем другая жизнь. Много новых предметов. А главное – по каждому из них свой учитель. (Раньше в классе была одна учительница).
Классным руководителем была учительница русского и украинского языка и литературы Екатерина Ефимовна Федосеева. С ней нам очень повезло. Это была пожилая (по моим тогдашним представлениям) серьёзная женщина, интеллигентная, педагог старой закалки, казалось, такие должны были преподавать в гимназиях. Вряд ли можно сказать, что ученики её любили, поскольку наши отношения были лишены эмоций, но, безусловно, уважали, были уверены в её знаниях и справедливости. Моя мама сразу с ней познакомилась, а потом даже как-то подружилась. Екатерина Ефимовна стала бывать у нас в доме, разговаривала в основном с мамой, но иногда и со мной. Дружба мамы с учительницей не очень меня радовала – это как-то не соответствовало моим представлениям о необходимой дистанции в отношении с учителями, да и товарищи могли не одобрить.
Муж Екатерины Ефимовны тоже был учителем нашей школы и преподавал математику – правда, не в нашем классе. Это был высокий мужчина, тоже пожилой, лысый, но с усами, за что получил прозвище Кот. И вот однажды мой друг Олег Губанов сказал свежую новость: «Знаешь, Кота арестовали». Я опешил: «За что?» – «Так и надо, он наших людей продавал». – «Как продавал?» – удивился я, восприняв последние слова буквально. Но, разумеется, никакой информации по этому поводу Олег не имел, и его слова означали просто выражение доверия органам и осуждение арестованного. Мне показалось, что я сразу ощутил, как поникла Екатерина Ефимовна, и я проникся сочувствием к ней. «Пусть бы она к нам почаще ходила», – подумал я. Но как раз ходить к нам она теперь стала реже. К чести моей мамы, она после этого вместе со мной побывала у Екатерины Ефимовны. (Нужно знать степень её запуганности, чтобы оценить этот шаг). Мне запомнилась моя учительница, вся опустошённая, в маленькой комнатке, откуда, казалось, только что вынесли покойника.
Другие учителя
Запомнил я немногих из учителей.
Вот ещё один из них – учитель математики по фамилии Меламед. Собственно, эта фамилия прекрасно могла бы быть и прозвищем, но прозвали его Руб-Пять. Прозвали за сильную хромоту. Когда он шёл по коридору, мы слышали печатающиеся шаги и отчётливо различали: Руб – Пять – Руб – Пять… Руб-Пять был невысоким, но крепким мужчиной, с явно семитской внешностью, характерным акцентом и не очень правильной русской речью. Свой предмет он знал и объяснял хорошо, а ученики его побаивались. Не помню, чтобы он к кому-нибудь придирался и портил жизнь, но держался строго и ещё более строго ставил оценки. Журнал пестрил двойками, впрочем, довольно справедливыми. Своё знакомство со мной он начал с того, что выставил кучу четвёрок. Когда к нему прибежала моя испуганная мама, он её успокоил: четвёрка – очень приличная оценка, он и сам знает математику на четвёрку, а на пятёрку её знает только Господь Бог. Впрочем, через некоторое время он, по-видимому, решил, что в овладении математикой я приближаюсь к уровню Господа и стал мне иногда ставить пятёрки, перенося их в четвертные и годовые оценки.
Выплывают передо мной лица и других учителей, у некоторых могу вспомнить имена-отчества или фамилии. Но трудно вспомнить о них что-нибудь, достойное упоминания.
Вот разве что учительница немецкого языка Эмилия Адольфовна. Старушка – божий одуванчик, кажется, подуй – и улетит. Как она только сохранилась после всех этих депортаций и оккупаций? К чести моих соучеников, никто из них никогда не попрекнул бедную старушку немецким происхождением, что вполне бы соответствовало общему стилю тех лет. Помню, как она радовалась, когда было объявлено об образовании ГДР: «Я же говорила! Я же ожидала!» Радовалась осуществлению своей мечты о том, что вместо Германии гитлеровской мы все увидим Германию нашу, хорошую, что можно будет уже не стыдиться и не бояться быть немцем. Что же касается самих уроков немецкого, то на меня незабываемое впечатление произвел лозунг, прочитанный на первых страницах моего первого учебника: “Es lebe unserer Fьhrer Genosse Stalin!” Этим подтверждалось, что товарищ Сталин является нашим фюрером, что мне показалось в высшей степени справедливым.
Школьные товарищи
Но хватит об учителях – расскажу о школьных товарищах.
По внешним предпосылкам отношения с ними у меня должны были бы складываться не слишком хорошо. Большая разница в возрасте, и не в мою пользу. Я был на полголовы ниже их и заметно слабее физически, а в этом возрасте это существенный минус. Я был примерным учеником и отличником, а лихие хлопцы бравировали пренебрежительным отношением к школьным наукам. К тому же я весьма не любил давать списывать – дескать, это нечестно. Я был домашним мальчиком, почти не выходившим за ограду своего двора, а хлопцы носились целые дни по городу и парку, не пропуская чужих садов и огородов. Наконец, я не курил и не употреблял грубых ругательств. (Единственным пороком, в котором я не отставал от сверстников, была выпивка).
И, несмотря на всё это, во всех детских коллективах у меня были отличные отношения с ребятами, я считался хорошим товарищем, ни с кем не конфликтовал (за редкими исключениями, о которых позже).
Вообще у ребят было чутьё к тому, как ты получаешь знания. Они не любили зубрилок, но вполне уважали того, кто учится естественно и с интересом. Характерны дававшиеся мне прозвища. В 5-м классе меня прозвали Философом – ребята только что познакомились с этим понятием в курсе истории древнего мира. А в 7-м я уже был Академиком.
Олег Губанов и Коля Феклушкин
В каждом из мест, где я жил в детстве, у меня было несколько друзей – без этого я как-то и не представлял жизни. С довольно раннего времени эта дружба носила духовный характер – хотелось обсудить прочитанные книги, поделиться политическими взглядами, что по тому времени было небезопасно. По мере взросления это становилось всё серьёзнее. И сейчас я вспоминаю своих детских друзей с благодарностью. Не представляю, как бы мне жилось без общения с ними. Но, тем не менее, ни с кем из них у меня никогда не сохранялось связей. Уехал – потерял старых друзей, нашёл новых. Такая непрочная дружба.
В белоцерковской школе у меня было двое друзей. Оба они приехали в наши края издалека: упоминавшийся Олег Губанов – из Баку, а Коля Феклушкин – откуда-то с российского севера, условно говоря, из-под Архангельска. Выглядели они по-разному: Олег – красивый, тонкий и смуглый, а Коля – несколько увалень, медлительный, но способный иногда приходить в ярость (что мне случалось испытать и на себе). Каждый из них тосковал по своим местам и расписывал их прелести. По рассказам Олега я представлял себе Баку как райское место, с морем, солнцем, разноплеменным народом. Не случайно именно Олег познакомил меня с Александром Грином, дав почитать его книгу. А Коля, как человек, тоже близкий к морю, хотя и другому, увлекался Джеком Лондоном. Помню, прочтя «Морского волка», мы с ним спорили о Вульфе Ларсене: для Коли он был идеальным героем, я же его осуждал за позицию одинокого волка, презрение и пренебрежение к другим людям. Почему-то в памяти Коли его места представлялись как очень богатые: «Ну, если у нас появится нищий, ему все так всего надают».
Олег был, по-моему, единственным школьным товарищем, бывавшим у нас дома. Мама питала к нему некоторую слабость, норовила получше накормить, что было делом явно не лишним. Зачастую он доедал свою порцию с трудом, приговаривая: «Чем добру пропадать, пусть утроба лопнет». А мама радовалась и ставила его мне в пример.
Школьная жизнь
Что мне вспоминается из школьного товарищества и школьной жизни той поры? Плохого, каких-либо признаков испорченности не могу вспомнить. Ну, курили, ну, сквернословили. Воровали морковку, и один раз даже я принимал в этом участие и чуть не попался. Вот и все грехи моих товарищей.
В те годы провинциальная школа имела одно преимущество: нас миновало глупое нововведение раздельного обучения. Мы учились вместе с девочками и тем самым оказывались в более естественной и здоровой моральной атмосфере. При всей показной грубости моих товарищей никто из них не решился бы выругаться при девочке. Отношения были чисто товарищеские, конечно, зачастую окрашивающиеся детской влюблённостью. Могли написать любовную записку. Иногда мальчик «дружил» с девочкой – это значило, что он провожает её до дома или идёт с ней в кино. Возможно, кому-нибудь случалось поцеловать девочку, но счастливец не позволил бы себе нескромность сообщить об этом приятелям.
На переменах мы веселились. Вдруг увлеклись турнирами – это было уже в 6-м классе, при изучении истории средних веков. В турнире должны были участвовать четыре человека – два коня (лошади) и два рыцаря. В роли лошадей нередко выступали и девочки, но уж рыцари были обязательно мальчики. Я на роль коня не годился по общей малости, так что мне доставалась роль рыцаря. Цель игры проста – стащить противника с коня; его можно было тянуть или толкать.
Время от времени в школе устраивались вечера. Помню маскарад, на который я нарядился девочкой в национальном костюме. Дело было зимой, а шёл я в этом наряде прямо из дому, то есть довольно издалека, папа и мама меня сопровождали. Ноги в чулках сильно мёрзли, и я долго удивлялся, как женщины ходят при таком морозе. Зато был вознаграждён тем, что меня в маске ребята не сразу узнали.
Воспоминание же о другом школьном вечере меня совсем не красит. Как у нас нередко случалось, вечер кончился выпивкой. Для этого мы, ребята и несколько девочек, уже ночью пошли в соседний парк, расположились на траве, достали напитки. Через какое-то время я отключился и свалился в кусты. Мои спутники оказались крепче меня. Когда пришло время уходить, они взяли меня под руки и повели. А уже у самой школы сдали родителям, которые, обеспокоенные моим долгим отсутствием, отправились на поиски. Можно представить, какой нагоняй я получил и как мне было стыдно.
Как я тонул
Парк, о котором я упомянул, был знаменитая Александрия. Сейчас довольно известный и приведенный в порядок, в то время он, естественно, был совершенно запущен – так, лес с несколькими сломанными статуями. Парк находился недалеко от школы. Мои школьные приятели посещали его довольно часто, а я мог сбегать с ними редко – когда отменялись какие-нибудь уроки.
Один из таких выходов надолго врезался в память. Мы пошли на реку (Рось), где мои приятели тотчас бросились в воду. Я же, не умея плавать, остался на берегу. Они звали меня на другой берег, и на мои объяснения кто-то из них легкомысленно предложил: «Да ничего, держись за меня, я тебя перевезу». Тут уж струсить было неловко, я ухватился за плечи предложившего, и он поплыл. Рось в этом месте совсем не широка, до другого берега было рукой подать. Но на первых же метрах меня охватил страх, я стал барахтаться, чтобы удержаться выше над водой, и, естественно, при этом топить компаньона. Тот пробовал меня увещевать, а затем просто нырнул, оставив меня идти ко дну. Там бы мне и остаться, но, на моё счастье, меня подхватил и оттащил к берегу другой из одноклассников, довольно крепкий парнишка Валя Сикачин (уж его-то я запомнил). Стоит ли говорить, что мои родители так никогда и не узнали об этом эпизоде.
Вынужденный отъезд
Наша жизнь в Белой Церкви окончилось таким образом.
У папы всё хуже складывались отношения с его директором. (К слову, директорами всегда были коммунисты). Причина обычная – директор постоянно пытался провести какие-то махинации, а для этого нужно было искажать отчётность; папа не соглашался. Конфликт перешёл в открытую стадию, хотя, конечно, истинная причина не афишировалась. Выглядело это так, что директор и главный бухгалтер не сработались. Как бы не сошлись характерами, дело житейское. У главка на случай подобных конфликтов существовало стандартное решение: враждующие стороны разводились по разным коллективам; чаще всего директор оставался на прежнем месте, а главбуха переводили на новое. Так было и на этот раз: папу перевели на Фастовскую нефтебазу. Что же касается директора, то насколько я помню по рассказам, поначалу ему повезло – следующий главбух оказался более сговорчивым; но, в конце концов, такая сговорчивость довела обоих до суда. Впрочем, возможно, это произошло с другим из папиных директоров.
Глава 5. Фастов
Фастов – небольшой городок между Белой Церковью и Киевом, в 60 км от Киева. И в то время, и сейчас известен он главным образом большой узловой железнодорожной станцией.
Мы переехали в него осенью 1948 года и прожили около полутора лет. Таким образом, проучился я там с начала 8-го до средины 9-го класса. Срок недолгий. И хоть возраст у меня в то время был вполне сознательный, в памяти сохранилось мало: большинство того, что вспоминаю из детства, относится то ли к предшествующей Белой Церкви, то ли к последующей Смеле.
Дом и двор
Конечно, и здесь жили мы на нефтебазе. Только её вид и расположение были совсем другими. Белоцерковская нефтебаза располагалась в населённом районе, и наше подворье имело вид сельской усадьбы. А Фастовская была в сосновом лесу, за городом, довольно далеко от всякого жилья и даже от железной дороги, с которой соединялась специальной веткой. Наш двор в Белой Церкви вспоминается мне залитым ярким солнцем, а в Фастове – в густой тени. Впоследствии мне пришлось повидать немало лесов. Разные они бывают. Но этот был каким-то неинтересным и неприветливым. В то время у меня и мысли не было, что надо бы его получше исследовать. Не было такого обычая и у родителей. Так за всё время я и не выходил в лес за пределы территории нефтебазы, кстати, довольно большой.
Нефтебаза была новая, кончали её строить уже при нас. В частности, к нашему приезду ещё не построили уборную (после Киева все наши уборные были дворовые), и в первые недели, если не месяцы приходилось бегать в лес. Судя по всему, эта нефтебаза была менее значительной, чем Белоцерковская. Если в Белой мне вспоминается постоянное движение машин и подвод, то здесь тишина и преимущественное бездействие.
Тюрьма
Жизнь в Фастове для нашей семьи имела один существенный недостаток. Нефтебаза была маленькой, штаты полагались меньшие, в частности, в бухгалтерии – только два человека: конечно, папа – главбух, а в помощники ему определили Катю. Маме пришлось искать работу. Найденное место работы оказалось достаточно экзотичным: она устроилась бухгалтером в тюрьму. Конечно, это была обычная уголовная тюрьма. Меня очень шокировало, что мама оказалась, хотя и в невинной роли, причастной к карательной системе. Я с жадностью прислушивался, не услышу ли чего о жизни в тюрьме, но мама, по-видимому, и сама мало знала, а если и знала, то не хотела меня травмировать подробностями. Только один раз она рассказала, что была попытка побега, но убежать далеко не удалось, беглецов поймали и избили. Я, конечно, был в ужасе и полностью сочувствовал беглецам, как и всем заключённым.
В это же время я столкнулся, хотя и издали, уже с настоящим представителем карательной системы. К директору нефтебазы по фамилии Кишко, длинному, нескладному и мрачному человеку, напоминающему фельдкурата Отто Каца на иллюстрациях Бориса Ефимова, и, кстати, тоже еврею, приехал на побывку сын с женой и дочерью. Я услышал, что этот сын – следователь, и с ужасом всматривался в человека, способного пытать заключённых, что представлялось мне главной функцией советского следователя. С дочерью же его, крохотной хорошенькой девочкой лет четырёх, охотно игрался, насколько позволяла разница в нашем возрасте.
Папина операция
Главным событием во время нашей жизни в Фастове была папина операция.
Я упоминал, что ещё в Киеве во время оккупации у папы обнаружилась язва желудка (точнее, язва двенадцатиперстной кишки). Он промучился с ней лет 5 или 7. Значительная часть моего детства прошла в сопровождении этой болезни. У него часто бывали приступы, он приходил из конторы совершенно зелёный и валился на кровать. Такой приступ мог продолжаться несколько дней. Потом папе легчало, он вставал и снова выходил на работу. Залеживаться он себе не позволял – как же, необходимо во время сдать отчёт. Во время этих приступов всё в доме притихало, и мы, затаив дыхание, ждали их окончания.
В попытках лечения обращались к разным народным средствам. Так ещё в Киеве мама раздобывала собачий жир (кто его только изготавливал?), якобы помогающий при таких болезнях. От папы скрывали его происхождение, называли жиром какого-то дикого зверя (типа бобра), но от меня секрета не делали.
С того времени, как жизнь у нас несколько наладилась (т. е. года с 45-го), папе пытались устроить какую-то диету. И, по крайней мере, один раз, в 47-м году, удалось достать путёвку на лечение в Кисловодск. Там папа, наконец, немного отдохнул, побывал в интересных местах, вернулся загорелый, весёлый и довольный, и мы радовались за него. Но всё это нисколько не помогло от болезни.
Не помню, когда он начал ездить в киевские больницы, чтобы показаться врачам. И вот после одной такой поездки сообщил, что ему рекомендуют лечь на операцию. Это предложение папа с мамой долго обсуждали. В нашем представлении и сама папина болезнь, и возможная операция были смертельно опасными. Предложения об операции для нас прозвучало так же, как сегодня звучит предложение об операции рака или на сердце. Но, в конце концов, решили, что это единственный выход, дающий какой-то шанс. Папу собрали, и он в сопровождении мамы поехал в Киев ложиться в больницу.
День операции был известен заранее. Я помню, как в этот день все мы нервничали и не могли найти себе места. Но не помню, как пришло известие о результате. По логике вещей, мама могла бы позвонить на нефтебазу. Запомнилось же мне уже её возращение с сообщением, что операция прошла хорошо. Какой это был восторг! С плеч свалилась гора: папа будет жить! папа будет здоров! Как всегда после поездок в Киев, мама привезла мне новую книгу. Это были «Былое и думы». Книга так и осталась в моей памяти связанной с успешной папиной операцией.
Интересно повёл себя Феб. В день операции он был испуган, забился под кровать, и никакими усилиями не удавалось уговорить его поесть. И вот, наконец, вылез из-под кровати и с аппетитом поел. Потом оказалось, что это произошло в тот момент, как окончилась операция. И как он радовался возращению папы на этот раз!
Папа возвратился примерно через неделю. Он выглядел измученным, похудевшим, но бодрым и оптимистичным. Операция была сложной, продолжалась около двух часов, оперировал Пхакадзе, известный киевский хирург. Папа всю оставшуюся жизнь вспоминал его как своего спасителя. Когда мне сейчас случается бывать на Байковом кладбище, я прохожу мимо его памятника и склоняю голову. Папа охотно рассказывал о лечении и самой операции. Он изображал Пхакадзе, пытаясь передать грузинский акцент, и я видел перед собой крупного весёлого человека, шутившего с папой. Когда его пытались как-то, очевидно, скромно, отблагодарить, он отшутился и категорически отказался. На прощание Пхакадзе дал разные советы, и среди них – категорический запрет курить. Раньше папа курил довольно много, я помню его с постоянной папиросой. Но этому совету он последовал и в рот папиросу больше не брал. В нашей семье осталась курящей только мама, а курила она так же много. Кстати, приучил её к курению сам папа в годы молодости.
Было трудно поверить, что папа совсем здоров и эта болезнь не вернётся. Тем не менее, так и случилось.
Дядя Евстраша
Другое яркое воспоминание – приезд дяди Евстраши. Он вдруг появился в нашем доме, аккуратный, подтянутый, во френче, галифе и унтах. Острая бородка, очки, смотрящиеся как пенсне. Если отвлечься от одежды, облик совершенно не современный, чеховский интеллигент, из работающих интеллигентов, знающих и делающих дело. Чувствовалось, что это серьёзный человек, живущий по твёрдым принципам. Кажется, он только недавно вернулся в европейскую часть Союза, и одна из первых поездок была к нам. Очень хотелось узнать о его жизни в ссылке, но было понятно, что это не обсуждается. Со мной он тоже общался серьёзно, как со взрослым, я с ним охотно рассуждал на разные темы. Хотелось бы теперь вспомнить эти разговоры. Но я твёрдо помню общее впечатление: дядя Евстраша, как и папа, правильные люди, вот таким и нужно быть. Прогостил он у нас одну или две недели.
Школа
В Фастове я учился в железнодорожной школе. Нынешний читатель может неправильно понять это название, приняв её за что-то вроде профтехучилища железнодорожного профиля. На самом же деле это была обычная школа с обычной программой, но опекаемая железнодорожным ведомством. Последнее, как ведомство богатое, позволяло себе проявлять заботу о своих сотрудниках и содержало за свой счёт школы, предназначенные для их детей. Такие школы обычно лучше оборудовались, труд учителей лучше оплачивался, и вообще они считались своего рода привилегированными.
Школа моя располагалась прямо напротив железнодорожного вокзала. От нашего дома первые минут 10 нужно было идти по грунтовой дороге, дальше до самого вокзала по железнодорожной линии. Чтобы было интереснее, я чаще всего шёл по рельсам, иногда перепрыгивая с одного на другой. Тем же путём ходили и другие школьники, правда, их было не так много. Приходилось уступать дорогу поездам, которые напоминали мне об этом гудком, но в это время дня они бывали довольно редко – мне встречались один или два. Пройдя мимо вокзала, я поднимался на пешеходный мост над путями, и сразу же за ним была школа. Действительно, самое убранное и аккуратное здание из трёх моих школ. А через этот мост мы бегали в здание вокзала на переменках, покупали там мороженое, а я ещё и брошюрки из Библиотеки журнала «Красноармеец» и книги Рижского издательства. Занимался я всё время на второй смене, так что шёл в школу днём, а возвращался уже вечером. Дорога в одну сторону занимала около часа.
Учителя
Из учителей заслуживают упоминания несколько.
Прежде всего – учитель математики Рогульский. Это был один из самым симпатичных за всё мое школьное время учителей, и, тем не менее, его имени и отчества я не запомнил. Частично моя симпатия была вызвана тем, что он напоминал папу – такой же худой, с маленькими усиками, только чуть повыше и постарше. И ещё – такой же серьёзный, интеллигентный, вызывающий доверие, в общем – такой же настоящий. Он прекрасно преподавал, и чувствовалось, что любит своё дело – и математику, и профессию учителя. Я уже доучивался последние дни перед отъездом, когда что-то услышал о дифференциальном исчислении и заговорил с ним об этом. На другой день он принёс мне популярный вузовский учебник. Почитав его пару вечеров, я узнал, что такое производная. А дальше читать было некогда, я вернул книгу в последний день, когда уже и не был на уроках, а только пришёл забирать документы.
С Рогульским связан один запомнившийся эпизод. Однажды нашему классу поручили ответственное мероприятие – обойти расположенные вдоль линии жилища железнодорожных рабочих (обходчиков, стрелочников и т. п.) и переписать детей школьного возраста. Цель обследования – выяснить, все ли они ходят в школу. Обследовалось полотно между Фастовом и Белой Церковью. Моей группе достался участок от середины пути до Белой, т.е. километров 15. Нас было человека три школьника, и с нами Рогульский. Я в это дело включился охотно. И в прекрасный летний день с удовольствием шёл вдоль полотна, пил вкусную колодезную воду, заходил и беседовал с «народом» (традиции почтения к которому успел перенять из литературы прошлого века). И уже возвращаясь, в вагоне услышал от Рогульского фразу, которая заставила меня призадуматься: «Смотрите, вот ведь как у нас заботятся о людях. Где ещё государство станет заботиться, чтобы все дети учились?» Это была едва ли не первая фраза с похвалой в адрес советской власти, в которой я увидел какой-то смысл; все предыдущие я сходу отметал как чистую демагогию. Наверное, сыграло роль и то, что услышал я это в неофициальной обстановке, от заслуживающего уважение человека, причём такого, который никогда в советской агитации замечен не был. И я подумал: а ведь и вправду, надо быть справедливым, и советская власть иногда делает для людей что-то полезное.
Русскую литературу преподавала Любовь Ивановна. Хотя она была молода (преподавала первые годы) и хороша собой, язык не повернётся назвать её молоденькой и хорошенькой. В этих словах есть что-то легкомысленное, и они никак не приложимы к моей бывшей учительнице, серьёзной, внимательной и тоже настоящей. Я к ней относился с пиететом и робким обожанием. Неординарным поступком с её стороны было то, что она, помимо школьной программы, провела несколько уроков, где знакомила с классиками мировой литературы. Неординарным ещё и потому, что в те годы всё зарубежное было под большим подозрением – начиналась борьба с космополитизмом. Один из уроков был посвящён Шекспиру, и я попросил у Любови Ивановны книгу – красивый томик с пятью пьесами, довоенное издание в оранжевом переплёте.
Интересной личностью был учитель украинской литературы и психологии – пожилой украинский интеллигент. О нём ходили какие-то глухие слухи, из которых я сделал вывод, что раньше он был научным работником, а теперь изгнан из науки по подозрению в украинском национализме. То ли в силу этих обстоятельств, то ли по природе он был человеком замкнутым, никаких контактов с собой не допускал. Судя по всему, он должен был хорошо преподавать украинскую литературу; однако, несмотря на это и на молчаливое уважение к нему, предмет меня всё же не заинтересовал.
От директора же школы осталось общее впечатление как о личности комической. Может, он у нас тоже что-то преподавал, не помню. Вида он был нескладного, с птичьим не блещущем интеллектом лицом. Ученики запоминали более или менее смешные его выражения и потом долго их повторяли. Так почему-то нас очень веселила фраза: «Ученик Лопата с лопатой в руках…». Это наш директор рассказывал об энтузиазме, с которым мы трудились на воскреснике.
Соученики
Что же касается моих соучеников, то, в отличие от Белоцерковской и Смелянской школ, у меня к ним не осталось тёплого чувства. Дурных тоже не осталось – так что, можно считать, никаких.
При моём появлении в классе наша классная руководительница, учительница химии и биологии, то ли посмотрев мои отметки, то ли послушав первые ответы, сказала: «О, у нас новый Богданович появился». Богданович был отличник, выбывший из класса незадолго до моего появления, признанный авторитет (не в нынешнем уголовном понимании слова) в глазах и товарищей, и учителей. Таким молчаливым конкурентом он и оставался для меня в глазах моих товарищей едва ли не всё время. По тому, что я слышал, он в отличие от меня, был парнем лихим и склонным к эксцессам, в общем «рубаха-парень», что товарищам импонировало, а учителями прощалось как причуды способного ученика. Среди его подвигов значился и такой, как соблазнение домработницы своих родителей, о чём ребята перешёптывались с одобрением, я же никак одобрить не мог и помалкивал.
Я тоже достаточно скоро завоевал авторитет в глазах товарищей, однако, признавали его не все. Создавалось впечатление, что в классе продолжается борьба за первенство, в которой я, помимо своей воли, участвую. Роль первого «авторитета» между убытием Богдановича и моим появлением пытался завоевать Лёня Стайнов, хромой молодой человек, выглядевший (а, возможно, и бывший) гораздо взрослее всех нас, уже бреющийся. Завоёвывал её он не академическими успехами, к которым был подчёркнуто безразличен (учился в среднем на четвёрки, но без труда), а некоторым общим стилем жизни, насмешками, цинизмом, как бы пародией на байронизм. Была у него и своя партия, группа поддержки. Вот моё-то появление и испортило его перспективы.
Не скажу, чтобы наш конфликт принимал какие-то драматические формы, – не говоря уже о драках. Но я всё время чувствовал на себе изучающий и критический взгляд и готов был услышать что-то нелицеприятное по своему адресу. Между нами шла пикировка, мы рисовали друг на друга (равно как и на других соучеников) карикатуры и писали эпиграммы. Помню одну довольно удачную в свой адрес. Свои неофициальные тетрадки, предназначенные, в частности, для этих целей, я иногда оформлял как печатные издания, указывая издательство: Госсмехиздат, Госсвистиздат. Одну из них я открыл стишком, в котором рефреном звучали эти названия. Лёня ответил на него пародией, выдержанном в том же размере:
«Паскуда, брось писать пасквили
И не расстраивай ребят,
Покуда морду не набили
За Смехиздат, Госсвистиздат».
Некоторый конфликт с товарищами возник у меня по другому поводу. Детский коллектив нередко выделяет из своей среды своего рода «козла отпущения», над которым становится принятым смеяться, далеко не безобидно, шпынять, так или иначе издеваться. В моих коллективах это случалось не так часто, но всё же случалось, и у меня каждый раз возникала потребность вступиться за преследуемого. В моём Фастовском классе среди ребят вообще были приняты шутки, лучше сказать, насмешки друг над другом, а наиболее неудачливые становились предметом постоянных насмешек. По-видимому, сказывалось влияние Лёни Стайнова. Предметами постоянных шуток почему-то были толстоватый еврейский парнишка Лёня Каботянский по прозвищу Бузя и уж совсем не еврей, а сын офицера Жора Скиданов. Каюсь, и я писал на них эпиграммы или придумывал истории. Но уж полностью затравленным бывал Перельсон (имени не помню), высокий и очень нескладный, всем видом, речью и манерами напоминавший отнюдь не еврея (разве что сильно присмотревшись в чертах лица можно было найти что-то еврейское), а забитого и придурковатого сельского хлопца. Его преследование меня тем более возмущало, что я видел в этом признак наступившей эпохи борьбы с космополитизмом, т.е. официального антисемитизма. Не берусь вспомнить, в чём проявлялась моя защита. Только однажды, когда Перельсона толкнули, он ударился, из носа пошла кровь и он заплакал (впрочем, уверен, что такой исход получился не нарочно), я бросился с кулаками на обидчиков. Последнее, впрочем, роли не сыграло, справиться с ними я бы всё равно не мог, да они и сами были огорчены случившимся.
К моему нынешнему удивлению, о моих фастовских соучениках вспоминались всё негативные факты. Можно было бы ожидать, что таким осталось и общее впечатление от них. Но это не так. Как сказал бы Воланд: «Люди как люди».
А дружил я только со своим одноклассником Эдиком Скалыгой, невесёлым бледным курносым мальчиком, выглядевшим чуть старше других. Я его выделил среди остальных, почувствовав, что с ним можно делиться критическими замечаниями в адрес советской власти. Помню, как мы гуляли и беседовали на берегу маленькой речушки Унавы, среди городских огородов. Помню, что был в гостях в его маленькой хатке. А вот содержания наших бесед хоть убей не припомню.
Об отношениях с девочками расскажу такой эпизод. Однажды ко мне подошла одна из них и сказала, что со мной хотела бы дружить Лида Рубинштейн. Эта Лида была вполне славная невысокая девочка, однако по скромности не очень заметная и потому не привлекавшая моего внимания. А влюблённым я себя считал в другую девочку, уж совершенно не помню, в какую. И я ответил очень серьёзно, что Лиду очень уважаю (эти слова я запомнил дословно), но моё сердце занято и тому подобное.
Отъезд
Завершилась же наша жизнь в Фастове по обычному сценарию: конфликт папы с директором Кишко, новое назначение, отъезд.
Глава 6. Смела
Смела – городок примерно в 200 километрах от Киева. В то время он входил в Киевскую область, но вскоре отошёл к вновь образованной Черкасской. А фактически по дальности расстояний и тогда находился вне сферы влияния Киева (если не считать административное подчинение). Киев был далёк и недоступен, в него почти никто никогда не ездил, да и оттуда никто не приезжал. Не ездили и мы (опять же, если не считать папиных служебных поездок), не ездили к нам – даже Юра Олифер ни разу не наведался. В общем, другой край.
Приехали мы в Смелу где-то в начале 1950 года. Для меня это была середина 9-го класса. В Смеле я окончил школу, прожив здесь, таким образом, полтора года – до самого отъезда в Москву, в университет. Родители прожили годом дольше. Но об этом рассказ впереди.
Переезд
Сам переезд происходил довольно экзотически. Мы погрузились сами и погрузили в товарный вагон не только вещи, но и кое-что из домашней живности, во всяком случае, корову Любку. Сами устроились там же. Ехали малой скоростью, так что дорога заняла, по меньшей мере, дня три. Была зима, и обогревала нас печка-буржуйка.
Дом и моя комната
Любопытно, что, в отличие от предыдущих мест, у меня не осталось никаких воспоминаний о дворе Смелянской нефтебазы. Разве то, что у нашей двери висел гамак. В остальном же этот двор не представлял для меня интереса – заходишь в калитку, и домой.
Главной же для меня особенностью нашего дома было то, что здесь у меня была отдельная комната. (Ага, значит, к этому времени бабушка Уля уже от нас переехала). Я впервые получил возможность оставаться наедине с собой и был этим счастлив. Никто на тебя не смотрит, никто не заговаривает, никто не помешает, когда ты читаешь или думаешь. Потребность в тишине и одиночестве возникла во мне в детстве, впоследствии только усиливалась, и я часто страдал, когда её не удавалось реализовать.
В связи с моей комнатой вспоминается несколько эпизодов. Родители сочли нужным повесить в ней портрет Ленина – большую репродукцию известной фотографии: Ленин читает газету «Известия». Против Ленина как такового я ничего не имел, но решил повесить вместо него портрет своего кумира – Льва Николаевича Толстого. Без труда приобретя такой портрет в книжном магазине, я его в той же рамке и повесил. Родители долго спорили со мной. Как я понимаю, их больше всего беспокоило, как бы кто из бдительных посторонних не заметил этой замены и чего не заподозрил. Но я всё-таки настоял на своём.
Второй эпизод – прочтя «Что делать», я оказался под впечатлением от способов закалки, применяемых Рахметовым, и решил последовать его примеру. Уж если он так готовился к борьбе с царской властью, то не меньших испытаний я должен был ждать от власти советской. И вот я стал укладываться спать не голом полу. Подстилки не полагалось, одеяла тоже. Однако, так продолжалось недолго – вскоре меня застукала мама, и я был вынужден (не без тайного удовольствия) снова спать «как все люди».
Иногда зимой я любил сбегать в школу без пальто, и меня за это тоже ругали. Правда, такое бывало в не слишком холодные дни – при температуре где-то около нуля.
На реке
Я рос, и расширялись границы моей свободы. Конечно, всё это происходило не само собой, а в результате моих длительных усилий. В Смеле я наконец получил свободу передвижения. И использовал её, проводя летом все дни на реке.
Лето между 9-м и 10-м классом запомнилось мне как сплошной пляж. Утром я просыпаюсь, завтракаю – и сразу же на реку. Иногда иду туда с товарищами, но чаще один. Идти до неё около получаса, и всё по полотну железной дороги. Реку пересекает маленький железнодорожный мостик, прохожу его, раздеваюсь и плюхаюсь на песок. Река Чёрная совсем маленькая, узкая и мелкая. Чтобы переплыть на другой берег, нужно зайти по шею, а затем проплыть всего несколько десятков метров. Сначала я боялся – вспоминался белоцерковский опыт – и долго барахтался у берега, учась плавать «по-собачьи». Наконец, к середине лета кое-как обучился и стал переплывать на другой берег; правда, бульших успехов на этой реке мне достичь не удалось. И вот я барахтаюсь, переплываю туда и назад и с удовольствием валюсь на песок, достаю книгу и читаю. Солнце печёт вовсю, я уже загорел дочерна. Когда становится жарко невмоготу, снова бросаюсь в воду. И так весь день. Рядом плещутся пацаны, в основном младше меня. Я завидовал тому, как они здорово плавают. Приходят и взрослые парни. Хотя я с ними виделся каждый день, никаких контактов не завязалось. Они почему-то даже не смеялись надо мной, хотя мои попытки плавать явно этого заслуживали. При этом держались они довольно прилично, по-видимому, потому что их главарь пытался ухаживать за приходившей на пляж приезжей учительницей, на мой взгляд, не слишком молодой и не интересной. А то они брали лодку и уплывали в заросшие камышом заводи, из которых вытекала наша река. Вокруг был сосновый лесок, но он не вызывал у меня интереса – только однажды я пытался его немного осмотреть.
Так лениво и беззаботно прошло это лето. Мне такое препровождение времени долго представлялось идеалом летнего отдыха, и позже, в Москве, его здорово не хватало.
Поездка в Черкассы
Это лето ознаменовалось одной увлекательной экскурсией. Мы с моими приятелями Стасиком и Аликом решили съездить в Черкассы. По железной дороге от Смелы до Черкасс около полусотни километров. Моя нефтебаза находилась как раз напротив железнодорожной станции. Мы уселись на траву и стали ждать попутного поезда – товарного, конечно. Когда поезд подошёл, взгромоздились на платформу с брёвнами. Наиболее интересным была сама поездка на платформе: брёвна катались, приходилось от них уворачиваться. Не скажу, чтобы мы много увидели в Черкассах: ну, посмотрели на Днепр, там он, действительно, широк. Возвращались примерно таким же способом, только теперь на нас летело особенно много паровозной сажи, так что к концу пути мы напоминали негров. Дома я должен был не без робости рассказать об этом приключении, мама пришла в ужас, и мне здорово попало.
Лыжи
Другое яркое впечатление связано уже с зимой. Именно в этих местах я впервые увлёкся лыжами. Сравнительно недалеко от нашего дома были горки, казавшиеся очень высокими и крутыми. Кататься одному было бы как-то неинтересно, и мы обычно выбирались компанией – чаще всего с тем же Стасиком. Спускаться с горок – занятие для мальчишек азартное. Правда, мне это не очень удавалось, наверное, хуже, чем моим товарищам. Стасик это отметил в издевательских стишках:
«Уж Миша наш бравый высоко навис
И вдруг, как полено, срывается вниз…
Упал, поднялся, чудо – дышит…»
Падал я и вправду много, но это не умаляло удовольствия.
Стасик Буржинский
Пора, однако, представить Стасика. Станислав Буржинский был моим одноклассником и наиболее близким из друзей. Невысокий, но хорошо сложенный, красивый смуглый мальчик. Наделённый живым и критичным умом, он, на редкость по тому времени, был как будто совсем не затронут советской идеологией, и потому с ним было легко рассуждать на любые темы. Правда, наши идеологические предпочтения заметно различались. В общетеоретическом плане он был склонен исповедовать право силы и, познакомившись с Ницше, отзывался о его идеях весьма одобрительно. Впрочем, он не переносил эти идеи на частную жизнь и никоим образом не пытался играть роль «сверхчеловека».
Стасик горячо выступал за территориальную экспансию нашего государства. Но любопытно, что всё это у него получалось как-то минуя официальные идеологические установки, безотносительно к советскому патриотизму, идеалам социализма, коммунизма и тому подобному. Создавалось впечатление, что речь идёт вообще не об СССР, а о каком-то другом государстве, дореволюционной России что ли. По этой причине я, будучи противником этих взглядов, относился к ним достаточно терпимо. Подразумевалось, что мы оба не стоим на стандартной советской платформе, что уже делало возможным дружеские дискуссии.
Мы любили поддевать друг друга шуточными стишками, один из которых я привёл. Как-то в одном из них я зарифмовал «Буржинский» и «характер свинский». Стасик ответил рифмой более рискованной: «Белецкий» – «человек антисоветский». Разумеется, этот стишок не предназначался для широкого тиражирования.
Пожалуй, о Стасике лучше сказать более общо: на нём было написано, что он вне этой системы, не признаёт её правил и ценностей, и именно это меня в нём привлекало. Начиная с малого – он был совершенно безразличен к школьным оценкам. Будучи мальчиком умным и развитым, не учил уроков, и на него так и сыпались двойки. Однажды он не написал домашнее сочинение. Учительница поставила ему двойку и велела написать к следующему разу. Он не написал и снова получил двойку. Так продолжалось несколько раз, пока он не прекратил это оригинальным образом: написал сочинение на одном листе на перемене перед уроком, снова получил двойку, но на этот раз последнюю.
Впрочем, в безразличии к школьным оценкам он не был уж совсем оригинален – такое отношение иногда встречалось, правда, у ребят куда менее способных и интересных. Существеннее были его общие жизненные планы. В отличие от всех нас, чьи планы так или иначе соответствовали взрослым представлениям о «реальной жизни», Стасик собирался после окончания школы просто поездить по стране и посмотреть.
В то время казалось, что ему предстоит яркая и интересная жизнь. И чувствовалась в нём какая-то литературная жилка. Мне казалось, что из него мог бы выйти своего рода Максим Горький, хотя и много меньшего масштаба – конечно, если и насколько позволит советская действительность, формированию новых горьких не способствующая. После школы он, действительно, стал жить в соответствии со своими жизненными планами: переезжал с места на место, бродяжничал, нанимался на какие-то случайные работы. Я некоторое время переписывался с ним и получал письма с небольшими рассказами о его бродяжничестве. Последние же сведения о нём, услышанные через несколько десятков лет, были неутешительными: он вернулся в ту же Смелу, занимался неизвестно чем, понемногу спиваясь. (Впрочем, точность этих сведений я гарантировать не могу).
Другие друзья
Обычно в ученическом коллективе образуются более тесные компании. В нашей компании нас было четверо.
Помимо нас со Стасиком, в неё входил ещё Игорь Шайдеров. Мне помнится, что родители Игоря – офицерская семья – жили где-то далеко, а сам он приехал недавно, жил здесь у родственников, и жил довольно бедно. У Игоря было чёткое жизненное устремление – он хотел стать офицером. И уже сейчас выглядел как будущий офицер, подтянутый, высокий, широкоплечий, физически развитый. Всегда в старенькой, но чистой и выглаженной гимнастёрке. Это уже был не мальчик, а почти взрослый юноша, подтянутый и собранный не только физически, но и психологически. На общеидеологические темы я с ним, в отличие от Стасика, специально не говорил. Не из опасений, их как раз не было, а чувствовалось, что эти темы его не очень интересовали. Хотя вообще он был парнем интеллектуальным, с широким кругом интересов, включающим литературу. Показательно, что любимым его литературным героем оказался Фрэнк Каупервуд из Драйзера. (Проинформирую не читавших: это успешный миллионер, волевой, яркий и интеллектуальный человек). Учился Игорь добросовестно, отличником не был, но имел твёрдые четвёрки. Окончив школу, он таки поступил в какой-то военный вуз. У меня нет сомнений, что он стал хорошим офицером, – побольше бы таких было.
Четвёртый член нашей компании – Юра Кочубей – был наименее яркой личностью. Добрый, спокойный, флегматичный парень. Он не был активным участником интеллектуальных бесед, но ведь наше общение к ним не сводилось – были разные игры, прогулки, лыжи, наконец, просто праздная болтовня. Мы любили слегка подшучивать над Юрой, в духе, например, таких стишков:
И в каждой из его историй
(Они одна другой глупей)
Трагикомические роли
Играл какой-то Кочубей.
Бедняга в первом был рассказе
В какой-то шутке уличён,
В другом ошибочно наказан
И, наконец, избит в шестом.
Юра не обижался.
Уже в независимой Украине я услышал имя известного дипломата, одно время посла во Франции – Юрий Иванович Кочубей. И сразу возник вопрос: уж не наш ли это Юра (он тоже Иванович)? До сих пор не знаю – биографических данных дипломата найти не удалось. Но больно трудно представить Юру сделавшим столь блестящую карьеру.
Мы называли свою компанию по первым буквам фамилий – БеБуШаКо (иногда – БеБуШаКоЗе, учитывая Алика Зелененко; Алик был примыкавший к нам старый друг Стасика и Юры, уже не учившийся в школе).
Школьная жизнь
В нашей компании не было девочек, и это было в обычаях того времени. Мальчики дружили и собирались в компании отдельно, девочки отдельно. Более тесных и дружеских – в буквальном смысле – отношений между мальчиками и девочками я в свои школьные годы не припомню. Хотя мы легко общались друг с другом, и наши отношения можно было назвать добрыми товарищескими.
А «дружить» с девочкой означало нечто совсем другое, я уже писал об этом. Употреблялось это слово в совершенно платоническом смысле. И такая «дружба» была достаточно редким явлением. Мне за все школьные годы так и не пришлось «дружить», хотя всегда на примете была девочка, с которой «дружить» очень бы хотелось.
Отношения с другими школьными товарищами, в отличие от Фастова, у меня были ровными. Вспоминается из них немного. Разве что забавный эпизод. В одном из своих шуточных стихов о Стасике я описывал его стрельбу в тире, когда все пять пуль ушли неизвестно куда:
В тот день по району (несчастный район)
Нашли, между прочим, пять трупов…
Нет, я не виню его в гибели их,
Но, может, пустил он недаром
Пять маленьких пуль, пять проклятий своих,
Пять, видно, смертельных ударов.
(Конец украден из стиха Бажана, известного мне по учебнику: „П’ять куль маленьких, п’ять проклять своїх”.) Комсорг класса еврейский юноша Асик Коморник, ознакомившись со стихотворением, указал мне на его идеологическую невыдержанность: как же так, комсомолец Буржинский убил пять человек, а я его даже не виню. Эта реплика хорошо иллюстрирует воцарившуюся к тому времени атмосферу психоза и выискивания идеологических ошибок.
Другое воспоминание, и тоже смешное, связано с литературой. Наш класс во время изучения «Тихого Дона» вдруг увлёкся, о романе пошли бурные дискуссии. Главная проблема сводилась к следующему: является ли Григорий Мелехов положительным или отрицательным героем. Вопрос звучит довольно наивно, но нам такая постановка казалась правомерной и очень важной. После длительных дискуссий мы решили выяснить ответ у самого автора. При этом почему-то сочли уместным изложить свои сомнения даже не на листе бумаге, а на почтовой открытке (не много же там было мыслей) с убедительной просьбой их разрешить. Мы отправили эту открытку в станицу Вешенская Михаилу Александровичу Шолохову и долго ждали ответа, пока наше внимание не было отвлечено какими-то текущими делами.
А так шла обычная школьная жизнь. Все ребята вдруг увлеклись разными спортивными занятиями и играми. В коридоре стояли брусья, во дворе турник, и мы на переменах сразу бросались на них упражняться. Но больше всего увлекались играми – в «чехарду», «козла», «отмирного». В летнее время они полностью занимали наши перемены, особенно большие. Когда звучал звонок на урок, мы бросали игру и бежали в класс, естественно, всегда опаздывая, и учителя уже с этим примирились. Особенно интересной была игра в «отмирного». Один из участников («козёл») становился, сильно пригнувшись, на некотором расстоянии от фиксированной черты. Остальные должны были допрыгнуть до него, сделав определённое число прыжков от черты, а затем перепрыгнуть. Последним прыгал так называемый «отмирной»; место его приземления становилось очередной точкой для «козла». Последний определял, сколько прыжков до него можно сделать теперь, стараясь это число минимизировать. Если кто-то не соглашался, что за столько прыжков можно допрыгнуть, «козёл» должен был «доказать», т. е. самому это сделать. Так продолжалось до тех пор, пока всем удавалось перепрыгнуть «козла». А когда кому-нибудь не удавалось, он сам становился «козлом», а бывший «козёл» – «отмирным». При отталкивании от черты полагалось кричать: «Здоров, козёл!», а в момент прыжка: «Прощай, козёл!». Игра увлекательная. Мне она особенно нравилась потому, что я научился довольно хорошо прыгать и считался отличным игроком.
А после уроков наша компания увлеклась биллиардом. Рядом было какое-то клубное здание, и мы там проводили часы. На деньги мы не играли, но за каждую игру приходилось платить какую-то мелочь, и платил проигравший. Здесь нас поразил Игорь Шайдеров. С деньгами у него было туго, он не играл и часами простаивал, внимательно глядя на игру. Как будто учился теоретически. А в один прекрасный день сказал: «А теперь дайте мне». Взял кий и стал играть мастерски – после каждого удара шары шли в лузу. Убедившись таким образом, что не рискует проиграть, он стал играть постоянно. И практически не проигрывал.
Малиновский
Рассказ об учителях начну с нашего завуча, преподавателя истории и обществоведения (или как там это называлось) Петра Владимировича Малиновского. Он был удивительно похож на доктора Геббельса, каким тот изображён на фотографиях, а впоследствии в кино, – высокий, с высоким лбом, прилизанными кудрявыми волосами, выпуклыми бараньими глазами, и сильно хромой, так что при ходьбе качался из стороны в сторону. Главным различием между ними была слишком явная семитская внешность нашего учителя – впрочем, доктор Геббельс тоже мог бы сойти за еврея, но не настолько. Как и его арийский двойник, Пётр Владимирович тоже подвизался на идеологическом поприще – он запечатлелся в моей памяти как самый идеологически выдержанный учитель за все школьные годы, образец идеологической правильности. Начинал изложение урока, и на его лице появлялась непробиваемая убеждённость: «Как сказал Ленин, Россия была беременна революцией». (У меня небольшой шок, потому что слово «беременна» ещё не казалось мне вполне приличным).
Однако не в роли проводника линии партии наш завуч выглядел не таким твердокаменным. Однажды на уроке Стасик мне шепнул: «Посмотри, как он смотрит». Малиновский смотрел на одну из наших соучениц, отвечающую урок. Девица имела достаточно зрелые формы, была одета в летнее прозрачное платьице, и взгляд на неё учителя был довольно выразительным (мы так не смотрели). Другой случай был на вечеринке, где вместе с нами были и некоторые учителя, в том числе Малиновский. Когда кончились напитки, он подозвал кого-то из учеников, видом посолиднее, протянул бумажку в несколько червонцев и послал за бутылкой водки, которая вскорости и появилась. Так как характеристика моего завуча получилась не слишком симпатичной, уместно добавить, что лично против него я ничего не имею, – мне он не сделал никакого вреда.
С Малиновским связана и более серьёзная тема – моё знакомство с советскими выборами. На очередных выборах – уж не помню куда – избирательный участок, как обычно, размещался в школе. В этот день с утра всюду начали играть марши, а по радио сообщали об энтузиастах, которые пришли на избирательные участки ночью, за несколько часов до начала их работы. Я вместе с соучениками и учителями дежурил на избирательном участке в школе. Какую-то главенствующую роль при этом играл Малиновский, возможно, возглавлял избирательную комиссию. И вот примерно за час до закрытия участка он дал команду: «Довольно, довольно, пора сворачивать». Члены комиссии стали расписываться за немногих не проголосовавших избирателей, бросать бюллетени в урну. Потом начался подсчёт голосов. Бюллетени высыпали на стол, но их никто не считал, кто-то, едва ли не Малиновский, продиктовал нужные цифры, и работа была окончена. Я, конечно, заранее понимал, что выборы – это жульничество, но меня поразил слишком откровенный характер этого жульничества: наш учитель, внушающий нам принципы советской идеологии, так нагло, на наших глазах совершает подлог. В общем, впечатление было довольно ярким.
Нина Александровна
Об учительнице русского и украинского языка и литературы Нине Александровне могу сказать меньше. Это была немолодая женщина довольно обывательского вида. Как учитель по идеологическим предметам, она неизбежно должна была отдавать дань стандартной демагогии, но получалось это у неё не так нарочито, как у Малиновского, выпячивавшую свою идейность. Уроки русской литературы и у неё иногда переходили в интересные для нас дискуссии, как та же дискуссия о Григории Мелехове.
В 10-м классе мы писали уйму сочинений. Поскольку было известно, что на выпускном экзамене одним из возможных будет так называемое «сочинение на вольную тему», то мы много писали и таких. Тема такого сочинения формулировалась как некоторое идеологически окрашенное высказывание, чаще всего стихотворная цитата типа: «Партия – это миллионов плечи, друг к другу прижатые туго». Написание такого рода сочинения было упражнением в манипулировании демагогическими лозунгами, столь необходимом в жизни, в которую мы вступали. Ученики, литературу не знавшие и не любившие, предпочитали именно эти сочинения, поскольку их написание не требовало никаких знаний. Я же их терпеть не мог, но приходилось – и писал, скрипя зубами. Однажды не выдержал и написал в одном из них нечто, на мой взгляд очень крамольное, с иронией в адрес вынесенного в заголовок лозунга. (Хотелось бы теперь вспомнить хоть какие-то подробности!) Нина Александровна мою иронию уловила и ужаснулась. Вообще она была женщина добрая, а, кроме того, как и большинство учителей, относилась ко мне с симпатией, и верю, что в данном случае прежде всего обеспокоилась моим будущим. Доверительно посовещавшись ещё с несколькими учителями (уверен, что среди них не было Малиновского), она вызвала мою маму и изложила её свои опасения. Можно себе представить ужас мамы! Я выдержал длительные и тягостные объяснения с мамой и папой, разъяснявших мне смертельную опасность такого поведения. Слушал я молча, возразить что-нибудь было трудно. Но подобных экспериментов не повторял, решив отложить их до времени, когда буду подальше от родителей.
Иван Тихонович
А любимым моим учителем в этой школе был преподаватель математики и директор школы Иван Тихонович Жарко. Вообще он как будто сошёл с экрана советского фильма – директор школы, бывший фронтовик, всегда в полувоенной форме: френч, галифе, сапоги. Твёрдое мужественное лицо и такие же манеры. (Пожалуй, похож на актёра Бондарчука в фильме «Они сражались за Родину».) И главное – достаточно было поглядеть на него, чтобы убедиться, что это человек верный, надёжный и правильный. Его авторитет у учителей и учеников был непререкаем. Не помню, чтобы он когда-нибудь высказался на идеологические темы. Все контакты с ним были чисто профессиональными – он учил нас математике. И учил хорошо. А у меня особая причина быть благодарным Ивану Тихоновичу – именно он подтолкнул меня к поступлению в Московский университет.
Ко времени окончания школы будущую специальность математика я выбрал давно и твёрдо. Но все мои и моих родителей представления вертелись вокруг Киевского университета. Просто потому, что он гораздо ближе, а разницы между университетами мы не видели. Уже незадолго до окончания, в последней четверти Иван Тихонович спросил меня: «А ты, наверное, пойдёшь на математику?» (Помнится, что он, в отличие от большинства учителей, говорил нам «ты»). Тут я ему и сказал, что собираюсь в Киевский университет. «А почему в Киевский? Московский гораздо лучше». Не помню, развивал ли он свою мысль, но после этого разговора я решил поступать в МГУ. Папа и мама огорчились, что я буду так далеко от них, но не отговаривали – главное, чтобы я получил хорошее образование.
Иван Тихонович предупредил, что поступить в МГУ нелегко, и рекомендовал готовиться по задачнику Моденова, специально составленному для подготовки к поступлению на мехмат МГУ. Иван Тихонович тут же мне его дал, и я со следующего дня до самого отъезда стал решать задачи. Задачи были, действительно, трудные, много труднее тех, что мы обычно решали в школе. Нередко приходилось долго сидеть над ними. Решил я, конечно, небольшую часть из имеющихся в нём задач, но старался решать из разных разделов и, в общем, кое-как натренировался – насколько можно было при малости отпущенного мне времени. Думаю, если бы не эта тренировка, мне бы вряд ли удалось поступить.
Почему математик?
Здесь пора подробнее рассказать о мотивах, по которым я выбрал свою специальность.
Дети примеряют на себя профессии с самого раннего возраста. Я тоже, будучи совсем маленьким, заявлял, что хочу быть то тем, то другим. Когда-то, совсем в доисторические времена, наверное, ещё до войны, говорил, что хочу быть пожарником.
Ну, а уже более осознанно, наверное, классе в 6-м или 7-м решил, что буду учителем. Причём учителем математики. Потому что мне нравилось не только учить математику, но и объяснять её. И нередко приходилось это делать – мои соученики охотно обращались ко мне за разъяснениями. А одна их них, Зина Громова, довольно регулярно ходила к нам домой, и я стал для неё своего рода репетитором.
Я рос, и вопрос о будущей профессии обдумывал всё серьёзнее. Начиная с того, какие профессии важнее и интереснее. Ответ на этот вопрос не вызывал у меня сомнений: на первом месте по важности для человечества работа писателя, на втором – учёного. В том, что я способен к каждой из этих работ, у меня сомнений не возникало. Причём в каждой могу не просто добиться успеха, но стать выдающимся. Однако стать профессиональным писателем для меня в советской стране невозможно; такой писатель – слуга власти, проститутка. Писать я смогу только в стол, потом когда-нибудь открою (здесь пробел в рассуждениях), а пока…
(Сейчас-то я понимаю, что писатель из меня был бы никакой. Отсутствие врождённой наблюдательности, внимания к деталям, воображения не позволило бы мне создать стоящее литературное произведение).
… А постоянно буду работать учёным. В какой области – тоже не было сомнений. Конечно, математика. Потому что математика – самая интересная из наук. Самая понятная. Требующая самого точного мышления и развивающая его. Самая честная. Наконец, самая далёкая от идеологии, по самой природе не допускающая идеологической демагогии. Как раз в это время в биологии громили генетиков. Даже в физике были какие-то идеологические бои, критиковали идеализм и Эйнштейна. В математике это невозможно. (Я не знал, что в тридцатые годы критиковали идеализм в математике и травили Лузина, – в моё время такое уже не повторялось).
Но последние соображения были уже дополнительными. А главное – я любил математику. Я пытался найти по ней интересное чтение, решать дополнительные задачи. Классе в 6-м с увлечением прочёл «Живую математику» Перельмана. В библиотеке регулярно читал журнал «Математика в школе», где излагались темы, чуть выходящие за рамки школьного курса, и давались занимательные задачи. А уже в 10-м классе через «Книгу почтой» выписал несколько книг по высшей математике. Наиболее интересной из них были «Основания геометрии» Гильберта. Меня и до того интересовал аксиоматический метод, заметный прежде всего в геометрии и в общих чертах изложенный в учебнике Киселёва. Теперь я его осознал получше. Моим хобби стало отслеживать все логические ходы геометрических доказательств, которые представлялись мне образцом логики для любых рассуждений. В письменных работах по геометрии решение задачи должно было сопровождаться строгим доказательством, и здесь мне не было равных.
Государственные экзамены
Между тем, приближались государственные экзамены. Всё второе полугодие мы практически не учили ничего нового, а готовились к экзаменам. Их было какое-то безумное количество – почти по всем изучавшимся предметам. По всем экзаменам были утверждённые министерством билеты, и к каждому уроку задавалось повторить материал по билету такому-то и такому-то. Так что, казалось бы, если ты аккуратно учишь, то к экзаменам всё знаешь. Только разве возможно всё это за столько времени удержать в голове.
И вот экзамены начались – сначала два письменных, потом множество устных.
Начну с последних как менее важных. Я их почти не боялся, потому что материал в целом знал хорошо. Кроме того, школа того времени давала хорошую непосредственную тренировку к экзаменам – мы сдавали их, и в немалом количестве, каждый год, начиная с 4-го класса, так что можно было привыкнуть. А ещё я, идя на золотую медаль, понимал, что бояться не нужно, никому не интересно меня завалить. И всё же на каждый экзамен шёл в каком-то нервном напряжении – хотя бы в связи с предстоящим публичным выступлением. Особенно перед экзаменом по предметам, где чувствовал себя слабо, – по биологии и химии. Отвечал я обычно одним из первых. А потом экзамен кончался, узнавал о получении очередной пятёрки и в приподнятом настроении шёл сообщать об этом родителям.
Письменные же экзамены были более ответственными, и их больше боялись и учителя, и мы. Их особенность заключалась в том, что письменные работы шли на проверку начальству – в гороно, а потом и того дальше, может быть, в Киев. И в особо сложном положении оказывались претенденты на медаль – уж их-то работы проверялись особенно тщательно, причём традиционно едва ли не в большинстве случаев в результате проверки оценки снижались.
Письменные экзамены были по русскому языку (поскольку это была русская школа) и по математике. Темы сочинений и задачи по математике были одни и те же для всех школ (республики или большого региона), и экзамены назначались в них в один и тот же день, чтобы никто не узнал темы заранее.
Экзамен по русскому языку – сочинение. Установился порядок, по которому давалось на выбор три темы: по дореволюционной литературе, по советской литературе и «на вольную тему». Я твёрдо знал, что буду писать по первой. В это время читал Толстого, и в нескольких недавно прочитанных произведениях («Воскресение», «Божеское и человеческое») меня впечатлило изображение революционеров. Так что, идя на экзамен, я размышлял о том, как написал бы сочинение на тему «Образы революционеров в творчестве Толстого». Я прекрасно понимал, что такая тема совершенно нереальна, но, тем не менее, её тщательно продумывал. А какая была тема на самом деле, не помню.
А на экзамене по математике я сел на своего любимого конька и обосновал решение геометрической задачи, начиная едва ли не с аксиом. И, тем не менее, какие-то мелочи в моей работе Ивану Тихоновичу не понравились. Каково же было моё удивление, когда на следующий день он вызвал меня в кабинет, достал мою работу и предложил исправить то-то и то-то. Мне показалось, что речь идёт о каких-то мелочах, о которых и говорить-то не стоит. Но больше всего я был поражён тем, что мне предлагают сделать подлог, причём кто – такой безоговорочно уважаемый учитель. Я сомневался, не сказать ли мне: «Да Бог с ней, с оценкой и с золотой медалью, честность важнее». Не берусь сказать, действительно ли я был готов это сделать или рисовался перед самим собой. Но потом сказал себе (также, возможно, лукавя): «Но это же будет неудобно перед Иваном Тихоновичем» – вздохнул и исправил где-то слово, а где-то запятую.
Претенденты на медали, т.е. я и три или четыре девочки, долго с нетерпением ждали возвращения наших письменных работ из Киева с окончательными оценками. (Предварительно все они были оценены на пятёрки). В результате пятёрки остались только у меня, а остальные получили четвёрки по математике. Так что я получил золотую медаль, а несколько девочек – серебряные. Эти медали вручали в торжественной обстановке на выпускном вечере. Что говорить о самом вечере? Конечно, мы все были в приподнятом настроении – школа окончена, мы выходим в большую жизнь.
Мой путь в эту жизнь лежал через Московский университет. Он должен был начаться через несколько недель – оставалось купить железнодорожные билеты.
Глава 7. Homo legens
Я нашёл тогда свою родину, и этой родиной стала великая русская литература.
В. Г. Короленко. «История моего современника»
Во времена моего детства в библиотеках и школах висели плакаты: «Всем лучшим во мне я обязан книгам. Максим Горький». Наверное, учитывая трудные детство и молодость пролетарского писателя, в этих словах не было большого преувеличения. Я, конечно, не могу так категорически заявить: «ВСЕМ лучшим». Далеко не всем. Но всё же, если задуматься, чту оказало большее влияние на моё формирование – окружающая жизнь или книги, я, пожалуй, назвал бы книги.
Чтение в раннем детстве
Читать я, как и многие дети из интеллигентных семей в моём и последующих поколениях, научился около 4 лет. Как это происходило, я, конечно, не помню. Более удивительно, что этого не заметили мои родители – они меня не учили. Когда меня в то время спрашивали, кто меня обучил, я отвечал: «Мой братик Боря». Речь шла о двоюродном брате Борисе, сыне дяди Гриши, который какое-то время, кажется, несколько месяцев, а, может, и полгода жил у нас в гостях. Мне отдалённо припоминается какой-то силуэт. Я как будто бы много крутился около него, совал нос в его занятия и так и обучился. По словам мамы, он тогда ходил в школу, а она проверяла его уроки, я при этом присутствовал и отвечал вместе с ним, делая, в частности, некоторые успехи в немецком языке. Занятия немецким следов не оставили, а вот чтению обучился.
У нас в семье был большой пиетет перед четырьмя классиками – Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и Шевченко. Книги всех четверых стояли на самом почётном месте. Папа выписал полное академическое собрание сочинений Пушкина, выпущенное к столетнему юбилею его гибели, – совершенно неуклюжее издание примерно из полутора десятка томов непомерных размеров на толстой бумаге в красивом переплёте с тиснёным портретом. (Оно, как и другие книги, сгорело при вступлении немцев в Киев. Но я его хорошо представляю, потому что разрозненные тома родители покупали у букинистов уже после войны). Но, так или иначе, с этими авторами я познакомился едва ли не сразу с тех пор, как научился читать, и они стали неотъемлемой частью окружающего меня мира. Что я из них тогда читал, не помню. О реакции взрослых на мою литературную эрудицию могу рассказать такое. Среди папиных знакомых или сослуживцев был некто, которого в нашей семье называли Инженер, и он любил вести со мной литературные беседы. Выглядели они примерно в таком духе. Мы с Инженером сидим на крылечке нашего дома на нефтебазе… (Ага, значит, переехав в Киев, мы сначала жили не у бабушки с дедушкой, а на нефтебазе. Я же помню, как мы с Инженером сидели там на крылечке). Итак, мы сидим на крылечке, и он говорит: «А вот Пушкин в своём романе „Тарас Бульба”...». А я бурно перебиваю: «Нет, „Тарас Бульба” – это не Пушкин, а Гоголь!».
Конечно, читал я и детские книжечки, но уж их не помню. Почему-то вспоминается только Сетон-Томпсон. И ещё воспоминание из короткой довоенной киевской жизни. Я приношу из библиотеки, где был с мамой, десяток книжечек и сажусь читать. Мама потом рассказывала, что, тут же прочитав их, я вставал из-за стола и говорил: «Ну, пошли опять в библиотеку». Похожим образом вела себя этим летом моя шестилетняя же внучка Машенька (разве что в библиотеку просилась не сразу). Только книжечки у неё были английские и текста маловато – в основном рисунки с короткими подписями.
Следующий период детства – война, Киев уже после пожара, мы живём на Предславинской. Моими настольными были книги тех же авторов – не помню, всех ли четверых, но прекрасно помню Пушкина – толстенное дореволюционное издание на тонкой бумаге, все сочинения в одном томе. Я его постоянно читаю. Запомнился «Гусар»:
Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру…
Потом появляется толстый том Чехова, который мы взяли у маминой подруги тёти Тани, да и зачитали. Перед Чеховым я чувствую себя виноватым: я стал засушивать в нём листья и цветы и, конечно, изрядно повредил страницы, за что был справедливо отруган. Но оценил я его слабо – только некоторые из ранних рассказов вроде «Лошадиной фамилии».
И много разной литературы прошлых веков, написанной для взрослых, а потом перешедшей к детям: «Дон Кихот», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Робинзон Крузо», «Приключения Гулливера», «Приключения Мюнхгаузена». Ко мне они пришли в довоенных изданиях, адаптированных для детей, прекрасно изданных и с прекрасными же классическими иллюстрациями. Все они мне очень нравились, а особенно «Дон Кихот», неплохо запомнившийся на всю жизнь – настолько, что находил знакомые места, перечитывая совсем недавно. Тогда же состоялось и первое знакомство с Жюлем Верном, впрочем, не совсем удачное: попавшие мне в руки «Приключения капитана Гаттераса» я одолел с трудом – показалось скучноватым. Хотел бы я вспомнить, откуда к нам приходило всё это богатство. Наверное, от той же тёти Тани – помнится, у неё была неплохая библиотека. (Кстати, она и работала библиотекаршей – по крайней мере, в послевоенные годы, что я уже помню).
Белая Церковь: четыре классика
Моё чтение в детстве представляется мне разделяющемся на три периода: первый – до окончания войны, я о нём только что рассказал, второй – Белая Церковь и Фастов, третий – Смела. Точно разделить авторов второго периода по «месту встречи» я бы затруднился, да это, наверное, и не так важно. Хотя о большинстве из них (по крайней мере, перечисленных ниже) могу точно сказать, что познакомился с ними, живя в Белой Церкви.
Итак, чтение второго периода. Война уже окончилась. Я живу в Белой Церкви, а потом в Фастове, мне от 10 до 14 лет.
Я писал об обычае, установившемся в нашей семье: папа и мама из каждой поездки в Киев обязательно привозили мне одну или несколько книг. За несколько лет ими наполнился целый шкаф, и я выполнял функцию библиотекаря: приходовал книги, нумеровал, расставлял по местам. Чуть позже, когда это стало возможным, покупал и сам. Этот шкаф с книгами ездил с нами из города в город.
Конечно, одними из первых заполнили этот шкаф наши четыре классика – собрались практически все их художественные произведения. Теперь я уже занялся ими систематически и довольно скоро прочёл.
Сейчас, в момент написания этих строк, я вижу, что оказался перед трудной задачей. Моя цель – описать своё детское чтение, поскольку оно меня сформировало. И не знаю, как её достичь. Вот начинаю писать о наиболее значительных для меня писателях. Сказать о каждом коротко – вроде бы ничего не сказать. Начнёшь говорить подробнее – возникает опасность перехода в область литературной критики, чего я вовсе не хочу, да и не думаю, что это бы у меня получилось. И в обоих случаях крайне неинтересный текст.
Однако, попробую, попросив возможного читателя о снисходительности.
Я упомянул о четырёх классиках. В моём детстве они играли особую роль – представлялись совершенно особенными писателями, главными классиками, так сказать, четырьмя столпами, на которых держится литература. Конечно, так или иначе я обращался к ним в течение всей последующей жизни – кого читал чаще, кого реже, а мыслями-то к ним возвращался. Правда, с течением времени и другие большие русские писатели стали для меня вровень с ними, а зачастую и ближе по духу – о них я ещё расскажу.
А пока вернусь к своей «великолепной четвёрке».
Пушкин
Самый близкий и сопровождающий всю жизнь – конечно, Пушкин. Интересная особенность Пушкина – он вошёл в моё сознание даже не как человек, а как часть языка, как явление природы. Его жизнь представляешь так же, как жизнь немногих близких тебе людей – видишь его в Михайловском, видишь на дуэли. Другие могут быть тебе ближе по духу, но Пушкин как-то особенно по-человечески близок. «Тебя, как первую любовь, России сердце на забудет». Лучше не скажешь. И как бывает с любовью к близкому человеку, ты можешь видеть недостатки и что-то неприемлемое для себя, но их отделяешь от него, и это не мешает тебе его любить. Вот и у Пушкина меня резанула недостойная его хамская фраза в письме об Анне Керн, которую я прочёл, будучи уже взрослым. И с детства не люблю стихи типа «Клеветникам России», представляющиеся образцом того, что я называю «глупым патриотизмом». И примером того, насколько заразителен для русской души официальный имперский патриотизм, раз ему поддался даже такой замечательный и глубокий ум. Но повторяю, всё это не мешает любить Пушкина.
Пишу о Пушкине и ни слова не сказал о его стихах. А зачем о них говорить – их знаешь, перечитываешь, твердишь наизусть. Снова повторю – без них не представляешь русского языка.
Написав всё это, я спохватился. Я же собирался писать о детском чтении, а говорю о своём нынешнем восприятии. Но, по-видимому, иначе не получится. И как раз Пушкина я воспринимал всю жизнь почти одинаково. Только с течением времени больше узнавал о его жизни. А, читая русскую литературу, видел, как вся она пропитана Пушкиным, и любил его теперь и как создателя этой литературы.
Гоголь
Нечто похожее и с Гоголем. Его я тоже читаю всю жизнь и тоже воспринимаю всю жизнь одинаково. Только, в отличие от Пушкина, Гоголя как человека представляю плохо. Потом читал о нём у Вересаева, но никак не почувствовал. Раньше всего, конечно, прочёл «Вечера на хуторе близ Диканьки», потом «Миргород», чуть позже, лет в 10-12 – «Мёртвые души». Не любить эти вещи невозможно. (Особого разговора заслуживает «Тарас Бульба», но не хочется его начинать).
Лермонтов
Иначе с Лермонтовым. В какой-то момент в юности он показался мне ближе Пушкина. Наверное, это естественно – в этом возрасте и должен быть ближе Лермонтов. Во-первых, его демоническая гордость и независимость, такое противостояние всему миру. А ещё – для меня в то время особое значение имела «гражданская позиция», и вот по ней-то Лермонтов действительно был ближе Пушкина. Лермонтову был совершенно чужд тот официальный патриотизм, которым наполнены упомянутые «Клеветники». Его, боевого офицера, не прельщала «слава, купленная кровью». И об официальной царской России, которую я всей душой не любил, он не сказал ни одного доброго слова.
Так в детстве. А вот дальше я как-то отошёл от Лермонтова, и теперь к нему почти не возвращаюсь, разве что время от времени перечитываю «Валерик».
Шевченко
Отношения с Шевченко в течение жизни складывались неровно. В детстве я его очень любил. Восхищал он меня опять же таки «гражданской позицией». Ещё бы – революционный поэт, сам из народа, защитник народа. Интересно, что я, прочтя весь „Кобзар”, совершенно не замечал национализм Шевченко, воспринимал его позицию так, как подавала советская пропаганда, и с этой позицией был полностью солидарен. Особенно любил „Кавказ”, эту любовь сохранил до сих пор и помню его почти наизусть. Не с этих ли стихов началось моё сочувствие кавказским народам в их борьбе против России?
Но с годами так однозначно любить Шевченко становилось всё труднее. Согласитесь, трудно любить поэта, памятник которому стоит в каждом селе, имя которого положено в основу государственной идеологии, а также идеологии довольно отвратительных политических сил. А заодно наконец замечаешь, что сам поэт дал для этого достаточно оснований. Например, в самом знаменитом хрестоматийном стихотворении мечтал о том, как Днепр «понесе з України у синєє море кров ворожу”. Кровь современников Шевченко – помещиков и чиновников. Или более того – в „Гайдамаках” дал восхищённое описание того, как Гонта убивает своих детей, потому что они от польской матери. Это описание, оттолкнувшее Короленко, для меня сейчас – крайнее проявление националистического безумия. Как я не замечал этого в детстве?
Жуковский, Некрасов
Вернёмся, однако, в Белую Церковь. Какие же книги привозили родители?
Одним из первых русских классических авторов, с которым я тогда познакомился, был, как ни странно, Жуковский. Родители привезли его собрание сочинений в 4-х томах в чёрных переплётах, добротное дореволюционное издание. И я его охотно читал, прочёл почти всё, запомнились баллады и «Наль и Дамаянти». А вот гекзаметры «Илиады» и «Одиссеи» были выше моих возможностей, и прочёл я их позже, уже будучи студентом, и то, насколько помню, на пари.
Другим не менее читаемым классиком был Некрасов, толстый том которого, уже советское довоенное издание с предисловием Чуковского, я с охотой прочёл от корки до корки. И почти приобщил его к сонму четырёх классиков. Настолько, что когда позже, уже в 9-м классе, узнал из учебника, что на похоронах Некрасова в ответ на слова оратора: «Некрасова можно поставить рядом с Пушкиным» студенты закричали: «Не рядом, а выше, выше!» – эта оценка не показалась мне такой уж чрезмерной.
Диккенс
Довольно рано я познакомился с Диккенсом. Первым до меня дошёл первый том «Дэвида Копперфилда», я эту книгу полюбил и запомнил – настолько, что совсем недавно вторично встретился с ней, как со старой знакомой – знакомы и герои, и эпизоды. (Так у меня случается с немногими книгами). А понравилась она мне настолько, что я в ближайшие годы долго ходил в библиотеки специально, чтобы читать Диккенса – второй том «Копперфилда», а потом «Записки Пиквикского клуба» и «Оливера Твиста». Эти книги, как особо ценные, на руки не давали, и приходилось читать на месте, в читальном зале. Всё это были отличные довоенные издания с замечательными иллюстрациями Физа, в моём сознании неотделимыми от Диккенса, – когда я сейчас встречаю новейшие издания без этих иллюстраций, это представляется мне варварством. (То же можно и многих других классических авторах, например, о Жюле Верне).
Мопассан
Тогда же я познакомился с другим автором, совсем не полагающемся мне по возрасту. Как-то мама привезла из Киева очередную покупку – томик Мопассана: «Милый друг» и «Наследство». И при этом ещё сообщила, что у букиниста был выбор из двух книг: Мопассан и «Собор Парижской Богоматери». К тому времени я прочёл единственную книгу Гюго – «Девяносто третий год» и очень её ценил. Я набросился на маму с упрёками, почему она не купила такого замечательного автора, на что она ответила, что не любит Гюго. Так что пришлось мне довольствоваться «Милым другом», который не произвёл на меня впечатления. Забавно, что знакомство с Мопассаном произошло с благословения мамы. По-видимому, здесь она руководствовалась той же логикой, что и в отсутствии запрета на водку: отсутствие запретов уменьшает нездоровый интерес к объекту. И здесь она тоже оказалась права. Когда впоследствии в школьные годы мне случалось ещё читать Мопассана, я стал его недолюбливать, считая писателем безнравственным, если не сказать грязным. Чью-то известную похвалу Чехову, дескать, это наш русский Мопассан, я воспринял как оскорбление Чехову. (С возрастом я стал относиться к нему с бульшим пониманием).
Детская литература и фантастика
Читатель может заметить, что я пока не упомянул произведений собственно детской литературы (то есть, воспринимавшейся в это время как детская). Действительно, мне её здорово не хватало. Из классических условно детских авторов я систематически читал пожалуй только Жюля Верна, и прочёл довольно много. Книги, последовавшие после первого неудачного опыта (см. выше), меня уже увлекали. Здесь были и «Пятнадцатилетний капитан», и «Дети капитана Гранта», и «Таинственный остров» и многое, многое другое, вплоть до каких-то забытых «Пятисот миллионов Бегумы» и «Бедственных приключений китайца в Китае».
А вот другие авторы этого плана были ужасным дефицитом. Я просто гонялся за их книгами, как, собственно, в то время все мальчишки моего возраста. Но достать их было не так просто. Дюма, Купера, Майн-Рида, Вальтера Скотта мне удалось прочесть по одной книге («Три мушкетёра», «Следопыт», «Оцеола – вождь семинолов», «Айвенго»). Конан Дойла – отдельные рассказы. «Остров сокровищ» Стивенсона. Замечательные исторические романы Яна.
Ещё среди мальчишек были очень популярны довоенные журналы «Вокруг света» и «Всемирный следопыт», где печатались разные приключенческие и научно-фантастические (тогда ещё не говорили «фантастические») повести и рассказы. Нечего и говорить, что я тоже был их усердным читателем.
Упомянув о фантастике, не могу не вспомнить роман Лагина «Патент АВ», пользовавшийся среди моих сверстников большой популярностью. Одной из причин этой популярности было, по-видимому, то, что он оказался едва ли не единственным свежим научно-фантастическим романом – с самого начала 40-х этот жанр был заброшен. Печатался он в журнале «Огонёк», который мы как раз в этом году (47-м или 48-м) выписывали, и я каждый номер ожидал с нетерпением. Вообще мне и сейчас он вспоминается как вещь занимательная и довольно талантливая, хотя и выдержанная в духе «требований времени» – критики «буржуазного мира». Свидетельством того, с каким увлечением я его читал, может служить то, что я надолго запомнил все встречающиеся в нём собственные имена. Расскажу о таком казусе памяти. В суде доктора Попфа и Санхо Анейро защищал адвокат Корнелий Эдуф. Представляя его, автор перечислил (без последующего упоминания) процессы, в которых тот участвовал, и я могу назвать их и сегодня: дело О’Коннора, дело Эведа и Доррини, дело семнадцати юношей из Борро. Интересно, помнил ли их столько времени сам автор. Но зато, в чём обвиняли героев романа на этом сфабрикованном процессе, я, конечно, не помню.
Гораздо доступнее была советская детская и юношеская литература, зачастую довольно небесталанная, но больше или меньше идеологически нагруженная. Не прошла она и мимо меня. И, при всём неприятии их идейной подкладки, я и сегодня не скажу об этих книгах дурного слова. Здесь были и Гайдар, и Николай Островский, и «Белеет парус одинокий» Катаева, и много чего другого.
Серийные послевоенные издания
Разумеется, в годы войны было не до издания книг. Но вот война окончилась, и советская власть, воздадим ей должное, снова понемногу стала их издавать. По сравнению со спросом издавала мало, за книгами приходилось охотиться, но через несколько лет после войны их уже можно было купить не только у букинистов, и, следовательно, по вполне доступной цене. Я скоро стал пользоваться этой возможностью, систематически обходя газетные киоски и книжные магазины. Конечно, насколько позволяли мои карманные деньги.
Первое доброе слово хочу сказать о ныне забытой серии Библиотека журнала «Красноармеец». Это были маленькие книжечки в 64 страницы размером примерно 12 на 10 сантиметров. Журнал, заботясь о повышении культурного уровня солдат (надо же такое!), издавал для них около 20 таких книжечек в год – начиная с военных лет. Издавал по доступной цене (книжечка стоила, как несколько газет), и немалыми тиражами, так что они широко распространялись и были вполне доступны. Дети любили их покупать, обменивать и тому подобное. Сама процедура обмена была увлекательным делом, особо ценные или редкие обменивались на две или три обычных. У меня собралась неплохая библиотечка из этих изданий.
Печатались в этой серии в основном классики, русские и зарубежные – отдельные рассказы или отрывки из больших произведений. Основное ограничение на авторов было по национальному признаку – немцев не печатали. Зато англичан, американцев, французов – сколько угодно. Предпочтение отдавалось юмористическим рассказам. Для характеристики серии укажу наиболее интересных авторов: Чехов, Ильф и Петров, Джером К. Джером, О.Генри, Конан Дойл, Марк Твен, Брет-Гарт, Джек Лондон, Мериме, Мопассан, Гашек (в том числе отрывки из «Швейка»). С некоторыми авторами я познакомился именно по этой Библиотеке. (Добавлю, что с началом холодной войны серия выродилась. К тому времени она уже называлась Библиотека журнала «Советский воин». А печатала в основном пропагандистские антиамериканские вещи, такие как «Город Жёлтого Дьявола» Горького, «Рассказы прогрессивных американских писателей» и тому подобное).
Заговорив о серийных изданиях, нельзя не вспомнить замечательной серии, издававшейся в Латвии где-то года с 1947-го. Вид книг был довольно жалкий – серая газетная бумага, серо-голубая обложка. Но зато замечательный подбор произведений – самое интересное из зарубежной классики: Бальзак, Золя, Вальтер Скотт, Диккенс, Марк Твен, Лондон, Драйзер. Казалось бы, Латвия далеко, но книги до нас доходили, и я за ними охотился.
А ещё позже Гослитиздат стал выпускать толстые тома избранного русских классиков, и я, конечно, их тоже подлавливал. А потом и собрания сочинений. В общем, книжная жизнь страны налаживалась. Но здесь уж воздержусь от перечисления.
Общая характеристика чтения
Кстати, хочу принести извинения за длинные перечни авторов в нескольких предыдущих абзацах. Я их привёл, чтобы охарактеризовать не столько своё чтение, как характер послевоенных изданий. Что же касается собственно характеристики чтения, то лучше всего было бы коротко останавливаться на нескольких наиболее существенных для меня авторах (т. е. таких, к кому испытывал больший пиетет или кто больше заинтересовал), что я и пытаюсь здесь делать.
К слову, о пиетете. В моём представлении о литературе существенную роль играл своего рода табель о рангах. Представлялось, что есть пантеон «классиков», чей авторитет закреплён временем, и мне предстоит постепенно, шаг за шагом с ними познакомиться. Мне что-то в них может не нравиться, я могу их критиковать (это уже в старшем возрасте, когда критический взгляд на всё в мире представлялся долгом), но уважать обязан. Так что, например, Жюль Верн и Лагин, при всём интересе к роману последнего, оказывались в разных весовых категориях. Потом бывали моменты бунта, когда того или иного «классика» хотелось развенчать и свергнуть (часто под влиянием другого «классика» – как Шекспира под влиянием Толстого), но это носило временный и очень ограниченный характер.
Несколько позже, начиная со старших классов (ещё слабо), я стал видеть, что все мои «классики» стоят не сами по себе, а связаны друг с другом, со своей страной, своим временем, со всей человеческой историей, что для понимания литературы нужно понять эту связь. Процесс такого понимания и продолжается у меня всю жизнь.
Шекспир
Но я отвлёкся. Вернёмся к чтению того времени. Одним из его открытий был для меня Шекспир. Я писал, что в фастовской школе взял у учительницы Любови Ивановны его книгу. Среди других пьес там были «Ромео и Джульетта», о которой мы говорили в классе, «Ричард III» и «Генрих IV». Всё, что я прочёл, произвело на меня сильное впечатление. Я стал просить родителей достать мне Шекспира, и через короткое время они раздобыли два тома из дореволюционного 4-томного издания. Пьесы там были переведены прозой, но это мне не мешало – я обращал внимание не на язык, а на развитие действия. Один из томов содержал исторические хроники, и именно они меня особенно заинтересовали. Хорошо я знал, конечно, и пять знаменитых трагедий – с большинством из них я познакомился уже в современном стихотворном переводе. А вот комедии не вызвали интереса, я их мало ценю и до сих пор.
Перехожу к следующему, третьему периоду своего чтения. Смела, два старших класса.
О русской литературе
В старших классах моим главным чтением – не так по количеству, как по значению – стала русская литература. Наверное, некоторую роль играла и структура школьного курса – мы «проходили» писателей, их полагалось читать, и я в заданном порядке читал. Но ведь делал я это не из-под палки, знал, что это нужно и интересно не для школьного ответа, а для себя самого. И так как школьный курс велик, прочёл много (сейчас я с такой интенсивностью не мог бы читать), и больше, чем требовалось программой.
Так или иначе, с этого времени я осознал русскую литературу как главную для меня, мою литературу. Повторяя выражение Короленко, она стала моей родиной. Как бы я ни ценил и ни любил зарубежного писателя, он оставался для меня писателем из другого мира. Он и его герои совсем по-другому формировались, у них могли быть близкие с моими понятия и интересы, но они всё же не совпадали. А писатели и герои русской литературы – мои, они зачастую понятнее и ближе, чем окружающие меня люди. Так, наверное, чувствуют и люди, принадлежащие к народам, чья литература не так богата. Но мы такой счастливый народ, имеющий действительно великую литературу, и это расширяет наши возможности стать духовно богатыми людьми.
Лев Толстой
Главным моим автором стал и надолго оставался Лев Толстой. (Пишу «надолго», а не «навсегда», потому что тогда он был единственным главным, на голову выше всех остальных, а позже рядом с ним встали и другие). Познакомился я с ним ещё в 6-м или в 7-м классе, когда мне в руки попал «Хаджи-Мурат». Эта книга сразу же стала и навсегда осталась одной из самых любимых во всей мировой литературе. А уже в Смеле, по-моему, в 50-м году нашу семью постигла редкая удача. Папе удалось выписать журнал «Огонёк» с приложением, и этим приложением было 12-томное собрание сочинений Толстого. Открыв 1-й том («Детство, отрочество и юность»), я сразу же погрузился в мир Толстого и выйти из него уже не мог. Я буквально глотал том за томом. Всё здесь было моё. (Оставляю в стороне несколько произведений, оставивших меня равнодушным. Например, «Крейцерову сонату», которую до сих пор не люблю). Как своё я воспринимал и общую доброжелательность к людям (вспомним встречу Николая Ростова с немецким крестьянином), и любовь к другим народам – чеченцам, полякам, – и любовь к простому народу, и враждебность к государственной машине. И такая глубина психологических размышлений героев. Поиски ответа но вопрос, как следует жить. А окончательно «толстовцем» (условно говоря, конечно) я стал несколько позже, когда нашёл в школьной библиотеке дореволюционное издание «Посмертных сочинений графа Льва Николаевича Толстого в 2- томах». Там были собраны именно религиозные и философские произведения, я их прочёл и много над ними размышлял. Более всего мне было непонятно, как человек такого великого ума мог верить в Бога. Несуществование Бога было для меня аксиомой. Пытаясь закрыть на эту веру глаза, я соглашался со всем, что из неё следовало. Так я проникся двумя принципами Толстого: самосовершенствование и непротивление злу насилием. А одновременно усвоил и полное неприятие государства, по существу анархизм. И не менее важно – хотелось перенять смелость Толстого.
Герцен
А вторым по значению писателем для меня стал Герцен. По школьной программе мы проходили только «Кто виноват?». Я прочёл его, как и ещё нескольких повестей, но впечатление, судя по тому, что его скоро забыл, было слабым. А вот «Былое и думы» сразу стало одной из любимых книг. (Я писал, что его появление ещё и связалось с успешной папиной операцией). С первых же страниц я и Герцена воспринял как близкого человека – думал его мыслями, жил вместе с ним сначала в ссылке, потом в эмиграции. Вместе с ним ненавидел царизм, а тем самым любую бесчеловечную власть. Пленял сам ход его мысли, его пылкость, смелость. И маленькая деталь – меня порадовало, как он не любил Маркса и его компанию, охарактеризовав их словом “Schiffelbande”.
К слову сказать, именно через Герцена я стал воспринимать так называемых «революционных демократов», и, возможно, именно ему они в значительной степени обязаны моим хорошим к ним отношением. Из них я действительно любил только Некрасова, а с другими – Белинским, Чернышевским, Салтыковым-Щедриным – личных отношений не было, я их уважал издали. Однако сочувствовал и считал исторически правыми – всё революционно-демократическое, а затем народовольческое движение было для меня окрашено в положительные тона.
Короленко и Куприн
В это время я почувствовал близость ещё с двумя авторами, которых пока знал меньше. Один из них – Короленко. Я тогда прочёл у него только один томик ранних рассказов («Сон Макара», «Слепой музыкант» и др.). Вроде бы без особого сюжета, без размышлений, а почувствовалось в авторе что-то родное.
Второй автор – Куприн. У него меня привлекла какая-то открытость и большой интерес к миру, жадность впечатлений. Вот он пишет о цирке, и чувствуешь, что он знает и любит цирк.
Тургенев и Чехов
Более отстранённым было отношение к Тургеневу. Я отдавал ему должное как большому мастеру и классику, но близости с ним не чувствовал. Разве что «Отцы и дети» заняли место в моей картине мира.
Но вот совсем удивительно, что я тогда не оценил Чехова. Впрочем, удивительно ли? Наверное, он недостаточно ярок для детского возраста. Он не восклицает, не проповедует. В него нужно вслушаться и вдуматься – способна ли на это юность? Я оказался неспособен. Так и остался для меня Чехов в школьные годы автором «Человека в футляре» и юмористических рассказов.
Достоевский
А вот Достоевского я воинственно не воспринял. В школьной программе его, конечно, не было, но он после долгих лет забвения был выведен из подполья. Гослитиздат издал его большой том, и мы его приобрели. Был там только ранний Достоевский, а из больших вещей «Преступление и наказание». Всё это я читал с недоумением. После ясной психологии героев Толстого психология героев Достоевского показалась мне какой-то паталогией. Что за проблему решает Раскольников: убивать или не убивать старушку? Могут ли быть такие мысли у нормального человека? А окончательно оттолкнулся я от Достоевского, найдя в той же школьной библиотеке старую книгу с «Дневником писателя». (Ну, и библиотека была в моей школе! Я раскопал там даже Ницше – «Так говорил Заратустра». Откуда это только взялось и как держалось?) Так вот, полистав «Дневник писателя», я увидел там, как мне показалось, апологетику самодержавия и православия, враждебность к полякам и евреям и тому подобное. Этого было достаточно, чтобы я на долгие годы почувствовал к Достоевскому антипатию. (Понятно, в последующем это отношение изменилось).
Советская литература
Я писал о русской классической литературе. Знакомство же с советской литературой было слабее, и, конечно, она оказывала на меня куда меньшее влияние.
У двух столпов советской литературы – Горького и Маяковского – я ценил как раз те произведения, которые они написали ещё до революции. У Горького – автобиографическую трилогию. Я прочёл её классе в 7-м, и меня поразило формирование мальчика с духовными запросами в такой неблагоприятной среде, и такое яркое описание этой среды. Все другие произведения Горького казались мне значительно слабее.
А Маяковского я открыл для себя в 10-м. Это было «Облако в штанах». Наверное, привлёк бунтарский дух, пышущая в нём энергия, яркость образов. Перечтя его несколько раз, я его выучил почти наизусть и ещё долго любил читать вслух – когда никто не слышит. Это один из интереснейших стихотворных текстов для декламации. Прочёл и оценил я всего раннего Маяковского. Забавлял эпатаж. Но многое в нём и не нравилось – поза сверхчеловека, безграничное самомнение и самовосхваление.
Из «серьёзных» собственно советских произведений я ценил, кажется, только «Тихий Дон». Эту книгу я сразу выделил из массы литературы о гражданской войне: вот это правда, так и было, это по-настоящему, а не пропагандистская картинка. Вот и враги советской власти показаны как живые люди, а не как карикатуры. Понятны их мотивы, им сочувствуешь – как тому же Григорию Мелихову. (Совсем недавно, перечтя «Тихий Дон», я поразился, как бледно выглядят его исторические описания рядом с «Красным колесом»).
Была ещё детская литература: Катаев, Каверин, Кассиль. И юмор – Зощенко, Ильф и Петров, трудно доступные, полуподпольные, но весьма любимые мною, как и большинством моих соотечественников.
С советской поэзией я немного познакомился по довольно представительному сборнику, вышедшему в приложении к «Огоньку». Правда, там не было многих лучших наших поэтов, таких, как Пастернак и Ахматова, но меня очаровал вышедший из-под запрета Сергей Есенин. Из всего, что было там представлено, кроме Есенина, мне понравился, кажется, только «Сын» Антокольского. А Твардовского и Симонова я знал и неплохо к ним относился и раньше.
В то время не многие из достойных советских писателей были доступны читателю, но так случилось, что и они не дошли до меня – как Тынянов или Паустовский. Так что вся советская литература после начала 20-х годов, знакомая мне если не по произведениям, то по именам Полевого, Бабаевского, Ажаева, Павленко и других корифеев и лауреатов (имя им легион), представлялась чем-то исключительно лживым и продажным. Впрочем, в каких-то произведениях я ещё находил отголоски таланта – как в «Молодой гвардии» Фадеева – и к ним относился с меньшим неприятием.
Золя, Драйзер, Байрон
В старших классах я открыл для себя (в том смысле, что остался под впечатлением) нескольких зарубежных классиков.
Прежде всего – Золя. В школьные годы я прочёл, кажется, только «Жерминаль». Но Золя поразил меня самой концепцией своего натурализма. Я бы сказал, подходом естествоиспытателя. Я имею в виду не иллюстрируемую «Ругон-Маккарами» концепцию наследственности, а позицию объективного и бесстрастного наблюдателя. В отличие от Мопассана, он не смаковал «неприличные» (в моём тогдашнем понимании) темы, а описывал их со стороны, следуя долгу писателя – описать всё, что есть в жизни. И в отличие от Бальзака, не был для меня скучным. На моё тёплое отношение к Золя не могло не повлиять и то, что я знал об его участии в деле Дрейфуса – хотя бы по трофейному фильму «Я обвиняю».
Ещё я прочёл довольно много Драйзера – прежде всего трилогию о Каупервуде. И открывшийся мир драйзеровской Америки был для меня интересен.
И наконец – «Дон Жуан» Байрона. Вообще Байрону не повезло. В отличие от Шекспира, Бёрнса, Хайнэ, у него нет удачных переводов на русский, и он так и не стал «русским поэтом». Переводы из него не воспринимаются как поэзия. Но замечательное содержание, юмор, страстность «Дон Жуана» пробиваются даже через корявый перевод. Я имею в виду перевод Шенгели, самый точный и, на мой взгляд, пока лучший. Просто видишь перед собой сцены гибели корабля, штурма Измаила. А чего стоит гнев по отношению к Суворову, выступающему как олицетворение самодержавной власти и имперской войны: «Я камни обучу искусству мятежа!»
Украинская литература
Завершая тему, должен поговорить об украинской литературе. Почему она занимает в моём сознании несравнимо меньшее место, чем русская? А ведь тоже родная.
Начать с того, что она всегда представлялась мне не отдельной, а частью большой литературы – русской литературы в широком смысле. Своего рода – региональной литературой. (Если представить, что этот текст попадёт на глаза «украинскому патриоту», прошу у него прощения). Со всеми вытекающими особенностями региональной литературы, прежде всего ограниченностью тематики, отсутствием (или слабым присутствием) общечеловеческой проблематики. Известная мне в детстве украинская литература – по существу крестьянская. А при всём уважении к крестьянству, мне-то по общему складу были ближе и интереснее люди другого, более образованного социального слоя. В украинской литературе можно было представить себе Платона Каратаева, но нельзя – Андрея Болконского.
Так что всю украинскую классику в объёме школьного курса (не буду перечислять) я добросовестно прочёл, абстрактно уважал, но внутренне оставался от неё далековато. Ближе других мне были два писателя. О Шевченко я писал. Вторым был Франко. Его я прочёл значительно больше, чем полагавшийся по школьной программе „Борислав сміється”. Трудно объяснить, почему, но я сразу почувствовал в нём своего писателя. Казалось бы, далёкие и скучные темы – гуцульская сельская и рабочая беднота. Никакой игры интеллекта. Тяжёлый для понимания язык, почти диалект. Но за всем этим чувствовалась большая личность и настоящесть и автора, и его тем.
Классе в 7-м мне довелось познакомиться и с запрещённым украинским автором – в мои руки попала „Соняшна машина” Винниченко. Причём вот что странно – книгу принесли и дали мои запуганные родители. Не скажу, чтобы она так уж понравилась. Ну, такой себе научно-фантастический роман. Но действовало очарование запрета. Это было как бы предчувствие тамиздата.
Другой автор был не совсем запрещён, а как бы наполовину. Кулиш, „Чорна рада”. Ещё недавно её изучали в школах, а сейчас устранили, и в воздухе висело, что есть в ней что-то идейно порочное. Я прочёл. Тоже роман как роман. Вроде бы как «Тарас Бульба», хотя и послабее. Но в мозгу отложилось: вот и это советская власть запрещает.
А вот советскую украинскую литературу я отверг сразу и полностью. Для меня в ней не было ни одного достойного автора, ни одного достойного произведения. По крайней мере, в детстве я их не встретил. (Встретил много позже – среди авторов Розстріляного Відродження). Убедительным свидетельством тому был и школьный учебник украинской литературы – чудовищно демагогический даже в сравнении с другими учебниками. Хрестоматийным примером глубины падения, до которой может дойти писатель, стал для меня, как его обычно величали, „поет-академік” Павло Тычина. Тогда я не знал, что начинал он милым и нежным поэтом, не понимал, что он достоин жалости, как живущий в атмосфере постоянного страха. Я знал его по бесстыдному и безудержному восхвалению Сталина и партии: „Партія веде”. И вот что любопытно. Даже в той атмосфере массовой подверженности советской идеологии, когда никому и в голову не пришло бы сказать что-то ехидное в адрес прославляющего власть знакового русского поэта, чувствовалась фальшивость Тычины, и издевательство над ним носило массовый характер. Школьники повторяли друг другу нелицеприятные стишки о нём или пародии вроде такой:
„На майдані коло бані
Спить Тичина в чемодані.
Ой, узяв би кирпичину
Та й побив би я Тичину.”
Вот так я с детства привык, что если советская демагогия фальшива и отвратительна, то украинская советская – фальшива и отвратительна в квадрате.
Не хотелось бы кончать рассуждения об украинской литературе на этой горькой ноте. Кончу двумя цитатами из двух достойных авторов, которые встретил в детстве и запомнил на всю жизнь.
Шевченко:
„І день іде, і ніч іде,
І голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки”.
Втора цитата – из Франка. Мне врезалась в сознание жизненная позиция, сформулированная одним из героев «Захара Беркута»: „Хоч і в путах, я все буду вольним чоловіком. В мене пута на руках, а в тебе – на душі.”
Глава 8. Инакомыслящий
Недавно мне довелось прочесть в воспоминаниях одного диссидента, родившегося в 1930 году, фразу: «Для меня 1956 год ещё не был как-то значим, потому что в то время я был ещё ребёнок» («Новая Польша», 2006, № 6, стр. 4). Эта фраза вызвала у меня улыбку: мне трудно вспомнить время, когда события, подобные событиям 1956 года, не были бы для меня значимыми; во всяком случае, в возрасте 12 лет они бы уже такими были.
Так же, как не могу припомнить время, когда бы я хорошо относился к советской власти: или – по действительно совершенному младенчеству (т. е. лет до 10 с небольшим) – никак, или отрицательно. (По предшествующему тексту читатель мог об этом догадаться).
Вступление в пионеры
Единственный вспоминающийся мне случай, когда я отдал дань советскому ритуалу, связан со вступлением в пионеры. Было мне, наверное, лет 10-11. Стать пионером мне хотелось, и я с трепетом относился к предстоящей процедуре приёма. Портила мне настроение одна деталь: нужно было изготовить красный пионерский галстук, а единственным имеющимся в нашей семье материалом для этого был припрятанный кусок немецкого знамени, из которого была предусмотрительно удалена центральная часть – белый круг со свастикой. Надеть такой галстук мне представлялось кощунством. Однако маму мне убедить не удалось, деваться было некуда, и я смирился. Во время приёма на торжественной линейке я с искренним чувством произнёс клятву юного ленинца. Потом были другие линейки, меня, кажется, избирали на какую-то пионерскую должность, звеньевого что ли. И все пионерские годы я так и проходил в этом галстуке, который на сегодняшнем языке вполне можно было бы назвать «коммуно-фашистским».
Откуда инакомыслие?
Откуда у меня возникла неприязнь к советской власти?
Репрессии непосредственно не коснулись нашей семьи и наших родных. (Случай дяди Евстратия не в счёт – это были не государственные репрессии, а чисто личное сведение счётов со стороны конкретных руководителей). Почти не коснулись они и наших знакомых. Единственный случай – арест и последующая гибель мужа маминой подруги тёти Тани, к которой я относился с большой симпатией. Мне кажется, что я даже помню её мужа дядю Асика. А вина его заключалась в том, что он был страстный и, насколько я представляю, весьма успешный радиолюбитель и по этой линии был связан с радиолюбителями других стран. Но всю эту историю я узнал гораздо позже.
Родители мои, как всякие интеллигентные люди, не утратившие способность к размышлениям, советскую власть не любили. Но смертельно боялись. Обстоятельных разговоров на эту тему у нас, конечно, не было, но общее настроение можно было уловить по отдельным репликам. Помню, папа как-то вспомнил атмосферу революционных лет: «Увидят, у кого чистые руки, – и к стенке». Подобные фразы звучали и при мне, так что общее настроение родителей я уловил. Много позже по отдельным репликам у меня создалось впечатление, что иногда они даже нарочно так говорили, чтобы меня правильно сориентировать и чтобы из меня не вырос очередной Павлик Морозов. А уже когда я был в старших классах, мама сокрушалась, что в детстве они от меня не скрывали своих критических настроений, и я уж слишком ими проникся. Наверное, действительно, своими разговорами родители посеяли первые семена, но додумывал и рисовал на этом основании общую картину я уже сам.
Так что то, что в стране в 30-е годы были какие-то репрессии, я знал с детства, хотя не представлял их масштаба. А когда у нас появилась Катя, я по её скупым рассказам представил и Голодомор: почти полностью вымершие сёла, попытки бегства из них, людоедство. Когда через много лет я вижу, как бывшие партийные руководители разводят руками, дескать, ничего не знали, мне трудно испытывать к ним что-то, кроме презрения.
Постановление о журналах. Борьба с космополитизмом
Я довольно рано стал следить за политическими событиями, читать газеты, и всё, что я в них читал, только подтверждало мои самые критические выводы. Я до сих пор убеждён, что человеку, имеющему мозги, для понимания истинного лица сталинского режима достаточно было просто чтения газет.
Мне было 11 лет, когда вышло знаменитое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» (август 1946 года. «Ах, если бы только не август, не чёртова эта пора»). Удар пришёлся, прежде всего, по Зощенко и Ахматовой. Фамилия Ахматовой мне ничего не говорила. А вот Зощенко я знал достаточно – и детские рассказы, и юморески, которыми увлекались взрослые. Не то, чтобы и я им увлекался, но считал вполне симпатичным писателем. Его разгром был сигналом, что никакой юмор, никакая ирония в нашем обществе уже недопустимы, за исключением «боевой советской сатиры», направленной против внутренних и внешних врагов. Так же как недопустима и «чистая поэзия», представительницей которой выглядела неизвестная мне Ахматова. Не мог не вызвать отвращения и хамский, погромный тон постановления (Зощенко – «литературный подонок» и т.п.), речей Жданова и последующих за ними статей. И я при всей своей молодости ощущал гнетущее впечатление от всего этого.
Через несколько лет началась кампания против космополитов. Вот в ней я сначала не разобрался. Непонятно было новое слово «космополит». У себя в классе (в Фастове) мы восприняли его как введенное в оборот новое ругательство и стали дразнить друг друга «космополитами» – безотносительно к национальной принадлежности. Но чуть позже, вчитываясь в газетные статьи, я понял, что это слово – синоним слова «жид», известного мне с военных времён по моему столь неуместному его использованию. Нет надобности объяснять, какие чувства вызвала у меня эта кампания.
1948. Холодная война
Не лучше выглядела и советская внешняя политика. Начиналась холодная война. Как мне кажется, разгар её пришёлся на 1948 год. Газеты были полны самыми злобными нападками на недавних западных союзников и карикатурами Бориса Ефимова. Для меня была ясна картина: Советская Армия заняла пол-Европы и установила там марионеточные режимы; а теперь Советский Союз собирается с силами, чтобы захватить оставшийся мир. Появилась, широко использовалась и комментировалась пропагандистская брошюра «Фальсификаторы истории». Название подразумевало, что она направлена против буржуазных фальсификаторов истории недавней войны и послевоенных лет. Я же про себя шутил: «Указан коллектив авторов. А где же название?» Вдруг Югославия и Тито превратились из героев и лучших друзей Советского Союза в самых заклятых его врагов. Ещё одна книга – «Югославская компартия во власти шпионов и убийц». Злобная статья Симонова, снова карикатуры Бориса Ефимова – карликовый Тито, похожий на Геринга, с его огромного топора течёт кровь. Этого было достаточно, чтобы Тито стал для меня героем, а Югославия – образцом истинного (а не извращённого Сталиным) социализма. Я ещё долгие годы жадно выискивал крохи фактических сведений о Югославии, укрепляющих меня в этой оценке. Потом (по-видимому, в следующие годы) пошли политические процессы в Болгарии, Польше, Венгрии, Чехословакии, на которых часть руководства этих стран обвинялась в подрывной деятельности, шпионаже, терроре – разумеется, по заданию западных спецслужб и югославского руководства. Последнее на этих процессах аттестовалось, например, так: «германский шпион Вальтер (Тито)». В газетах помещались подробнейшие стенограммы публичных процессов – каждый день три-четыре газетных страницы. Я их внимательно читал. Особенно запомнились впечатления от процесса Ласло Райка в Венгрии. Меня поразила картина, как подсудимый Дьердь Палфи, высокопоставленный военный, возможно, военный министр, встаёт по стойке смирно и рапортует: «По своим убеждениям я фашист». Обвинения были для меня очевидно абсурдными, я не сомневался, что они получены под пытками и все процессы сфальсифицированы. Эти процессы были интересны ещё и потому, что помогали понять механизм советских процессов 30-х годов, копиями которых я их считал. Чтение газетных материалов привело меня к верному в целом пониманию характера процессов (как зарубежных, так и предшествовавших советских), хотя наряду с этим возникали и наивные вопросы: как же эти люди не смогли противостоять палачам – в то время, как комсомольцы Молодой Гвардии… ?
Влияние литературы
Думаю, на моё отношение к действительности существенное влияние оказала русская литература.
Я читал великие произведения, проникался идеями и духом их авторов – и примерял это к тому, что видел и слышал в действительности. Разве может юноша, воспринявший Толстого и Герцена и переходящий от них к советским агиткам, не проникаться отвращением к лживости и примитивности последних? Видишь пронизывающую русскую литературу любовь к мужику – и узнаёшь о массовом убийстве крестьян голодом. Литература боролась с крепостничеством – а разве не крепостничество весь колхозный строй? И так на каждом шагу. Так в моём сознании и сложилось: русская литература – враг советской власти. И любой из настоящих русских писателей, появись он сегодня – был бы ею уничтожен.
Мои взгляды
Итак, к старшим классам школы мои политические взгляды были полностью сформированы – я воспринимал себя как противника советской власти. И сформировались они настолько, что за всю последующую жизнь не пришлось менять их наиболее значимую компоненту – разве что корректировать в деталях. Сегодня мне приятно представить такую картину – я стою на месте, а общественное сознание меня догоняет: сначала мы с ним на противоположных позициях, потом оно начинает двигаться по направлению ко мне, сначала медленно, потом всё быстрее, быстрее, и вот, наконец, в последние десятилетия мои взгляды почти общеприняты. Точнее надо бы говорить о взглядах на советскую власть – здесь большинство на моей стороне. Но появилась и пока в силе новая «единственно верная» идеология – на этот раз националистическая – и отмирания её мне уже не дождаться.
Вернёмся, однако, к моим взглядам в юношеские годы.
Острое неприятие вызывала у меня, прежде всего, и почти исключительно современная мне политическая система. Его я связывал с именем Сталина, и именно Сталина считал главным виновником. И в вину ему ставил практически все преступления, которые мог бы перечислить сейчас: раскулачивание, Голодомор, политические процессы, лагеря, пытки, полную несвободу, газетную ложь, цензуру, подавление литературы, агрессивность, планы мирового господства. Кажется, сегодня и не добавишь. Впоследствии я только узнавал подробности – в частности, о масштабах преступлений, которые оказались значительно больше, чем я тогда представлял. Не мог я представить размеров ни ГУЛАГа, ни Голодомора, ни репрессий против писателей.
А вот в оценке идей коммунизма и деятельности Ленина мои представления в течение жизни претерпели изменения. В юности коммунизм представлялся мне идеей, не только очень хорошей, но и вполне реализуемой. Режим царской России представлялся как безусловно негативный, а Октябрьская революция, напротив того, как прогрессивное явление. Гражданская война – я целиком на стороне красных. Мне ещё долго была не чужда романтика «комиссаров в серых шлемах».
Дальше какой-то пробел в рассуждениях – не берусь сказать, как я относился к Ленину. Не считал его ответственным за злодеяния Сталина – это точно. Но вроде бы и не молился на него как на величайшего гения и вождя человечества. В общем, ленинский период советской истории проходил для меня как-то незаметно, не трогая – ни ругать, ни хвалить его не хотелось. Так, какой-то отдалённый период истории. А вот потом пришёл Сталин – и началось злодеяние за злодеянием, свидетелем последних из которых я уже был лично.
Говоря об истории, добавлю, что в восприятии дореволюционной России я с официальной идеологией в основном не расходился. Полное сочувствие всем революционерам (которых я воспринимал заодно и как противников нынешнего режима). В том числе, народовольцам, убившим Александра II, к которому я, как и ко всем остальным царям, никакой симпатии не испытывал. И вообще, как писал Лёня Киселёв, мой знакомый более позднего времени:
За триста лет истории России
Ни одного хорошего царя.
Здесь мы с Лёней были более последовательными, чем официальная власть, к тому времени канонизировавшая ряд «хороших царей» – прежде всего Ивана Грозного.
Как жить?
Вот такими мне виделись современный мир и история. А непосредственно меня, здесь и сейчас, касалась и угнетала одна сторона советского мира – промывание мозгов. Я почти физически задыхался от окружающей меня со всех сторон официальной пропаганды, «коммунистического воспитания», а главное – от необходимости самому участвовать в этом процессе, притворяться, повторять от своего имени нечто скроенное по пропагандистским шаблонам. Впоследствии, когда я вспоминал годы своей школьной юности, именно эта отравляющая их ложь вспоминалась в первую очередь. И только сейчас, через многие десятилетия, это воспоминание отодвигается на второй план, а на первом оказывается многое доброе, что тогда было: семья, друзья, некоторые учителя, природа. Я уже не говорю о книгах. И детство представляется светлым.
Тогда же, повторяю, угнетало сознание, что вот сегодня или завтра я должен буду пойти на урок, меня спросят, и я должен буду повторять ненавистные советские фразы, утаивая собственные мысли.
В эту пору юноше естественно искать ответа на главный вопрос: как жить? Я над ним думал постоянно. Задачей-максимумом была выработка некоторого общего жизненного плана: представить общую цель жизни, разделить её осуществление на этапы, контролировать исполнение каждого. Но на этом направлении я не продвинулся. Мои представления о желательной будущей жизни оставались на уровне неопределённых мечтаний: вот я когда-нибудь расскажу миру правду о том, что же на самом деле представляет жизнь в Советском Союзе. Ведь мир ничего об этом не знает, не узнают и последующие поколения, если этого не сделаю я. А я сегодня – как разведчик в этом мире, чтобы рассказать о нём мирам свободным, располагающимся не здесь или не сейчас. (Интересно, что через многие десятилетия подобный ход мысли я нашёл в воспоминаниях Михаила Хейфица. С такими мыслями он шёл в лагерь и, в отличие от меня, свои планы осуществил). О том, как это будет происходить, что я должен для этого сделать, какие умения в себе выработать – я не задумывался. В общем, чистая маниловщина.
Другая маниловская мечта – вырасти и убежать на Запад или в Югославию (её я выделял особо). Как это осуществить, я также не задумывался, но грезил, как хожу по улицам свободной страны, читаю, пишу, говорю, что хочу. При этом мне всегда вспоминалось место у Герцена, как он вдохнул воздух свободы, пересекши российскую границу. Я ему завидовал: «Жили же люди! И какой гуманный был царский режим – не удерживал своих противников».
«И ненавидеть ложь»
Гораздо более актуальный и животрепещущий характер носил уточняющий вопрос: как жить в условиях этой лжи? как её противостоять? В то время ещё не прозвучал бескомпромиссный ответ на эти вопросы: «Жить не по лжи!» Но его аналог я прочёл и запомнил в шенгелиевском переводе «Дон Жуана»:
У древних персов три уменья прививали:
Гнуть лук, скакать верхом и ненавидеть ложь.
(Наиболее значимый для меня оборот «ненавидеть ложь» лежит на совести переводчика. В оригинале было по-другому: “To draw the bow, to ride and speak the truth” – «говорить правду»).
Это «ненавидеть ложь» стало для меня нравственным императивом. Правда, в весьма ограниченном понимании – я его соотносил в первую очередь с официальной ложью; что же касается до лжи обычной, в частной жизни, то теоретически я её, конечно, тоже не одобрял, но беспокоила она меня куда меньше. (В этом отношении я в невыгодную сторону отличался от встреченного впоследствии Алека Есенина-Вольпина, который занял позицию полного и бескомпромиссного отказа от всякой лжи; подозреваю, что подтолкнуло его к этому неприятие лжи официальной).
Что означало «ненавидеть ложь» применительно к условиям моей жизни? Прежде всего, я понимал, что полностью исключить официальную ложь из своей жизни невозможно и самоубийственно. Что же, я так и заявлю в школе: «Не хочу повторять ваше враньё о великом Сталине»? Остаётся одно: врать по минимуму. Только тогда, когда тебя уже припёрли к стенке и требуют: «Соври». Но и при этом процедить нечто сквозь зубы, не допуская ни одного лишнего слова.
Но в одном я твёрдо решил держаться принципа «не лгать». Это касалось вступления в комсомол. В те годы (да, в общем-то, почти до самого конца советской власти) в комсомол вступали практически все, во всяком случае, из учащейся городской молодёжи. Для меня же вопрос вступления в комсомол приобрёл символическое значение. Вступить в комсомол значило предать Толстого и Герцена; не вступлю – значит, продемонстрирую, что советская власть меня не сломала. Когда окружающие осознали мою позицию, давление на меня было громадным. Долгое время мне помогал мой возраст: все в классе уже были комсомольцами, а мне вступать было рано. Потом возраст подошёл (какой же он был – возраст вступления?), мне стали предлагать вступить. Обычно для многих вступление оттягивали, дескать, они ещё недостойны, должны подтянуться, лучше учиться и прочее. Мой случай был другим – отличник, лучший ученик, меня просто затягивали – и учителя, и комсомольские активисты. Не помню, какими доводами мне удавалось отбрехиваться. Трудней же всего было с родителями. Они сразу же восприняли мою позицию как вызов советской власти и пришли в ужас. Мама бесконечно уговаривала меня, убеждая, как опасна эта позиция. Потом на эту тему с родителями стали беседовать учителя – в частности, после упоминавшегося случая, когда я что-то не то написал в школьном сочинении. Но я стоял твёрдо. И выстоял – не знаю, как у меня хватило на это силы.
Жизненная позиция. Страх
В общем-то, я считал, что выбрал определённую жизненную позицию. Это была позиция вынужденного и пассивного противостояния. Своего рода «непротивления злу насилием» – но в советских условиях. Я не стремился бороться с советской властью. Я хотел только не поддаться ей, оставаться собой, сохранить своё лицо. Эта позиция была очевидно опасной, и я отдавал себе в этом отчёт.
Время от времени я проводил мысленный эксперимент: ставил себя в особые ситуации, когда противостояние с властью оказывалось неизбежным, и решал, как поведу себя в таких случаях. Вот идёт очередной процесс над «врагами народа», я присутствую на собрании, требующем их казни: «Расстрелять, как бешеных собак!» Председательствующий спрашивает: «Кто за?» Все поднимают руки, а я – нет.
К предстоящим опасностям себя нужно было подготовить. Такой самоподготовкой я и пытался заниматься. Помогала опять же таки литература.
Прежде всего, я пытался воспитать себя в духе стоицизма: дескать, все внешние лишения преодолимы духом. Внутренне свободному человеку не страшны никакие оковы. (Повторю цитату из Франка: „Хоч і в путах, я все буду вольним чоловіком”). На эту же тему я вычитал разные цитаты из античных и индийских авторов в «Круге чтения» Толстого. И всё же в глубине души гнездился страх перед неизбежным столкновением с системой.
Этот страх если не исчез, то сильно ослабел интересным образом. Мне приснился сон. В отличие от обычных чёрно-белых или бледно окрашенных – яркий цветной сон, в преимущественно красных тонах. В большом помещении за столами множество человек и среди них я. Здесь атмосфера страха, потому что присутствует некто огромный, кто вроде надсмотрщика над нами, а мы вроде рабов. Но вот я преодолеваю страх, поднимаюсь и бросаю ему в лицо нечто дерзкое. И он сразу тушуется, теряет силу, а все вокруг тоже теряют страх, оживают, начинают веселиться. Я проснулся, а во мне надолго осталось это чувство освобождения от страха.
Несостоявшиеся воспоминания
К этому времени относится такой эпизод. Мне пришло в голову написать нечто вроде воспоминаний. Не смейтесь, вспомнив мой тогдашний возраст, – за образец я взял неоконченные воспоминания Толстого «Моя жизнь», собственно, даже не неоконченные, а едва начатые, он написал страниц 6. Речь там шла о самых первых проблесках памяти, относящимся к возрасту до 5-6 лет, а в основном ещё раньше. Вот и я решил попытаться вспомнить что возможно из столь раннего возраста, а потом довести до нынешнего. До этого я едва дошёл, а успел написать только развёрнутое предисловие, из которого можно было понять мои антисоветские взгляды. В частности, писал, как мечтаю бежать на Запад. Тетрадку я прятал. Вернее, думал, что прячу, – где в своей комнате школьник может что-то спрятать. Мама обнаружила мою тетрадь достаточно быстро, пришла в ужас и тотчас же уничтожила. Со мной же провела обстоятельную разъяснительную работу, в результате которой я понял, что, как бы я ни относился к советской власти, но писать об этом не надо. С тех пор я ничего опасного и не писал. А так как без этого писать что-либо серьёзное трудно, то ограничил свои потребности к письменному самовыражению.
Вот с такими настроениями я окончил школу и отправлялся в Москву.
Окончу тем, что у меня много оснований благодарить судьбу за то, как она сложилась. И на одном из первых мест – за то, что в те и ближайшие за ними годы я не привлёк внимания карательных органов – это бы наверняка окончилось плохо. А потом, после смерти диктатора, всё уже стало не так страшно.
Август – октябрь 2006
Послесловие к первой части
Три месяца мне было, что любить,
что помнить, что твердить, что торопить,
что забывать на время.
Иосиф Бродский. «Шествие»
Вот я и окончил первую часть и могу посмотреть, что вышло из моего замысла.
Она преподнесла мне ряд сюрпризов.
Первый – приятный. Мне писалось легко, с удовольствием и интересом. Передо мной ожило детство, и в нём оказалось много хорошего, к чему давно не возвращался памятью.
Второй – грустный. Я уже не надеюсь на то, что способен внушить подобный интерес предполагаемому читателю – ни в этой, ни в последующих частях. Нет, не способен – в силу свойств своей памяти. Читательский интерес может возникнуть только тогда, когда читатель увидит описываемое перед своими глазами. Для этого нужно нарисовать перед ним живую картину, богатую, со множеством деталей. Именно такими картинами богаты воспоминания Герцена, Короленко, моего замечательного тестя Платона Ивановича. (Кстати, он был единственным, кто и меня подталкивал писать воспоминания: «Это же будет так интересно». И его читательского внимания мне сегодня не хватает). Но вот как раз этих деталей, необходимых для оживления описания, я и не могу представить. На весь период детства не набралось ни одного эпизода, который я смог бы изложить подробно.
Но выше головы не прыгнешь. Так что придётся смириться с тем стилем, на который способен: изложение краткое, в общих чертах, без деталей и развёрнутых эпизодов. А заодно – и с тем, что оно может представить интерес в лучшем случае для небольшого числа близких людей, специально интересующихся моей персоной. Повторяю – в лучшем случае. А единственный надёжный читатель – это я сам. В этом отношении мои писания неожиданно для меня самого оказываются сродни дневнику.
И, наконец, третий сюрприз. Принимаясь за написание первой части, я не знал, что из этого получится, но ожидал, что, во всяком случае, окончив её, представлю, как будут выглядеть следующие. А сейчас они представляются мне почти так же неопределённо, как и до начала работы над первой. Ведь в них будет другая жизнь – прежде всего, появятся люди и события, представляющие более общий интерес, о них хотелось бы рассказать побольше. Как мне попытаться это сделать?
В общем, это будет уже совсем другая история.
23 октября 2006
Часть II. Университет
Друзей моих прекрасные черты
Появятся и растворятся снова.
Б. Ахмадулина
Глава 1. Приезд в Москву и поступление
В вагоне
И вот в солнечный июльский день 1951 года я сел в поезд на Москву, навсегда покидая родительский дом. Мелькнувшая через несколько минут Чёрная речка была последним увиденным мною объектом из прошлой жизни. Дальше всё было совершенно новым. С этого момента меня долго переполняло исключительно яркое ощущение начинающейся новой жизни.
До тех пор я ведь вообще от родительского дома отъезжал всего несколько раз, из них без родителей – дважды. Да и просто на поезде ездил тоже несколько раз, и то недалеко – в Киев.
К тому же условия этой поездки были вообще необычными – я оказался один на весь плацкартный вагон, и так было чуть ли не полпути. Потом понемногу начали подсаживаться, но всего набралось десяток с небольшим пассажиров, а в моём купе так никто и не появился. Я сидел и отдавался этому ощущению новизны, жадно вглядываясь в проплывающие непривычные пейзажи.
Первые дни в Москве
В Москве у нас не было никого. Ни родственников, ни знакомых. Так что задолго до моего отъезда нас волновала проблема: где же я остановлюсь? и кто меня встретит? По счастью, у кого-то из не известных мне маминых сослуживцев были отдалённые родственники в Москве, и они согласились меня принять.
Так что на Киевском вокзале при выходе из вагона меня встретила и увезла к себе домой женщина из этой семьи. Эти добрые люди провозились со мной около недели. После мне уже не доводилось с ними встречаться. Как их звали, конечно, не помню. Запомнилось, что хозяин дома был мужчина невысокого роста, но строгий, дети (впрочем, там, кажется, был только один мальчик) перед ним трепетали. За столом сидели тихо и чинно.
В тот же день кто-то из моих хозяев повёл меня в приёмную комиссию университета сдавать документы. (Напомню, что здание на Ленинских горах ещё не было построено, весь университет размещался на Моховой.) Взглянув на мою анкету, меня встретили не очень приветливо. Анкетные данные по нормам того времени были непривлекательными. Жил на оккупированной территории, и уже это в глазах советской власти делало мою личность подозрительной. Почему так, никогда не объяснялось, но всеми ощущалось: жил при оккупантах – значит, всё-таки не совсем наш; таким доверять нельзя. Но этого мало. Ещё и не комсомолец, а это уж совсем подозрительно – все комсомольцы, а он нет, таких среди поступающих вообще единицы. Тётя, принимающая документы, очень пыталась отговорить меня их сдавать. Трудно сказать, чем ей приходилось мотивировать, учитывая, что называть вещи своими именами было нельзя. Она что-то говорила, что Московский университет – учебное заведение особенное, и поступать туда особенно трудно, и что шансов поступить у меня совсем мало, так что лучше пошёл бы я со своими документами куда ещё, и уж там, конечно, поступлю без труда. То ли полагалось принимать поменьше таких сомнительных документов, то ли, действительно, сочувствовала мне и хотела подсказать, как лучше. Но я твёрдо стоял на своём.
Оставалась ещё одно небольшое препятствие. В вуз принимали с 17 лет. А так как я был младше, необходимо было пройти в расположенное неподалёку Министерство высшего образования и получить разрешение на поступление. Совершенно пустая формальность – это разрешение мне дали без лишних слов в течение нескольких минут. Так что наконец мои документы были приняты.
Мне, как золотому медалисту, вместо экзаменов предстояло пройти собеседования. Они должны были состояться через несколько дней, возможно, через неделю.
В этом году конкурс на мехмат составлял около 5 человек на место среди медалистов и около 3 человек среди сдающих экзамены.
Не помню, готовился ли я к собеседованиям. Вряд ли, поскольку задачника Моденова со мной не было – я возвратил его Ивану Тихоновичу. Но зато я жадно знакомился с Москвой. Походил вокруг Кремля. Зашёл в Третьяковскую галерею. Побывал в музее-квартире Толстого в Хамовниках.
А первым московским театром для меня стал Театр кукол Образцова. И не случайно. Как только я поглядел на театральные афиши, меня потянуло именно в него. Посмотрел я там «Под шорох твоих ресниц» и был очарован. И все годы студенчества это был для меня едва ли не самый любимый из театров – я там посмотрел почти всё.
Первое посещение театра связано с одним забавным эпизодом. Спектакль окончился относительно поздно, и, подойдя к своему дому, я решил, что не стоит беспокоить хозяев. Потому уселся на ступеньках и так продремал до утра. Замёрз, разумеется. Вот в такой форме проявил свою деликатность. А утром получил заслуженную взбучку от хозяев, которые всю ночь обо мне пробеспокоились.
Собеседования
И вот настал день собеседований.
Собеседование проходило так. В аудитории сидели множество абитуриентов и, условно говоря, «экзаменаторы» по трём направлениям: математике, физике и «общему знакомству», т. е. идеологии. Начинался разговор с математики. Садишься рядом с преподавателем, и он задаёт тебе вопросы. Перед тобой чистый лист бумаги. Тебе задаётся вопрос – как правило, какая-нибудь задачка на сообразительность. Составлены они были очень удачно – с одной стороны, действительно, требовали сообразительности, зубрёжка здесь не помогла бы, а с другой – решались достаточно быстро. По существу записывается черновик решения, и эта бумага играет роль протокола. После этого тебя вызывает «экзаменатор» по физике, и повторяется та же процедура. Так я заполнил пару листов по математике и столько же по физике. Из всех заданных мне вопросов я до сих пор помню один по физике: «Если тело погружено в жидкость, на него, в соответствии с законом Архимеда, действует выталкивающая сила. А если Вы ставите ногу в песок? Действует или нет выталкивание и почему?» По моим субъективным впечатлениям, с математикой я справился хорошо (помог таки Моденов), а с физикой сносно.
Но вот, как ни странно, я абсолютно ничего не помню о третьей беседе – идеологическом прощупывании. Ну, не могли же меня не допросить с пристрастием в этом направлении. И должен был я отдавать себе отчёт в его важности. И тем не менее – в памяти полный пробел.
Через несколько дней я пришёл узнать результаты. И узнал, что по собеседованиям не прошёл. Не сомневаюсь, что причиной этого были мои анкетные данные. Убедила в этом состоявшаяся через несколько недель встреча. Симпатичный аспирант по фамилии Мирославлев, принимавший у меня собеседования, рассказал мне, что на этих собеседованиях я ему очень понравился.
Однако неудача на собеседованиях ещё не означала полного провала. Оставался ещё один выход – заново подать документы и сдавать экзамены вместе со всеми (то есть, с не-медалистами). Я так и сделал. Экзамены предстояли дней через 10 – 15.
Наумовы
В эти дни вокруг собеседований я познакомился с новыми для себя родственниками.
Незадолго до этого дочь дяди Евстратия Валя и зять Женя (Евгений Афанасьевич) Наумов переехали из далёкой Сибири в Подмосковье. Женя, если я правильно понимаю, был инженер-строитель.
Мои контакты с семьёй Наумовых продолжались всё время, продолжаются и до сих пор – уже со следующим поколением. Правда, эти контакты были не очень частыми, так, несколько раз в год. Бывал я у них в Бородино, бывал в Москве в Черёмушках, когда они туда переехали, бывал на приобретённой позже даче в Архангельском, в генеральском посёлке. И Валя, и Женя всегда относились ко мне очень по-родственному. Я бы сказал, что был у них любимым родственником. Наверное, из уважения к моему папе – было хорошо известно о его близости с дядей Евстрашей. И так как я был бедным родственником, норовили при любой возможности одарить меня чем-нибудь практичным – пальто, костюмом. Всё это я с некоторой неловкостью, но с благодарностью принимал.
Женя был добродушным и симпатичным человеком, хотя и с некоторым перебором твёрдости. С приятным смуглым лицом то ли кавказского, то ли еврейского типа. А Валя ему очень подходила. Такая приятная, добрая, несколько полноватая женщина. Мне-то она двоюродная сестра, но действительно старшая сестра, не то, что Юра Олифер, воспринимавшийся почти как ровесник. Было несомненно, что Женя – глава семьи, что он задаёт её нормы и идеологию, а Валя их воспринимает и разделяет. И получается по всем нормам хорошая семья.
Вернёмся, однако, в 1951 год. Вскорости после моего приезда Женя приехал меня повидать. А когда стало известно, что где-то через полмесяца у меня экзамены, на это время они пригласили меня к себе в Бородино.
Добираться к ним пришлось долго. Электричкой от Белорусского вокзала чуть ли не два часа, а потом ещё пешком через знаменитое Бородинское поле. Дорогу мне Женя объяснил, так что долго искать не пришлось. Само поле произвело впечатление, я шёл и внимательно рассматривал его многочисленные памятники. Захватывало дух – это же живые «Война и мир».
Валя в это время была на последнем месяце – вынашивала сына Толю, которому предстояло родиться совсем скоро, 14 августа, когда я то ли сдавал, то ли уже сдал экзамены. Единственное, что мне вспоминается из этого пребывания в Бородино, – это что-то вроде пикника. Женя поставил на пень пустую бутылку и дал мне в неё пострелять. Вот это и запомнилось.
На Стромынке
Когда я вернулся в Москву, меня поселили в общежитии на Стромынке. В комнате нас было человека 4. Или 6. Главное, что мне запомнилось от Стромынки, это клуб. Я проводил там все вечера, и каждый вечер было что-то необыкновенно интересное – концерт, фильм, встреча с кем-нибудь. Например, встреча с Образцовым с демонстрацией сцен из каких-то кукольных спектаклей. Или фильм «Новый Гулливер». Я был поражён: вот это жизнь у московских студентов! Каждый вечер могут что-нибудь такое видеть! И при этом бесплатно! И еда в студенческой столовой показалась такой вкусной и такой дешёвой. А о московском мороженом нечего и говорить – ничего подобного я и вообразить не мог у себя в Белой Церкви или Смеле.
Экзамены
Однако наступили экзамены. Их предстояло четыре. Два письменных – математика и русское сочинение, и два устных – та же математика и физика.
Самым главным был, конечно, письменный экзамен по математике. Нужно сказать, что продуман он был не очень хорошо. (Впрочем, и позже, несколько раз сталкиваясь с письменным экзаменом по математике в МГУ, я ни разу не находил его разумно и справедливо продуманным.) По-настоящему трудных задач там не было, так, средней трудности. Конечно, не то, что на выпускном в школе, но всё же могли бы подобрать посложнее. А главной была задача с несколько запутанным условием, которая в конце концов, правда, немного хитроумно, сводилась к решению квадратного уравнения. Но числовые значения были подобраны столь неудобно, что коэффициенты оказывались дробями с трехзначными числителем и знаменателем. Так что львиная доля трудности состояла в том, чтобы не запутаться в арифметических вычислениях. А уж в этом я не был силён – и в результате получил комплексные корни. Проверить решение времени не было, я был в цейтноте, и потому написал логически естественный вывод: «Так как корни уравнения – комплексные числа, то условие задачи не имеет смысла». Остальные задачи я решил правильно. А на другой день узнал, что получил тройку. Это сильно уменьшало мои шансы. Правда, утешить могло то, что около половины абитуриентов получили двойки.
Испугался ли я в этот момент? Не помню. Мог и не испугаться – у меня была сильная вера в мои способности и в мою счастливую звезду. Я знал: я должен поступить. Следующие три экзамена сдал на пятёрки. После чего с удовлетворением увидел свою фамилию в списке принятых.
Здесь маленькое отступление. Много и до того, и после мне случалось ругать советскую власть. Но вот в университет она мне поступить не помешала. А могла бы помешать – всё-таки такая плохая анкета. (Как в известном анекдоте о Ленине: «А мог бы и зарезать».) Не применила она такого инструмента – чуточку снизить оценку на экзамене. Ко мне не применила. А к другим? К евреям, наверное, уже тогда применяла – поступило-то их к нам на курсе всего несколько человек из приблизительно двухсот. Не-комсомольцев, считая меня, тоже было всего трое – ещё Наташа Леонтович да Серёжа Дёмушкин. Но их и среди абитуриентов были считанные единицы. А евреев-то небось было много.
Отказ в общежитии
А вот с общежитием меня ждало разочарование. Я уж так привык к Стромынке, там мне так понравилось, что ничего другого не представлял. И вдруг при зачислении мне объявляют: «Зачислить без предоставления общежития». Я даже полез в бутылку: «Как же так, у меня нет средств, я должен буду уйти из университета». (Это, конечно, был чистый блеф.) Мне равнодушно отвечают: «Это Ваше дело». Вот тут-то ко мне и подошёл случайно оказавшийся при этом разговоре аспирант Мирославлев и начал уговаривать, чтобы я не бросал университет, при моих способностях я должен учиться на мехмате, а с жильём как-нибудь обойдётся. Я был очень растроган и благодарен ему.
Последние дни до начала учебного года я доживал на Стромынке. Они мне запомнились тем, что к этому времени я растранжирил все деньги. Ещё бы – столько соблазнов, на одно мороженое сколько уходит. До получения перевода от родителей оставалось около недели. И вот на эту неделю я купил килограмм кильки, буханку хлеба и полкило сахару. Тем и питался. А когда пришлось пройти от общежития в университет, прошёлся туда и назад пешком – заодно и с Москвой получше познакомился. (Для тех, кто не знает Москвы, – это ходу часа полтора.)
У дяди Евстраши
К теме этой главки примыкает ещё один эпизод, чуть выходящий за её хронологические рамки. Это была поездка к дяде Евстраше.
В это время дядя Евстраша жил на Урале в каком-то очень закрытом городке. Настолько закрытом, что позже, когда он умер, Валю не пустили туда посетить его могилу. В те годы за Уральским хребтом было множество таких мест. Чем там занимались, было строго засекречено, ясно, что не самыми мирными разработками. И уж я во всяком случае никак не мог бы узнать, чем занимается сам дядя.
Как раз в период вокруг моего поступления дядя Евстраша приехал в командировку в Электросталь, небольшой посёлок довольно близко от Москвы. Добираться туда нужно было на электричке. Поехал я к нему вскорости после начала моего учебного года, где-то в первой половине сентября. Могу уверенно датировать эту поездку, так как помню, что, сидя в электричке, пытался придумать определение определителя (простите за каламбур), а это было темой одной из первых лекций по алгебре. (В скобках для знакомых с такой алгеброй. На лекции нас познакомили с определителями 2-го и 3-го порядка. Мне было ясно, что дальше это определение будет обобщено на произвольный порядок, и я пытался сам додуматься до общей закономерности, что мне, конечно, не удалось.) Я выписывал на бумаге разные формулы, а сидящая рядом девушка, случайная попутчица, смотрела мне через плечо и расспрашивала, что я делаю. Но к теме это не относится. Ещё я запомнил, что, живя несколько дней в гостях, читал «Красное и чёрное». Вот ведь что запомнилось. К сожалению, о самом общении с дядей Евстрашей запомнилось гораздо меньше.
Выглядел дядя так же, как и во время пребывания у нас несколько лет назад. Такой же спокойный, серьёзный, одетый просто, но аккуратно. Мне так же было с ним приятно и интересно говорить – о первых днях в университете, о своих жизненных планах. И вообще было хорошо и легко. Я смотрел на него, и мне самому хотелось у него учиться.
Поразили меня условия, в которых жил дядя Евстраша, казалось бы, совсем несовместимые с ним. Это было совсем жалкое общежитие. Уже само здание какое-то захудалое. Полная заброшенность и необжитость комнаты. В ней с трудом помещались три или четыре койки самого примитивного типа – с металлическими сетками, застеленные старыми бледными одеялами. Такая же жалкая минимальная мебель – тумбочки, стулья, стол. В общем, в таком общежитии можно было вообразить мальчишек из техникума, а не пожилого уважаемого специалиста. По счастью, в это время соседи дяди были в отъезде, их койки пустовали, на одной из них я и устроился.
Прожил я у дяди несколько дней. Не помню, случалось ли мне после этого ещё к нему приезжать. А через несколько лет он умер. Узнал я об этом поздно. Было горько и обидно, потому что ему рано было умирать – он же был совсем не стар, серьёзно не болел или, по крайней мере, не казался больным. А главное – я почувствовал, что потерял действительно близкого человека.
Глава 2. Тётя Женя
За эту главу я принимаюсь с трепетом. Потому что мне предстоит рассказать об одном из самых добрых людей из всех, с кем я встречался. О человеке, которому я благодарен как мало кому в своей жизни.
Знакомство
После отказа от общежития передо мной во весь рост встала проблема: где жить? Решить её самостоятельно я был совершенно не способен – не представлял, с чего и начинать. Лихорадочно заметались родители в Смеле, разыскивая знакомых, у которых есть хоть кто-то в Москве. Такой знакомой оказалась мама Стасика Буржинского. (О моём друге Стасике я писал в прошлой части, надеюсь, читатель помнит). И вот мама Стасика (я с нею встречался несколько раз у них дома, но не помню, чтобы контактировал) дала адрес своей дальней родственницы Воробьёвой Евгении Сергеевны. По этому адресу я и отправился во 2-ой Самотёчный переулок.
Евгения Сергеевна оказалась женщиной средних лет, невысокого роста, с живым, немножко простоватым, приятным лицом. Когда я вошёл в её комнату, у меня упало сердце. Комната метров в 15, во всяком случае, никак не больше 20, была заставлена кроватями, в ней едва помещался небольшой стол. Было ясно, что поместиться там ещё одному человеку просто негде. Тем не менее, я сбивчиво пролепетал, что я из Смелы, друг Стасика, поступил в университет, ищу угол. Евгения Сергеевна меня ещё о чём-то немного расспросила. Всё это представление заняло минут 20. И каково же было моё удивление, когда она сказала: «Ну, перевози вещи, устраивайся».
Как мы жили
Зажили мы одной семьёй – так что я очень скоро стал считать, что живу с близкими родственниками. Евгения Сергеевна сразу же стала для меня тётей Женей, и я как-то даже забывал, что она мне не родная тётя. Конечно, настоящая тётя, причём очень любимая. Ещё в моей новой семье было два сына тёти Жени и её мама, называемая Бабушкой. Тётя Женя родилась в 1913 году, так что к моменту нашего знакомства ей было около 38. Сыновья были от разных отцов, о которых я что-то слышал, но без подробностей. Старший сын, Андрей, был на год младше меня и учился в 8-м или 9-м классе. Младший, Сашка, только поступил в школу. Бабушка была совсем старенькая, ласковая, пока не раздражалась, и не очень ориентирующася в действительности. Мы все, кроме Бабушки, жили в комнате, которую я описал. Как-то пристроили кровать для меня. Сашка, будучи ещё маленьким, помещался на каком-то сундучке. А Бабушка проводила основное время и спала в крошечной каморке без окон, выходящей в нашу комнату.
В квартире были ещё две маленькие комнаты – не больше нашей, в которых жили две старших сестры тёти Жени – тётя Лиза и тётя Вера, со своими детьми. Обе они тоже были без мужей, и каждая имела тоже по двое детей. Жили мы с ними вполне по-добрососедски, но всё же на некотором расстоянии. Тётя Женя потом со смехом рассказывала, что сёстры, узнав о новом жильце, назвали её сумасшедшей. Конечно, основания для этого у них были.
Моя новая семья вспоминается мне как идеальная. Конечно, главная заслуга в этом принадлежала тёте Жене. Она была простой женщиной, без особого образования, всю жизнь работала, поднимала семью, сейчас была рабочей на заводе. А характером тётя Женя обладала редким, делающим общение с ней исключительно лёгким и радостным. Первыми бросающимися в глаза её чертами были доверчивость и открытость. Только начиная с нею общаться, ты чувствовал, что она тебе верит, видит в тебе хорошего человека, готова тебе помочь, и ты так же начинал относиться к ней. И такая исключительная, свойственная очень немногим готовность прийти на помощь, которая проявилась при знакомстве со мной. Кто ещё был бы способен так ввести незнакомого мальчика в свою семью, в дом, где самим не хватает места? Была ещё в тёте Жене какая-то детскость. Хотя бы в том, как она мгновенно могла отключаться от изрядно тяжёлых условий жизни и радоваться какой-то возникшей приятной мелочи – билету в кино, а то и просто доброму слову. Как её было легко раззадорить: только что падала с ног от усталости – и вдруг начинает веселиться вместе с нами. Замечательным свойством тёти Жени была полная, редкая в нашем мире бесконфликтность. Конфликты между людьми, близко общающимися, прежде всего, в семье, возникают обычно из-за придирок по пустякам, из-за претензий друг к другу, из-за свойственной столь многим потребности перенести на других своё дурное настроение – тётя Женя ко всему этому была совершенно не способна. Это доходило у неё до крайности – она как будто совсем не умела ничего требовать. Для меня последнее свойство было идеальным условием общения с людьми.
Можно было ожидать, что при такой нетребовательности матери дети вырастут совершенно распущенными и разболтанными. Но нет. Андрей при предоставленной ему самостоятельности вырос подчёркнуто степенным, положительным и рассудительным. Очень заботился о маме, как бы снисходительно относясь к её несерьёзности. Так и представляю, как она вдруг начинает беспричинно веселиться, а он пытается её урезонить: «Ну, матушка, матушка». Единственным, что несколько противоречило описанному мной образу, была заметная несобранность. Он очень легко мог заговориться, а потом спохватиться, что опаздывает в школу, начинал лихорадочно метаться и собираться. Это было почти ежедневным явлением и каждый раз очень веселило нас, остальных.
Сашка же по молодости лет нередко шалил и бывал плохо управляем, за что заслуживал тычки от старшего брата. Я обычно в таких случаях вставал на его защиту и пытался его урезонить более гуманными методами. Это мне неплохо удавалось, потому что я пользовался у Сашки большим авторитетом и вообще он проникся ко мне добрыми чувствами. Так что довольно скоро я стал едва ли не главным его воспитателем. Вообще у меня была к нему некоторая слабость. Он был славным пацаном, и его добрые свойства с возрастом проявлялись всё ярче. А вырос совсем хорошим человеком, о чём речь впереди.
С обоими мальчиками у меня сложились вполне братские отношения. Они воспринимали меня как старшего брата. Даже для Андрея, не слишком отличавшегося от меня по возрасту, я был человеком авторитетным – ещё бы, уже студент, да ещё самого МГУ. Мы с ним вели беседы на самые разные темы, а тётя Женя и Сашка, как люди менее образованные, прислушивались. Например, обсуждали творчество Маяковского, большим почитателем которого был Андрей, или Есенина. Не помню, чтобы мы детально обсуждали политические темы, хотя своего скепсиса по отношению к официальной идеологии я не скрывал. Андрей же был ортодоксальным комсомольцем.
В общем, наши отношения характеризовались полной гармонией. Грешно сказать, но я чувствовал себя здесь более гармонично, чем в своей семье. Прежде всего потому, что был совершенно свободен. Я жил, подчиняясь только своему внутреннему голосу, и никто не требовал от меня большего. Более того, я чувствовал, что именно такое поведение нужно от меня другим людям, и именно этим я приношу им радость и пользу. Да, да, именно пользу. Мне казалось и кажется, что моя жизнь в этой семье была как-то нужна и ей, что я приносил что-то, что они до тех пор не имели: больше выхода в мир, интересные разговоры, какой-то положительный эмоциональный настрой.
Конечно, ни о каких отношениях в форме платы за жильё и речи быть не могло. Когда я заикнулся об этом при первом визите, тётя Женя замахала руками: какая плата, будешь участвовать в расходах, сколько сможешь. Так мы и стали жить.
Свои доходы университетских лет я запомнил: 290 рублей стипендии (плюс 25%, когда получал повышенную) и 300 в месяц присылают родители. (Это было до «денежной реформы» 1961 г. Таким образом, в переводе на «новые» рубли, ходившие до начала 90-х, всего я имел 59 рублей. Конечно, цены были поменьше, так что купить на них можно было больше, чем на те же 59 рублей в 60-е, 70-е и тем более 80-е годы). Основную часть этих денег я отдавал тёте Жене в общий котёл. Оставлял кое-что себе на мелочи. Прежде всего, святым делом было посещение кафе-мороженого в день получения стипендии; ещё пару дней после этого я покупал мороженое на улице. Ах, где теперь это замечательное мороженое! Опять же после стипендии или денежного перевода приятно было побаловать домашних каким-нибудь тортиком – это их всегда радовало. Или купить на всех билеты в кино. А ещё каждый месяц нужно было пройти по букинистическим магазинам.
Жили мы небогато. И жизнь наша была довольно безалаберной. О еде вспоминали тогда, когда наступало время поесть, и тут зачастую оказывалось, что запасы кончились, да и с наличными негусто. Как-то начинали выкручиваться. Кто свободен, принимался за приготовление еды. Конечно, чаще всего это доставалось тёте Жене, но и мы с Андреем, а понемногу и Сашка, не отлынивали. (Для меня это было внове – дома мне подавали всё готовое).
Вот я представляю себе, как прихожу после университета домой. Там как раз собираются ужинать. Нужно сварить картошку, она дома есть, а вот за сосисками нужно сбегать в магазин. Тётя Женя наскрёбывает какие-то рубли, я бегу в магазин, а Андрей принимается чистить картошку. Потом садимся за стол, болтаем, шутим, подначиваем друг друга.
А то утром я ставлю на плиту макароны, а сам принимаюсь за какую-то книгу или учебник. Через час с чем-то в комнату в дверь стучится тётя Вера и сообщает, что наша кастрюля сгорела. После этого ещё долго все весело вспоминают этот случай.
Или раннее утро, тётя Женя приходит после ночной смены. Работа у неё тяжёлая – на каком-то горячем производстве. Приходя, валится с ног, на неё страшно смотреть. Мы с Андреем, насколько можем, стараемся её обслужить и поднять настроение. И это таки удаётся. Вот она уже смеётся, рассказывая какую-то историю.
В общем, при нашей бедности мы жили совершенно беззаботно, как птицы небесные, «ако не сеют, не жнут». И как-то не замечали трудностей, например, тесноты в комнате. Это всё тоже мне очень нравилось и соответствовало представлениям о правильной жизни: жить скромно, ограничиваться малым, не стремиться к лишнему, не слишком заботиться о материальном.
Приводил я к нам домой своих университетских друзей-приятелей, ребят и девушек, и все они тоже легко сходились с тётей Женей. А мне потом выражали своё восхищение ею, поражаясь замечательной атмосфере нашего дома. Тётя Женя любила принимать этих гостей. Связи её с некоторыми из них сохранились ещё надолго и после того, как я оказался далеко от Москвы. А кое-кого унаследовал и Андрей. Через несколько десятков лет я с удивлением узнавал, что он продолжает видеться и дружить с некоторыми из моих старых приятелей и приятельниц, которых я сам давно потерял из виду.
Расскажу и о развлечениях, которые мы иногда устраивали себе. Больше всего запомнились выходы на каток. Каток был сравнительно недалеко от нашего дома, и мы имели обыкновение выходить на него ночью, когда он уже был закрыт. Очевидно, для того, чтобы не платить денег. Если же шли в обычное для публики время, то, кроме нас с тётей Женей и Андреем, в этом участвовали мои университетские друзья – чаще всего Кант Ливанов, а ещё какая-нибудь девушка, за которой я в это время ухаживал. Бывало морозно и весело. Больше всех веселилась тётя Женя – совсем как девчонка. Портила общую картину только моя абсолютная бездарность в этом роде занятий. На каток мы ходили уйму раз, а я оставался на том же уровне, что в самый первый день. Главной моей заботой оставалось не упасть, стоя на коньках. Стоя, потому что преимущественно этим и ограничивалось. Передвигался я с трудом, мелкими шажками, а, оттолкнувшись, проскальзывал совсем немного. О падениях при этом и не говорю. Я так никогда и не понял, как люди ухитряются передвигаться на столь неудобных приспособлениях, да ещё так быстро. Это впрочем не мешало получать некоторое удовольствие – главным образом, отражённое, потому что мои компаньоны радовались по-настоящему.
А летом мы как-то поехали в Серебряный Бор, и я поразился жалкости этого пляжа по сравнению с нашими южными. Куча народа, грязный песок, никакой природы. Мы взяли лодку. А когда Андрей прыгнул в воду, его схватила судорога, и пришлось приложить немало усилий, чтобы затащить его назад в лодку.
В конце первого года моего пребывания в Москве проведать меня приехал папа. Эти несколько дней его пребывания были праздничными. Он приносил торты и цветы, мы все вместе гуляли, ходили на какой-то фильм. Ходили мы с ним по музеям, ели мороженое, кажется, тоже пошли в Театр кукол. Он остался доволен тем, как устроилась моя жизнь в Москве. И сам был таким весёлым и, конечно, доброжелательным. Видно было, что ему было хорошо отдохнуть здесь от служебных и домашних забот. Тётя Женя была им восхищена – трудно было не восхититься моим папой.
Забегаю в гости
Я прожил у тёти Жени два года – на двух первых курсах – пока не построили здание МГУ на Ленинских горах, где мне дали комнату в общежитии. Но и после этого продолжал её частенько навещать, один или с приятелями. В общем, у нас оставались отношения близких родственников – близких по духу и симпатиям. Представлял я тёте Жене и небезразличных мне девушек, и она находила с ними общий язык, с некоторыми потом долго дружила.
А вот когда я покинул Москву, наши связи стали слабеть. Мы, конечно, переписывались, но это уже было не то: тётя Женя относилась к числу людей, с которым необходим непосредственный, живой контакт.
После меня
А теперь забегу наперёд и расскажу о будущем этой семьи, когда меня уже рядом не было.
Наверное, я оказался рядом с тётей Женей в лучший период её жизни. А дальше жизнь наносила ей удар за ударом.
Вскорости после моего отъезда Андрей поступил в какой-то техникум. У него появился товарищ Володя, приезжий, которому негде было жить, и тётя Женя, конечно, его приютила. Я его видел, но немного, и впечатления о нём не составил. Мальчик как мальчик. И вдруг он повесился. Тётя Женя это очень тяжело переживала.
К тому времени они жили уже в другой квартире – только с одной из сестёр, тётей Лизой. У тёти Лизы был сын Илюша, на пару лет младше Андрея, мальчик добрый, но с некоторыми проблемами в умственном развитии. Учиться он не мог, пошёл на производство, на какую-то фабрику. И там однажды свалился в котёл с кипящей водой – и сварился заживо. Можно представить, что после этого стало с его матерью. И с тётей Женей, знавшего этого Илюшу от рождения.
Когда я после всего этого приходил к тёте Жене, мне казалось, что похороны были только вчера.
Мальчики между тем выросли.
Андрей окончил техникум, стал работать на производстве, женился, потом разошёлся. Ребёнок остался у жены, и Андрей страдал.
Сашка, окончив школу, дальше учиться не стал, а ушёл в геологическую партию. Подозреваю, что не без моего влияния, – я, увлекшись туризмом и альпинизмом (об этом впоследствии), как и многие из этой братии и вообще из моего поколения, был увлечён «романтикой странствий», частью которой была романтизация профессии геолога. Возможно, это с моей лёгкой руки передалось и Сашке. Так он и пропутешествовал чуть ли не десяток лет. В редких случаях, когда мне удавалось, будучи в Москве, повидать тётю Женю, я его не заставал – экспедиции. Во взрослом состоянии я его видел, кажется, только один раз. Было это где-то в конце 60-х. Сашка приехал в Киев и явился к нам в гости с несколькими своими друзьями – парнем и девушкой. Было странно видеть взрослого Сашку – красавец-парень, на полголовы выше меня, с густой белокурой бородой и доброй улыбкой.
А ещё через несколько лет я узнал, что он погиб. Их отряд стоял в тайге, у реки, рядом с пионерлагерем. Пошли большие дожди, река превратилась в бурный поток, всё сносила на своём пути. Сашка перетаскивал детей в безопасное место. И вот, когда уже почти все дети были спасены, его унесло водой.
Пишу, вспоминаю его и плачу.
Это была осень 1971-го или весна 1972-го года – тяжёлый год, принесший столько потерь: смерти вокруг, аресты, разрушенные судьбы.
От этого удара тётя Женя уже не оправилась.
Я её видел после этого несколько раз, один из последних – после Чернобыля, в 1986-м. Жила она уже в третьей квартире, одна, Андрей жил со второй семьёй. Одна из комнат оставалась Сашкина. Висели его портреты – таким, каким я его видел в последний раз: борода, широкая улыбка. На стенах привезенные из Сибири иконы. На столах и полках куски минералов.
Тётя Женя слегка повредилась умом, путала события – и то, что было в прошлом, и сегодняшний день.
За что ей такая судьба?
Вскорости после этого она умерла.
А я вспоминаю тётю Женю как одного из лучших людей в своей жизни. Я у неё в неоплатном долгу – и за то, как она меня приняла, и за то, чему научила своим примером. Я с тех пор много раз повторял себе смысл этого урока: тётю Женю я равным образом не отблагодарю, значит, долг переносится на других людей: я должен когда-нибудь прийти кому-нибудь на помощь так, как она пришла на помощь мне.
Но я оказался плохим учеником – не способным что-либо подобное сделать.
Глава 3. Моя математика
Два периода
Моё пребывание в МГУ во всех отношениях резко делится два периода: первые два курса – с сентября 1951 по сентябрь 1953; и последующие годы. Во всех отношениях – это значит: по расположению самого университета, точнее, естественных факультетов; по месту моего проживания; по моему отношению к учёбе; по характеру жизненных интересов; и, наконец – по изменению самой атмосферы в стране.
Об этом делении на два периода я прошу помнить при чтении дальнейшего. Назовём их по месторасположению университета (точнее, естественных факультетов): «На Моховой» и «На Ленинских горах». (А можно было бы по месту жительства: «У Воробьёвых» и «На Воробьёвых горах»).
Рассказывать же, наверное, лучше не в хронологическом порядке, а отдельно – о разных сторонах своей жизни.
И начну со своих занятий математикой.
На Моховой
На первых двух курсах я был прекрасным студентом. Можно сказать, образцовым.
Моё преклонение перед математикой не имело границ. Я твёрдо верил, что это лучшая из наук и что не может быть более достойного занятия, чем математика. (Не считая, конечно, писательского труда, но это закрыто). Я чётко представлял своё будущее: овладею основными и самыми интересными математическими знаниями – и буду развивать математику сам, в каком-нибудь из самых интересных направлений. В каком именно, я не задумывался, потому что не очень представлял себе структуру современной математики.
Учение же давалось мне легко. Но прежде, чем говорить об этом, представлю своих главных профессоров.
Профессора: Хинчин, Шафаревич, Александров
Обучение математике на первых семестрах было организовано следующим образом. Полтора года были целиком отведены для первоначального знакомства с математикой и посвящались изучению трёх предметов, которые назывались: математический анализ, высшая алгебра и аналитическая геометрия. И ничего больше. (Наверное, в наших странах так же строится обучение и сейчас). И вот с этими тремя предметами нам здорово повезло – все три читали действительно замечательные учёные. Математический анализ – Александр Яковлевич Хинчин. Высшая алгебра – Игорь Ростиславович Шафаревич. Аналитическая геометрия – Павел Сергеевич Александров. Попытаюсь представить каждого чуть поближе.
Александр Яковлевич был замечательнейшим педагогом. Его известный учебник по матанализу представляется мне своего рода шедевром по простоте, продуманности и изяществу изложения. Я не представляю, чтобы можно было написать лучше для студентов первого курса. Таковы же были его лекции. Ровный, мягкий, спокойный голос. Ни одного лишнего слова. Как ни странно выглядит это сравнение, но какой-то пушкинский стиль. И чувствовалось, что всё это следует из его общего отношения к математике, которое я вычитал в его статье в «Математическом просвещении»: обучение математике необходимо каждому человеку; математика не только развивает логику, она учит честности. (Позже я услышал, кажется, от Владимира Андреевича Успенского: «Математика не относится к естественным наукам; это гуманитарная наука»). Внешне же Александр Яковлевич был невысокий пожилой человек, очень спокойный, умиротворённый. Казалось, так и должен выглядеть человек, который правильно прожил жизнь и осознаёт это.
Фамилия Шафаревича сегодня знакома почти каждому интеллигентному человеку и вызывает в основном неприятные ассоциации (на мой взгляд, довольно несправедливо или, по крайней мере, не совсем справедливо, и я попытаюсь это обосновать в своём месте). Мы же увидели перед собой молодого, крупного, весьма привлекательного человека, чем-то необычного среди других университетских профессоров. Мне теперь кажется, что я довольно скоро почувствовал, что интересы этого человека не ограничиваются математикой – на нём был написан какой-то интерес к миру. Вообще я сразу почувствовал к нему симпатию, и мне кажется, что при более близком знакомстве эта симпатия стала обоюдной. В Игоре Ростиславовиче интересным образом сочетались с одной стороны мягкость, с другой – жёсткость в предъявлении требований. Он говорил исключительно тихо, к каждому обращался с улыбкой, и за этим чувствовалась не напускная вежливость, а искренняя доброжелательность. И он же был единственным из профессоров и преподавателей, кто на свои лекции не пускал опоздавших. На первой же минуте первой лекции, когда кто-то ввалился в дверь и, чисто формально спросив: «Можно войти?», направился в задние ряды, Шафаревич, виновато улыбнувшись, тихо ответил: «Нет, нельзя». И больше опоздавшие к нему не входили. Он же был единственным, кто мог, услышав разговор на своей лекции, так же мягко сказать: «Вот вы там, справа, пожалуйста, освободите аудиторию». Ну, и, наконец, только он мог в начале лекции попросить кого-нибудь из сидящих в первых рядах напомнить содержание прошлой лекции. В результате чего непосредственно перед ним оказывались только те студенты, кто лекции действительно слушали (я в том числе), что, по-видимому, и было целью его непривычных опросов. Шафаревич был молодым (в смысле, недавним) профессором, и курс этот читал, по-видимому, в первый раз, непосредственно перед этим его построив. И курс вышел хорошо продуманным, интересно сконструированным, но гораздо более холодным, чем курс Хинчина, и без его изящества. (Вообще три этих предмета для меня остались навсегда связанными с личностью моих трёх учителей: изящный матанализ, рациональная и интеллектуальная алгебра, а аналитика – уже с некоторыми неожиданными поворотами).
Чем больше я узнавал мехмат, тем больше убеждался в том, насколько нетипичными в нём были два описанных профессора. Нетипичны тем, что их обоих, встретив где-нибудь на улице или в гостях, можно было принять за обычных, «нормальных» людей. То есть, можно было не узнать в них математиков, персонажей из анекдотов, людей не от мира сего. На подавляющее же большинство моих университетских профессоров их профессия накладывала неизгладимый отпечаток – в них можно было признать математиков с первого взгляда, увидев на другой стороне улицы. (Позже, на Киевском мехмате, меня поразило, как его профессора в большинстве своём не похожи на математиков: внешность чиновников или, скорее, партработников. Но с другой стороны, какие же это были математики?)
А вот Павел Сергеевич уже был математиком типичным: совершенно лысый, в очках с невообразимыми диоптриями, с каким-то гортанным каркающим произношением. И видно было, что мысли его заняты чем-то другим, далёким от этого места, да и вообще от этого мира. Отрешённость – вот как можно было назвать состояние, в котором пребывало большинство наших профессоров. Они казались случайными гостями в этом мире. Со стороны это выглядело смешным, а это было обратной стороной вовлечённости в собственный, математический мир. (Таким же был и Андрей Николаевич Колмогоров, о котором речь впоследствии). Лекции же Павла Сергеевича имели свою специфику. Разумеется, курс был хорошо логически продуман и структурирован. Читал его Павел Сергеевич уже не в первый раз. Однако трудно было его представить кропотливо выписывающим формулы, готовясь к лекции. Павел Сергеевич знал общий ход мысли, а слова находил по мере изложения. Фраза выкрикивалась громко, но не всегда была правильно составлена. Он быстро писал на доске, ломая мел, в длинных формульных преобразованиях нередко сбивался, размашисто всё стирал и начинал заново. В общем, привыкнуть к его изложению было труднее, чем к другим. Но, когда разберёшься, видишь: курс красивый.
Как я учился
Мне, как я уже сказал, учёба давалась легко. Главное – было интересно. Интересно было, например, осваивать понятие производной, или бесконечно малой, или многомерного пространства, или проективной плоскости.
Каждый из трёх курсов открывал передо мной математику с новой стороны. И так как курсы были хорошо продуманы, оставалось только следить за изложением. Для этого мне хватало лекций. Обычно я садился в одном из первых рядов, внимательно слушал и конспектировал. Конспекты я научился делать грамотно. Основные формулировки – и доказательства. Всё очень коротко. Так на запись лекции по матанализу у меня уходило чуть больше страницы в клеточку – правда, очень мелким почерком. Перечитывать лекции мне не было надобности – всё и так понятно, разве что вспомнить какую-то деталь. В учебники тоже заглядывал редко, тем более, что совпадал с курсом только учебник Хинчина; по остальным предметам изложение в учебниках отличалось от лекций.
Многим из моих товарищей математика давалась хуже, и я охотно пытался им помочь. Особенно часто это случалось с девушками – их больше беспокоило отставание, и они не стеснялись спрашивать.
Практические занятия, ведущиеся по этим предметам, несколько напоминали школу. Такое же решение задач у доски, задания на дом, такое же списывание, такие же контрольные. Об одном эпизоде стоит рассказать. Занятия по аналитической геометрии у нас вёл Пархоменко, слепой. Так вот, перед контрольной по аналитической геометрии наша группа постановила: никаких списываний. На остальных занятиях списывать было можно.
Спецкурс Делоне
Однако лекции и занятия не могли удовлетворить мою жадность к математике. Хотелось охватить побольше. У деканата висело несколько огромных досок, на которых развешивались объявления, приглашающие студентов на спецкурсы и семинары. Тот, кто не учился на мехмате МГУ (или, возможно, ещё на нескольких факультетах нашего и других университетов), не может представить себе подобного размаха. Во всяком случае, позже я нигде ничего подобного не видел. Объявлений таких было, наверное, сотни. Я с первых дней начал подходить к этим доскам и выискивать что-нибудь подходящее для себя. Но нет – приглашались в основном студенты начиная с 3-го курса, 1-й нигде не упоминался. И вот, наконец, я увидел объявление: «Курс лекций Б. Н. Делоне „О непротиворечивости геометрии Лобачевского”. Приглашаются студенты, начиная с 1-го курса». Это уже было для меня. Тем более, такая интересная тема. Я со школьных лет удивлялся: что это за такая странная геометрия? как это в ней из точки можно провести несколько параллельных прямых, когда всякому очевидно, что только одну? (Очевидно, такое представление разделялось всеми, кто слышал о геометрии Лобачевского, не будучи математиком, – например, Н. Г. Чернышевским. Уже позже, когда я разобрался в сути дела, меня веселила оценка Чернышевского в письме к сыну: «Некто Лобачевский, известный казанский помешанный…». Впрочем, материалистическую веру Николая Гавриловича возмущала и другая математическая идея – о многомерных пространствах; он там же с гневом писал об ушедших в идеализм математиках, изобретающих какое-то четвёртое измерение, «якобы населённое духами». Впрочем, я отвлёкся).
Конечно, я прослушал это курс, который длился семестр или два. Слушателей было немного, с 1-го курса только я да мой друг Кант Ливанов; всего же к концу курса нас оставалось где-то около полдюжины. Если разобраться, курс был нехитрым, и сколько-нибудь грамотному студенту (не первокурснику) его можно было изложить на одной или двух лекциях. Строится геометрическая модель, на которой выполняются все аксиомы Лобачевского: берётся круг, называется «плоскостью», его хорды – «прямыми», и очень хитро определяется «расстояние». Большинство эвклидовых аксиом на этой модели выполняются очевидно, а вот с доказательством аксиом о равенствах (где фигурирует «расстояние») приходится повозиться. Наличие же многих «параллельных» (правда, у Лобачевского они называются иначе), проходящих через фиксированную точку, очевидно. Вот и всё. Борис Николаевич всё это придумал не сам, а только изложил доказательство, изобретённое каким-то хитрым немцем. Для меня польза от всего этого была в том, что я осознал, что значит «доказать непротиворечивость».
Сам же Борис Николаевич был уже типичным математиком, то есть «не от мира сего». Пожилой, среднего роста, довольно коренастый, а точнее – широкий в фигуре, очень бодрый и подвижный, с особым «математическим» выражением лица, всегда улыбающийся. Приходил он на лекции всегда с опозданием минут на двадцать, усаживался на стол и начинал обычно так: «А вот вчера [т. е. в воскресенье, лекции у нас были по понедельникам] мы с моим учеником Игорем Ростиславовичем Шафаревичем…» – и дальше шёл рассказ о воскресной прогулке. Мы уже после первых лекций хорошо знали, что Борис Николаевич – страстный турист и альпинист, каждое лето ездит в альплагерь, а каждое воскресенье проходит пешком километров 30, но почему-то довольно странным способом – в основном по шоссе (или это я неправильно понял?). А однажды, по обыкновению усевшись на стол, долго просто качался от хохота: «А вчера мы шли в небольшой компании, и, представляете, (взрыв хохота) мой сын ногу сломал!»
Годом позже я встретил Бориса Николаевича в альплагере, где он был с тем же Шафаревичем. Я увидел его с группой ещё нескольких старичков уходящими на какую-то простенькую вершинку – что-нибудь более серьёзное было уже не для него. А в последний раз услышал о нём в 1968-м, и услышанное было нерадостным. Его любимый внук Вадим Делоне, поэт и диссидент, был среди участников демонстрации на Красной площади, его судили, отправили в лагерь. Мне говорили, что старик по этому поводу очень переживает.
Семинар Яновской
Где-то через месяц после первого объявления я встретил второе: «Спецсеминар по алгебре логики. Проф. С. А. Яновская, аспиранты О. Яблонский, А. Кузнецов». (У двух последних тоже было по два инициала, но я не запомнил). И тоже – приглашались, начиная с 1-го курса. Алгебра логики – что может быть лучше. Не помню, сколько участников было на первом заседании семинара, но скоро их осталось двое: я и красивая девушка несколькими курсами постарше. А где-то с середины года остался один я. Впрочем, для руководителей больше и не было нужно – равно, как не был нужен и я. Они собирались втроём – сначала Софья Александровна и Олег, а через часок подходил и пахнущий острым одеколоном Саша (так складывалась его репутация вечно опаздывающего, ставшая потом легендарной). Они увлечённо начинали обсуждать свои проблемы, значительную часть которых я, впрочем, понимал. Да и мудрено было не понять алгебру логики (позже она называлась логикой высказываний) – подумаешь, что за премудрость? Сама же Софья Александровна была маленькой толстой доброй старушкой в общем не очень-то математического вида. На старших курсах она преподавала у нас историю математики. По её добродушному виду трудно было представить, что в 30-е годы она боролась за материализм в математике. К счастью, к нашему времени эта борьба улеглась, и было непонятно, насколько тяжёло приходилось её жертвам. Были какие-то глухие слухи, что едва ли не главной жертвой стал Николай Николаевич Лузин и что многие из наших нынешних профессоров вели себя в связи с этим не самым достойным образам. Говорили, что вдова Лузина, Нина Карловна Бари (преподававшая у нас на 3-м курсе теорию функций действительного переменного) до сих пор их не простила, не подаёт руки и не разговаривает с ними.
Но я отвлёкся.
Математическое чтение
Так как я был увлечён математикой, то читал и соответствующие книги. Не учебники – я уже писал, что в этом не было нужды. А что-нибудь более увлекательное – «Основания геометрии» Гильберта, «Наглядную геометрию» Гильберта и Кон-Фоссена (всё-таки молодцы были немцы!), «Энциклопедию элементарной математики», журнал «Математическое просвещение» и т. п. А ещё взялся решать задачи из Пойя и Сеге – был такой замечательный задачник с задачами высокого уровня, предназначенный для развития математического мышления.
Зачёты и экзамены
Здесь пора рассказать о зачётах и экзаменах.
С зачётами вообще не было проблем – хорошим студентам, в числе которых был и я, их ставили «автоматом».
Сдавать же экзамены по математике я в это время любил. Готовиться к ним было легко – просто перелистывал лекции. И очень быстро выработал традицию – в последний день перед экзаменом после обеда отдыхать. Зимой хорошо пробежаться на лыжах. А летом мы с Кантом иногда снимали лодку на Москве-реке.
На экзамен я приходил в числе первых и сдавал одним из первых. Обычно каждый экзамен принимали двое: профессор, читавший лекции, и преподаватель, который вёл занятия. Считалось само собой разумеющимся, что хорошие студенты идут отвечать к профессору, одной из целей появления которого как раз и было познакомиться с такими. Так я и перезнакомился со своими любимыми профессорами. Именно как такое знакомство, да ещё с элементом занимательности я и воспринимал экзамен – в его успехе я был уверен заранее. Отвечать им было одно удовольствие. Я иногда даже позволял себе по ходу экзамена задать профессору вопрос о чём-нибудь, что меня интересовало.
Запомнился экзамен у Шафаревича во 2-м семестре. Мне этот экзамен нужно было сдать раньше, чтобы успеть поехать в альплагерь. Я позвонил Игорю Ростиславовичу, он спросил, когда я хочу сдавать, я ответил: «Когда угодно, лишь бы до такого-то числа». – «Завтра вас устроит?» – «Устроит». (Внутри что-то ёкнуло, потому что рассчитывал ещё позаниматься). На следующий день я явился в аудиторию, где Шафаревич то ли принимал пересдачу, то ли с кем-то разговаривал. Так как билетов не было, он просто назвал два вопроса, и я сел готовиться. Подготовился быстро, а он всё ещё был занят. Тогда я достал из сумки недавно купленный том Писарева и принялся читать. Шафаревич подошёл, поинтересовался: «Что это у вас?». Я показал, он одобрительно кивнул. Через некоторое время он пригласил меня, я ответил на вопросы. Он задал довольно много дополнительных вопросов (вообще Шафаревич на экзаменах спрашивал много), среди которых был такой: «Сформулируйте теорему такого-то». Я нагло ответил, что у меня плохая память на имена, так что не скажет ли он, о чём теорема. Он охотно сказал, я теорему сформулировал, а по его требованию наметил и план доказательства. В конце концов, получил пятёрку.
На первых двух курсах я по всем математическим предметам имел зачёты автоматом и пятёрки на экзаменах. Но повышенную стипендию, для которой требовались пятёрки на всех экзаменах, имел нечасто – подводили другие предметы, прежде всего «общественные». А особенно обидно было после первого семестра, когда я получил четвёрку по астрономии. Получил глупейшим образом – наш профессор Куликов (кстати, известный астроном, я читал его книгу ещё в школе) был добрейший человек, ставил только пятёрки и четвёрки, причём тому, кто имел пятёрку по другому предмету, пятёрка по астрономии была обеспечена. Но наша группа поставила экзамен по астрономии первым (это не описка – группа сама устанавливала дни и порядок экзаменов), на мне не было написано, что я отличник, а разница в знаниях студентов по астрономии была несущественна, да и не учитывалась.
Александров
Как видите, спецкурс и семинар, бывшие на 1-м курсе, запомнились мне не так плохо. А вот с памятью о 2-м обстоит хуже. То есть я не помню, чем занимался, хотя прекрасно помню своего научного руководителя.
На втором курсе моим научным руководителем (и по курсовой, и вообще) был Павел Сергеевич Александров. Личность это была на мехмате легендарной. Не припомню, чтобы у нас много рассказывали о Хинчине или Шафаревиче, а вот об Александрове баек было сколько угодно. Наверное, больше, чем о ком-либо другом.
Одна из древнейших – о надписи, которую он сделал в 20-х на одной из своих работ, даря её своему другу П. С. Урысону: «П.С.У. от П.С.А.». (Известно было, что их связывала трогательная дружба. Урысон был очень талантливым и подающим большие надежды математиком, но погиб молодым: утонул, заплыв далеко в море). Другая история относилась к посещению мехмата М. И. Калининым в 30-х годах. (Этот исторический эпизод был отражён на картине, украшавшей стену рядом с деканатом. Мы любовались картиной, узнавали своих профессоров и строили догадки о предыдущих. Но вот был ли там Лузин?) Калинин рассказал профессорам и преподавателям о надеждах, которые возлагает на них партия и правительство, а затем спросил, какие есть нужды и заботы у самих математиков. Воцарилось неловкое молчание, он дважды переспросил. И тогда поднялся Павел Сергеевич Александров и, громко каркая, заявил, что «совег’шенно не г’аботает убог’ная на втог’ом этаже». (Изложение этого эпизода считалось тем более удачным, чем громче воспроизводил рассказчик это карканье). Рассказывали, что Михаил Иванович знакомился с математиками не так просто, а потому, что его дочь собиралась выйти за математика; и ещё рассказывали, что после описанной встречи он ей это категорически запретил.
Павел Сергеевич относился к старшему поколению советских математиков, поколению 20-х годов, которые ещё ездили за границу, главным образом, в Германию, проводили там много времени, а свои статьи писали по-немецки и по-французски. Немецкий язык он как будто бы знал в совершенстве. И (опять же, по слухам) договорился с кафедрой немецкого языка, что полагающиеся для сдачи экзамена «странички» (внеаудиторное чтение) его аспиранты (для которых обязательным становился именно немецкий язык) должны сдавать ему лично. И в качестве таковых все они должны были сдавать вторую часть «Фауста».
Ещё было известно, что П. С. не признаёт, что математиком может быть женщина. И ещё, что он не выносит курения. Потому очень удачным было найдено (несколько позже описываемого времени) условие «американки» (американского пари): студентка (Луиза Чураева) должна была подойти к Павлу Сергеевичу с просьбой принять у неё экзамен, усесться и закурить. Конечно, реально на это никто не мог бы рискнуть, но сама идея понравилась.
Так вот, возвращаюсь к своей истории.
По окончанию 1-го курса Павел Сергеевич приходил принимать экзамены во все группы. Разумеется, ему шли отвечать только мальчики, причём лучшие. Было известно, что он отбирает участников для семинара, который будет вести на 2-м курсе. Происходило это таким образом. Если студент Павлу Сергеевичу начинал нравиться, он его долго и придирчиво спрашивал. Если продолжал нравиться и после этого, ставил пятёрку и говорил: «Пг’иезжайте ко мне в Болшево такого-то числа в таком-то часу». В Болшево, всем известно, была дача Павла Сергеевича и Андрея Николаевича Колмогорова, которые между собой очень дружили. Из моей группы Павел Сергеевич выбрал двоих – меня и Канта. У Павла Сергеевича был твёрдо установившийся обычай – со всеми своими учениками, даже самого младшего ранга (т. е. вчерашними первокурсниками, из которых, может, ничего путного и не выйдет – как, к слову сказать, не вышло из меня), он общался главным образом на своей даче, принимая их как гостей.
Мы с Кантом в указанный день постучались в дверь дачи Павла Сергеевича, и весь день провели с ним втроём. (Тоже характерно – отобрал-то он несколько десятков студентов, а знакомился отдельно с каждыми двумя-тремя). Только однажды зашёл что-то сказать ему Колмогоров. Павел Сергеевич знакомился с нами, расспрашивал, причём о математике шло мало. Большую часть времени мы провели на реке. Сразу же взяли лодку и относительно долго гребли. Много купались. Я-то к тому времени едва научился держаться на воде, а вот для Павла Сергеевича та речка была смешной – все знали, что он прекрасный пловец, заплывающий в море на несколько километров. (Как он только при своём зрении догадывался, где остался берег?) Много загорали, так что я совсем обгорел, и несколько дней потом коже было больновато. Меня поразила фигура Павла Сергеевича. По нашим представлениям, он был человеком старым (сейчас бы я сказал, пожилым). А фигура – двадцатилетнего спортсмена. Железные мышцы, великолепный загар. Он предложил нам побороться. Был не тот случай, чтобы поддаваться старшему по возрасту. Мы старались, как могли, но он положил каждого из нас на лопатки без особого труда. Потом пили чай с пирожками.
А осенью я начал заниматься в семинаре Александрова. И вроде неплохо получалось. Но вот чем занимался – убей Бог, не помню.
Слегка ещё могу вспомнить курсовую: какая-то экзотическая (т. е. не вполне эвклидова) геометрия – то ли со счётным числом точек, то ли с конечными расстояниями. Причём, насколько можно, большинство эвклидовых аксиом выполнялось. В общем, какая-то забава. И, очевидно, совершенно в стороне от серьёзных интересов математики. В таком выборе было что-то символическое: на уровне таких забав я в математике и остался.
Вспоминается же, как мы бывали у Павла Сергеевича в Болшево. Как всегда нас, студентов, было немного. Иногда к нам присоединялся Колмогоров. Зимой бегали на лыжах, причём наши профессора легко нас обгоняли. Каждый раз Павел Сергеевич, известный меломан, ставил какую-нибудь музыку. И вот здесь с первого же раза я «блеснул». Хозяин спросил, что бы мы хотели послушать. Кант, неплохо разбиравшийся в музыке, что-то назвал. Я же, будучи не просто глубоко невежественным в музыке, а принципиально невежественным, попросил: «А мне, знаете, что-нибудь лёгкое, вот Канделаки поёт: „Где в горах орлы да ветер, на-ни-на, на-ни-на”» (эту песню крутили у нас вечером в альплагере). Павел Сергеевич с оторопью посмотрел на меня, как-то непонятно зафыркал, однако заказ мой не исполнил. В последующем, спрашивая гостей, какую музыку кому ставить, доходя до меня, говорил: «Ну, а Мише не нужно».
Вот так я занимался математикой на первых двух курсах. Так бы и дальше!
На Ленинских горах
Но судьба сложилась иначе.
С 3-го курса и я стал другим, и математика вокруг меня стала другой. И непонятно, чту из этого больше сказалось на наших с ней отношениях.
Здесь поговорим об изменившейся математике. Собственно резко другой она стала ещё с середины 2-го курса, с 4-го семестра. До того было три курса (в смысле: предмета), так сказать, общематематической культуры. А теперь пошли курсы более частные: сначала (в 4-м семестре) дифференциальные уравнения и дифференциальная геометрия. А потом полный джентльменский набор: теория функций действительного переменного (всегда говорилось сокращённо: ТФДП), теория функций комплексного переменного (ТФКП), дифференциальная геометрия; потом дифференциальные уравнения, вариационный анализ, уравнения в частных производных, интегральные уравнения, вариационный анализ. И ничего из этого меня не заинтересовало. Я объяснял себе это тем, что все эти курсы носят скорее технический и прикладной характер (для математического чистоплюя слово «прикладной» носило явно негативный оттенок), что в них не чувствуется высоких математических идей. Частично это, пожалуй, и верно. Однако. Такими скучными для меня дифференциальными уравнениями мог же чуть позже заниматься сам Арнольд, получив в них серьёзные результаты. (Дима Арнольд был на 3 курса младше меня, но едва ли не с 1-го курса вокруг него был впоследствии оправдавшийся ореол будущего математического светила. Чуть подробнее я рассчитываю рассказать о нём чуть дальше). Да и ТФДП, если разобраться, содержит массу интересных идей (типа интеграла Лебега), которые могли быть мне близки. Но нет. Здесь уже причина во мне самом – отвлекали меня от математики мои новые интересы. Как сказано в классической поэме:
И перестал в году трудиться.
«Что я, – подумал он,– пижон?»
Своим идейным багажом
Багаж студенческих традиций
Приняв, стал жить, как я и вы, –
Не утруждая головы.
(Это «Евгений Стромынкин». Не себя ли имел в виду автор, ушедший от физики в политически подозрительное стихотворство и самиздатскую публицистику, что в конце концов привело его в эмиграцию? Я к нему ещё вернусь).
Так что я вдруг из образцового студента превратился не то, чтобы в неуспевающего, но так – пробавляющегося от сих до сих. Я уже без прежней радости шёл на экзамен, понимая, что во многих вопросах плаваю. На экзаменах до троек не доходило, но бывали четвёрки. А перед уравнениями в частных производных я вообще испытывал трепет, что, в конце концов, оказало решающее влияние на линию моей жизни. Перед зимней сессией на 4-м курсе я два месяца провалялся по больницам (о чём речь ещё впереди). Вернулся из них в начале марта. В принципе я мог бы с опозданием сдать сессию и догнать свой курс. Если бы это было на 1-м или 2-м курсе, я бы, конечно, так и сделал. Но сейчас, когда я вспоминал, что сначала должен сдать экзамен по частным производным, у меня опускались руки. И выбрал другой путь – взял академотпуск и остался на второй год на 4-м курсе. Как увидит читатель, это решение оказалось роковым.
С 3-го курса соответственно меньше меня интересовали и профессора. Тех, кто был на первых курсах, я до сих вспоминаю как живых и интересных людей (свидетельством тому сама эта глава). Те, кто был потом, мелькнули передо мной как тени (кроме Колмогорова, о котором речь дальше), я запомнил только их лица и фамилии, зачастую даже без имён-отчеств. Бари, Меньшов, Рашевский, Векуа, Люстерник, Олейник – кто там ещё? Заслуживает упоминания разве что внешность Дмитрия Евгеньевича Меньшова, читавшего нам ТФКП, потому что она бросалась в глаза сразу же – даже на фоне других университетских профессоров. В этом плане его можно было бы считать математиком в квадрате – он настолько отличался от обычного профессора математики, того же Александрова, насколько последний отличался от рядового гражданина. Высокий, с маленькой головой и всколоченной бородой, несколько донкихотского вида, но не столь романтичный и более оторвавшийся от действительности. В общем, поглядев на этого человека, трудно было поверить, что он не обитатель сумасшедшего дома. Представить какой-нибудь контакт с ним было трудновато, и я не помню, чтобы слышал о таких контактах от своих коллег. (Пусть уважаемый профессор простит меня с того света за столь непочтительные строки).
Курсовую на 3-м курсе я писал у Шафаревича. Это была работа по локально эвклидовым пространствам. Так называются пространства, в которых каждая точка имеет окрестность с эвклидовой метрикой. (Для «тёмного» читателя. Представьте себе вытянутый прямоугольник. Мысленно склейте противоположные длинные стороны, получится труба. Мысленно склейте два конца трубы – отвлекаясь от того, что по ходу труба будет морщиться. Получится тор, то есть бублик. Вот поверхность этого тора и есть одна из локально эвклидовых плоскостей. Ведь на ней любой маленький круг есть круг на плоскости). Локально эвклидовы пространства размерности 2 (т. е. поверхности) уже были известны, мне предстояло исследовать пространства размерности 3. Как видите, задача тоже игрушечная – так, математическая миниатюра, далёкая от главных направлений математики. Запомнилось, что литература к ней была на трёх языках, и когда я сообщил Шафаревичу, что не знаю никаких, кроме немецкого, он посмотрел на меня так, как будто я сказал, что не умею читать по-русски: «Так это же математические работы!». Смысл его слов был в том, что математическую работу можно читать на любом языке. (Кстати, моим сокурсникам доставался и голландский, и шведский). Насколько я помню реакцию своего руководителя по окончанию работы, я не очень хорошо справился со своей задачей.
А курсовую 4-го курса не помню совсем.
Не лучше было со спецкурсами и семинарами. Если на двух первых курсах они были полностью добровольными, то, начиная с 3-го, студент обязан был некоторое количество их посещать – по своему выбору – и даже сдавать экзамены. Так что я точно что-то посещал – и снова не помню, что именно. Помню, несколько раз приходил на семинар Жени Дынкина (именно так у нас почему-то все называли Евгения Борисовича Дынкина – недавно возникшее математическое светило). Семинар имел громкую славу – он был элитным, там собирались не только способные студенты со всех курсов, не только аспиранты, но и многие преподаватели, приходили математики и из других вузов. Разбирались там принципиальные проблемы из самых разных разделов математики. Выглядело это так: собравшиеся корифеи дискутировали между собой, не очень беспокоясь об остальных. «Корифеи» – не значит «профессора и преподаватели». Демократичность семинара проявлялась в том, что значение имел не титул, а ум, и на нём готовы были прислушаться к мнению любого первокурсника. (По-моему, Арнольд имел на нём достаточный авторитет, будучи ещё на 2-м курсе). Так что считалось нормальным, что, сидя на этом семинаре, ты не всё понимаешь. Я же, побывав на двух или трёх занятиях, не понял ничего. Как будто говорили по-китайски. Это меня насторожило, тем более, что присутствовали и вроде бы как-то разбирались с десяток студентов курсом не старше меня. Выходит, я здорово оторвался от математики. И, тем не менее, это не побудило к тому, чтобы серьёзнее математикой заняться. Моя реакция была противоположной – я просто больше не ходил на семинар Дынкина.
Вообще же дело было, конечно, не в характере окружавшей меня математики, а во мне самом. Захотел бы я найти для своих занятий математическую теорию по своему вкусу – в МГУ выбор был неограниченным. Те же алгебра или топология – уж точно самая чистая теоретическая математика. Но я уже мало смотрел в её сторону.
Вот и всё о моих занятиях математикой с 1-го по 4-ый курс (о 5-м разговор будет особый).
Минаков
В этой главе стоит сказать несколько слов на тему, не вполне подпадающую под её заглавие, но содержательно близкую. Речь идёт об изучавшихся нами предметах естественно-научного цикла. Таких было три: астрономия, теоретическая механика и физика. Мы их, преодолевая внутреннее сопротивление, учили, кое-как сдавали экзамены и забывали. Говорить же я буду об одном из них – теоретической механике.
Строго говоря, теоретическая механика, преподававшаяся на 2-м курсе, не была для нас совершенно чуждым предметом. Ведь факультет назывался механико-математическим, предстояло разделение нас на математиков и механиков, и для последних этот предмет был профилирующим. Но лучшие студенты, к которым в то время принадлежал и я, твёрдо знали, что их удел – не какая-то механика, а математика, царица наук.
Механику же я вспомнил по единственной причине – её нам читал Андрей Петрович Минаков. На одной из лекций он сказал: «Пройдёт время, и вы будете вспоминать: читал нам Андрей Петрович, очень занятно читал, а вот что читал – не припомню». Это предсказание исполнилось даже в большей степени, чем можно было рассчитывать. Потому что я забыл не только содержание его лекций, что совершенно естественно, но и главное в них – подробности спектакля. А их, действительно, можно было назвать спектаклями. Сама внешность Андрея Петровича была артистической – пожилой актёр в роли старого профессора. Он играл тоном, мимикой, сыпал шутками, рассказывал байки. Вот вспомнилось начало лекции: «Запишите тему: О праве вектора называться вектором». И при этом курс был хорошо построен, было понятно, что свой предмет он знает великолепно. За всё это он пользовался огромной симпатией студентов. А, кроме того, было известно его добродушие – на экзамене, так же играя, ставил только пятёрки и четвёрки.
Ну, вот теперь действительно всё.
Глава 4. На Моховой: сокурсники и друзья
Кого вспомню
Описанию своих отношений с коллегами по курсу, а потом и по факультету я должен предпослать одно отступление.
Между моими отношениями с товарищами в школе и в университете было большое различие. Начиная с количества. Тех школьных соучеников, отношения с которыми для меня что-то значили, были считанные единицы, почти всех их я и назвал. А в университете я постепенно становился очень общительным человеком – особенно начиная с 3-го курса, с переезда на Ленинские горы.
В первые месяцы учёбы я контактировал главным образом со своей группой, потом перезнакомился со многими на курсе, а в последние годы знал чуть ли не полфакультета. Если точнее, то пару сотен студентов знал. И со многими из них имел достаточно дружеские отношения, многие для меня немало значили.
И сейчас, когда я пишу эти воспоминания, «хотелось бы всех поимённо назвать». Но пытаться не буду, потому что, если бы и попытался, ничего бы не вышло. Одних просто забыл. О других осталась чисто общая, эмоциональная память – то есть помнишь, какой славный человек, а каких-либо слов или поступков уже и не помнишь.
И, наконец, о третьих. Есть люди, отношения с которыми были очень важны для тебя, к которым нередко возвращаешься памятью и о которых мог бы даже не так мало рассказать. Но это отношения такого рода, которые другим не имеет смысла пересказывать. По крайней мере, в записках такого рода, как пишу я. (Используя математическое словечко – эти отношения «не общезначимы»). Прежде всего – отношения с девушками. Я здесь имею в виду даже не влюблённости или романы (о которых рассказывать, само собой, неуместно), а дружбу. Байрон где-то писал об особой способности женщин к дружбе и о том, как высоко он эту дружбу ценил. Я вполне разделяю его оценку. В студенческие годы я дружил со многими девушками. Но, к сожалению, чувствую себя неспособным описать это так, чтобы заинтересовать читателя. Да и со многими ребятами – казалось бы, было хорошо и интересно общаться, а интересно рассказать не получится. С другими наоборот: был от человека далеко, почти не имел ничего общего – а он вдруг попадает в какой-то интересный эпизод, и о нём рассказываешь.
Так что я сумею рассказать только о немногих людях и коротко. И место, которое уделяется тому или иному человеку в моём тексте – как в этой, так и в последующих частях, – совсем не соответствует месту, которое он занимает в моей памяти и душе. Многие-многие интересные и достаточно близкие мне ребята и девушки (а дальше – мужчины и женщины) останутся почти за пределами этого описания. И если вообразить себе, что они его читают, я хотел бы им сказать: «Друзья мои! Я вас помню и люблю. Но не обижайтесь на то, что вас здесь нет или вас так мало. У меня просто не выйдет рассказать о вас столько, сколько хотелось бы». (Как сказал мне когда-то Илья Глазунов при моём посещении его мастерской: «К сожалению, я не могу оказать вам столько внимания, как вы заслуживаете». Уверен, что я говорю это более искренне).
И ещё одно предварительное замечание.
Студенчество, да и вообще молодёжь описываемого времени – последних лет сталинской эпохи – сильно отличалась от тех, которые пришли ей на смену через несколько десятилетий, не говоря уже о нынешних временах. Так что читателю, отделённому от меня несколькими поколениями (буде такой найдётся), нелегко их представить.
Сейчас это поколение должно казаться странным. С одной стороны, эти юноши и девушки были совершенно одурманены официальной пропагандой, слепо ей верили, не понимали мира, в котором живут, не помнили совсем недавней истории – репрессий, голодомора, нищету вокруг воспринимали как норму, не видели закрепощения крестьян, общего бесправия. С другой – они обладали нравственным здоровьем, открытостью, готовностью к дружбе. Добавлю – пока партия не прикажет предать друга или близкого человека. По счастью, в моё время партия в массовом порядке этого не приказывала. Так что меня с самого поступления окружали славные ребята и девушки, нас связывали доброжелательные и товарищеские отношения.
Курс и группа
На моём курсе было около 250 студентов. Эту цифру подтверждают списки, ведущиеся хранителями курсовой памяти. На конец прошлого (2006-го) года в списке живых было 184 человека, в списке уже ушедших – 60. (Кстати, учитывая, что нам за 70, не такой плохой процент выживших).
Курс делился на 9 групп. Моя группа, 19-я, последняя по номеру, по-видимому, и формировалась последней, а потому оказалась нестандартной, как сказали бы сейчас, по гендерному признаку. Судя по всему, деканат формировал группу за группой так, чтобы ребят и девушек было одинаковое количество. А в нашу вошли все оставшиеся. Так что оказался большой недобор ребят – 7 человек примерно на 20 девушек. В такой «женской» группе я и проучился первые два года, пока на 3-м курсе группы не переформатировали.
Как я говорил, на 1-м курсе мои знакомства ограничивались главным образом моей группой. Нельзя сказать, чтобы это была очень дружная, в смысле – сплочённая группа. С большей частью этих девочек, да и ребят тоже, у меня были минимальные контакты, иногда перекидывался парой слов. Да и у них между собой тоже. Подружился же я с упоминавшимся Кантом Ливановым, а с течением времени всё больше и больше сдруживался с несколькими девочками, с некоторыми дружен до сих пор. Но о них в последующих главах.
Вообще же на 1-м курсе я был не слишком общительным, по-видимому, бульшая часть внимания уходила на математику. Та же математика играла заметную роль и в отношениях с товарищами по группе. Я с первых же дней пользовался у них авторитетом, как студент хорошо успевающий, да ещё и такой, к кому можно обратиться за помощью. Значительную часть группы составляли девочки, с трудом постигающие университетскую математику, но достаточно прилежные. Они были заметно ошарашены после школы – там они были отличницами, а здесь вдруг вполне реальна перспектива двойки на экзамене. Одногруппник, который сам разбирается и готов помочь, был для них находкой. Мне же тоже нравилось разъяснять им математику (что, кстати сказать, занимало не так мало времени). И, кажется, это у меня неплохо получалось. Может быть, по этой причине я чувствовал, что мои коллеги (точнее, пользуясь польским словом, – коллежанки) по группе относятся ко мне с дружеской симпатией.
Группа – это ячейка социалистического общества. Были в ней и староста, и комсорг, и профорг. Комсомольское бюро прикрепило к нам куратора (или как он там назывался) для проведения идейно-воспитательной работы. Этот куратор, аспирант Борис Власов сейчас представляется мне типичным комсомольским работником – с написанной на лице убеждённостью, которая не могла скрыть карьеризма. У наших девочек он пользовался симпатией и авторитетом – по-видимому, они нуждались в таком «правильном» руководителе, «настоящем человеке», убеждённом и рассудительном, твёрдом в принципах и моральных позициях. Как в кино. А у меня отношения с ним, естественно, не сложились – уж больно разные жизненные позиции мы представляли. Не могло его не коробить то, что в его группе студент не хочет вступать в комсомол, и он на меня пытался давить. Группа в этом вопросе занимала в основном нейтральную позицию. То есть, для порядка и по поручению сверху кто-нибудь делал попытку меня уговаривать, но быстро отцеплялся.
В группе регулярно проводились собрания, только я начисто забыл, о чём там шла речь. Кроме каких-то текущих моментов – как организовать помощь отстающим и т. п.
Коля Гендрихсон
Хорошо запомнилось одно – постоянная травля Коли Гендрихсона. Гендрихсон был мальчик из нашей группы, довольно способный к математике и в совершенстве – по нашим представлениям – знавший немецкий язык. (Его мама преподавала немецкий в университете). Казалось бы, прекрасные «объективные данные». Но было что-то в Коле, что так и подталкивало окружающих его травить. Так собаки чувствуют, что человек их боится, и набрасываются на него – простите за сравнение. Вот и у Коли был постоянный страх в глазах, а кроме трусливости в нём чувствовалась ещё и лживость. Он мог пропустить занятия, сказать, что был на похоронах бабушки, а потом оказывалось, что бабушка жива-живёхонька. А то вместо субботника пошёл покупать шапку. Такое происходило с ним на каждом шагу, и группа каждый раз набрасывалась на него с каким-то ожесточением. В ряде случаев, подобных приведенным, для этого были основания. Не на пользу ему шло и вмешательство его мамы, появлявшейся на факультете с криками о «правнуке великого Ляпунова» (непонятно, были ли для этого основания).
Всё это приобретало характер травли – по крайней мере, в моих глазах. И не просто раздражало, а выводило меня из себя. Ещё и потому, что я объяснял это то ли еврейским, то ли немецким происхождением Коли – непонятно, что из двух было хуже. И я с остервенением бросался на его защиту. Вряд ли это ему сколько-нибудь помогло, разве что давало минимальную моральную поддержку. Любопытно другое – я, вставая на защиту травимого, сам не становился объектом травли, как происходит обычно. Моя защита раздражала куратора Бориса, который-то всё и организовывал. Так и чувствовалось, что он хотел бы натравить ребят и на меня, «противопоставляющего себя коллективу» и вообще «не поддающегося воспитанию». Но это ему было слабу.
Заговорив о Гендрихсоне, расскажу о его дальнейшей судьбе. Кончил он плохо. Имея неплохие способности, запустил занятия, провалил экзамены и, в конце концов, был отчислен. (Не думаю, чтобы это была просто расправа над евреем. Скорее всего, он морально сломался – не без участия нашей группы). На одном из старших курсов я, гуляя в Парке культуры и отдыха, зашёл в буфет-забегаловку, и, к удивлению своему, в подошедшем официанте узнал Колю Гендрихсона. Мне было неловко, но Коля обрадовался, натащил всякой снеди и выпивки, отказался брать у меня деньги, подсел и немного поговорил со мной. В его отношении ко мне чувствовалась признательность, а в упоминании однокурсников – обида. Говорил, что здесь вполне хорошо зарабатывает. А вид у него был такой же жалкий и затравленный, как и раньше. Ещё через несколько лет я услышал, что он умер – кажется, от туберкулёза. (Кстати, характерный пример «несправедливого» отбора материала. Кто мне Коля Гендрихсон? А вот написал о нём страницу. А какую-нибудь девочку, с которой дружил, едва упомяну в нескольких строках).
«Мероприятия»
Время от времени проводились какие-то групповые мероприятия. Запомнилась мне вечеринка, на которой я, подвыпив, футболил взятую со стола книгу – «Краткий курс истории ВКП(б)». (Выбор, конечно, был не случаен). Не очень разумный поступок. Долго развлекаться этим мне не дали, отобрав книгу.
А гораздо более яркое воспоминание – о выезде за город. Мы ещё были такие зелёные, что по своей инициативе это и организовать бы не сумели. Так что организовал нас Боря Власов, спасибо ему за это. Выехали на какое-то водохранилище, долго гуляли. Запомнилось ночное катание на лодках: тихая вода, ни ветерка, ярко светит луна. Всем очень понравилось. А мы, несколько ребят и девочек, с которыми я больше дружил, после этого и сами повадились время от времени ездить на водохранилище и кататься на лодках.
Так что же, это всё, что я могу вспомнить о своей группе, с которой проучился два года? Выходит, что всё. О группе как таковой. А о более близких ребятах и девочках могу вспомнить больше, и кое-что рассчитываю ещё рассказать.
Потребность в друзьях
Для молодого человека естественна потребность в Друге. Или в друзьях. Это не одно и то же. Друг (с большой буквы) – это по определению Единственный, самый близкий человек, родственная душа. На всю жизнь. Или так, что кажется, что на всю жизнь. Как Герцен и Огарёв. А друзей может быть много, они могут приходить и уходить.
Я и в школе, и в университете нуждался скорее в друзьях. Причём достаточно эгоистически – мне нужны были люди, с которыми я мог бы быть откровенным. В условиях всеобщей лжи и запуганности потребность иногда свободно высказаться приобретала почти маниакальный характер. Такая скорее социальная, чем личная потребность. Я нуждался в слушателе в гораздо большей степени, чем в собеседнике. Понимаю, что это признание меня не красит.
Помнится, меня немало заботило стремление выработать какую-то особую линию поведения, подчёркивающую мой нонконформизм. Конечно, я не мог позволить себе прямо высказывать свои оценки нашей жизни и строя. Но какими-то нюансами речи, выражением лица, многозначительным молчанием, не вполне понятными фразами всё время намекал на то, что у меня своя система оценок. И прощупывал собеседников – кому могу сказать больше. Таких собеседников набиралось не так и мало, где-то с десяток, но всё как-то не надолго. Поговорили, разошлись.
Сейчас я задумываюсь над интересным моментом. Наверное, многие мои «идейные» товарищи обращали внимание на то, что я среди них – белая ворона. Казалось бы, почему бы на меня не «стукнуть» по какому-нибудь поводу – такие поводы я давал, а, по известному утверждению, в то время каждый второй был «стукачом». Но нет, не «стукнули». Видать, у всех этих ребят представление о человеческих нормах поведения перевешивало «идейность».
Кант Ливанов
Дружил же я с Кантом Ливановым из своей группы, приехавшим в Москву из-под Саратова.
Короткий рассказ о Канте начну с забавного эпизода, связанного с его поступлением в МГУ. На собеседовании в его идеологической части экзаменующий задал вопрос о постановлении ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Ну, уж это-то Кант знал хорошо. Кратко изложив общие оценки, он начал бодро приводить цитаты из самих журналов (взятые из того же постановления):
В трамвай садится наш Евгений,
О бедный, милый человек.
Не знал таких передвижений
Его непросвещённый век.
Судьба Евгения хранила,
Ему лишь ногу отдавило
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: Идиот
Дойдя до этого места, Кант увидел, что экзаменатор побагровел. И, с трудом сдерживая гнев, задал Канту вопрос: «А вы клятву молодогвардейцев наизусть помните?» Кант, конечно, не помнил. «А эту мерзость запомнили? Идите». Так что вряд ли он охарактеризовал Канта положительно.
В ту пору новые знакомства я заводил с трудом, так что поначалу они ограничивались пределами академической группы. А в группе, как я сказал, было всего семеро ребят, сначала даже шестеро. Почти со всеми ними у меня так до конца учёбы и не сложилось никаких отношений. Только в Канте я как-то почувствовал родственную душу, да и он во мне тоже. Такая несколько ехидная улыбка, свидетельствующая, что к чему надо (например, к математике) он относится серьёзно, а к чему надо (например, к идеологии) – скептически. На этой основе мы и сдружились. Наши беседы скорей всего напоминали возникшие в последующую эпоху кухонные беседы, заключавшиеся в бесконечной критике советской власти, – правда, в основном с моей стороны.
Само собой, мы много времени проводили вместе – гуляли, катались на лодках или на коньках. Какие развлечения первых двух лет ни вспомню – всё с Кантом. Своим человеком стал он и у тёти Жени. Кажется, в конце 2-го курса Кант заболел, взял академический отпуск, потом появился курсом младше, и мы уже контактировали меньше.
Кант меня полностью превосходил, по крайней мере, в одной сфере – в отличие от меня, он знал и любил музыку. Часто ходил в консерваторию и сам играл на пианино, по-видимому, неплохо. Уже в общежитии на Ленинских горах часто садился за пианино (там они были в холлах на каждом этаже – точнее на двух этажах, холл был двухэтажным) и играл, собирая немало слушателей. По музыкальной линии Кант и вошёл в историю мехмата. На старших курсах он сочинил музыку к двум стихам Кости Белова, бывшему на курс старше нас, – «Осень» и «Звёздочка»:
Уже темно, а время только восемь,
Шумят деревья, ветрено с утра.
По тёмным стёклам барабанит осень,
По всем приметам, грустная пора.
Милый, задумчивый мотив. Теперь в холле по просьбе окружающих Кант частенько играл уже эти песни. Они оказались очень своевременным откликом на социальный заказ – началось время студенческой песни, а на мехмате таковой ещё не было, если не считать глуповатых поделок на известные мотивы с профессиональной лексикой («Раскинулось поле по модулю пять»). И эти лирические песни стали на мехмате культовыми, по крайней мере, на следующие полдесятка лет, которые я ещё мог отследить. Их пели, печатали в сборниках. Ещё несколько десятков лет вспоминали на встречах выпускников. Помнят ли их на нынешнем мехмате? И вообще, что там поют?
Дима Зубарев
Ещё одна дружба была другого рода. Комсомольское бюро дало нашей группе «общественное поручение» – «шефство» над больным. Больного звали Дима Зубарев, болел он костным туберкулёзом и лежал в туберкулёзной больнице в Поливаново. А опекать его следовало по той причине, что Дима собирался в будущем поступать на мехмат и написал письмо на факультет. В ближайшее воскресенье большая компания из нашей группы поехала в Поливановскую больницу. Она была далеко от Москвы, нужно было ехать сначала электричкой, а потом автобусом. Была зима, всюду лежал снег. На следующий раз мы приехали в меньшем составе. А потом ездили главным образом три человека – мы с Кантом и Таня Владимирова.
Я туда ездил, конечно, не по «комсомольскому поручению», а из интереса и симпатии к Диме. Вот с ним у меня совершенно не было потребности вести антисоветские беседы. Я довольно скоро понял и принял, что в идеологическом плане он ортодокс. Ну, и Бог с ним – не это в нём главное. А главным, что меня поразило, были стойкость и жизнелюбие. Ведь он на месяцы был прикован к постели, передвигался на костылях, мало и с трудом. Он был лишён всего, что с такой щедростью отпущено мне, – возможности ходить, любоваться природой, общаться с друзьями. Почти как в тюрьме. Я подумал, что на его месте потерял бы всякий интерес к жизни. А он был бодр, весел, интересовался книгами, математикой, фотографировал, делал какие-то безделушки из фанеры. Конечно, ему не хватало общения с людьми, и каждый наш приезд был для него радостью. Но радостью общение с ним было и для нас, по крайней мере, для меня. Мы много и живо говорили о разных вещах, обсуждали книги, рассказывали Диме о жизни на факультете. И я уходил от него, обогащённый его бодростью.
Так мы ездили к Диме несколько лет, по паре раз в месяц. Но почему-то запомнилось – всё зима да зима, снег да снег. И Дима – грузноватый, как и все мало подвижные люди, на костылях, с доброй, несколько смущённой улыбкой.
Здесь, прощаясь с Димой, добавлю, что через несколько лет, когда меня уже не было в Москве, он поступил на мехмат и окончил его. Но прожил после этого недолго – не дала болезнь.
Кронид
А самым близким моим другом на долгие годы стал Кронид Любарский.
Кронид учился на нашем курсе в группе астрономов. (В то время астрономов выпускал мехмат). Приехал он в Москву из Крыма, где ещё в школе занимался астрономией, работал в Симферопольской обсерватории, имел какие-то научные результаты.
Сейчас, когда я вспоминаю Кронида, мне представляется, что уже с первого взгляда его нельзя было не выделить среди других студентов. И это впечатление укреплялось, когда начинаешь с ним говорить. Вот я вижу его, удивительно живого, улыбающегося, увлечённого беседой. Располагающее умное лицо, очки, придающие профессорский вид.
С первых слов беседы становилось ясно, что это человек, увлечённый наукой, настоящий естествоиспытатель, будущий большой учёный. Такая живость, игра ума, и одновременно серьёзность размышлений – по этим качествам мне и сегодня Кронида не с кем сравнивать. И такая широта интересов.
Мы с Кронидом довольно быстро, едва ли не в первые недели, распознали друг в друге своих. И быстро сошлись. Я не помню, чтобы мы участвовали в каких-то общих развлечениях, например, прогулках или застольях. Это было чисто интеллектуальное общение, а поскольку мы оба были люди «умственные», рационалисты, то понятия интеллектуального и духовного общения для нас совпадали.
Меж ими всё рождало споры
И к размышлению влекло.
Действительно, кажется, мы обсуждали всё на свете: устройство Вселенной, физические законы, роль науки, литературу и живопись, пути человечества, русскую и мировую историю, глупости марксизма, злодеяния большевиков. Наши взгляды на мир были близки, и в основном мы соглашались друг с другом. И это, кажется, был первый случай в моей жизни, когда мне было интереснее что-то услышать от друга, чем высказаться самому.
А узнал я от Кронида многое – он во многих отношениях был куда образованнее меня. В частности, в литературе. Наши литературные вкусы зачастую совпадали. Например, оба любили Герцена. Но Кронид не так преклонялся перед Толстым, как я.
Если меня в то время можно было условно назвать толстовцем, то Кронид был пылким поклонником, можно сказать, последователем Писарева. Вряд ли мне удалось заразить его своим увлечением Толстым, а вот Писаревым он меня заразил. И я надолго полюбил Писарева, наверное, потому, что в моём сознании его образ переплёлся с образом Кронида – того, молодого Кронида. Та же живость ума, недоверие к авторитетам, склонность к иронии, культ разума, труда и науки. Мог ли я предвидеть дальнейшие параллели в их судьбе? Тоже тюрьма, а потом лагерь. Письма оттуда, впоследствии ставшие книгами. И, наконец, такая же гибель – при купании в море.
Другие литературные вкусы Кронида зачастую были далеки от писаревских. Вообще он любил и хорошо знал поэзию – слишком хорошо для поклонника Писарева. И сейчас, вспоминая наши беседы на литературные темы, я наталкиваюсь главным образом на поэзию. Так, он очень любил Тютчева, познакомил с ним и меня. Крониду я обязан и знакомством с Алексеем Константиновичем Толстым. А из зарубежных поэтов Кронид был большим почитателем Уитмена, и тоже заразил этим меня. Переводы из Уитмена он с увлечением читал вслух, а для себя любил читать его в оригинале.
К слову сказать, Кронид удивлял меня хорошим знанием английского – в те времена это было большой редкостью. Запомнился случай, как он пришёл сдавать английские «странички», не имея при себе книги. Преподавательница спросила: «Что же вы будете переводить?» – «А вот это», – ответил Кронид, показывая на лежавшую на её столе английскую книгу.
Ещё Кронид любил Омара Хайяма – и в русском, и в английском переводах. А других поэтов мы открывали для себя уже вместе, и сейчас трудно вспомнить, кто из нас находил их первым. Так мы оба увлеклись Хайнэ. А потом Лоркой. Нет, пожалуй, первым Лорку нашёл Кронид.
Я не собираюсь описывать наши литературные беседы – мы были литературными юношами, читали много, делились прочитанным, всего не упомнишь. Разве что вспоминается естественный для Кронида интерес к произведениям о науке – как художественной литературе (Кронин, Уилсон), так и научно-популярной (Пол де Крайф, он же Поль де Крюи).
Кстати, политика занимала в наших разговорах не так много места – Кронид не был так зациклен на ней, как я. Уродство нашего строя если и упоминалось, то как-то между прочим, как нечто, само собой разумеющееся.
А говорили мы не только о литературе и искусстве, но и на многие мировоззренческие темы. Особая тема – наука и вообще творчество, входившие в круг основных жизненных ценностей Кронида. Здесь хочу вспомнить несколько строк из единственного известного мне стихотворения Кронида, в которых он поднимает тост:
За гибкий ум и золотые руки,
Что движут человечество вперёд!
За тех, кому и жизни было мало,
Чтобы для нас обширный мир понять!
За тех, кого природа награждала
Великим счастьем – первому узнать!
(Это стихотворение он опубликовал в «Литературном бюллетене», о котором речь будет дальше).
Много позже, уже в лагере он писал: «И мне кажется, что иной цели, кроме творческой, придумать просто нельзя… Творческой – в смысле преобразующей и созидающей мир. В этом смысле деяние матери, воспитывающей ребёнка, – тоже творчество, как и наука. Творческой – в противовес разрушающей мир деятельности, уничтожающей или унижающей человека».
Запомнилось мне прозвучавшее в те годы шутливое замечание Кронида о марксистских философах. Перефразируя известное высказывание Маркса, он сказал примерно так: «Эти философы слишком стремились преобразовать мир. Им лучше было бы заняться его объяснением».
Кронид, продолжающий увлечённо работать в своей астрономии, представлялся мне кабинетным учёным, будущим научным светилом. Не мог я представить себе Кронида как общественного деятеля, политического борца. Да и он, наверное, не готовился к этому. И нелегко было разглядеть в нём ту внутреннюю силу, с которой он впоследствии максимально достойно принял вызов судьбы.
Чтение
На объявленную в заглавии тему я как будто бы сказал всё. Но к ней примыкает одна маленькая тема, о которой вроде бы в другом месте не расскажешь. Речь идёт о моём чтении.
В университетские годы я набросился на книги, кажется, с увеличившейся жадностью. Значительно увеличились мои возможности. Мало того, что в моём распоряжении была очень хорошая университетская библиотека – в двух шагах была Ленинская библиотека, или Ленинка, в которой можно было найти всё, о чём я только мог помыслить.
Русскую литературу я в то время читал мало – полагал, что с ней более-менее знаком. Уже упоминавшийся Писарев, павленковское издание которого в 6 томах я разыскал в букинистическом магазине (за 150 рублей – половину стипендии) и прочёл от корки до корки. Пытался я было взяться за полного Толстого в 93 томах. Меня поразил размах и академизм издания, не говоря уже о совсем несоветском характере комментариев к нему (например, Черткова). Разумеется, такого объёма человек одолеть не в силах, и я остановился где-то на первых томах. Ну, и поэзия – тот же Есенин, которого я переписывал в тетрадку.
А хотелось мне более серьёзно приняться за западную классику. Начал с того, что перечитал, сколько мог, Золя, Фойхтвангера, Уэллса. Понравилась «Сага о Форсайтах» (прочитанная с подачи любившей её Иры Бородиной). Перечислю ещё нескольких понравившихся французов: Вольтер, Руссо, Стендаль.
Но настоящим открытием для меня был Хайнрих Хайнэ. Я полюбил его с первых попавшихся в руки стихотворений. Перечёл все стихи, многие запомнил, потом «Путевые картины». Каюсь, остальные стоящие у меня 6 томов так до сих пор и не одолел. Знакомился я со стихами Хайнэ, конечно, по переводам, но потом любимые из них пытался читать, а иногда и заучивать в оригинале, приобретя для этого прекрасное немецкое издание. Он на всю жизнь стал одним из моих любимых поэтов.
Как и Лорка, которого я тоже уже называл.
Немецкая философия
Описание чтения я окончу сюжетом скорее комическим. Чёрт меня дёрнул приняться за философию – я имею в виду классическую немецкую философию: Гегеля, Фихте, ещё кого-то. Наверное, под влиянием Герцена – он как-то одобрительно отозвался о её роли. Правда, с заметной долей иронии, которую я недооценил, а в моём случае она была как нельзя более уместна. Пытался я читать и поясняющую литературу – многотомный труд какого-то известного немца «История философии», дореволюционное издание. Нечего и говорить, что, как я ни пытался, понять мне ничего не удалось – для нормального современного человека это полная абракадабра. Приношу извинения философам по специальности – многие из них утверждают, что для них это было полезно, и у меня нет оснований в этом сомневаться. Я только утверждаю, что для человека, не занимающегося Гегелем или Фихте профессионально, их чтение – совершенно бесполезная трата времени. Я не хочу сказать это о философии вообще – например, чтение Рассела было бы полезно для значительной части образованных людей. Да и если говорить о старых немцах – подозреваю, стоило бы посмотреть Канта, который как-то не попал мне в руки, несмотря на дружбу с его «тёзкой». Но, так или иначе, кучу времени и умственных сил я потратил бесполезно.
Отказ от музыки
И напротив того, не занялся самообразованием в области, которая могла бы меня обогатить. Я имею в виду музыку. Вообще музыка была очень популярна среди студентов мехмата. Уже с первого курса у нас было принято ходить в консерваторию. Несколько раз побывал и я. Но никаких впечатлений на меня это не произвело. Тут бы сказать себе: а ты ещё послушай, попривыкай, попытайся понять. Как я говорил себе об этой философии. Да где там! По-видимому, плохую услугу оказали мне здесь и Писарев заодно с Толстым. Для Писарева музыка была ненужной заумью, отвлекающей разумного труженика от «дела». По его словам, словосочетание «великий музыкант» звучит так же, как «великий повар». Да и Толстой в своих религиозно-моральных трактатах музыку не жаловал. Вот не без влияния таких двух авторитетов я и не стал пытаться войти в мир музыки. О чём до сих пор жалею.
Глава 5. На Моховой: альпсекция и первый большой поход
Альпсекция
Однажды зимой, будучи на 1-м курсе, я наткнулся на объявление: «Объявляется набор в альпинистскую секцию. Приглашаются все желающие».
Представления об альпинизме у меня были минимальные, но почему бы не пойти? На обязательных для всех общих занятиях по физкультуре очень поощрялось участие в спортивных секциях, и многие мои товарищи уже нашли для себя секции по вкусу. Присматривал себе секцию и я.
Чем мы занимались зимой, не припомню. Были какие-то «теоретические» занятия, на которых нас знакомили с элементами альпинизма. Учили вязать узлы. Кажется, иногда бегали на лыжах.
Майский поход
На зато ярким впечатлением стал майский поход.
В тот год майские праздники заняли три дня – по-видимому, с ними соседствовало воскресенье. За эти три дня нам предстояло пройти 120 километров. Не помню, где начинали, но конец пути шли вдоль Оки и кончили в Коломне.
На электричку садились вечером накануне выходных. Что такое электрички накануне выходных дней, советскому и постсоветскому человеку рассказывать не приходится – это можно увидеть и сегодня. Но того, что творилось в тот день на вокзале (кажется, Павелецком), мне больше встречать не приходилось. Достаточно сказать, что на крышах тоже было тесновато. Однако, наша секция как-то удивительно умело оккупировала два вагона – сказалась хорошая организация. Внутри вагонов сидячие места для нас были заняты заранее, довольно крепкие ребята стояли в проходах, отгоняя посторонних и помогая новичкам вроде меня протиснуться к занятым местам. Так что в вагоне стало ясно, что это наш вагон, а сами мы – слаженный и организованный коллектив. Стоял общий шум, смех, веселье. Как только тронулся вагон, начались песни, так они и звучали всю дорогу. Ехали мы часа два, и, когда сошли, уже начинало темнеть.
Главной целью похода было, насколько возможно, познакомить новичков с трудностями альпинизма. Конечно, по скалам или по снегу их в наших условиях не потаскаешь, не особенно погонишь и вверх-вниз, но погонять на хорошие расстояния с неплохой выкладкой было вполне возможно. А заодно показать, что такое альпинистский порядок и дисциплина. Как говорится, «чтобы жизнь мёдом не казалась». И чтобы сразу отогнать тех, кому такая жизнь не подходит.
Тому же способствовала и выданная нам обувь, называемая на нашем языке «трикони». (Собственно, их следовало называть отриконенными ботинками). Это были довольно массивные ботинки, подбитые специальными шипами, которые-то и были трикони. Весил каждый из них едва ли не по килограмму, что не очень облегчало ходьбу. «Трикони» предназначались для передвижения по снегу, фирну и скалам, где в обычной обуви, действительно, не походишь. Уже к концу моей альпинисткой карьеры «трикони» сменились другой, более удобной обувью – «вибрамами», так что думаю, следующие поколения альпинистов могли видеть их только в музее.
Возвращаюсь к майскому походу.
У железнодорожного полотна нас построили, проверили по спискам, зачитали разбиение по группам. Всего было полтора-два десятка групп, в каждой человек по десять-двенадцать – так, чтобы разместиться в двух или трёх палатках. Большинство группы составляли новички, но несколько человек, в том числе руководитель, были ребята более опытные, на нашем языке разрядники, или, по крайней мере, значкисты (т. е. имеющие разряд по альпинизму или значок «Альпинист СССР»).
Шли мы часа два, в полной темноте. Я, по обычаю студента-отличника, и здесь постарался устроиться поближе к «кафедре», роль которой теперь играла голова колонны. Правда, здесь это стоило бульших усилий, но оправдало себя сторицей: я мог прислушиваться к разговору идущих во главе колонны руководителей альпсекции – Мики Бонгарда (или Бонгардта?) и Кости Туманова.
Мика Бонгард и Костя Туманов
Оба они, по-видимому, молодые преподаватели, были совершенно замечательными людьми и меня восхитили с первого знакомства. (Не знаю, случилось ли им заметить меня за время наших отдалённых и недолгих контактов). Они шли и вели беседу на самые разные темы, и чувствовалось, что это интеллигентные, глубоко образованные люди с широчайшим кругом интересов. Запомнилось, как Мика пересказывал отрывок из «Острова пингвинов». Или рассказывал весёлую байку о том, как на него во время подъёма из рюкзака впереди идущего сорвалась буханка хлеба. «Потом выяснилось, что над этой буханкой были привязаны два топора.» А ещё читали стихи, говорили о физике, конечно же, об альпинизме и о многом-многом другом. Одновременно обсуждались какие-то текущие дела секции, предстоящее лето, этот поход. Я присматривался к ним в течение всего похода.
Я и сейчас как будто вижу их перед собой. Мика – высокий и жилистый, с твёрдым, решительным голосом. И Костя – чуть поплотнее и помягче, в очках, с несколько застенчивой улыбкой, придающей ему сходство с Пьером Безуховым.
Мне представляется, что они были душой альпсекции МГУ, что именно им она обязана своим духом. В походе я усваивал этот дух – дух товарищества, любви к горам, преодоления трудностей и одновременно – дух железной организованности и дисциплины. Наверное, именно знакомство с этими двумя людьми, выглядевшими для меня как образец, стало толчком, привлекшим меня в альпинизм, а потом подтолкнувшим к туризму. Мне нередко случалось говорить и думать о себе так: я – воспитанник альпсекции МГУ (как и воспитанник родителей, воспитанник русской литературы, воспитанник мехмата, воспитанник Еревана).
Поскольку мне вряд ли случится подробнее говорить о Мике и Косте, скажу здесь об их будущем. Мика Бонгард стал довольно известным учёным, автором фундаментальной монографии по распознаванию образов. Оба они погибли в горах молодыми – вскорости после описываемых событий (Костя – в 1957 году).
Снова вернёмся к походу. В лесу, в известном заранее месте остановились, разбили палатки (я их разбивал впервые). Разожгли костёр (я разжигал впервые). (Да, собственно, и рюкзак я надел впервые). Сварили кашу. Потом уселись у одного большого костра и несколько часов пели.
Песни
И здесь снова отвлекаюсь – о песнях. Набор песен, который я услышал в этом походе и потом в альплагере, заметно отличался от того, который можно услышать в походах сейчас. Главное отличие: у большей часть песен, которые поются сейчас, известны авторы, да и написаны они в более позднее время; в то время практически у всех песен не было авторов, чистый туристско-альпинистский и студенческий фольклор. Чаще всего они складывались на мотив какой-нибудь известной песни, из которой заодно заимствовалось немало слов и оборотов. А сюжеты были бесхитростные: восхождения, походы или геологические экспедиции, просто шуточные песни, включая пиратские. Некоторые из них вошли в туристскую и студенческую классику, поются и сейчас и мне представляются достойными этого. Среди них, например, «Глобус» и «Бригантина». Надеюсь, что альпинисты и сейчас поют трогательную песню «Барбарисовый куст» – о могиле парня, который «уснул и не слышит песни сердечную грусть» (эта как раз на оригинальный мотив). И, конечно же, знаменитую «Баксанскую».
Эти песни, и талантливые, и довольно слабые, я слышал в этот день – в вагоне и у костра – впервые, и сразу же стал их, как теперь говорят, «фанатом». Быстро выучивал и, где мог, подпевал. Учитывая отсутствие у меня голоса и слуха (к сожалению, не унаследованных от папы), от этого вряд ли должны были выигрывать окружающие – но, по счастью, в туристско-альпинистской компании эти качества не считались обязательными и не очень учитывались, так что я оказался наравне со многими. А в скором времени – и достаточно авторитетным песенником, поскольку удерживал в памяти много песен, а это свойство ценилось. А ещё я сразу же начал песни записывать, тетрадку носил с собой во все походы, и она приобрела популярность.
О «Баксанской» и её продолжении стоит поговорить особо. История создания этой песни отражена в ней самой: «Эту песнь сложил и распевает альпинистов боевой отряд». Её сложили и распевали в годы войны на мотив довоенного вальса. И, несмотря на такое заимствование, от песни веет подлинностью:
Время былое пролетит, как дым,
В памяти развеет прошлого следы.
Но не забыть нам этих трудных дней,
Свято сохраним их в памяти своей.
Хорошо кончалась песня.
Но в моё время мои коллеги по альпинизму нередко после этого добавляли куплеты, явно принадлежавшие более позднему времени:
День придёт, и ты возьмёшь гранату,
Финку, ледоруб и автомат.
День придёт, и перейдёт Карпаты
Альпинистов боевой отряд.
Альпы, Пиренеи, Гималаи
Разглядим в защитные очки.
На груди у нас горят недаром
Альпинистов славные зрачки.
В университетской секции эти слова пели время от времени, а в вот в лагере, где я был летом и где контингент был в целом попроще, уже регулярно и со всей серьёзностью. Такое окончание представлялось мне очень показательным, характеризующий двуслойность советской идеологии. Первый слой – внешний, открытый, газетный, для всего мира: «Мы – за мир!» Но настоящий-то советский человек должен понимать, что это для отвода глаз, а на самом деле нам предстоит этот мир завоевать. И в кругу своих об этом можно поговорить и попеть. Как бы предполагалось, что уж мы-то, бравые альпинисты, точно относимся к тому боевому отряду, которому предстоит пересечь Карпаты. Потому я этих слов не переносил. Никогда не пел и даже, нарушая принципы настоящего фольклориста, не занёс в свою тетрадку.
Однако, хватит о песнях.
Майский поход (продолжение)
Так мы несколько часов попели, посидели у костра, сделанного, конечно, по высшему разряду. Время далеко заполночь, пора спать. Устроились в палатках-памирках (или, иначе, серебрянках), человек по пять. По нынешним нормам может показаться тесновато, но альпинисты обязаны экономить место в палатке. Я и в палатке спал впервые.
Утром подъём в 7, выход в 8. Для скорости варили манную кашку и какао. В 7.50 дежурные по лагерю прошлись вдоль костров и, если у кого-нибудь еда была не готова, заливали ею костёр. Кто что не доел, вываливалось туда же. Естественно, палатки и рюкзаки к этому времени были собраны, оставалось впихнуть миски, а сверху привязать вёдра. В 7.55 было общее построение, в 8 вышли.
График движения был чёткий: 50 минут движение, 10 – отдых. Среди дня час на перекус и на отдых.
Выдержать это с непривычки было трудновато. Ведущие выдерживали достаточно хороший темп, и колонна – человек полтораста – растягивалась на километр-полтора. Так что на отдых оставалось мало времени, а тем, кто оказывался в хвосте колонны, – вообще ничего. Остановишься, повалишься – и уже звучит весёлая команда: «Тронулись! Захромали!» Альпинисты не жалели своих ног, хромали поголовно все, я помню странную походку Мики Бонгарда. Тем не менее, шаги он делал гигантские и твёрдым внушительным голосом рассказывал что-нибудь весёлое. Идти впереди было гораздо веселее, чем в хвосте колонны, где озверевшие за день замыкающие чуть ли не палками гнали отстающих, взвалив на себя их рюкзаки. Здесь, наоборот, нарушителями считались вырывающиеся вперёд, и на них для сдерживания надевались лишние рюкзаки – да не такие жалкие, как у меня, а настоящие «альпины». Впрочем, обгонять с двумя-тремя рюкзаками ведущих было особым шиком и молодечеством.
Мне же с непривычки рюкзак в несколько килограмм, в котором были только личные вещи да пара ботинок, казался страшным грузом, и я натёр им плечи. На каждом привале я грохался наземь, подняться и идти стоило чудовищных усилий, и, как я ни старался, к концу часа оказывался не в голове, а где-то в середине колонны. Особенно мучили стёртые и сбитые в кровь ноги.
Так мы шли три дня. Так же ночевали и так же пели у костра.
После первого похода я вернулся совершенно разбитый, с несколькими десятками водяных мозолей, клянясь, что ни в какие походы никогда в жизни не пойду. Тётя Женя посмотрела на мои босые ноги и чуть не заплакала.
Тренировки
Однако прошли дни или недели, ноги зажили, неприятные воспоминания выветрились, а всё хорошее вспоминалось всё ярче. Росла гордость, что я это выдержал. Я сказал себе: «Ну, труднее всего первый урок, дальше будет легче». И понемногу пришёл к убеждению: альпинизм – это для меня.
Несколько воскресений до лета наша секция ездила в Царицыно, где мы тренировались по скалолазанию. Собственно, это были никакие не скалы, а развалины кирпичных зданий. Казалось бы, трудно лезть по кирпичной стене вверх, но стены были уже хорошо подготовлены: между кирпичами много отверстий, куда можно было вставить пальцы или ногу, кое-где уже даже забиты крючья. Ну, и существенно, что при этом обучились страховке, работа с которой дошла до определённого автоматизма.
Альплагерь
А летом я поехал в альплагерь. Путёвку мне дали в лагерь «Адыр-су» в Кабардино-Балкарии. Обычно путёвки давали таким образом, чтобы люди с одного факультета оказывались вместе. А так как на мехмате новичков больше не было, то в этом лагере я оказался из нашей секции единственным. Оказался без дружеских связей, да и за время пребывания их не завязал.
Что рассказать об этом лагере? Сразу же поразили горы вокруг – это было так не похоже на всё, что я до сих пор видел. Горы со всех сторон – куда ни кинешь взгляд. Каменистая почва. Яркое солнце. Маленькая, но бурная и страшная река. Нас сразу же обучили её бояться: «Нет опаснее стихии, чем вода». В самом лагере дисциплина жёсткая – пересекать его границы категорически запрещено.
Жизнь в палатке, много солнца и воздуха, хорошая физическая нагрузка. Общество крепких ребят, так же, как и я, входящих в альпинизм. Кстати, к лагерю секция подготовила меня неплохо. Многие из ребят здесь были физически сильнее меня, но об альпинизме имели меньшие представления.
У каждого альпинистского лагеря своя природная специфика. Специфика «Адыр-су» заключалась в том, что на доступном расстоянии от него практически нет скал – только снег и лёд. Мне это было очень на руку – занятия и восхождения по снегу и льду мне сразу понравились. А вот со скалами, большими или малыми, я здесь не имел дела. И, когда позже в других лагерях встретился с ними, они нравились гораздо меньше. Вообще это был самый высокогорный лагерь на Кавказе и считался одним из лучших в Союзе, самым безаварийным. Его возглавляли хорошие альпинисты и воспитатели – Коленов и Угаров.
Как это хорошо – выйти на снежный склон (они от лагеря были совсем близко), упасть и катиться на нём на спине, набирая скорость, с тем, чтобы в какой-то момент перевернуться на живот и начать тормозить ледорубом. Или карабкаться на кошках по ледовому склону. Или прыгать через трещину в леднике.
Смена в альплагере состоит из 20 дней и для новичков организована так. Дней 15 – общая подготовка: «теория», узлы, занятия на снегу, льду, скалах (у нас последние – слабо). Потом выход в горы: проходится небольшой маршрут через один-два простеньких перевала, и восхождение на пару простеньких же вершин (всё – низшей категории сложности).
Главным был, конечно, выход в горы. Участвовали в нём все новички, человек 50-80, разбитые по своим отделениям человек по 10. Вышли мы через пару часов после обеда, неся достаточно гружёные – как для движения вверх – рюкзаки; несли среди прочего и дрова. Шли пару часов вверх – по тропе, потом по морене. Здесь мне пригодился опыт майского похода – после него путь не казался таким тяжёлым. Остановились там, где морена кончалась, дальше чистый снег. Разбили палатки, разожгли костры, поели. Улеглись рано.
А следующий день был самым интересным – ради него, собственно, мы и находились здесь всю смену. Подъём очень ранний, не помню, в 3 или 4 часа, во всяком случае была глубокая ночь. И никакого завтрака – чтобы не задерживаться. Только по приготовленному заранее бутерброду и по глотку холодного кофе. Палатки не собираем, выходим налегке: только текущее снаряжение (например, кошки) да немного еды на перекус. Сразу же связываемся в связки – в основном из трёх, иногда из двух человек. И выходим.
Около часа идём в темноте. А потом началось изумительное зрелище – я ахнул. Мы идём по дну снеговой чаши. Над нами ясное тёмно-синее небо – почти чёрное. Такая же темень укрывает снег. Между небом и землей почти нет разницы, видна только линия горизонта – края чаши. Но вот слева от нас (мы идём на юг) небо чуточку светлеет – на нём появляется тонкая полоса. И одновременно такая же узкая полоса появляется на краю чаши справа, но полоса яркая – это освещается снег. И обе полосы постепенно расширяются. Меняется цвет неба – от тёмно-синего к ярко-голубому, в течение примерно часа этот цвет охватывает всё небо. На нём ни облачка. Вдруг из-за края чаши появляется краешек солнца, он растёт и растёт. Параллельно с этим наполняется солнцем и внутренность чаши. Её освещённая часть становится всё больше, снег блестит нестерпимо ярко.
К тому времени мы уже давно одели очки. И не городские, пижонские очки, а «консервы», закрытые со всех сторон, с очень тёмными стёклами, какие носят только электросварщики да альпинисты. (Интересно, носят ли до сих пор? Уж больно они уродливы, а сейчас спортивное снаряжение должно быть модным. Наверное, современная молодёжь ужаснулась бы, увидев наши ободранные штормовки, рюкзаки, очки).
Идём тем же темпом, к которому нас приучали в майском походе: 50 минут движения, 10 – отдыха. Идём очень медленно, дышим ровно. Движение по снегу просто и однообразно. Труднее первым – им приходится протаптывать следы в снегу, а он иногда по колено. Следующие идут по следам шаг в шаг. Прошла колонна в полсотни человек, а за ней остались те же следы, что и после одного. Стараемся ровно дышать. Вдох, вдох, выдох, выдох. (Позже я увидел разницу с движением по скалам: там каждый шаг особенный, на каждом нужно думать – нужно ли уже хвататься рукой, и если нужно, то за что). И всё вверх, вверх. Конечно, устаёшь и мечтаешь, когда наконец привал. Но всё же заметно легче, чем было в майском походе – потому что уже как-то натренирован. Да и рюкзаки почти пусты. И совершенно не опасно – вот ещё одна особенность снежных восхождений.
Но вот подошли к ледовому участку, относительно крутому. Надеваем кошки. (Кстати, интересное впечатление от кошек – кто не носил, не поймёт. Поначалу никак не можешь привыкнуть к мысли, что можешь спокойно идти вверх по ледяному склону).
Сколько мы так идём? Наверное, часов шесть-семь. Но вот, наконец, добрались до вершины. Пустяковой вершинки с красивым название – Местиа-тау. Но для меня и моих товарищей – первой в жизни. Усаживаемся у тура. Вынимаем записку и кладём свою. И торжественно завтракаем. Лёгкий завтрак: по сухарику, кусочку шоколада, пускаем по кругу несколько банок сгущёнки. И главный деликатес – консервированный компот из стеклянных банок, никогда не пил ничего вкуснее. Пить хотелось зверски, но пить больше нескольких глотков при восхождении не полагается.
Потом подъём ещё на одну вершинку совсем рядом с дурацким названием Пик МИИТ. И спуск другим путём, через небольшой перевал. Спускаться по снегу одно удовольствие – быстро скользишь, опираясь на ледоруб. Если упал – быстро перевернуться на живот и зарубиться. Но не забудь поднять ноги, чтобы не зацепиться триконем. Зато, когда доходишь до травы, приходится трудней, чем на подъёме: здесь полагается бежать, так что на голеностоп приходится изрядная нагрузка.
Наконец, к вечеру вдребезги измотанные приходим в лагерь. Здесь нас уже ждут. Все, кто в лагере, построились. Строимся и мы. Нас поздравляют, выносят вёдра компота, мы с жадностью пьём. Преисполнены гордости – как же, мы уже настоящие альпинисты. Осталось только получить значки.
В общем, с первым альплагерем в спортивном отношении мне повезло. Это восхождение оказалось значительно ярче и интереснее, чем все последующие.
А вот ребята в лагере мне не понравились – совсем не те, что в альпсекции МГУ. Вместо наших весёлых шуток здесь царила матерщина.
Альпинизм – спорт очень демократичный. Тут всегда были и учёные (как правило, естественники, гуманитарии были редкостью), и рабочие, все держались на равных. Я, воспитанный в славных традициях народолюбия, тогда отгонял от себя эту мысль, а сейчас скажу: всё-таки новички из простых работяг зачастую приносили в альплагерь атмосферу уличного хамства, и общаться с ними не очень хотелось. Думаю, в дальнейшем в альпинизме оставались наиболее достойные из них. И всё же. В секции и в лагерях я встретил немало отличных ребят, на них можно положиться, с ними хорошо пошутить, в походах и восхождениях постоянно чувствовал их плечо. А вот по-настоящему подружиться с кем-нибудь в альплагере мне за все годы так и не довелось. Как яркие и разносторонние личности, с которыми хотелось бы дружить, запомнились только Мика Бонгард и Костя Туманов.
Да, и ещё, о гендерном составе. Девушек в лагерях всегда было почти столько, как и ребят, больше трети, но меньше половины. Их особенно не выделяли, работали они, как и все, разве что мужчины иногда несли рюкзаки потяжелее да первыми выходили на сложный участок.
Что ещё рассказать о моём первом лагере? Больше мне мало что запомнилось. Разве что реакция моих товарищей на исторический, состоявшийся в эти дни футбольный матч между командами СССР и Югославии, в котором наша команда продула. В Союзе победа в международных спортивных соревнованиях была патриотическим долгом, в футболе – вдвойне. И вдруг – проиграть, да не кому-нибудь, а самой ненавистной стране, этим ревизионистам и предателям. Так что в альплагере был траур, плач и скрежет зубовный. Я же, как неисправимый антисоветчик, про себя злорадствовал: вот хоть здесь вам, большевикам, нос утёрли. (Нечто подобное произошло в 1969 году на хоккее с Чехословакией. Но там Советы отыгрались на другом поле).
Путь в Сухуми
После смены мы, несколько ребят, решили выйти к морю. Было нас человек 5. Путь занял два дня. Сначала вдоль знаменитого Баксана до перевала Донгуз-Орун, оттуда вывалили в ущелье Накры. В дороге вдребезги развалились мои городские туфли, не приспособленные к таким дорогам. Спасибо одному из моих спутников: у него оказалась запасная пара обуви, которой он со мной и поделился. По Накре было уже недалеко и до дороги, по которой ходят машины. Грузовые, конечно. Дороги узкой и головокружительной. Бульшую её часть слева глубокая пропасть, а попутчики из местных охотно показывают: «Вот здесь на прошлой неделе машина упала, видишь, лежит». Проезжаем Хаиши, Зугдиди – уже сами имена как звучат!
Путь наш окончился в Сухуми, где мы провели пару дней. Тут тоже было полно новых впечатлений. Прежде всего – море, которого я никогда раньше не видел. Удивляло уже то, как здесь легко держаться на воде. Или плыть под водой с открытыми глазами. Именно в эти несколько дней я сделал какой-то рывок в обучении плаванию. До тех пор мог проплыть только несколько метров, а после Сухуми возможная дистанция начала быстро увеличиваться, так что через год я уже считал себя плавающим.
Очень экзотичным представлялся город – он тоже не был похож ни на что виденное раньше. Например, старики, сидящие перед кофейней и потягивающие кофе из чашечек величиной чуть больше напёрстка. Я поинтересовался этим кофе, но мне сказали: «Иды. Тэбэ нэ нада».
В общем, этим летом я как будто побывал в сказочной стране. Такими запомнились мне и горы, и море, и город.
Альпинизм или туризм?
Это лето сложилось для меня очень удачно – я увидел Кавказ глазами и альпиниста, и туриста, начинающего, конечно. Альпинист видит мир с крыши – скалы, снега, лёд. Здесь много красоты, но красоты особенной, холодной, в которой нет места для жизни. Сюда приходишь, чтобы максимально напрячь свои силы и преодолеть максимальные препятствия. А турист видит другую природу – ту, в которой есть жизнь. Увидеть эту природу, пожить в ней – это и есть его цель. Конечно, и здесь преодолеваешь трудности, но не это является главной задачей.
Начав заниматься альпинизмом или туризмом, предстоит решить: выбрать один из них или сочетать оба. Мне понравились оба, и я решил, что буду сочетать.
Пожалуй, здесь стоит нарушить хронологический принцип и рассказать, насколько в последующем удалось реализовать это решение.
Не удалось. Альпиниста из меня не вышло. Альпинизм это, прежде всего, тяжёлый труд, требующий упорной и систематической выработки в себе соответствующих профессиональных умений. Вот этого упорства мне не хватало. Я так и не научился как следует ни цепляться за скалы, ни забивать крючья. А одним умением тащить рюкзак на восхождении не обойдёшься. Так что мои занятия альпинизмом были в определённой степени сходны с занятиями математикой: интерес на этапе первого знакомства, а потом уход от профессионального, систематического труда.
То, что альпинизм не для меня, я осознавал постепенно и окончательно понял через десяток лет после описываемых событий. А до того ездил в лагеря ещё, по крайней мере, три раза: из университета, из Еревана и из Киева. Но оставался при этом скорее туристом: радовали не трудности восхождений, а красота гор.
Запрет на поход
Вернёмся, однако, в университетское время.
Первую попытку большого туристского похода я предпринял на 2-м курсе зимой, но окончилась она неудачей по забавной причине.
Не знаю, как студенты ходят в походы сейчас. А в моё время ни в какой области жизни самодеятельность не признавалась. И походы проводились под патронатом государства в лице не только спортивных, но и «общественных» организаций, в моём случае комсомольской. В этом была и, безусловно, хорошая сторона: спортклуб полностью обеспечивал нас снаряжением, профсоюз почти полностью оплачивал расходы, что делало туризм доступным для самого бедного студента.
Но была и другая сторона – каждую туристскую группу надлежало утвердить в полагающихся инстанциях. Утверждение по спортивной линии было в целом оправданным. Группе нужно было пройти, во-первых, медосмотр, и, во-вторых – маршрутную комиссию. Для походов не слишком сложных такая комиссия состояла из своих же, университетских туристов, утверждённых спортивным бюро. Её цели, в общем-то, были благие – проследить, чтобы группа была хорошо укомплектована и подготовлена к походу: руководитель и участники удовлетворяли определённым квалификационным требованиям, т. е. имели необходимый туристский опыт (что опять же подтверждалось бюрократическими документами), знали маршрут, имели необходимый набор продовольствия и снаряжения (т. е. написали соответствующие перечни на бумаге) и т. п.
Но, кроме того, группу полагалось утвердить и на комсомольском бюро, и формально это тоже имело смысл. Ведь туристы, идя по населённой местности (а несложные походы, как правило, проходят по населённой местности), сталкиваются с простым народом. А у грамотного советского человека, комсомольца главной формой общения с простым народом является агитация. Потому то, что на языке спортивных инстанций называлось «турпоходом», на языке комсомольских звучало уже как «агитпоход», а вместе выливалось в такие привычные для туристского студенческого уха словосочетания, как «лыжный агитпоход». Потому туристская группа должна была утвердить и план агитработы, включающий лекции и концерты – практически на каждый вечер, который она проводит в деревне. В защиту комсомольских инстанций могу сказать, что к этому плану они не очень придирались. Конечно, нужно было вставить в него одну-две лекции об очередном партийном пленуме или о международном положении, но в остальном можно было ограничиваться лекциями типа «Есть ли жизнь на Марсе». А на факультетах с хорошо развитой «художественной самодеятельностью», таких, как биологический, агитработа сводилась в основном к концертам – к полному удовольствию и туристов, и местного населения.
Так вот я, не без труда сколотив группу для лыжного агитпохода, в качестве её руководителя вместе с комсоргом и планом агитработы явился для утверждения на заседание факультетского комсомольского бюро, проходившее на «голубятне», – так называлась отведенная под бюро крохотная комнатка на третьем этаже университетского знания на Моховой. И комсомольское бюро, внимательно нас выслушав, приняло решение: в утверждении отказать. Аргументация сводилась к следующему: мы не можем доверить проведение агитпохода не комсомольцу. Случай комсомольского отказа туристской группе был беспрецедентным – во всяком случае, мне о другом таком слышать не приходилось.
По Военно-Сухумской дороге
А через полгода я предпринял вторую попытку, и она уже увенчалась удачей.
Маршрут я выбрал по Военно-Сухумской дороге – с Кавказом я уже был несколько знаком, но хотелось разглядеть его получше, да и в Сухуми хорошо снова побывать. Я сагитировал участвовать в походе нескольких ребят со своего курса – всего нас было 7 или 8 человек. (Кстати, это был единственный поход в моей жизни с чисто мужским составом). Комсомольское бюро на этот раз препятствовать не стало. Да и поводов для этого у него было бы меньше: на Кавказе агитработа не проводилась по причине слабости контактов с местным населением и недостаточного знания им русского языка.
Поход я по неопытности организовал во многих отношениях бездарно. Достаточно сказать, что, начав его в Клухори (ныне Карачаевск), первые километров 30 мы шлёпали по шоссе. Стояла адская жара, шофёры проезжающих машин предлагали нас подвезти, мои спутники умоляли принять эти предложения. Но я руководствовался довольно примитивным пониманием туристского кодекса: нужно строго придерживаться маршрута, записанного в маршрутной книжке, а по ней этот участок мы должны были пройти пешком. А вот где-то в районе посёлка Теберда мы сошли с шоссе на туристскую тропу, и стало действительно интересно. До самой Домбайской поляны шли красивые горные леса.
Главное же приключение ожидало нас во время радиального выхода с Домбайской турбазы, где мы оставили свою палатку. Мы дошли до традиционной точки обзора, и у нас перехватило дух: бесконечный простор, открылись все горы. Потом поднялись ещё немного, чтобы полюбоваться Чучгурским водопадом. В нескольких десятках метров над водопадом остановились отдохнуть, сбросили рюкзаки. Я вертел головой, восхищённо разглядывая окрестности, а когда повернулся к рюкзаку, увидел, что он начал неспешно катиться к водопаду. Я бросился было за ним, да где там, рюкзак набирал скорость. Высота Чучгурского водопада метров 100 или 200, так что, спустившись к его нижней части, мы никаких следов рюкзака не нашли. На этот выход палатку с основными вещами и продуктами мы оставили на турбазе, но документы, немного денег, аккредитив для надёжности несли при себе. Их-то я и лишился. Вернувшись на турбазу, мы встретили приехавших на Кавказ наших профессоров – Делоне и Шафаревича. Шафаревич, узнав о моей неудаче, предложил одолжить денег, но я, рассудив, что их ещё придётся отдавать, решил обойтись без долга.
Клухорский перевал в том году был особенно завален снегом, так что представился случай использовать всё имеющееся у нас специальное снаряжение, и я почувствовал себя опытным инструктором. Связались в связки, надели трикони – помнится, не у всех они были.
По части природы и физической нагрузки я остался походом доволен, что вряд ли можно сказать о моих товарищах. Во всяком случае, ни один из них впоследствии не продолжил ходить в походы. Так что для меня, как организатора и руководителя, этот поход был скорее фиаско.
У родителей. Сталино-Донецк
Остаток каникул после летних походов и лагерей я проводил у родителей.
В Смеле у них мне довелось побывать только на 1-м курсе зимой. И с тех пор я её уже не видел, как не видел и своих школьных товарищей (впрочем, за исключением одной побывавшей в Москве девочки).
В тот год у папы в очередной раз обострился конфликт с очередным директором, но на этот раз он принял более опасный характер. Директор, член партии, при разборе конфликта в высшей инстанции, главке, применил безотказный аргумент – напомнил, что папа находился на оккупированной территории. А времена наступили такие, что не отреагировать на это было нельзя. И вот папу, безупречного и авторитетного специалиста, уволили не только с этой нефтебазы, но из всей системы «Главнефтесбыта». Он был в таком отчаянии, что написал письмо Сталину. Этот несвойственный ему шаг был и небезопасным – при самом верноподданном стиле в письме всё же выражалось неодобрение широко распространённой практике, вдохновлявшейся сверху. И папин приезд в Москву (о котором я писал) был предпринят для того, чтобы пройти по самым высоким инстанциям и добиться рассмотрения своего письма. По счастью, власть не сочла нужным среагировать и на этот раз. Всё это я узнал значительно позже, тогда мне не рассказывали, чтобы не волновать.
Вернувшись из Москвы, папа продолжал усиленно искать работу. И, в конце концов, это ему удалось. Работу он нашёл в городе Сталино (ныне Донецк) – тоже главным бухгалтером и ревизором в каком-то тресте. (Названий я не помню, тресты несколько раз менялись). Так мои родители и Катя переехали в Сталино. Многое им тут больше нравилось, например, гораздо лучшее снабжение. Но было и большое неудобство – здесь не предоставлялась казённая квартира. Квартиру приходилось снимать.
Родители прожили в Сталино/Донецке до самой смерти, там же и похоронены. При их жизни я приезжал туда практически каждый год. Тем не менее, к городу так и не привык, он навсегда остался для меня чужим и нелюбимым. Если сложить все месяцы, что я в нём прожил, получатся годы, а рассказать о них мне нечего. Хорошо вижу улицы, дома, Кальмиус – что о них расскажешь? А никаких не то, что друзей, а просто знакомых у меня за все эти годы там так и не сложилось. Вернее, жил там раньше Кирилл Борисович Толпыго, физик, профессор, отец моего друга Алёши и наш спутник по байдарочным походам. Но его уже тоже нет.
Летом 1952 года, когда я приехал впервые в Сталино, город выглядел много хуже, чем сейчас. Самый центр, нынешнюю площадь Ленина, занимали жалкие глинобитные домики, по существу бараки. Здания, сколько-нибудь напоминающие современные, хотя бы по числу этажей, стояли, как островки, среди шахтёрских хаток. Но эти дома были много уродливее, чем дома в Москве или в Киеве, а хатки уродливее обычных сельских. Зелени в городе было мало, и вся эта зелень не та – увядшая, покрытая пылью. Воздух города пропах углём. Я ложился спать на веранде, а утром вся простыня была покрыта угольной пылью.
С тех пор многое изменилось. Построены новые дома, разбиты парки, насажена зелень, цветут розы. Но всё-таки, всё-таки…
Глава 6. Идеологическая атмосфера. Первый год после Сталина
Идеологические дисциплины
Пора рассказать об идеологических проблемах, с которыми я столкнулся в университете.
Начну с учебного плана. По нему на каждом курсе полагалась идеологическая дисциплина:
1-й и 2-й курсы – основы марксизма-ленинизма (ОМЛ).
3-й и 4-й – политэкономия.
4-й – диалектический материализм.
5-й – исторический материализм.
Каждую неделю – две лекции и одно семинарское занятие (по крайней мере, так было на младших курсах).
Цель этих предметов очевидна – промывание мозгов. Советский человек, находящийся на определённом уровне грамотности, всю жизнь – от школьной парты до гробовой доски – должен быть погружён в атмосферу советской идеологии. В школе – уроки, в университете – лекции, на работе – политинформация. В лучшем (для государства) случае что-то из этого заражало его сознание. В крайнем случае приучало к идеологической дисциплине, к необходимости повторять положения официальной идеологии, к пониманию недопустимости мнений, которые ей противоречат.
Как я относился к этим предметам, нет надобности писать, читатель легко представит. Любопытно другое – я не припомню ни одного случая, когда к какому-либо из них (кроме политэкономии, о которой чуть ниже) кто-либо из моих товарищей по учёбе проявлял хоть какой-нибудь интерес. В этом было их принципиальное отличие от всех остальных предметов. Я не говорю о математике, поскольку из любви и интереса к ней большинство и поступило на мехмат. То же о механике. На лекциях и занятиях по астрономии и физике всегда было немало студентов интересующихся, задающих вопросы, беседующих с преподавателем. Немало из нас интересовались языками. К моему удивлению, многие ребята с интересом разбирались в военной технике. На лекциях же по ОМЛ или одному из материализмов – сплошная тоска в глазах. Это при том, что самуй советской идеологией ребята и девушки были заражены здорово, считали себя убеждёнными комсомольцами. И все лекторы и преподаватели по этим предметам – личности, абсолютно бесцветные, какие-то выцветшие. Из них всех я запомнил только одного – Белоусова, читавшего лекции на 2-м курсе, скучного, имитирующего убеждённость человечка с мешками под глазами. А ведь должен был бы запомнить – хотя бы потому, что каждого из них рассматривал едва ли не как личного врага.
А вот политэкономия, читавшаяся на 3-м курсе, составляла исключение, и отношение к ней было совсем другим. Я это связываю с личностью лектора – Артемия Александровича Шлихтера. Было в нём что-то, вызывающее уважение практически у всех, и у меня в том числе. Более того, можно сказать, что его любили. Он воспринимался как живой человек, думающий, говорящий то, во что верит. Кажется, он был из рода старых, ещё дореволюционных большевиков, во всяком случае, эта фамилия где-то в истории мелькала. Высокий представительный мужчина с аккуратной щёточкой усов. Выработанная манера держаться и говорить – спокойно и уверенно. (Мне передавали высказывание одной из наших девушек: «Интересно, какой он как мужчина». Замечу, по нравам того места и времени, высказывание очень нестандартное). К тому же политэкономия – не такой мёртвый предмет, как другие идеологические. Там можно было найти живые и интересные темы, и Шлихтер их находил. Его, действительно, иногда было интересно послушать. Доверие к нему было настолько велико, что студенты нередко обращались с вопросами, не относящимися к его предмету, а носящими общеидеологический характер, и получали достаточно убедительный ответ. Мне остаётся констатировать: вот ведь и так бывало.
Основы марксизма-ленинизма
Вернусь, однако, к временам ОМЛ, т. е. к двум младшим курсам – на Моховой.
Основным нашим учебником был «Краткий курс истории ВКП(б)». Странно мне думать, что младшее поколение моей нынешней страны о нём могло и не слыхивать. Для моего поколения это была священная книга, Библия. Как для более поздних, но аналогичных цивилизаций – цитатник Мао или «Рух-нама». Сакральный характер этой книги был связан уже с её происхождением. Авторы её не указывались, но священное предание утверждало, что автором был сам Сталин. Тот факт, что при этом Сталин был одновременно и главным героем книги, удостаиваясь самых высоких оценок, только подчёркивал особый её характер. Люди, ещё помнящие Библию, могли почувствовать аналогию с «Пятикнижием» Моисея. (Кстати, аналогичной была ситуация с другой сакральной книгой – «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», которую, по слухам, он тоже написал сам).
Курс – во всяком случае, в своей первой, дореволюционной части – был структурирован по партийным съездам, о каждом из которых следовало знать уйму сведений: помимо времени и места проведения (это само собой), ещё и повестку дня, расстановку сил, против кого и по каким вопросам велась борьба и т. п.
Но главное время при изучении идеологических дисциплин занимало другое – подготовка к семинарским занятиям. Целью этих занятий было изучение «первоисточников», т. е. трудов четырёх классиков марксизма-ленинизма. К каждому следующему семинару нам вручалось несколько аккуратно распечатанных страничек, содержащих план занятия (т. е. основные вопросы) и список литературы страниц на 100, а то и больше. Литературу это надлежало не просто прочесть, а законспектировать, и преподаватель мог проверить твои конспекты.
Были простые способы минимизировать труд по подготовке к семинарам. Выработалась традиция либерального поведения преподавателей. Создавалась видимость, что такие семинары – дело совершенно добровольное, и студенты изучают марксизм-ленинизм в силу собственного интереса. Потому и отвечать полагалось добровольно. Преподаватель спрашивает: «А кто хочет осветить такой-то вопрос?» – и кто-нибудь из студентов немедленно поднимал руку. Форма удобная. Как правило, студенты заранее распределяли вопросы между собой, конспекты переписывали друг у друга и тому подобное.
Только не я. Мои принципы не позволяли заявить, что я хочу изложить нечто по истории партии, потому руки никогда не поднимал. Проходило три, четыре недели, все уже ответили по несколько раз, а я молчал. Преподаватель безуспешно намекал, и, наконец, не выдерживал: «Ну, на этот вопрос нам ответит Белецкий». Тут уже я вставал: «В труде таком-то Ленин пишет…» – и дальше по анекдоту, где еврей-муэдзин провозглашал мусульманский символ веры: «В Коране сказано, что нет Бога кроме Аллаха и Магомет – пророк его». (Вроде как молитва, а на самом деле простое цитирование). Из принципиальных же соображений я не хотел списывать конспектов и делал их все сам. В результате я оказывался в проигрыше во многих отношениях: должен был быть готовым к ответу на любой вопрос, тратил на конспектирование в несколько раз больше времени, чем мои товарищи, и при этом был на самом худшем счету у преподавателей. И не зря – они чувствовали во мне противостоящее им начало. Само же конспектирование «первоисточников» вспоминается мне как сплошной кошмар – оно занимало едва ли не столько же времени, сколько занятия по всем остальным предметам.
Между тем, занятия по истории ВКП(б) не были для меня совсем бесполезными, несколько расширив мой кругозор. Я писал, что в школе у меня претензии были только к Сталину – дескать, была такая справедливая революция, потом умер Ленин, к власти пришёл Сталин и установил террористический режим. А теперь я поневоле поближе познакомился с Лениным – в оригинале. Едва ли не первой его работой, которую я частично прочёл, была «Кто такие друзья народа и как они воюют против социал-демократов». После первых нескольких страниц меня взяла оторопь – от нетерпимости, грубости, неуважения к своим оппонентам. Причём к кому – не к проклятому царскому самодержавию, а к продолжателям традиций вчерашних народников, которых сам я привык уважать. Я привык, что так пишут современные мне советские идеологи, но от Ленина такого не ожидал. Так и напрашивались слова Куприна: «те слова, которые … мог выдумать узкий ум иноков первых веков христианства». Этот «узкий ум иноков первых веков» так и остался для меня характеристикой ленинского стиля полемики. Соответственно вырисовывалась и ленинская партия – маленькая секта догматиков с тем же «узким умом», постоянно раздираемая идейными склоками на тему – кто более правильно применяет Маркса в современных условиях и кто по этой причине более вправе вести за собой партию.
Вообще я, пожалуй, несколько упростил и осовременил – к такому пониманию я шёл долго. Но начал путь уже тогда, в связи с изучением истории ВКП(б) . А дальше за этим последовала переоценка и самой революции, и ленинского периода советской истории. Но такая переоценка происходила уже много позже.
(Кстати, подобный обратный эффект от изучения текстов «основоположников» я наблюдал позже, на диамате, при знакомстве с «Диалектикой природы» (или «Анти-Дюрингом») – и уже на только на себе. Многие студенты-математики недоумевали, сталкиваясь с глупостями, которые Энгельс с присущим ему апломбом изрекал на математические темы. Здесь идеологическое руководство проглядело – нельзя было с такими текстами, возведёнными в ранг высшей мудрости, знакомить математиков).
Конфликты
Так или иначе, я подавал повод к тому, чтобы идеологическое и партийное начальство относилось ко мне с подозрением, и мне казалось, что я чувствую на себе его подозрительный взгляд. Так запомнился случай, когда упомянутый марксист Белоусов в ходе лекции сделал отступление на тему, как следует относиться к идеологическим ошибкам: «Например, если у товарища Белецкого есть какие-нибудь ошибки и он их осознбет…». Наверное, я и самого Белоусова запомнил благодаря этой фразе. Вряд ли он произнёс мою фамилию случайно.
Конфликт, замешанный на идеологии, возник при моей попытке поступить в Научное студенческое общество. Было это на 2-м курсе, я видел в себе будущего большого математика и не сомневался, что мне самое место в этом элитарном, на мой взгляд, обществе, объединяющем подающих надежды студентов. Но вот, при обсуждении моей кандидатуры поднял руку член НСО Игорь Стеллецкий, курсом старше меня, очкастый и хромой молодой человек. У меня с Игорем до того были какие-то контакты, едва ли не с абитуриентских времён. И вот Игорь встаёт и стандартным для таких случаев глубоко убеждённым тоном заявляет, что считает Белецкого недостойным чести вступления в НСО, поскольку неясно его политическое лицо – Белецкий не состоит в комсомоле. Собрание вёл председатель НСО Владимир Андреевич Успенский, очень способный молодой математик, впоследствии автор интересных книг, при этом с юности обладавший нехарактерным для хорошего математика умением – находить общий язык с партийными инстанциями. Впрочем, в моём случае иную линию никто бы не мог провести. Он поставил вопрос на голосование, и я, конечно, был забаллотирован. Я был в шоке – не так от своего провала, как от предательства Игоря, которого считал своим приятелем. Я понимал, что выступил он не по своей инициативе, что ему велели сверху, но в моих глазах это его не оправдывало.
Парады
Постоянные же конфликты с парторганизацией и деканатом у меня были в связи с парадами.
Старшее поколение должно помнить, какими важными мероприятиями были ежегодные парады и демонстрации на майские и октябрьские праздники. На них выводилось почти всё взрослое население больших городов. Люди работающие выходили на демонстрацию колоннами в своих коллективах. А у студентов были заботы посложнее – они должны были участвовать в спортивных парадах. Разница существенная. Демонстрация отнимает у человека один день, вернее часть дня: прошёлся под знамёнами – и свободен. А парад требует подготовки. Чуть ли не за месяц до каждого из парадов, нас, студентов, начинали гонять на их репетиции. Учили маршировать. Поначалу мы маршировали где придётся. А уже незадолго до настоящего парада была генеральная репетиция – ночью маршировали по Красной площади. К тому времени уже выдавали для этого специальную форму, и мы в ней здорово мёрзли – на погоду начала ноября в Москве она явно не была рассчитана.
Вот так 7 ноября 1951 года я промаршировал по Красной площади. Главным вопросом, беспокоившим участников, было: а выйдет ли на этот раз на парад Сталин? Вышел. По мере приближения к нему нарастали энтузиазм и громкость скандирования: «Сталин! Сталин!» Отец народов стоял на трибуне Мавзолея и благожелательно помахивал нам рукой. Мы шли далеко от Мавзолея, но зрение у меня было неплохое, так что я его разглядел, хотя и не очень подробно.
Этот парад был единственным за время моего пребывания в Москве, в котором я принял участие. И не потому, что принципиально не хотел участвовать. Просто все последующие майские и октябрьские праздники я провёл в походах. Первый из них я описал. Потом пошли другие – сначала альпсекции, а потом факультетские, мною же и организованные. Конечно, для меня это были серьёзные и важные мероприятия, не в пример какому-то параду. Так что каждый май и ноябрь разворачивался один и тот же сюжет. Деканат вывешивал список участников парада, и в нём обязательно фигурировало моё имя. Вообще это было специальной вредностью – в список включались далеко не все, где-то половина или треть ребят, а девушек вообще мало. Я довольно добросовестно ходил на тренировки, но на парад не являлся. После праздников вывешивался уже приказ о выговоре не явившимся, в котором я также значился. И так два раза в год.
Здесь пауза. Считайте, что начинается новая глава.
Смерть Сталина
Однажды, мартовским утром 1953 года у нас на военной кафедре начиналась лекция по тактике. Полковник Марков, немолодой, неглупый и строгий мужчина, кажется, единственный из офицеров кафедры, кого мы уважали, делал перекличку. Вдруг дверь с шумом распахнулась, и в аудиторию буквально ввалились Юра Барабошкин и Слава Вдовин, невероятно возбуждённые и не похожие на себя. Полковник с удивлением поднял брови, но сказать ничего не успел. «Товарищ Сталин!... В припадке!... Без сознания!...», – выпалили ввалившиеся. Тут уже ни о какой тактике и ни о какой дисциплине нечего было и вспоминать. Лекция была безнадёжно сорвана. Пришедшие сбивчиво излагали услышанную по радио информацию. Половина аудитории разбежалась в надежде узнать новости подробнее.
Во мне назревала радость. Неужели?! Неужели сегодня или завтра мы можем освободиться от этого убийцы?! Нет, не верится, это было бы слишком хорошо!
Так прошли ещё два дня. По инерции продолжались лекции, но никто их не слушал, да немногие и посещали. Группы студентов толпились по периметру «колодца» (внутреннего балкона в здании на Моховой), ожидали новостей из репродуктора и обсуждали последние. Репродукторы были включены на всю мощь, но сообщений было мало, в основном музыка, ещё не траурная, но очень серьёзная и грустная. Все были подавлены.
И вот, наконец, утром 5 марта радио сообщило: «Сегодня в таком-то часу скончался Генеральный секретарь, вождь советского народа и прочая, и прочая, и прочая Иосиф Виссарионович Сталин». И на весь день траурная музыка.
В университете полный траур. Все девочки рыдают, некоторые из ребят тоже. Тем не менее, занятий никто не отменял. Первой в этот день у нас была лекция Хинчина. Начал он примерно так: «Мы скорбим, но, тем не менее, должны собраться с силами и работать». И стал читать лекцию ровно так же, как читал предыдущую. Такое начало произвело впечатление даже на наиболее печалящихся: а ведь и правда, работать нужно, жизнь продолжается.
А на последовавшем за этим семинаре по ОМЛ я отличился. Мне трудно было сдержать радость, и перед началом занятий я рассказал Канту какой-то весёлый анекдот. В момент, когда вошла наша преподавательница Акундинова, оба мы весело смеялись. Как она на нас посмотрела – казалось, испепелит взглядом. Нам сразу стало не до смеха.
После окончания занятий по пути домой я позволил себе зайти в коктейль-холл на улице Горького, рядом с кафе-мороженым – кажется, второй и последний раз в жизни. Обстановка производила впечатление. За стойкой и за столиками сидело не так мало людей, мрачно пили. Ни звука, ни улыбки. Молча выпил свой коктейль и я.
Рассказ Юры Гастева
Здесь я, в отступление от общего правила, хочу изложить с чужих слов эпизод из тех дней, к которому сам не имею отношения. Но уж больно красочный эпизод, он не должен быть потерян, а от героя и рассказчика его, увы, не услышишь. Рассказывал же он много раз, общие знакомые должны помнить, и рассказчик был чудесный, так что моё изложение будет очень неравноценным.
Итак, я изложу рассказ Юры Гастева о том, как он встретил смерть Сталина.
Юра (1928 г. р). был сын Алексея Гастева, старого, с начала века партийца и литератора, более известного, однако, не стихами, а разработкой и попыткой внедрения научной организации труда (и, похоже, оставшегося непричастным к политической стороне деятельности партии). В 30-е годы Юрин отец был, как положено, репрессирован и погиб где-то в лагерях. А Юра, как сын врага народа, тоже, как положено, слонялся по лагерям и психушкам.
Март 1953-го он встретил в психушке (или, может быть, в тюремной больнице), если я не ошибаюсь, в Эстонии. Накануне события, вечером 4 марта, Юра с соседями по палате жадно вслушивался в радио. Когда диктор сообщил, что у товарища Сталина чейнз-стоксово дыхание, сосед, врач по специальности, радостно предложил: «Юра, беги за бутылкой». Юра на всякий случай поинтересовался: «Не рано ли?» – «Нет, Чейнз и Стокс – ребята надёжные. Они ещё никогда не подводили». Юра бросился за покупкой. (Отсюда видно, что порядки в психушке были не очень строгие). Продавец-эстонец как раз закрывал лавку. Он что-то проворчал в адрес неурочного покупателя, но, когда услышал, что речь идёт о бутылке, с надеждой спросил: «Что, уже?» Юра его обнадёжил: «Пока нет, но дело верное» и вернулся с бутылкой.
Юра запомнил этот день как один из счастливейших в жизни. Через много лет, в 1974 или 75-м году, выпуская математический труд, «Гомоморфизмы и модели», он вставил в предисловие среди благодарностей и такую: «Автор особенно благодарен профессорам Чейнзу и Стоксу за их результат от марта 1953 года». С этой благодарностью книга и разошлась, что стоило должности её редактору Юлию Анатольевичу Шрейдеру.
Однако я отвлёкся.
После похорон
Чего я сейчас не могу понять, это – как я не заметил побоища в день похорон. Ведь весь центр был набит людьми и машинами, они давили друг друга. Мне опасность быть задавленным в толпе не грозила, потому что и в голову не пришло идти прощаться с телом в Колонном зале. Но ведь я должен был идти в университет по улице Горького – и ничего этого не помню. Только на следующий день пошли слухи о тысячах погибших, как всегда преувеличенные. Что, впрочем, компенсировалось полным официальным молчанием.
Первой официальной реакцией на смерть Сталина, если не считать речей на похоронах и кадровых решений на заседании Политбюро, были портреты Сталина в траурной рамке во всех без исключения газетах и журналах. Особого упоминания заслуживает журнал «Крокодил». Поместить траурный портрет усопшего вождя с подписью «Крокодил» было как-то неудобно. Не помещать портрет – тоже нехорошо. И редакция нашла соломоново решение: на лицевой стороне обложки – портрет в рамке, а на оборотной – название «Крокодил». Весь же журнал был заполнен карикатурами на империалистов, иллюстрирующими положения из похоронных речей товарищей Маленкова, Берия и Молотова. Правда, судя по всему, потом спохватились, что и так возникают ненужные параллели между вождём и крокодилом, и этот выпуск журнала конфисковали. Во всяком случае, я его видел только один раз в жизни и не встречал человека, который бы тоже видел. Да и не встречал упоминаний о таком интересном номере.
Изменения во мне
Со дня смерти Сталина резко изменилось моё восприятие жизни. До того я как-то не задумывался о возможности положительных изменений в нашей стране. То есть, конечно, знал, что всё не вечно, и рассчитывал, что когда-нибудь… А теперь у меня уже в самый день смерти возникла надежда: «А вдруг при новых властях будет лучше?» И, действительно, события одно за другим оправдывали мои надежды. Так что я довольно быстро превратился в исторического оптимиста. Этот оптимизм носил разный характер. В некоторые моменты я испытывал почти полное доверие к партийным вождям (как к Хрущёву, потом Горбачёву), в другие относился к ним отрицательно (как к Брежневу), но и в этом случае считал, что они пытаются остановить ход истории, а это им уже не удастся, история работает на меня. В конце концов, ход истории превзошёл мои ожидания – я до последних их дней не надеялся пережить партийное единовластие, да и само советское государство. Но как бы ни складывалась ситуация, я всегда помнил: худшее мы пережили до 53-го года, и возврата туда уже быть не может.
Политические перемены
Так или иначе, я теперь особенно внимательно следил за ходом событий. А развивались они стремительно.
Первой сенсацией стало разоблачение «дела врачей». Это усиленно раздуваемое дело, о котором современники услышали в январе 1953 года, конечно, в первую очередь беспокоило евреев. Думаю, все они, как бы ни были подвержены советской идеологии, на этот раз почувствовали непосредственную опасность. Но и для всех, понимающих, как я, сущность нашей системы, это был знак грозящих перемен. Возникал призрак нового периода террора, нового 37-го года, на этот раз начинающегося с евреев.
И вдруг, труп вождя ещё не успел остыть, как всё это лопнуло. Дело «врачей-вредителей», «убийц в белых халатах» было объявлено фальсификацией. Организовал его некто подполковник Рюмин, злодей-карьерист, да ещё, кажется, связанный с иностранными разведками (через год расстрелянный). Мало того. Признания были получены с применением «незаконных методов следствия», что стоило не только здоровья, но и жизни немалому числу обвиняемых. Вот так прямо и было сообщено. Незаконные методы следствия! Советского следствия, причём на самом верху чекистской иерархии! Нечего и говорить, как это было воспринято евреями и моими единомышленниками.
И как продолжение начавшегося устранения беззаконий выглядел разгром Берии. Я в это лето вместе с товарищами по курсу был в военном лагере в Петушках. И вдруг по радио звучит сообщение о подготовке Берией государственного переворота, о пресечении этого намерения, аресте Берии и ряд других разоблачительных заявлений, зачастую довольно абсурдных – о его сотрудничестве с зарубежными разведками, с царской охранкой, с мусаватистами в годы революции и т. п. С невероятной скоростью распространились слухи, зачастую довольно правдивые, об обстоятельствах ареста Берия – танки на московских улицах, разоружение его охраны и прочее. Особая роль в этом справедливо приписывалась Жукову. (Кстати. Между арестом Берии и пленумом ЦК КПСС, давшим официальное сообщение об этом, прошло несколько недель. Не могу припомнить: слухи пришли к нам до или после сообщения). Не припомню, чтобы кто-нибудь высказал сомнение в справедливости акции против Берии. Чуть позже студенчество отреагировало на неё песней:
Лаврентий Павлыч Берия
Не оправдал доверия.
Осталися от Берия
Лишь только пух и перия.
Я был в восторге от происшедшего. В моём представлении сложилась такая картина: это Берия, возглавляя ОГПУ-МГБ, вместе со Сталиным виновен во всех репрессиях, в частности, в фабрикации «дела врачей»; а сейчас к власти пришли люди с чистыми руками во главе с товарищем Маленковым, и уж они-то восстановят попранную справедливость. (Откуда мне было знать, как эта картина далека от действительности. А к толстому Маленкову с тремя подбородками, тогда формально первому человеку в государстве, я испытывал искреннюю симпатию, поскольку для меня он был новым человеком, раньше я нём ничего, кроме имени, не слышал и связывал с ним представления о новом повороте в политике. Позже, когда Маленкова сняли, я огорчался).
Столь же необычно выглядели и первые шаги навстречу Западу. При Сталине Запад однозначно был нашим врагом, прямо не говорилось, но всем было ясно, что с ним не сегодня – завтра война. Представить публикацию в газете статьи зарубежного политика было невозможно. И вдруг в газете «Правда» появляется огромная специально подготовленная дискуссионная статья британского премьера Гарольда Макмиллана, в которой он рассуждает о преимуществах западной демократии. Конечно, рядом помещается вдвое большая по объёму редакционная статья, опровергающая англичанина, показывающая, что их буржуазная демократия – сплошное лицемерие, гроша ломаного не стоит в сравнении с нашей, социалистической демократией. Но удивляло уже то, что статья написана в достаточно уважительном тоне, совершенно не в традициях ленинской полемики, что оппонент не назван ни ренегатом, ни проституткой. А главное – можно прочесть самого Макмиллана, например, такое: «Британский гражданин не испытывает ужаса, когда его утром будит стук в дверь, – это стук молочника или почтальона». (Премьер не знал, что внушающий ужас стук звучал не по утрам, а по ночам). «Правда» тут же поместила карикатуру Бориса Ефимова с подписью: «Утром мистера Макмиллана разбудил весьма неприятный стук почтальона»; изображён стучащийся почтальон с ответом «Правды» в руках и британский премьер, в ужасе вскакивающий с постели. По сравнению с тем, к чему мы привыкли, это выглядело как дружеская шутка.
Поскольку речь зашла о внешней политике, расскажу ещё об одном сенсационном событии, хотя для этого мне понадобится выйти за временнЫе рамки этой главы.
В мае 1955 Хрущёв и Булганин посещают Югославию. Первые слова Хрущёва, сошедшего с трапа самолёта, были: «Дорогой товарищ Тито!» И это по отношению к вчерашнему главарю предателей и шпионов, которого тот же Борис Ефимов изображал не иначе, как с окровавленным топором в руках! Я был в восторге. На стене своей комнаты в общежитии вывесил сделанные собственноручно портреты руководителей двух государств – моего кумира Тито и Булганина, а также рисунки двух флагов. Достал из загашников и поставил на видное место хранимую с первых послевоенных лет брошюру Тито о партизанской войне. (Правда, скоро она снова стала подозрительной по другой причине – автором предисловия был Милован Джилас). А народ немедленно откликнулся на визит известным четверостишием:
Дорогой товарищ Тито!
Ты теперь нам друг и брат.
Как сказал Хрущёв Никита,
Ты ни в чём не виноват.
(Не удивится ли читатель: зачем всё это писать, когда легко можно прочесть в книгах и Интернете много больше и детальнее? Безусловно. Но я пишу свою историю, и мне хотелось бы показать, как это воспринималось современниками, по крайней мере, людьми моего типа и круга).
История со «Стромынкиным»
Между тем, привычные идеологические механизмы продолжали действовать. С одним из них я столкнулся осенью того же 1953 года.
Предыдущим летом (1952), будучи в альплагере, я познакомился с замечательным литературным произведением – поэмой «Евгений Стромынкин». Читал её вслух то ли по записям, то по памяти молодой физик, студент или выпускник физфака МГУ. Поэма меня восхитила. Вообще шуточные подражания «Онегину» весьма распространены как в издаваемой литературе (вспомним процитированное «Возвращение Онегина» из журнала «Звезда»), так и особенно – в студенческом фольклоре. Я был знаком с ходившим по мехмату «Евгением Неглинкиным». Но «Стромынкин» был на голову выше его. Во-первых, совершенно блестящие стихи, в авторе чувствовался настоящий поэт. А главное – содержание. Если «Неглинкин» и другие подобные были чистым зубоскальством, то «Стромынкин», при всей его незаконченности, малом размере и шуточной форме был попыткой, и очень удачной попыткой нарисовать картину жизни университета или, по крайней мере, физфака. Перефразируя известные слова Белинского, это была «энциклопедия университетской жизни». И не только университетской. В поэме витал дух свободы и улавливалось критическое отношение к нашей действительности, очень скромное, но заметно превосходящее пределы на то время дозволенного: «Философ (имелся в виду студент философского факультета) ходит, словно пристав, и инспектирует умы». Или – герой в Третьяковской галерее видит «пшеничные поля, что на полотнах навалял ведущий ныне лживописец …». Далее, по пушкинскому образцу, следует многоточие, заменяющее четыре слога, на место которого так и напрашивается слово «лауреат».
Я переписал поэму и после нескольких прочтений полностью её запомнил. Вот что значит настоящие стихи! С тех пор они неоднократно всплывали в моей памяти. Думаю, что в основном помню и до сих пор.
С такими замечательными стихами я старался познакомить побольше своих товарищей. Конечно, первым – Кронида. Гораздо позже, в эмиграции Кронид познакомился с их автором Герценом Копыловым. Вскоре после этого Копылов умер, а Кронид издал сборник его произведений – тот же «Стромынкин», большая «Четырёхмерная поэма», стихи, самиздатская публицистика. Я листал эту книгу, но более серьёзно познакомиться, к сожалению, не удалось.
Вернёмся, однако, в 53-й год. Моя деятельность по популяризации «Стромынкина» не осталась незамеченной. Однажды меня пригласили в партком университета на 10-м этаже здания на Ленинских горах. В комнате находилось несколько мужчин в штатском, которые мне не представились (в то время ещё не было такого обыкновения). Они попеняли мне, что я распространяю идейно вредное произведение (не помню, использовали ли при этом термин «антисоветское»), и спросили – кто мне его дал. Вопреки длительной психологической подготовке к противостоянию с советской властью, я был напуган. И, к стыду своему, сказал то немалое, что знал: переписал в альплагере у человека по имени Спартак. Конечно, этого было достаточно. Для порядка попугав меня возможными последствиями и предупредив, чтобы этот случай был для меня уроком, меня отпустили. Видимых последствий для меня эта беседа не имела. Хотелось бы знать, насколько я повредил этим Спартаку, а, может, и самому автору.
Письмо о Померанцеве
Впоследствии, с лёгкой руки Эренбурга, эти годы получили наименование «оттепель». Как выглядела «оттепель» во внутренней и внешней политике и как я эту её сторону воспринимал, я попытался рассказать. И всё время ждал – когда же наконец повеет свежим ветром в литературе.
И дождался. В декабрьском (1953) номере «Нового мира» была опубликована статья неизвестного дотоле Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Если представить, что она попадёт на глаза сегодняшнему читателю, тот бы только руками развёл – что вы в ней нашли, о чём тут говорить? Обычная советская статья, с поклонами в адрес Ленина и партии. Ну, сказано, что писатель должен быть искренним, тоже мне мысль, кто же с этим когда спорил? Но в тот момент даже робкий намёк на то, что советская литература недостаточно искренняя, выглядел, как подрыв устоев. Так это воспринял и я. Вот, наконец, начинает пробиваться правдивая оценка нашей литературы! Но правильно оценило статью и литературно-партийное руководство, восприняв её как непосредственную угрозу себе. В газетах одна за другой стали появляться разгромные отклики. Пиком этого разгрома стало обсуждение статьи Померанцева на собрании Московской писательской парторганизации, материалы которого «Литературная газета» опубликовала в июне (1954).
Нечего и говорить, насколько внимательно и заинтересованно мы с Кронидом и ещё несколько наших единомышленников (хотя бы по этому частному вопросу) следили за развитием событий. Ход событий последнего года вселил в нас какие-то надежды и добавил смелости. Наше общество уже начинало представляться как арена борьбы старых и новых сил, причём борьбы не такой уж безнадёжной и опасной. Конечно, поддержать эти новые силы – наш долг. (Это очень приблизительное изложение наших тогдашних представлений, к тому же расстояние во времени может искажать перспективу).
Так или иначе, после разгрома, учинённого партийным писательским руководством, мы уже «не могли молчать» – написали письмо в «Правду», копия в «Новый мир». Разумеется, с совершенно партийных позиций, даже со ссылкой на авторитет усопшего вождя: «И. В. Сталин говорил, что ни одна наука (в том числе, конечно, и литературоведение) не может развиваться без борьбы мнений, без свободы критики». Но «нам непонятно, почему секретариат ССП и парторганизация московских писателей заняли по существу позицию подавления плодотворных дискуссий».
Написав такое письмо, мы рассудили, что будет убедительнее, если его подпишут побольше людей, а потому развешали по всему центральному зданию университета, больше всего на своём факультете, объявления: такого-то числа в таком-то часу в холле общежития на таком-то этаже состоится обсуждение статьи Померанцева «Об искренности в литературе» и письма в связи с ней. Инициаторами всего, кроме нас с Кронидом, было ещё два человека с нашего курса: Вадим Садонский, славный парень, немножко грубоватый на вид, большой любитель Саши Чёрного, от которого я впервые услышал его стихи; и Таня Владимирова, комсорг моей группы, в характеристику которой слова «искренняя убежденность» (в хорошем смысле) так сами собой и напрашивались.
По позднейшим (через 30 лет) воспоминаниям Кронида, собралось чуть ли не больше 100 человек. Едва мы начали, как присутствовавшая представительница парткома потребовала закрыть обсуждение и разойтись, а дальше просто перебивала и мешала говорить. Нам пришлось увести собравшихся в другое место – то ли в сквер перед зданием, то ли в большой холл на 2-м этаже над столовой. Там мы зачитали письмо и предложили желающим его подписать, особых дискуссий не помню. Кронид вспоминает, что подписали 41 человек, впоследствии 2 подписи сняли, осталось 39 – эта цифра и фигурировала в дальнейшем. (Отмечу, что всё это происходило во время экзаменационной сессии).
Первой реакцией властей на наше письмо стала встреча студентов МГУ с писателями, прошедшая через несколько недель, в конце июня. Значительная часть выступлений писателей (Суркова, Симонова, Полевого) была посвящена обличению инициаторов письма, т. е. нас. Выступавшие не стеснялись в выражениях – мы были названы троцкистами, «плесенью» и т. п. Выведенный из себя Кронид пытался им отвечать. А меня на этом собрании не было – сессия кончилась, я укатил на Кавказ.
Партийное руководство факультета и университета со своей реакцией опоздали. Пока они собирались с мыслями, настали каникулы, студенты разъехались.
Вернулись они к этому сюжету уже в сентябре, когда страсти улеглись. Нас осудила университетская газета. На факультете прошли комсомольские собрания, Кронида хотели исключить из комсомола, с подписантами проводились индивидуальные беседы. Меня всё это мало касалось из-за моего некомсомольского статуса. Но в целом кампания проработки была достаточно слабой.
Вот так нам суждено было стать организаторами одной из первых «подписантских» кампаний послесталинского времени.
Военная подготовка
На этом главу можно было бы и кончить. Но есть небольшая тема, хотя и слабо примыкающая к теме идеологического воспитания, но уж точно никак не связанная с тематикой других глав. Так что приходится раскрывать её здесь.
Это тема военной подготовки, или, как её стыдливо называли официально, «спецподготовки».
В то время военная подготовка была в программах большинства вузов. И это давало большие преимущества студентам мужского пола – она заменяла службу в армии. Студенты, обучавшиеся в тех несчастных вузах, где её не было, по окончании учёбы призывались в армию. (Впрочем, зачем я рассказываю – по-видимому, эти порядки сохранились и сейчас).
Нашей военной специальностью была зенитная артиллерия. На военное дело отводился один день в неделю – три пары, проходившие на военной кафедре. Два раза – после 2-го и после 4-го курса – мы по 20 дней проводили в военных лагерях.
В ходе наших занятий и лагерей, естественно, проявлялся вековой антагонизм между относительно образованными штатскими людьми, да ещё студентами, и армейскими служаками. Правда, проявлялся он в довольно мягкой и мало заметной для последних форме – мы про себя их высмеивали. Такой кукиш в кармане. Само собой подразумевалось, что наши офицеры, как и все армейские, люди ограниченные, что их поведение и речь так и напрашиваются на насмешки. Подобное отношение хорошо иллюстрируется распространёнными анекдотами на армейскую тему.
Любимым персонажем для насмешек был руководивший военной подготовкой нашего курса полковник Блинов, крупный розовощёкий мужчина. Он казался олицетворением офицера из военных анекдотов, и, наверное, это чувствовалось бы, даже если бы он и не был одет в военный мундир. Не скажу, чтобы он был глуп, но на его лице не читалось ни единой мысли. И при этом исключительно самоуверенная манера поведения – вот уж кто, кажется, ни разу в жизни не сомневался. И короткие рубленные фразы, каждая из которых звучала то ли как приказ, то ли как окончательное подведение итогов. Мы бесконечно повторяли эти фразы, старательно имитируя голос и тон полковника: «И не более как»; «Вы и вы. Встаньте. И вы оба тоже». Впрочем, мне не хотелось бы сказать о полковнике Блинове ничего дурного – ведь мы ни от него, ни от других офицеров ничего плохого не видели. Относились они к нам уважительно. А что армия глазами штатского человека выглядит смешно и нелепо – это уже вечно, с этим ничего не поделаешь.
Наши военные лагеря находились в районе Петушков – название, ныне широко известное благодаря Венечке Ерофееву. Огромная воинская часть. Что я оттуда запомнил? Большие военные палатки, в которых мы спали. Неожиданное одичание моих однокурсников, которые, оказавшись без женского общества, массово перешли с русского языка на матерный. (Вот и проявилось влияние армии). Тот же кукиш в кармане по отношению к армии и офицерам. А теперь заодно и к сержантам – новой для нас армейской касте, с которой довелось здесь познакомиться, и притом очень тесно.
Занятия по физподготовке и бег в довольно несуразной для спортивных занятий форме – галифе, сапоги, голый торс. Или как маршируем. Сержант командует: «Запевай!» Запевалы начинают популярную в те годы Песню французских докеров: «Довольно пушек, довольно снарядов! Вьетнаму мир, домой пора войскам!» – «Отставить!» И так несколько раз, пока запевалы не переходят на полуприличную солдатскую песню: «Он обнял упругую девичью грудь, и сразу дышать легче стало».
Или вдруг нас выстраивают вместе со всем гарнизоном для зачитывания решения военного трибунала. Рядовой такой-то был в самовольной отлучке, пьянствовал, хулиганил, оскорбил офицера, угрожал. Не помню точно его проступков, но во всяком случае никого не убил. Приговор трибунала – расстрелять. «Вольно! Разойдись!»
Принятие воинской присяги. Каждый выходит из строя, что-то говорит по бумажке и целует воинское знамя.
У меня к изучению военной науки способностей не было никаких. Прежде всего – к изучению «матчасти». Запомнить сами названия бесконечного числа деталей, из которых была собрана пушка или ПУАЗО (прибор управления артиллерийским зенитным огнём), для меня было невозможно. Не говоря уже о том, чтобы объяснить их взаимодействие.
Единственным же, что я запомнил на всю жизнь, было одно определение из Устава гарнизонной и караульной службы: «Гарнизон – это воинские части и подразделения, расположенные в населённом пункте или вне его, постоянно или временно». Уж больно красивое определение, кажется, так и взято из анекдота.
После второго из наших лагерей мы сдавали государственные экзамены. Казалось бы, мне отродясь не сдать «матчасть». Но сработала чёткая организация экзамена. Как я писал, у нас было немало ребят, которые лихо и с интересом в этом разбирались. Я диву давался, как они сидели с учебником перед плакатами, находили там нужные детали, с интересом обсуждали, как какие винтики крутятся. Эти же ребята и записали ответы на все заранее выданные нам экзаменационные билеты. А накануне экзамена эти билеты были вручены лаборантам кафедры вместе с некоторой, довольно скромной суммой. Сам же экзамен проходил так. Студент вытаскивал билет, громко рапортовал свою фамилию и номер билета и садился готовиться. К нему подходил лаборант и вручал шпаргалку. Подготовка к ответу заключалась в том, чтобы найти на плакате указанные в шпаргалке детали. А ответ – в том, чтобы точно прочесть шпаргалку и правильно ткнуть указкой в нужное место на плакате. Так ответил и я, получив четвёрку. А через некоторое время получил билет с вписанным в него воинским званием. Так я стал младшим лейтенантом запаса.
Добавлю, что моя последующая воинская карьера складывалась довольно удачно. Так больше мне ни разу не приходилось попадать в военные лагеря. Несколько раз переподготовки проходили в городских условиях без отрыва от работы – по несколько недель вечерних занятий. Время от времени меня повышали в звании, так что в отставку я вышел уже старшим лейтенантом.
Глава 7. На Ленинских горах
В одном из блоков в эту пору
Студент мехмата проживал
И очень строгому разбору
В парткоме повод подавал.
Сей отрок, Михаил Беленский,
На вид немного деревенский,
Поклонник Гейне и поэт,
С собою в университет
Привёз с родных полей Украйны
Запас душевной теплоты,
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Самоуверенную речь,
Рюкзак и волосы до плеч.
С. Яценко. «Евгений Омегин»
В предыдущих главах я старался описывать главным образом свой первый университетский период, когда учился ещё на Моховой, но мне часто приходилось перескакивать к событиям, происходившим уже позже. Теперь хочу рассказать об этом втором периоде – на Ленинских горах – по порядку.
Университет на Ленгорах
Грандиозное здание Московского университета было едва ли не самой знаменитой стройкой тех лет. Задумано он было как образец. С одной стороны – образец университетского комплекса с максимальными удобствами для учебного процесса и для жизни студентов; с другой – образец новой социалистической архитектуры, создающей новое лицо Москвы, а за ней и других городов. В Москве одновременно строился с десяток подобных зданий, например, здание МИД, но, конечно, среди них наш университет был главным.
Я сказал «комплекс». Действительно, уже само центральное здание распадалось по крайней мере на пять почти самостоятельных корпусов, соединённых общими переходами. Напрашивается старинное слово «собор», недаром же за университетом на Ленинских горах закрепился эпитет «храм науки». Впрочем, официально эти корпуса назывались более прозаически – зонами – не в память ли зэков, составлявших значительную часть рабочей силы на этой стройке? Рядом с главным зданием стояли отдельные большие корпуса физического и химического факультетов. И ещё по обе стороны – к востоку и западу от них – огромные территории со зданиями разных вспомогательных институтов, например, Вычислительного центра, ботсада и т. п.
Когда я попал в новое здание, у меня захватило дух – от масштаба, просторов, высоты.
Мехмат занимал с 12-го по 16-й этаж центрального здания. (Если не ошибаюсь, в самом здании было 28 работающих этажа, да ещё 4 узеньких где-то под шпилем, как пьедестал для него. По тому времени, небывалая высота, небоскрёб). Нас поразили огромные лекционные залы, с высокими потолками, с амфитеатром скамей. Лифты, мгновенно поднимающие на любой этаж. И вид из окон: на север – под тобой вся Москва, на юг – подмосковные поля, ведь университет стоял по существу на границе Москвы.
Едва ли не больше того поражало общежитие. Общежития располагались в отдельных 19-этажных корпусах: женское – зона «Б» и мужское – зона «В». Каждому студенту и аспиранту полагалась отдельная комната (за исключением двух комнат на двух человек на каждом этаже; в одной из них год довелось пожить и мне): студенту – площадью 8 квадратных метров, аспиранту – 12. Две комнаты соединялись в «блок», в который входили также туалет и душ. На каждом этаже несколько кухонь. Комната была очень удобно оборудована: кровать, столик, шкаф-секретер: верхняя, застеклённая часть – для книг, нижняя закрытая – для хозяйственных предметов. Конечно, радиоточка. Удобно, продуманно, без излишеств. На два этажа высокий холл с телевизором и пианино. На каждом этаже телефонные кабинки. И в такую роскошь поселялись все без исключения иногородние!
Корпуса общежитий были соединены с главным корпусом (зоной «А») переходами – внизу и вверху – с нашего 19-го на 11-й в центре. В том же здании было всё, что нужно для жизни: столовые, магазины, спортзалы, кинотеатр, театральный зал и т. п. Так что в принципе студент мог весь учебный семестр не выходить из здания, разве что на занятия по физкультуре, когда они проводились на свежем воздухе, да на маршировки перед парадами.
Особо следует рассказать о столовых. Две больших студенческих столовых располагались под двумя общежитиями в цокольных этажах двух крыльев здания. Кормили там простой, но добротной пищей, главным достоинством которой была цена. И уж совсем удобно было пользоваться абонементами. Абонемент на день питания обходился в 8 руб. 50 коп. (по 2.50 завтрак и ужин, 3.50 – обед). Были и абонементы чуть дороже – 10 руб. (в них обед стоил 5), но я, экономя, пользовался теми, что подешевле. (Стипендия составляла 290 руб., отличники на 25% больше, так что стипендии точно хватало на пропитание). Когда мне случалось растранжирить деньги, и их на несколько дней не хватало, я заранее покупал пачку сахару, а потом трижды в день ходил в столовую пить чай – чай, хлеб, а иногда кислая капуста были бесплатно. А уж если кто хотел пороскошестовать, к его услугам были «профессорские» столовые – нам они представлялись ресторанами: официанты, накрахмаленные скатерти, изысканное (снова же, по нашим представлениям) меню, но зато обед обходился раза в три дороже. За время обучения я несколько раз позволял себе такую роскошь.
Так что мы, студенты МГУ, точнее, его естественных факультетов, оказались в самых комфортных условиях, о которых остальное советское студенчество (да, наверное, и мировое – кроме самых буржуйских детей) могло только мечтать. Более того – мы оказались не только в нужном месте, но и в нужное время. Едва прошёл десяток лет, как контингент студентов возрос чуть ли не вдвое, а площади остались теми же. И в такую же студенческую комнату стали селить уже по два, а в аспирантскую – по три студента. Тем более это продолжается сейчас. Мне не довелось увидеть, и я недоумеваю: где они только помещаются?
В таких прекрасных условиях начался мой 3-й курс, 1953/54 учебный год.
Общительность
Как проходили мои учебные занятия в этот период, я уже писал, повторяться не буду.
А вот образ жизни изменился совершенно.
Можно сказать, что теперь моей семьёй стал студенческий коллектив. Если раньше я виделся с коллегами по курсу и факультету в основном на лекциях и в перерывах между ними, то теперь так или иначе они окружали меня 24 часа в сутки – кроме времени сна, конечно. А так стены блоков нас не слишком разделяли: в любую минуту к тебе, зачастую без стука, мог войти любой знакомый мужского или женского пола – по счастью, на это счёт не было жёстких порядков, и весь день студенты свободно ходили мимо дежурных коридорных с этажа на этаж и из зоны в зону; только не полагалось оставаться ночевать, особенно лицам другого пола. (Кстати, последним у нас не злоупотребляли).
К этому ещё надо было привыкнуть, но, привыкнув, я с удивлением обнаружил, что оказался весьма компанейским субъектом. Публика в моей комнате не переводилась, зачастую сидели там и без меня, поскольку дверь никогда не запиралась. Так как многие из этих контактов были деловыми, я со временем завёл специальную большую «Тетрадь для гостей и посетителей», где каждый явившийся в моё отсутствие мог оставить мне послание, прочесть, что я ему написал, да и обменяться информацией с другими гостями.
Но такой размах моя общительность приобрела постепенно, наверное, где-то к концу первого года на Ленгорах. А поначалу просто более интенсивно формировались большие или малые компании, в которые я входил.
Конечно, я теперь гораздо больше общался с Кронидом – бульшая часть наших бесед, о которых я писал выше, прошла именно здесь. Если не каждый день, то через день мы заходили друг к другу обсудить интересную книгу или событие, а то просто перекинуться парой реплик. Приятно было вечерком посидеть за чашкой чая, наслаждаясь им, как истинные гурманы, а когда позволяли средства, то полакомиться пачкой пельменей.
А ещё образовалась дружная компания, которую мы окрестили «семьёй». Большинство её образовали ребята и девочки из моей «старой» или «новой» группы. (С 3-го курса учебные группы разбили по-другому – по будущим специальностям: математики, механики, вычислители; астрономы были выделены с самого начала). В общежитии из нашей «семьи» жили трое: Юля Першина, Ира Бородина и я. Юля, имевшая обыкновение всех нас опекать, получила за это титул «бабки», а все остальные были её внуки и внучки, между собой – братья и сёстры. Был у нас даже «прадед», и вот по какому счёту. Юля увлекалась театром – и как зритель (она нередко посещала спектакли и была в курсе театральной жизни), и как актриса (студенческого уровня). Играла она в факультетской театральной группе, спектакли которой ставились довольно профессионально профессиональными же режиссёрами. Так вот, Юля и Женя Страут играли в «Последних» Горького дочь и отца, так что он естественно оказался нашим прадедом. Собирались мы у Юли или у Иры довольно часто, девочки поили нас чаем с печеньем, и мы очень славно общались. Влюблялись, делились сердечными привязанностями, читали стихи. Я тепло вспоминаю свою «семью», и, по счастью, некоторые связи, несмотря на годы и расстояния, до сих пор сохранились.
Раз уж я упомянул о театре, добавлю, что это увлечение краем коснулось и меня. Я тоже решил попробовать свои силы в актёрском мастерстве и стал членом факультетской театральной группы. Попал я туда, когда Князев, вроде бы относительно известный режиссёр, готовил инсценировку «Педагогической поэмы». По-видимому, он был невысокого мнения о моих способностях, потому что поручил мне далеко не ведущую роль – кого-то из воспитанников колонии, бывшего хулигана. Если у меня там и были какие-то слова, то очень немного, а главное, что от меня требовалось, – появиться окровавленным в сцене драки. Пьеса выдержала несколько спектаклей. Но этот скромный результат был настолько далёк от моих честолюбивых актёрских замыслов, что сцену я навсегда оставил.
Чтение
Как полагается, говоря об этом периоде, коротко расскажу о чтении.
Вообще мне представляется, что описываемое переломное время было исключительно интересно и в таком отношении: начало складываться особое отношение к новой литературе – именно к новой, той, что пишется сегодня или, по крайней мере, становится доступной сегодня. Появился новый читатель, для которого эта литература была хлебом насущным. Так сказать, «живая литература». И такое восприятие «живой литературы» сохранилось до конца перестройки, к сожалению, после того угаснув. В чём причины такого угасания? Здесь, наверное, две причины. С одной стороны, в то время литература была единственной отдушиной для интеллигентного человека, а современная литература – единственным окном в мир. Но с другой стороны, литература была совсем другой по характеру. Разве современный постмодернистский автор стремится или способен рассказать о чём-то серьёзном? Можно ли сравнить какого-нибудь модного ныне Зюскинда с Фолкнером или Бёллем?
При этом тех, кто был в моём окружении, в равной мере привлекала и понемногу оживающая отечественная, и приоткрывающаяся зарубежная, в основном западная литература. О советской литературе разговор особый, я отложу его до подходящего места, а пока о западной, ворота в которую несколько приоткрылись именно в эти годы.
Появлялось всё больше книг неизвестных нам западных авторов, а главное – начал выходить журнал «Иностранная литература», и мы с друзьями с нетерпением ожидали выхода каждого нового номера. Вообще-то это знакомство давалось с трудом. Едва ли не первым относительно современным автором для меня был Хемингуэй, которого я читал ещё на Моховой. Мне, привыкшему к литературной традиции XIX века, он показался слишком большим модернистом и потому совсем не понравился: какие-то пустые обрывочные диалоги ни о чём, нет размышлений героев, описываются их мелкие действия и т. п. Не легче пришлось и с Фолкнером, «Деревушка» которого появилась в «Иностранке», – здесь ещё были трудности с языком. (Излишне сообщать, что впоследствии обоих авторов я многократно читал и перечитывал, а «По ком звонит колокол» считаю одной из лучших книг XX века).
Много легче пошли немцы – Ремарк и Бёлль. Первой появившейся книгой Ремарка было «Время жить, время умирать», и мы увидели войну с той, немецкой стороны – помню, как это поразило Иру Бородину. Тогда же появились книги двух замечательных авторов – недавно погибшего и современного. Ошеломила романтика Сент-Экзюпери. А «451 по Фаренгейту» открыл для нас жанр антиутопии, к которому литература так часто обращалась впоследствии; и хотя формально там речь шла о другом, американском мире, но было понятно, как он похож на наш. Ещё из полюбившихся мне в этот период западных авторов назову Стефана Цвайга.
Мы так рвались к этим книгам, потому что чувствовали, как они расширяют наше ви'дение мира. Мы как бы своими глазами видели другую цивилизацию, другой способ мышления и изображения жизни.
Ну, это о тех литературных открытиях, которые я делал вместе со всем своим поколением. Но было для меня немало и личных, индивидуальных открытий.
Именно в это время я познакомился с рядом замечательных поэтов, которых называл, говоря о Крониде (А. К. Толстой, Тютчев, Хайям, Уитмен, Лорка). Добавлю в этот список Верхарна.
Тогда же, к своему удивлению и радости, я открыл двух «порядочных» советских писателей – Тынянова и Паустовского. Пишу «к удивлению», потому что с детства находился под влиянием предубеждения, что «порядочность» и «современный советский писатель» – понятия несовместимые. Ну, Тынянов-то был не совсем современный, так что удивляться оставалось только нашему современнику Паустовскому. Его мне порекомендовал кто-то из старших факультетских туристов, и он восхитил меня любовью к природе и путешествиям, и главное – отказом от дежурной лжи: в то время трудно было назвать писателя, который не отдал бы ей обязательной дани.
Замечу, что, исходя из представлений о лживости советской литературы, я полностью исключал из неё писателей гонимых, как Зощенко и Ахматова, – я как бы не считал их советскими писателями. Странно, и я не могу найти этому объяснения, но как раз их произведений я не пытался разыскать и прочесть.
Зато я начал интересоваться Гумилёвым, и был в этом отношении не одинок – Гумилёв становился культовым поэтом на мехмате. Вдруг вокруг стали появляться его стихи. Как ни странно, но его сборники сохранились в Ленинской библиотеке, и я был среди тех, кто их переписывал. Многие из них легко заучивались наизусть. Меня больше всего восхитил «Дракон»:
Из-за синих волн океана
Красный бык приподнял рога,
И бежали лани тумана
Под скалистые берега.
До чего прекрасные стихи! Стихи Гумилёва мы переписывали друг у друга, можно сказать, что это было предвестие самиздата.
Другим полулегальным поэтом стал для меня Волошин. Им я обязан Крониду, который будучи крымчанином, хорошо знал и пропагандировал Волошина, имел в списках его стихи и поэмы, а я, да и другие у него переписывали. Впрочем, в то время его популярность на мехмате была значительно меньшей, чем у Гумилёва.
Театры, кино, музеи
В этом месте сам Бог велит немного рассказать о других видах искусств. Немного – потому что они занимали среди моих интересов гораздо меньшее место.
Музыка сразу отпадает, к нынешнему моему сожалению.
В театры я ходил маловато. Может, по разу-другому побывал в основных. Можно сказать, завсегдатаем был только в двух: кукольном Образцова, который очень любил и где смотрел почти всё, и в Театре сатиры, который тоже ценил. Были там замечательные вещи, талантливо поставленные, например «Тень» Шварца. Да, чуть не забыл: несколько раз с удовольствием побывал в Цыганском театре «Ромэн», где понравилось такое цыганское воодушевление актёров: как они после спектакля бросали в зрительный зал розы, а публика в восторге аплодировала.
А вот опера и балет были не для меня. Однажды Ира Кристи, девочка несколькими курсами младше меня, с которой мы подружились, повела меня на «Кармен» в Большой театр, где её отец был едва ли не главным режиссёром. И я высокомерно смотрел на сцену, прокручивая в уме толстовско-писаревские глупости: «Чего это они поют, когда нужно говорить, так в жизни не бывает» и тому подобное. В общем, не в коня корм.
Совсем другое дело кино. Не буду говорить о фильмах стандартного репертуара, лёгкий доступ к которым обеспечивал кинозал университета. Советских фильмов того времени смотреть практически не стоило – разве что «Войну и мир» Бондарчука и «Сорок первый» Чухрая, а вершиной гражданской смелости считалась «Карнавальная ночь» Но всё чаще появлялись итальянские и французские фильмы, которые в то время были единственными доступными западными, а тем самым – отдушиной в моём репертуаре. (Несколькими годами позже такую роль стали играть и польские, начиная с «Канала»). Итальянскими фильмами я бредил с самого детства. Первым из них были «Похитители велосипедов», увиденные в школьные годы, потом пересмотрел всё, что мог, из неореализма – благо, они неплохо были представлены в советском прокате.
В описываемые годы устанавливалась традиция фестивалей итальянских и французских фильмов в кинотеатре «Ударник». За билетами выстраивались очереди на несколько дней. Кажется, я застал только начало этой традиции и упорно простоял за билетами на два или три фестиваля. Каждый раз выстоял по два дня, купил на все фильмы (каждый раз 5 или 6) столько билетов, сколько давали, чтобы приглашать девушек или передать товарищам. Из итальянских фильмов наибольшее впечатление на меня произвела «Дорога», а из французских – «Тереза Ракен».
Вспомню и выставку картин из Дрезденской галереи, вывезенных в годы войны и надёжно припрятанных в ожидании времён, когда уже можно будет не отдавать. С потеплением международного климата надежда на такие времена угасла, так что оставалось выдать их припрятывание за большую услугу мировому искусству (каковой оно объявляется и сейчас) и вернуть демократической Германии. Перед этим их, спасибо партии и правительству, показали москвичам. Выставка проходила в 1955 году в Пушкинском музее, в том самом, в котором с 49-го по 53-й демонстрировались шедевры совершенно другого рода – подарки товарищу Сталину по случаю его 70-летия.
Интерес выставка (Дрезденская, я имею в виду) вызвала огромный. Чтобы на неё попасть, нужно было занять очередь рано утром и простоять полдня. Несколько недель вокруг меня только о ней и говорили. Помнится, самое сильное впечатление произвели импрессионисты, которых мы до сих пор почти не знали, и Пикассо, которого не знали совсем. Если их когда раньше официально упоминали, то только с бранными ярлыками. В моём окружении импрессионистов безоговорочно приняли, а вот относительно Пикассо шли бурные споры. Я был среди тех, кто отнёсся к нему с недоверием.
Увлечение Востоком
Особый разговор о моём увлечении восточными литературами и вообще Востоком.
Заметная склонность к этому у меня была ещё в детстве – скорее всего под влиянием Толстого, который так часто обращался к индийским и китайским мудрецам и легендам. Это замечаешь, уже когда читаешь его нравоучительные притчи. А по «Кругу чтения» я познакомился и с Буддой, и с Конфуцием, и с Лао-Тсе (так в то время именовался Лао Цзы). Всё это было замечательно: спокойная мудрость, достоинство. Так что по началу, в первые университетские годы, я представлял себе Восток именно через призму Толстого и нашёл его, например, в «Жизни Будды» Асвагоши. Естественно, заинтересовался и йогой, прочёл «Хатха-йогу» Рамачараки, проникся её идеями, однако так никогда и не стал её практиковать, разве что немного – дыхание. Ещё раньше я начал читать Тагора, потом древних индийцев, например, Калидасу, а чуть позже принялся и за современных (Чандра, Ананда, Аббаса), и они мне тоже нравились.
Раз уж я заговорил об Индии, то нужно выйти за пределы литературы. Я очень интересовался современной историей Индии, старался прочесть всё, что можно. Ганди, Неру были моими любимыми героями. Вся их деятельность представлялась мне воплощением толстовских идей, да я и помнил, что молодой Ганди был адресатом толстовского «Письма индусу». Ненасильственная революция – как это замечательно, как отлично от нашей гражданской войны! Я бредил индийскими терминами: «ахимса», «сатьягракха». А ведь «ахимса» это и есть «непротивление злу насилием», и разница в длительности звучания подчёркивает близость этого понятия индийскому мышлению. Мои представления о врождённом индийском неприятии насилия были поколеблены только когда я прочёл, кажется, у Ананда рассказ о взаимных индусских и мусульманских погромах.
Начав с Индии, я скоро перешёл на Китай и Японию – их древние сказки, новеллы и поэзию. Непередаваемое очарование далёких цивилизаций. В ту пору их издавали совсем мало, я читал в основном издания 1930-х годов. Тот особый стиль перевода, благодаря которому мы сегодня распознаём китайскую поэзию, был выработан значительно позже, главным образом Гитовичем. В переводах 30-х годов она звучала по-другому, но тоже прекрасно, читатель может оценить:
Когда такие забытые люди
За гранью небесного круга
Сойдутся, то разве помехою будет,
Что прежде не знали друг друга?
Это «Лютня» Бо Цзюй-и в переводе Шуцкого.
Чуть позже в связи с походом по Памиро-Алаю я увлёкся и персидской (в советской терминологии «ирано-таджикской») поэзией.
А кроме литературы было ещё искусство. Музей восточного искусства недалеко от Курского вокзала был одним из моих любимых, и я нередко любовался там китайскими вазами, статуэтками из нефрита, индийской эмалью, персидскими миниатюрами.
А потом появились индийские фильмы. Сейчас это произведения масскультуры, так сказать, для плебса. А вот первый появившийся у нас фильм – «Бродяга» с Раджем Капуром, произвёл фурор. Это было открытие нового индийского искусства не только для специально интересующихся вроде меня, а для очень широкой публики – от интеллектуалов до простых работяг. Вряд ли кто в моём поколении не знал распространившегося по всей стране напева: «Бродяга я, а-а-а-а!».
Я – организатор туризма
Главным же моим занятием и увлечением на весь этот период стала организация туризма. Именно организация. Мне, конечно, нравилось в выходной день пройти по Подмосковью, потаскать тяжёлый рюкзак, повозиться у костра, посидеть у него, попеть песни. Но главное – во мне сформировалось представление о туризме-альпинизме, как об особом образе жизни и состоянии духа. Попытаюсь сегодня приблизительно его сформулировать. (Повторяю: «приблизительно» – сформулировать поточнее я и тогда бы не смог, а сейчас ещё и невольно искажу за давностью лет). Итак, туризм-альпинизм – это состояние духа. Настоящий турист-альпинист остаётся таковым везде – дома, в университетской аудитории, с любимой девушкой. Он знает цену товариществу, верен друзьям, ему хорошо с ними. У него ярко выраженное чувство долга. Он не боится трудностей. Он старается взять на себя побольше и делать всё правильно. Он здоров, крепок, закалён и дисциплинирован. И, конечно, любит природу, любит путешествия, хочет побольше увидеть мир, узнать и понять побольше разных людей. Узнавая людей, лучше понимаешь мир, в котором живёшь. Чтобы увидеть землю и узнать людей, ходишь в большие походы. Чтобы испытать пределы своих возможностей и увидеть горы – занимаешься альпинизмом. А чтобы подготовиться к этому, выработать в себе технические навыки, поддержать общее моральное состояние, наконец, чтобы ежедневно чувствовать близость к природе, ходишь в воскресные походы.
Вот приблизительно такие представления сформировались у меня к моменту поселения на Ленгорах. Так что альпинизм-туризм представлялся мне не видом спорта, а некоторым братством, и настоящий член этого братства должен стремиться к его расширению, т. е. быть по природе своей миссионером. Слово «миссионер» я, конечно, тогда не употреблял, потому что, наверное, и не знал; на более привычном языке следовало сказать: «организатором туризма». Особенно в студенческой среде, где людей легче организовать и где они особенно готовы воспринять этот набор ценностей. Образцом такого коллектива для меня была альпсекция МГУ, а образцом организаторов – Мика Бонгардт и Костя Туманов.
Так я загорелся идеей – организовать туристский коллектив на факультете.
Вообще студенты мехмата в походы ходили. Ещё на 1-м курсе я подходил к стендам с фотографиями туристских походов, шутливыми подписями и стихами – по свято соблюдаемой с давних времён традиции полагалось после каждого похода делать такие стенды – в похвалу себе, для агитации и воспитания подрастающего поколения. Я с завистью разглядывал эти стенды – больше всего запомнились байдарки на бурных реках. Всего, мне кажется, к тому времени на факультете было где-то с полдюжины довольно опытных туристских групп, и ходили они в интересные и серьёзные походы. Но это были закрытые группы, полностью лишённые «духа миссионерства». Одновременно как-то сами собой, хотя и не без влияния «наглядной агитации», возникали туристские группы и организовывались простенькие походы на младших курсах – примером может служить мой кавказский поход.
Единомышленников я начал подыскивать в той же альпсекции, занятия в которой начались довольно скоро после начала учебного года. С мехмата там оказалось двое новичков: Витя Леонов – курсом младше меня и Серёжа Яценко – двумя курсами младше. Мы выписали в спортклубе несколько палаток, рюкзаков и спальных мешков, после чего заявились перед началом лекций к 1-му и 2-му курсу и объявили, что в ближайшие субботу и воскресенье состоится туристский поход по такому-то маршруту, приглашаются все желающие, сбор для решения организационных вопросов тогда-то и там-то – кажется, в моём блоке. (Отмечу любопытную языковую особенность – место проживания студента МГУ никогда не называлось «комнатой». Говорилось: «в моём блоке»).
Так мы стали ходить почти каждую неделю. Постоянными организаторами были мы с Сергеем (впрочем, более известным под именем Серёжка). Число участников становилось всё больше, приходилось их делить на две-три группы. Я старался организовывать походы, придерживаясь традиций, почерпнутых мною в альпсекции: пройти побольше, собираться побыстрее, ритм движения чёткий – 50 минут идти, 10 отдыхать. Вечером большой костёр, песни. Такие же песни в электричке – не уверен, что это нравилось всем пассажирам, тем более учитывая наши голоса. Помню Серёжкин призыв как-то в электричке: «А теперь позаботимся об интересах пассажиров – споём».
С Серёжкой мы сильно сдружились в это время – и по организуемым совместно походам, и по общему мировосприятию, о котором я писал чуть выше. Позже он писал об этом времени:
Ночлег в забытой деревеньке,
Пижонская улыбка Женьки,
Ведро у Мишки на спине,
Под вечер тени на лыжне –
Всё это близко и знакомо,
Как будто мы ещё вчера
Сидели вместе у костра
Вдали от Храма и от дома.
И треск костра, и зимний лес,
И снег, ниспосланный с небес.
Наши пути ещё долго пересекались, читатель это увидит. И сейчас очень обидно, что в конце концов мы почти потеряли друг друга.
А Витя Леонов скоро отошёл от наших выходных походов, по-серьёзному занявшись альпинизмом. Каждое лето проводил в лагере по две-три смены, стал заметным спортсменом. И через несколько лет погиб на восхождении.
Подмосковье
Подмосковье предоставляет замечательные возможности для выходного туризма. Во всяком случае – много лучшие, чем другие два края, где мне впоследствии пришлось жить – Армения и Киевщина. Для однодневного маршрута доступна огромная территория – ведь от Москвы идут 11 железнодорожных путей, и, отъехав на электричке километров на 100 без малого, ты за день можешь дойти до соседней железной дороги и на электричке же вернуться. При этом бульшую часть доступного Подмосковья занимают места, в туристском отношении интересные и радующие глаз, – в основном леса, причём настоящие, дикие леса (в отличие от бесконечных засаженных впритык сосняков Киевщины). Когда отъедешь километров на 30, места довольно безлюдны – по крайней мере, были такими в моё время. Мне случалось проходить километров 40 мало того, что не встретив человека, – за всё время попадалось только несколько деревушек на горизонте. Идёшь – и весь день перед тобой прекрасные, радующие душу места – берёзовые рощи, поляны, ручьи. За годы студенчества и аспирантуры я много походил по Подмосковью, хорошо его знал. Именно таких подмосковных походов мне потом сильно не хватало.
Наиболее значительными туристскими мероприятиями на факультете стали слёты, на которые мы пытались собрать как можно больше людей – всех, кто хоть как-то может ходить. Несколько групп – где-то порядка десятка – выходили из разных станций и собирались в одной точке. Такие слёты назывались «звёздочками» – по рисунку маршрутов на карте. Вечерами долго сидели у костра, пели. На первом из слётов мы провозгласили себя факультетской туристской секцией, избрали меня председателем, в каковой должности я и оставался до конца своих университетских дней.
В общем, за три с половиной года, что я этим занимался, воскресные походы охватили кучу народа, исчисляемого, наверное, сотнями. Бульшую часть их я знал, а они знали меня. Понемногу среди наших с Серёжкой воспитанников выделялись новые энтузиасты, которые уже сами организовывали группы. На каникулах многие уходили в большие, хотя и не очень сложные походы. Здесь не могу не похвастаться: в один из этих годов спортклуб МГУ присудил мехмату первое место по туризму. По сложности походов мы заметно уступали физикам и химикам, но превзошли их по массовости. Это долго было предметом моей гордости.
«За двойки и тройки»
В заключение сюжета вспомню редактируемую мной факультетскую туристскую газету, названием которой служил призыв: «За двойки и тройки!» На туристском жаргоне так назывались походы второй и третьей категорий сложности; по классификации того времени всего было три категории, из которых высшая – третья (сегодня их 6).
Упомянув газету, сразу вспоминаю: я сижу в своём блоке и готовлю очередной её номер. В дверь вваливается фигура, которую ни с кем не спутаешь, – сразу видно настоящего, классического математика не от мира сего из шуток и анекдотов. Это Глеб Сакович – киевский студент или, может быть, уже аспирант, вероятностник (т. е. специализирующийся по теории вероятностей), приехавший в МГУ по обмену на год или, скорее, на полгода. Глеб – завзятый турист, со дня своего появления активный участник всех наших походов. Кроме того – большой знаток туристских и студенческих песен, можно сказать, фольклорист. Мы с ним постоянно обмениваемся песнями, которые я заношу в специальную тетрадку, а он – в память или, в крайнем случае, на маленькие аккуратные листочки, рассовываемые по карманам. Он спрашивает: «Ты что делаешь?» – и тут же принимается помогать в оформлении заголовка. Макает кисточку в краску и смело рисует букву «З», которая оказывается похожей на змею. Чтобы увеличить это сходство, приделывает букве змеиную голову, а дальше принимается за её соседей. Получившийся заголовок тоже с другим не спутаешь.
Завязавшаяся в эти дни дружба с Глебом сохранилась до конца его дней – ему предстоит неоднократно появляться на этих страницах.
Парашют
Расскажу ещё об одном своём мимолётном спортивном увлечении – парашюте. В начале 4-го курса я не то чтобы подружился, а, говоря по-украински, заприятелював, с пятикурсником Женей Максимовым, товарищем по лодочному походу по Юрюзани, о чём речь ещё будет идти. А Женя в это время увлёкся парашютом. Парашютный спорт – дело серьёзное, и к первому прыжку его готовили чуть ли не год. Он изучил учебник, были какие-то тренировки. Но где-то за неделю до первого прыжка ему пришла в голову идея подключить к этому спорту и меня: «Приходи, сдавай зачёт, и прыгнем вместе». Идея была для меня неожиданной, но понравилась. Пару дней я посвятил учебнику и явился на зачёт. К моему удивлению, в парашютной секции не удивились появлению незнакомого новичка. Что-то я там рассказывал, потом собрал парашют. Зачёт у меня приняли и допустили к прыжку. Вместе с Женей. Разумеется, после всякого медицинского освидетельствования.
В воскресенье нас посадили на автобус и отвезли куда-то за город. Стоял чудесный зимний день. Мы – человек 10 – влезли в гондолу привязанного к земле аэростата. Потом аэростат поднялся, если не ошибаюсь, на 400 метров. Я поглядел вниз. Зрелище было ни с чем не сравнимо. В горах ты смотришь вниз, но стоишь на земле. В самолёте видишь землю внизу, но в маленьком окне и сбоку, а вокруг – кабина самолёта. А здесь – земля под тобой очень красива, яркий белый снег, на нём маленькие строения. И между тобой и землёй – пустота. И в эту пустоту нужно шагнуть. Честно скажу, страшно. В тебе заложен инстинкт, сопротивляющийся этому шагу. Но деваться некуда – нужно. Этот шаг – единственное, что тебе нужно сделать. Парашют раскроется сам, он прицеплен к тросу на аэростате. На всякий случай на тебе ещё запасной парашют, но до этого никогда не доходит. Делаешь шаг – и через долю секунды чувствуешь лёгкий рывок, это начинает раскрываться парашют. Уже потом начинаешь оглядываться, летишь довольно медленно – и здесь тебя охватывает восторг. Потом толчок о землю. Нужно вскочить и бежать в направлении ветра, но об этом забываешь, и парашют, поддуваемый ветром, некоторое время волочёт тебя по земле. Наконец, парашют спадает, ты встаёшь, отвязываешь его и начинаешь укладывать. И долго ещё пребываешь в состоянии восторга.
Женя ещё долго занимался парашютным спортом. А у меня это был единственный случай, я и не собирался продолжать.
Расширение круга знакомств
Воскресные походы сильно расширили круг моих знакомств и связей на факультете. Так как моя «миссионерская» деятельность была направлена на младшие курсы (на два и больше курсов младше меня), то и знакомств было больше всего там. На этих курсах в походы ходили сотни две человек, и я их более-менее всех знал.
И не только на факультете. Активно и постоянно занимаясь туризмом, ты так или иначе сталкиваешься с туристами с других факультетов – встречаешь их на маршрутах или при обсуждении планов в спортклубе. Для закрепления дружеских связей устраиваются «звёздочки», общие для двух факультетов. А когда перед началом туристского сезона формируются походные группы, оказывается, что в каких-то из них не хватает людей, и они добираются с другого факультета. Так в группах, составленных преимущественно из мехматян, оказывались и физики, и химики, и экономисты. (Со всеми ними я тоже ходил). Такое «смешение народов» вызывалось, в частности, одной странной особенностью мехматского туризма: поначалу в нём явно преобладали юноши, в большие походы собирались в основном мужские группы. Начинали искать девочек, потому что с ними веселее. И находили на других факультетах, где картина была противоположной – то ли из-за количественного преобладания девочек, то ли из-за их большей активности (таково уж свойство нашей цивилизации). Особенно тесные связи у нас установились с традиционно женским биофаком. Биологини стали постоянными участницами наших больших и малых походов, да и просто дружеских компаний.
«Компания Арнольда»
А больше всего я сблизился и сдружился с одной компанией тремя курсами младше меня.
Знакомство с нею у меня состоялось так. Где-то в сентябре 1954-го я, четверокурсник, в субботу после занятий повёл в поход первокурсников (кажется, вместе с Серёжкой). Выйдя из электрички, мы зашагали перпендикулярно к железнодорожному полотну. Но, поглядев минут через 20 на компас, я с ужасом увидел, что в направлении, которое я считал северным, он показывает юг. Я лихорадочно стал соображать, в чём дело, и понял: я начал путь, спутав направление, в котором мы ехали. Рассказать об этом новичкам и повернуть назад значило бы уронить свой авторитет. Потому я решил менять направление постепенно, всё более и более загибая влево, пока не сделаю большой круг. Таким образом мы шли уже минут 20, когда ко мне подошёл один из ребят и с недоумением спросил, зачем мы повернули на 180 градусов. Тут уж деваться было некуда, и я под хохот новичков всё разъяснил. Подошедший был Дима Арнольд, а остальные – ребята и девочки из его компании.
Это была компания однокурсников, входивших в разные академические группы и дружившие как бы «поверх барьеров», эти группы разделявших. Ядро её составлял десяток и полтора бывших московских школьников, сдружившихся друг с другом ещё до поступления – в математическом кружке при мехмате, который вёл Саша Крылов. (Саша был курсом или двумя старше меня, позже мы с ним подружились, и эта дружба продолжалась до середины 80-х годов, когда он уехал в Германию). С первых же дней университета эта уже состоявшаяся компания как магнит привлекала к себе других, наиболее ярких и интересных студентов, московских и иногородних. А чуть позже включила в сферу своего влияния и ребят из других курсов, в том числе меня, и даже других факультетов.
Эта компания (назову её для краткости «компанией Арнольда») отличалась рядом замечательных свойств. Во-первых, вся она состояла из особо способных и талантливых математиков. Во-вторых, их связывали особо тесные дружеские отношения. И, наконец, поближе познакомившись с ними, я убедился в их, мягко говоря, неортодоксальном мировоззрении. Феликс Ветухновский, тоже один из них, называл это «античными», или «контранными» настроениями (от слов «анти» и «контра» – понятно, по отношению к чему). В 54-м году – и группа молодёжи, относящаяся к советской действительности с оттенком «античности», – это что-то значило.
Группа была полна ярких и интересных личностей. Конечно, самым ярким из них был Дима Арнольд. Пройдёт немного лет, Дима станет одним из лучших учеников Колмогорова, ещё студентом решит одну из гильбертовых проблем. Сегодня Владимир Игоревич Арнольд – один из наиболее выдающихся современных математиков. Но и тогда над ним витал ореол будущего математического гения. Кроме того, Дима был человеком, замечательным во всех отношениях. Можно сказать – совершенным. (Не сомневаюсь, что он таким и остался, но пишу в прошедшем времени «был», потому что могу его описывать только в том, давно прошедшем времени). Его суждения по любому вопросу были всегда самыми продуманными и вескими. Чем бы он ни занимался, он всё делал лучше всех. В походе он лучше всех разжигал костёр, ставил палатку, лучше всёх грёб на байдарке. В колхозе лучше всех работал на тракторе. «И всюду быть лучшим» – таков, кажется, девиз героя «Великолепной семёрки». И Дима завоевал на факультете славу человека, лучшего во всём. С лёгкой руки Саши Крылова, негативной характеристикой поступков у нас служила шутливая фраза: «Арнольд так бы не поступил».
Я остановился на Диме, но прошу мне поверить, что вся «компания Арнольда» состояла из замечательных ребят и девочек. Она меня притянула после первого же знакомства, и я, несмотря на разницу в «академическом» возрасте, стал равноправным её членом.
Как в моё время выглядели дружеские студенческие компании, я уже показывал на примере «семьи». Теперь я оказался одновременно ещё в одной такой компании. И здесь мы обсуждали самые разные интересные проблемы – науку, текущие события, книги. Платонически влюблялись. У хорошей дружеской компании такая интересная особенность: компания большая, вместе собирается редко, одновременно общаешься с одним, двумя, тремя, но воспринимаешь это как общение со всеми. Там мы проводили уйму времени, благо, у нескольких девочек были комнаты в общежитии, и каждый из нас приходил к ним или ко мне, как к себе домой.
И, конечно же, ходили в воскресные походы. Несколько ребят из группы, прежде всего сам Дима, довольно скоро стали активными организаторами походов своего курса, а на следующий год – и для новых первокурсников.
Ранение
Новый 1955-й год я встречал с «компанией Арнольда» на квартире Лёши Чернавского в центре Москвы. Мы не слишком задержались после полуночи, собираясь разъезжаться на метро. К метро шли небольшой компанией, человек восемь. После вечера в хорошей компании у всех было хорошее настроение. В голове шумело от выпитого вина. Немного не доходя до метро «Маяковская», я увидел, что мои впереди идущие товарищи остановились, и у них с кем-то идёт явно недружественный разговор. Подойдя поближе, я не особенно разобрался, в чём дело (по крайней мере, мне сейчас так кажется). Нас задирали несколько агрессивно настроенных пацанов. Я попытался их образумить, причём, насколько помню, делал это довольно миролюбиво. И вдруг почувствовал удар в спину, не очень больно, но после этого обнаружил, что лежу на тротуаре и не могу встать. Меня ударили ножом. И одновременно так же ранили девочку из нашей компании – Иру Кристи. (Впоследствии возникла легенда, что на Иру бросились с ножом хулиганы, я её мужественно защищал и в этой схватке был ранен. Подозреваю, что это легенда не вполне соответствует действительности).
Мои спутники действовали на удивление толково. Несколько из них во главе с Женей Усачёвым бросились за убегающими злодеями, догнали их, скрутили и отдали в руки милиции. Они оказались тремя воспитанниками ПТУ (производственно-технического училища), накануне изготовившими на своём производстве ножи и не вполне понимавшими, что с этими ножами делать. Через месяц с лишним состоялся суд. Родители малолетних преступников плакались и умоляли нас забрать свои показания. Я к тому времени малолеток уже жалел и готов был бы смягчить их участь, но от меня зависело мало – дело было ясно, как день. Тот, кто орудовал ножом, получил, если не ошибаюсь, 4 года: 3 полагалось за меня, 2 – за Иру, но оптом – скидка.
А кто-то сразу же позвонил в «скорую помощь», которая приехала на удивление быстро.
В больнице
Я всё время был в сознании, хотя и несколько затуманенном вином. Помнится, что лежал недолго, потом меня внесли в машину, а она отвезла меня совсем рядом – в больницу Склифосовского. Быстро же я попал и в операционную. Не помню, долго ли длилась операция, но больно не было. Хирург всё время ругался на сестёр: «Ничего не подготовили, больной может умереть прямо на столе!» (Приятное сообщение). После операции он заявил: «Ну, тебе повезло – нож прошёл в нескольких миллиметрах от сердца». А так я отделался сильно задетым лёгким.
По случаю Нового года больница всё наполнялась пациентами. Везли новых и новых. Мне не сразу нашли место. Несколько часов мои носилки простояли в коридоре. (Все последующие дни коридор был тоже забит). А потом их вкатили в палату: «Вот на эту постель – на место покойника». Я пытался сойти с носилок, но меня остановили: «Ты лежи и не двигайся». Два санитара осторожно взяли за плечи и таз и уложили. «И не переворачивайся, лежи ровно».
Мне и до, и после много приходилось слышать, как ругают советские больницы: и то там не так, и сё. А у меня от месячного пребывания в больнице Склифосовского остались самые тёплые воспоминания. Частично – в связи с культивируемым мною неприхотливым отношением к материальным условиям: кормят, лечат – ну, и спасибо.
В палате было десять человек, взрослые добродушные мужики. Народ в целом славный, претензий к ним у меня не было. Не ссорились, рассказывали анекдоты, зачастую довольно солёные. Ко мне, как к самому младшему, относились с симпатией.
Заметные неудобства в связи с ранением я всё же испытывал – особенно первую неделю. Во-первых, я мог только лежать на спине – мне было запрещено двигаться. Довольно неудобно при этом пить, есть и читать, но я как-то приспособился. Ещё труднее было спать на спине – я-то привык спать на боку; но приспособился и к этому. Время от времени в меня вливали кровь или физиологический раствор (так это, кажется, называется). А главной неприятностью была процедура, называемая пункция, – выкачивание из лёгких накопившейся там жидкости; иногда её набиралось до пол-литра. Очень неприятно.
А главным, что меня поддерживало в отличном моральном состоянии, были внимание и забота друзей. Тогда я даже не удивлялся этому, казалось, что так и должно быть. А сегодня, прожив всю жизнь, вспоминаю с удивлением и благодарностью. По счастью, у меня сохранились записки от ребят и девочек, приходивших в больницу, но ко мне не пропущенных, – одно из немногих сохранившихся жизненных свидетельств. Недавно я разбирал их, и передо мной снова возникли лица друзей.
А друзья у моей постели и под моими окнами не переводились. По установившейся традиции, к больному в день пускали одного-двух человек. Ко мне иногда, в особо удачные дни, удавалось пробиваться и пяти. Приходили каждый день человек десять; спорили, кому проходить в палату, а кому показаться в окне; передавали кучу еды, которой я делился с соседями, но всё равно оставалось; слали записки. Первые записки появлялись с утра, и мой сосед по койке, интеллигентный человек с чувством юмора, говорил:
Бывало, он ещё в постели,
Ему записочки несут.
Те, кому не удавалось пройти, приникали к окну, стараясь меня разглядеть, и я издали им помахивал. Потом, когда я уже стал ходить, сам подходил к окну, и мы кое-как объяснялись жестами.
Кто у меня только не перебывал! Были все, прямо или косвенно упоминавшиеся ранее: тётя Женя с Сашей, Серёжка Яценко, «семья», «компания Арнольда», включая его самого, девочки-биологини, мало знакомые первокурсники из воскресных походов. Все меня развлекали и подбадривали. Рассказывали и писали о жизни, о сдаче экзаменов, о подготовке к походам. Я видел, что все меня любят. Как было после этого не идти на поправку!
Писала и Ира Кристи. Она тоже лежала в Склифосовке, но её ранение было легче моего, так что она вышла раньше.
Явился Глеб Сакович накануне отъезда – его пребывание в Москве кончалось. Глеб был совсем хорош – перед Новым годом он где-то упал, разбил себе очки и бровь, теперь бровь в порядке лечения выбрили. (Глеб вспомнил, что где-то на Востоке брови выбривали преступникам, а когда они отрастали, преступники считались реабилитированными, – свидетельство продолжительности процесса). Глеб вытащил из кармана три яблока и сказал, что они грязные, нужно помыть. А ещё из разных карманов вытащил кучу мелких бумажных денег разного достоинства: «Мне не нужны, я уезжаю (странная логика! – М. Б.), а тебе пригодятся».
Приближался туристский сезон. Было обидно, что мне его придётся пропустить, – я собирался в Карелию. Как раз этот сезон наш факультет проводил с размахом – плоды работы моей и моих друзей. Несколько групп было на первом курсе, в том числе две – из «компании Арнольда». Одна из групп ухитрилась написать мне весёлое письмо уже из самого похода.
С первого дня после ранения меня беспокоила мысль: как эту новость перенесут родители, особенно мама? Я настрого запретил тёте Жене сообщать об этом маме. Но время шло, и, в конце концов, она не выдержала. Кажется, мама, обеспокоенная моим долгим молчанием, сама ей позвонила, и ей пришлось рассказать. Я об этом не знал. И вдруг однажды слышу: кто-то стучит в окно. Оборачиваюсь: мама. И тут я испугался. Испугался задним числом за маму – как она перенесла это известие. И что греха таить – эгоистически испугался за себя: до сих пор было, в общем, весело и беззаботно, а с появлением мамы моя жизнь станет заметно тревожнее. Она, действительно, была в большой тревоге: моё здоровье под угрозой, и условия плохие, и врачи плохие, и лечат меня не так. Я, как мог, её успокаивал.
Сейчас, когда у меня свои дети и внучки, я задним числом способен ей больше посочувствовать. И не только в связи с ранением – уж слишком много приходилось ей волноваться обо мне. Волновалась, когда я бывал в альплагере и походах. И так, как ей трудно было разобраться, насколько опасен поход, волновалась всегда. Особенно волновалась, когда до неё доходили сведения о моих конфликтах с властями. И всё остальное время – мало ли чего от меня можно было ожидать. Конечно, волновался и папа, но всё-таки не так, более нормально, что ли. Так или иначе, волнуются о детях почти все родители, но моя мама в этом отношении была особенной.
А на этот случай она отреагировала ещё одним, своеобразным способом. По её расчётам, меня ранили в пятницу. (На самом деле, пятница приходилась на 31 декабря, так что днём ранения следовало бы считать субботу). Одновременно это был и день моего счастливого спасения – ведь я остался жив. Так вот, мама с этого дня по пятницам постилась. При том, что её никак нельзя было назвать религиозной – она никогда не бывала в церкви, никогда не молилась. Но она знала, что есть какая-то Высшая Сила и что эта Высшая Сила в пятницу спасла её сына.
Выпустили меня из больницы где-то в конце января. Мама уехала.
Отпуск и санаторий
Как я уже писал, передо мной встала дилемма: пытаться сдать экзамены и догнать свой курс или остаться на второй год. Страх перед предстоящими экзаменами, прежде всего УрЧеПэ (уравнения в частных производных, но какое ужасное звучание, почти как последующее ГКЧП), подтолкнул меня к выбору второго варианта. Я взял академический отпуск.
Сразу же после возвращения из больницы профком дал мне путёвку в санаторий на полмесяца, чтобы я мог поправить здоровье после лечения. Это был санаторий Поливаново, рядом с той самой больницей, где я несколько лет назад посещал Диму Зубарева. Несколько раз ко мне приезжали и туда, но всё-таки это не Москва, часто не поездишь. Такое приятное зимнее безделье, которым я, впрочем, несколько тяготился. Помню, там был рояль и была еврейская девушка музыкантша, которая и меня пыталась было познакомить с этим высоким искусством, но я, дурак, был стоек в его принципиальном неприятии. А удовольствие получал от недалёких прогулок на лыжах, которые по моей просьбе мне привезли незадолго до отъезда.
В последний день моего пребывания был особенно твёрдый наст. Когда на такой въезжаешь с горки при хорошем разгоне, хорошо шлёпаешься в него физиономией, от чего на последней остаются заметные порезы. С такой физиономией я и вернулся в университетское общежитие, приводя там в ужас своих коллег: «Здорово же тебя порезали, если ты так выглядишь после полутора месяцев».
Глава 8. Походы
Список походов
Воскресные походы, о которых я рассказывал, – это, так или иначе, только подготовка к настоящим, большим походам и для нас, организаторов, и для новичков. Теперь расскажу об этих больших походах.
В университетские годы я ходил в походы или ездил в альплагеря каждые каникулы за исключением трёх зим, когда для этого возникли серьёзные помехи (на 2-м курсе – комсомольское бюро, на 4-м – ранение).
Для удобства ориентирования начну с того, что приведу список своих походов университетского периода.
1952 - Лето - Альплагерь «Адыр-Су»
1953 - Лето - Военно-Сухумская дорога
1954 - Зима - Валдай - Лыжи
1954 - Лето - р. Юрюзань – Уфа (Урал) - Лодки
1955 - Лето - Альплагерь
1956 - Зима - Малошуйка – Нюхча (Архангельская обл). - Лыжи
1956 - Лето - р. Емца – Тёгра (Архангельская обл). - Байдарки
1956 - Лето - Памиро-Алай
Первый из этих походов, кавказский, был ещё в мой первый университетский период – до жизни на Ленгорах. Потому я и рассказал о нём раньше.
А начиная с зимнего валдайского я проводил походы уже в совсем другой роли – как организатор факультетского туризма, и группы для них формировались в воскресных походах и «звёздочках».
Зимний Валдай
Из лыжного похода по Валдаю почти ничего не запомнилось. Например, о маршруте помню только исходную точку – станция Осташков. А из участников – только Серёжку Яценко да свою однокурсницу Таню Владимирову (уже однажды упоминавшуюся).
Маршрут был подобран достаточно случайно – такое нередко бывает с первыми походами, когда по недостатку опытности не знаешь ни куда, ни зачем идёшь – разве что для приобретения опыта. Наверное, потому о самом маршруте ничего и не запомнилось.
Были нормальные для этих мест морозы – где-то около минус 10, иногда чуть холоднее. Хорошая русская зима. Когда удавалось отвлечься от морозов, радовались прекрасным зимним пейзажам: нетронутые леса, поля, чистый снег. Цивилизация где-то далеко, далеко. Шли мы по дорогам от деревни к деревне, которые попадались каждые 5-10 километров. (Места, как видите, там были хорошо заселёнными). Ночевали в избах. В избах же останавливались и пообедать среди дня. Так что заблудиться или слишком замёрзнуть нам не угрожало. Тем не менее, при движении мороз пробирал, и чем ближе к вечеру, тем больше мечтали попасть наконец в тёплую избу.
Для меня это был первый опыт «хождения в народ», и, естественно, главной целью, которую я для себя ставил, было знакомство и общение с этим таинственным народом. Как ни странно, он и условия его жизни оказались в сильной степени соответствующими моим представлениям, сложившимся на основе литературы прошлого века и абстрактных размышлений о сущности советского строя. По существу, те же мужики и бабы, что у Некрасова и Тургенева; только совсем мало мужиков, мало молодёжи, в основном бабы, девки да старики. Так же гостеприимно принимают странников – стучись в любую избу; иногда только за малостью изб приходилось расселяться в нескольких. Денег за постой брать не хотели. Та же бедность. Почти в любой избе единственной пищей хозяев была какая-то тюря из картошки и овощей. Достать молоко было проблемой – корова бывала в редком дворе, не чаще, чем одна на десяток дворов. Если же в хозяйстве бывала корова или тёлка, то жила она тут же, в избе, в специальном приделе. Наша туристская пища – каша с тушёнкой – выглядела здесь барской роскошью. Несколько ужимая свой паёк, мы каждый раз норовили угостить хозяев, те отказывались, но, как правило, после долгих уговоров подсаживались к нашему столу и дивились невиданной пище. Пытаясь разговориться с хозяевами, мы слышали нехитрые рассказы о крепостничестве XX века: колхозы нищие, в них гонят работать, а денег не платят; молодёжь старается убежать, да не дают паспортов. Запомнилась мне такая цифра: в одном из колхозов за трудодень платили 27 копеек. (Напомню: после «денежной реформы» 1961 года это означало 2,7 коп. – чуть меньше, чем цена трёх коробок спичек).
Вот эти встречи с мужиками и бабами остались сильным и почти единственным впечатлением от похода. Нам ещё полагалось агитировать их за советскую власть. Не помню, как мы с этим справлялись.
Юрюзань
Лодочный поход по Юрюзани летом того же года по живописности мест был уже более интересным. Мы, к тому времени умудрённые опытом, серьёзнее подошли к выбору маршрута – благо, это позволял сделать хорошо укомплектованный архив Московского туристского клуба.
Юрюзань – приток Уфы, на которую мы в концов вышли и ещё немного проплыли. Плыли на лодках-плоскодонках, купленных в исходной точке маршрута – на станции Усть-Катав. (Этот лодочный поход остался единственным в моей, да и моих товарищей практике. Уже и тогда это выглядело ретроградством – после изобретения байдарок туристы лодками не пользуются).
Поход надолго остался в памяти, запомнившись красотой уральской природы. Пусть читатель поверит мне на слово – рассказать не сумею. Ну, почти нетронутая природа, быстрая чистая река, зелень, красивые каменистые обрывы. Увидев совсем новые для себя красивые края, приходишь в особое состояние духа – просто чувствуешь, как твой мир становится шире. И каждый из этих новых краёв надолго остаётся твоим праздником. Ради этого и ходишь в походы.
Мне, конечно, и здесь хотелось побольше общаться с местными людьми – татарами, башкирами, русскими, но этим поход не был богат по самому характеру движения. Общение с местными сводилось в основном к попыткам купить молоко или мёд.
Вот только однажды разговорились с цыганкой, попросившей нас с Женей Максимовым перевезти её на другой берег. Узнав, что мы студенты, она стала расспрашивать, как можно стать студентом. Её младший сын хочет учиться, он такой способный. Урывками ему удалось учиться и окончить 3-ий класс. И вот сейчас её табор ушёл, а она осталась в деревне с сыновьями, чтобы этот мог окончить школу. Эта трогательная история как-то запомнилась на всю жизнь.
А в патриархальной честности местного населения нас убедил случай, когда на одной из стоянок мы забыли мешок с продуктами и спохватились только вечером. Женя, которому по жребию выпало его разыскивать, обнаружил мешок у председателя колхоза, которому его с места нашей стоянки притащили мальчишки. Мешок даже не развязали, как будто ждали нашего возвращения.
Моя туристская группа
1956 год был для меня исключительно насыщенным в плане туризма. Единственный раз в жизни я за год побывал в трёх походах, причём два из них действительно стали событиями, о которых стоит рассказать более подробно.
В начале моего повторного 4-го курса (1955/56 учебный год) начала складываться прочная туристская компания, с которой мне довелось ходить долго и серьёзно. В течение всех последующих походов ядро нашей компании составляли пять человек: Дима Поспелов, Алёша Данилов, мы с Серёжей Яценко да Мила Смирнова (впоследствии Поспелова). (Впрочем, мы привыкли обращаться друг к другу менее уважительно: Димка, Серёжка, Мишка – прошу прощения у ныне почтенных людей за использование и сегодня этих наименований. Вот только Данилова называли просто Лёшей. Ко мне же прилепилась ещё и туристская кличка «Мигуэль», которая почему-то мне ужасно нравилась и постоянно использовалась для самоидентификации).
До этого года мы мало знали друг друга, только мы с Серёжкой вместе организовывали факультетский туризм и вместе же ходили на Валдай и на Юрюзань. Димка учился на моём первоначальном курсе (набор 1951 года). А Лёша был астроном курсом младше, к тому времени у него за спиной было несколько походов, куда он ходил вместе с ребятами из своей академической группы.
В общем, так или иначе, мы все уже были не новички (не помню только, куда ходил Димка) и нашли друг друга, чтобы вместе ходить в серьёзные походы. И, как полагается серьёзным людям, готовиться к этому начали рано. Нашей главной целью был летний поход по планам, разрабатываемым Димкой, и обсуждать их мы начали едва ли не с сентября (о них позже). Мы заранее готовились к летнему походу как к очень интересному, сложному и в определённом смысле опасному. Зимний же задумали как промежуточный – для того, чтобы потренироваться, вместе сходиться, набраться туристского опыта. Не думали мы, что почти для всех нас, включая меня, он окажется самым трудным и опасным в жизни.
«Курс – Норд!»
Итак, о лыжном походе.
Всего нас было 7 человек – пятеро ребят и две девушки. Четверых ребят я перечислил выше, пятый – Игорь Госачинский из Лёшиной группы. Две девушки появились за несколько дней до начала похода, мы их не знали, их подбросили с других факультетов. Одна из них – упомянутая Мила Смирнова с экономического факультета; ей предстояло прочно войти в нашу компанию, каковое вхождение потом закрепилось браком с Димкой. Катя же, напротив, с нами больше дела не имела, и я сейчас не помню ни её фамилии, ни факультета. Начальником похода был Димка, а я был завхозом, т. е. должен был следить за расходом продуктов, а заодно – за равномерностью их распределения по рюкзакам.
Мы выбрали маршрут по Архангельской области – от станции Малошуйка до станции Нюхча. Он должен был пройти по трём сторонам прямоугольника, четвёртой стороной которого была железнодорожная линия между этими двумя станциями, тянущаяся с востока на запад. Сначала мы должны были идти точно на юг по санной дороге до деревни Нюхчозеро, пересекая при этом небольшой хребет, называемый Ветреный пояс. Вторая часть маршрута – в западном направлении, есть ли там зимник или лыжня, мы не знали. И наконец, третья часть – по реке Нюхча на север. Мы надеялись, что на этом участке будут встречаться деревни и охотничьи избушки, и между ними будут дороги; действительность не оправдала наших надежд.
Для начала несколько формальных характеристик похода. Продолжался он 12 дней. Было 11 ночёвок, из которых 2 – в деревне, 2 – в охотничьей избе, 7 (из них 6 подряд) – так называемых «холодных», то есть, в палатках. При этом 4 дня пути и 5 холодных ночёвок были при морозе около 40 градусов.
Первая часть пути – пять дней до деревни Нюхчозеро – шла точно по плану. Мороз был не слишком сильный – так где-то от 10 до 15, в крайнем случае до 20 градусов. В общем, он нам не слишком докучал. Была только одна холодная ночёвка. Всё время, как и ожидали, мы шли по санной дороге. Нашей главной трудностью на этом этапе были рюкзаки. В первый день у каждого из ребят было 26 кг общественного груза, у девочек – чуть поменьше. Стоя на скользких лыжах, поднять и одеть такой рюкзак не представлялось возможным – рюкзаки мы одевали друг на друга. При движении все усилия были сосредоточены на одном: только бы не упасть! Когда падаешь, беспомощно копошишься в снегу, придавленный рюкзаком, до тех пор, пока не сбросишь его. Так что в этих условиях не особенно полюбуешься природой. По настоящему мы смогли любоваться ею один день – когда попались попутные сани, на которых мы подбросили свои рюкзаки до деревни.
За весь маршрут нам повстречались только две деревни. Но что это были за деревни! – перед ними Валдай померк. Не то, чтобы здесь жили хуже, – бедность была примерно такой же. Только здесь она была как бы более естественной – вызванной не колхозным строем, а природными условиями – холодный климат, плохая земля. Наверное, не богаче здесь жили и при царе. А сейчас было похоже, что советская власть на них махнула рукой. Как сказал один из мужиков: «Государство у нас ничего не берёт, возить отсюда дороже стоит».
Оторванность от мира здесь была исключительной. Бульшую часть года они отрезаны от этого мира непроходимыми болотами – какая-то связь функционировала только зимой. Редко кто из жителей выезжал за пределы своей и, может быть, нескольких ближайших деревень. Они не видели двухэтажных домов. Нас спрашивали: «А правду говорят, что в городе избы ставят одна на другую?» Не видели железной дороги, некоторые не видели машин. Я уж не говорю о кино. В 1945 году об окончании войны узнали где-то в конце мая – мальчишка пробрался через болота и рассказал. Самим им тоже надоела такая жизнь на окраине мира, они просили у властей, чтобы те переселили их поближе к железной дороге, и такие решения вроде бы уже были приняты, только никак не доходило до того, чтобы построить там избы.
Для деревни Нюхчозеро наше появление было событием. Для встречи все собрались в конторе колхоза, ожидая, что мы что-то расскажем. У нас, конечно, были планы агитработы, и в соответствии с ними Лёша пытался что-то рассказать на тему, есть ли жизнь на Марсе, я – о международном положении. Когда же предложили задавать вопросы, нам отвечали: «Да нет, куда нам, мы люди тёмные». Но зато потом появилась гармошка, пели частушки, начались танцы, девушки отплясывали перед нами в знак приглашения, и мы тоже включились в это веселье. В таком приподнятом настроении устроились спать в избе, чтобы завтра начать путь по ненаселёнке.
В Нюхчозере нас и ждало первое огорчение: мы узнали от мужиков, что дальше деревень нет, а старые дороги найти будет трудно. Но трудно не значит невозможно, и мы на них продолжали надеяться.
Старый зимник, идущий от Нюхчозера, мы потеряли сразу же. Так что до ближайшей избушки, которая была километрах в 15, решили идти по азимуту. Хорошо было во время движения по озёрам, но как только входили в лес, лыжи проваливались по колено. Морозы были ещё небольшие, и мы не слишком мёрзли. В надежде на эту избушку шли два дня. Вечером второго из них мы осознали всю безнадёжность нашего положения. Избушки не нашли, никаких следов дороги тоже. Искать дорогу значило попусту терять время. Нам оставалось или вернуться назад, или идти по азимуту на север через леса к железной дороге, до которой, по нашим расчётам, было около 50 километров. При возможной для нас скорости движения это должно было занять 6-7 дней. После бурной дискуссии мы выбрали второй вариант, который мы назвали «Курс – Норд!».
Вот здесь-то и началась главная часть похода.
Во-первых, изменился характер местности. На первом, северном, участке мы шли по зимнику, на втором, западном, по сравнительно редкому лесу или вообще по озёрам. Теперь начинался бурелом, и в основном он тянулся до конца похода.
Но главное было в другом – ударил серьёзный мороз. В тот самый вечер, когда мы не нашли избушки и спорили о дальнейших планах, мы почувствовали, что холодает. Небо стало абсолютно чистым и каким-то стеклянным, звёзды – исключительно яркими. Кто-то хотел посмотреть на градусник и чертыхнулся: «Да он совсем испортился, ртути не видно». (Оно и не удивительно). Так мы до конца пути и не знали температуры, узнали и ахнули, только выйдя к людям.
Из 7 наших холодных ночёвок эта стала первой холодной по-настоящему. После неё шли 5 дней. Удивительно, и мы сами этого не ожидали, что только 5 дней, – столько же, сколько на первом участке, с севера на юг, где была хорошая дорога. Видать, слишком рвались прийти к людям и теплу. Да и рюкзаки становились всё легче.
А идти было тяжело. Вообще тяжело идти по глубокому снегу, когда проваливаешься по колено. Собственно проваливается первый, второму чуть легче, а третий уже идёт по лыжне. У нас два человека – Серёжка и Игорь – шли на широких лыжах, все остальные – на обычных, узких (что свидетельствовало о слабой подготовленности к походу). Так что если один из них шёл впереди, то идущий следом за ним на узких лыжах всё равно проваливался. Мы применяли разную тактику движения. Первые несколько дней через 15 минут меняли ведущего. А потом стали поручать одному из ребят тропить, т. е. прокладывать лыжню. Он шёл без рюкзака и утром выходил раньше, сразу же после завтрака, а остальные ещё около часа собирали палатки и рюкзаки. Кажется, мне случалось тропить чаще других, и это нравилось. Без рюкзака идти легче, особенно если выходишь на озеро. Там даже можешь оглядеться и увидеть красоту вокруг. Помню так было, когда мы спустились с Ветреных гор, и я их увидел, оглянувшись назад. Снег ярко сверкает на солнце, совершенно ясное голубое небо, зелёные ёлочки, виден хребет – ступенька за ступенькой. Но идти по озеру при ветре бывает тревожно – заметает лыжню, и думаешь: а вдруг не найдут? Всё время держишь перед собой компас, чтобы было точно на север. Догоняют тропящего через несколько часов, незадолго до перекуса. Сам перекус продолжается минут 10-15, здесь не до отдыха, мы стоим на лыжах и быстро прожёвываем сало, сахар и сухари. Я не сказал, сколько трудностей доставляет бурелом, – поверьте, достаточно. Перед тобой возникает поваленное дерево, приходится то ли обходить, то ли влезать на него, и так, бывает, через каждые метров 50 – по несколько часов.
Чистого движения в день у нас получалось часов 6-7. Останавливались на ночлег рано, до 5 часов, потому что около 5 быстро темнеет. Но ночёвке всем хватает работы, да и мороз не даст лениться. Первым делом фанерными лопатками выкапываем большую яму в снегу, который зачастую доходит по грудь. В этой яме должно быть место для двух палаток, костра, брёвен, на которых мы сидим у костра. Дежурные принимаются за важнейшее дело – разводят костёр, у которого мы хоть как-то отогреемся. А остальные пилят деревья, колют дрова, рубят лапник – еловые ветки, которые подстилаются под палатки. Наконец, начинается главная радость дня – греемся у костра. Каждый почти суёт в него ту или иную часть тела, чаще всего – «пятую точку». На этом месте оттаивает налипший за день снег, потом человек поворачивается к огню другим боком, а этот немедленно замерзает. В таких панцирях и залезаем, наконец, в мешки. О том, чтобы снять их, нет и речи – вообще на каждом из нас всегда, и ночью, и днём, одето всё, что есть; было бы больше – одели бы больше. Огромный труд – снять обледеневшие ботинки. (Но куда труднее будет утром их снова надеть. Для нагревания их придётся мять тёплой рукой 5-10 минут). Отходим от костра и залезаем в мешки с ужасом перед тем, что нас ждёт ночью.
Потому что ждало нас замерзание. Ничего подобного этим ощущениям мне не приходилось встречать ни до, ни после, и передать его не получится. Больше всего чувствуешь боль в суставах на пальцах ног, чувствуешь всю ночь сквозь сон. Да и в остальном теле холод. Эта боль не оставляет тебя и днём, но по ходу движения всё же немного слабеет. Вот это постоянное замерзание и было основным содержанием похода, по крайней мере, его последних 5 дней, «курса норд». Каждый из нас при этом думал: а что же в конце концов будет с моими ногами? не отморожу ли? Потом оказалось, что Игорь таки отморозил. Один палец ему по возвращении отрезали.
(В скобках можно сказать, что виной всему была наша неопытность. Ну, нельзя было в такой поход идти без печки, с такими спальными мешками и с такими палатками. Трижды после этого, умудрённый опытом, я ходил в зимние походы снаряжённый более правильно. Как назло, оба раза была тёплая погода, не ниже минус 10. Но думается, если бы ударило и минус 40, то в большой палатке с костром можно было бы ночевать спокойно.
Однако, здесь же добавлю и похвалу другим моментам нашего снаряжения, без которых наши шансы на выживание были бы хуже. Это полужёсткие крепления, у большинства из нас выдержавшие поход, хотя в паре случаев их всё же пришлось подвязывать Бог знает чем. Это бахилы, благодаря которым ботинки не мокли. И, наконец, хорошая пила).
Ещё одной проблемой становились продукты. Взяли мы их впритык, из расчёта на 12 дней, а сейчас следовало рассчитывать хотя бы на 14. И я, как завхоз, железной рукой урезал норму, так что шли мы впроголодь.
Утром 12-го дня пути жалкую норму крупы в каше мы разбавили крошками от сухарей. Из-за общего голода тронулись в путь хмурые. Однако вскоре нам предстояло развеселиться.
В этот день я снова тропил. Какова же была моя радость, когда вдруг среди этого бурелома начали показываться следы пребывания человека – ряды срубленных брёвен, какие-то деревянные конуры, покрытые снегом! И вдруг – что это? Перпендикулярно нашему курсу проходит дорога, хорошая санная дорога! Тут уж я должен был дождаться товарищей, чтобы вместе решить, как идти дальше. Первым я увидел Серёжку – он шёл довольно быстро, на лице огромная улыбка:
– Послушай, сегодня настоящая весна! Замечаешь, как потеплело?
Тут я тоже замечаю: действительно, тепло! И солнце греет вовсю. А Серёжка идёт в одной ковбойке.
По этой дороге мы легко проходим не больше двух километров и натыкаемся на узкоколейку. На радостях тут же съедаем свой НЗ – по пачке шоколада и по банке сгущёнки на брата (или сестру).
До ближайшей станции было около 4 километров. Каким счастьем было попасть в тёплую избу! Тут мы и узнали, что позавчера было минус 42, а сегодня потеплело, всего минус 20. То-то Серёжка бежал в ковбойке!
Дальше уже был Ленинград, остановились у родных Серёжки. Я был в Ленинграде впервые. В своём затрапезном наряде мы ходили по музеям и разевали рты: Эрмитаж, Русский музей, а ещё очень понравившийся мне Этнографический. Температура была всего около нуля, но очень сыро и промозгло. Переносилось почти как те 40, и в результате здесь мы почти все простудились, в Москву вернулись больными.
Как я сказал, пятеро из нас сильно сдружились после этого похода. Грустно, что поход так плохо окончился для Игоря – в походы он больше не ходил. А ведь возможно, не отморозь он этот несчастный палец, и он бы с нами сдружился. Нашим гимном стала песня «Курс – Норд», сложенная коллективно, в основном Серёжкой, который любил подобные обыгрывания, и мною на мотив популярного в нашем круге Гимна журналистов:
Нам на Нюхчу идти
Приказ был отдан,
Десять дней провести
В лесу холодном,
Где нет ни крова, ни дорог,
Ни передышки.
Лучше пулю в висок –
И делу крышка!
Емца–Тёгра
А летом этого года я пошёл сразу в два похода. Получилось так случайно, в первый из них я идти не собирался. Он был продолжением нашей организаторской деятельности – Серёжка должен был вести в поход группу первокурсников. Но комсомол бросил призыв ехать на целину, Серёжка, добровольно или нет, на него откликнулся, вести первокурсников было некому, пришлось мне.
Это был мой первый байдарочный поход. (Точнее, первый большой, потому что на несколько дней случалось выходить и раньше). Казённые байдарки «Луч», очень надёжные, но старые, сильно потрёпанные. Наибольшие из моих разгильдяев не умели или ленились их заклеивать и плыли, сидя в воде. Реальный случай – я ахнул, увидев плавающий в байдарке фотоаппарат. Не обошлось и без переворотов.
А плыли мы в той же Архангельской области, вниз по реке Емца, а потом вверх по её притоку Тёгре. Места были мало заселены, удивительно красивы и радовали глаз. Снова новые пейзажи, новые впечатления. Ах, эти северные леса! В общем, по красоте мест это был один из моих лучших байдарочных походов – позже в основном мне доводилось плавать по средней полосе, а она нравилась куда меньше. Вот если бы только не комары!
Фанские горы
Шестым по счёту и одним из самых замечательных походов в моей жизни (наряду с Нюхчей) стал поход в Фанские горы. Эти горы – часть горного массива, именуемого Памиро-Алай. Весь наш маршрут проходил по Таджикистану.
Как я сказал, готовиться к походу мы начали с начала учебного года, с осени, и даже поход на Нюхчу был задуман только как тренировка перед ним. Этот поход, как и последующая серия походов по этим местам, был для меня уникален, в частности, в плане подготовки. Как чаще всего, в 99 случаях из 100, туристы готовятся к походу? Небрежно перелистают описания, раздобудут или перерисуют карты – и вперёд; дальше разберёмся на местности. Мы готовились по-другому.
Организатором и вдохновителем похода был Дима Поспелов, и только ему мы обязаны тем, что поход прошёл так, как прошёл, и дал нам то, что дал. Димка просто горел идеей похода в эти места. Он перечёл всю, какую можно было достать, литературу об этих местах, начиная с «Горной Бухары» первопроходца этих мест В. И. Липского, вышедшей в 1902 году. И замечательную книгу «Путешествия по Таджикистану» уже современного нам географа Павла Лукницкого. (Кстати, друга Гумилёва и Ахматовой, впоследствии автора лучшей биографии Гумилёва. А его «Путешествия» с увлечением читали мы все). И, разумеется, все туристские отчёты.
Через десяток с небольшим лет эти места стали довольно популярны среди туристов. Готовясь к написанию этой главы, я зашёл в Интернет и открыл карту Фанских гор, полукилометровку, на которой можно прекрасно разглядеть наш маршрут, вплоть до троп через большинство перевалов. Этих карт и имеющихся описаний (среди которых составленное после нашего похода Димкой одно из лучших) на сегодня достаточно, чтобы хорошо ориентироваться на местности и спокойно вести группу
В наше время ничего подобного не было. Нам предстояло идти по мало исследованным местам, мы были, как мы говорили, «первопроходимцами». Вместо карты – нанесенные от руки крокИ, приблизительно отображающие основные реки, горы и перевалы. О некоторых перевалах известно – таджики через них ходят, можно ли пройти через другие – неясно. Как находить перевалы, тоже зачастую неясно. (Конечно, эти места были достаточно известны географам и геологам, но, в соответствии с советским порядками, такие сведения были нам недоступны).
И, конечно же, нас увлекла сама идея познакомиться со Средней Азией. Восток! Древние сказочные страны! Мы с энтузиазмом бросились изучать литературу и историю. Проводили специальные занятия, на которых рассказывали об этом друг другу. Читали Хайяма, Саади, Рудаки. (Конечно, именно Димка был главным знатоком по литературе, культуре, истории региона). С более близкими временами знакомились по замечательным воспоминаниям Садриддина Айни. Можно сказать, что мы начали бредить Средней Азией.
Правда, маршрутная комиссия (такая организация, утверждающая маршруты) несколько подрезала нам крылья. Нам не разрешили исследовать неизвестные перевалы Мура и Ханака, поскольку сочли группу недостаточно опытной (и вполне справедливо). Пришлось идти более простым путём, что, впрочем, не повлияло на наш интерес к походу.
Группа была небольшой – 6 человек: четверо ребят и две девочки. Участников нюхчинского похода было трое: Димка, Лёша и я. (Позвольте не представлять остальных). К сожалению, Серёжка из-за своей целины не пошёл и сюда.
Поход оправдал наши самые горячие надежды. Обалдели мы уже в Самарканде, сразу почувствовав себя в совершенно другом измерении, другой цивилизации, другом времени, почти в сказках из тысяча и одной ночи. Невиданная архитектура. Седобородые старцы в халатах на ишаках. Нередки женщины в парандже. (Как мне обидно за сегодняшнюю молодёжь моего отечества, для которой это уже недоступно, по крайней мере, совсем не так доступно, как было в моём поколении!)
От Самарканда на автобусах и попутках добрались до исходного пункта – кишлака Рудаки (само название чего стоит!). Прошли от него пару часов и заночевали. Пришла ночь, и я был поражён красотой звёздного неба – такого неба я не видал никогда раньше. Необычайно много звёзд, очень больших и ярких, кажется, до них можно достать рукой.
Что рассказать о походе? Мы поневоле сравнивали эти места с более знакомым Кавказом, и всё в них поражало. Всё было более крупным, масштабным и более нетронутым. Огромные пространства. Большая высота – перевалы на высоте 3,5 тысяч метров – на Кавказе такая высота нередко бывает у вершин. Исполинские вершины. Удивительной красоты озёра с прозрачной голубой водой, чаще всего ледяной. Красивейшее из них – Искандер-куль, с зелёными полянами, со всех сторон окружённое горами. И впечатление общей суровости природы – горы почти голые, мало зелени, и, тем не менее, всё так красиво и величественно, и по-своему доброжелательно к человеку.
Ещё одно отличие от Кавказа было в «человеческом факторе». Кавказ в самой горной части в моё время воспринимался как вотчина туристов и альпинистов – тем более, что местное население было зачастую выселено. А в Фанских горах европейца практически невозможно было встретить – за исключением геологов, несколько партий которых нам повстречались. В основном же мы встречали таджиков, и эти встречи впечатляли. Из-за отсутствия контактов с европейцами эти люди были что ли более «натуральны» по сравнению с жителями Кавказа. В большинстве своём русский знали очень плохо, так что общаться с ними, что-нибудь выяснить было трудно. Тем более, что по местным правилам вежливости полагалось соглашаться с гостем, и, о чём их не спросишь, они кивали головой и говорили: «Да, да». В таджиках уже при первом знакомстве поражала красота и достоинство, по крайней мере, в мужчинах. – с женщинами нам почти не доводилось контактировать. Казалось бы, простой крестьянин или пастух, бедняк, и при этом точённые черты лица – видна арийская раса, умение держать себя – спокойно и уверенно, но более скромно, чем кавказцы. Доброжелательность по отношению к гостю-европейцу, отмечавшаяся ещё Липским. В любой летовке тебя угощают кислым молоком и зелёным чаем. Охотно вступают в беседу, и не наша и не их вина, что в ходе этой беседы не много узнаешь. Запомнилось, как уже в конце пути в кишлаке Падруд нас пригласил местный житель. Комната была очень бедной, голые стены. Но на наших сиденьях прекрасный ковёр. Столь же скромное угощение, впрочем, традиционное в чайханах – зелёный чай с лепёшками и виноградом. Наш хозяин немного лучше говорил по-русски, и от него мы услышали о проблеме, актуальной для местных жителей. Советской власти были не нужны горные кишлаки, от которых она не могла ничего взять, и она, вопреки желаниям людей, переселяла их в долины, чтобы они там выращивали хлопок. Можно представить себе, какой это было трагедией для потомственных горцев, веками обрабатывавших здесь каждый клочок пригодной земли и пасших скот.
Сейчас мне тяжело читать об идущих в этих местах войнах и убийствах. Даже не верится – неужели такое у мирных, спокойных таджиков? (А разве не тяжело читать о том же на Кавказе?) Впрочем, однажды нам довелось встретить и других таджиков, от которых такое можно было ожидать. Мы спустились с перевала Тавасанг в кишлак Майгузор. На его улице было много людей, они все провожали нас взглядом. И в этих взглядах было такое отчуждение, что мы поневоле съёживались, хотелось поскорее пройти мимо. По нашему обыкновению, когда прошли кишлак, кто-то спел на мотив популярного «Мадагаскара»:
Тавасанг уснул, на кочёвках спят таджики,
Спускаются в долину облака.
Осторожней, друг, ты теперь не на Джиджике,
Здесь в пять минут намнут тебе бока.
(Джиджик – это кишлак, с жителями которого мы несколько раз встречались, и они всегда были дружелюбны и приветливы).
Но я ещё ничего не рассказал о самом движении. Поход занял 14 дней. Идти было нелегко: тяжёлые рюкзаки, крутые подъёмы. Помню, на второй день по пути к Куликолонским озёрам мы полдня карабкались вверх, повстречали двух таджиков и спросили о дальнейшем пути. Нам ответили: «Пока ещё хорошо будет, а дальше два подъёма будет». Кто-то из нас присвистнул и процитировал: «Маркс восхищался героизмом штурмующих небо парижан».
В этих местах летом не бывает дождей. Яркое солнце, жара, но в горах жара легко переносится – это мы оценили после похода, спустившись вниз, в долины. В те годы и в том возрасте мы ещё не беспокоились об опасном воздействии солнечной радиации. Я почти весь поход с утра до вечера шёл в плавках. И, конечно, в триконях. Последнее не диктовалось необходимостью, большинство моих товарищей шли в кедах, но мне так казалось удобнее.
Одним из моих любимых развлечений было купание. Я старался купаться во всех озёрах, а на привалах, если рядом была река, то и в реке. Последнее было любопытным аттракционом. Реки очень быстрые, влезть туда нельзя. Так что кто-нибудь из товарищей на берегу держал меня за ноги, а остальное тело бултыхалось в воде.
Серединой нашего пути был Искандер-куль: мы шли до него 7 дней, на озере – два дня днёвки, после – ещё 5 дней. В первой части маршрут был довольно известным, описанным, много хоженым, в общем, сбиться здесь было трудно. Днёвка, единственная на весь поход, была замечательна тем, что можно отдохнуть, не нести рюкзак, оглядеться, полюбоваться озером и горами. Впрочем, не так и отдохнуть. В один из дней мы с Димкой пошли вокруг озера, чтобы осмотреть места, лучше сориентироваться – у нас ведь не было нормальной карты. Озеро небольшое, примерно 2 на 2 километра, выходит, по периметру 8. Но что это были за километры! Половина берегов непроходимо, нужно обходить горами – без троп, потому что здесь не ходят. В самом начале пути нам пришлось переходить вброд реку Хазор-меч. Переходили мы её так называемым таджикским способом, известным по туристской литературе: двое кладут руки друг другу на плечи и передвигаются – один спиной, а второй лицом к течению. Река оказалась бурной и более глубокой, чем мы ожидали: выше пояса, а это уже опасно. И ледяная вода. По правде сказать, я таки струхнул. Вспомнил, как меня учили в альплагере: самая опасная стихия – вода. За день мы натрудились здорово. Но остались довольны: многое увидели, главное – увидели дальнейший путь.
Путь после Искандер-куля мы представляли хуже – предстояло пройти три перевала, а путь к ним был не очень ясен. Мы расспрашивали у всех, у кого только могли – и у таджиков, и на метеостанции на озере, и у встретившихся геологов. В конце концов прошли правильно, хотя было трудновато: три дня подряд – три перевала: Дукдон, Мунора, Тавасанг. Вывалили к живописным Майгузорским озёрам. Через полтора дня после этого пришли в кишлак Шинк, откуда на машинах и автобусах добрались до Самарканда.
Рассказывая о походе, не могу не вспомнить ещё одного его участника – пса Захмо. Так мы назвали его в честь пса, сопровождавшего Мухина и Гусева, первых альпинистов в этих местах. Наш Захмо был одним из многих здешних бродячих псов, норовящих сопровождать путешественников. Он пристал к нам за несколько дней до прихода к Искандер-кулю. Мы сначала пытались отогнать его, а притом привыкли и стали подкармливать. В роли главного любителя собак и хозяина Захмо выступил Лёша, выклянчивавший у меня как у завхоза лишнюю порцию для него. Удивительная привязчивость собак! Казалось бы, кто мы для Захмо? Случайные люди, которых он знает только несколько дней. Но когда Лёша на одолженной у метеорологов лодке перевозил нас с Димкой через озеро, пёс бросился в ледяную воду и плыл за лодкой, а потом доплыл до берегам и бежал за нами по таким скалам, где, кажется, никому не пройти. После Дукдона, когда наш путь уже близился к концу, мы оставили Захмо в лагере геологов. Они его привязали, но пёс ночью перегрыз верёвку и прибежал в наш лагерь. По счастью, мы повстречали других геологов, и они увели Захмо, уже навсегда.
После похода было несколько дней в Самарканде и Бухаре, что по яркости впечатлений могло конкурировать с самим походом. В Самарканде теперь мы могли лучше разглядеть Регистан – его минареты, покрытые яркими мозаичными плитками. Фантастические усыпальницы Шах-и-Зинда, мавзолей Тимура Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым, построенная Тимуром в память любимой жены.
Потом Бухара – совсем другая, не цветная, а вся из резного белого кирпича с эмирской крепостью Арк и мавзолеем Измаила Самани.
Но Самарканд и Бухара – это не только архитектура. Это и красочные базары с грудами дынь и самого вкусного в мире винограда. И чайханы, где так приятно посидеть несколько часов в знойный день, потягивая зелёный чай из чайников и заедая его лепёшками с сыром и виноградом.
В общем, мы покидали Среднюю Азию зачарованными ею. Наверное, лучше всего славянская завороженность этим краем передана в нескольких стихотворениях Константина Липскерова (с которыми нас тоже познакомил Димка):
Там над городом Биби-Ханым развалила руины.
О царица мечетей, ты скоро поникнешь в пыли.
На порталах твоих вижу трещин широких морщины,
Начертанье неспешное круговращений земли.
Или:
О город Шаршауз тихий,
О город Шаршауз древний,
И весь в садах.
А перед городом арка
Краше десятка мечетей,
С которых под вечер гортанно
Тянется крик азанчи.
Мы уезжали с твёрдыми намерениями ещё много раз сюда возвращаться. Как сказал Липский (1902):
«Вообще же это путешествие положило прочную симпатию к этой заманчивой стране и сделало её предметом всегдашних стремлений».
Глава 9. Весна 1956-го. XX съезд
И всё же 1956-й год вошёл в мою жизнь в первую очередь отнюдь не туристскими впечатлениями.
Над страной пронеслись такие ветра! Подхватили они и меня.
XX съезд
Началось всё с XX съезда КПСС. Разумеется, студенты в большинстве внимательно следили за ходом съезда с первого дня. Времена были такие, когда всё понемногу менялось, и всё к лучшему, так что когда происходило важное событие – а что могло быть важнее съезда партии? – вчитывались в каждую строчку оттуда: какие будут новые перемены. Завершение съезда превзошло самые смелые ожидания.
Хотя заседание, на котором Хрущёв произнёс свой знаменитый доклад, было закрытым и в высшей степени секретным, слухи о нём дошли до нас едва ли не на следующий день. Сначала без всяких подробностей: Хрущёв осудил злоупотребления, которые были при Сталине, и обвинил в них его самого. Прежде всего, в массовых репрессиях. Ещё несколько дней назад представить себе такое было невозможно.
Всё внимание студентов было обращено на этот доклад. О нём только и говорили. Ловили каждое новое просачивающееся сведение. А сведения просачивались всё интенсивнее. Прошло немного времени, и доклад начали читать на закрытых партсобраниях – тут уж его общее содержание стало широко известным. Меня беспокоил один вопрос, и я всё допытывался: а проводилось ли там сравнение с фашизмом, ставился ли знак равенства между Сталиным и Гитлером? На мой взгляд, теперь оставалось сказать только это. И вот, наконец, доклад стали читать уже всем. Точнее сказать, всё-таки не всем, не простому народу, но для образованного слоя он стал доступен. Правда, только на слух – никакой письменный текст ещё несколько десятилетий не появлялся, я не встречал его даже в самиздате.
Так он дошёл и до нас. Собрали весь курс. Ничего похожего на это мероприятие я больше в своей жизни не встречал. Кто-то из партбюро час с лишним, пытаясь сдержать волнение, твёрдым голосом зачитывал текст доклада. Стояла мёртвая тишина. Никаких комментариев, вопросов не полагалось. К середине доклада многие плакали. Выходя из аудитории, плакали почти все. Это была естественная реакция. Хрущёв был человеком эмоциональным, и доклад воздействовал прежде всего эмоционально – запоминались муки несчастного Рудзутака, других подвергнутых пыткам партийных вождей (внимание в докладе обращалось главным образом на репрессии по отношению к членам партии).
Следующим поколениям чем дальше, тем труднее представить, что означал этот доклад для современников и как он ими воспринимался. Ведь это было полное крушение устоев! Большинство населения ещё вчера верило, что мы живём в самой справедливой стране, где возможны разве что мелкие ошибки. И вдруг открывались пытки, зверства, и виноват был в них кто – сам Отец Народов, Вождь и Учитель, вчера представлявшийся почти богом. После этого можно было сколько угодно повторять, что партия к этому непричастна, что наши идеалы и основы нашего строя остались неизменными, можно было даже верить в это, и многие верили – но это была уже не та вера, и восстановить прежнюю было невозможно.
Так же восприняло доклад и большинство студентов вокруг меня. Для них это было крушение веры, которую приходилось восстанавливать заново. Но было немало и более продвинутых. У многих ребят из числа сознательных комсомольцев – тех, кто достаточно следил за политикой и вдумывался, – сведения из доклада уже не вызвали шока. Весь предшествующий ход событий подсказывал им, что «прогнило что-то в королевстве датском», какие-то разоблачения неизбежны, и им не стоит удивляться. Другое дело – неожиданный масштаб этих разоблачений. Так что эти активные комсомольцы стали настоящими «детьми XX съезда», быстро и искренне восприняв его общий дух, а заодно и получив изрядную дозу скептицизма по отношению к продолжающейся советской демагогии.
Что же касается немногочисленных инакомыслящих, таких, как я и Кронид, то, конечно, ничего принципиально нового о характере сталинского правления мы не узнали. Для нас существенно было то, что наконец-то об этом сказали правду – пусть не всю, но главную правду. Для меня это означало полное изменение статуса. Я теперь тоже мог всюду свободно и без боязни высказывать свои мысли. В официальных условиях, может быть, не все. Не мог, например, сказать на семинаре по марксизму: дескать, и марксизм ваш вздор, схоластика, и ваш Ленин отнюдь не «самый человечный человек», а сектант и фанатик. Но о сталинском режиме мог говорить почти всё – а ведь главным, наболевшим было именно это. И насчёт невступления в комсомол у меня был готовый ответ – а где был ваш комсомол, когда такое творилось в стране? А в неофициальной обстановке мог вообще говорить всё, что думаю, всем, кому хотел, – кто ж теперь за это меня поведёт в застенок? – кончились те времена. И, наконец, важный фактор – я принял действующую власть. Не то, что бы полностью с ней солидаризировался, всё-таки они коммунисты со всеми вытекающими последствиями, но поверил, что тот же Хрущёв, его соратники (кто же знал, что таковых нет) – люди, желающие стране добра, желающие избавиться от сталинского наследия. Приходится для этого идти медленными шагами, по дороге врать – так что же делать, народ ещё не готов. Что-то не выходит по хозяйству – тоже не страшно, неумение не грех. Но общий курс, взятый руководством партии и страны, я всей душой поддерживал.
И не я один. Я думаю, первые полгода после съезда, до самых венгерских событий, были таким счастливым периодом в жизни страны, когда все сколько-нибудь думающие люди солидаризировались с её руководством. (Такое повторится через три десятка лет – во времена горбачёвской перестройки и гласности.) Мы были в такой эйфории – наступили хорошие времена. А те, кто ранее не очень задумывался, понемногу начинали что-то соображать и, в общем, тоже одобряли происходящее.
Наша будущая редакция
Время и место, в котором я находился, подталкивали к завязыванию контактов между людьми, близко к сердцу принимающими общественные проблемы. Наверное, на факультете в это время образовалась не одна компания, в которой эти проблемы обсуждались. Но я оказался в одной из них, наверное, самой активной.
Трудно вспомнить, как наша компания образовалась. Ведь оказались в ней ребята (именно ребята – девушек не было) с разных курсов – от моего 4-го до аспирантов. Наверное, большинство из них знали друг друга по комсомольской работе – ведь это большинство составляли комсомольские активисты. Замечу, что курс, на котором я с этого года оказался (напоминаю, в связи с академическим отпуском), был, в отличие от моего прежнего, очень комсомольским. Я имею в виду, что на курсе были явные лидеры, пользовавшиеся общим авторитетом и определявшие лицо курса, они были хорошими студентами и одновременно активно занимались комсомольской работой. По-видимому, всё началось с обмена мнениями в их круге, потом этот круг разросся, но они составляли его ядро. Вошли в него и связанные с ними ребята такого же склада, но постарше, на факультете довольно известные. Мы с Кронидом там оказались как лица достаточно приметные и активные.
Несмотря на совсем недавнюю диаметральную противоположность наших воззрений, сейчас общественные позиции моих новых товарищей и мои были очень близки. (Как не вспомнить перефразировку Пушкина в Серёжкином «Омегине», сделанную, впрочем, по совсем другому поводу:
… Волна и камень,
Стихи и проза, лёд и пламень
Не столь различны меж собой,
Как это кажется порой).
Все мы приветствовали отказ от сталинизма, все верили в добрые намерения нынешнего руководства, всех беспокоила возможность реванша консерваторов, которых вскорости окрестили сталинистами. Наше с Кронидом отрицание прошлого режима было более радикальным, но не вызывало принципиального неприятия.
Я говорил о наших позициях по общественным вопросам. Но это не значит, что мы только этим интересовались и только об этом и говорили. Вообще, если вспомнить, наверное, самым заполитизированным из нас был я. А так у ребят был широкий круг гуманитарных интересов. Мы делились мнениями о современной литературе, живописи, театре, да и о чём только не говорят друг с другом интеллигентные молодые люди.
1953-1955. Литература Оттепели
В такие исторические моменты у общественно активных людей становится непреодолимой потребность самовыражения. Повинуясь этой закономерности, мы искали, в чём можем себя выразить. Обсуждений в дружеском кругу нам становилось мало. Была нужна трибуна. Так мы пришли к идее выпускать стенгазету – «Литературный бюллетень».
Почему литературный?
Во-первых, нас всех увлекали вопросы литературы и искусства, и мы хотели говорить о них.
Но дело было не только и, пожалуй, не столько в этом. Сделаем шаг назад и вспомним, какие огромные изменения произошли в советской литературе за истекшие три года – с марта 1953 по февраль 1956. Она действительно стала полем борьбы идей. Причём, как это было всегда в русской литературе, едва ли не единственным таким полем.
Отзвучали дискуссии вокруг Померанцева. И одно за другим начали появляться произведения, в которых – в основном, между строк – прочитывались критические оценки нашей действительности, призывы к переменам. (Боюсь, что сегодня, а тем более завтра рядовой читатель этого может и не заметить, да и вообще не почувствовать интереса к произведениям того периода.)
Одним из первых произведений этого нового направления стала «Оттепель» Эренбурга, само название которой превратилось в название нового этапа в жизни страны. (Мы читали и обсуждали её летом 1954-го в лодках на Юрюзани.) Потом выходит «В родном городе» Виктора Некрасова (тоже 1954). С этого времени, даже чуть раньше, со статьи Померанцева в декабре 1953-го, «Новый мир», опубликовавший эти и некоторые другие, актуальные, но не столь яркие произведения, начинает восприниматься как трибуна новой, критической литературы. Там же начали появляться интересные критические статьи Марка Щеглова, Владимира Лакшина. Вокруг «Нового мира» разгорается настоящая война, против него постоянно выступают руководство Союза писателей и партийные идеологи. Президиум СП принимает постановления об ошибках журнала, с поста редактора снимают Твардовского и назначают Симонова. Но уже идут новые времена, и полностью задавить журнал не просто. Так он и борется до времён позднего Брежнева, когда его, казалось бы, окончательно задавят.
Трудно переоценить то, что сделал «Новый мир» для развития общественного мнения в стране. Уже с конца 1953-го формируется сочувствие к нему в обществе, охватывая всё более широкие круги. Переформулируя известную фразу Ленина о двух царях России – Николае II и Льве Толстом, можно сказать, что несколько десятилетий в Союзе было два идеологических центра – идеологический отдел ЦК и «Новый мир». Значение, которое в те годы люди придавали литературе, интерес к настоящей современной литературе сегодня не с чем сравнить. Каждое новое интересное произведение обсуждалось, каждый удар по «Новому миру» воспринимался как ущемление собственной личности. Десятилетиями было почти невозможно войти в вагон московского метро и не увидеть в нём двух-трёх человек, читающих «Новый мир». (Как не сравнить с сегодняшним метро, где, если читают, то детективы, дамские романы, журнал «Натали»).
«Литературный бюллетень»
Название нашей газеты, перекликаясь с хорошо известным названием «Литературная газета», подчёркивало наши амбиции.
Комсомольские должности моих новых товарищей (члены курсовых и факультетского бюро) облегчили нам легализацию бюллетеня – он обрёл статус органа факультетского бюро ВЛКСМ. Редактором избрали Мишу Вайнштейна с моего курса, но на деле никаких особых прав он не имел – все вопросы решались коллегиально. Впрочем, особых противоречий у нас не возникало – разве что дискуссии о том, не убрать ли из статьи какую-нибудь особо хлёсткую фразу. Реальным же руководителем газеты мне представляется Володя Тихомиров тоже с моего курса, умный и славный парень явно харизматического склада, комсомольский лидер. (Сейчас доктор наук, вроде чего-то достигший в математике.)
За три месяца до начала каникул мы выпустили три номера. Наиболее активными авторами выступили мы с Кронидом – у каждого по две статьи и стихи (стих Кронида я упоминал раньше).
Я олицетворял «радикальную» линию «Бюллетеня». Одна из моих статей была посвящена Писареву, другая – второй книге «Оттепели» Эренбурга. По представлениям того времени, в статьях поднимались острые вопросы – я как бы писал на грани дозволенного. Ну вот, для примера процитирую из статьи о Писареве, написанной, конечно, ради этих привязок к современности: «Наши общественные науки почти потеряли право называться науками, потому что творческое исследование там заменялось буквоедством… Идеологическая жизнь в университетах, бывших когда-то центром общественной мысли, ограничивается вызубриванием ошибок неизвестных нам философов, а настоящие споры ведутся шёпотом в кулуарах. Начата борьба за смелую постановку идеологических вопросов, и передняя линия этой борьбы перешла с трибуны съезда в стены университетов и других заведений, где учится сознательная молодёжь». Мои товарищи посмеивались над моим радикализмом – таким дружески посмеивающимся вспоминается Тихомиров, пытались что-то вымарать, а потом пропускали.
В основном же в «Бюллетене» были вполне официально приемлемые интеллигентные статьи: о постановке «Гамлета» в театре Маяковского (Тихомиров), о выставке французской живописи (Янков), о Бернарде Шоу (Вайнштейн). И вовсе не из-за цензурных соображений, точнее, не только из-за цензурных соображений – просто ребята не так увлекались политикой, и их больше интересовало другое. Впрочем, и эти статьи, например, статья Янкова, были достаточно актуальны – ведь перед нами только-только начали открываться сокровища новой (т. е. с середины XIX века) западной живописи.
Кронид написал две интереснейшие (по сравнению с моими) статьи на достаточно нейтральные, но близкие ему темы: о книге Митчелла Уилсона «Живи с молнией» (в советском издании «Жизнь во мгле» – ничего себе перевод!) и о Ван-Гоге. Последняя заслуживает особого разговора. Кронид был много образованнее меня в живописи, и Ван-Гог был его любимым художником. Наверное, прежде всего – за преданность искусству и самоотдачу. Переписка Ван-Гога с братом была у Кронида настольной книгой. Сидя в кронидовой комнатке, я рассматривал прекрасные репродукции, а он с увлечением рассказывал мне биографию художника. Благодаря Крониду, он стал и моим любимым художником.
Печатали мы и стихи. Кто в таком возрасте не пишет стихов? В основном они были очень слабыми – так свои стихи, бывшие в тех выпусках, я бы сейчас стеснялся показать. (Понимаю, что и те несколько, которые рискую показывать сейчас, не вполне этого заслуживают, но те вообще…).
Единственным исключением были стихи Юры Манина. Юра был земляком Кронида, в Симферополе учился с ним в одной школе. Сейчас он выдающийся математик, один из директоров Института Планка, крупнейшего математического центра в Германии. В те же годы он совсем не воспринимался (по крайней мере, мною) как будущий большой математик. А воспринимался как чистый гуманитарий, полиглот, поэт. Читал чуть ли не на всех европейских языках. Выучил итальянский, чтобы читать Данте. А его стихи и переводы – действительно, стихи настоящего поэта. Например, такое начало:
Это время отлётов, осенних отлётов, когда мы,
Утеряв в листопадах, не сыщем былого следа,
И завидуем людям, у которых в руках чемоданы,
И завидуем людям, у которых в глазах поезда.
Его перевод киплинговского “If” кажется мне лучшим, чем у Маршака:
Коль ты хранить способен ясность духа,
В себе не усомнившись ни на миг,
Но и понять того, кто ропщет глухо,
Кляня тебя в несчастиях своих…
«Бюллетень» сразу стал очень популярным на факультете. Оно и не удивительно – всякий рад прочесть живое и дерзкое слово своих товарищей. У каждого вывешенного номера сразу же собирались толпы. Но кому они заведомо не доставляли удовольствия – это факультетскому партийному бюро. В каждом номере они находили крамолу. Один или два раза партийные товарищи просто срывали нашу газету со стены и уносили к себе в партбюро. После каждого номера вызывали членов редколлегии на свои заседания и тыкали их носом в те или иные фразы; мои товарищи оправдывались и доказывали, что всё строго соответствует линии партии. Мне было лучше всех – меня как не комсомольца никуда не вызовешь.
В поэтической студии
С выходом «Бюллетеня» стали устанавливаться связи и с другими факультетами. Причём именно по поэтической линии. Какие-то литературные дела свели меня с Димой Сухаревым, признанным поэтом биофака. Его стихи мне очень понравились, и я с тех пор старался за ними следить.
Едва ли не Сухарев затащил меня на заседание поэтической студии университета, запомнившееся мне до сих пор. В основном там были филологи и журналисты (т. е. студенты этих факультетов.) Чуткое студенчество уже начало воспринимать моду на своего рода модернизм (воплотившийся впоследствии у «смогов»). Вышел некто мрачный и загробным голосом прочёл:
Однажды прохожему сняли череп.
Следующий за ним грустно продекламировал нараспев:
Я приеду в Эмаус на белом осле,
На печальном осле легкомысленной масти.
Но рассмешил всех Валерий Непомнящий патетическим гражданским стихом «Ода фиговому листку», разоблачающим «премудрых, сытых, солидных»:
Им же [листком], чтоб весь не увидел свет,
Вы прикрываете срам свой.
У вас ничего, кроме срама, нет –
Одно пустое пространство!
Руководитель студии, какой-то признанный, то есть печатающийся поэт, давясь от смеха, спросил: «А вы визуально представили себе эту картину?»
Но единственные настоящие стихи прочла маленького роста и скромного вида девочка. Это была Наташа Горбаневская. Мы с ней разговорились. Потом мы подружились, и я знал много её стихов – наверное, потому и не могу вспомнить, что она читала в тот раз.
Иностранцы
После XX съезда начали устанавливаться и наши, так сказать, «международные контакты». В МГУ училось немало зарубежных студентов – едва ли не большая часть их была из Китая, остальные – из европейских «стран народной демократии». До 1956 года контакты с ними были минимальны, я, во всяком случае, таких не помню. А теперь нас объединил общий интерес к происходящему.
Правда, первые мои и моих товарищей контакты были с «полуиностранцами», а именно с «испанскими детьми» – бывшими детьми, эвакуированными в Союз во время их гражданской войны, да здесь и оставшимися. В моё время немало их училось в университете и жило в общежитии. Они всё-таки были понятнее нам, чем «настоящие» иностранцы. Эти ребята сильно увлекались политикой. Так что, когда пошли первые волны от доклада Хрущёва, они стали равноправными участниками наших дискуссий. Помню, как мы собирались в блоке кого-то из них, испанцы и советские, – благо, у них был приёмник, и можно было слушать зарубежные голоса, а когда сильно глушили, они слушали по-испански и переводили. (Как не вспомнить Мартынова – тоже об испанцах:
И люди почти что не дышат,
У ящика ночью уселись).
Наших испанских товарищей происходящие изменения особенно интересовали потому, что были связаны с их жизненными планами. Большинство из них хотело возвратиться на родину, раньше это было невозможно, но теперь, при изменениях в советской политике и идеологии, становилось более реальным. Я спросил одного из них: «Как же ты поедешь, там же фашизм?» Он ответил: «Но ведь не такой, как у вас». Я отнёс эту оценку на счёт нашего прошлого. В течение нескольких ближайших лет те из них, кто хотел, действительно, уехали.
Из «настоящих» иностранцев наиболее открытыми к общению оказались поляки. Мне кажется, им было легче войти в нашу действительность – и по близости языков, и по исторической памяти, всё же наши страны, к несчастью для Польши, тесно связаны друг с другом с конца XVIII столетия. А потом начались польские события (о них ниже), и тут уже мы устремили взгляды на Польшу.
«Группа Арнольда» как-то задружила с Владеком Турским, учившимся на их курсе, подружился с ним и я. Ну, уж Владека мы воспринимали совсем как своего. Хотя выглядел он совсем не по-нашему – толстоватый юноша, в клетчатых бриджах чуть ниже колен. Беседовали мы с ним на очень разные темы – и о политических событиях в наших странах, и о литературе и искусстве. Мы обменивались стихами, в моих архивах сохранилось его стихотворение „Spowiedџ syna naszego wieku”.
Исповедь сына нашего века»:
Мы – поколение
Приговорённое к смерти…
Мы не хуже
Поколения Вертеров
Мы не хуже
Чем были наши отцы
Только мы
Будущая двадцатилетняя армия ...
Рядом его рисунок в стиле польской живописи тех времён, как бы иллюстрирующий стих: петля, человек в тюрьме на фоне листа с лозунгами французской революции.
(Вернувшись в Варшаву, Владек стал заметным учёным, я видел его книги).
Бойкот столовой
Общественное бурление проявлялось не только в литературе.
Одну из инициатив стал развивать Дима Янков с моего курса, человек горячий и очень увлечённый политикой. Помню, меня поразила его идея создания ещё одной партии – социал-демократической – правда, никаких шагов в этом направлении он не предпринял. Воплощать же в жизнь он принялся другую свою идею – бойкота студенческой столовой. Обоснование было таким: столовая плохая, кормят плохо, студенты должны добиться улучшений. Подозреваю, однако, что качество работы столовой, как и качество пищи, интересовало Диму меньше всего – не таким уж он был гурманом. Главное было в принципе – организовать мирную кампанию неповиновения, а повод неважен. Развивал он свою идею в нашей компании из «Бюллетеня», и, насколько я помню, никто его не поддержал. Я вообще был резко против по принципиальным соображениям: я был доволен всеми сторонами жизни в общежитии и за него был по-своему благодарен советской власти. Зачем же выступать против неё там, где она что-то хорошо делает? В частности, я был благодарен за то, что меня дёшево кормили, я при своих скромных средствах мог не голодать, а то, что еда была не слишком изысканной, меня не волновало. (И всё же впоследствии, когда настала пора с нами расправляться, нас обвинили и в том, что мы поддержали бойкот столовой.)
Кампания вокруг бойкота продолжалась несколько недель. Факультет бурлил, появлялись какие-то плакаты. Подробностей не помню, потому что принципиально этим не интересовался. Из историй того времени вспоминается забавный рассказ о китайских студентах, которые целую ночь на собрании решали вопрос, присоединяться ли им к бойкоту. С одной стороны, форма бойкота чужда социализму; с другой – они получили напутствие во всём перенимать опыт советских товарищей. В конце концов, кажется, таки присоединились. Однако из бойкота ничего не вышло. Большинство студентов его проигнорировало. Посетителей столовой в этот день было несколько меньше, но зато еда исключительно вкусной.
Ляпунов и защита генетики
Ещё одно достижение новых времён, нас непосредственно коснувшееся, – выход из подполья опальных наук – кибернетики и генетики. Активным пропагандистом той и другой на нашем факультете был Алексей Андреевич Ляпунов. Ляпунова нужно было видеть – он не походил ни на кого из наших профессоров. Красивый чернобородый мужчина с интеллигентными, я бы даже сказал, дворянскими манерами, с мягким спокойным голосом, как бы пришедший из XIX века. Казалось, сошёл с портрета на факультетской стене его знаменитый отец, с которым у него было удивительное сходство. На нём как бы было написано, что он не из нашего времени. Позже кто-то удачно назвал его последним Дон Кихотом русской науки.
У нас было отделение вычислительной математики, там что-то рассказывали об ЭВМ (так тогда назывались компьютеры), но слово «кибернетика» было ругательным, это была буржуазная наука, как шутили, «продажная девка капитализма». И вдруг оказалось, что это что ни на есть серьёзная наука, связанная с математической логикой и позволяющая строить те же ЭВМ, что, отрицая её, мы отстали в развитии, и теперь приходится догонять. Алексей Андреевич вёл семинар по кибернетике, некоторое время его посещал и я.
С генетикой было труднее, и этот вопрос был больше связан с идеологией и политикой. Если шельмование кибернетики, как раньше теории относительности, проходило на абстрактном уровне, бескровно, отрицалась наука, а из людей никто особенно не пострадал, то о генетике этого не скажешь. Воцарение зловещего Лысенко сопровождалось чудовищным избиением учёных, многие из которых, как Вавилов, окончили жизнь в лагерях и тюрьмах. Среди погромных идеологических документов 1948 года, упомянутых в предыдущей части, особое место занимали широко афишируемые материалы сессии ВАСХНИЛ, в которых команда Лысенко расправлялась с генетиками, переведя обвинения в особо опасную, идеологическую и политическую плоскость, а учёные, понимая, какими это последствиями им грозит, вынуждены были каяться и отрекаться от науки. Я читал эти материалы с таким же возмущением и чувством бессилия, как партийные постановления по Зощенко и Ахматовой. В 1956 году любому сколько-нибудь грамотному человеку было ясно, что Лысенко – это Сталин в науке. Но не дремуче невежественному Хрущёву, который, разоблачив Сталина, продолжал верить шарлатанским обещаниям Лысенко – невиданным урожаям, неслыханным удоям. Так что Лысенко продолжал господствовать в биологии, а вместе с ним и другие полуграмотные проходимцы, и они готовы были на всё, чтобы так сохранилось вечно. Но совсем по-старому после XX съезда оставаться не могло. Заговорили о несправедливых репрессиях в отношении генетиков, само слово «генетика» стало иногда употребляться в позитивном смысле. Но не в официальных биологических учреждениях, остававшихся заповедниками лысенковщины.
И вот Алексей Андреевич Ляпунов приходит на биологический факультет прочесть лекцию по генетике. (В то время генетика как наука о биологической информации считалась тесно связанной с кибернетикой и едва ли не частично в неё входящей.) Вместе с ним группа болельщиков с мехмата – и я среди них. Сейчас иногда приходится слушать впечатления людей, приезжающих из Украины в Белоруссию – им кажется, что они перенеслись на несколько десятилетий назад. Примерно то же испытали мы, оказавшись на биофаке. Казалось, встретились два мира. Уже само привычное для нас слово «ген» вызывало ужас у местных жителей, и, услышав его, они оглядывались по сторонам, не заметил ли кто, что они слушают эту крамолу. Вот Алексей Андреевич мимоходом упоминает «советскую государственную бюрократию» – как нейтральный термин с само собой разумеющимся содержанием, а у биологических профессоров глаза лезут на лоб. Он только упомянул результаты Тимофеева-Ресовского, а кто-то сразу с вопросом: «А где был Ресовский в такие-то годы? И где был в такие-то?» – и торжествует: уж теперь-то он сразил лектора наповал. Но тот отвечает тем же тихим голосом, не меняя интонаций: «С такого-то по такой-то год Николай Владимирович работал в Берлине, в такой-то лаборатории. [Это в гитлеровской Германии, во время войны!] А с такого-то по такой-то был в лагере там-то». И продолжает о его результатах по генетике. Лысенковцы не верят своим ушам: неужели такое можно говорить, и за это не посадят?
Глава 10. Осень 1956-го. Исключение
„Ach Sennora, Ahnung sagt mir:
Einst wird man mich relegieren,
Und auf Salamankas Wдllen
Gehn wir nimmermehr spazieren.“
Heine
(«Ах, сеньора, чует сердце,
Исключён я буду скоро.
По бульварам Саламанки
Не гулять уж нам, сеньора.»)
С начала осени, когда мы вернулись из летних каникул, а я – из походов, дела пошли ещё веселее.
Литературные новости
Всё решительнее заявляла о себе литература. Вдруг взорвалась литературная бомба – в «Новом мире» вышел роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Не думаю, чтобы он произвёл впечатление сегодня: не говоря об отсутствии художественных достоинств, и конфликт там простой – изобретатель против бюрократов. Но в то время при оценке произведения никто не обращал внимания на художественность. А по масштабу критики роман действительно выделялся – чувствовалось, что положительному герою противостоит не изолированный бюрократ, а мощная система. Потому роман сразу же был поднят на щит сторонниками преобразований. Обсуждение в Союзе писателей (это было уже позже, 22 октября) превратилось в триумф романа и автора. А одновременно – в обличение установившихся в стране порядков, зачастую весьма острое. И что интересно – в это время общественная атмосфера была такой, что никто из писателей не рискнул сказать дурного слова ни о романе, ни об аргументации его сторонников. Вера Кетлинская спрашивала: «Почему наши противники молчат? Это не только боязнь, это беспринципность». (Через несколько месяцев, когда начался откат, они взяли своё. Каких только помоев не вылили тогда на Дудинцева! Помню карикатуру в журнале «Крокодил», всегда отличавшемся в подобных кампаниях: обложки книг с названиями, пародирующими идейно порочные, критикуемые партией произведения; среди них – роман «Хлеб не едим мы»). Такие же обсуждения и с теми же результатами проходили и в университетах, в частности, на нашем филфаке. Конечно, роман бурно обсуждался и на других факультетах.
Не успели отзвучать эти дискуссии, как вышел альманах «Литературная Москва» (первый выпуск). А там половина материалов того же критического направления. Очерки Овечкина. Особенно критикуемые впоследствии «Рычаги» Яшина. В них стандартная ситуации: простой колхозный коллектив, все люди как люди, и рассуждают как люди; но вот начинается собрание, и они уже не люди, а «рычаги», всё решают по велению начальства и вопреки совести. Но главным, что, может, тогда за злободневными материалами не все оценили, была первая публикация Цветаевой. (Кто-то из более проницательных вождей впоследствии среди, кажется, четырёх главных ошибок в «идейно-воспитательной работе», наряду с публикацией «Ивана Денисовича» назвал и эту). Нужно сказать, подборка была отличной, её редактор отобрал именно то, что нужно.
Отказываюсь быть.
В бедламе нелюдей
Отказываюсь жить.
С волками площадей
Отказываюсь выть.
С этих строк Цветаева как один из самых любимых поэтов вошла в мою жизнь навсегда.
(Завершу небольшим отступлением. Описание литературы того времени, её влияния на общественное сознание представляется мне чрезвычайно интересной темой. К сожалению, мне не встречались связные и развёрнутые исследования на эту тему. Так и тянет сказать здесь побольше, но это явно вышло бы за рамки жанра).
Польские события
Между тем, XX съезд дал толчок событиям и за пределами нашего отечества, что, в свою очередь, бумерангом вернулось к нам.
Роспуск Коминформа в апреле служит сигналом о предоставлении «братским» партиям и режимам большей независимости в вопросах их внутренней политики. В июне Советский Союз посещает Тито, его встречают действительно как «друга и брата». Вот он в элегантном белом костюме прибывает в наш университет, и я вместе с другими его восторженно приветствую (как год назад приветствовал другого своего кумира – Джавахарлала Неру, высокого, сухощавого, с обязательной розой в петлице, тоже вдруг превратившегося из врага в ближайшего друга).
В прошлом (2006-м) году, когда отмечалось 50-летие «польского октября», журнал «Новая Польша» поместил старые интервью с бывшими советскими диссидентами на эту тему. Было там и интервью с покойным Кронидом. К моему удивлению, он сказал, что польские события, в отличие от венгерских, ему запомнились мало. Мне же представляется наоборот – из всех «братских» стран моё внимание больше всего привлекала Польша, едва ли не с самой весны. Польша очень скоро стала приобретать репутацию «самого весёлого барака в нашем лагере». Вспоминаю анекдот о собаке, которая перебегает границу в Польшу. «Ты чего бежишь? Там что, лучше кормят?» – «Нет, но разрешают гавкать».
Мы бросились читать польские газеты – „Trybunu ludu”, „Polityku” – в них было куда больше самой разнообразной информации. По этим газетам я и выучил польский язык, что для человека, владеющего русским и украинским, не представляет труда. Своей осведомлённостью в польских делах я многим обязан Владеку Турскому. Именно он стал приносить нам уже совсем вольнодумный студенческий журнал „Po prostu”. От него же я узнавал о начавшемся общественном пробуждении в Польше. О студенческих газетах, дискуссиях и демонстрациях. Например, о демонстрации польских цензоров, одним из требований которой была отмена цензуры (!). То, что жизнь в Польше сразу же стала свободнее и интереснее, чем у нас, было очевидно. А взять искусство. У нас, где в живописи продолжалась монополия соцреализма, такой заманчивой выглядела польская живопись, с которой мы знакомились по журналу «Польша». Этот журнал быстро приобрёл популярность, в отличие от аналогичных изданий других соцстран, и передавался из рук в руки. В общем, мне и моим единомышленникам Польша представлялась страной, которая может служить для нас образцом.
За событиями в Познани (массовыми протестами рабочих, митингами, по существу восстанием, в котором погибли десятки человек) я следить не мог – начались походы, потом каникулы, от источников информации я был оторван. Насколько можно, узнал подробности после каникул. Но здесь подоспели новые события. Я внимательно следил – по польским газетам и по рассказам Владека – за борьбой за смену руководства ПОРП. Вся страна поддерживала недавно освободившегося Гомулку, который представлялся олицетворением разрыва с прошлым. 19 октября в Варшаву бросились Хрущёв и другие советские руководители, чтобы помешать свержению Охаба (первого секретаря ЦК). По-видимому, полякам удалось их переубедить, первым секретарём в начале 20-х чисел был избран Гомулка. Польша торжествовала, и мы вместе с ней.
Венгерское восстание
И сразу же за этим, 23 октября – восстание в Будапеште.
В отличие от польских, венгерские события застали нас (меня и моих товарищей) врасплох. По-венгерски мы не читали, с венграми знакомы не были, так что будапештский бунт был для нас как снег на голову. Конечно, мы сразу бросились к газетам – польским и югославским – и, по возможности, к радиоприёмникам. Нечего и говорить, что мы, по крайней мере, наиболее радикальные из нас, (в этом значении я и дальше употребляю местоимение «мы») всей душой были на стороне восставших. Сейчас я бы поостерёгся так однозначно воспринимать подобные события, задумался бы об опасностях стихии народного бунта, о крови на улицах. Тогда подобных сомнений не было. Само понятие «революция» звучало как нечто святое, символизирующее всплеск народного гнева против тирании. Если кто и повешен на фонарях, то чего жалеть – это же их гебисты.
Поначалу казалось, что всё развивается хорошо, почти по польскому сценарию. Назначено революционное правительство во главе с Имре Надем. Десталинизация торжествует в Восточной Европе! И тут в Будапешт вошли советские танки. В зарубежных журналах мы видели обошедшие весь мир фотографии: задумавшийся советский танкист-мальчишка над люком танка, толпы венгров, загораживающие этим танкам дорогу, убитые на улицах, плачущие женщины. Потом предательски выманили, арестовали и казнили Надя, во главе страны был поставлен Кадар.
Несколько дней мир бушевал. А потом его внимание отвлекла начавшаяся война арабов с Израилем, и венгерские события отступили на второй план. Но не для нас. Для нас это было поражением, восстановлением сталинских норм – по крайней мере, в отношениях со странами-сателлитами. И здесь Югославия, только недавно восстановившая статус друга и союзника, снова резко осудила советскую интервенцию. Мы чуть ли не наизусть заучивали «Говор друга Тита в Пуље» из югославской «Политики» – к тому времени я кое-как одолел и сербско-хорватский. Большая (на 3 газетных страницы половинного формата) речь, целиком посвящённая венгерским событиям, кончалась пророческими словами: «Кто сеет ветер, пожнёт бурю». Сеять предстояло ещё долго, а жать – через несколько десятилетий.
Венгерские события положили конец идиллическим отношениям подобных мне интеллигентам с советской властью. Стало ясно: чёрного кобеля не отмоешь добела.
Вот на таком историческом фоне мы и выпустили 4-й номер своего «Литературного бюллетеня».
Однако изложению его содержания нужно предпослать рассказ, относящийся к более раннему времени.
Марк Щеглов
Ранее я упоминал новомировского критика Марка Щеглова. Мне посчастливилось с ним познакомиться и подружиться.
Познакомил меня с Марком Дима Зубарев, которого я посещал в Поливановской больнице, – я об этом писал. С Димой же они были коллегами по болезни – оба болели костным туберкулёзом. Эта болезнь накладывает на всех общий отпечаток, приковывая к постели и лишая возможности двигаться. Марк был таким же грузным, как и Дима, так же с трудом передвигался на костылях. И так же, а, может быть, и больше, меня поразило в нём исключительные энергичность, жизнелюбие и доброжелательность.
Кажется, я слышал о Марке от Димы, когда он был ещё неизвестен. А познакомился позже, когда в «Новом мире» пошли его статьи, и он стал одним из ведущих критиков журнала. Думаю, что его имя осталось в истории литературы, но его (как практически всю литературу того времени) вряд ли кто перечитывает сейчас или будет перечитывать в будущем – они принадлежат своему времени, которое уже прошло. Но своё дело он сделал. Его статьи привлекали искренностью – именно той искренностью, о которой писал Померанцев и которая была нужна как глоток свежего воздуха. И как любая свежая и искренняя мысль, какой бы скромной она ни была, воспринималась как замаскированная крамола – и друзьями, и врагами. При периодически повторяющихся разгромах «Нового мира» не забывали помянуть и его. Нечего и говорить, с какой симпатией я читал его статьи.
Уже при первом знакомстве меня с Марком сблизили общие литературные вкусы. Он, как и я, любил Герцена и перечитывал «Былое и думы». Дипломную работу писал по сатире Толстого. Так что о литературе нам было интересно поговорить. Я приходил к нему домой, где он жил с мамой, ласковой сухонькой старушкой, души не чаявшей в сыне, – это бросалось в глаза. И сам он, постоянно обращаясь к ней, делал её участницей разговора. В этом (1956-м) году я с удовольствием докладывал ему об обсуждении политических и литературных проблем на нашем факультете, и было видно, что это его интересует. Рассказывал, конечно, и о «Литературном бюллетене», и о гонениях со стороны партбюро. Поскольку аналогичные гонения, только на более высоком уровне, переживал и он сам, мы оказывались как бы коллегами, говорили заговорщическим тоном и понимали друг друга с полуслова. Он ещё обещал прийти к нам на факультет, познакомиться с ребятами. А вообще мы о многом говорили – например, я рассказывал о предстоящем походе в Фанские горы. В одну из последних встреч он сказал: «Вот пишу вещь, может, удастся». (Это была неоконченная работа о Тютчеве).
А в один из первых сентябрьских дней после возвращения из каникул я открыл «Литературную газету», и у меня потемнело в глазах. На последней странице был некролог: «Скончался молодой критик Марк Александрович Щеглов… Только издание отдельной книгой его статей поможет понять, какую потерю понесла литература». Умер Марк в возрасте 30 лет.
Что-то оборвалось при этом известии: умер такой замечательный человек. И, как это принято в России, сразу же обвинение в адрес власти: это она виновата – пусть не в смерти, а в том, что портила жизнь этому человеку, не дала раскрыться его таланту.
Я сразу же сел за статью о Марке и в один или два дня её написал. Это мне казалось долгом перед ним. Наверное, потому я не сдерживал себя, наговорил много дерзостей (по меркам того времени) в адрес нашей системы, и мне не хотелось от них отказываться при будущей публикации. Например, о советской литературе: «… я не умел находить в ней крупицы правды и мудрости, и все, без исключения, писатели и кандидаты в писатели представлялись мне людьми жадными, продажными и беспринципными, недостойными того, чтобы порядочный человек подал им руку». Или о недавнем «жесточайшем разгроме «Нового мира», ни по форме, ни по содержанию не напоминавшем дискуссию».
«Литературный бюллетень» № 4
Почему-то так получилось, что мы сильно затянули с выпуском 4-го номера. В прошлом семестре «Бюллетень» выходил ежемесячно, а этот вышел в свет 9 ноября. Но зато размахнулись в нём на славу!
Открывала номер статья Эдика Стоцкого «Солдат армии революции», посвящённая Джону Риду. Несколько слов о самом Эдике. Учился он курсом младше меня, то есть весной был на 3-м, осенью – на 4-м. И в нашей редакционной компании казался случайным человеком – без всяких признаков общественной активности, то ли по комсомольской линии, то ли вопреки ей. Тихий, спокойный, не компанейский, несколько наивный юноша. Больной астмой, что заставило его из родного Ленинграда переехать в немного лучший климат, в Москву. Весной он пришёл к нам со стихами, по правде сказать, не очень талантливыми (по сравнению с Маниным). И вот сейчас дал статью о Джоне Риде, которую от него не ожидали.
Джона Рида после XX съезда начали извлекать «из подполья». На имя его уже не было наложено табу, его даже упоминали в положительном контексте, но его знаменитая книга, ранее изъятая из библиотек, ещё не переиздавалась, хотя на этот счёт были определённые надежды. Так что в самом воскрешении памяти Джона Рида и похвалах его творчеству, чему была посвящена статья Эдика, не было ничего крамольного. Но вот приведенные цитаты из него выглядели взрывоопасно. Например, такая: «Быть может, никто, кроме Ленина, Троцкого, петроградских рабочих и простых солдат не думал, что большевики могли удержаться больше трёх дней». А после этого и сам Эдик излагает исторические события: « Лидеры большевиков… Володарский, Троцкий, Ногин, Каменев говорили по 6, по 8, по 12 часов в день». Поставить рядом Ленина и Троцкого! Назвать Троцкого и Каменева лидерами большевиков! Да ведь в 1956-м году это были не просто предатели, а вредители и фашистские шпионы!
А в качестве иллюстрации к своей революционной статье Эдик изобразил пролетария, рвущего цепи. Рисунок был большой и яркий и выглядел как визитная карточка всего номера. Нас впоследствии обвиняли: это вы намекаете на венгерские события. Может, такая мысль у кого-то из нас, действительно, была.
Затем следовала моя статья «Марк Щеглов».
И на полгазеты – подборки из двух литературных дискуссий. Обе были посвящены главному литературному произведению года – «Не хлебом единым». Одна в Доме литераторов 22 октября, о которой я уже писал, другая – на филфаке МГУ. В шапку были вынесены хлёсткие цитаты из выступлений. «Константин Паустовский: Появилась у нас каста обывателей, новое племя хищников и собственников. Дельцы и предатели считают себя вправе говорить от имени народа, который они ненавидят и обирают». И аналогичная цитата из выступления на филфаке Гриши Ратгауза.
Поворот назад
А в большом мире капитан уже поворачивал руль почти на 180 градусов. Напуганное событиями в Польше и, особенно, в Венгрии, где такую роль сыграли распоясавшаяся интеллигенция и студенты, партийное руководство решило, что пора их укоротить. Выпуск нашего номера на один день предшествовал публикации в «Правде» (10 ноября) выступления Хрущева на митинге московской молодежи, в котором он призывал «уделять больше внимания правильному воспитанию молодежи», связав это с событиями в Венгрии. При этом он сослался на румынских рабочих, которые якобы заявили студентам: «Если вам не нравятся наши порядки, которые мы завоевали своей кровью, своим трудом, тогда пойдите поработайте, а на ваше место придут учиться другие».
Скандал вокруг «Бюллетеня»
Факультетское партбюро восприняло эти слова как руководство к действию. Газета, вокруг которой толпился народ, не провисела и двух дней – члены партбюро её сняли. И завертелось.
Дальнейший ход событий можно отследить по партийным и комсомольским документам, собранным «Мемориалом». Однако, листая сегодня эти документы, я так и не понял задействованные механизмы. Проходили посвящённые нам заседания партийных и комсомольских бюро факультета и университета, на них шла речь об идейных ошибках и недостатках политико-воспитательной работы, нас называли по именам и честили. Обсуждалась и судьба провинившихся авторов и членов редколлегии. Более ретивые партийцы предлагали исключить тех или иных из нас из университета; дискутировали о том, кого именно. Другие предлагали ограничиться более мягкими мерами. Но я так нигде и не встретил партийного решения, рекомендующего кого-либо исключать из университета. Листая эти документы, я был тронут тем, что никто из мехматских студентов, входящих в круг партийного и комсомольского руководства, не поддержал предложений об исключении, а многие пытались за нас заступиться. Например, мой сокурсник Лёва Мешалкин, на которого я всегда смотрел свысока как на обычного комсомольского активиста (читай: карьериста), горячо за меня вступался.
То, что крутилось в партийных инстанциях, до нас, студентов, доходило в форме слухов. Довольно скоро стало известно, что партбюро рекомендовало отчислить из университета ряд студентов, но фамилии назывались разные. Первыми кандидатами на исключение были я, Эдик Стоцкий и Миша Вайнштейн. (Называли нас именно в таком порядке, соответствующем оценке «заслуг»). Миша, сам ничего крамольного не сказавший, вошёл в этот список как редактор, то есть, лицо, ответственное за газету. Назывались и другие кандидатуры.
Что поднялось на факультете! Если партийных руководителей интересовали вопросы идеологической работы, то студентов, естественно, – вопрос об исключении их товарищей. На всех курсах только об этом и говорили. Возникало что-то вроде стихийных митингов. На нескольких курсах по требованию студентов прошли комсомольские собрания, где партийные руководители тщетно пытались успокоить студентов. Деканат жаловался, что срывается учебный процесс.
Комсомольский актив
Нашим (редакционным) апофеозом стал посвящённый нашему вопросу факультетский комсомольский актив 23 ноября.
По иронии судьбы, как раз в этот день ко мне в гости явились мои родственники Валя и Женя Наумовы. Я три с половиной года приглашал их осмотреть наше знаменитое здание, и вот, наконец, они нашли время. Именно в те часы, когда проходил названный актив. Объяснить им, что происходит, у меня не хватило духу. Я просто сказал, что сегодня очень занят, и попросил девочку Олю из «группы Арнольда» поводить их по зданию. Не сомневаюсь, они здорово обиделись.
Актив проходил на первом этаже в шикарном помещении клуба. Само название «актив» предполагает отбор присутствующих, так что попасть на него было нелегко. Мне как некомсомольцу быть на нём уж никак не полагалось. Однако в самом начале кто-то предложил пригласить Белецкого, зал шумно поддержал, и организаторам пришлось согласиться. Правда, вопрос о моём выступлении как-то не возникал. Многочисленные сочувствующие внушали: «Ты уж молчи, ты достаточно наговорил». По-видимому, так оценивали ситуацию едва ли не все собравшиеся.
У меня, как, наверное, и у других моих товарищей по «Бюллетеню», было ощущение, что мы присутствуем на своём чествовании. О нас, как о покойниках, плохо говорить было нельзя – зал бы не допустил. Нашим противникам оставалось о нас говорить минимально, переведя весь разговор в плоскость идейно-воспитательной работы: «Да что вы всё об исключении, это дело второстепенное, нужно говорить об идейных ошибках, которые они должны осознать». Но большинство выступающих были наши защитники, расписывавшие, какие мы замечательные студенты, товарищи и прочее. Наверное, больше всего похвал досталось на мою долю – и потому, что я был первым кандидатом на отчисление, и потому, что был хорошо известен «воспитательной» работой по туризму. Забавно прозвучало в одном из выступлений: «Неужели Советский Союз, устоявший против интервентов в годы гражданской войны, против немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны, не устоит, если в стенах МГУ останется Белецкий, который думает не так, как все?» (Это Смолянин, студент с моего курса, с которым я и не был знаком). Подобные выступления насторожили начальство, и выступавшим это впоследствии припомнили, чаще всего – без указания причины. Так Лёша Данилов, хваливший меня с позиций товарища по походам, через полтора месяца при сдаче очередной «общественной дисциплины» услышал от преподавателя: «Теорию-то вы знаете, а вот с практикой у вас плоховато» – и получил «трояк». То же повторилось и на госэкзамене, так что он окончил университет почти со всеми пятёрками и с тройкой по марксистской философии. Но, по-видимому, больше всего их возмутило выступление молодого преподавателя, доцента Роланда Львовича Добрушина, заявившего, что авторам «Бюллетеня» хотелось думать, и за это их не следует бить обухом по голове. Не в последнюю очередь это заявление стоило ему работы в университете, из которого его вскоре выдавили.
Газеты физфака
Наше дело приобрело широкий резонанс и довольно скоро вышло за пределы университета. Так как партийное руководство страны как раз было озабочено проблемами «нездоровых настроений» студенчества, оно попало и в поле зрения ЦК. Инструктор ЦК писал о нас докладные записки по начальству, на одной из них сохранилась помета: «Тов. Брежнев ознакомился». (Леонид Ильич как раз возглавлял комиссию по выработке закрытого письма ЦК по идейно-воспитательной работе). А через несколько месяцев вопрос «О состоянии идейно-воспитательной работы среди студентов филфака и мехмата МГУ» рассматривался на бюро Московского горкома партии.
Между тем, проявления студенческого инакомыслия наблюдались не только на двух названных факультетах. Мы, мехматяне, находились под большим впечатлением от того, что творилось на соседнем, физическом факультете.
Вообще мехмат и физфак традиционно рассматривались как родственные и одновременно соперничающие факультеты. И как ни обидно это признать, нам чаще приходилось видеть, что дружественный факультет нас в том или ином отношении обходит. Были они более дружными. Лучше выступали в спорте. Больше ходили в походы, и походы были более серьёзными. И вот осенью 1956-го обошли нас по размаху свободной печати.
Начиная с сентября и где-то до конца ноября я, как и другие наши студенты, несколько раз в неделю ходил в соседнее здание физфака, чтобы посмотреть их стенгазеты, и поражался. Их было невероятное множество – выпускала едва ли не каждая группа. И все – с острыми статьями на общие темы. Запомнился мне автор со знаковой фамилией Завертайло. Чего он только не завертал! Я думал: наш брат хохол – если разойдётся, сразу доходит до крайностей. И восхищался: вот это антисоветчики, не нам чета! Разумеется, их партбюро тоже реагировало, срывая самую бульшую крамолу. В одной из газет я увидел карикатуру: человек пять членов бюро несут под мышками сорванные газеты, и подпись: «Таскать вам, не перетаскать!»
Честь и слава руководству физфака! В отличие от нашего, они не стали раздувать историю, и буря пронеслась мимо них. Помню, я где-то вычитал, как с самым невинным видом их декан или партийный босс писал: «У нас тоже были определённые неправильные настроения. Но, конечно, далеко не такие, как на мехмате». Это в сравнении с нашим-то безобидным «Бюллетенем»!
Дипломная работа
Вот в такой несколько истерической атмосфере и в подвешенном состоянии я провёл месяц с лишним. Нечего и говорить, что вокруг меня только и разговоров было, что на тему предстоящего исключения, и это здорово утомляло. Как герой дня я не мог спокойно пройти по факультету – ко мне бросались незнакомые студенты младших курсов, жали руку, выражали сочувствие и солидарность.
(Об одном забавном случае выражения сочувствия стоит рассказать. Мой сокурсник Жора Курдеванидзе, который, как и все грузины того времени, ненавидел Хрущёва за нанесённую Сталину обиду, говорил мне: «Это всё Хрущёв виноват. При Сталине такого бы с тобой никогда не было». – Почему? – «При Сталине ты бы рот не раскрыл»).
Между тем, нужно было и учиться. На 5-м курсе собственно учёбы немного, предполагалось, что основные усилия студент потратит на дипломную. С дипломной же я обнаглел, выбрав себе в руководители самого Колмогорова.
Андрей Николаевич Колмогоров по всем представлениям того времени был математик номер один. Если не всего мира, то Советского Союза, во всяком случае. Автор множества отраслей современной математики. В частности, современной теории вероятностей, по которой он нам читал лекции. Судя по всему, к лекциям Андрей Николаевич не находил нужным специально готовиться, он на них просто рассуждал вслух, довольно сбивчиво, и уследить за ним было непросто. Ходила шутка: когда он читает 4-му курсу, его понимают пятикурсники; когда 5-му – понимают аспиранты; когда читает аспирантам – понимает один Женя Дынкин. По внешности Колмогоров был типичным математиком – того же типа, что его друг Александров: не от мира сего, погружённый в свои математические размышления.
По всем нормам мехмата, в дипломники к Колмогорову полагалось идти настоящим математикам, тем, кто имел не только способности, но и потребность самоотверженно работать в науке. Таким, как Арнольд. Почему туда занесло меня? Не берусь ответить. Равно как и вообразить, какую работу способен был бы предъявить ему в конце учебного года. Судьба избавила меня от этой заботы.
Пока же у меня клеилось плохо, и я нервничал. Прочёл то, что Андрей Николаевич мне дал из литературы. Теперь надо бы сесть и задуматься, самому представить, какие там есть задачи. Но не получалось.
Расскажу об одном забавном эпизоде, возникшем в связи с моей дипломной. Однажды Андрей Николаевич пригласил меня на беседу по дипломной работе – по печальному стечению обстоятельств как раз на то время, на которое я купил билет на фестиваль итальянских фильмов в кинотеатре «Ударник». Я сказал ему, что не могу прийти. Он спросил, почему. Я ответил: потому что иду на такой-то итальянский фильм (насколько помню, с легкомысленным названием). Как я впоследствии понял, для него такой ответ прозвучал кощунственно: как можно ставить на одну доску какой-то фильм и разговор с руководителем о дипломе. Он ошарашено посмотрел на меня, потом махнул рукой, повернулся и ушёл. Кто-то из его учеников, кажется, Володя Тихомиров, рассказывал, что Андрей Николаевич потом вспоминал этот случай, кончая моей характеристикой: Белецкий – несерьёзный студент (что звучало как «шалопай»), но о-о-очень правдивый. По-видимому, на него произвело впечатление, что я честно назвал такую жалкую причину, не выдумывая ничего более подходящего. (Сейчас бы я инстинктивно пытался что-нибудь выдумать, но тогда был менее испорчен).
Апартеид по-мехматски
Чтобы лучше понять ход событий, нужно представить ситуацию в факультетских верхах – профессорско-преподавательских и административных. Для нас – студентов старших курсов – не было секретом: мехмат долгие годы был полем ожёсточённой борьбы между двумя партиями: Учёных и Партийцев. (Используя эти слова для условного наименования мехматских партий, я пишу их с большой буквы). Ситуация на мехмате МГУ могла служить яркой иллюстрацией тезиса о том, что наука и партия несовместимы. Я неоднократно упоминал, что наши профессора были вообще не от мира сего. Это были рыцари математики, для них наука была естественной средой обитания и высшей ценностью, за пределами её они зачастую плохо ориентировались. А Партийцы – это люди партийной карьеры, от которой научная была производной. Это солдаты партии, главной целью которых было проводить линию партии или, по крайней мере, демонстрировать, что проводят. И мы, студенты, видели чёткую разницу между ними. Наверное, среди Учёных были члены партии, но нам до этого не было дела – мы воспринимали их как учёных. И среди Партийцев должны были быть люди, получившие какие-то результаты в науке, но как учёных мы их не воспринимали. Не помню научного семинара, на котором бы на равных выступал Партиец. В общем, это были две различные породы, две не смешивающиеся расы. Своего рода апартеид.
Казалось бы, где могли пересечься их интересы? Думаю, что главной точкой пересечения были кадровые вопросы. Учёные прилагали все усилия, чтобы подготовить себе достойную смену, чтобы попали в аспирантуру, а потом остались на факультете наиболее с их точки зрения достойные – такие же бескорыстные служители науки. А Партийцы стремились продвигать подобных себе, используя диктуемые сверху критерии отбора – с учётом национального и классового происхождения и, конечно же, «общественной активности». Так было до меня, так было при мне, так осталось до последних дней советской власти.
Это была борьба не на равных – как правило, с явным перевесом Партийцев. И вдруг после XX съезда Учёные как будто бы взяли реванш – деканом мехмата был избран Колмогоров. Откровенно сказать, я слабо представляю Андрея Николаевича в этой бюрократической роли; по-видимому, текущие дела продолжали решать его заместители из числа Партийцев. Но назначение было знаковым – как символ того, что при решении действительно важных вопросов последнее слово может теперь остаться за Учёными.
В такой атмосфере и разгорелось наше дело. В условиях перманентного конфликта в факультетских верхах его нельзя было замять, как это сделали физики. При том, что его раздувание вредило всем сторонам и факультету как таковому. Сами Партийцы тоже предстали перед высшим руководством в невыгодном свете – как не справившиеся со своей работой. Однако они сумели использовать это дело в своих целях – чтобы снова перехватить власть на факультете. Я ещё был в Москве, когда Колмогоров ушёл (или его «ушли») с поста декана. Некоторое время на этом посту побыл другой Учёный – Соболев, но потом его надолго, едва ли не на весь советский период, перехватили Партийцы. (Подозреваю, что Учёные долго потом имели претензию к болтунам, вроде меня, которые своими безответственными действиями помешали торжеству настоящей Науки на факультете).
Исключение
А события на факультете развивались таким чередом.
После актива 23 ноября кто-то рассудительный из Партийцев высказался на партсобрании примерно так: «Отчислить многих нельзя – студенты долго не успокоятся. Но и оставить всех в университете нельзя – это воспримут как наше поражение. Мы должны найти оптимальное решение».
Такое понимание ситуации и распространилось на факультете. Было ясно – кого-то они обязательно исключат. Это печально, против этого нужно протестовать, но это роковая неизбежность. Реально только добиваться, чтобы исключённых было поменьше. И за каждого из моих товарищей так или иначе боролись, доказывая их невиновность на комсомольских собраниях или бюро.
При этот всем было ясно и другое – кто бы ни оказался среди исключённых, уж я-то среди них буду точно. Меня могло спасти только чудо, оставалось надеяться на него.
В этих условиях партбюро потребовало от декана Колмогорова, чтобы он представил к отчислению нашу тройку: меня, Эдика Стоцкого и Мишу Вайнштейна. При этом Андрей Николаевич испытывал давление и с другой стороны. Мой «неродной» курс (то есть тот, на котором я оказался после пропуска года), включая комсомольское руководство, активно ходатайствовал за Вайнштейна, который, в отличие от меня, воспринимался им, как «свой». И для этого были сильные аргументы – ведь сам Миша ничего «вредного» не написал и не высказал. Курс был дружный, на хорошем счету в партбюро, с сильной и «правильной» комсомольской организацией, что давало Мише неплохие шансы отделаться полегче. Не помню, заступался ли кто за Эдика.
За меня пытались заступаться многие, но, в отличие от случая Вайнштейна, в частном порядке. Так мне известен случай, когда пятеро ребят и девочек имели с Колмогоровым длинную беседу. Из моих близких друзей там были Ира Кристи и Дима Арнольд. Андрей Николаевич отзывался обо мне довольно тепло, отмечая, правда, недостаточно серьёзное отношение к работе, призывал не драматизировать ситуацию, обещал, что в случае моего исключения поможет при восстановлении. Когда ребята начали убеждать его в том, какая я популярная и значимая фигура на факультете, он замахал руками: «Не вздумайте об этом говорить – это ему только навредит. И не пишите никаких писем».
И всё же давление партбюро оказалось сильнее – Андрей Николаевич подал в ректорат представление на отчисление, не помню уж, одного меня или всей тройки. Как человек совестливый, он потом серьёзно терзался (об этом сообщали знающие его люди), пытался отозвать представление. Но представление уже нельзя было вырвать из цепких рук хозяев университета.
Ректором тогда был Иван Георгиевич Петровский, тоже математик. Мне не довелось его знать, но Володя Тихомиров отзывался о нём, как о человеке разумном и справедливом, который и в этой истории пытался свести наказания к минимуму. Непонятно, как он там всё решал и зачем тянул время, но время шло, а реакции ректора всё не было.
Наконец, 18 декабря появился ректорский приказ в относительно умеренном варианте – исключался один я с формулировкой «за поведение, недостойное советского студента». Мне в этот момент для окончания университета оставалось сдать два экзамена в зимнюю сессию (один из них – исторический материализм), а весной – два государственных и защитить диплом.
Эдик Стоцкий отделался легче (по-видимому, учли, что это его первый «проступок»). Ему порекомендовали просто временно скрыться из глаз, уйдя в отпуск «по состоянию здоровья». Основания для этого были – Эдик был хронический астматик.
Миша Вайнштейн уцелел, отделавшись выговором по комсомольской лини.
Так или иначе, были наказаны и другие участники «Бюллетеня». Насколько помню, никто из них, кроме любимца курса Володи Тихомирова, не был оставлен в аспирантуре. Да и распределены на работу они были не лучшим образом. И, само собой, разумеется, получили взыскания по комсомольской линии. Читая материалы комсомольских бюро и собраний, я удивляюсь, с каким остервенением там честили самых, казалось бы, невиновных, как, например, Лёню Валевича, который ничего не написал, только участвовал в заседаниях редколлегии, но и там не говорил ничего крамольного; а сейчас как будто бы ставился вопрос об его отчислении. (Юмор в том, что на мою долю такой «критики» не досталось). А Кронида эта история уже не коснулась, он весной окончил университет и уехал работать в Ашхабадскую обсерваторию.
Но, поскольку факультет проштрафился, начавшиеся исключения не ограничились редакцией «Бюллетеня». Примерно одновременно с нами был отчислен Вадим Янков – за бойкот столовой и вообще за длинный язык. Должен был уйти «по собственному желанию» Серёжа Смоляк, замеченный в разных неортодоксальных высказываниях, в том числе, на активе 23 ноября.
Реакция мамы
Не так давно моя добрая знакомая (Асмик Григорян), впервые услыхав о подробностях этой истории, всплеснула руками: «Бедные ваши мамы!». Она и не подозревала, насколько была права.
Родители мои узнали обо всей этой истории таким образом. Кто-то из маминых сослуживцев как-то, придя на работу, поспешил её порадовать: «А вы знаете, что Би-Би-Си говорило о вашем сыне?». И выдал маме всё, что успел уловить в эфире: волнения среди студентов МГУ, студент Михаил Белецкий как один из главных бунтовщиков, готовящиеся ректоратом репрессии. Мама потом говорила мне, как всё это восприняла. В её памяти всё ещё был 37-й год, она уже представляла меня в застенках ГПУ, издевательства следователя. Не знаю, как у неё хватило сил это перенести. Сразу же позвонила мне, я, как мог, пытался её успокоить. Конечно, это было не в моих силах. Тогда она бросилась в Москву и стала ходить по университетскому начальству. Понятное дело, все они её успокаивали в таком духе: не переживайте, ничего страшного, ваш сын немного поработает, а потом опять вернётся в университет. Конечно, только это они и могли говорить, но я им за это искренне благодарен – эти заверения несколько успокоили маму, по крайней мере, показали: времена изменились, и можно надеяться, что ничего особенно страшного мне не угрожает.
В результате, как и в случае с моим ранением, мама стала отмечать день моего исключения как день, когда я избежал страшной опасности. Всю оставшуюся жизнь она постилась два дня – в среду и в пятницу. (Хотя моё исключение пришлось на вторник, мама как-то ассоциировала его со средой).
Устройство на работу
Теперь мне надо было устраиваться на работу.
Уже новый декан (или замдекана?) Сергей Львович Соболев, кстати, до того мне совершенно не известный и меня, тем более, не знавший, сразу же со мной поговорил. Смысл его слов, насколько я помню, заключался в том, что факультет, отчислив меня, не снимает с себя ответственности за мою судьбу.
Вообще в силу общего оптимизма и в результате этих разговоров у меня совершенно не было впечатления, что я оказался за бортом жизни и должен радоваться любой возможности выкарабкаться. Напротив того, мне представлялось, что передо мной открываются разнообразные возможности, и важно только не прозевать лучшую.
Соболев начал с того, что свёл меня с представителями нескольких «ящиков» (так назывались закрытые военные организации) в ближнем Подмосковье. Жест показательный, поскольку такое трудоустройство считалось довольно выгодным. (А, может быть, с одним из «ящиков» меня свёл мой родственник Женя Наумов – вспоминается, что был какой-то такой разговор. Вот только как я при этом смотрел ему в глаза?) Кажется, дважды я являлся на беседы с, условно говоря, полковниками, и оба раза мы оставались друг другом недовольны. Им всё-таки полагалось присматриваться к анкете поступающего и обращать внимание на его поведение при встрече, а я ни тем, ни другим не мог их порадовать. Держался вольно и нагловато, так, как будто оказываю им услугу, рассматривая их предложение. Меня же сразу оттолкнула вся атмосфера их учреждений: солдат при входе, узкие коридоры с казённой темно-зелёной окраской, сами полковничьи физиономии. Да и перспектива работать на военного монстра, сидеть от звонка до звонка в этой казарме мне не подходила.
Хотя эти попытки сорвались, Сергей Львович не прекращал усилий. Теперь он сообщил мне, что порекомендовал нас с Эдиком в три вновь открывающихся центра, связанных с электронными математическими машинами (так тогда назывались компьютеры): в Пензе, Тбилиси и Ереване. Вариант Пензы я отложил на последнее место – стоит ли ехать в какую-то российскую провинцию? А вот Тбилиси и Ереван мне импонировали – прекрасные экзотические города, столицы таких интересных республик.
Разговор с тбилисцем прошёл не очень удачно. Судя по всему, это был опытный кадровик, разглядывавший меня сквозь призму анкеты. Правда, в отличие от наших кадровиков, по-восточному любезный. Резюме его было такое: вы, конечно, очень интересный и перспективный работник, но для начала вам лучше ознакомиться с кавказской спецификой в Ереване, а через годик-другой, если захотите, мы вас тоже с удовольствием примем.
А только-только открывшийся Ереванский институт математических машин возглавлял ученик Соболева Сергей Никитович Мергелян. Мергелян был фигурой в математике известной – типичный вундеркинд, ещё в детском возрасте окончивший университет и получивший весьма серьёзные математические результаты, самый молодой в СССР доктор наук. Судя по всему, и вновь открываемый институт ему предложили возглавить как самому знаменитому в мире армянскому математику. А пока он ещё жил в Москве, в профессорском корпусе МГУ. Там я (возможно, вместе с Эдиком) с ним и повстречался. Меня встретил молодой, толстый, улыбающийся, очень симпатичный человек. Не помню деталей разговора, но мы сразу же нашли общий язык. И, я думаю, прониклись взаимной симпатией. В отличие от всех, с кем я пока встречался по вопросам трудоустройства, это для меня был свой человек. И приглашал меня работать к себе, в интересный город, интересную страну, которую пока мне ещё не пришлось повидать. Не ставя никаких условий. И работа предстояла интересная – программирование на математических машинах, о котором я пока ещё тоже ничего не знал. Я с радостью согласился. Такова же была и реакция Эдика.
Я вышел от Мергеляна, переполненный радостью. Как удачно завершился этот период жизни! Да здравствует следующий!
Ноябрь 2006 – Март 2007
Часть III. Ереван
Глава 1. Чарбах и поездка на целину
В Сталино у родителей
Где-то в середине января 1957 года, примерно 15-го числа, я покинул Москву. Моя дорога в Ереван, естественно, лежала через Сталино – чтобы повидаться с родителями.
С заметным трепетом ожидал я этой встречи. Я представлял себе, каких нервов стоили им, особенно маме, мои последние приключения, так что чувствовал перед ними вину. Вообще-то это было двойственное и противоречивое чувство, поскольку на чувство вины накладывалось, заглушая его, чувство своей правоты: дескать? по большому счёту перед собой и перед человечеством я прав и могу этим гордиться. А страдающих родителей было жалко. Но, по правде сказать, очень не хотелось выслушивать их поучения и укоризны.
Настроение в доме было траурным, но умеренно – я ожидал худшего. Всё же маму как-то успокоили беседы с университетским начальством, и перспектива моего ареста в ближайшее время уже не представлялась ей такой неотвратимой. Она, пожалуй, даже поверила, что при моём правильном поведении мне ничего особенно страшного не угрожает, но в самой правильности поведения не была уверена. Высказанные же ей начальственные обещания моего спокойного восстановления в МГУ она восприняла с серьёзным сомнением, как выяснилось впоследствии, справедливым. Так что наставлений относительно дальнейшей линии своего поведения я получил предостаточно.
Пробыл я у родителей недолго, не больше недели. И вот уже мы стоим на перроне, и мама вытирает слёзы. Трогается поезд, и я вздыхаю с облегчением – это тягостное свидание кончилось.
В дороге
По пути в Ереван небольшим дорожным развлечением для меня была пересадка в Сочи. Представлялось любопытным взглянуть на знаменитый курорт, но он не оправдал моих ожиданий. Было необычно для этого времени тепло, шёл чисто осенний мелкий дождик, лёгкий туман, серое скучное море. Погуляв часок-другой по набережной и городу, разочарованный тем и другим, ближе к вечеру я сел в вагон.
И только после того, как он тронулся, почувствовал: ну, теперь уж точно начинается новый этап жизни. Росло возбуждение от ожидания встречи с неведомым и интересным. В мозгу, как припев, повторялись слова Лермонтова:
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей
Я и не представлял, до какой степени они оправдаются.
Утром я проснулся пораньше, чтобы побольше увидеть. Тбилиси мы проехали ночью, и теперь шли совсем новые для меня, экзотические места. Поезд, петляя, поднимается к перевалу, а потом так же спускается с него вдоль узенького и бурного Дебеда. Это уже Армения. Вокруг горы, не настоящие, снежные, альпинистские, а обжитые, заросшие лесом. Мелькают станции с грузинскими, а затем армянскими надписями. И люди совсем необычного вида, одно слово, кавказцы. Сколько раз я потом ездил по этому маршруту, и каждый раз не мог оторваться от окна.
Приезд в Ереван
Я приехал в Ереван 21 января 1957 года. (Это число я ежегодно отмечаю как персональный праздник). Я вышел на вокзальную площадь и был поражён – настоящая зима, мороз, завалы снега, яркое солнце. Здесь уж разовью эту тему. Зима 1956/57 годов была для Еревана уникальной – ничего подобного здесь ни до, ни после не видел не только я (в этом бы не было ничего странного), но, как принято говорить, и в данном случае уместно, «не упомнят старожилы». Такие же морозы – где-то около 10 градусов – стояли по апрель, и в самом начале апреля на тротуарах лежали сугробы очень чистого снега не менее полуметра высотой. Дни были в основном яркие и солнечные, но Арарат был всегда скрыт туманом, и я, каждый день с нетерпением глядя в его сторону, увидел его впервые где-то тоже не раньше апреля. Для местного населения такая зима была тяжёлым испытанием. Судя по всему, половина мужчин вообще не имела пальто. Они перебегали улицы в пиджачках с поднятыми воротниками. Как я написал позже (читатель без труда заметит влияние Хайнэ):
Сейчас тут смуглые люди
Дивятся холодной зиме,
Мёрзнут в лёгких костюмах,
Кутают шеи в кашне.
Однако в описываемый момент я стою на вокзальной площади. Большая площадь, окружённая домами из розового туфа. Эти непривычные для меня дома понравились мне с первого взгляда – не архитектурой, здесь, у вокзала, она была довольно заурядной, а самим материалом, который уже сам по себе придавал городу благородный вид. Названия улиц, магазинов, афиши незнакомыми буквами. (Грузинские буквы я уже встречал и даже различал на винных бутылках, а с армянскими, кажется, сталкивался впервые – кроме пяти, входящих в слово «КОНЙАК»).
Пребывание в Ереване я начал с визита к единственному на тот момент своему знакомому – Эмилю Нерсесяну. Эмиль был студент с моего (считая по поступлению) курса, с которым я как-то контактировал, но весьма поверхностно. (Вообще нужно сказать, что в университете из всех представителей «братских республик» легче всего устанавливались контакты с грузинами и армянами, при том, что эти последние образовывали как бы особое землячество, не включающее других кавказцев, например, азербайджанцев, дагестанцев и др. Прибалты держались особняком как своего рода иностранцы, а с представителями народов Средней Азии всё же чувствовалось различие культур. По крайней мере, мне так представлялось).
Эмиль был крупный флегматичный парень, открытый и в меру остроумный. Академическими успехами, как и многие из наших кавказцев, не отличался. А известен был полной неспособностью к военному делу (даже большей, чем у меня), о которой ходили легенды. Например, Эмиль стоит на часах в лагере. Мимо проходит офицер, он не обращает внимания. Офицер разворачивается, снова проходит, потом ещё раз, Эмиль по-прежнему нуль внимания. Офицер не выдерживает: «Часовой, почему вы меня не приветствуете?!» Эмиль: «Извините, не узнал, я, действительно, кажется, вас где-то видел». На экзамене по военному делу он не мог ответить ни на один вопрос. Экзаменующий полковник поставил ему тройку, не без юмора объяснив: «Этот военную тайну не выдаст».
Вот к этому Эмилю, предварительно списавшись с ним, я и поехал. По дороге из окна трамвая с жадностью рассматривал ереванские улицы. Отец Эмиля был не более, не менее как вице-президент Академии наук Армении, потому жил он в центре Еревана на шикарной улице Баграмяна (известного маршала, которым армяне гордятся), впоследствии переименованной в улицу Барекамуцян (Дружбы), сейчас, кажется, опять Баграмяна – в доме рядом с президиумом Академии и напротив здания ЦК.
Эмиль бросился ко мне, распахнув руки широким армянским жестом, сейчас же поднёс мне с мороза отменный коньяк, разлив его в серебряные стопочки исключительной ювелирной работы. Мы слегка поговорили. Деловая же цель моего визита заключалась в том, чтобы узнать, как добраться до места моей работы и общежития. На этот счёт Эмиль меня подробно проинструктировал.
ЕрНИИИМ
Ереванский научно-исследовательский институт математических машин (сокращённо: ЕрНИИММ), в котором мне предстояло работать, был открыт только осенью и в этот момент продолжал набор кадров. Сам Мергелян приехал возглавлять институт чуть раньше меня. Для института строилось новое здание близко к центру – там, где улица Орджоникидзе переходит в улицу 26 Комиссарнэри (именно так, а не «26-ти комиссаров» писалось и русскими буквами), напротив строящегося одновременно цирка. А пока институт размещался за городом, в местности, называемой «Верхний Чарбах» (Вэрин Чарбах). В последние десятилетия это уже в черте города, вокруг жилые кварталы. А тогда 30-й автобус, идущий по той же улице Орджоникидзе, миновал аэродром (город кончался незадолго до этого), сворачивал направо и по шоссе, расположенному среди полей, подвозил к повороту. Дальше по асфальтовой дороге, которую мы окрестили улицей Мергеляна, нужно было около километра идти к ограждённой забором одинокой группе из 4 или 5 зданий в 2-3 этажа. Это на тот момент и был Институт математических машин. После Института асфальт кончался. Дальше уже шла полевая тропа, через пару километров приводящая в деревню Нижний Чарбах, куда мы иногда заходили прикупить сыру или вина.
Объяснив сторожу, кто я такой, я вошёл во двор Института, разыскал коменданта и был поселен в одной из комнат на 2-м этаже двухэтажного общежития. В комнате было 4 койки, и, кажется, я поселился в неё первым.
Чуть выше я употребил слова «набор кадров». Теперь следует рассказать об этом подробнее. Конечно, бульшую часть их составляли выпускники ереванских вузов, однако последние характеризовались существенным пробелом в знаниях: в Ереване в то время не давали никаких знаний, относящихся к ЭВМ. (ЭВМ – «электронная вычислительная машина», так в ту пору назывались компьютеры. Во избежание анахронизмов и я буду пользоваться этим термином). Потому основная надежда была на приезжих – как «специалистов», имевших опыт работы в организациях подобного профиля, открывшихся чуть раньше (например, в Пензе), так и «молодых специалистов», т. е. свежих выпускников российских вузов, которых хоть чему-то об ЭВМ учили. Эти «молодые специалисты» были в большом числе набраны главным образом из двух вузов: Ленинградского и Ростовского – не помню, каких именно. Большинство из них приехали чуть раньше меня, некоторые чуть позже, и были расселены в двух зданиях общежития.
Коллектив к этому времени был небольшой, и отделов было немного. Во главе их были поставлены приезжие специалисты (для большинства из которых это был отличный карьерный рост), а приезжие «молодые специалисты» распределены по отделам более-менее равномерно.
Моя работа
Моя рабочая жизнь началась на следующий день после приезда. Если мне не изменяет память, я сразу же встретился с Мергеляном. Не помню, чтобы эта встреча носила сколько-нибудь содержательный характер, во всяком случае, тогда я не слишком фигурировал в его планах. Это были первые месяцы существования института, и сотрудников было настолько мало, что директор сам занимался распределением их по отделам – во всяком случае, всех приглашённых из других городов. Меня он направил в отдел уж не помню, под каким названием, возглавляемый человеком по фамилии Цехновицер. В этот же отдел был направлен и прибывший примерно через месяц мой друг и такой же изгнанник из МГУ Эдик Стоцкий (с той разницей, что его изгнание было более мягким, ограниченным чётким сроком – его не отчислили, а предоставили возможность взять отпуск «по состоянию здоровья»). О начальнике отдела в памяти сохранилось немного. Помню, что, несмотря на фамилию, внешность и речь у него были вполне славянские, возраст где-то до тридцати, а прибыл он в Ереван из Пензы.
Долгое время никакой реальной работы у нас не было. Но и без дела не сидели. Никто из сотрудников отдела, кроме начальника и его заместителя, тоже приехавшего из Пензы, о вычислительных машинах представления не имел. Не составляли исключения и мы с Эдиком. Так что первые месяца два мы все занимались их изучением. Мы снова играли роль студентов, а наши начальники – роль преподавателей. Обучение шло по учебникам (кажется, это уже были Китов и Криницкий), и никакого выхода к реальным ЭВМ не предполагалось – в виду их полного отсутствия. Нынешним студентам-компьютерщикам должно быть любопытно услышать, в чём тогда состояло обучение. Прежде всего – знакомство с двоичной системой с упором на правила перехода из десятичной в двоичную и обратно. Представления чисел в машине – с двоичной и плавающей запятой (разные версии). Структура команд – одно- двух- и трёхадресных. Практика написания простейших алгоритмов в машинных кодах. Архитектура ЭВМ (примитивных по тому времени). Ну, и так далее. Всё это мы читали, разбирали на семинарах, сдавали что-то вроде зачётов.
Через несколько месяцев появилась первая реальная работа. Институт, как видно из названия, был предназначен для создания математических машин. Одна из первых машин, которую должен был разрабатывать наш отдел, предназначалась для управления подводными лодками. Если вдуматься, работа весьма ответственная. И, разумеется, очень секретная. Мне представляется, что где-нибудь в России получить допуск к такой работе мне было бы не просто. А здесь, к своему удивлению, я его получил без особых забот. (Одно из первых впечатлений об армянской специфике). Помню, я разбирался в строении подводной лодки. Как там расположены её отсеки – это нужно было знать, потому что наша ЭВМ должна была давать команду о перекрытии отсеков в случае пробоины, мы разрабатывали для этого какой-то алгоритм. Наверное, я не вполне врубился в задачу, и командированный к нам полковник (или как там у них на флоте) мне добродушно сказал: «Вы, Миша, сапог». Вот с этой разработкой я и провозился до времени отпусков, то есть, до начала лета. Чем она кончилась и создал ли институт машину для подводного флота, не помню, а может быть, и раньше не знал – после отпуска я занялся совершенно другими проблемами.
В отделе был смешанный коллектив – наполовину из приезжих, наполовину из местных. Из последних мне запомнились две милые девушки Нелли и Джули, ставшие моими первыми учительницами армянского языка, да и вообще консультантками по местной истории, литературе и образу жизни.
Более забавные впечатления у меня остались ещё от одного местного коллеги по имени Габриэль Габриэлян – в отличие от всех нас, пожилого, лысого и толстоватого. Вспоминаю я его здесь ради любопытной истории с его именем. В конце 40-х, когда развернулась борьба с космополитизмом, родители решили, что такое имя носить опасно, и переименовали его, дав идеологически выдержанное имя Лаврентия. Каково же было их потрясение, когда самый знаменитый Лаврентий оказался агентом мирового империализма! Пришлось переименовывать обратно.
Поскольку я заговорил о работе, стоит вспомнить и её формальную и материальную стороны. Как человек без высшего образования я был принят на должность лаборанта (временно) с окладом 690 рублей. (Это соответствовало 69 «послереформенным» рублям 1961 года). Если вспомнить, что в МГУ я имел 290 стипендии (плюс иногда 25% как отличник) плюс 300 помощи родителей, и учесть несопоставимость цен на питание в МГУ и в Ереване, становится ясно, что по сравнению со студенческим временем я несколько обеднел. Однако через несколько месяцев я получил повышение на должность техника, а к концу года – и старшего техника, так что моё материальное положение стало чуть лучше. Во всяком случае, голодным я бывал нечасто, а особо больше мне было и не надо.
Эдик Стоцкий
Самым близким мне человеком и самым интересным собеседником в этот период жизни был Эдик Стоцкий. Мы дружили с ним ещё в Москве, а здесь окончательно сблизились. Мягкий, несколько флегматичный, как бы по-детски наивный, так и хочется сказать – не от мира сего, он вызывал безусловную симпатию у всех, кто его знал. Его эрудиция в вопросах литературы и искусства делала его интереснейшим собеседником. Эдику, как и мне, нравилось в Ереване, он с интересом вглядывался в жизнь новой страны. Кроме того, здешний климат оказался очень благоприятным для его здоровья. Он всю жизнь болел астмой, из-за неё уехал в Москву из Ленинграда от мамы. А сухой и жаркий летом ереванский климат очень благотворно действовал на его здоровье, и здесь он о своей болезни почти забыл. В Ереване Эдика настигло горестное известие – пришла телеграмма о смерти отца. Помню, как он сидел, отвернувшись к стене, и плакал.
Наше совместное пребывание в Ереване было недолгим. В конце лета Эдик возвратился в Московский университет после своего полугодового «отпуска». Он писал мне письма в Ереван. Позже, когда и я вернулся в Москву, мы часто виделись. А умер Эдик совсем молодым – из-за приступа той же астмы.
Жизнь в Чарбахе. Товарищи по общежитию
Как же мы жили в Чарбахе?
Большинство его обитателей ещё вчера были студентами, и для них чарбахское общежитие стало естественным продолжением вчерашнего ленинградского или ростовского – с поправкой на то, что кое для кого, здесь поспешно женившегося, это общежитие было семейным. (Конечно, для нас с Эдиком после аристократического общежития МГУ разница была куда заметнее). Общее настроение и нравы тоже были студенческие. Мы чувствовали себя сплочённым коллективом, тем более что все вдруг оказались как бы в чужой, хотя и дружественной стране, к которой как-то нужно привыкать и приспосабливаться. Мы быстро сдружились, каждый из нас всё свободное время проводил с соседями по общежитию, вместе готовили и ели в большой, общей на наше здание кухне, утраивали общие вечера, вместе ездили гулять в город или за его пределы.
Кстати, питались преимущественно коллективно, коммунами, каждая из которых обычно состояла из обитателей одной из комнат. Если в комнате жили девочки или хозяйственные ребята (вроде Юры Тутышкина), то и обеды готовились обстоятельно, и холодильник (большой, общий на всех) ломился от запасов, а остальные, глядя на них, облизывались. А если, как в нашей, ребята беспечные и с ленцой, то соответствующая часть холодильника пустовала, обеды готовились спустя рукава, а уходили с них наполовину голодными. К последнему варианту подталкивало то, что покупка продуктов составляла проблему, ездить за ними приходилось достаточно далеко, потому что в нашу институтскую лавчонку почти ничего не завозили. Само собой разумеется, стол нередко украшался вином, как магазинным, так и домашним, купленным у крестьян соседнего Нижнего Чарбаха. Обедали же мы все вместе и организованно в столовой рядом с аэропортом, куда нас возили институтским автобусом. Официантка Ляля разносила по столам харчо и люля-кебаб, чем наше знакомство с армянской кухней на этот период и ограничивалось.
В Чарбахе мы с Эдиком жили в одной комнате. Кроме нас, в ней жили ещё Абдул Кадиров и Карен Матевосян. С Абдулом мы оба подружились, хотя, конечно, не настолько, как друг с другом. Он был или казался гораздо взрослее большинства из нас. Суровый, неулыбчивый, немногословный представитель малочисленного горского народа лаков. Судя по всему, Абдул был хороший специалист. А переплетение горской и городской ленинградской культуры делало его интересным собеседником.
Мне неплохо запомнились многие из моих чарбахских товарищей, я был бы рад и сегодня встретиться с ними. Но боюсь, мне было бы трудно охарактеризовать их так, чтобы увидел читатель.
Расскажу только об одном – Косте Каспарове. Среди чарбахских обитателей было непропорционально много русифицированных армян – то есть таких, многие поколения которых прожили в России, успев за это время полностью утратить связь с исторической родиной. Таким был и Костя (как и упомянутый Карен Матевосян). Родом он, кажется, из Ростова, а учился в Ленинграде, так что и воспринимался как ленинградец. (Любопытно, в Чарбахе не подчёркивалось, но чувствовалось происхождение каждого: это – ленинградцы, это – ростовчане, а мы с Эдиком – москвичи. Хотя ни одно из этих «землячеств» не выступало в роли отдельной компании). Стройный смуглый усатый красавец – сразу видно, кавказец. По менталитету – смесь ленинградца с южанином. В отличие от традиционных кавказцев, совсем не склонный приударять за женским полом; в этом отношении совершенный северянин. Весёлый, компанейский, легко сходящийся с людьми, так что я с ним тоже быстро подружился. Приехал он в Ереван, ни слова не зная по-армянски, язык мы учили одновременно, и подозреваю, что за время нашего пребывания я преуспел больше.
Для меня Костя был интересен ещё в одном отношении – он был профессиональный альпинист, мастер спорта. Каждое лето на два месяца уезжал в альпинистские лагеря. Как бы ни горели производственные планы, как бы ни противилось начальство, приходила бумага из Совета профсоюзов: «Просим направить тов. Каспарова К. Н. в распоряжение государственного комитета СССР по физкультуре и спорту для работы в качестве инструктора по альпинизму» и так далее. И деваться начальству было некуда. Как всякий нормальный альпинист, Костя был не чужд интереса к любым путешествиям и прогулкам, особенно в таких горных краях, как Армения. Так что в его лице я приобрёл надёжного спутника.
Переписка
Но, насколько помнится, для нас с Эдиком едва ли не большее значение, чем контакты с новыми коллегами и приятелями, имели связи со старыми друзьями. Мы с нетерпением ждали их писем и охотно сами писали о своей жизни. И большинство из них отвечали нам взаимностью. (Не буду упрекать тех, кто нас письмами не баловал, – ведь это не потому, что нас забыли, – просто бывает такая болезнь, эпистолярная лень). Почти все мои друзья, названные в предыдущей части, писали много и содержательно. Хотя с большинством из них Эдик раньше был не особенно близок, переписка с ними установилась общая – из Москвы мы теперь виделись братьями-близнецами, и нас не слишком разделяли.
Кажется, единственными нашими общими друзьями до отъезда из Москвы были Наташа Горбаневская и Юра Манин. Нас всех четверых объединяли общие литературные интересы, все считали себя в какой-то степени поэтами – мы с Эдиком совершенно незаслуженно. В основном на поэтические темы и переписывались теперь. Наташа и Юра, в это время заметно сдружившиеся, слали нам свои стихи, стихи замечательные. Я и сейчас с любовью перелистываю листы, исписанные двумя мелкими аккуратными почерками, вспоминая и своих молодых тогда друзей, и жизнь в Ереване.
Вот из стихотворения Наташи, написанного в октябре 1958 года и посвящённого смерти Заболоцкого:
В некрологе написано – поэт.
О, как нелепо. Разве не бессмертны
Бессмертные?
………………………………………..
А может быть, судьба его легка,
Ему не подниматься по тревоге.
И шепчем мы, прощаясь на пороге:
– Спи, бедный форвард русского стиха.
По мере знакомства с Наташей я всё больше поражался её поистине подвижническому отношению к своим стихам. Я знал массу людей, для которых сочинение стихов было просто рифмованием, одним занятием из многих. Для Наташи это было дело жизни.
Я не при деле. Я стихослагатель,
Упорно не умеющий солгать.
Это из более позднего стиха, хорошо известного друзьям её поэзии. Очень точно сказано о себе. Я преклонялся перед таким отношением к творчеству – вопреки всем жизненным трудностям – и пытался это выразить (думаю, неудачно):
А маленькая девушка в Москве
По-прежнему болеет. Голодает.
И часто плачет – не в порядке нервы.
Одна. Без писем. Без друзей. Без денег.
И пишет непонятные стихи.
Эпитет «непонятные» я хотел употребить как похвалу: никто не понимает, а она всё равно пишет. Но он обидел Наташу: «Мои стихи понятны». А мне многие из них, действительно, были трудноваты для понимания. Понял позже.
Замечательные стихи, хотя и в другом роде, уже «понятные» для меня, присылал и Юра Манин. Вот из его «Коньяка»:
Не истины искать, отнюдь,
Не лёгкости и не покоя,
А просто так на мир взглянуть
Сквозь желтизну его – легко ли?..
Он просто терпкое ничто,
Но из скопленья лиц одно лишь
Такою болью налито,
Что действия не остановишь.
Я был настолько нагл, что в ответ посылал свои опусы, ставя своих корреспондентов в неловкое положение – сказать что-нибудь хорошее им, людям с тонким поэтическим чутьём, было трудновато.
Больше и обстоятельнее всех писал, пожалуй, Серёжа Яценко. Это были целые отчёты и о его пребывании на целине, и о Московском молодёжном фестивале в августе 1957 года, произведшем на москвичей феерическое впечатление, и о туристских новостях факультета и университета, и о многом, многом другом. Чуть позже стал слать свои стихи, славные и талантливые, но в другом роде:
Живёт под бессолнечным небом Венеры
Народ необычной науки и веры.
Не знает он солнца, не знает он снега,
А молится он интегралу Лебега.
Присылал мне Серёжка целые тетрадки с записью конспектов литературных и туристских дискуссий, пачки югославских газет (по моей бессовестной просьбе). И ещё прислал книгу, ставшую одной из моих любимых – “Krуl Maciuњ Pierwszy” Януша Корчака. По ней я и выучил окончательно польский язык.
А как-то, уже в следующем (1958-м) году, после того, как я неосторожно из пижонства упомянул, что питаюсь в основном пирожками с мясом, запивая их пивом, потому что на большее средств не хватает, Серёжка, сам недавно устроившийся на работу с весьма скромной зарплатой, ответил на это денежным переводом и письмом: «Ты будешь страшно возмущён, получив от меня перевод на сумму 240 руб. Но я давно хотел поставить эксперимент, посвящённый влиянию пищи на психику человека. Рассчитываю на твою помощь в этом деле… Итак, полученную сумму ты должен разделить на 30 равных частей и в течение месяца ежедневно посещать столовую, беря каждый раз горячее блюдо». Деваться мне было некуда, деньги я с благодарностью (боюсь, молчаливой) получил и использовал в соответствии с инструкцией. Заодно это было мне уроком – впредь подобными вещами перед хорошими людьми не бравировать.
Дима Поспелов, ранее бывавший в Армении, изучивший её с той же внимательностью и добросовестностью, что и Среднюю Азию, имеющий здесь друзей и знакомых, делился со мной знаниями и знакомствами, давал советы о поездках по интересным местам и мечтал о совместном походе по Армении. Одновременно мы с ним и со всей нашей старой компанией (включая Серёжку и Лёшу Данилова) строили планы дальнейших походов по Памиро-Алаю. (Последние планы осуществились, о них речь будет дальше, а вот по Армении мы вместе с ним походили совсем немного).
Очень интересной и содержательной была переписка с Димой Арнольдом на общие темы жизненных целей и нравственных принципов. Сам Дима в это время приобрёл мировую известность, решив 13-проблему Гильберта.
Во время жизни в Ереване, в описываемый период и позже, было у меня и много других корреспондентов – как старых друзей, так и новых знакомцев; о последних я ещё расскажу в своё время. Эти письма здорово обогащали мою жизнь, и я их вспоминаю с благодарностью.
Приезд родителей
Конечно, тем, как сложилась моя жизнь на новом этапе, больше всех интересовались папа и мама. И даже если бы я очень старался описать её во всех деталях и как можно подробнее (а я, к сожалению, об этом не старался), им бы всё было мало. Они очень стремились побывать у меня. За время моей жизни в Чарбахе это удалось сделать один или два раза.
На время их пребывания мои соседи по общежитию переселились в другие комнаты, и мы жили вместе. В общем, родителям в Ереване понравилось, хотя мама по обыкновению беспокоилась о том, что я нерегулярно питаюсь, недостаточно слежу за своей одеждой и тому подобное. На время своего пребывания она взяла на себя функции поварихи, а так как мы жили коммуной, то от этого выиграли и другие её участники. Мои друзья по общежитию маме и папе понравились – все такие славные, интеллигентные. И уж совершенно очарована мама была Мергеляном, к которому они с папой специально зашли познакомиться и поблагодарить. Её очаровала уже сама манера его обращения, мягкая, интеллигентная и, в общем-то, естественная для этого случая – как же ещё себя вести, когда тебя приходят благодарить. Мама увидела разительный контраст с московским университетским начальством, которое при встрече с ней опускало глаза, что-то мямлило и уходило от ответов, что, впрочем, тоже было естественно в его положении. Так до конца своих дней мама продолжала боготворить Мергеляна как моего благодетеля.
Понравился родителям и здешний народ. Такие милые, приветливые, доброжелательные! (Чему было удивляться: такое отношение к приезжему человеку – национальная черта армян). Один из случаев такой приветливости окончился забавным казусом. Мама с папой зашли в магазин, где продавцы в это время обедали, и на столе стояла разная незнакомая армянская снедь. Мама полюбопытствовала – а что это такое? Ей гостеприимно предложили: попробуйте. Доверчиво укушенный кусок соленья оказался зелёным перцем, сразу же обжегшим ей рот. После этого она пробовала армянские блюда с большой осторожностью.
Но всё это было потом. А в 1957 году главным вопросом, беспокоящим моих родителей, было: удастся ли мне в этом году восстановиться в университете.
Будущее чарбахцев
Поскольку в этой главе я закрываю тему Чарбаха, хочу сказать несколько слов о дальнейшей судьбе своих земляков по этому славному месту.
Как ни грустно это сказать, большинство из них, в отличие от меня, не очень привязались к Армении. Начать с того, что их не так увлекла работа, как это случилось со мной (о чём смотри дальше). Не завязалось таких тёплых отношений со здешними людьми. А интерес к стране не входил в число существенных ценностей – да просто и не было такого интереса. Не оправдались и надежды на относительно высокую зарплату, карьерный рост и квартиру. Через какое-то время общим тоном стали жалобы: жить трудно, денег мало, на работе в начальство не пробиться, лучшие места занимают армяне и тому подобное. Сначала мы шутили над неустройствами нашей жизни в Чарбахе, но со временем эти шутки становились всё злее.
Тем временем ЭВМовские институты и вычислительные центры в стране возникали и росли с большой скоростью, специалистов не хватало, перед людьми, имевшими хоть какой-то опыт в этом деле, открывались широкие возможности, их охотно переманивали на новые места. Так случилось и с большинством моих чарбахских коллег. Институт их не удерживал, к тому времени очень быстро выросли местные, армянские кадры.
Так что уже через два-три года приезжих специалистов в Институте почти не осталось. Разъехались в основном по двум направлениям. Те, кто был из Ростова, туда и вернулись. Пожалуй, большинство наших ребят (из упомянутых – Костю Каспарова) сманил вскоре открывшийся большой институт в Минске, предложивший (а впоследствии и предоставивший) хорошие условия и перспективы роста. Володя по кличке Джузеппе (о нём ещё будет идти речь) вернулся в Ленинград.
Мы не хотели терять друг друга, некоторое время переписывались. Даже через много лет, в начале эпохи независимостей Костя побывал у меня в гостях в Киеве, а я у него в Минске. Но сейчас и это уже вспоминается как далёкое прошлое.
Целина
Лето 1957 года я встречал в грустном настроении. Впервые с начала моей самостоятельной жизни (т. е. со времени поступления в университет) мне не светили ни альплагерь, ни поход. Просто не полагалось отпуска – в соответствии с трудовым законодательством, первый отпуск можно было получить только через год работы.
Так что, когда возникла перспектива поездки на целину, я с радостью за неё ухватился. Поработать на целине я был не прочь и раньше, в студенческие годы. Но тогда передо мной был выбор – целина или поход, и я всё же выбирал второе. А сейчас выбор выглядел иначе – целина или обычные институтские будни.
Это были первые годы освоения целины, и власти, как было принято, делали упор на энтузиазм. Каждое лето звучал очередной комсомольский призыв, т. е. «предложение, от которого невозможно отказаться», и масса комсомольского народа, учащегося или рабочего, на несколько месяцев съезжалась на уборку урожая. Одни ехали туда охотно и с интересом, как мой друг Серёжка Яценко, другие не слишком охотно, но каких-либо протестов не звучало. Моя же поездка носила чисто добровольный характер – комсомол не мог обратиться к моей сознательности, поскольку я был ему неподведомствен.
Наш целинный отряд сформировали из рабочих парней каких-то окраинных заводов. Так что я оказался среди товарищей белой вороной – единственный русский, единственный интеллигент. Кое с кем из них, типичной мелкой шпаной, у меня даже возникали мелкие конфликты, но меня взяли под покровительство более серьёзные ребята.
Несколько дней мы ехали в теплушках. Приехали в Кустанайскую область, на севере Казахстана, где поселились в совхозной усадьбе.
Хотелось бы сейчас побольше вспомнить об этих двух месяцах, да не могу. Главное впечатление – бесконечная голая степь. Среди этой степи село средней величины с избами и дворами достаточно аккуратными, что объясняется составом населения: примерно половину его жителей составляли ссыльные немцы. Другая половина – ссыльные же ингуши. Казахов в этом селе за всё время мы встретили только нескольких человек.
На краю села совхозная усадьба, в которой мы все и жили. Как спали, как питались – провал в памяти. А вот с «природными условиями» нам повезло: рядом было озерцо, совсем маленькое, но всё же можно было смывать с себя грязь и пыль, что, по рассказам многих целинников, представляло в этих местах немалую проблему.
Из работ запомнилось скирдование – под жарким солнцем голый по пояс длинными вилами бросаешь солому на огромную скирду. Да ещё заготовка кормов на кукурузном комбайне, когда на корме грузовика разбрасываешь сыплющийся сверху кукурузный силос. Работа была не слишком изнурительной. Во всяком случае, оставалось время для чтения – в сельской библиотеке я взял Флобера. Там была симпатичная юная русская библиотекарша, за которой я пытался робко ухаживать. Настолько робко, что это даже не привлекло внимания её мужа, свирепого ингуша, известного тем, что за предыдущим заезжим ухажёром гонялся с топором.
Живущие здесь немцы на немцев уже совсем не были похожи. Простая одежда, девушки в платочках, русские лица, как будто и свой язык призабыли. Но и на русских мужиков и баб не смахивали, что-то в них было фермерское. И почему-то почти одни женщины, мужчин вообще не могу вспомнить – куда они подевались? То ли дело ингуши – у тех женщины сидели по домам, а видели мы только лихих парней.
Очень мне хотелось услышать о судьбе этих немцев, которые в то время ещё не имели права выезда отсюда. Но откровенного разговора не получалось, они крепко держали язык за зубами. От одной пожилой немки я всё же услышал редкий в ту пору рассказ, как их в одну ночь погрузили в вагоны и привезли сюда. Везли зимой в теплушках, дети мёрзли и мёрли. Рассказывала она отстранённо, без эмоций, но факты говорили сами за себя.
На целине мне удалось повидаться с университетскими товарищами. Из переписки с некоторыми из них я знал, что в этом году они большой группой приехали на целину. И оказались здесь, по целинным меркам, поблизости – километрах в 200-300 от меня. Я отпросился на несколько дней у своего начальства.
Добирался на попутных грузовиках. Дорога заняла около суток или полутора в каждую сторону, причём значительную часть её – ночными рейсами. Был там у меня один забавный эпизод. Один из шоферов высадил меня на подъезде к казахскому селу. У конторы я увидел большую группу казахов – кажется, первый и последний случай, когда увидел их много сразу. Я стал выяснять у них, как отсюда можно уехать, но не тут-то было. Казахи смотрели на меня с явным подозрением, потребовали документы и стали подробно расспрашивать, кто я, откуда и зачем. Что бы я ни говорил, это вызывало подозрение. Услышав, что я приехал на машине, потребовали назвать номер машины. «Я не помню номера». Тут они поймали меня на противоречии: «Как же ты говоришь, что математик, а не помнишь номера машины». В общем, по всем приметам выходило, что я шпион. Заперли они меня в погребе, но всё же дали поесть – лепёшки и арбузы. Судя по всему, после этого долго совещались. И как ни странно, результаты обсуждения оказались благоприятными для меня. Отперли дверь, выпустили и сказали: «Езжай».
Приехав на место, я увидел, что здесь была практически вся «группа Арнольда». Мы ночь напролёт беседовали обо всём на свете, строили планы дальнейших встреч и походов. Для меня было большой радостью снова оказаться среди старых друзей, которые меня помнят и любят.
Где-то в сентябре время нашего пребывания на целине кончилось. Оказалось, что мы даже что-то на этом заработали. Во всяком случае, не так плохо заработали некоторые мои армянские сотоварищи, которые сумели заранее сосчитать, где работать выгоднее, договориться с бригадиром и т. п. (Можете рассматривать это как похвалу в адрес «партии и правительства», которые иногда не забывали заинтересовать людей материально. Только не студентов – тем оставался чистый энтузиазм). В этом плане я не оказался в числе самых успешных. Вручили нам и по благодарности от ЦК ВЛКСМ, которая моим соседям была ни к чему, а я в дальнейшем пробовал ссылаться на неё при попытках восстановления в университете.
Глава 2. Знакомство с Арменией
Говоря о времени моего пребывания в Армении и особенно о его первом периоде, необходимо рассказать об одной очень важной составляющей моей внутренней жизни. Это был жгучий интерес к стране, желание поближе её узнать. И по мере того, как я её узнавал, моё сердце наполнялось любовью.
Этнический состав
Оказавшегося в Армении приезжего, славянина всё здесь должно было поражать. Напомню, что из всех республик Союза Армения была наиболее моноэтничной. Не помню точно цифр, но армяне составляли здесь более 90%, чуть ли не 95%. Сравните с оккупированной в 1940-м году Латвией, куда советская власть завезла столько русских, что они составили половину населения (что и местные, и бедные потомки приезжих расхлёбывают по сей день). Похожая политика проводилась и в других республиках. Не могу понять, как этого избегла Армения. И вообще Армению не коснулась политика массовых внутрисоюзных переселений. («Русская колония» Чарбаха была редким исключением). Переселение здесь было другое – на родину возвратилось много репатриантов, то есть жертв геноцида и их потомков, привезя язык, а зачастую и нравы западных стран. Немногочисленные не-армяне тоже были не чужие, а жили на этой земле столетия. Интересно было встретить их на ереванских улицах. Вот дворники – типичные русские мужики с бородами – это молокане, потомки бежавших в XIX веке от преследований православной церкви. Подметальщицы улиц – курдские женщины в ярких красных платьях с зелёными и синими лентами. Чистильщики обуви – обязательно айсоры (ассирийцы), интересно, где они ещё сохранились. А где-то на Севане – азербайджанские деревни.
По указанным причинам на ереванских улицах, в транспорте, в магазинах звучала в основном армянская речь, хотя русский все горожане понимали – кто лучше, кто хуже. Не берусь сравнивать с другими республиками, но с Украиной в этом плане контраст был разительный. Хотя, среди интеллигенции, в том числе среди моих будущих знакомых, было немало русскоязычных семей, то есть таких, где общение шло преимущественно на русском.
Нравы
Удивляли нас и многие особенности здешних нравов. Совершенно ошеломляющим был, например, такой обычай: в очередях магазинов мужчины и женщины стояли отдельно – и продавец отпускал то одной, то другой очереди. На улице парень и девушка, идя рядом, не могли взяться за руку или идти под руку. Появиться женщине одной в ресторане или в кафе было неприлично; когда наши девушки там появлялись, на них косились, а официантки намекали на неприличие такого поведения. О строгости нравов свидетельствовал и мой собственный опыт. Когда я пригласил в кино понравившуюся мне девушку, мою сотрудницу, она долго колебалась, потом приняла приглашение, но сообщила, что идёт в кино с молодым человеком впервые. Тут я сообразил, что в здешних местах таким приглашениям придаётся весьма серьёзное значение и что мне следует вести себя осмотрительнее. А про себя не без досады продекламировал:
Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.
Правда, как раз первые годы моего пребывания в Ереване были периодом смены нравов: уже через несколько лет исчезли раздельные очереди в магазинах, а через пять лет, когда пришла пора моего отъезда, пары на улицах запросто ходили под руку.
Вина и коньяки
Не менее странным для приезжего из России было и другое – отсутствие пьяных на улицах. В магазинах никто не покупал водки. Она, в общем-то, не во всех магазинах и была – не было спроса. Но в любом доме, где нам доводилось побывать, на столе были коньяки и вина. Создавалось впечатление, что армянин не садится без них за стол.
Тут вспомню один эпизод. В нашем общежитии жила простая армянская семья – рабочего из нашего института. Однажды вечером я с кем-то из приятелей зачем-то к ним зашёл. Бедность обстановки бросалась в глаза. Они ужинали, конечно, пригласили нас, мы не без труда отказались. Молодая женщина грудью кормила младенца, одновременно пригубливая из рюмки коньяк. Мы поинтересовались, не вредно ли это для него. «Зачем вредно?» – ответила молодая мать, в подтверждение этого мнения поднеся рюмку к ротику младенца, и наверняка пара капель ему досталась.
Кстати, о вине. За пределами Армении армянские вина неизвестны. Их мало, их не вывозят, а обидно. Я очень любил некоторые из них, прежде всего «Воскеваз» и «Эчмиадзин». У них совершенно особый вкус, отличный от грузинских, качества которых общеизвестны. Вина этих двух стран отличаются так же, как пейзажи и национальные характеры: грузинские вина лёгкие и искристые, а армянские – суровые и задумчивые. Жаль, что уже за моей памяти лучшие из этих вин становились всё большей редкостью. Боюсь, что сейчас их нигде не найти.
Вообще в этой сфере произошли большие перемены, и не к лучшему. Когда я побывал в Ереване в середине 60-х годов, я с огорчением встретил на улицах пьяных. Разумеется, не столько, как в России, но всё-таки. Один из них, распознав во мне приезжего, тот час же в знак своей любви к таковым стал дарить мне бутылку водки. В этот приезд полки магазинов уже ломились от водки, а вина и дешёвые коньяки с них исчезли.
Национальное сознание
Я рассказал о бросающихся в глаза необычных нравах. Но это только часть главного впечатления, возникшего в первые же дни, – впечатления, что я живу среди другого народа. Высказанная мысль звучит тривиально, но воспринималось-то это не на рациональном уровне, а на каком-то глубинном, служа основой для восприятия окружающих меня людей и явлений. Где бы в России и на Украине я ни бывал раньше – мне никогда ни приходило в голову, что я не у себя дома. А здесь сразу стало ясно: я в другой стране, я – гость. (Собственно, нечто подобное было во время прошлых кратких наездов на Кавказ, но именно из-за своей краткости не воспринималось так глубоко). И только здесь я с первых дней понял, что такое национальный характер. Мне никогда раньше не приходило в голову воспринимать окружающих меня русских, украинцев, евреев как представителей своих наций, каждого из них я воспринимал только как отдельное лицо, хорошее или плохое, интересное или неинтересное. Здесь же я каждого воспринимал как армянина, человека особой нации, объединённого с соотечественниками общими традициями, общими представлениями, общими мифами, общими чертами характера. Такому восприятию способствовала одна особенность армян – обострённое чувство своей национальной принадлежности. В этом отношении они не оригинальны, это свойственно, например и грузинам, но в массе совершенно не свойственно русским и украинцам. Здесь каждый воспринимал себя в первую очередь именно как армянина, связанного тысячами нитей со своей страной, её историей и культурой. Многие проявления этого вызывают уважение, как культ выдающихся деятелей прошлого. Бывает, что перечисление достижений армян в разнообразных отраслях деятельности, в самых разных странах и на всех континентах приобретает несколько комический характер именно благодаря неуместной увлечённости собеседника, но не припомню таких уродливых проявлений патриотизма, как раздающиеся у нас в последние годы утверждения об украинском происхождении Иисуса Христа.
Особая тема – боль, которой в душе каждого армянина отзывается память о геноциде, как будто вписавшаяся в его гены, да и в воздух самой Армении. Я услышал о геноциде едва ли не в первые дни пребывания в Армении и слышал потом тысячи раз как о событии, хорошо известном каждому армянину. Едва ли не каждый мог назвать своих уничтоженных родственников и в подробностях рассказать ужасы этого преступления. Полтора миллиона замученных соотечественников навсегда перед их глазами, они этого не забудут и не простят. Я тоже. Много лет потом армяне добивались от советской власти права на публичную скорбь по своим погибшим, пока, наконец, не добились сооружения величественного монумента в Цицернакабердском парке. Он никогда не пустует, и каждый год 24 апреля, в День геноцида там в молчании стоят толпы народа.
(Какими жалкими выглядим рядом с этим мы, русские и украинцы, не способные на такую память! У нас убили и замучили десятки миллионов людей, а многие ли о них вспомнят?)
Привычное осознание собственной национальной принадлежности приводит к тому, что армянин зачастую проявляет повышенный интерес к национальности собеседника, как бы рассматривая его в первую очередь как представителя своей нации. Человек, к которому ты обратился на улице, или продавец в магазине могут первым делом тебя спросить: «Ты кто по национальности?» И после твоего ответа заявить: «О, я люблю украинцев (или русских, или евреев)». И говорит он это совершенно искренне. Это довольно распространённое начало знакомства.
Такое восприятие мира сквозь призму национальностей имеет ещё одно следствие. При контактах с приезжим человеком другой национальности армянин рассматривает его как гостя своей страны, а себя – как её представителя. Отсюда сознание своей повышенной ответственности. Гостя нельзя обидеть – иначе он обидится на Армению. У гостя должно остаться доброе чувство к тебе – это будет чувство к Армении. С этим сталкиваешься на каждом шагу, иногда в забавных условиях. Чуть выше я писал о пьяном, дарившем мне как гостю бутылку водки.
Запомнился мне и другой забавный случай. Как-то достаточно поздно вечером я гулял по Еревану с упоминавшейся армянской девушкой – вскоре после того, как она впервые пошла в кино с молодым человеком. В довольно тёмном месте на бульваре между улицами Московской и Исаакяна (тогда она называлась как-то иначе) к нам подошла группа хулиганов с явно недружественными намерениями. Один из них обратился ко мне:
– Ов эс? Инч эс анум стэг'? (Ты кто? Что здесь делаешь?)
– Украинаци эм. hима Ереванум эм апрум, Мергеляни институтум ашхатум эм. (Я украинец. Сейчас живу в Ереване, работаю в институте Мергеляна).
– Хорошо, – перешёл он на русский, – мы любим украинцев, гуляй.
Начав здесь писать об армянском национальном характере, я, конечно, не собираюсь максимально раскрывать эту тему. Скажу только, что многое в нём мне импонировало. Нравился общий стиль общения с людьми, открытость, доброжелательность, гостеприимство. Лёгкость, с которой с ними находишь общий язык. Постоянно чувствуемое положение гостя страны. И всё это создавало атмосферу праздника жизни. «Праздник, который всегда с тобой». Если для Хемингуэя это был Париж, то для меня – Ереван. Здесь мне дышалось легче, чем где-либо в других местах.
Однако я слишком нарушил хронологическую последовательность. Пора вернуться к моим первым месяцам в Ереване – зиме и весне 1957 года.
Мои языковые занятия
Армянским языком я занялся с первых же дней, всячески эксплуатируя своих милых учительниц Нелли и Джули, о которых писал выше. Для начала выучил алфавит, склонения и спряжения (к слову сказать, исключительно логичные и потому удобные для заучивания), а потом понемногу стал набирать словарный запас. Так я обучался все годы своей жизни в Ереване, расспрашивая других коллег, преимущественно женского пола, и они всегда, по-доброму улыбаясь, охотно и обстоятельно всё объясняли. (Мельчук говорил: «Нет лучшего способа выучить язык, чем общаясь с милыми девушками»). И всё же я сумел овладеть армянским только на минимальном бытовом уровне – так, чтобы объясниться в магазине, на базаре, в трамвае, прочесть объявления, обменяться фразами с незнакомым человеком. Так и не научился читать не то что художественную литературу, но даже газеты – не хватало словарного запаса. Правда, среди своих приезжих товарищей я слыл знатоком армянского – они владели им хуже. (Существенно обошёл меня только Игорь Заславский, о котором речь впереди). И моих познаний было довольно, чтобы вызывать симпатию самих армян. Стоило сказать незнакомому собеседнику пару ломанных слов, он расплывался в улыбке и восклицал (по-русски): «Как, ты говоришь по-армянски!»
В этом отношении нашим русскоязычным армянам, например, Косте Каспарову, было куда тяжелее. Если Костя на том же ломаном языке говорил те же слова, что и я, или, что хуже, не мог ответить на армянскую речь, его спрашивали с укоризной: «Ты что, не армянин?» И ему приходилось признаваться: таки армянин.
Знакомство по книгам
Пытался я познакомиться с Арменией по книгам, но об этом много не расскажешь.
Какой-то минимум знаний по истории Армении я почерпнул из принесенного мне школьного учебника, и здесь, конечно, был много слабее любого армянского школьника, впитавшего эти знания с молоком матери.
А потом стал искать переводы армянской литературы в библиотеке на улице Амиряна. К сожалению, с этим было не густо. В то время главным источником знакомства русскоязычного читателя с армянской поэзией был книга «Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней в переводах русских поэтов», вышедшая в 1916 году. Год издания позволяет представить исторический контекст: русское общество, как и весь цивилизованный мир, ужаснулось учинённой турками неслыханной резне целого народа; откликом русских поэтов стала попытка показать древность и богатство его культуры. Главная заслуга в подготовке книги принадлежала её редактору Валерию Брюсову. Не забывающие добра армяне очень чтят Брюсова, называют его именем библиотеки, школы и институты. Наверное, переводы достаточно точны, но, на мой взгляд, их поэтический уровень оставляет желать лучшего – за исключением, пожалуй, «Абу Алла Маари» Аветика Исаакяна. Сейчас любитель армянской поэзии в лучшем положении – к его услугам, в частности, прекрасные переводы Гребнева в БВЛ.
Гораздо больше мне подошла книжечка со стихами Теряна:
В ночной тишине чей шёпот шуршит?
То ветка в окне качнулась, стеня?
Иль это призыв далёкой души
И думаешь ты с тоской про меня?
Мне настолько понравилось это стихотворение («Шёпот и шорох»), что я послал его Юре Манину, который, однако, воспринял его довольно сдержанно, заявив, что хорошо бы ознакомиться с оригиналом, для чего нужна запись русскими буквами и подстрочник. А на это у меня уже не хватило запала.
Что касается прозы, то переводов дореволюционной было мало – разве что Раффи. А произведений советского периода мне читать не хотелось – за едва ли не единственным исключением неплохого, но скучноватого «Царя Папа» Зорьяна.
Ереван
Конечно, я с большим интересом знакомился с Ереваном. Какой своеобразный город, не похожий на города в какой-либо другой стране. Его особенность в том, как здесь соединялось новое со старым.
При всей своей древности, составляющей предмет гордости его жителей, до революции Ереван был жалким провинциальным городком, от которого почти ничего не сохранилось. Но сохранившееся производит впечатление: во внушительном здании из тёмного туфа, где сейчас (т. е. в 1957 году) коньячный завод, впервые было поставлено «Горе от ума» в присутствии самого автора; а вот на проспекте Сталина старая мечеть – до революции здесь было немало мусульман. И главный памятник старины – Конд, огромный кусок старого бедного восточного города: перепутанные улицы, жалкие крохотные глинобитные хибары, без всякого плана, без всяких удобств. Для меня, праздношатающегося, экзотики хоть отбавляй – и я частенько хаживал по его закоулкам. Через несколько десятилетий туда вломились новые стройки, и, наверное, сегодня, от этой экзотики ничего не осталось – вряд ли об этом жалеют местные жители. А из Конда по улице Фрика выходишь к туннелю, ведущему в ущелье Раздана, тогда ещё зачастую называемого тюркским именем Зангу. Здесь каньон глубиной в несколько сотен метров, путь вдоль отвесных слоистых рассыпающихся скал (как же они грамотно называются? сталактиты?), где-то высоко над каньоном нависают кажущиеся крохотными домики (в одном из них мне ещё предстояло жить).
Но основная часть – новый город. Мне кажется, едва ли не единственный в Союзе действительно красивый город, построенный после революции. Весь из светлого туфа, розового или светло-кофейного цвета. Чёткая планировка, хорошо организованное пространство. В центральной части – прекрасная архитектура, богатый орнамент зданий. Перед школами – бюсты писателей: перед русскими – Пушкина и Чехова, перед армянскими – Туманяна и Чаренца (этот появился уже позднее). (Кстати, школы в Ереване и называли не по номерам, а по именам: «школа Пушкина», «школа Туманяна»). Но всё это в процессе постройки и прокладки улиц, новые здания ставятся на место старых, и пока соседствуют с ними. В самом центре на улице Спандаряна ещё полно домов и дворов конца XIX века – конечно, не таких убогих, как в Конде, а респектабельных в своё время купеческих домов, но какими жалкими они выглядят сегодня. А рядом с центральной площадью Ленина я наткнулся на совсем интересный топографический феномен: тупичок, застроенный старыми лачугами, именовался «2-й тупик Ленина».
Любил я заходить в художественный музей, где наиболее интересовался художниками XIX века – привычная реалистическая школа, но армянская тематика: армянские пейзажи, армянская история («Царица Шамирам оплакивает Ара Прекрасного»), тема геноцида. И, конечно, множество картин великого армянского художника Айвазовского.
А совсем недалеко от Чарбаха над нижним течением Раздана – Кармир-Блур (что значит «Красный холм») с раскопками древней урартской крепости Тейшебаини VII века до н. э. (Кто постарше – помните в «Истории СССР» свидетельство древности нашего общего государства?) Походил я по этим развалинам, пытался проникнуться сознанием «глуби веков». Но что там увидит профан?
Окрестности Еревана
С началом весны я как истый турист стал расспрашивать армянских коллег: а какие воскресные походы можно предпринять в окрестностях Еревана? Мне охотно рассказывали, и я с увлечением этим занялся. Собственно, почему я эгоцентрически пишу «я»? Увлечение такими экскурсиями охватило многих чарбахцев, а я был всего лишь одним из них.
От московских воскресных походов наши выезды отличались, прежде всего, тем, что почти не предполагали пешего движения. Главным их содержанием был осмотр достопримечательностей – чаще всего, исторических и архитектурных памятников – чем в Подмосковье как раз не занимались (добавлю – зря не занимались). В отличие от Подмосковья, мест для выездов здесь было крайне мало, их можно было перебрать на пальцах одной руки. Традиционными для нас стали четыре, о которых сейчас расскажу. И так как поехать в такую экскурсию хотелось каждый выходной, то в каждом из них мы побывали по нескольку раз уже весной, а за годы моего пребывания – вообще бесчисленное количество раз.
В первых выездах нас чаще всего сопровождал кто-нибудь из местных. Тогда и добраться было легче, и на месте он мог дать нужные пояснения – историю здесь знал каждый. Ну и ещё: если с нами ехали несколько армян, обязательной частью путешествия становился шашлык (по-армянски – хоровац) и вообще застолье на поляне – с вином, зеленью, сыром, солёностями и всем, что полагается.
Эчмиадзин
Первой для нас была поездка в Эчмиадзин, город, где расположена резиденция католикоса. Вот ведь как интересно – кафедральный собор Эчмиадзина оказался первым действующим храмом, в который я вошёл в своей сознательной жизни. Слабо припоминается посещение церкви в Киеве при немцах, но это не в счёт. После этого в украинских городках, где мы жили, вроде бы и не было действующих церквей, во всяком случае, я о них не слышал. Не интересовался этим и учась в Москве – тогда даже к памятникам церковной архитектуры не было общественного интереса. И вот попадаю в Эчмиадзинский собор. Идёт богослужение. Церковное пение. Красивые росписи. В соборе много людей, свободно входят и выходят. И я могу с ними стоять и слушать, никто меня не гонит. (Мне-то казалось, что перед церквями милиция следит, чтобы не вошёл никто, кроме старушек). В церковном музее глаза разбежались от накопленных за века (и не отобранных большевиками!) драгоценностей армянской церкви. Молодой монах давал объяснения на хорошем русском языке.
Потом мы осмотрели собор снаружи, а заодно и три расположенные поблизости церкви, носящие имена трёх святых девушек: Рипсимэ, Гаянэ и Шогакат. Наши армянские спутники рассказывали нам их историю. Все эти первые увиденные в Армении храмы произвели сильное впечатление – не берусь передать его словами. Со временем такие строгие каменные храмы с высеченным искусным орнаментом стали для меня привычными и узнаваемыми, как бы частью самой армянской природы. Рядом с храмами стояли хачкары – высеченные в камне кресты с богатым орнаментом. Впечатляло и дыхание древности – храмы Эчмиадзина были построены где-то веке в 7-ом. А христианство Армения приняла в 301 году – наши гиды не преминули сообщить нам об этом. Шутка ли – первое христианское государство в мире!
Под влиянием этой поездки и по последующим разговорам у меня сложилось впечатление, что церковь в Армении пользуется гораздо большим влиянием и уважением, чем в наших краях. В разговорах упоминали её часто, и всегда уважительно. Чуть ли не все армяне, кого я знал, по многу раз бывали в Эчмиадзинском храме (снова же – какой контраст с моими соотечественниками). Где-то я увидел фотографию церковного совета – такие серьёзные, почтенные люди, среди них Аветик Исаакян, знаменитый поэт, живой классик. (Хотел бы я посмотреть на церковный совет с участием Павла Тычины!)
После этого мы ездили в Эчмиадзин довольно часто – благо, он расположен близко, и к нему шёл удобный автобус. Привлекали нас не только храмы – в нём был едва ли не единственный в окрестностях Еревана плавательный бассейн. С наступлением жары хорошо было день провести у бассейна, плавать, загорать, прыгать с трамплина. В выходные дни обитатели Чарбаха составляли значительную часть посетителей бассейна.
Гарни и Гегард
Следующими местами, куда нам советовали поехать, были Гарни и Гегард.
Гарни находится километрах в 30 от Еревана. Автобус туда отправлялся от точки над маленькой речушкой Гетар, рядом с памятником Абовяну. Старый маленький автобус, всегда набитый крестьянами. Гарни – довольно симпатичная деревенька. Интерес же в ней представляли развалины древней (I века) крепости и ещё более древнего языческого храма (II века до н. э.). Языческий – имеется в виду храм римским богам. (Армения была достаточно тесно связана с Римом). От крепости сохранились остатки стены, а от храма, развалившегося от землетрясения в XVII в., – каменные глыбы, из которых он был построен. Через несколько десятилетий храм был реконструирован – собраны старые камни, где не хватало, дотесали новых, и сейчас над рекой Азат стоит небольшой и очень изящный языческий храм – на мой взгляд, очень здорово. И с этого места открывается замечательный вид на Азат, текущий глубоко внизу, на другой берег с камнями и деревьями. Однажды мы с Володей Григоряном заночевали прямо на развалинах храма – просто ради того, чтобы прочувствовать, а потом похвастаться: вот где ночевали.
Если отсюда идти вверх по маленькой речушке, притоку Азата, то километров через 10 придёшь в Гегард. Вполне приятная для туристов дорога, красивые места. Но поначалу мы ещё этого не знали, и ездили в Гегард на попутных машинах. Гегард – святое место, действующий монастырь. К нему совершаются паломничества, случалось видеть, как пожилые люди последние сотни метров ползут на коленях. За сотню метров до ворот старое дерево увешано огромным количеством ярких лоскутов – такова религиозная традиция, я не берусь объяснить её значение. Интересно, что с такой же традицией мы встречались в Средней Азии, т. е. у представителей совсем другой религии. Другая здешняя традиция выглядит совсем по-язычески. На большие праздники режут баранов, и какая-то деталь такого барана относится в храм в качестве жертвы, а основные его части идут на шашлык, который тут же готовится и съедается. Нам неоднократно случалось это видеть.
Но не меньше впечатление производит сам храм XIII века. Пройдя через ворота, видишь красивую церковь, как бы вырастающую из скалы. Замечательная скульптурная отделка: абстрактные узоры, виноград, птицы, быки. Но главное – храм действительно выбит внутри скалы; точнее – выбита большая его часть, в ней колонны, сталактиты, узоры. И к ней пристроена лицевая часть храма. Если же выйти из церкви и подняться вдоль скалы, ты увидишь ещё один вход, за которым другое помещение, расположенное ярусом выше. Это церковь (или часть церкви?) выбита в скале уже целиком. В её полу небольшое отверстие, и наклонившись над ним, видишь внутренность первой церкви – ты теперь оказался над ней.
Севан
И, наконец, четвёртым местом нашего паломничества было озеро Севан. Оно в 60 километрах к северу от Еревана, и автобусы туда уже не ходят – остаётся поджидать грузовых попуток в начале Тбилисского шоссе. Ехать туда 2 часа. Дорога, откровенно сказать, мало интересна. Ждём, когда, наконец, откроется Севан. И вот он распахнулся, огромный. Совершенно голубая вода. Берега, суровые, как вся здешняя природа. Камни, скалы. Наша цель – Остров, называемый так по старой памяти. Сейчас это полуостров, таким он стал после пуска Севанской ГЭС, отчего уровень озера опустился на добрый десяток метров. Обмеление Севана – рана в сердце каждого армянина, каждый, поглядев на озеро, сокрушается: загублена такая жемчужина родной природы. Об обмелении не даёт забыть тянущаяся по береговым скалам белая известковая полоса, отмечающая старый уровень озера.
На Острове тоже есть маленькое здание старого храма, но мы приезжали сюда не ради этого. Мы приезжали загорать и купаться. Солнце здесь жаркое, горное – высота Севана 1914 метров. (Кстати, высота самого Еревана – около 1000 м). И очень холодная вода. Однажды я по неосторожности проплавал в нём полчаса, и после этого лежал на камнях на солнце, и дрожь меня била около часа. А вообще такое сочетание мне очень нравилось – жаркое солнце и совершенно холодная вода.
Идеологический климат
Что мне ещё стоит рассказать из ереванских впечатлений моего первого периода – полугода до середины лета?
Разве что о том, насколько оправдалась моя надежда «укрыться от твоих пашей». Действительно, я, человек повышенно чуткий к идеологическому климату, сразу почувствовал, что здесь этот климат совершенно другой. Где-то были какие-то парткомы, но я их не видел. Не было идеологических собраний, не было промываний мозгов. Все вокруг вели себя так, как будто никакой советской власти не было – во всяком случае, в её идеологической ипостаси.
Казалось бы, я, «опасный инакомыслящий», исключённый за это из университета, должен бы внушать подозрения, меня должны перевоспитывать. Ничуть не бывало. Эти проблемы вообще никого здесь не интересовали. Бросалось в глаза различие в оценке моей ситуации приезжих и местных коллег. Приезжие, конечно, с первых слов всё понимали и качали головами: далось же тебе сражаться с ветряными мельницами; радуйся, что тебе мало досталось. Местные же слушали с ехидным недоверием – дескать, не втирай нам очки, какая там политика, где это слыхано, чтобы из университета исключали за политику. Всем известно, что исключают больших бабников, так бы и рассказал, тут нужно не стесняться, а гордиться.
Но повторяю – я впервые в жизни почувствовал себя живущим как бы без советской власти. Уже ради одного этого стоило поселиться в Армении.
Небольшое отступление. Так же, как я здесь понял и прочувствовал, что нет одного советского народа, а есть много разных и сильно различных, я понял и то, что нет и одной советской власти, а есть московская советская власть, украинская советская власть, армянская советская власть. И, по известному выражению, каждый народ имеет ту власть, какую заслуживает. По-видимому, армянский народ заслужил много лучшую советскую власть, чем мы. Советскую власть «с человеческим лицом». Интересно бы порассуждать, почему это так, но здесь не место. (Впоследствии я увидел, что хорошую советскую власть заслужили, например, и литовцы).
Похороны Исаакяна
Огромное впечатление произвели на меня похороны Исаакяна. В одно летнее утро мои армянские коллеги были в печали: «Вчера умер Аветик Исааякян. Сегодня похороны». Среди дня мы вышли из нового здания института на угол в начале улицы Орджоникидзе. И увидели бесконечную траурную процессию. Несмотря на жару, многие были в чёрном, на рукавах траурные ленты. Непривычное для здешней толпы молчание, ощущение общего горя. Мы прошли вместе со всеми несколько кварталов к открывающемуся пантеону в парке Комитаса. (Кажется, это было одно из первых захоронений). Я шёл и думал: «Можно ли представить у нас подобные похороны, например, того же Тычины? Доживу ли я когда-нибудь до того, что и у нас так будут хоронить поэтов? И что будут поэты, которые этого достойны?» (По счастью, дожил. Так хоронили и Твардовского, и Высоцкого. К сожалению, мне не довелось этого увидеть).
Маджар
Добавлю ещё впечатление другого рода, правда, чуть более позднее. Ранняя осень, кончилась уборка винограда. Вся Армения готовит вино. Рынки переполнены молодым вином – маджаром. Этому вину несколько дней, на вкус и по крепости это нечто промежуточное между вином и виноградным соком. Удивительно вкусно! И стоит гроши. Мы с товарищами идём по рынку с большими бутылями. Покупка маджара – серьёзная процедура. Никто не ожидает, что ты подойдёшь к первому же продавцу и сразу купишь, это было бы нарушением обряда. Нет, нужно подойти, выпить по небольшому (грамм на 100) стаканчику, похвалить вино и идти к следующему. Потом, пройдя ряд человек из 10, решаешь, кто из них лучше, беседуешь с ним, покупаешь литров 5, и идёшь домой в хорошем настроении и с сознанием выполненного долга – до следующего воскресенья.
Армения – не Эстония
Хочу кончить одним сравнением. Недавно мне довелось прочесть двух авторов, живших в советское время в Эстонии: Сергея Довлатова и Петра Вайля. У обоих меня поразила общая атмосфера этой жизни. Так и кажется, что оба русских жили в чужой и недружественной среде: внешне вроде всё хорошо, все вокруг вежливы, но между русскими и местными людьми стена. Общество разделено на две непересекающихся общины, своего рода апартеид. Нечто подобное я слышал от своей знакомой, жившей в Латвии. (Не хочу, чтобы сказанное прозвучало как упрёк в адрес эстонцев и латышей. Их отношение было естественной реакцией на действия советской власти, пришедшей в их страны на танках и затопившей их массами пришлого, этнически чуждого населения, да и на поведение этих пришельцев, не отдававших себе отчёта в том, что они оказались нежеланными гостями, своего рода заложниками в чужой стране).
Поразило же меня это контрастом с тем, что я видел в Армении. Здесь ты жил явно в другой стране, это ощущалось, но в стране дружественной, и очень дружественной. Стране, где нет границ между тобой и местными людьми. Надеюсь, что такой она будет всегда!
Глава 3. Машинный перевод
Предложение Мергеляна
Уже в первые месяцы после возвращения с целины в моей служебной карьере произошли головокружительные изменения, во многом определившие дальнейший жизненный путь.
С моим директором Сергеем Никитовичем Мергеляном у меня сложились особо доверительные отношения. То ли мы оба чувствовали солидарность, как люди, причастные к мехмату МГУ, то ли взаимную чисто человеческую симпатию. Во всяком случае, я, в отличие от своих коллег, вёл себя с ним не совсем как подчинённый с начальником, а скорее как подающий надежды студент с молодым профессором.
Мне представляется, что в роли директора института Мергелян несколько заскучал. По характеру личности он не был начальником, не был организатором, а был математиком, кабинетным учёным. (Глядя вперёд, хочу высказать сожаление, что его вырвали из этого тихого кабинета. И окончилось довольно печально: роли директора и научного бюрократа перехватили другие, а в математику ему уже не хватило сил вернуться). Так вот через год без малого своего директорства Сергей Никитович стал подыскивать для своего института интересные научные задачи. Естественно, это не могла быть чистая математика, но не годилась и «чистая прикладнуха» типа машины для подводных лодок. Так внимание Мергеляна привлекла возникшая совсем недавно, а в Союзе появившаяся вообще в последние месяцы проблема машинного перевода.
А для занятия этой проблемой очень удачно подвернулся я – единственный в институте почти выпускник московского мехмата, а, кроме того, (без ложной скромности) человек с живым мышлением.
Так что в один действительно прекрасный день Мергелян пригласил меня к себе и предложил заняться машинным переводом. Я, конечно, с радостью согласился.
Не знаю, собирался ли поначалу Мергелян сам активно заниматься этой проблемой. Как бы то ни было, до таких занятий не дошло. В дальнейшем он интересовался, расспрашивал, иногда проводил что-то вроде семинаров. Но всё это не носило характер научного руководства. По существу вся работа была отдана на откуп нескольким главным исполнителям, первым по времени из которых оказался я. (Оборот «главные исполнители» означает здесь не формальный, а фактический статус).
Вскоре после этого разговора возник мой будущий коллега Владимир Маркович Григорян – Володя Григорян, с которым нам было суждено стать близкими друзьями. Кто его привлёк к машинному переводу? Наверное, тоже Мергелян. Но о нём речь впереди.
Работы по МП в Союзе
Здесь я должен рассказать о работах по машинному переводу (по принятому тогда сокращению – МП), которые велись в ту пору в Союзе и о которых я узнал несколько позже.
Идея машинного перевода возникла в США и разрабатывалась там достаточно серьёзно уже несколько лет. А в Союзе родоначальником этого направления, так сказать, «отцом советского машинного перевода» был Алексей Андреевич Ляпунов. Группа под его руководством начала работать в Москве где-то около года назад. Одновременно возникли и другие группы в Москве и в Ленинграде. Ереван оказался третьим городом в Союзе, где начались работы по машинному переводу, чем Мергелян и вывел свой институт на «передние рубежи науки».
Во всех этих научных центрах коллектив разработчиков формировался сходным образом – в него подбирались с одной стороны – математики, с другой – лингвисты. (Позднее получила распространение шутка, принадлежавшая едва ли не моей будущей жене Ирине: «Машинный перевод строится на союзе математиков и лингвисток»). Математики – для построения и программирования алгоритмов. Лингвисты, понятно, – для нахождения языковых закономерностей. И если подбор математиков осуществлялся по чисто профессиональным критериям – интерес к работе с алгоритмами, моделирующими интеллектуальную деятельность, то для каждого лингвиста приход в эту область был делом серьёзного личностного выбора. Это был, прежде всего, отход от господствовавших в их науке традиций: им предстояло открыто заниматься формальными методами изучения языка в то время, как само слово «формализм» в их науке было ругательным. В то время начали в этом смысле говорить о «структурных методах в языкознании», но и пришедший с Запада «структурализм» приводил в испуг филологических ортодоксов. Наши коллеги-лингвисты выглядели революционерами в своей науке. Открывателями нового направления – в этом они были уверены. Да и само слово «лингвист» употребляли с вызовом, отрекаясь от университетского названия своей профессии – «филолог». (Приведу популярную шутку их общепризнанного лидера Игоря Мельчука, о котором речь впереди: «Назвать лингвиста филологом – всё равно, что назвать еврея жидом»).
Все реально работающие по машинному переводу были молодыми людьми, только-только покинувшими студенческую скамью. Все были энтузиастами своего дела, а уж лингвисты по упомянутым причинам – вдвойне. А отдельные, наиболее «прогрессивные» учёные старшего поколения, тоже математики и лингвисты, отечески поддерживали их своим авторитетом, а иногда и руководили ходом работ, как упоминавшийся А. А. Ляпунов.
Московская командировка
Поначалу, конечно, следовало познакомиться с тем, что такое машинный перевод. По литературе это сделать было невозможно, потому что литературы на русском языке просто не было – за исключением недавно вышедшей книги переводных статей «Машинный перевод», которую я быстро прочёл. Единственная возможность войти в проблему – непосредственный контакт с отечественными пионерами МП в Москве. (Вариант Ленинграда не рассматривался, да и он бы был хуже). И я отбыл в Москву в длительную командировку.
Сколько я там пробыл? Наверное, месяца 3–4. Во всяком случае, осенью 1957 года я уже был в Москве – помню по впечатлению от воскресного похода по Подмосковью: листья опали, дождливо, туман, греемся у костра. Помню зимнюю Москву, по которой шёл в Институт русского языка. А уж апрель 1958-го я точно провёл в Ереване – об этом позже.
Жизнь у меня была в высшей степени вольготная. Я был полностью предоставлен самому себе. Учись, как знаешь, делай, что хочешь – отчёта никто не спросит. Два раза в месяц получал денежный перевод из Еревана – зарплата маловата, но мои потребности были достаточно скромны.
Я привык чувствовать себя живущим наполовину в Москве, что отразилось в шутливых стихах:
И думал я: “Доколе суждено
Мне прозябать от родины далече,
Не лить в бокал армянское вино,
Не слышать слов родной армянской речи?”
Жил я, конечно, снова у тёти Жени, теперь в другом месте, у метро «Красные ворота» – она сменила квартиру. Жили так же дружно, легко и хорошо, как и раньше.
Чуть ли не каждое воскресенье снова ходил в походы, и по-прежнему – со своим факультетом. Серёжа Яценко и Лёша Данилов, продолжая традицию туристского воспитания младших курсов, сколотили группу из первокурсников. Группа оказалась большой, дружной и, как оказалось позже, очень устойчивой: дружили и ходили вместе долгие годы, и многие связи между ними сохранились до сего дня. А в ту осень группа только складывалась, и было видно по всему, складывалась удачно. Я тоже ходил вместе с ними. Вообще было такое ощущение, что так и не покидал мехмат: те же друзья, те же новички, те же отношения, те же походы.
Горбаневская и Манин. У Глазунова
Я постоянно виделся со многими старыми друзьями.
Вот Наташа Горбаневская ведёт меня мимо церквушки у метро «Сокол» к себе в гости. Маленькая квартирка, кажется, вообще из одной комнаты, и эта комнатка завалена листочками, исписанным мелким аккуратным почерком. Это Наташины стихи. Она мне их читает, а некоторые я уношу с собой.
А вот я в блоке у Юры Манина, и он показывает мне картины Глазунова. Илья Глазунов в то время был опальным и непризнанным художником, настолько бесприютным, что ему негде было держать свои холсты. Большое количество их, даже без рам, он свёз к каким-то образом познакомившемуся с ним Манину, где они были сложены на антресолях. Сейчас Юра одну за другой ставил передо мной эти картины, и я приходил в восхищение. Немалую роль при этом играло сознание, что это художник гонимый, которому перекрывают путь хозяева искусства. Да и сами картины мне нравились. Яркие, выразительные, разные и главные – далёкие от соцреалистических шаблонов и по тематике, и по исполнению. «Утро»: обнажённая юная девушка спит, а парень открыл окно и всматривается вдаль. Рядом «Одиночество»: такие огромные обезумевшие «глазуновские» глаза, за ними синий перевёрнутый дом. И ещё «Фашизм»: уходящая душегубка, дверью прищёлкнут уголок красного платья. На следующий день Юра повёл меня к самому Глазунову, у которого сейчас уже была мастерская, там мы тоже что-то смотрели, но мастер спешил, и ему было не до нас.
Кибернетический энтузиазм
Я начал с впечатлений походных и дружеских, но не они были главными для меня в эту пору. На передний план в моей жизни снова, как в первые годы в МГУ, вышли интересы профессиональные. Я снова увлёкся наукой, и это увлечение продолжалось с разной степенью интенсивности десятка полтора лет. Я сказал «на передний план», может быть, не очень точно. Был интерес и к науке, и к жизни. И эти два интереса совмещались достаточно гармонично.
В общем-то, мой вновь вспыхнувший интерес к науке был отражением общего, я бы сказал, «кибернетического энтузиазма», охватившего моё поколение. В отличие от «математического энтузиазма», которым я был проникнут в первые университетские годы, это было увлечение не чистой наукой, а её кибернетическими (на сегодняшнем языке – информационными) приложениями. «Проверить алгеброй гармонию», то есть точными методами описать и смоделировать интеллектуальную деятельность человека – что может быть интереснее! Может ли быть более достойное приложение у математики, царицы наук! Этим энтузиазмом был преисполнен и наш кибернетический отряд – разработчиков машинного перевода, короче, «машинников». Ну, и, конечно, о своей роли в науке каждый из нас был очень высокого мнения. Я – во всяком случае.
Ляпунов, Кулагина, Мельчук
Я был прикомандирован (или сам прикомандировал себя) к группе, возглавляемой А. А. Ляпуновым. Группе неформальной, потому что её члены имели разные места работы. Ляпунов, как «отец-основатель», направлял работу, прежде всего в части общей идеологии и архитектуры системы, вёл семинары. А большую ежедневную работу по французско-русскому переводу делали два человека – математик, ученица Ляпунова Оля Кулагина и лингвист Игорь Мельчук. Собственно, они руководили программистской и лингвистической частью работ, за ними стояли исполнители, в ряде случаев – на добровольной основе, то есть без оплаты (последнее особенно касалось лингвистов). Работа распределялась так: Игорь писал алгоритмы, а Оля их программировала. Заранее можно было представить, что эти алгоритмы окажутся сложноватыми, но чтобы настолько! Игорь исписывал ими огромные простыни, впоследствии они зачем-то были изданы (вряд ли кто-нибудь, кроме самих разработчиков, когда-нибудь в них вникал), вышел толстенный том. Эти были тысячи команд, написанных русским языком и выглядевших примерно так: «От глагола i12 искать вправо существительное в винительном падеже i23, минуя прилагательные и наречия». Команды нумеровались, и рядом с каждой указывались номера команд для перехода в случае положительного или отрицательного ответа.
Однако стоит представить, как выглядела эта группа. Вот Алексей Андреевич, патриарх с седеющей бородой, похожий на графа Алексея Константиновича Толстого, мягким голосом излагает что-то на семинаре. Вот Оля, спокойная, вдумчивая, рассудительная, со всегда ровным голосом – на ней так и написано: это профессионал, на неё можно положиться.
А Игорь Мельчук… ну, о Мельчуке в двух словах не расскажешь. Производит впечатление с первого взгляда – нечто очень рыжее и бурное. (Пишу в настоящем времени, но имею в виду Игоря той поры, хотя в основном он изменился мало). Моя Ирина говорит, что представляет себе таким молодого Пушкина – по темпераменту, конечно; внешне они мало схожи, в частности, Пушкин уж никак не был рыжим. Ещё студентом Игорь был звездой филфака – и не только потому, что юношей там можно было перебрать по пальцам. Умница, полиглот, знаток десятка языков, постоянно рвущийся изучать новые. Сразу же стал адептом самой современной лингвистики, да что там говорить – лидером и знаменем лингвистических «младотурков». Само его имя стало синонимом дерзости и противостояния со старозаветной советской филологией.
Едва увидев меня, пришедшего в нему в Институт русского языка, он тотчас же усадил за простыни со своими алгоритмами, постоянно отрываясь для реплик к забегающим к нему студенткам, пришедшим ознакомиться с тайнами МП. Вот он бросил одной из них, Нине Леонтьевой: «Как, ты не знаешь, что такое алгоритм? Вот Миша тебе объяснит» – и уже куда-то унёсся. Так проходили все встречи, но, в общем, о том, что из себя представляет машинный перевод, я узнал главным образом от Мельчука.
Круг нашего общения не ограничивался машинным переводом. Трудно было не испытывать симпатию к Мельчуку – это подтвердят все, кто его знал. Живой, весёлый, открытый, с ярким умом. Мы как-то хорошо подошли друг другу по взглядам и темпераменту и довольно скоро стали друзьями. Объединяли нас и походные интересы – Игорь был заядлым туристом.
Задачи и структура группы, моё место в ней
В общем, в Ереван я возвратился поднаторевшим в этой тематике. И примерно одновременно с моим возвращением формально и окончательно организовалась наша группа МП в составе Вычислительного центра АН АрмССР. Сам Мергелян некоторое время был директором двух организаций – Института математических машин и этого ВЦ, но потом ушёл из ВЦ, а тем самым полностью отошёл от работ по машинному переводу.
Тема наша в документации и литературе звучала как «армянско-русский машинный перевод», но читателя не должно обмануть широковещательное название – конечно же, как и в других группах, речь не шла об алгоритме перевода любого текста с одного языка на другой. Наша задача кардинально сужалась двумя ограничениями. Во-первых, ограничивалась тематическая область, из которой брались тексты: чаще всего, в том числе и у нас, речь шла о математических текстах – благо, там язык, включая грамматику, был особенно простым. Во-вторых, что более существенно, алгоритм строился с точностью до словаря. Другими словами, он представлял собой набор правил, в ходе работы которых следовало обращаться к словарю. Предполагалось, что, если когда-либо дойдёт до реальной работы с любыми математическими текстами (до чего, разумеется, так и не дошло), то предстоит выполнить ещё одну большую работу – составить этот словарь. Пока же он заполнялся по мере надобности – из слов, встречающихся в обрабатываемом тексте.
ЭВМ того времени – совсем не то, что современные компьютеры. Если они где сохранились, сегодня их можно выставлять в музее – да и меня вместе с ними, поскольку мне довелось на них работать: огромные, мигающие лампами шкафы, занимающие целые комнаты. И при этом никакая память и никакая скорость. Учитывая всё это, и думать нечего было о том, чтобы прогонять на них сколько-нибудь заметный объём текстов. Так что целью нашей работы был по существу эксперимент: составлялся алгоритм перевода, а затем проверялся на очень ограниченном материале, по которому предварительно составлялся словарь. В качестве такого исходного текста был взят некоторый вузовский учебник по математике на армянском языке.
По своей структуре и организации работ наша группа строилась по образцу других групп МП в Союзе, но отличалась одной особенностью.
Дело в том, что, насмотревшись на супергромоздкие алгоритмы, составлявшиеся Мельчуком, я решил, что важнейшей задачей является создание аппарата для записи алгоритмов МП, простого, точного и не привязанного к ЭВМ. При таком подходе менялась организация работ и структура группы: она разбивалась на три неравные части: лингвисты (точнее, лингвистки), программисты, а между ними единственный математик-алгоритмист – это я. Так что я принялся за разработку специализированного алгоритмического языка для МП. Тем самым задача наших программистов сводилась к построению транслятора с этого языка. (Это сейчас я так грамотно выражаюсь – тогда я представления не имел об этих терминах). Вообще и сегодня, оглядываясь на тогдашний уровень компьютерной науки и практики, такой способ организации работ мне представляется наиболее удачным. Но не тот ли это случай, когда научным прогрессом движет лень и невежество? Ведь мы выбрали этот путь, потому что мне было гораздо легче изобретать язык, чем выучиться на грамотного программиста, какими были Оля Кулагина в Москве и Гера Цейтин в Ленинграде.
Итак, в ближайший год я изобретал и совершенствовал алгоритмический язык. Это было чистое изобретение велосипеда, так как к началу работы я был полным профаном в теории алгоритмов, не зная ни об одном алгоритмическом аппарате – ни о машинах Тьюринга, ни о нормальных алгорифмах Маркова. Стыдно вспомнить, какую невежественную ахинею я повёз и представил Ляпунову в качестве своего вклада в науку. Сам Алексей Андреевич справедливо не стал в этом разбираться и поручил Оле, которая, при всей своей сдержанности, несколько морщилась, кратко пересказывая ему содержание моего опуса.
(Господи, не уморил ли я читателя производственными подробностями?)
Наша группа
Вернусь, однако, к описанию нашей группы МП.
Руководителем группы и руководителем лингвистической части работ был Володя Григорян. Здесь не обойтись без его «кадровой» характеристики. Год рождения – 1928, то есть на 7 лет старше меня. По специальности филолог-русист. К 1957 году окончил аспирантуру в Москве и защитил кандидатскую (а впоследствии – и докторскую). В принципе нам нужен был бы специалист по армянскому языку, каковым Володя, строго говоря, не являлся. Так что роль у него оказывалась другая: с одной стороны, лингвист-теоретик с уклоном в структурализм (дань интересу к новейшим тенденциям, начавшемуся, по-видимому, в аспирантуре), с другой – носитель армянского языка. В общем-то, он был типичным билингвой, и русский язык для него был, я думаю, более привычным, чем армянский. К моменту нашего знакомства он преподавал русский язык и литературу в Педагогическом институте русского языка им. Брюсова (или как он там назывался), и студенты – точнее, студентки – его очень любили.
Лингвистическая подгруппа состояла поначалу из четырёх симпатичных девушек. Три из них были бывшие студентки Григоряна, следовательно, как и он, специалистки не по армянскому, а по русскому языку – преимущественно русскоязычные, но, разумеется, владеющие и армянским. И только для одной Лусик Максудян, маленькой, скромной, с располагающей улыбкой, армянский был родным, да и окончила она армянское отделение. Интересен национальный состав: чистыми армянками были только двое – Лусик и Нелли Погосова (причём Нелли была ростовской, т. е. «русской» армянкой); Саида Кязумова – азербайджанка, а Лиза Фельдман – наполовину еврейка. Довольно редкий подбор для Еревана. И довольно занятный, учитывая, что всем им предстояло работать с армянским языком.
Программистов в группе было двое: Рафик Базмаджян и Тигран Караустаян. Рафик вырос в Тбилиси, так что был человеком русифицированным. А вот Тигран был уже стопроцентным армянином, кажется, даже не из Еревана, а из глубинки, и чувствовалось, что говорить по-русски для него трудновато. Похоже на то, что он и вообще был неразговорчив, но всем своим видом, высоким ростом, застенчивостью внушал доверие и симпатию. Ещё примыкал к нашей группе, находясь несколько в стороне и выше, завотделом программирования Теодор Михайлович Тер-Микаэлян, или попросту Тэд – усатый красавец, очень интересный, яркий и интеллигентный человек, примерно ровесник Григоряна и чуть старше нас, остальных. Он был опытным, по крайней мере, по нашим меркам, программистом и руководил собственно программистскими работами, наставляя Рафика и Тиграна.
Как выглядела наша работа? (У меня есть сомнения, интересно ли это читателю, ну, да ладно – он может пропустить).
Девочки составляли правила перевода, отрабатывали и проверяли их вручную на разных текстах, затем составляли словари. При этом была существенна моя роль: я сначала учил их писать алгоритмы, затем проверял, чтобы они были правильно написаны, потом передавал ребятам-программистам.
Если поглядеть, бульшая часть этой работы была довольно занудной. Девочки составляли бесконечные картотеки, да и ребятам было невесело – программирование означало написание программ в машинных кодах, т. е. в основном кропотливая рутинная работа, требующая большого внимания. Правда, поначалу, пока эта работа в новинку, её выполняешь с интересом – знаю это по себе, поскольку сам несколько раз писал и отлаживал подобные программы. А чего стоит процедура пробивания программы вручную на перфоленте, причём не дай Бог ошибиться!
И при всём этом все мы были достаточно долго увлечены своей работой. Правда, оглядываясь назад, кажется, что это увлечение со временем понемногу угасало, и вряд ли заметная часть его сохранилась к моменту моего отъезда через несколько лет.
Для меня самого в этой работе было много интересного. И моё «изобретение велосипеда». И знакомство с элементами программирования. И не в последнюю очередь – знакомство с армянским языком, правда, в основном в разрезе грамматики. И, должен сказать, грамматикой, а точнее морфологией армянского языка я овладел неплохо – благо, она максимально логична.
Отношения в группе
Слава Богу, моя производственная жизнь складывалась так, что почти всегда я оказывался в коллективах, где не бывало конфликтов. Что же до моих отношений с коллегами, то они бывали или хорошими, или никакими – в разных коллективах в разной пропорции. Так вот, одним из лучших коллективов в моей жизни была наша ереванская группа. С самого начала знакомства – самые дружеские отношения, полная взаимная симпатия.
Вспомнить бы теперь какие-нибудь подробности того, как мы жили. О чём говорили? Где бывали вместе? А ведь бывали – и в концертах-театрах, и ездили за город, и жарили шашлык. Да разве с моей памятью вспомнишь. Помню только общее настроение и эти милые лица.
Больше всего я сдружился с Рафиком. Уж как-то очень он мне подходил – живой, весёлый, интеллигентный. В обеденный перерыв вместе выходили обедать или по бедности слегка перекусить мясными пирожками, густо посыпанными перцем, которые запивали пивом (о чём я неосторожно и похвастался Серёжке Яценко). А то припоминается забавный эпизод, когда у нас обоих не было денег, а есть очень хотелось. И мы решили поесть в столовой, а потом кинуть монетку, кому объясняться с официантом. Поели мы неплохо, а объясняться выпало мне. Но тут Рафик заявил, что не может так подставлять меня, гостя Армении, и сам провёл этот разговор, оживлённо жестикулируя. Не знаю, что он говорил, разговор шёл по-армянски, но официант отпустил нас с миром. Подозреваю, что Рафик напирал на то, что ему нужно было накормить меня, гостя, и обещал расплатиться позже.
Позже, примерно через год, когда Вычислительный центр переехал в другое здание, на площади Абовяна, рядом с памятником, у нас вошли в традицию ежедневные совместные обеды. Отличались они изрядным размахом. Девочки приносили кучу традиционной армянской еды – мясные блюда, соленья, фрукты. Обязательно присутствовала бутылка-другая вина. За этой едой в дружеской беседе проходили час-полтора. А после этого возвращались к работе, и она шла лучше прежнего.
Вообще, кажется, никогда после у меня не было таких хороших условий для работы непосредственно на рабочем месте. Мои нынешние коллеги могут рассказать, как я терроризирую их, требуя тишины, – мне мешают любые разговоры, в том числе и по делу. Когда я работал в Ереване, мне ничто не мешало. Конечно, я был много моложе. Но, кажется, там и не было принято болтать во время работа. Такой серьёзный народ эти армяне.
Рассказывая о группе, вспоминаю одну особенность Саиды – какой армянской патриоткой была она, азербайджанка. Она убеждала в том, как хорошо быть в Армении азербайджанцем: их мало, и потому их всюду продвигают – и в учёбе, и по работе. Грустно вспоминать об этом. И что с самой Саидой сейчас – после всех этих бед?
Володя Григорян
Пора, наконец, рассказать о Володе.
Обидно, но из моей памяти полностью улетучилось, когда и при каких обстоятельствах я с ним познакомился, равно как и то, какими были наши контакты до моей поездки в Москву. Приезжал ли и он в Москву в это время? Если и приезжал, то не так надолго, как я, – этого не позволяла хотя бы его преподавательская работа.
Отчётливо начинаю его различать уже после своего возвращения. Так и вижу его, каким он был в те годы, – симпатичный, добродушный, немножко наивный, по-армянски большеносый, чем-то напоминающий Фрунзика (впоследствии – Мгера) Мкртчяна. Работать с ним было с самого начала и всё последующее время легко и хорошо. И мы как-то удивительно быстро сдружились – чувствовались родственные души. Не разделяла нас и его партийность (редкий для меня случай: друг – и член партии). Как полагается между друзьями, нам интересно было говорить обо всём на свете.
Стал я частенько бывать в его доме на улице Теряна, и его семья приняла меня как родного. Отец Володи Марк Владимирович Григорян был замечательный армянский архитектор. Как ещё можно сказать: выдающийся? великий? – всё это будет справедливо. Без его ансамблей и зданий нельзя представить современный Ереван – это Марк Владимирович спроектировал его лучшие ансамбли и здания: площадь Ленина, Матенадаран (музей древних рукописей – один из наиболее уважаемых в Армении институтов), Академию наук, ЦК партии (что то там теперь?). И при этом удивительно приятный в общении – мудрый, доброжелательный. Такими же славными, симпатичными людьми запомнились мне и другие члены семьи.
Жизнь на Клондайке
Через какое-то время, возможно, через полгода после нашего знакомства Володя побывал у меня в Чарбахе, и ему там не понравилось.
– Что тебе жить в этой дыре? – сказал он мне. – Ютишься вчетвером в одной комнатке, удобств никаких, да и ездить тебе далеко. Переезжай-ка в мой особняк.
Как раз в это время шло строительство его дома в 1-м тупике Айгедзора – в прекрасном месте, в двух шагах от зданий ЦК и Академии на улице Барекамуцян, и в то же время над ущельем Раздана, который бурлит сотней, а то и двумя сотнями метров ниже. Вид открывается поразительный. Ущелье широкое, крутое, довольно дикое, скалы, камни, поросшие травой и кустарником. К самой реке здесь не спустишься, но, когда гуляешь внизу по шоссе, видишь где-то высоко вверху нависающие домики, и один из них этот.
Нечего и говорить, насколько меня обрадовало такое предложение. Жить в таком удобном и живописном месте, в центре города, любоваться каждый день прекрасным пейзажем, ходить на работу пешком, любуясь утренним Ереваном. Боюсь, что я не сразу сообразил масштаб этого гостеприимства, а уложил вещи в пару больших рюкзаков, перевёз и стал жить-поживать, как ни в чём не бывало, как будто, так и полагается. А ведь подумать: Володя ни за что, ни про что так просто по-дружески подарил мне одну из комнат своего чудесного дома (которых в доме было всего-то три!). Так я и прожил в ней едва ли не четыре года своего последующего пребывания в Ереване. И снова думаю: Господи, сколько добра сделали мне поначалу незнакомые, а потом ставшие близкими люди! И вообще, если сравнить добро, полученное мною от самых разных людей, и то, что мне случилось им дать, я ведь остаюсь в неоплатном долгу.
Хотя я употребляю слово «дом», Володе принадлежала только половина дома (потому и комнат так мало). Хозяином второй половины был Арменак, болгарский армянин, строитель, широкоплечий, весёлый, напоминающий итальянского рабочего из неореалистических фильмов. Володя уступил ему эту половину за труд: Арменак со своей бригадой возводил дом.
Во время упомянутого разговора в доме достраивался второй и последний этаж, потом над ним возводилась крыша. Стены оставались не заштукатуренными. Так что Володя не торопился туда переезжать, тем более, что его молодая и красивая жена Рита, недавняя его студентка, возилась с недавно рождённым ребёнком. Меня же комфорт беспокоил мало. Я поселился в строящемся доме и по мере того, как обустраивались комнаты, переселялся из одной в другую. Так до переезда семьи Григорянов я жил один в «своей» половине дома едва ли не год. Чувствовал себя в нём полным хозяином. Когда находило особое вдохновение, то ли производственное, то ли ещё какое, любил здесь поработать. Это соответственно обставлялось: на стол ставилась бутылка армянского вина, армянский же сыр типа брынзы (панир) и виноград. Как в такой обстановке хорошо работалось!
Я любил принимать здесь гостей. Так у меня перебывали все мои чарбахские друзья, с которыми мы устраивали дружеские пирушки: на электроплитке жарится что-нибудь мясное, бутылки вина на самодельном столе, весёлая застольная беседа. Я уж не говорю о том, что так же мы частенько сиживали и с самим заходящим сюда Володей и его друзьями, которым он показывал дом.
К зиме отопление ещё не было готово, так что в доме стоял холод, приходилось тепло одеваться, а по ночам укрываться несколькими одеялами. По счастью, эта зима не была такой холодной, как та, в которую я приехал. Пришедший сюда в такое время мой чарбахский приятель Володя Давыдов, по прозвищу Итальянец, или Джузеппе, воскликнул: «Э, да тут у тебя настоящий Клондайк!». (Клондайк ассоциировался у него, прежде всего, с холодом). С его лёгкой руки название «Клондайк» так и закрепилось за «нашим» домом.
Минул год с чем-то, Клондайк был достроен, отделан, заработали отопление и газ, и в дом въехали настоящие хозяева: Володя, Рита и годовалый Мара (Марк). И мы зажили дружной семьёй. Я и сейчас с радостью вспоминаю это время. Казалось бы, молодой семье в трёхкомнатном доме зачем нужен такой постоялец? Но я за всё время ни разу не почувствовал, что я здесь лишний. Мы жили дружно и весело – совсем как когда-то у тёти Жени. Конечно, с таким квартирантом, как я, да, по правде сказать, и с таким хозяином, как Володя, благоустроенного дома не создашь, и Рита с удивительным благодушием с этим смирились. Наверное, ей с нами, безалаберными, приходилось нелегко, но мы тоже, как могли, старались поддержать дом. А какой кофе мы готовили по утрам! Часто приходили гости, собирались весёлые застолья. И ещё: известно, сколько радости приносит в дом малый ребёнок – вот эту радость приносил нам подрастающий Мара. Впервые в жизни я возился с малым ребёнком и понял, насколько это хорошо.
Приезд Мельчука
Но я уже слишком забежал вперёд. Вернёмся в весну 1958 года.
Я только недавно (примерно месяц назад) вернулся из Москвы, живу в Чарбахе. Только недавно создана наша группа, и я, сам неофит, делюсь с нею только что приобретёнными знаниями. Но понятно, моих усилий здесь недостаточно. Для того, чтобы приобщить всех нас к современному состоянию работ, один за другим в Ереван приглашаются на короткие сроки (от недели до месяца) опытные мастера, классики машинного перевода. И первым приезжает Игорь Мельчук.
Как и каждое явление Мельчука, это было подобно появлению метеора. Вот он врывается, рыжий, шумный, весёлый, до предела самоуверенный во всём, а, прежде всего, – в единственной верности своих научных подходов. Только его одного становится видно и слышно. Постоянно рассказывает о своей работе – всем вместе и каждому в отдельности, дотошно вникает в нашу, используя это для того, чтобы знакомиться с армянским языком, на котором тут же пытается изъясняться. Возникает комический эпизод, когда он в некотором слове вместо обычного звука к произносит кх с придыханием, в результате чего слово получается совершенно неприличным, и девочки краснеют и давятся от смеха. Но, в общем, учитывая его талант и энергию, он таки здорово обучил группу, чего мне так не удалось бы. Нечего и говорить о том, что он стал всеобщим любимцем.
И не только в нашей группе, но и в Чарбахе. Тут он жил вместе со мной, перезнакомился со всеми, в выходные ездил вместе с нами по Армении. И всюду такой же шумный и весёлый – душа общества. После его отъезда, наши чарбахские девочки ещё долго вспоминали его и расспрашивали: как там Мельчук, что о нём слышно? (Странная особенность: почему-то с юности его все называли гораздо чаще по фамилии, чем по имени. Может, потому, что Игорей много, а Мельчук – один единственный?)
Игорю очень понравилось в Ереване. В частности, он оценил одну его особенность – наполненность города репатриантами из самых разных стран, говорящих на самых разных языках, не знающих русского, а иногда и армянского. Он ухитрялся находить их на каждом шагу и каждый раз набрасывался на них, переходя на их язык, завязывал с ними знакомства. Все эти новые знакомые сразу проникались горячими чувствами к нему, звали к себе в гости, а мне там делать было нечего – ведь у меня не было с ними языка общения. В основном это были французские и испанские армяне – носители двух любимых языков Мельчука. Приходя по утрам в наш Центр, он первым делом приветствовал нашу уборщицу, «француженку» Мари, она сияла улыбкой, и у них начиналась долгая весёлая болтовня. (У неё он, конечно, тоже побывал в гостях). Вообще же обслуживающий персонал ВЦ в значительной части состоял из репатриантов, и он стал у них своим человеком.
Переход через Гегам
Игорь пробыл в Ереване около месяца. Одно из самых ярких впечатлений от этого связано с нашим переходом через Гегамский хребет. Пошли мы туда на майские праздники втроём – Игорь, Володя Григорян и я. Мы-то с Игорем имели туристский опыт, а Володя в таком переходе участвовал впервые.
На институтском складе спортснаряжения в Чарбахе взяли штормовки и отриконенные ботинки. Накануне праздника, 30 апреля приехали в Гегард, там заночевали в монастырской гостинице. Это уже было необычно, и я всё никак не мог привыкнуть к тому, что оказался здесь – вроде как паломник. Мы вышли на террасу, вслушиваясь в вечернюю тишину и любуясь каменистым ущельем. По подворью ходили молодые монахи, правда, всего в монастыре их было немного. Игорь, разумеется, бросился с ними общаться, чего не мог сделать я, – русского они, как правило, не знали, а вот иностранные языки многие знали. Уже вместе мы немного поговорили с одним монахом, который до монастыря учился едва ли не на физмате и владел, хотя и не очень хорошо, русским языком. С обычным для нашего поколения атеистическим невежеством мы расспрашивали его: «Как же так, вот ты учил физику, знаешь, что мир материален, и вдруг поклоняешься какому-то Богу?» Он ответил загадочно: «Вот так Земля: с одной стороны освещается Солнцем, а с другой – в тени». Мы совершенно не поняли логику ответа, и только через много лет я начал догадываться: не имел ли он в виду различие и в то же время взаимную непротиворечивость научной и религиозной модели мира?
Утром 1-го мая почти на рассвете мы поднялись на плато. Монастырь расположен в ущелье, подъём был довольно крут, но технически не сложен и не долог – сейчас представляется метров 500 (по вертикали). Здесь перед нами открылся совершенно другой вид. В ущелье – камни, скалы, в начале весны много зелени. А плато совершенно голое, нет ни деревьев, ни кустарника, почти нет свежей травы, только выжженная прошлогодняя. Плато почти плоское, еле-еле набираешь высоту, да много набирать её нам и не пришлось. Через несколько часов всё же немного поднялись и стали идти по снегу, уже без всякой тропы, по компасу. Сверху припекало солнце, и снег ярко блестел. Тут мы сообразили, какую дали промашку: мы-то с Игорем надели чёрные очки, а неопытный Володя очков с собой не взял. Результат этого сказался к вечеру. Он стал беспокоиться, что болят глаза, а когда уже совсем стемнело, жалобно заявил: «Я ничего не вижу». В этот момент мы стояли в снегу на плато, но уже открылся спуск с него, где-то глубоко внизу был виден Севан, горели огоньки деревень. Мы с Игорем взяли Володю под руки и стали спускаться. В деревне – кажется, это был Дзорагюх – постучали в первый попавшийся дом, где и переночевали. Володя всё время жаловался на боль в глазах.
На следующий день на попутках ехали вдоль Севана, а оттуда по привычной дороге домой. Так же под руки ввели слепого Володю в его дом. Всего за один день под горным солнцем мы обгорели, с физиономий клочьями свисала кожа. Рита, взглянув на нас, всплеснула руками и едва не упала в обморок. На следующий день, 3 мая, ей предстояло родить Мару.
Деловые и дружеские контакты
Моя поездка в Москву и визит Мельчука в Ереван были, по-видимому, одними из первых шагов в процессе связывания различных коллективов и отдельных исследователей, близких к этой тематике, в единый, можно сказать, сверхколлектив, своего рода орден. Члены его были разбросаны по разным городам Союза, но достаточно часто виделись, хорошо знали друг друга не только по работам, но и по-человечески, как добрых знакомых и друзей.
Ах, как бы мне хотелось описать этот орден подробно! Но боюсь, для этого у меня не хватит ни памяти, ни способностей, да и не вложилось бы такое описание в пределы выбранного жанра.
Только что я употребил слова «эта тематика». Как назвать тему, которая нас объединяла? «Машинный перевод» было бы слишком узко, и мы это поняли с самого начала. Довольно скоро для названия круга наших интересов закрепился термин «машинный перевод и структурная (иногда – прикладная) лингвистика» – именно так назывались наши конференции. Добавление «структурная лингвистика» отражало тот факт, что в компанию «машинников» влилось большое количество профессиональных лингвистов, непосредственно машинным переводом не занимающихся, но тяготеющих к современным, т. е. структурным методам изучения языка. Подозреваю, что этому способствовали два фактора: во-первых, их несовместимость с официальной советской лингвистикой и вытекающая отсюда потребность в альтернативном круге коллег; а во-вторых – личность Игоря Мельчука, служившего живым олицетворением новых методов в лингвистике и магнитом для их адептов. (Говоря о «чистых», то есть не «машинных» лингвистах, приведу пример: Лена Падучева и её муж Андрей Зализняк, невероятный полиглот, ныне весьма знаменитый учёный, лауреат премий). Несколько позже математики (и я в том числе) стали пытаться изучать или моделировать язык математическими методами, и тогда возник термин «математическая лингвистика».
Эту компанию при всём различии в возрасте объединяла общность интересов, и не только научных, взаимное доверие и симпатия. Конечно, подавляющую её часть составляла молодёжь, люди моего поколения. Уж нам-то легче всего было находить общий язык. Для меня они все были как бы продолжением моих университетских компаний – такие же славные, умеющие дружить, любящие науку, увлекающиеся туризмом, умеющие попеть, фрондирующие, иронизирующие над советской идеологией.
Математиков старшего поколения среди нас было не так много, но зато какие! Я уже писал об А. А. Ляпунове. Присматривался к нам и Андрей Николаевич Колмогоров, рассказывавший на одной из наших конференций о вероятностных свойствах языка и о своих исследованиях в области ритмики стиха.
А вот лингвистов-структуралистов старшего поколения у нас было предостаточно. Как не вспомнить Виктора Юльевича Розенцвейга, так симпатично опекавшего структуралистскую молодёжь, которая отвечала ему взаимной симпатией. Или замечательного человека, правда, промежуточного поколения, чуть старше нас, – Вячеслава Всеволодовича (Кому) Иванова, человека широчайших интересов во всех областях лингвистики, да и филологии в целом. Однако, стоп, я рискую написать что-то вроде перечня.
Переходя к географии, стоит ограничиться названиями городов, с которыми мы, ереванцы, контактировали. Сначала это были только Москва и Ленинград, потом к ним добавились Тбилиси, Киев, Новосибирск.
Для нас взаимные поездки начались с самого начала работ. Их было много, но подробно, пожалуй, не стоит описывать. Упомяну только о приезде в Ереван Оли Кулагиной – сразу же после Игоря. Она тоже многому нас научила, но рассказывала только о программировании, потому, в отличие от Игоря, имела дело в основном с Тэдом и с ребятами-программистами.
А потом вереницей к нам покатили и другие.
Мы же с Володей тоже много разъезжали в Москву и Ленинград. В Москву-то я приезжал вообще как к себе домой, родной город, сейчас такое впечатление, что проводил там чуть ли не половину времени. А вот Ленинград – совсем другое дело, несколько чужой, красивый, музейный. Вроде я и не попадал тогда в него в хорошую погоду, всё дожди, сырость. Но и в такую погоду хорошо ходить и любоваться Царским Селом или Петергофом.
В обоих этих городах было по несколько коллективов, мы со всеми познакомились, всех послушали, а вот по-настоящему сработались и поддерживали постоянные контакты с двумя: в Москве – с группой Мельчука и Кулагиной, в Ленинграде – с группой Цейтина. Чуть позже профессиональные интересы объединили меня с коллегами-математиками из Москвы и Новосибирска, начавшими работать над математическими моделями языка. Но дружеские отношения зачастую были и с теми, чьи работы тебя совершенно не интересовали.
Конференции
Особый рассказ о конференциях.
Начались они где-то году в 59-м и с тех пор проходили регулярно по паре раз в год, поначалу в Москве и в Ленинграде. В зале Московского института технической информации (ВИНИТИ), Ленинградского университета или где-нибудь ещё добрых сотня человек, ты их всех в основном знаешь, примерно половину из них слушать интересно. Над другими посмеиваешься вместе с соседями (соседей-то выбираешь по интересам), как, например, над руководителем большого ленинградского коллектива Николаем Дмитриевичем Андреевым (не в обиду ему говоря, внешне напоминающем Лысенко), который убеждённо рассказывает о перспективах взаимного перевода с и на несколько десятков языков, включая африканские, для чего разрабатывается специальный язык-посредник, да не один, а целых три: мета-язык, пара-язык и орто-язык. И одновременно волнуешься перед собственным выступлением – собираешься изложить такие глубокие идеи, а сумеешь ли, поймут ли. А в перерывах или после окончания заседаний ловишь наиболее интересных коллег, с которыми нужно обсудить последние мысли и результаты. Вдруг слышишь что-нибудь сногсшибательное. Так Гера Цейтин – вот уж кто настоящий математик, его и по виду не спутаешь, очкастый, большеголовый, не от мира сего – рассказывает, как обычно запинаясь, об универсальном синтаксическом анализе: на входе нужно задать то-то и то-то, совсем элементарное, алгоритм работает совершенно прозрачно, и вот уже на выходе имеешь все варианты синтаксических анализов, то есть систем стрелок управления между словами. (Я потом для упражнения сам программировал). Да это же совершенно новый подход к постановке задачи анализа, да и вообще к описанию языка – его математическое моделирование!
Потом пошли такие же конференции и в других местах, иногда самых неожиданных. Устраивали мы их и у себя в Ереване, и было не хуже, чем в союзных столицах.
Один из первых докладов о своих работах мы сделали на мероприятии другого рода, но зато очень представительном – совместной сессии четырёх академий наук: союзной и трёх закавказских республик. Сессия проходила в Ереване по случаю 40-летия Советской Армении (1960 год). Союзных академиков было, разумеется, маловато, но уж кавказских – хоть пруд пруди. Докладчиками были мы с Володей и Тер-Микаэлян. Мы как раз прекрасно вписывались в общую идеологию мероприятия – дружба народов в действии, три молодых учёных, два местных и славянин, вместе развивают армянскую науку, выводят её на современные рубежи и тому подобное. (А на другой день после доклада я восходил на одну из вершин Арагаца в честь той же годовщины).
А в каком-то более отдалённом году, когда я снова оказался в Москве, в Ереване прошла вообще шикарная международная конференция по МП, первая в Союзе, я впервые в жизни видел рядом с собой зарубежных – причём западных! – учёных (Хейс и Гарвин из Штатов, Вокуа из Франции и ещё кто-то) и удивлялся, что западные люди такие же, как и мы, что с ними можно говорить и тому подобное. И даже сидеть за большим столом на Клондайке, пить вино, а Лена Падучева прекрасно поёт Галича, причём все они, даже вроде бы те, кто неплохо говорит по-русски, ничего не понимают и требуют каждое слово объяснить (вот как важен, оказывается, историко-культурный тезаурус!).
Но это было ещё очень и очень нескоро. А пока в Ереван приезжали наши, отечественные коллеги и друзья, представлявшие для нас профессиональный интерес или не представлявшие такового. Конечно, делали они это с удовольствием – кто же откажется от визита в такую интересную и экзотическую страну.
Когда к нам приезжали гости, текущую работу мы бросали – по крайней мере, мы с Володей. Само собой, вели с ними разные научные беседы – то ли рассказывали, то ли расспрашивали. Устраивали застолья – сначала в доме Григорянов на Теряна, а потом на Клондайке. Водили по Еревану. А главное – мы с Володей и Рафиком возили их по Армении – по стандартному набору любимых мест: Севан, Эчмиадзин, Гарни, Гегард. Здесь я, наконец, выступал уже не в привычной роли гостя, а в роли хозяина, знакомящего гостя со своей страной.
До чего же я любил такие поездки! Вот и сейчас могу закрыть глаза и увидеть ту или иную сценку. Например, как мы с Володей подвозим к Севану Беллу Бельскую, руководительницу одной из московских групп, красивую молодую женщину. Едем на грузовике, нас подбрасывает, смеёмся, шутим, открывается Севан, а Володя уже разливает бутылку вина и пьёт из её туфельки.
Мы старались быть радушными хозяевами и сделать всё, чтобы наши гости были очарованы Арменией, и, кажется, нам это удавалось. (Одну из её особенностей отметила одна из наших гостий: «Только здесь и чувствуешь себя женщиной»).
Производственный эпилог
Поскольку эта глава, как определено уже её названием, носит в основном производственный характер, должен рассказать, чем же окончились труды нашей группы и наших коллег в других городах.
Долгое время, примерно десяток лет, машинный перевод процветал. Разрабатывались программы, появлялись статьи и книги, собирались конференции, к нам приезжали ведущие зарубежные учёные, а те из нас, кто пользовался доверием партии, выезжали к ним. Каждая из групп, занимающихся МП, описала свои труды если не в монографиях, то в толстых авторитетных изданиях. В частности, наши работы по армянско-русскому переводу был подробно описаны в почти полностью посвящённом им выпуске «Проблем кибернетики».
Но никакого практического значения эти работы не имели и никакого практического продолжения не получили. Равно как и другие работы по очень модному в то время так называемому «искусственному интеллекту». Будем надеяться, что они произвели какой-то поворот в мозгах, дали учёным новый взгляд на вещи, и в этом их оправдание. Надеюсь, что они каким-то образом сказались и на создании лингвистического обеспечения современных компьютеров, на сегодняшнем примитивном, но реальном машинном переводе, программу которого можно установить на любом персональном компьютере, хотя не вполне в этом уверен. Все эти полезные инструменты пришли из совершенно других мест, от людей с американской практической хваткой, которых мы, пионеры МП, вряд ли вправе назвать своими коллегами.
Наши же группы МП и подобные коллективы через десяток лет стали потихоньку умирать. Их участники, перейдя на «вольные хлеба», разошлись кто куда. Математики, и я в том числе (прочтёте далее), увлеклись созданием математических теорий, якобы имеющих отношение к естественному языку. Лингвисты, в том числе сам Мельчук, отошли от ЭВМ (точнее, не дошли до компьютеров) и занялись чисто лингвистическими проблемами, чаще всего семантическими, впрочем, в значительной степени навеянными их прежними занятиями. Но нет, всё-таки остались и немногие «последние могикане», пытающиеся решать на современных компьютерах задачи, подобные доброму старому машинному переводу, только куда более сложные.
Вот так сложилась судьба этого интересного научного направления.
Глава 4. Университет и «политика»
Попытки восстановления в МГУ
Из МГУ я был исключён с весьма неопределёнными перспективами. С одной стороны, представители университетского начальства и парторганизации, считая нужным успокаивать меня (всё-таки время было либеральное), представляли дело так, что исключение временное, я должен немного поработать, лучше узнать жизнь, а за дипломом дело не станет. В каком-то из официальных текстов или выступлений прозвучала мысль, что ошибки Белецкого связаны с незнанием им нашей жизни, и нельзя такому незрелому человеку вручать диплом, открывающий доступ к высоким должностям. Помню, как веселился по этому поводу мой добрый знакомый Миша Левин: «Ты, таким образом, когда окончишь, станешь единственным выпускником университета, которому по этому случаю гарантирована высокая должность». С другой стороны, возможность окончания университета оставалась чисто теоретической, так как никакие реальные сроки не назывались.
Первое заявление с просьбой о восстановлении я направил в МГУ ещё до поездки на целину (в 1957 году). Понимая шаткость своих шансов, я просил о зачислении на заочное отделение – по существу мне всё равно, а для университета лучше, чтобы я был подальше.
Чтобы узнать ответ, я возвращался с целины в Ереван через Москву. Поселившись у тёти Жени, первым делом, не тратя времени, пошёл в университет.
Огромное впечатление на меня произвела встреча с Колмогоровым. Напомню, что как раз Колмогоров, будучи деканом, под давлением партбюро подал представление на моё исключение, потом пытался отозвать его, но было уже поздно. А потом его и вовсе отстранили от этой должности.
Я переписывался с Колмогоровым на тему своего восстановления ещё из Еревана, и по его письмам было видно, что он искренне хочет моего восстановления. И так же было видно то, что я знал и без этого, – как мало от него зависит. Что значило в советском университете слово академика с мировым именем в поддержку своего ученика (между нами говоря, плохого ученика, но это как раз не имело значения)? Так же он меня встретил и сейчас. Больше всего меня поразило, что Андрей Николаевич чувствовал вину передо мной и видно было, как он это переживал. Одни из первых его слов ко мне прозвучали так: «Ведь вы не думаете, что я поступил непорядочно, вы же подаёте мне руку». (Последние слова я воспринял как своего рода реакцию на пассаж из моей крамольной статьи, касающийся советских писателей: «… все без исключения писатели … представлялись мне людьми жадными, продажными и беспринципными, недостойными того, чтобы порядочный человек подал им руку»). И это мне говорит Колмогоров! Тут бы мне броситься к нему и рассказать, как я его уважаю и ценю, так что никакой капли обиды на него у меня быть не может. До сих пор жалею, что этого не сделал. Но его слова стали для меня примером того, какую ответственность чувствует благородный человек за каждый свой поступок, как подвергает его моральной оценке, как тяжело переживает возможность сомнения в его безупречности.
Другое университетское впечатление было скорее забавным. В университетском коридоре я столкнулся с секретарём факультетского партбюро по фамилии Согомонян. Хотя я не помню его личных высказываний по ходу моего исключения, но, судя по результатам, кое-что в этом направлении он сделал. И вот сейчас, увидев меня, бросается ко мне с улыбкой, приветствует как земляка и успокаивает – дескать, всё будет хорошо. Что же, он в первую очередь армянин, а уже потом коммунист? И я для него в первую очередь гость Армении, а уже во вторую – инакомыслящий?
А вот ректор университета Иван Георгиевич Петровский, к которому я пришёл со своим заявлением, не бросился ко мне с улыбкой. Когда я вошёл, он встал из-за стола и пошёл ко мне навстречу, так что мы встретились где-то посреди его обширного кабинета. И вместе двинулись по направлению к двери, причём он едва ли не поддерживал меня под руку. Объяснять, кто я и зачем пришёл, не пришлось – было ясно, что это он знает. И при этом он гостеприимно приговаривал: «Приходите, приходите в другой раз». «Когда же?» – переспросил я его и услышал ответ: «На следующий год». Примерно так же он встретил той же осенью и мою маму – с той разницей, что её пришлось выслушать, и это вряд ли доставило ему удовольствие. По этим встречам мама с большой симпатией отзывалась о Колмогорове, к слову сказать, написавшего ей тёплое успокаивающее письмо, а Петровского возненавидела как едва ли не главного виновника моего исключения. И совершенно несправедливо. Володя Тихомиров, гораздо лучше представлявший ситуацию, в позднейшем интервью «Мемориалу» говорил о Петровском как о мудром политике, который сделал много, чтобы замять это дело и не дать КГБ его раздуть. И если без жертв было не обойтись, то он старался их минимизировать.
Не скажу, чтобы этот результат был для меня неожиданностью. Я только осознал, что подобным образом со мной могут обращаться сколь угодно долгое время.
Вторая попытка осенью следующего года подтвердила это предположение. Приехал с самой лучшей, какая может быть, характеристикой: способный молодой учёный, активный общественник, герой целины и пр. Колмогоров написал в мою поддержку письмо Петровскому, но это не помогло. Результат оказался тот же: в этом году нельзя, приходите в следующем.
Тут уж поневоле задумаешься: а чем следующий год будет лучше? И если я был озадачен, то можете представить, как запаниковала моя мама.
В Ереванском университете
И здесь мне на помощь пришло моё ереванское начальство.
К тому времени (осень 1958-го) слово «начальство» приобрело для меня другое наполнение. Формально я продолжал числиться в институте Мергеляна, но институт здорово разросся, Мергеляну добавилось хлопот, сам я, да и весь машинный перевод в круге его забот занимал всё меньшее место, а работы по этой проблематике сосредоточились в Вычислительном центре Академии наук. Все мои коллеги и формально были сотрудниками ВЦ, а я там работал фактически, не имея с институтом Мергеляна ничего общего, кроме получаемой довольно скромной зарплаты. Так что моим реальным начальством был упоминавшийся завотделом Тэд Тер-Микаэлян и директор ВЦ Рафаэл Александрович Александрян, тоже красивый и интеллигентный, только выглядевший чуть старше и солиднее. Если не ошибаюсь, оба они в студенческие годы были сокурсниками и друзьями Мергеляна.
Оба моих начальника относились ко мне весьма тепло, а Тэд так и просто по-дружески. И когда я вернулся из Москвы, обескураженный неудачей, они подумали и предложили другой вариант – получить диплом в Ереване. Но, так как положение у меня было нестандартное, нужно было всё хитро оформить. Мы вчетвером (включая Володю Григоряна) от имени Мергеляна составили письмо ректору МГУ Петровскому такого содержания: дескать, Белецкий, работая в ЕрНИММ и проявив себя там с самой лучшей стороны во всех отношениях (следовало подробное описание), подал заявление о поступлении на 5-й курс физмата Ереванского университета; но поскольку он окончил 4 с половиной курса МГУ, ЕрГУ опасается, не будет ли с его стороны неэтичным выдавать свой диплом столь замечательному специалисту, фактически подготовленному Московским университетом; не претендует ли мехмат МГУ на то, чтобы Белецкий получил именно московский диплом? Петровский довольно быстро отреагировал, сообщив, что МГУ на Белецкого не претендует и никаких претензий к ЕрГУ в связи с этим иметь не будет. После чего я и был благополучно принят на 5-й курс физмата ЕрГУ. Был ноябрь или декабрь 1958-го.
Особых трудностей обучение в Ереванском университете мне не доставило. Предстояло только досдать три экзамена. Два из них были по математическим предметам, которых в МГУ не было: теории чисел и начертательной геометрии. Первый из них подучить было легко, а вот как я справился со вторым, не помню – я ведь никогда не умел чертить. Возможно, мне просто зачли его по телефонному звонку.
На экзамен же по историческому материализму я шёл с некоторым трепетом. Во-первых, идеологический предмет, так что почему бы партии не подставить мне подножку. Во-вторых, я просто ничего не знал. Я бы ни за что не решился так идти, если бы не Володя, заявивший мне: «Не морочь себе голову, я поговорю с экзаменатором, это мой приятель». «Ну, что же, – подумал я, – может, такова ереванская специфика». И не ошибся.
После нескольких первых вопросов, на которые я не мог дать вразумительного ответа, (один из самых трудных: «Какие источники вы читали по предмету?») профессор спросил меня: «Вот вы кибернетик. Как вы думаете, может ли машина мыслить?» Сначала я по привычке решил, что это провокация и подвох, и начал лихорадочно соображать, что по этому поводу полагается мыслить по их марксистской единственно верной идеологии, но потом посмотрел в чистые глаза профессора и поверил, что ему и вправду интересно поговорить на эту модную тему с грамотным специалистом, каковым он меня, очевидно, считал. Тут у меня развязался язык, и я стал с ним живо рассуждать. Наша беседа затянулась, вошёл профессор Севак, знаменитый и действительно замечательный лингвист, бывший Володин учитель, очевидно подосланный последним и обеспокоенный тем, что экзамен слишком затянулся. Он стал уговаривать моего экзаменатора: «Мэр тг'ан э, лав тг'ан э, шут вэрчацри». «Лав патасханум э, хима квэрчацнэм»– отвечал мой экзаменатор и, действительно, скоро кончил разговор, поставив мне пятёрку. Кажется, это была единственная моя пятёрка по общественным предметам за университетское время и, во всяком случае, единственная содержательная и доброжелательная беседа с марксистским преподавателем.
(Здесь позволю себе отступление об армянских марксистах. Через несколько лет мне довелось слушать лекции по философии для вступительного экзамена в аспирантуру. Профессор попался из тех, кто любит поговорить о чём угодно, кроме своего предмета. Уже на первой лекции он заговорил о том, как любит Достоевского, в подтверждение чего прочёл наизусть начало «Преступления и наказания» – примерно страницу. И добавил, что в молодости помнил чуть ли половину романа. Ну, это уж, наверное, было преувеличением).
А дипломной работой мне вообще не стоила специального труда – я просто описал свой алгоритмический язык. Руководителем работы был, разумеется, Мергелян.
Получение же самого диплома было чистой формальностью. Кстати, это сразу отразилось на моей должности и зарплате: из техников я был переведен в инженеры и стал получать уже 1300 «старых» рублей – почти вдвое больше, чем в день поступления.
У меня свалился камень с души ещё и потому, что, наконец, успокоились мои родители. Расскажу о реакции мамы. Мама всю жизнь курила, научившись этому от папы. Доктор Пхакадзе после папиной операции запретил ему курить, и он бросил. А мама продолжала, причём курила целый день, сигарету за сигаретой. Я много раз пытался её от этого отговорить. И когда, гостя у родителей после исключения из университета, вернулся к этой теме, она пообещала: «Как только ты получишь диплом, я брошу». Известие о моём дипломе пришло, когда мама была на работе. Папа или Катя позвонили ей: «Телеграмма от Миши. Он получил диплом». Мама, вынула изо рта сигарету, которую, как обычно, курила, погасила её о пепельницу и больше в своей жизни к табачным изделиям не притрагивалась.
Игорь Заславский
Где-то вскорости после получения мною долгожданного диплома наш Вычислительный центр принял ещё одного изгнанника, за которым стояло более серьёзное – по сравнению с моим – дело.
Игорь (Дмитриевич) Заславский был «подельником» получившего достаточную известность в более позднее время Револьта Пименова. О Пименове я впервые услышал от Заславского, в 60-е годы появились его подробные воспоминания о процессе и приведшей к этому деятельности, но мне довелось познакомиться с ними только совсем недавно на сайте Сахаровского центра. Револьт Пименов (1931-1990) был человеком исключительно ярким. Так сказать, Рахметовым нашего времени. С юных лет сознательно выбрав путь борьбы с режимом, в 1956 году он создал подпольную организацию, писал самиздатские статьи и листовки. В общем, всё это сильно напоминало первые нелегальные кружки середины XIX века, например, Петрашевского или ранних народовольцев, последователем которых сознавал себя Пименов и историю которых знал, можно сказать, профессионально. В нашем же обществе, после десятилетий террора и последовавшей подавленности такая форма была совершенно внове, группа Пименова стала одной из первых. Среди участников пименовского кружка был и Игорь Заславский. Происходило же всё это в Ленинграде, Пименов и Заславский были недавними выпускниками математико-механического факультета ЛГУ.
Конечно, КГБ без особого труда обнаружил группу. В конце марта 1957 г. были арестованы пятеро её участников, включая самого Пименова и Заславского. В августе состоялся суд, на котором Пименов получил 6, и Заславский – 2 года исправительно-трудовых лагерей. Это был едва ли не первый политический процесс послесталинского времени, следствие и суд ещё плохо ориентировались, как вести себя в этих условиях, и, в противовес временам разоблачённого «культа личности», старались соблюдать законность. Сегодня, когда знакомишься с материалами процесса, удивляет и его относительная цивилизованность, и малый круг обвиняемых, и мягкость приговора. По сравнению с тем, что мы позже видели на Украине, это было другое время и другая страна, и как бы другая цивилизация. Тем не менее, и для того времени это было уж слишком в духе буржуазного гуманизма. Первоначальный приговор отменили за мягкостью, подсудимым увеличили сроки. Всем, кроме Заславского – он так и остался со своими 2 годами.
Вернувшись весной 1959 года из лагеря, Игорь некоторое время промаялся в Ленинграде, где его не брали ни на какую работу. Работа каким-то образом нашлась в Ереване, в нашем ВЦ, где он и появился, кажется, в том же 1959 году.
(Вот такой город Ереван. Замечу, что, кроме нас двоих, Ереван пригрел куда более серьёзного диссидента –Юрия Орлова. Уволенный в 1957 году из московского Института физики, он нашёл приют в таком же институте в Ереване, стал членкором. В отличие от нас с Игорем, не спрятался, впоследствии стал активным правозащитником, одним из создателей Московской хельсинской группы. К сожалению, живя в Ереване, я не слышал о нём, так что познакомиться не довелось).
Наше с Игорем знакомство состоялось по принципу: «Рыбак рыбака видит издалека». Близость мировоззрения, определённое сходство судеб (если отвлечься от разницы мер наказания) – оба пострадали от советской власти. Да и заметное сходство характеров. Игорь был человеком мягким, спокойным, добродушным, с чувством юмора – в общем, очень располагающим к себе. Такой невысокий сутуловатый, очкастый, улыбающийся, с заметно семитской внешностью. Добавьте к этому исключительную эрудированность и ленинградскую интеллигентность. Так что у меня теперь в Ереване стало два близких друга: Володя Григорян и Игорь.
Затаив дыхание, слушал рассказы Игоря о его деле. И не верил своим ушам – неужели у нас уже появились такие формы противостояния с системой? И за это не так сильно карают! Так это же мы возвращаемся к цивилизованным нормам царского режима! Но вот что интересно – Игорь рассказывал только о том, что было до ареста, причём довольно детально: что представлял из себя Пименов, что они обсуждали. Сейчас, читая мемуары Пименова, я то и дело находил там знакомые моменты. Рассказывал с юмором и с заметной симпатией к самому Пименову. И ни слова ни о следствии, ни о суде, ни о лагере. Не знаю, почему. Мне бы очень хотелось услышать о лагере, тогда-то мы об этом совсем не знали, но было как-то неловко расспрашивать.
Но, разумеется, этим круг наших тем не исчерпывался. Говорили мы обо всём на свете, что нас интересовало, а интересовало многое: литература, история, наука, Армения, политика, и прочая, и прочая, и прочая. И по большинству вопросов наши мнения сходились. Я, во всяком случае, не могу припомнить, чтобы о чём-нибудь у нас возник жаркий спор, и мы бы защищали противоположные точки зрения.
При всей серьёзности обсуждаемых проблем мы много шутили. И друг к другу обращались шутливо: «Старик», или реже – «Мымрич». Недавно Игорь мне напомнил, как мы веселились, читая польские книжечки из “Biblioteki Staсchyka” – Станислава Мрожека или «Мысли пса Фафика и других» (в ту пору польская литература всё больше входила в моду).
По специальности Игорь математический логик, ученик Андрея Андреевича Маркова, коллега Геры Цейтина, упоминавшегося в прошлой главе. Его математические работы ценили, и, когда он был в лагере, математики, включая Маркова, обращались к властям с просьбами о создании ему условий для работы. В отличие от меня, Игорь на всю жизнь остался действующим математиком. Казалось бы, зачем в вычислительном центре математик-теоретик, не программист? Оказывается, нужен. Не прошло и года после приезда Игоря, как наш ВЦ без него уже нельзя было представить. Не говоря о тех или иных прикладных задачах, Игорь самим своим присутствием, участием в обсуждениях придавал Центру дополнительную научность. Одновременно преподавал в университете. И при этом продолжал работать в теории алгорифмов, написал большую монографию.
Особая тема – как Игорь прижился в Армении. До его появления пальма первенства по адаптации принадлежала мне, но он меня живо превзошёл. К моменту моего отъезда через три года он знал армянский заметно лучше меня. А уже через несколько лет лекции в университете читал по-армянски. Вскоре женился на симпатичной девушке, своей коллежанке Седе Манукян, в отличие от девушек из моей группы, по природе армяноязычной (хотя, конечно, говорившей и по-русски), так что в его семье армянский зазвучал чаще русского. Так Игорь окончательно обармянился, и сегодня он признанный и уважаемый армянский учёный.
«Политика»
Здесь, заговорив на околополитическую тему, стоит сказать пару слов о моём восприятии политико-идеологической ситуации в ту пору. А оно-то заметно трансформировалось.
Начать с того, что моё исключение и последовавшие за ним трудности в получении диплома ни привели ни к одному из двух возможных негативных последствий: ни к озлоблению в связи с этим на советскую власть, ни к особой боязни её и стремлению ей угодить. Да, собственно я и не имел к ней больших претензий – ну, ладно, исключили, так не посадили же, ничего страшного, зато я так прекрасно устроился и, даст Бог, будет ещё лучше.
Можно сказать, что я переставал быть «политически травмированным». Моя политическая позиция всё меньше заключалась в неприятии советской власти, потому что в те годы для такого неприятия не было оснований. Этому способствовала и сама атмосфера Армении – я не ощущал никакого идеологического навязывания или давления. Как будто бы живёшь в почти свободной стране. Да и всё хрущёвское правление той поры не вызывало серьёзного отторжения. Конечно, ряд инициатив и высказываний – то с кукурузой, то со стуком ботинка на сессии ООН – служили поводом для шуток и анекдотов, но в целом это был добродушный юмор: таков наш Никита, простоват, чудаковат, зарывается, но ведь хочет хорошего – разоблачил Сталина, налаживает отношения с Западом. Едва ли не единственным серьёзным негативным шагом Хрущёва этого периода стал организованный им берлинский кризис – блокада Западного Берлина (ноябрь 1958), бряцание оружием, казалось, завтра из-за этого начнётся война. Потом отступил, обошлось.
Вообще же в политическом плане это было очень интересное время. Люди моего поколения, по крайней мере, в моём окружении, весьма и весьма интересовались политикой. Следить же за политической ситуацией означало совсем не то, что в нынешнее время. На Западе выдумали специальное слово для обозначения особой отрасти политологии – «кремлеведение». Вот и мы, расширяющийся круг критически мыслящей интеллигенции, «детей XX съезда», в основном молодёжи, были такими «кремлеведами». Главной особенностью этого метода изучения действительности была необходимость делать выводы из исключительно скудных источников – почти только из советской печати. Примерно в таком же положении находились и западные «кремлеведы». Мы, в отличие от них, не имели возможности широко обмениваться информацией (зарубежные «голоса» были для нас слабо доступны), но зато имели то преимущество, что впитывали эту информацию из воздуха, которым дышали, и чувствовали на своей шкуре. Казалось бы, что можно вычитать из советских газет? Ан, умеючи, можно вычитать многое. Из порядка, в котором перечислялись вожди. Из того, кто где упомянут или не упомянут. Из оттенка интонации в речи вождя или в передовице «Правды». Игорь Заславский рассказывал о знакомом виртуозе, который за месяц до партийного съезда, исходя из этих данных, мог назвать состав следующего политбюро. (Вообще ближайшее будущее было тогда, как правило, запрограммированным, а потому в принципе прогнозируемым).
Так вот, исходя из своих «кремлеведческих» изысканий, мы все твёрдо знали о борьбе вокруг «сталинского наследия», ведущихся в партийных верхах после XX съезда. О том, что борьбу против него олицетворяет Хрущёв, чего было достаточно, чтобы мы ему горячо сочувствовали. (Другая сторона деятельности Хрущёва, безапелляционное командование в литературе и искусстве, в ту пору была ещё не так заметна и казалась чем-то менее значимым). А ему противостояли старые сталинцы, известные нам по именам. Можно представить себе, с каким горячим интересом мы следили за «перетягиванием каната» между этими силами, как сочувствовали одной стороне и желали поражения другой. В течение почти всего периода, о котором я пишу, победы были на нашей стороне, и это прибавляло нам оптимизма.
Вот июнь 1957 года (всего лишь полгода после моего исключения). Пленум ЦК «разоблачает» «антипартийную группу» старых сталинцев. Страна, уже научившаяся относиться к перестановкам в верхах с юмором, отвечает на это многочисленными шутками и анекдотами, например, студенческой песней:
Мы узнали из газеты,
Будто где-то есть на свете
Фракция,
Что они бы делать стали,
То, что раньше делал Сталин, –
Фракция!
Нас ни купишь ни водкой, ни золотом,
И не сломишь военною силой –
Маленков, Каганович и Молотов
И примкнувший к ним Шепилов!
Последнее словосочетание, тысячу раз повторенное, само служило темой анекдотов вроде такого: самая длинная русская фамилия «Примкнувшийкнимшепилов».
Заслуживают внимания манипуляции победителей при перечислении «антипартийной группы». Долгое время называлась только указанная четвёрка – видать, больно не хотелось показывать, что против Хрущёва оказалось большинство политбюро. Но от народа не скроешь. В последнем куплете той же песни состав «фракции» перечислялся речитативом уже в расширенном виде:
Мы за партию сложим все головы,
Как нас этому с детства учили
Маленков, Каганович и Молотов,
Ворошилов, Булганин, Сабуров, Первухин
И примкнувший к ним Шепилов!
(Две из этих фамилий сохранились в моей памяти только благодаря песне).
Неупоминавшуюся четвёрку просто понемногу оттесняли от власти – кого потихоньку, а кого с осторожным упоминанием грехов перед партией. Наиболее заметным было отстранение через три года (май 1960) прославлявшегося в своё время «верного соратника», ведущего нас в бой «первого маршала» Клима Ворошилова. Он каялся, признавал ошибки, заявляя, что его «нечистый попутал». Но это не помогло – его сняли с поста руководителя Верховного Совета (непредусмотрительно назначив незаметного Брежнева, впоследствии оказавшегося для Никиты Сергеевича куда более опасным конкурентом). На это смещение Серёжа Яценко откликнулся в своём духе – переделкой популярной в то время окуджавской песни о Ваньке Морозове:
За что ж вы Клима Ворошилова?
Ведь он ни в чём не виноват.
Его дела не ворошили вы,
А он ни в чём не виноват.
…………………………….
Она [фракция] по проволке ходила,
Махнув на партию рукой.
И партия её схватила
Своей мозолистой рукой.
…………………………….
Теперь заслуги позабыты,
Их не воротишь, не вернёшь.
Эх, что же, что же ты, Никита?
Ведь сам по проволке идёшь!
Последние слова оказались пророческими.
(Переделка стала известна и самому Булату Шалвовичу, и много позже, уже после развала Союза, он одобрительно отозвался о ней, но авторство приписал «физикам». Прочтя его интервью в «Известиях», я почувствовал обиду: какие физики, это же наш Серёжка!)
Но самое торжество, самый пик борьбы со Сталиным – октябрь 1961-го, XXII съезд партии. Бесконечные смелые разоблачения, заклинания: «Это не должно повториться!». Переименование Сталинграда, Сталино, Сталинабада и ещё десятков более мелких. Вынос тела Сталина из Мавзолея, торжествующие стихи по этому поводу в газетах:
Выносят саркофаг, выносят саркофаг,
История вот так вождей на место ставит.
Кажется, в «Правде».
Тому, кто не жил отщепенцем при Сталине, не понять всей степени нашей радости, да и радости тех, кто прозрел позднее. Как сказал тот же персонаж, хотя и по другому поводу: «Сорок лэт ждали мы, люди старшего поколэния, этого дня».
К осени кампания переименований и снятия памятников дошла и до Еревана. Центральная улица – проспект Сталина – была переименована в проспект Ленина (сейчас он, наверное, проспект Независимости или что-то подобное). А в одно прекрасное утро весь Ереван увидел замечательную картину. Все предыдущие годы над городом нависала огромная фигура Вождя и Учителя – в парке Ахтанак (Победы) был установлен гигантский монумент (слово «Монумент» звучало в Ереване как название именно этого памятника) работы Меркулова, высотой в добрый десяток, если не полтора десятка метров. По величине это был второй памятник в Союзе – первый стоял на Волго-Донском канале. Монумент был виден из любой точки города, кроме новых отдалённых районов. И вот, повторяю, в одно прекрасное утро на глазах всего города бронзовый истукан начал медленно наклоняться. Странная это была процедура – отнюдь не повешение, которому через много лет был подвергнут «железный (в данном случае бронзовый) Феликс». Учитывая вес монумента, здесь это бы не прошло. К нему пригнали множество бронетранспортёров, привязали тросы и начали наклонять. Делалось всё невероятно медленно, так что к концу дня он наклонился всего градусов на 45, и в таком положении его застало следующее утро. Через день или два после того, как он был снят, я не отказал себе в удовольствии подняться в парк Ахтанак к поверженному вождю. Голова уже была отделена от туловища и начала подвергаться дальнейшему распиливанию. Я со злорадством ткнул её ногой.
(Через несколько лет на том же каменном постаменте, отличающемся удивительно красивой художественной резьбой, была установлена скульптура с другим идеологическим наполнением – Мать Армения).
Довольно забавно поступили с другим памятником, недалеко от нашего ВЦ, во дворе какого-то медицинского учреждения. Это был памятник стандартного содержания – Ленин и Сталин в Горках, в человеческий рост, оба сидят на скамье. Фигуру Сталина просто сняли, а Ленин остался один, как бы беседуя с невидимым собеседником, человеком-невидимкой.
А за полгода до съезда, 12 апреля 1961-го – полное торжество страны, народа, советской науки, да и чёрт с ней, коммунистической партии – полёт Гагарина! Подобного мне в жизни видеть не приходилось. Казалось, все люди вокруг, и я, грешный, вместе со всеми, полны радости и гордости за свою страну. Незнакомые люди бросались обнимать и поздравлять друг друга: ай да мы! ай да сукины дети! Что сделали! Вышли в космос! Первыми! Как мы все полюбили Гагарина и каким он для нас стал родным и близким!
Письмо в ЦК
Иллюстрацией моего примирения с советской властью может служить такой эпизод.
В сентябре 1958 года была опубликована записка Хрущёва о перестройке работы учебных заведений. Мне очень понравился момент записки, предлагающий вечерние (и/или заочные?) вузы нового типа, как бы помогающие людям заниматься самообразованием в интересующем их направлении. В общем-то, может быть, имелось в виду не совсем это, но я воспринял предложение именно так, поскольку это было созвучно моим давним размышлениям и прожектам. Вот, например, человек заинтересовался индийской философией – и тут же к его услугам университет, где он может этим заниматься. Воодушевлённый, я изложил ряд предложений в этом направлении, оформив их в виде письма в ЦК КПСС. И закончил его сдержанной похвалой в адрес партийного руководства (единственные слова в письме в его адрес): «В заключение я хочу сказать, что меня обрадовали и удовлетворили своевременная постановка и решение вопросов об изменении работы высшей и средней школы». (Юмор положения в том, что как раз в это время сам я никак не мог получить возможность закончить собственное высшее образование).
Прошло несколько месяцев. Вдруг у Мергеляна раздаётся телефонный звонок: «У вас работает Белецкий? Ему следует срочно явиться в ЦК Компартии Армении». Звонок достаточно странный, при моей репутации несколько тревожный. И вот я прихожу с паспортом к воротам ЦК, мне выписывают пропуск, и я по длинной аллее подхожу к прекрасному зданию, одному из шедевров Марка Владимировича Григоряна, Володиного отца. В указанном мне кабинете довольно безликий чиновник говорит одну фразу: «Центральный комитет поручил мне поблагодарить вас за ваше письмо».
Когда я рассказал об этом Володе, он смеялся и, зная нравы высокого партийного начальства, объяснял мне: «Они не любят оставлять никаких следов. Сказали спасибо, проявили вежливость, а попробуй на них сошлись».
Глава 5. Походы
Вокруг Еревана: характер местности
Рассказ о больших и малых походах этого периода моей жизни нужно начать, конечно, с походов (может быть, лучше сказать «прогулок») по Армении. Да я, собственно, с них уже и начал во 2-й главе, сейчас остаётся продолжить.
Я не зря назвал их прогулками – уж больно они отличались от воскресных походов в моём, московском студенческом понимании, о которых здесь никто и не слыхивал. Да и невозможен был наш подмосковный туризм в окрестностях Еревана (то есть, в местах, куда из Еревана можно добраться в пределах полутора-двух часов). Совсем другой характер местности, непохожий на Подмосковье. Непохож он был и на Северный Кавказ, разве что несколько напоминал Памиро-Алай своей суровостью, но без его гор и его масштабов. Бесконечная холмистая местность, почти без растительности. Здесь почти нет пеших троп, да и любых транспортных артерий, кроме нескольких шоссейных дорог, ведущих из Еревана. И при этом в суровых выжженных солнцем холмах есть своеобразная красота, известная нам по полотнам Сарьяна, да и других армянских художников. Впрочем, должен поправиться. Есть и в этих окрестностях места, покрытые зеленью, которые можно назвать живописными в привычном для нас понимании слова, – Цахкадзор или ущелье Азата в районе Гарни. Только здесь, среди суровых залитых солнцем холмов, они выглядят как исключение, подтверждающее общее правило.
Сегодня я с грустью думаю о том, что так и не осуществил своей мечты – пройти по Армении полноценным походом, по нашим университетским стандартам, хотя бы недели на две, по лесам и горным тропам. А ведь строил планы, списывался с Димой Поспеловым. Да не получилось, помешали другие планы, прежде всего – Памиро-Алай. Так что успел повидать только такие места, куда можно было съездить в выходной. Напомню, что в те годы «трудящиеся» (забытое советское слово) имели один выходной в неделю, что сильно снижало возможности моих поездок. Ну, иногда ещё полдня удавалось выцыганить у начальства.
О самых доступных и привычных местах я уже писал. Теперь расскажу о некоторых других – тех, о которых сколько-нибудь помню.
Арагац
Уже в первые месяцы моей и моих товарищей жизни в Ереване наше внимание не могла не привлечь единственная расположенная в его окрестностях, километрах в 50, вершина – Арагац, или в турецко-азербайджанском варианте – Алагяз. (Вообще значительная часть топонимов в те времена звучали на двух языках, например, река Раздан – Зангу. Произносят ли вторые названия сейчас?) Точнее об Арагаце нужно бы говорить как о небольшом горном массиве, включающем несколько вершин, самая высокая из которых поднимается на 4095 м – для Кавказа вполне приличная высота. Все или почти все они представляют интерес для альпинистов.
На вершину 3900 мы с товарищами взошли весной 57-го. Выехали мы ввосьмером, из перечисленных в предыдущих главах были Костя Каспаров (руководитель группы), Эдик Стоцкий и я. Правда, Эдик на вершину не поднимался, уж больно он был далёк от спорта. Всего же поднялись пятеро, из которых трое имели альпинистскую квалификацию.
Особенностью этого восхождения была его краткость – вот что значит жить рядом с горой. Вот расклад времени, восстановленный по моим записям.
Выезд из Еревана в субботу в середине дня. Как-никак, рабочий день, спасибо, что Институт отпустил нас раньше, да ещё и дал машину.
17:30 – прибытие в деревню Казнафар.
2 часа движения.
19:30 – остановка на ночлег. Рядом уже снег.
Воскресенье, 5:30 – подъём.
6:20 – выход.
10:40 – вершина.
11:00 – начало спуска. Вспоминается, как перед базовым лагерем, где оставшаяся тройка ждала «штурмовую группу», мы рвали для них букеты цветов – такова традиция.
К вечеру вернулись в Казнафар и оттуда уехали в Ереван на попутной машине.
В целом это было обычное альпинистское восхождение: снег, камни. Правда, совсем безопасное: ни трещин, ни крутых скал. Зато много труда (на альпинистском жаргоне – «ишачки»). Нам приходилось совсем трудно ещё и потому, что шли без всякой акклиматизации, – обычно полагается несколько дней привыкать к высоте, а здесь сразу с тысячи метров (высота Еревана) на четыре. Так что не хватало дыхания, глаза лезли на лоб. И шли-то всего один день, а обгорели напрочь, полезли губы и носы – вот оно, горное солнце с непривычки.
Костя квалифицировал вершину как 2А (то есть, по 10-балльной шкале 3-я снизу по сложности). Здесь он, пожалуй, преувеличил, но, во всяком случае, вполне серьёзная вершина, на такие и водят в альплагере для получения значка «Альпинист СССР».
На Арагаце мне довелось побывать ещё несколько раз. Один из них (в октябре 60-го) заслуживает упоминания в связи с публикацией в республиканской комсомольской газете: «Этим восхождением решено было ознаменовать 40-ую годовщину Советской Армении… След в след инструктору идёт спортсмен-перворазрядник Михаил Белецкий. В руках у него бюст Владимира Ильича Ленина». В последних двух фразах всё враньё. Никогда я не был перворазрядником по альпинизму, а в то время не добрался и до второго разряда. Что же до бюста Ленина, то трудно представить более идиотскую картину, чем альпинист, поднимающийся на вершину с бюстом в руках. Бюст полагалось установить на вершине, и его, действительно, кто-то нёс, но не я, и не в руках, а в рюкзаке. Я же был упомянут, скорее всего, в качестве русского человека в компании в порядке «дружбы народов». Сами же восхождения и прочие полезные мероприятия в честь бесчисленных юбилеев были хорошей традицией. Тут уж общественные организации торопились создавать нам условия, и мы этим пользовались.
Ещё я побывал не на самом Арагаце, а на подходах к нему зимой, значительно позже. Я был с группой довольно крепких армянских ребят постарше меня. Почти день мы поднимались к Бюраканской обсерватории (1500 м), чтобы потом скатиться от неё на лыжах. Нам предстоял отнюдь не слалом, а всего лишь относительно пологий спуск по дороге, вернее, по её покрытой снегом обочине – настолько простой, что и я, никакой не горнолыжник (и так никогда этому и не научившийся) не видел для себя трудностей и предвкушал удовольствие. Да и шли мы ни на каких не горных, а на обычных широких туристских лыжах. И надо же, что на первой же сотне метров спуска одна из моих лыж сломалась. Один из моих спутников, мне почти незнакомый, сжалившись надо мной, предложил интересный выход: я поставил лишнюю ногу на его лыжу, мы взялись за руки и так спускались вдвоём на трёх лыжах. Как ни странно, мы не так много падали, и получалось даже довольно быстро. Нельзя сказать, чтобы такой спуск доставлял удовольствие, но всё же куда лучше, чем идти вниз пешком. Но это мне было лучше, а мой спутник, помогая незнакомому человеку, лишил себя удовольствия хорошенько скатиться с горы, ради которого сюда и шёл. Через много лет вспоминаю его с благодарностью.
Молокане и гостеприимный крестьянин
Из коротких прогулок по Армении мне особенно запомнилась одна – в северных окрестностях Севана. Шли мы вдвоём с Робертом, недавно приехавшим российским армянином. В субботу ушли с работы пораньше, так что ранним вечером добрались до Севана. А от озера пошли налево от шоссейной дороги, вверх, вверх, пока не добрались до молоканской деревни. (Как называется? Узнать!) Впечатление от неё было яркое – как будто попал в Россию на добрую сотню лет назад. Добротные деревянные избы. Мужики с бородами лопатой в рубахах старинного покроя, степенные, не суетливые. Такие же старинные бабы. Как будто здесь никогда и не было советской власти. (Вот не помню, как у них было с колхозами). Нас охотно приютили в одной избе. Простая еда. Перед едой молитва. В доме на видном месте – Библия. (Судя по всему, так было в каждом доме). Мы на это смотрели, как обалдевшие. Попросили разрешения полистать Библию – я её держал в руках впервые, как-никак, почти запрещённая литература. Старинное синодальное издание (а какое могло быть ещё?). Мы предприняли робкую попытку интервью на религиозные темы. Хотелось понять веру хозяев, для нас это было за семью печатями, да как расспросишь?
Утром вышли пораньше и спустились к шоссе у перевала. (Название?) Но спускаться с него к Дилижану не стали, а поднимались вверх по тропе, перпендикулярной шоссе. Вокруг та же сухая и суровая армянская земля, растительности почти нет, всё выжжено, камни. Потом спустились в заповедник, здесь уже веселее, деревья, красивое озеро с азербайджанским названием (каким?), которое и было одной из целей нашего путешествия. Под вечер вышли к большой старинной деревне Гош. Мы стояли на пригорке прямо над ней и размышляли, что делать дальше – идти по деревне или обойти. И как отсюда добираться домой? В это время из дома внизу под нами вышел человек, посмотрел в нашу сторону, увидел нас и призывно замахал руками – дескать, заходите. Тут уж нам не оставалось выбора, нельзя же обидеть хозяина дома. Мы обменялись первыми приветствиями, и выяснилось, что старый крестьянин совсем не знает русского языка. Относительно моего знания армянского говорить не приходится, но и Роберт знал его не многим лучше меня. В общем, объяснялись мы на смешанном русско-армянском языке и знаками. Старик ввёл нас в свой дом, усадил за стол, достал нехитрые припасы: лаваш, сыр, виноград, домашнее вино. И каким-то образом мы всё же объяснялись. А когда кончили трапезу, он сказал слова, смысл которых я запомнил на всю жизнь: «Я сначала принял вас за шпионов и хотел звать начальство. Но теперь вы ели со мной хлеб, пили вино, и мне нет дела до того, кто вы такие. Оставайтесь в моём доме и ни о чём не беспокойтесь». То есть, судя по всему, нам так и не удалось убедить его, что мы не шпионы, но для него мы, прежде всего, были гости, и на нас распространялся закон гостеприимства. Он усиленно уговаривал нас заночевать, возвращаться в Ереван было уже поздно, и мы остались. Утром осмотрели старинную, отмеченную во всех путеводителях церковь, дождались попутки, добрались на ней до Севана, а в Ереване оказались далеко за полдень. Володя Григорян устроил мне изрядную взбучку: «Где это вас носило? Не могли сюда позвонить? Александрян пол-Армении на ноги поднял!»
За аметистами
Ещё одна поездка была любопытной по другой причине – мы отправились добывать «драгоценные камни». Костя Каспаров откуда-то узнал, что где-то под Дилижаном ведутся раскопки аметистов и агатов, практически не охраняемые. В ближайшее воскресенье мы поехали туда небольшой группой и убедились, что это чистая правда. Мы увидели сравнительно неглубокие песчаные траншеи. Стоило немного порыться в песке, и выходишь на жилу аметиста толщиной сантиметров в 12. Когда отбиваешь кусок, он легко разделяется на две части, на каждой с одной стороны тонкая каменная кожура, а с другой – кристаллы, меняющие цвет от белого к фиолетовому; кристаллическими сторонами эти две части и примыкали друг к другу. Высказывалось предположение, что это некачественные аметисты, потому их так и оставили, – не знаю. Там же легко было найти и агаты, формой и размерами напоминающие яйцо. Каждый из нас набрал по небольшому рюкзачку этих драгоценностей. Я долгие годы дарил их друзьям и знакомым, пока на моей полке не остался последний аметист.
Новая компания
С течением времени состав моих спутников менялся. Многие из коллег по Институту покинули Ереван, а взамен появились другие. Я как-то прибился к туристско-альпинистской группе ребят и девушек из Политехнического института, возглавляемой крепким и энергичным Володей (фамилия?). Как раз с ними я и поднимался на Арагац «с бюстом Ленина в руках». С несколькими ребят из этой группы мне довелось подняться ещё на одну «настоящую» гору Армении – Капутджух (3906) в Зангезуре, добираться до которой пришлось довольно долго: поездом до Кафана, потом машиной, потом ногами. Запомнились мне эти места своей красотой: ставишь палатку на зелёной поляне, бежит горный ручей, а со всех сторон горы. И сразу над тобой нависает и хорошо просматривается нечто огромное, вверху покрытое снегом. Потом я потерял этих ребят, и только недавно снова возникла одна из них – Асмик Григорян.
Зангезур
В Зангезуре мне довелось побывать ещё однажды, уже в те годы, когда я снова жил в Москве. Я приехал в Ереван на очередную конференцию по машинному переводу вместе с большой группой коллег из других городов, в большинстве своём заядлых туристов (в числе их, конечно, были и Игорь Мельчук, и Оля Кулагина, и Гера Цейтин), и вот среди нас возникла идея добраться до Зангезура, такого интересного района, о котором много слышали, а видеть не приходилось. Даже и я, прожив пять лет в Армении и немало походив по ней, его, в общем-то, не повидал – подъём на Капутджух не в счёт, в тот раз, кроме самой этой горы, мы больше ничего и не видели. Услышав о нашем горячем желании, в организацию похода активно включился Тэд Тер-Микаэлян, род которого как будто бы и шёл из Зангезура, так что, по здешним представлениям, мы оказались как бы его гостями.
Добираться до Зангезура было не так-то просто. Казалось бы, Армения – маленькая страна, всё рядом, от Еревана до Гориса, сердца Зангезура, меньше 200 километров. А вот добираться до него поездом, потом машинами заняло бы около суток. Оставалось лететь, а это тоже непросто – самолёты летают нерегулярно из-за капризов погоды. Но вот, наконец, мы на борту крохотного кукурузника, который минут через сорок приземлился в Горисе. Оттуда мы идём в Татев, в окрестностях которого и живут родственники Тэда. Места фантастические, вокруг «каменный лес» – причудливые скульптуры из выветренного песчаника: тянущиеся вверх «пальцы», на которых зачастую лежат более плотные камни, складываясь вместе с ними в огромные «грибы». Но больше всего поражает чудо природы – Чёртов мост, Сатанаи камурдж. Это трудно себе представить. Идёшь по относительно плоскому плато, вокруг те же изваяния, слева в нескольких сотнях метров щель, внутри которой угадывается река, слышен её шум, но ты её не видишь. И вдруг дорога сворачивает прямо к этой щели, и ты ахаешь. Река Воротан глубоко под тобой, метров, наверное, на 200, ревёт и бурлит со страшной силой. Другой берег совсем рядом, метрах в двадцати. А между двумя берегами – естественный мост, базальтовое (или подобное ему) образование. Такое впечатлении что кто-то – упомянутый сатана, что ли? – специально расплавил неизвестно откуда взявшийся базальт. Мост узкий, и идти по нему страшновато – могу подтвердить, хоть мне не свойственна боязнь высоты.
У родственников Тэда нас ждал армянский приём – накрытый стол, шашлыки, вино. Разместили нас – человек десять, если не больше, – в гостевой комнате, то есть специально предназначенной для размещения приехавших гостей. Разложили матрацы, каждому постелили постель. Но постелили на полу, что дало Тэду повод возмущаться бедностью, до которой довела советская власть: как же так, его родственники, такие почтенные люди, а не могут себе позволить как следует принять несколько десятков гостей, кормить и поить их неделю, уложить в кровати и так далее.
На следующий день нас ждало ещё оно интересное впечатление: Хндзореск – город пещерных домов. С незапамятных времён люди здесь не строили домов, а выбивали пещеры в скалах из песчаника и в них жили. Продолжали так жить и во время нашей поездки – правда, теперь уже бульшая часть населения жила в обычных домах. И вот идёшь и видишь: скала, а в ней двери и окна, из дверей выходят люди. Жаль, так и не довелось побывать в этих жилищах.
Не буду рассказывать здесь о других местах Армении, где довелось побывать, например, о замечательной красоты храмах Санаин и Ахпат – первый из них я потом узнал у Параджанова в «Цвете граната». Нужно бы, да слов не хватает, и память слаба.
Казбек
Рассказ о походах за пределами Армении начну с географически ближайшего – восхождения на Казбек. Было нас, кажется, шесть человек, то есть, три связки. Руководителем, конечно, Костя Каспаров.
Близился очередной то ли юбилей, то ли съезд, и мы с товарищами воспользовались случаем, чтобы в честь него организовать это восхождение. Начальству трудно было не откликнуться на такое проявление сознательности. Нас отпустили на неделю с сохранением зарплаты и даже дали грузовик. Вечером мы приехали в Тбилиси, а на следующий день по Военно-Грузинской дороге добрались до Казбеги. И сразу же – вверх по склону до хижины. Шли часа два, подъём крутоват, и нам с непривычки приходилось тяжело. На глазах менялся характер местности. Начинали от залитой солнцем грузинской деревни, заборы из круглых речных камней, цветущие деревья. Чуть выше – одни скалы, зелень исчезла. Потом начинает появляться снег. А потом уже только снег, достаточно жёсткий. Среди этого снега и стоит хижина. Рядом ледник, плотный фирн. В общем, мы уже в настоящих горах.
Следующий день был отдан на акклиматизацию. Связались в связки, надели кошки, походили туда-сюда по леднику. Подошли к ледопаду – это такая ледяная стена. Костя поучил новичков простейшим приёмам – пользоваться ледорубом, рубить ступени, страховаться.
На Казбек вышли рано утром, чтобы успеть пройти ледник и ледопад прежде, чем они начнут оттаивать от солнца. А дальше всё снег и снег. Идти нетрудно и не опасно – я люблю идти по снегу. Но скоро начали уставать. Не знаю, на сколько нужно было подняться в этот день, а высота Казбека 5033. То и дело не хватало дыхания, хотелось остановиться и дышать, дышать, дышать. Кажется, вот она, вершина, рукой подать. Поднимаешься, и то, что только что казалось вершиной, оказывается всего лишь чуть более крутым участком, а прямо перед тобой следующая «вершина». А тут ещё начала портиться погода. Солнце затянуло облаками, задуло. Костя начал беспокоиться. И, в конце концов, распорядился: «Две связки остаются ждать здесь, на вершину пойдёт одна». И уходит с кем-то из нас, к моему огорчению (но и облегчению), не со мной. Через короткое время возвращаются: побывали на вершине, сняли записку, оставили свою. Не вполне по-спортивному – нас, не дошедших, тоже записали как поднявшихся.
Памиро-Алай – 2
В прошлой части я писал о том, как наша сходившаяся пятёрка – Дима Поспелов, Серёжа Яценко, Лёша Данилов, Мила Смирнова (впоследствии Поспелова) и я – твёрдо решила ещё не раз возвращаться на Памиро-Алай. И он, действительно, стал для нас «базовым регионом». Год за годом мы готовились к походам именно сюда. Основательнее всех, как и прежде, готовился Дима – для него это было географическое исследование, он подбирал маршруты по ещё не пройденным местам, досконально изучая всё, что можно было найти. В походах он нёс с собой несколько тетрадей конспектов и карт, сверяя по ним каждый шаг, и сам вёл такие же записи. Мне довелось побывать на Памиро-Алае три раза, а Диме – по меньшей мере, четыре.
Во второй раз мы прошли по этим местам в августе 1958-го. Это был единственный памирский поход, в котором участвовала вся наша пятёрка, всего же нас было 8 человек. Среди них упомяну только Марка Тартаковского, начинающего журналиста, которого к нам привёл Лёша. Лёша вообще считался у нас специалистом по знакомствам в литературных кругах: он видел свой долг в том, чтобы в каждый поход привести очередного «писателя». На этот раз им оказался Марк, человек несколько иного типа, чем мы. По-журналистски навязчивый, лишённый такта, с высоким мнением о себе и местечковыми манерами, он иногда раздражал нас, но, в конце концов, был неплохим парнем и разнообразил нашу компанию.
В своих планах Дима размахнулся изрядно. Он решил исследовать сразу два неизвестных перевала Гиссарского хребта. Сначала, мы должны были перейти хребет с юга, от верховьев реки Ханакб к живописнейшему озеру Искандер-куль, известному нам с прошлого раза. Сведений о перевале было немного. В 1897 году Липский поднялся по реке до какого-то перевала, который тоже назвал «Ханака», но сам по нему не пошёл. А в прошлый раз таджики на Искандер-куле говорили нам о каком-то таинственном перевале, по приметам совпадавшим с искомой Ханакой: «Оби-Сафет пойдёшь – Сталинубод придёшь». От Искандер-куля мы должны были пойти назад на юг и пересечь Гиссарский хребет через некий Гиссарский перевал, о котором было известно ещё меньше: Федченко (тот знаменитый, которого ледник) слышал о нём в 1870-х годах.
После прошлого похода высокое туристское руководство нам уже доверяло, и теперь этот достаточно сложный маршрут утвердили. И мало того – для нашего обслуживания на Памир направилась вспомогательная группа из тех самых воспитанных Лёшей и Серёжей младшекурсников, о которых я писал в третьей главе. Мы несли с собой продукты только на первую часть маршрута – до Искандер-куля, где нас ждали со следующей порцией наши младшие друзья. Без этого было не обойтись – наша экспедиция была рассчитана на 25 дней.
Первый поиск окончился неудачей. Перевала Ханака (он же Оби-Сафет) мы не нашли. Пришлось идти более окольным путём через перевал Мура (через который в прошлый раз маршрутная комиссия нас не пустила, сочтя его слишком сложным). Зато с Гиссарским перевалом получилось интереснее.
Начну с различия наших сведений о первой и второй части маршрута. Когда мы шли по Ханаке, Дима мог сесть, достать свои записи и начать объяснять примерно так:
– Вот схема этого места, составленная Липским. Видите, здесь хребет, справа каменные завалы, посредине зелёный луг, по которому текут ручейки. Липский здесь встретил кочёвку – таджики пасли баранов. Впрочем здесь и сейчас место кочевки, – видите, всюду бараньи следы – в этих краях редко меняют места кочёвок. А слева должен быть большой камень.
Мы лезем влево и находим большой камень. Это почему-то особенно поражает Лёшу:
– Подумать только, произошли такие изменения, была революция, а этот камень остался лежать так же, как он лежал тысячелетиями!
– А ты ожидал, что революция должна сдвинуть все камни? – пытаемся охладить его мы.
Совсем иначе выглядели мы через две недели, дойдя до места, откуда вроде бы должны были подниматься на Гиссарский перевал. Описаний никаких. Вместо карт кроки' – то есть весьма приблизительная схема. И главное – никаких троп. Мы среди гор, в месте слияния двух небольших рек, просматривается три возможных пути. Дима достаёт кроки', поворачивает их туда и сюда, прикладывает компас и говорит неуверенно:
– Вроде бы нам сюда.
Часа через полтора мы оказываемся на узенькой стиснутой горами площадке. Горы подступают со всех сторон. Судя по всему, это последнее место, где можно сносно поставить палатки, дальше только камни и лёд. В нескольких десятках метров выше река выбивается из-под ледяного мостика. А на нашей площадке ещё трава, и даже с оттенком зелени. Хотя ещё рано, останавливаемся здесь.
Ночью нас будит гром и удары ливня по палатке. Сверху сыплются камни. Больше всего беспокоит, чтобы не поднялась вода в реке, залив нашу площадку. В общем, мы несколько перенервничали, это была беспокойная ночь.
Весь следующий день шли вверх по камням, снегу и льду. Вообще сейчас, когда я вспоминаю этот поход и сравниваю его с прошлым (56-го года), меня удивляет разница природных условий. В прошлом походе мы практически нигде не шли по снегу – разве что сотню-другую метров на перевалах. А теперь целый день в снегах. И никаких следов пребывания человека. Если вверху и есть перевал, то по нему не ходят. В таких случаях разумнее было бы повернуть, но мы одержимы каким-то упрямством. И тот же эффект – всё время кажется, что перевал вот он, в двух шагах, проходишь их, и открывается следующий. Часа в 3 или 4 останавливаемся, и мы с Серёжкой отправляемся на разведку. Минут через 40 таки доходим до перевала. Глубоко внизу видна зелёная долина. Но только как до неё добраться? Сразу под нами снежная полка, как будто крепкая, дальше крутой спуск по снегу, но конца его не видно. Возвращаемся, докладываем ребятам, обсуждаем и решаем идти через перевал. Вообще-то идти в этих условиях через нехоженый перевал было явной авантюрой, и сейчас не хочу её оправдывать. Но уж больно мы были молоды и упрямы. Шли очень аккуратно, конечно, в связках, максимально страхуясь. Страшновато было спускаться. Делаешь осторожные шаги и не знаешь, хватит ли верёвки до ближайшего места, где можно встать и принимать товарища. А главное – не дойдёшь ли до такого места, откуда спускаться уже некуда, перед тобой скальный обрыв. Бог миловал, обошлось. Зато какую радость мы испытали, когда крутой спуск окончился и мы увидели перед собой спуск уже пологий, не грозящий никакими препятствиями и опасностями! Как будто камень свалился с души. Понемногу спадало нервное напряжение, на лицах появлялись улыбки. Мы уже затемно дошли до первого места, где можно было хоть как-то поставить палатки, наскоро что-то поели и повалились спать.
Этот день был вершиной нашего похода. На перевале мы, как полагается, оставили записку: «21 августа 1958 г. группа студентов МГУ открыла и первой взошла на Гиссарский перевал». Только тот ли это перевал, о котором слышал Федченко? И почему называть его Гиссарским? Между собой мы назвали его по характеру виденной сверху местности – перевал Цирк. Хотелось бы знать, снял ли кто-нибудь после этого нашу записку.
Рассказ об этом походе кончу одним занятным моментом. Марк таки написал очерк о походе размером в половину газетной страницы и поместил его не более, не менее, как в «Литературной газете». Очерк довольно пафосный и с заметным перевиранием фактов. Но самое любопытное в другом – по капризу судьбы мы оказались увековечены именно в том номере «Литературки» (от 25 октября 1958 г)., в котором было напечатано письмо членов редколлегии «Нового мира» Пастернаку по поводу «Доктора Живаго»: «Это письмо … , естественно, не выражает той меры негодования и презрения, которую вызвала у нас, как и у всех советских писателей, нынешняя постыдная, антипатриотическая позиция Пастернака». К сожалению, под письмом с этими словами среди других стоит и подпись Твардовского. Вот так мы и соседствуем: 2-ая, 3-я и верхняя половина 4-ой страницы – писатели осуждают Пастернака, а нижняя половина той же 4-ой – «Люди вместе», наш героический поход.
Памиро-Алай – 3
Вдохновлённые успехом, мы на следующее лето (1959) снова собрались на Памиро-Алай. На этот раз нас было шестеро: из прежней группы – Димка, Серёжка, Лёша и я, и двое «новеньких» – Игорь Мельчук и его друг Сталий Брагинский.
Из первой части похода запомнилась необычная насыщенность его стихами. Я как-то об этом не писал, но в нашей группе вообще было принято по вечерам не только, как у всех, петь у костра, но и читать стихи. На этот же раз мы превзошли себя – добавился ещё такой знаток поэзии, как Игорь. Именно там я, да и все остальные, из уст Игоря впервые услышали Мандельштама:
«Мне на плечи бросается век-волкодав,
Но не волк я по масти своей».
Что же касается спортивно-исследовательской части, то я наших планов не вспомню, да и записей не сохранилось. Похоже, что на этот раз места были совсем неизвестны, и первые 10 дней пути основным нашим занятием были многочисленные разведки. Часть из нас сидела на какой-нибудь летовке, а два-три человека выходили просматривать возможные пути – налегке, то есть с почти пустым рюкзаком. Нашей целью было найти перевал (не помню, были ли какие-либо сведения о его существовании или мы собирались пройти через нехоженый – по примеру Цирка). От летовки обычно довольно скоро выходили на какой-нибудь ледник, поднимались по нему, убеждались, что пути нет, и возвращались назад. Довольно скучное и утомительное занятие, плохая погода, дожди (впервые мы встретили дожди в этих местах), некоторые из нас были в плохом физическом состоянии, утомляли неудачи и вообще терялась уверенность, что мы что-нибудь найдём.
На 10-й день к 2 часам дня вся наша группа оказалась на леднике у «стенки» (как мы её назвали). Мы стоим на леднике, кое-какой лагерь можно разбить и здесь. Мы на дне как бы половины чаши: впереди, слева и справа крутые подъёмы, из которых можно надеяться на проходимость только того, что по центру. Представляется сомнительным, что хотя бы там есть перевал, но стоит посмотреть. В разведку уходят Серёжка с Игорем.
Они уходят, а мы все смотрим им вслед. Их фигурки становятся всё меньше, а потом исчезают за поворотом ледопада. И вдруг я вижу, как с верхней части ледопада срывается огромная глыба льда, так размером с двухэтажный дом – прямо на то место, где должны быть наши разведчики. И хорошо видно, как оттуда на нас несётся лавина. Тревожно сжимается сердце. Что с ребятами, неужели погибли? Мы со Сталием хватаем верёвку, кошки, аптечку и бросаемся вверх. Дима и Лёша занялись примусом, чтобы вскипятить воду. Никогда ни до, ни после мне не случалось подниматься в гору с такой скоростью. Казалось, бежишь и даже не замечаешь, хватает ли тебе дыхания.
Добежав до ребят, я узнал, что с ними случилось. Сначала они шли в связке, но, немного пройдя, сделали непростительную глупость: решили, что будет удобнее идти без верёвки. А потом совсем рядом рухнула ледяная глыба, которая, по счастью, их не задела. Но их понесло образовавшейся лавиной. Серёжка, как человек более опытный, упал, зарубился ледорубом и остался неповреждённым. А Игорь не смог зарубиться, и его понесло на трещину. По всему раскладу он должен был в неё провалиться, но подарок судьбы – за несколько секунд до того на неё рухнула глыба льда, которая и остановила движение Игоря. Во время удара Игорь почувствовал дикую боль и потерял сознание.
Мы втроём медленно спустили Игоря к лагерю. Оказалось, что у него сломана рука. Сломана серьёзно – кисть представляла собой ломаную линию (вот уж не думал, что этот геометрический термин придётся употребить в буквальном смысле). Мы приложили к руке деревянные палки и обмотали жгутом – такая замена гипсовой повязки. О том, чтобы продолжать поход, нечего было и думать (хотя, к стыду и позору нашему, мы это сообразили не сразу). Мы разложили Игорев рюкзак по остальным пяти и пошли назад прежним путём. Игорь держался молодцом – как ему только удавалось при сильной боли, шёл, разговаривал, даже шутил. Только иногда вскрикивал при неосторожном движении, бывало, что и нецензурно – по его словам, впервые в жизни.
Так идём 5 дней. На 5-ый доходим до машины, которая довозит нас до Риштана, оттуда автобусом в Коканд, а из Коканда все разъезжаются в разных направлениях. Первую медицинскую помощь Игорю оказывают то ли в Коканде, то ли в Самарканде. Уже позже, в Москве, ему делают операцию, вгоняют в руку металлический штырь, с которым он некоторое время и ходит. А потом рука становится совсем нормальной – так сказать, second hand.
Дорога туда и обратно. Карабах
Из Еревана в памирские походы я ездил южным путём: поездом до Баку, оттуда пароходом по Каспийскому морю, и из Красноводска (ныне Туркменбаши) добирался до назначенного места. Так же и обратно. Эта дорога доставляла уйму дополнительных впечатлений, так что о ней стоит рассказать особо. Проехал я её дважды, но впечатления сложились вместе, и я вспоминаю это как одну поезду. (По-видимому, основная часть воспоминаний относится ко второму походу 1959 года).
Первое, что вспоминается, – пароход на Каспии. Плыли ночью. Мне повезло – разыгралась изрядная непогода, впечатляла высота волн, корабль качало. И лило как из ведра. Грех было упустить такую возможность, и я стойко простоял на палубе в штормовке и в одиночестве, преисполненный гордости от того, что совсем не испытываю качки. Я промок до нитки, мой же завёрнутый в полиэтиленовый пакетик паспорт отделался подтёками на некоторых страницах.
Поезд от Красноводска тоже был не чета московским. В те поры мы вообще не представляли себе, как можно ездить в купированных вагонах, – это же для буржуев, нашим максимумом были плацкарты. И в этих местах вагоны соответствовали нашим представлениям: разваливающиеся, с допотопных времён, в основном общие, плацкартные – для самых богатых. Под стать вагонам была и публика: среднеазиатская беднота, старики в халатах, диковатые испуганные женщины. Приятно было ехать в такой компании. Я догадался сразу же захватить третью полку, что позволяло лежать сколько хочешь. Никаких матрасов в вагоне не было. А когда становилось душно, вылезаешь на крышу и проветриваешься. Поезд шёл по пустыне, ближе к горизонту плыли нежно-голубые полосы – игра света или мираж. Изредка мелькали будки обходчиков, у них стояли верблюды, и возникало удивление: как можно здесь жить?
На обратном пути я заехал в Ашхабад к Крониду. В самом Ашхабаде мне пришлось тяжело. Я уже привык к тому, что среднеазиатские города днём представляют собой царство жары: жизнь начинается рано, в 6 утра улицы полны и оживлены, а к середине дня жизнь затихает, все стараются укрыться в своих домах – своего рода сиеста. Но встреченное мною в Ашхабаде всё превзошло. Температура перевалила за 40 градусов, я потерял способность двигаться и где-то в так называемом парке свалился под жиденький куст прямо в пыль. Так что от Ашхабада осталось впечатление: жара и пыль, пыль и невыносимая жара. Ближе к вечеру стало как-то возможно дышать, я доплёлся на автобуса, отвезшего меня на обсерваторию. Последняя не походила на нормальные обсерватории, например, нашу Бюраканскую. Наверное, и там были характерные для обсерваторий цилиндрические здания, кончающиеся полусферическими крышами, за которыми прячутся телескопы, но мне они не запомнились. А запомнились жалкие глинобитные хижины, в одной из которых и жил Кронид вместе с женой Галей. Глиняный пол устилал туркменский ковёр. Кронид ткнул пальцем в дырку в полу: «Вон там жила змея» (он назвал вид, в общем, весьма опасная). Но при всём том настроение у Кронида было бодрое, и работа в целом нравилась. Мы проболтали полночи. На следующий день прогулялись по окрестностям. Всюду такая же пустыня, ни деревца, кое-где еле проглядывают остатки выгоревшей на солнце травы. Мы поднялись на странный для меня холм, образованный крошащимися пластинами неизвестной мне породы, – как будто находишься на другой планете. Кронид сказал: «А знаешь, как хороша пустыня в феврале, – всё цветёт». А я подумал: «Господи, как он здесь может жить». И благословил судьбу, направившую меня в места, которые на этом фоне казались ещё более прекрасными.
В Баку я несколько неприкаянно походил по городу, прогулялся по набережной, поражаясь покрывающим море пятнам нефти. К вечеру возникла проблема ночлега, и я решил её, договорившись за мизерную плату со сторожем стоявшего на причале маленького судёнышка. Какой-либо постели мне при этом не полагалось, и я устроился на скамье, завернувшись в штормовку.
Добираться до Еревана решил попутными машинами – главным образом, для того, чтобы увидеть незнакомый мне Азербайджан. И, признаюсь, почувствовал себя в нём неуютно. Полная противоположность тому, что было в Армении и в Грузии – там всегда было легко, чувствовалось дружелюбие окружающих, и каждому хотелось по-дружески улыбнуться в ответ. В Азербайджане ничего подобного не было. Возможно, это моя личная установка, но подобные оценки я встречал и у других. В одном из промежуточных пунктов зашёл в чайхану. Там было с десяток мрачных мужчин рабочего вида, все посмотрели на меня, и никто не улыбнулся. Не улыбались они и друг другу, сидели и молча пили чай. Я взял стакан чая, кстати сказать, очень вкусного, и маленький кусочек рафинада с блюдечка. Отметил про себя: совсем не узбекская чайхана, здесь нет ни больших круглых чайников, ни чашек. На меня продолжали посматривать, и во взглядах я уловил отчуждённость. Задерживаться здесь не хотелось, я быстро допил свой стакан и вышел.
Поздним вечером приехал в Степанакерт – столицу Нагорного Карабаха, района, имя которого сегодня известно каждому. Уехал из него автобусом ранним утром, так что увидел немного, но не проходило ощущение какой-то тревоги. Может быть, его вызывала память о событиях в начале века, когда рядом, в Шуше, было вырезано всё армянское население. Много позже описание подобного настроения я встретил у Мандельштама:
Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
Сорок тысяч мёртвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронён.
За пять лет моей жизни в Ереване я побывал ещё в одном байдарочном походе и два раза – в альплагерях. В лагерях существенно новых впечатлений не было, так что о них можно не рассказывать. А о байдарках расскажу в другом месте.
Зимний Кавказ без меня
А вот сходить в зимний поход за всё это время мне так и не удалось: всё-таки не студенческая жизнь, не те отпуска. Один только раз – в январе-феврале 1960-го – я уж совсем было собрался пойти, и обещал поход много интересного, и я был включён в состав группы, да что-то помешало, работа, наверное. Так что поход прошёл мимо меня, и, тем не менее, хочу о нём коротко рассказать – уж больно интересный материал.
Начать с состава группы, которую я почти всю так или иначе знал, хотя и по-разному. Было в ней 8 человек. Из тех, с кем я ходил в походы до или после того, – Дима Поспелов (руководитель), Сергей Яценко, Андрей Тюрин и Максим Хомяков. Мой однокурсник и хороший знакомый Алик Жижченко. На первый взгляд, неожиданно в этой компании – Шафаревич и ещё один мехматский профессор, алгебраист Лев Скорняков. И ещё Наташа Светлова, тоже мехматянка, на тот момент жена Тюрина, а в будущем – Солженицына. По последующим отзывам, в доставшихся на их долю испытаниях Наташа проявила себя лучше всех этих мужиков.
Шли они на лыжах где-то по Кавказу. На перевале попали в пургу, стояли в палатках двое суток. Потом решили возвращаться назад, но почему-то пешком, без лыж. Шли по колено в снегу в поисках альплагеря, не нашли и заночевали в лесу без палаток. Вышли к лагерю на следующий день. Все, кроме Наташи, отморозили ноги. Позже в байдарочном походе я каждый день видел босые ноги Максима – ни одного пальца.
Глава 6. Появление Ирины
Первый день Ирины в Ереване. Инцидент с Рафиком
В начале лета 1960 года в порядке расширения научных контактов Володя Григорян отправился в Киев. Вернулся он восхищённый городом: какие прекрасные парки, как чисто на улицах (по-видимому, он побывал только на центральных). Рассказывал он и о завязанных в Киеве научных контактах, подробностей чего я не помню. Существенно то, что через несколько месяцев, в начале июля, в Ереван с ответным визитом прилетела наша коллега, структурная лингвистка, сотрудница Вычислительного центра АН УССР (через несколько лет переименованного в Институт кибернетики) Ирина Севбо.
Первый же день пребывания Ирины в Ереване ознаменовался интересными событиями. Случилось так, что одновременно с нею в город прибыли ещё несколько человек. По своим научным делам здесь оказался мой старый друг Дима Поспелов, часто упоминавшийся на этих страницах. А к недавно женившемуся коллеге и другу Рафику Базмаджяну на несколько дней приехала из Тбилиси его жена Ира. Естественно, всё это нужно было хорошо отпраздновать. Собрались мы в недавно построенном доме для сотрудников Института Мергеляна на улице Комитаса.
Здесь небольшое отступление об этом доме. В него понемногу и с большим скрипом отселяли обитателей чарбахского общежития. Тем, кто успел обзавестись семьёй, давали квартиру, а остальным тоже иногда давали, но одну на нескольких человек – такое более благоустроенное общежитие. Возник своеобразный обычай, по которому те чарбахцы, кто ещё не добился поселения в этот дом, (и я в том числе) пользовались квартирами своих холостых друзей почти как своими собственными: ночевали там, жили целыми днями и неделями, приводили своих гостей, ну, и так далее.
Вот в одной из таких квартир, принадлежавшей «сестричкам», как мы называли тройку девушек-подруг, недавних обитательниц Чарбаха, мы и собрались на нашу дружескую встречу-знакомство. Встреча прошла живо и весело, мы все очень полюбили друг друга и стали друзьями. Но, по-видимому, на ней было слишком много вина. (Коньяка, насколько я помню, не было, а о водке нечего и говорить). И, как не странно, больше всего это сказалось не на нас, приезжих, а на кавказском человеке Рафике. Когда застолье окончилось и все разошлись спать, ему вдруг примерещилось, что его жену кто-то увёл с недобрыми намерениями. (На самом деле она с другими женщинами ушла спать в другую квартиру). Настигнутый этой мыслью, Рафик бросился на поиски. Первым делом он стал ломиться в соседние квартиры, а не найдя там жены, сбежал по лестнице во двор. Я, а за мной ещё несколько человек побежали за ним. Во дворе институтского дома разыгралась впечатляющая сцена. Безумный Рафик носится со страшными воплями. Группа людей гоняется за ним, пытаясь его урезонить. Из окон высунулись разбуженные жильцы, осыпая его ругательствами. И всё это глубоко за полночь, примерно в час ночи. Милицейская машина появилась неожиданно быстро, как будто уже стояла наготове. Быстро погрузив Рафика, милиционеры принялись за меня, для чего у них, принимая во внимание мой вид, были достаточные основания: я второпях не успел даже надеть рубашку. Но здесь жильцы дома, недавно поносившие Рафика, дружно встали на мою защиту. А кто-то из них выскочил во двор и стал объяснять милиционерам, что меня забирать никак нельзя, потому что я вообще не армянин, а гость, а, кроме того, выдающийся учёный и очень уважаемый человек. Это меня спасло.
На следующее утро мы с Володей Григоряном (отсутствовавшим на нашей столь печально окончившейся встрече) отправились выручать Рафика. И оказалось, что опоздали – уже состоялся скорый и неправедный суд, впаявший ему 15 суток. Здесь же выяснились и причины столь сурового решения, равно как и вчерашней оперативности милиции: накануне армянский ЦК принял решение об усилении борьбы с пьянством, хулиганством и прочим. (Напомню, что пьянства к тому времени в Ереване вообще не бывало). В результате к утру милицейские камеры были переполнены такими же бедолагами, а суды в срочном порядке штамповали приговоры. Нам дали возможность повидаться в камере с безутешным Рафиком – ничего себе получилась долгожданная побывка жены. То ли уже сейчас с горя, то ли ещё ночью Рафик изорвал на себе рубаху, и она висела на нём полосами. Мне пришлось отдать ему свою, а на себя я нацепил белый халат, по счастью оказавшийся в Володином портфеле, – такие халаты давались инженерному составу нашего ВЦ. В этом халате я немедленно отправился на встречу с какими-то американцами, которые как раз в этот день посетили ВЦ, интересуясь работами по машинному переводу (по тем временам такая встреча была событием). А поскольку отданная рубаха была последней имеющейся у меня чистой, прощеголял в халате ещё несколько дней, пока то ли купил новую, то ли взял у Володи.
И всё же Володя, проявив чрезвычайные усилия, сумел освободить Рафика. Сначала он брал на жалость, рассказывая судебным и милицейским начальникам о безутешности его приехавшей жены. Те сочувствовали, но разводили руками, тыча ими в постановление ЦК. И здесь пришла на помощь командировка Ирины. Володя подготовил очень убедительную бумагу о том, что в ВЦ АрмССР прибыл выдающийся специалист из Киева специально для встречи с инженером Базмаджяном, который тоже является уникальным специалистом в своей области, что в связи с его осуждением срываются наши научные планы и тому подобное. Это подействовало. Некий судебный начальник подписал другую бумагу, и мы с Володей на милицейской машине поехали на одну из ереванских улиц, которую Рафик в моей рубахе подметал под конвоем (картина, знакомая по фильму о Шурике). Рафика немедленно отпустили, и он уже не отходил от любимой жены до самого её отъезда.
Визит Ирины (продолжение)
Однако, это всё присказка, отступление от основной темы главы. Вернусь к визиту Ирины Севбо.
Так получилось, что главным её коллегой в Ереване оказался я. Оба мы были увлечены своей работой. (Замечу: впоследствии её увлечение сохранилось гораздо дольше). Она вместе со своей подругой Катей Пивоваровой работала над алгоритмом флективного анализа русского языка (то есть, синтаксического анализа без обращения к словарю – используются только флексии; подход весьма оригинальный). Я с удовольствием применял свой аппарат к записи нового алгоритма, а она с интересом и почтением вникала в то, как это делается. Так мы работали целыми днями, всё другое я на это время забросил. Остальное время гуляли по Еревану, и я с удовольствием выступал в роли хозяина.
А ещё ездили по Армении в сопровождении моих ереванских друзей – Володи Григоряна, Рафика, Кости Каспарова, Володи-Джузеппе. Одна из наших поездок была в Гарни и Гегард, между которыми шли красивейшей тропой. Другая – на Севан, с ночёвкой.
… Вот сейчас я дошёл до этого времени и этой темы и вижу, что ничего не могу рассказать. Это были особенные дни – всё так ярко, чувствуешь полноту жизни. Вспоминаю то или другое, а рассказать не сумею, не привык об этом говорить, не владею стилем. Вот вижу, как на берегу Севана Ирина дарит мне божью коровку, я поднимаю руку, коровка ползёт вверх по пальцу и улетает…
Всю эту неделю (или десять дней?) мы провели вместе. Между нами сразу же возникло взаимное притяжение и духовная близость, при которой сразу понимаешь друг друга и хочется узнавать ещё и ещё. Мы говорили обо всём на свете и не могли наговориться. Ирина очень трогательно рассказывала о своих самых близких людях – отце и трехлетнем сыне Платоше, так что я уже заочно представлял их достаточно хорошо.
Потом она улетела. И в аэропорту в Киеве сказала встречавшему мужу, что разводится с ним.
Мой первый день в Киеве
Следующая наша встреча состоялась через два с половиной месяца. Отпуск я провёл в альплагере, а по возвращении из него сразу же поднял перед руководством вопрос о необходимости дальнейших научных контактов в Киеве, в порядке каковых и получил командировку. Так в начале сентября 1960 года я снова оказался в Киеве, который видел в последний раз около десяти лет назад.
Поселился я в квартире, где жила Ирина вместе со своими родителями и Платошей. Занимали они, можно сказать, полторы комнаты в коммунальной квартире в старинном и некогда фешенебельном доме на улице Толстого, известном тогда как «дом Мороза» (сохранилось ли ещё за ним это наименование?). Родители с Платошей жили в комнате нормальных размеров, а Ирина в совсем маленькой каморке (не помню, были ли в ней окна). Замечу – в этих условиях жила семья главного конструктора одного из ведущих академических институтов.
Родители Ирины, Платон Иванович и Розалия Александровна, приняли меня радушно, а к её отцу я сразу же почувствовал симпатию, растущую по мере знакомства. Думаю, что так же развивались его отношения ко мне. Ну, Платона Ивановича нельзя было не любить – это подтвердят все, кто его знал. Живой, открытый, доброжелательный, он сразу же завоёвывал сердце даже случайного собеседника.
(На случай, если эти записки попадут в руки человека, не знавшего П. И., дам короткие формальные сведения. Платон Иванович Севбо родился в Белоруссии в 1900 году в семье священника. Учился в бурсе, потом в духовной семинарии. После революции окончил Киевский политехнический институт, работал инженером водного транспорта. В начале 30-х годов Евгений Оскарович Патон пригласил его возглавить проектно-конструкторское бюро в созданном им Институте электросварки. В этом институте П. И. и проработал всю оставшуюся жизнь, став сотрудником сначала Евгения Оскаровича, а потом Бориса Евгеньевича Патона. Для тех, кто не знает: Институт электросварки до последних десятилетий был мировым центром этой научно-технической отрасли. Одно из наиболее ярких его достижений – сварочные работы при создании танка Т-34, сделавшие его неуязвимым, благодаря чему Т-34 признан лучшим танком Второй мировой войны и стал одним из факторов, позволивших в ней победить. За эти работы П. И. был награждён Сталинской премией. П. И. оставил замечательные воспоминания, охватывающие период от детства до поступления в Институт электросварки).
В первый день моего пребывания Платон Иванович повёл меня слушать церковное пение во Владимирском соборе. По его словам, он частенько туда хаживал с этой целью. Это было первое услышанное мною православное церковное пение – до тех пор я слышал нечто подобное только в Эчмиадзине. Пение было замечательным – несмотря на всю борьбу с религией, в соборе пел хор (точнее, часть хора) оперного театра. А с Владимирским собором у меня была семейные ассоциации – в своё время в нём венчались мои папа и мама. Когда мы стояли на хорах, подошёл какой-то знакомый Платона Ивановича и полюбопытствовал: «С кем это вы?». Застигнутый врасплох бесцеремонным вопросом, тот ответил: «Это мой родственник». Как показали последующие события, как в воду глядел.
Ещё одно впечатление от Ирининой семьи – Платоша. В своих письмах и до, и после этого Ирина постоянно писала мне о нём, так что я его как будто бы уже знал. Было ему чуть меньше, чем три с половиной года. На год старше Мары Григоряна. В таком возрасте дети чудные создания. Платоша же был какой-то совершенно особенный ребёнок, ласковый, доверчивый, его нельзя было не полюбить. Кроме того, для меня он был частью Ирины.
Рабочие контакты. Катя и Лев Аркадьевич
Так как у меня всё же была деловая командировка, здесь я должен отойти от основной линии и коротко осветить эту сторону. (А на самом деле потому, что кое-что из неё существенно для дальнейшего).
В Киеве работы по машинному переводу и примыкающей тематике были организованы не так, как у нас в Ереване. У нас была чётко поставленная цель – армяно-русский машинный перевод, под неё создана группа. Собственно, мы (как и часть ленинградцев) шли тем же путём, что и пионеры машинного перевода в Союзе – группа Мельчука и другие московские группы. Киевские работы производили впечатление самодеятельности. Общего плана работ не было, тон задавали несколько энтузиастов, занимающихся тем, что им нравилось, разумеется, получая на то «добро» от своего начальства. Самой яркой фигурой среди них и была Ирина, к слову сказать, во всей своей дальнейшей научной деятельности так и оставшаяся «кошкой, которая гуляет сама по себе» (в отличие от меня, вопреки своей природе, так или иначе связанного с коллективами). В то время она с Катей Пивоваровой разрабатывала алгоритм, о котором я писал чуть выше, и навязывала своему Вычислительному центру работы по его программированию, апеллируя как к директору ВЦ Виктору Михайловичу Глушкову, так и к энтузиазму коллег-программистов. Глушков относился к этим работам благожелательно, а возможно, и сам их инициировал. В общем, в Киеве он патронировал работы по машинному перевода и вокруг него – как Ляпунов в Москве и Мергелян в Ереване, реально занимаясь ими чуть меньше, чем первый, и чуть больше, чем второй.
Разумеется, я познакомился со всеми киевлянами, имевшими отношение к этой тематике. Таких оказалось не так много. Наверное, именно в этот раз я познакомился и с Глушковым. А существенное продолжение в дальнейшей жизни получило знакомство с двумя Ириниными коллегами.
Во-первых, с упомянутой Катей Пивоваровой. В то время это была одна из ближайших подруг Ирины и одновременно ближайшая коллега – в этой рабочей паре Ирина явно была ведущей. Она так и стоит у меня перед глазами, но не могу подобрать слов. Красивая? Привлекательная? Серьёзная? Всё вроде так, и в то же время эти слова не вполне подходят. Красивая девушка с длинной, до пояса русой косой толщиной едва ли не в руку. Она часто бывала с Ириной и была к ней очень привязана. Через год с лишним она мне сказала: «Не увози Ирину, я без неё не смогу». Кате было суждено умереть от рака в середине 70-х годов, в возрасте где-то около 40 лет, так и не создав семью. Печальная судьба. А во время, о котором я пишу, она была живой и весёлой.
Другим моим новым знакомцем был математик, университетский профессор Лев Аркадьевич Калужнин, человек очень интересный. С детства он жил в как бы эмиграции в Париже. (Пишу «как бы», потому что, кажется, его родители то ли сохраняли советское гражданство, то ли, в конце концов, приобрели). Там же получил и математическое образование, его учителями были разные знаменитые французы. После начала Второй мировой и оккупации Франции был интернирован (как советский гражданин?), но не в «лагере смерти», а в лагере, если можно так выразиться, «с человеческим лицом», не зная ни издевательств, ни особого голода и общаясь с такими же интеллектуалами разных национальностей, просвещающих друг друга лекциями по широкому кругу предметов. После окончания войны Лев Аркадьевич оказался в Берлине, став одним из ведущих математиков ГДР. Мне довелось листать немецкий сборник математических статей, посвящённый его юбилею, где он характеризовался как воспитатель целого поколения и едва ли не отец ГДРовской математики – я ещё подумал: «И это в Германии, стране классической математики! Вот до чего довели науку нацисты!». Тем не менее, его потянуло на родину, и он оказался в Киеве, о чём впоследствии неоднократно жалел – в плане условий научной работы.
По специальности Лев Аркадьевич был алгебраист и в меньшей степени логик, в университете заведовал кафедрой алгебры. К моменту нашего знакомства я уже знал его по статье в 1-м выпуске «Проблем кибернетики». В статье предлагался удобный аппарат для записи алгоритмов, а именно граф-схемы. Серьёзный специалист не нашёл бы в ней ничего существенного, мне же она послужила исходной точкой для работы и вообще ввела меня в мир теории алгоритмов, за что я Льву Аркадьевичу до сих пор благодарен. Но любознательность толкала его и в другие научные области, в результате он вышел на работы по структурной и математической лингвистике и стал пропагандировать их идеи. В результате Ирина оказалась под крылом не только Глушкова, но и Калужнина, оба они были как бы её научными руководителями, но Л. А. был доступнее и ближе. Ирина называла его «шефом».
Взаимоотношения перечисленных лиц характеризует такая деталь. Этим летом перед моим приездом в лодочное путешествие по Днепру от Киева до Бучака отправилась такая компания: Ирина, Платон Иванович, Лев Аркадьевич и Катя. (Бучак – село километрах в 20 выше Канева, где Ирина с родителями несколько лет до и после того снимала дачу. Пусть читатель запомнит название, оно ещё встретится). Правда, Лев Аркадьевич, непривычный к дискомфорту, скоро слинял, и Ирина в письмах ко мне упоминала об этом с издёвкой. (Вообще над ним, как над всяким слегка чудаковатым математиком, было принято подсмеиваться, и он не обижался). А раз уж речь зашла о лодочном путешествии по Днепру, самое время сообщить, что за последние лет пять, предшествовавшие этому времени, такие путешествия стали традиционным летним отдыхом Платона Ивановича и Ирины.
В этот приезд я в компании с Ириной неоднократно виделся со Львом Аркадьевичем, в том числе и за бутылочкой вина, мы беседовали на разные научные и вненаучные темы. Он был замечательным собеседником и очень симпатичным человеком. Если не сейчас, то при следующем общении мы с ним при всей разнице в нашем возрасте и положении подружились.
Канев и Черновцы
Но главным содержанием моей поездки были, конечно, не рабочие встречи и не эти знакомства, а общение с Ириной. Всё время мы проводили вместе – на людях и наедине.
Где-то в конце моего пребывания Ирина взялась показать мне свои любимые места – как я показывал ей свои в Армении. Вечером мы сели на пароходик и отправились вниз по Днепру. (Удивительно подумать, но в то время такие пароходики отправлялись каждый день; именно пароходики, суден на подводных крыльях ещё не было). Солнце ещё не взошло, когда мы причалили к Бучаку. Мы встретили рассвет где-то через полчаса, поднявшись на высокий берег. Было прекрасное утро. Тихо-тихо, под нами широкий Днепр (до середины которого, как известно, долетит редкая птица), дальше бесконечные низкие луга, над горизонтом начинает подниматься солнце. Странно, но я, коренной украинец, выходец с Киевщины, воспринимал эти места как нечто по-своему красивое, но незнакомое и чужеземное; моими были Подмосковье, Памир и Армения. (Вот что значит отсутствие детских туристских впечатлений).
Отсюда мы пошли в Канев. Сначала вверх лесом, кажется, буковым, потом лес кончился, мы оказались на высоком холме, перед нами безлесый простор, холмы, овраги, далеко внизу виднеется Канев. И всё такое же непривычное.
В Канев мы шли не просто так, а в гости к Кате. Она со старшей сестрой Таней проводила лето у своей тёти. А этот день был её днём рождения. Идя уже вдоль Днепра, мы повстречали двух рыбаков, тащивших огромного сома. Его тащили на палке, продетой через два глаза, а хвост волочился по земле. Грех было упустить такое, мы купили сома и принесли Кате в качестве подарка. Она – в слёзы: «Вам хорошо, а сколько мне с ним возиться». Мы уж, сколько могли, старались ей помочь.
Находясь в Каневе, нельзя не побывать на могиле почитаемого мною Шевченко, и мы все вместе это сделали.
Когда время моего пребывания в Киеве подошло к концу, я отправился в Ереван окружным путём – через Черновцы. Почему-то именно там проходила очередная конференция по машинному переводу, туда же отправлялась и большая киевская команда, включающая Ирину с Катей. Так последним аккордом моей поездки стал этот симпатичный городок и встреча с друзьями-коллегами, многих из которых Ирина ещё не знала и узнала только сейчас через меня.
Дистанционный роман
После моей поездки нам было уже трудно жить друг без друга. Мы каждые три-четыре дня писали друг другу, старались съехаться и увидеться. При разделявших нас расстояниях это было непросто. Однако до следующего лета я насчитываю шесть случаев, когда мы съезжались: то я прилетал в Киев по службе или сам по себе, то Ирина ко мне в Ереван на несколько дней, соскучившись, совершенно неожиданно, то встречались в Москве на конференции.
Самая длинная из этих встреч была в феврале-марте, когда Платон Иванович наконец получил квартиру (в переулке Мечникова, впоследствии улице Первомайского) из целых двух полноценных комнат, одна из которых принадлежала Ирине с Платошей, и вся семья наслаждалась давно вымечтанным комфортом. Стараниями Ирины и Л. А. Калужнина меня пригласили для чтения лекций на недавно открывшемся отделении математической лингвистики. Открылось оно на филологическом факультете благодаря усиленному лоббированию Льва Аркадьевича, как бы над ним шефствовавшего. Приёма на него ещё не было, просто перевели желающих студентов-первокурсников. Из студентов этого приёма наибольшей известности впоследствии достигла Алла Сурикова, правда, совсем в другой области. Не помню, что я им читал, скорее всего, нечто по машинному переводу и математическому моделированию языка. По окончании лекций один из студентов, единственный мальчик в группе, выразил мне благодарность на украинском языке – филфак университета принадлежал к числу учреждений, где официальным языком был украинский.
(Надо же, опять перешёл на производственные темы! Ну, чистый соцреализм!)
Снова Киев и Бучак
А через год после нашего знакомства, в июле 1961, я половину своего летнего отпуска провёл в обществе Ирины, в основном в походных условиях. Сейчас удивляюсь, как у меня в том году получился такой длинный отпуск. Сначала Киев, потом немного Бучак с Ириной и её семьёй, потом байдарки, а потом ещё альплагерь.
Побывать у родителей при таких напряжённых планах уже никак не получалось, и, чтобы повидать меня, они сами приехали в Киев, где жили у маминой подруги детства (для меня – тёти Нины) на улице Жадановского (ныне Жилянской). Заодно познакомились с Ириной и её родителями, которые уже рассматривались как потенциальные родственники. Я в это время разрывался между двумя домами, стремясь побольше побыть и с Ириной, и с папой и мамой. Перед последними я чувствовал вину – я их в этом году совсем забросил.
Ирина этой весной сделала весьма предусмотрительную покупку, в значительной степени предопределившую наш последующий образ жизни. Оказавшись каким-то образом на выставке немецкого спортивного оборудования, она наткнулась там на байдарку «Колибри» и сразу же бросилась выяснять, как её можно приобрести. Этих байдарок было привезено три штуки, и, к нашему счастью, они подлежали продаже после окончания выставки. К нашему же счастью, на них не наткнулись уже достаточно многочисленные киевские байдарочники, ставшие моими спутниками и друзьями значительно позже. Ирина пыталась приобрести две из них, для нас двоих и для отца, но последний отнёсся к этому спортивному новшеству недоверчиво и купил стандартную разборную рыбацкую лодку на вёслах. Тем не менее, все три лодки оказались в одном круге – две оставшихся приобрели более податливые на уговоры Катя и Лев Аркадьевич. Цена этих лодок выглядела значительной – целых 40 «новых» рублей. (Замечу, что собственный спортинвентарь мы рассматривали тогда как предмет роскоши – зачем транжирить деньги, когда есть казённый. Дима Арнольд, первым купивший себе палатку, стал в наших глазах серьёзным собственником).
Когда в Бучаке я собрал Иринину и уже как бы и свою байдарку, у меня разгорелись глаза. Вот это да! Изящная, лёгенькая, с прекрасным ходом, легко собирающаяся. Наши добротные старые «Лучи», к тому времени прошедшие десятки походов, тысячу раз клееные и всё равно протекающие, выглядели рядом с ней как корыта. И когда мы с Ириной на «Колибри», а Платон Иванович с её подругой Галей на его новой лодке сплавали немного вниз и назад – тут и он оценил байдарку и понял, какую сделал промашку. (Замечу, что вскоре эту промашку ему удалось исправить – он уговорил Льва Аркадьевича продать свою байдарку, которая тому оказалась ни к чему).
На байдарках по Припяти
В большой байдарочный поход собрались вчетвером: на одной байдарке мы с Ириной, на другой – Платон Иванович и Катя. Плыть мы решили по одной из ближних рек, и выбор пал на Припять.
Из всех нас в байдарочных походах бывал только я. (Правда, как я писал, Ирина с отцом неоднократно спускались на лодках по Днепру). Тем не менее, этот поход оказался едва ли не самым спортивным из всех, в которых мне до и после того пришлось побывать. Правда, с точки зрения технической река была простой – ни порогов, ни перекатов. Но зато темп движения! Мы прошли всю Припять из конца в конец – от белорусской станции Лунинец до пристани Страхолесье на Днепре недалеко от устья Припяти, всего около 500 километров. А времени у нас было 10 дней, меня ждал лагерь. Так что у нас была строгая мера – 50 километров в день. Соблюдать её помогали километровые столбики на реке – ведь она была судоходной. Ни одной днёвки. Невероятно унылые места – почти без деревьев, чуть ли не полпути среди болот, где с трудом удавалось найти пятачок сухой земли для палатки. Плохо с дровами. И почти все дни дождь – то мелкий, а то и серьёзный. До сих пор удивляюсь – как это чёрт дёрнул меня так выбрать маршрут. Пусть погоду не рассчитаешь, но расстояния, болота. Разве это можно сравнить с походом по красивым местам где-нибудь на севере или на Урале? Можно представить, как я ругал эти места и себя, ввязавшегося в эту авантюру. Но ругал про себя, виду не показывал.
Зато держались мы молодцами. Не ныли, делали всё споро и быстро, от подъёма до выхода уходило часа полтора, а однажды уложились в час – мой абсолютный рекорд за все байдарочные походы. Однажды мы плыли под изрядным дождём, в плащах и фартуках на байдарочных деках, обогнавший нас пароходик остановился, и капитан, выйдя на палубу, стал кричать в рупор, предлагая нас подвезти. Но мы не поддались.
Запомнился эпизод в самом начале похода, когда мы пристали к домику бакенщиков – под дождём, конечно. Те как раз наловили рыбу и угостили нас невероятно вкусной ухой, настоящей рыбацкой, в которой выварилось три смены рыбы. А Платон Иванович достал заветную флягу, налив всем по доброй чарке. Я несколько косился на него – это противоречило моим спортивным установкам, но ведь не откажешься. (Здешняя погода благоприятствовала пересмотру моих представлений, и, в конце концов, я от них отказался – и на все последующие времена). Само собой, завязался душевный разговор, бакенщики уговаривали переночевать у них. Но нормы, нормы, день ещё не кончился, мы под дождём погрузились в байдарки и уплыли.
С этого похода Ирина и Платон Иванович стали заядлыми байдарочниками.
Жизненные планы
Однако не мотаться же так друг к другу через полстраны всю жизнь или значительную её часть. Следовало задуматься над тем, как съехаться в одном городе.
Не будь я таким эгоистом, решение было очевидно. Ведь Ирина не может ни оставить Платошу, ни увезти его с собой в какую-то неопределённость. А я человек свободный, у меня ни кола, ни двора, и к моему переезду в Киев нет никаких препятствий. Кроме оставшегося с детства предубеждения против Украины как места, где трудно дышать из-за очень давящей, по сравнению с Москвой и Ереваном, советской власти.
Устраивающий нас обоих выход, по крайней мере, временный, нашёлся благодаря нашим профессиональным, или, если угодно, карьерным планам. Оба мы увлекались своей наукой, оба хотели учиться и расти дальше. Традиционным путём для этого была аспирантура.
Я после периода некоторого охлаждения к математике (вызванного моей склонностью разбрасываться) снова вошёл в фазу математического энтузиазма. Толчком к этому послужили два фактора. Во-первых, занятия машинным переводом, подтолкнувшие к изучению алгоритмов уже в чисто теоретическом плане. И, во-вторых, недавно переведенная и удачно попавшая мне в руки книга С. К. Клини «Введение в метаматематику». Если читатель помнит, я и раньше интересовался математической логикой и кое-что успел узнать – на уровне «Оснований геометрии» Гильберта и начал исчисления высказываний на семинаре Яновской. Книга Клини вторично открыла для меня этот мир, невероятно распахнув его горизонты. Нужно сказать, книга замечательная по ясности, широте и красоте изложения. Увлекала невероятно. Сначала я глотал страницы, потом стал продвигаться медленнее и к описываемым временам проработал где-то около половины. Говорю «проработал», потому что это ведь не беллетристика. Прочтя параграф, я откладывал книгу в сторону и начинал придумывать себе задачки, чтобы лучше вжиться в прочитанное. Дочитывал её я уже позже, в аспирантуре. Вообще эта книга прочно вошла в мою жизнь, повлияв в профессиональном плане как никакая другая. С первых её страниц я решил: «Вот, наконец, я нашёл самую интересную часть математики! Именно этим и стоит заниматься!» Так она подтолкнула меня к аспирантуре.
Тем самым выталкивая из Еревана – ведь здесь специалистов по математической логике не было. Вернее, один был – Игорь Заславский, но это не решало моей проблемы. Значит, нужно было устраиваться в аспирантуру в Москву.
Похожим было и положение Ирины. Она чувствовала недостатки своего образования – филфак Киевского университета, провинциальный уровень которого (филфака) она справедливо отмечала, сильно комплексуя по этому поводу. То же следовало сказать и об общем уровне лингвистической науки в Киеве. А рядом, в Москве, были столпы самой современной лингвистики.
В общем, как говаривал Владимир Ильич, нам обоим следовало учиться, учиться и учиться. Причём в Москве.
Трудно вспомнить, когда возникла тема нашей одновременной аспирантуры в Москве, а в письмах она появляется в марте 1961 года. В контексте наших более далёких планов это означало следующее: три года аспирантуры мы проводим вместе в Москве; а после этого уж как-нибудь сумеем договориться о том, где нам жить всем вместе – нам обоим и Платоше. Я начинал понимать, что в Ереван мне уже не вернуться, но надеялся на устройство в Москве. Ирина же надеялась увезти меня в Киев, как оно впоследствии и случилось.
Мои новые планы больно ударили по моим родителям. Ещё недавно я готовился осесть в Ереване и перевезти туда их. Не то, чтобы мне самому хотелось осесть где бы то ни было, даже и в Ереване. Нет, я был легкомысленным мальчишкой, мне хотелось быть свободным как ветер и всегда иметь возможность сменить жизнь и махнуть неизвестно куда. Но у родителей приближается пенсионный возраст, они уже не будут связаны местом работы, своей квартиры у них так и не было, и мы в письмах обсуждали, как бы нам съехаться. Тем временем Институт построил дом на Комитаса, и, когда к нескольким из моих коллег (не ереванцам, но кавказского происхождения) переехали родители, они немного пожили в Чарбахе, а потом им дали квартиры в этом доме. Хотя формально я уже был не в Институте, я был уверен, что Мергелян даст там квартиру и мне с родителями. К моменту, о котором я пишу, папа выходил на пенсию. И уже готовился к тому, что переедет ко мне и посмотрит, что из этого выйдет, а мама пока, до выхода на пенсию, останется в Донецке.
И вдруг – я собираюсь на три года в Москву. Все планы рушатся. Папа и мама были людьми инерционными, привыкали к новым планам с трудом и с ещё больших трудом от них отказывались. Тем более от такой перспективы, как жизнь с сыном, что в конце концов у них так и не получилось. Представляю, как им было тяжело. Но о том, чтобы отговаривать меня, у них не было и мысли. Не говоря о том, что, по их нормам, здесь всё предстояло решать мне, но действовал и очень существенный для них аргумент: моя работа, моя наука, мои перспективы – прежде всего.
Путь в аспирантуру
К чести обоих наших с Ириной начальств, они охотно пошли нам навстречу, согласившись при этом на самые удобные для нас формы обучения – поступление в аспирантуру своей Академии (армянской или украинской) с прикомандированием в Москву. Более удобно, потому что шансы поступить непосредственно в московскую аспирантуру у нас были малы: мало мест, большой конкурс, а мне бы ещё припомнили «тёмные пятна» в биографии. А поступление в своих академиях нам было гарантировано уже именами наших высоких начальников – Мергеляна и Глушкова.
Ирине удалось это совсем просто. Ещё бы – у себя на работе она была вольной птицей. Уже в апреле она переговорила с Глушковым, и он дал добро.
У меня было чуть сложнее. Для Володи, руководителя работ, мои планы были ударом. Причём вторым за последнее время ударом: незадолго до этого совершенно неожиданно в Киев сбежал Рафик. Поехал в порядке обмена опытом, отлаживал на киевских машинах свои программы, произвёл хорошее впечатление, его сманили, он и остался. К нему даже переехала жена Ира. (Замечу, что осесть в Киеве им не было суждено. Квартиры он так и не получил, сколько-то помотался, а потом вернулся в Ереван, но уже не к Григоряну).
И вот уходит второй нужный специалист. Что я ухожу насовсем, Володя, наверное, не представлял, как не знал и о моих отношениях с Ириной – я человек скрытный, о вещах глубоко личных не говорю и с близкими друзьями. Но с точки зрения производственных планов, на три года – это то же, что навсегда. А тут горят планы, нужно сдавать то, сдавать это. Мы с Володей так сработались, что он не представлял, как будет без меня. Его охладил Тэд, сказавший достаточно суровым тоном: «Незаменимых людей нет. Думали, что товарищ Сталин незаменимый, но и ему нашлась замена. И на Мише свет не кончается».
Договорившись в принципе со своим начальством, я поехал в Москву договариваться с будущим научным руководителем. В качестве такового я наметил Андрея Андреевича Маркова.
Его иногда для точности называют Андрей Андреевич Марков-младший, чтобы отличить от отца, обладавшего теми же именем и отчеством. Марков-старший был выдающимся математиком, вероятностником, известным по имени каждому сколько-нибудь причастному к математике – все они, по крайней мере, слышали о цепях Маркова. Марков-младший не так широко известен, хотя его вклад в математику не меньше. Дело в том, что его основные работы относятся к математической логике (в широком понимании этого слова), области, в то время не так популярной среди математиков и относимой как бы к обочине математики. Подробнее я надеюсь рассказать об этом позже, пока же скажу, что в этой области он был одним из ведущих в стране математиков – точнее, одним из двух: рядом с ним можно было поставить только Петра Сергеевича Новикова.
(Такая уж была моя математическая судьба – быть недостойным учеником первых математиков страны: Александрова, Шафаревича, Колмогорова, теперь Маркова).
Что я знал о Маркове? Прежде всего, то, что он – автор фундаментального труда «Теория алгорифмов», первой отечественной работы, содержащей систематическое изложение результатов в этой области, значительная часть которых принадлежала самому автору. «Теория алгорифмов», изданная в 1951 году небольшим тиражом, была библиографической редкостью, но, к счастью, имелась у Заславского, так что я проштудировал её наряду с книгой Клини.
Ещё я знал, что Марков – создатель и руководитель серьёзной математической школы. Его учениками были, в частности, мои добрые знакомые Игорь Заславский и Гера Цейтин. Марков долгие годы работал и создавал свою школу на матмехе Ленинградского университета, но его оттуда понемногу выдавливали. Не ко двору был такой профессор, да и сама математическая логика в передовом советском вузе: логика у нас, как известно, одна – диалектическая, марксистская, а математическая, да ещё с заметным философствованием, в которое скатывался профессор Марков, – это что-то подозрительное, попахивает то ли формализмом, то ли идеализмом, а то и обоими вместе. До открытых скандалов не доходило, но чувствовал он себя там всё более неуютно. Как ни странно, атмосфера мехмата МГУ оказалась более благоприятной, и за несколько лет до моего появления Марков, переехав в Москву, возглавил на нём кафедру математической логики. По счастью для меня, путь которому в МГУ был закрыт, он одновременно работал и в академическом учреждении – Математическом институте имени Стеклова (фамильярно – Стекловке).
Итак, где-то весной 1961 года я явился к Андрею Андреевичу. Меня встретил невысокий пожилой совершенно седой господин, с очень гладко выбритым лицом, каким-то особенно бледным, но подкрашенным лёгким румянцем. Его речь и манеры отличались подчёркнутой ироничностью, распространяющейся, казалось бы, на всё, попадающее в поле его внимания, что, однако, нисколько не задевало и не обижало собеседника – А. А. как бы и его приглашал разделить это отношение. Так что впечатление он производил очень симпатичное. Меня Андрей Андреевич принял доброжелательно, возможно, с учётом моего знакомства с его учениками. Конечно, прощупал по математической линии, претензий не выразил, после чего согласился стать моим научным руководителем.
Три непрофильных вступительных экзамена мне полагалось сдавать в Ереване. Английский (я выбрал его, а не изучаемый прежде немецкий) и философия были пустой формальностью. (Хорош бы я был, сдавая философию в Москве!) Третий же экзамен был совсем нетривиален – армянский язык. Сдача при поступлении местного языка – это было чисто армянское изобретение (ну, и, может, некоторых других республик) – на Украине о таком и не слыхивали. В отделе аспирантуры Академии мне объяснили: «У вас же целевая аспирантура, вы будете работать в Армении, так что язык вам нужно знать». Нельзя сказать, чтобы меня много спрашивали. Экзаменатор задавал вопросы по-русски, убедился, что я знаю алфавит, грамматику, кое-как могу слепить короткие фразы на бытовые темы, значит, человек, Армении не чужой. Он поставил мне тройку, и этого было достаточно.
Провал
Экзамен же по специальности предстояло сдавать в самой Стекловке, для чего я и приехал в Москву где-то в начале осени 61-го года. И отнёсся к этому чрезвычайно легкомысленно. Испорченный чисто формальной сдачей экзаменов в Ереване, я вообразил себе, что нечто подобное ожидает меня и в Москве: о чём беспокоиться, с будущим руководителем я поговорил, я его вроде устраиваю, труды его и Клини знаю достаточно хорошо. Так что слишком готовиться к экзамену мне показалось излишним. Я не учёл, а должен был бы вычислить по прошлому опыту, что Стекловка, выражаясь словами позднейшего политика, «порожняк не гонит». Поступающего сюда в аспирантуру полагалось допросить с пристрастием по всему университетскому курсу, не считаясь с тем, поступает ли он на общих основаниях или прикомандирован из республики.
В том, что касается самого экзамена, моя память делает пируэт, чрезмерный даже для неё: я не помню о нём ничего. Ведь хоть немного помню то, что ему предшествует. Вот я сдаю документы симпатичной пожилой даме Таисии Васильевне в отделе кадров. Вот живу где-то под Москвой, на даче, специально снятой Институтом для таких приезжих поступающих, как я; прекрасная ранняя подмосковная осень, утро, я делаю пробежку в лесу, а потом обливаюсь водой у настоящего деревенского колодца. А вот с экзаменом пробел – наверное, срабатывает психический механизм стирания неприятных воспоминаний. Кажется, там были не только матлогики, как я рассчитывал, а и математики из других кафедр, в том числе симпатичный и симпатизирующий мне Шафаревич, который, кажется, больше всех остальных и выявил глубину моего незнания.
В общем, экзамен я провалил.
А Ирина свои экзамены успешно сдала и позже, в середине ноября, хочешь – не хочешь, переехала в Москву.
Легко представить себе, что чувствовал каждый из нас. Ведь всё это было затеяно, прежде всего, (или почти прежде всего) для того, чтобы нам оказаться вместе. А теперь она сорвалась с места, бросила ребёнка и сидит одна в этой, в общем-то, ненужной Москве (ведь можно было устроиться так, чтобы наезжать в неё из Киева). Я же оказался безответственным мальчишкой, спотыкающимся на первых же шагах к совместной жизни, на которого ни в чём нельзя положиться.
Болезнь
Но на то и Армения, чтобы не бросать своего человека в беде.
Моё начальство, так заинтересованное, чтобы я никуда не уезжал, тем не менее, затевает переписку со Стекловкой. Не помню, уж чем они мотивировали, но, в конце концов, договорились, что мне будет разрешено пересдать этот экзамен. Тут уж я принялся за науку, как следует, и стал повторять едва ли не весь университетский курс в соответствии с программой экзамена, которой первоначально не придал значения. По счастью, УрЧП там не было. Боюсь, что на работе пользы от меня в эти месяцы было немного.
Мои напряжённые занятия внезапно прервала болезнь. Было в моей жизни несколько случаев, когда вот так, неизвестно откуда, как смерч, накатывала какая-нибудь хворь, плохо понятная и вроде бы очень серьёзная. А потом так же исчезала в неизвестном направлении и понемногу совсем стиралась из памяти. Так было и на этот раз.
Внезапно прямо на рабочем месте мне стало плохо. Вызвали «скорую помощь», которая доставила меня в больницу – благо, она была в том же квартале. Александрян тотчас же составил бумагу медицинскому руководству о том, насколько драгоценно моё здоровье и как необходимо меня хорошо лечить. А Володя разыскал в больнице знакомых руководящих медиков, которым внушил ту же мысль.
Так что я второй раз в жизни оказался в больнице, и второй раз это мне нравилось. О питании и прочем не помню, я не прихотлив. Но врачи были симпатичными, дружелюбными и, кажется, достаточно внимательными. Палата – светлая и чистая. И так же, как в Москве, отбоя не было от посетителей (хотя количественно чуть меньше, до такого числа друзей я здесь не поднялся). Приходили все мои непосредственные коллеги, многие из других отделов ВЦ, нынешние и бывшие чарбахцы. И ещё запомнились милые девушки, Володины студентки, а ныне практикантки нашей группы. И все приносили массу вкусной армянской еды, значительную часть которой мне вообще нельзя было есть. Болезнь же у меня была какой-то желудочной, кажется, окончательно её так и не определили.
Всемером на Клондайке
Ирина, узнав о моей болезни, отреагировала мгновенно – села на самолёт и прилетела в Ереван. Так что к тому моменту, когда меня выписали, она уже ждала меня на Клондайке. Помимо доставленной мне радости, это имело и серьёзный практический смысл: я был в совсем плохой форме, меня следовало выхаживать. Конечно, я бы не пропал, но всё это взвалилось бы на плечи Володиной жены Риты, что уж было бы с моей стороны явным перебором.
Прожила Ирина на Клондайке, выхаживая меня, примерно месяц – с середины декабря по середину января. Этот зимний месяц все мы, его обитатели, вспоминали с большой теплотой. А обитателей было много.
Прежде всего – Володя с Ритой и Марой, которому тогда было три с половиной года.
Как раз незадолго до этих дней там нашла приют ещё пара бездомных – Марина Александровна Спендиарова, дочь самого замечательного армянского композитора, с детства дружившая с семьёй Володиного отца Марка Владимировича, и её спутник по жизни, которого все звали по фамилии, звучащей как имя, – Сузан. Марине было около 60 лет, она была «старой женщиной с небольшими усиками и странно опухшими глазными железами, иногда улыбающейся, но всё-таки суровой». Удивительно, что, прожив такую тяжёлую жизнь (о чём ниже), подорвав здоровье, она не выглядела старой женщиной, и казалось естественным, что все мы называли её по имени, не присовокупляя отчества. Марина имела несчастье в 1929 году, будучи студенткой консерватории, две недели преподавать сыну Сталина английский язык. Этого было достаточно, чтобы в 1940-м году, ее «взяли», обвинили в попытке убить Сталина, долго мордовали на Лубянке, а потом было 16 лет тюрем и лагерей. Тогда ещё не было принято рассказывать об этом систематично, но глухие упоминания у неё всё время проскальзывали. Сталина она ненавидела эмоциональнее, чем мне у кого-либо приходилось встречать. Позже я узнал, что она в это время писала книгу воспоминаний о лагерях, но тогда, разумеется, об этом нельзя было сообщать. Книга была опубликована уже после её смерти, в конце перестройки, при участии Мары, написавшего к ней предисловие. Легально же в то время она со свойственным ей энтузиазмом увековечивала память своего отца: писала о нём книгу, добивалась открытия музея Спендиарова. Эти занятия были темой многих наших общих бесед.
По странной иронии судьбы, спутник Марины Сузан, невысокий человек с незапоминающейся внешностью, был специалистом по биографии Ленина и занимался этим с увлечением.
Ну, и мы с Ириной.
Всего семь человек. Три семьи на три комнаты.
Мы, обитатели Клондайка, провели эту зиму весело и несколько безалаберно, не признавали деления на «моё-твоё». Ели все вместе, что Бог пошлёт, на кухне, в приготовлении и закупках тоже участвовали все понемногу, не считаясь. Сейчас, вспоминая это время, я больше всего восхищаюсь Ритой: как она выдерживала эту бесшабашную жизнь, стольких «каменных гостей» в доме, вечную суету, беспорядок, невозможность организовать «нормальную жизнь», которая ей, как и всякой нормальной женщине, была очень нужна. И никогда не было видно, что это ей в тягость, наоборот, казалось, что это именно то, что ей нужно. А ведь в это время она ещё носила под сердцем следующего ребёнка – через несколько месяцев, когда меня уже здесь не было, у Григорянов родилась дочь Рузанна, по-семейному – Кукурка.
Зима выдалась холодной. По вечерам после ужина мы все собирались в лестничном пролёте на среднем этаже и рассаживались у печки-буржуйки. Открывалась бутылка-другая вина, шли обстоятельные беседы. Уходить долго не хотелось – в комнатах было холодно.
Не забывали дорогу в наш дом и гости. Часто приходил Игорь Заславский, за это время особенно сдружившийся со всеми нами.
Мы с Ириной жили в «моей» комнате, к тому времени переоборудованной в библиотеку. Повозиться со мной ей пришлось немало: готовить диетическую еду, делать уколы. В общем, на ноги она меня поставила. Это был наш первый опыт как бы семейной жизни, хотя и в необычных условиях. И нам было хорошо.
Последние месяцы перед аспирантурой. Платоша
В конце концов я неплохо подготовился к экзаменам. Где-то в феврале 62-го поехал в Москву их сдавать и таки сдал. Но и здесь – полный провал памяти. Как шёл экзамен, кто принимал – не помню.
На этот раз я в Ереване отсутствовал долго. Да, собственно, мне там уже и нечего было делать – только окончательно собраться и попрощаться.
Так что мы с Ириной успели съездить в Киев, где она не была так долго.
Можно себе представить, как она всё это время тосковала по Платоше. Малыш в свои четыре с половиной года тоже всё понимал и тосковал. Ещё перед отъездом Ирины в Москву он говорил: «У нас собачья жизнь, потому что Миша в Ереване, мама в Москве, а я в Киеве». А в январе уже начал писать письма: «ПРИВЕТ Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ МОЯ МАМА ПЛАТОША МАМА Я ПО ТЕБЕ СОСКУЧИЛСЯ ПЛАТОША И ТЫ СКОРО ПРИЕДЕШЬ? ПЛАТОША МАМА».
А как Платоша обрадовался нашему приезду! Конечно, больше всего Ирине, но и мне тоже. Бросалось в глаза, как он вырос с лета – в смысле не роста, а развития. В этот приезд он стал называть меня «папа Миша» и «папа».
А когда я уехал, он писал письма не только маме, но и мне: «ДОРОГОЙ ПАПА МИША КАК ТВОИ ДЕЛА? ТВОЯ ПОСЫЛКА МНЕ ПОНРАВИЛАСЬ ОЧЕНЬ [Речь о подарках, которые я послал ко дню рождения.] У НАС ВСЁ ХОРОШО ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ. У МЕНЯ ВСЁ ПО СТАРОМУ. ПЛАТОША».
Вот так у меня появился сын.
После экзаменов я ненадолго съездил в Ереван.
А во второй половине апреля 1962 года покинул Армению, в которой счастливо прожил чуть больше 5 лет, и снова оказался в Москве.
Апрель – декабрь 2007
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
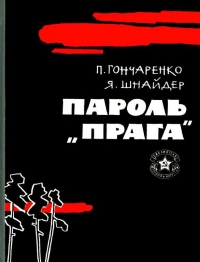

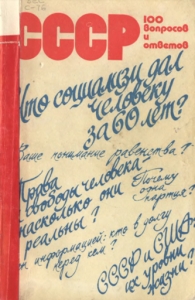



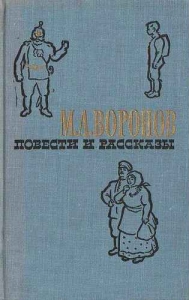
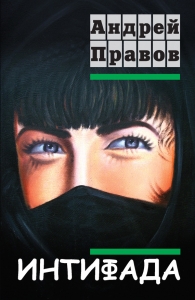
Комментарии к книге «Что вспомню», Михаил Иванович Белецкий
Всего 0 комментариев