Алексей Пушков Глобальные шахматы. Русская партия
1. Время Горбачева: начало сдачи позиций
Михаил Горбачев пришел к власти, когда в стране сформировалось ощущение, что для ее дальнейшего развития нужны достаточно серьезные изменения. Это ощущение было не только у многих рядовых граждан. Оно было у большой части управленческого класса и подавляющей части интеллигенции. Оно нашло свой путь, естественно, и в партийные сферы, вышло и на уровень Политбюро.
Собственно, первым, кто дал понять, что такие перемены необходимы, был Юрий Андропов. Правда, у него не было достаточно времени, чтобы начать серьезную программу реформ. Тем не менее он сразу стал искать пути интенсификации развития страны через укрепление дисциплины, усиление контроля за эффективностью работы предприятий. Бригады, которые отлавливали прогульщиков в кинотеатрах, дежурные, которые проверяли наличие сотрудников на рабочих местах, стали притчей во языцех. Но эти новации, как все чисто дисциплинарные меры, если в их основе не лежит принцип личной заинтересованности, имели очень ограниченный эффект.
В то время экономика страны вступила в стадию стагнации. Подспудно в руководящих структурах и в окружении самого Андропова обсуждалась возможность обновления, омоложения руководства партии. Но, естественно, этому противостояло пожилое поколение, которое правило страной. В обновлении эти люди усматривали угрозу собственным позициям. И когда умер Андропов и встал вопрос, кто его заменит, выбор был сделан в пользу представителя геронтократии.
73-летнему Константину Устиновичу Черненко власть была передана чисто условно, он, скорее, представлял клуб престарелых членов Политбюро, нежели был полновластным руководителем, который мог реально привнести нечто новое в развитие страны или кардинально изменить ситуацию в самой партии.
После недолгого правления Черненко выбор представителя более молодого поколения на пост главы партии и страны стал еще более актуальным. Тем не менее была попытка «геронтократов» противопоставить такому решению одного из своих рядов в лице членов Политбюро Гришина или Романова. В итоге кандидатура Горбачева прошла с преимуществом лишь в один голос. Решающую роль сыграл голос А. А. Громыко. Он имел колоссальный опыт и авторитет. Замминистра иностранных дел он стал еще при Сталине, а при Хрущеве уже возглавил МИД и на протяжении трех десятилетий играл решающую роль в выработке советской внешней политики. Как человек, хорошо знавший внешний мир и понимавший, что движение необходимо, он поддержал идею сделать ставку на Горбачева и сыграл в этом очень большую роль.
Казалось, омоложение руководства давно назрело. Но здесь крылась и драма. Она состояла в отсутствии кадров, способных определять и проводить необходимые реформы. Когда в Китае Дэн Сяопин принял решение о проведении стратегических реформ, оно не было конвульсивным. Это было глубоко продуманное, выверенное решение. Вся партия стала перестраиваться для того, чтобы быть способной осуществлять такие реформы, как на политическом, так и на управленческом уровне.
Что же произошло в Советском Союзе? Ситуацию с неэффективностью партийного руководства довели до края. Правление Черненко было высшей точкой неэффективности, ее символом. От него никто ничего уже не ждал, система тупо воспроизводила сама себя и все свои слабости. Она работала уже в автономном режиме: если бы Черненко вдруг вообще перестал что-либо делать, его отсутствия просто не заметили бы.
Это была запущенная болезнь. Леонид Ильич Брежнев еще в конце 1970-х годов должен был передать бразды правления более молодому руководителю. К этому времени он полностью выработал свой потенциал — и политический, и физиологический. Но сценарий смены лидера остался прежним: после него к власти пришел тоже весьма пожилой, хотя в каких-то отношениях весьма трезво мыслящий Андропов, а затем наступило время престарелого Черненко. Таким образом, руководство партии постепенно пришло к крайней степени неэффективности, неспособности выполнять поставленные задачи. И получилось, что в противовес этой тенденции на пост генерального секретаря был избран человек по одному принципу: молодой, активный, что делать — сообразит. А между тем у Горбачева не было необходимой квалификации, профессиональной подготовки и нужного уровня понимания сложности задач, чтобы начать глобальные реформы в такой стране, как Россия, он не был в должной степени готов запустить такой сложнейший процесс.
Не было и достаточного опыта. Да, он был членом Политбюро, но отвечал за сельское хозяйство. Согласимся: при всей важности этого направления, это все же не председатель Совета Министров и не министр иностранных дел. Старшее поколение еще помнит, какой объем полномочий и какой авторитет был у А. Н. Косыгина, много лет возглавлявшего Совмин. А Горбачев отвечал за важное, но все же лишь одно из направлений экономической деятельности, карьеру он сделал как 1-й секретарь Ставропольского крайкома КПСС. Делегировать на высший государственный пост человека с весьма ограниченным опытом и ограниченным типом мышления было серьезной ошибкой.
Причем это не была ошибка персональная, это была ошибка системы. Считается, что Горбачеву благоволил, помогая продвижению в партийной иерархии, его покровитель Ю. А. Андропов, отдыхавший и поправлявший здоровье на ставропольских курортах. Известно, что не все были довольны возвышением Горбачева, было сопротивление со стороны старой гвардии, Романова, возглавлявшего Ленинградский обком, Гришина, возглавлявшего Московский обком партии, но они не могли предоставить альтернативного кандидата, не смогли найти другого человека из поколения Горбачева. Из всех возможных кандидатов Горбачев, по всей вероятности, смотрелся наиболее убедительно.
В целом же выбор этой фигуры был конвульсивным шагом. Это не был продуманный, обоснованный выбор, когда смотрят и перебирают список кандидатов, не было ничего похожего на соперничество в рядах молодого и хорошо подготовленного поколения.
Вариантов было два: либо кто-то из геронтократии, либо Горбачев. По крайней мере, он производил впечатление человека, способного осуществить эти реформы. Он был живой, энергичный, у него был естественный популизм, который он вывез со Ставрополья, где в молодости работал комбайнером. Это была прямая противоположность мрачноватым и староватым членам Политбюро, которые просто уже не могли предложить другой образ руководителя. А при подобных переменах образ чрезвычайно важен. Чтобы люди поверили в реформы, у них должен быть убедительный носитель. Тот же Брежнев вряд ли мог начать процесс реформ, хотя бы потому, что его образ соответствовал идее консервации, а образ Черненко соответствовал консервации вдвойне и втройне.
Когда прошел апрельский пленум ЦК КПСС 1985 года, когда стало ясно, что грядут перемены, это было воспринято в стране с большой надеждой. Но процесс реформ возглавил человек, который имел очень приблизительное представление о том, куда и как надо двигаться.
Есть точка зрения, что на Горбачева чрезвычайно сильное влияние оказал, сыграв решающую роль в выборе дальнейшей стратегии, Александр Яковлев. Он тоже был членом Политбюро, ранее курировал в ЦК отдел пропаганды, то есть занимался идеологией. Яковлев отличался достаточно либеральными взглядами, конечно, в рамках возможного в советской системе. И в силу своих взглядов вступил в противоречия с партийным руководством, с главным идеологом ЦК Михаилом Сусловым, после чего был отправлен послом в Канаду. Оттава по тем временам была ссылкой, это не было посольство в США или во Франции. Для крупного партийного руководителя оказаться послом в одной из второстепенных стран означало существенное понижение. Когда Яковлева отправили в Канаду, речь шла о том, чтобы вывести его за пределы системы принятия решений.
До этого наиболее активная часть карьеры Яковлева протекала во времена хрущевской оттепели. Он даже побывал на стажировке в Колумбийском университете. Он был порождением раннего хрущевского периода. Оттуда Яковлев вынес свои представления о путях развития страны, идеи перестроечного, реформаторского типа. Тогда же они созревали в Чехословакии и привели к Пражской весне 1968 года. Вызревали они и в Польше и привели к событиям начала 1980-х.
Эти идеи Яковлев воспринял не как чисто функциональную черту ранней оттепели, а как систему взглядов и убеждений, которые он пронес с собой через все дальнейшие посты — вплоть до начала перестройки. Как человек более образованный, грамотный, мыслящий и серьезный, чем Горбачев, он мог произвести на будущего нового генсека большое впечатление. Яковлев мог изложить свои идеи в ходе их встреч в Оттаве, куда Горбачев приезжал в качестве руководителя, отвечавшего за сельское хозяйство. Канада была тоже крупной сельскохозяйственной державой.
У них были долгие разговоры тет-а-тет, доверительного характера. Они специально выезжали за пределы посольства на природу, где их никто не мог слышать. И обсуждали, как дальше двигать страну. И, думаю, Яковлев убедил Горбачева в необходимости перемен.
Мне довелось работать с Яковлевым в течение почти трех лет (в 1988–1991 гг. я входил в группу консультантов международного отдела ЦК, готовивших аналитические записки и официальные выступления для Горбачева и других членов руководства страны). За эти годы я получил достаточно хорошее представление о стиле мышления Яковлева. На уровне понимания того, что нужно двигаться и что необходимо преодолеть, Яковлев был во многом прав. Проблема возникала при решении вопроса, куда двигаться. И какова цель.
У меня есть глубокое убеждение: когда Горбачев начинал свой путь на высшем посту, он не знал, куда он движется. Важнейшее отличие горбачевских реформ от реформ Дэн Сяопина было в том, что Горбачев двигался на ощупь. Он продвигался как будто по горному потоку, нащупывая камни под ногами. Где-то его сносило, где-то его окатывало волнами, где-то он натыкался на скользкие валуны. Иногда его проносило несколько метров, прежде чем он нащупывал дно. Он двигался в рамках этого крайне сложного процесса, не имея стратегического представления о том, куда он идет. В отличие от Дэн Сяопина, который очень хорошо понимал, как можно реформировать такую страну, как Китай.
Дэн Сяопин прекрасно понимал, что Китай останется дееспособным государством, только будучи жестко централизованным, что это империя, состоящая из разных частей. Есть Внутренняя Монголия, есть Манчжурия, есть южные районы, есть Тибет, настаивающий на независимости, есть Восточный Туркестан, завоеванный Китаем в 1905 году и превращенный в Синьцзян-Уйгурский регион, где до сих пор проживают 20 миллионов мусульман.
Дэн Сяопин понимал, что реформы в Китае можно провести только жесткой рукой с самого верха. И понимал также, что для их проведения Компартия Китая должна становиться не слабее, а сильнее. Она должна стать умной силой не жесткой, диктаторской, а умной. Она должна ослаблять экономический контроль государства, сохраняя при этом политическую систему.
Горбачев, начиная процесс реформ, не мог предполагать, что буквально через пять лет встанет вопрос об отмене шестой статьи Конституции о руководящей и правящей роли Коммунистической партии. Но он не представлял такое потому, что вообще не думал об этом. Всегда казалось, что положение властных структур настолько незыблемо в советской системе, что она способна сама по себе справиться с любыми задачами. Задачи будут ставиться сверху и их будут беспрекословно исполнять точно так же, как это было прежде. Сама партия особенно модифицироваться не будет, а общество будет выполнять те распоряжения, которые будут исходить от партийных структур.
До определенного момента так и происходило. Но поскольку Горбачев двигался на ощупь, не очень хорошо понимая, какая будет следующая фаза, он не задумывался, до какой степени допустима демократизация той системы, которую он хотел сохранить. Во всяком случае, вряд ли в 1985 году он собирался добиться политического плюрализма в Советском Союзе. Думаю, он этого не хотел. Собирался ли Яковлев? Трудно сказать, это гораздо более сложная фигура. Он свои мысли не афишировал. Но он видел, что при определенной степени реформирования монополию партии сохранить уже не удастся. У Горбачева же до самого последнего момента была иллюзия, что Коммунистическая партия — это единственный политический субъект реформ в России. Обществу он отводил роль пассивно воспринимающего субъекта. Различным институтам, вроде Съезда народных депутатов, он отводил роль посредника между партийным руководством и обществом. Он не допускал, что в этой односубъектной системе когда-нибудь будет поставлена под вопрос роль «руководящей и направляющей силы».
Никогда не забуду, как после августовского путча 1991 года, когда Горбачев вернулся из Крыма, он вышел на трибуну Съезда народных депутатов и сказал, что «из этого испытания наша партия вышла еще более сильной». И тогда к нему подошел Ельцин (есть знаменитый снимок, запечатлевший этот роковой момент истории) и показал ему указ о ликвидации Коммунистической партии Советского Союза. Горбачев был в полном шоке. Это о многом говорит. В частности, о непонимании логики процесса, который он сам же и начал. Непонимании того, что, если в той системе координат, которая существовала в СССР, ты отпускаешь рычаги контроля, ты должен быть к этому хорошо подготовлен. Ты должен заблаговременно найти способы замещения старых рычагов новыми — более эффективными и более гибкими. Если ты рушишь старые рычаги, не ставя на их место новые, ты лишаешься контроля. Это очень хорошо понял Ельцин. Он сделал ставку на оппозиционное движение, вышел из партии, сделав это демонстративно (его знаменитый проход по залу Кремлевского дворца съездов). И я всегда обращал в таких случаях внимание на недоуменное выражение лица Горбачева. Он таких шагов не ожидал.
Как не ожидал демарша Эдуарда Шеварднадзе, который вышел из Политбюро в декабре 1990 года. Для Горбачева и это было шоком. Он воспринимал Шеварднадзе как своего близкого союзника и даже друга. А Шеварднадзе сказал, что покидает Политбюро, поскольку не может согласиться с тем, что происходит, что «грядет диктатура». Возможно, он имел в виду путч 1991 года, который готовился в консервативных кругах партии, озабоченных как раз утратой властных рычагов. Эти круги пытались спасти распадающееся на части государство. Там не было даже особой конкуренции за власть, как это сейчас преподносят. Это не была ситуация вроде той, какая сложилась после смерти Сталина, когда Хрущев боролся за власть с Берией. Это было коллективное решение: они чувствовали, и вполне справедливо, что государство рушится. Озабоченность членов ГКЧП была вполне обоснованной: уже в декабре 1991 года Союз развалился. Мы здесь не обсуждаем, какие методы они выбрали, но они справедливо понимали, что еще полгода такого развития и от СССР ничего не останется. Горбачев даже этого не понимал. Мне не раз доводилось наблюдать за ним: для него было характерно это недоуменное выражение лица, с которым он смотрел вслед уходящему Ельцину. Такое лицо может быть у человека в двух случаях: либо он вообще не понимает, что происходит, либо догадывается, но надеется, что этого не произойдет. И Горбачев раз за разом ошибался. И поступал нелепо, как тогда, когда вышел на трибуну и стал уговаривать Шеварднадзе остаться, проявить ответственность. Но Шеварднадзе хорошо все понимал и не остался: он готовился уже к новой, постсоветской роли.
Подход Горбачева к внешней политике был отмечен теми же пороками и недостатками, какие были у его подхода к политическим реформам внутри страны. Горбачев был цельным человеком в том смысле, что он в равной степени плохо понимал, куда мы движемся внутри страны и вне страны. У него была любимая фраза: «Дальше так нельзя». Вполне справедливые слова в качестве общего посыла. Но за ними должен следовать конкретный рецепт. Даже у профессора МГУ спросили бы: дальше так нельзя, а как можно?
Горбачев не пошел по пути отхода от тех принципов внешней политики, которые были характерны для советского периода, но не выдвинул ничего взамен.
На чем строилась внешняя политика СССР? Прежде всего, на принципах максимизации советского присутствия в глобальном масштабе. Некоторые убежденные коммунисты видели в этом способ распространения советской модели на другие континенты. И до известной степени это удавалось, что поддерживало убежденность в правильности такого сценария. Идеи социализма в 30, 40, 50-е, даже 60-е годы XX века были сильно востребованы. Все испанское республиканское движение в 1930-х основывалось на идеях коммунизма. Внутри него боролись сталинисты и троцкисты, но это уже подробности. И Гитлер пришел к власти как альтернатива и антитеза Коммунистической партии Германии. В начале 1930-х Германии нацисты и коммунисты были две самые сильные партии.
В 50-е годы шел процесс освобождения стран Азии, Африки и Латинской Америки. И многие из этих народов после колониальной эпохи и зависимости от империалистических стран выбрали радикальный путь — избрали социалистическую модель. Китай пошел по этому пути, Северная Корея, позже так поступил и Вьетнам, с этой моделью заигрывала и Индонезия. Близкие процессы начались в Латинской Америке. Они привели к трем успешным экспериментам. Революция на Кубе началась под освободительными, а завершилась под коммунистическими знаменами. Американцы задавили бы ее, не приди на помощь СССР. Но это другой вопрос. Важно, что революция одержала победу внутри страны. Эти 60 человек, что высадились с Фиделем Кастро на болотистом побережье Кубы, ничего бы не сделали, если бы страна не была готова к радикальному сценарию. 60 вооруженных автоматами бородатых мужчин не способны перевернуть страну без такой готовности. И характерно, что Че Гевара, попытавшийся произвести экспорт революции в Боливию, поднять там революционное движение, не сумел этого делать. Боливия была к этому не готова. Но убили его без суда и следствия. Потому что процесс над таким человеком мог обернуться судом над всей политикой США в Латинской Америке. Она была беременна такого рода революциями.
Затем по этому же пути попыталась пойти Чили. Правительству Сальвадора Альенде СССР не смог оказать такую же поддержку, как Фиделю Кастро на Кубе. Тем не менее Альенде продержался два с половиной года. И если бы не ЦРУ, не уверен, что у правой оппозиции и генералитета хватило бы сил провести там государственный переворот. И, наконец, Никарагуа, где в 1985 году к власти пришли сандинисты во главе с Даниэлем Ортегой.
Таким образом, социалистическая модель была востребована в мире. Это важно напомнить, ибо иначе трудно понять, за что бились советские деятели. А бились они за то, чтобы распространить эту модель на большую часть земного шара, и у них были основания считать, что эта модель жизнеспособна, хотя и не везде. Было ясно, что, например, Франция или Италия не пойдут по этому пути. Но и там были мощные компартии. Во Франции Жак Дюкло, член Политбюро ФКП, в 1968 году получил на президентских выборах 25 процентов голосов. А в Италии на парламентских выборах в середине 70-х коммунисты получили 33 процента. Кто скажет, что это была малая сила? Это была очень серьезная, значительная сила.
В Израиле кибуцы были социалистическим экспериментом. Да и все основатели Израиля были социалистами — и Бен Гурион, и Голда Меир. Они были лидерами социалистического движения. Я был знаком с руководителем компартии Израиля Меиром Вильнером. Он был тоже из той плеяды, которая приехала в Израиль строить социализм.
Итак, распространение советской модели было первой чертой нашей внешней политики. Второй чертой была конфронтация с Западом, с США. Она вытекала из первой и была закономерна. «Холодая война» была соревнованием систем. И американцы видели, как из их системы выпадают огромные куски.
Чтобы остановить этот процесс, они и начали войну во Вьетнаме. Ведь они прекрасно понимали: если северный Вьетнам распространит свою власть на южный, то по принципу домино начнется обрушение системы во всей Юго-Восточной Азии, что в итоге и произошло. И Лаос стал социалистическим, и Камбоджа. Последняя, правда, прошла через чудовищный период красных кхмеров — ультралевых радикалов, которых даже нельзя считать коммунистами. Коммунистическая модель предполагает много неприятных вещей, но все же не геноцид собственного населения. Это же была ультралевая диктатура утопического типа.
Третья черта советской внешней политики — участие в гонке вооружений. В условиях жесткого противостояния систем СССР не мог отдать пальму первенства США. Здесь был и важнейший аспект обеспечения безопасности: американская ядерная монополия была чревата ударом по Советскому Союзу. И решение создать советское ядерное оружие и потом добиваться паритета с США было, с точки зрения безопасности государства, абсолютно правильным.
Четвертым измерением этой внешней политики было укрепление так называемого социалистического лагеря, блока союзных стран, на которые опирался СССР.
И, наконец, пятая черта — поддержка национально-освободительного движения в странах «третьего мира», таких сил, как Национальный конгресс в Южной Африке, и многих других.
По силе влияния на мировые процессы СССР по праву имел статус сверхдержавы. На нас замыкался мощный военный альянс — Варшавский договор. Москва влияла на политику доброй трети африканских государств. Со многими странами у нас были договоры о взаимопомощи, что, по сути, давало нам право использовать на их территории военную силу. СССР присутствовал как глобальный фактор во всем мире.
Это были пять характерных черт советской, именно советской, подчеркну это слово, внешней политики. Но этим все не исчерпывалось. Важно понимать: с 1922 года СССР стал новой политической и идеологической оболочкой государства, которое существовало тысячу лет. При всех тех радикальных шагах на пути расставания с прошлым, которые сделали Ленин, Троцкий, Сталин, при всем этом Советский Союз был на мировой арене продолжателем Российской империи. Он и восстановил границы Российской империи, за исключением Польши и Финляндии, а также Прибалтики, которым была предоставлена независимость.
После короткого периода изоляции СССР стал проявлять себя как один из факторов мировой политики. И уже в 30-е годы СССР играл весьма активную роль, был членом Лиги Наций, участвовал в соглашениях по использованию черноморских проливов и многих других.
Таким образом, в международной политике СССР было две составляющие — идеологическая, советская, и геополитическая, государственная. Вторая требовала от СССР участвовать в мировой политике не только как фактор, трансформирующий мир, но и как фактор, стабилизирующий международную систему. Тотальная «хаотизация» мировой системы не входила в интересы Советского Союза. Любое государство требует определенного рода стабильности. Нестабильность нужна только революционному, радикальному движению. Но даже эти движения, придя к власти, хотят утвердиться в качестве стабильных факторов и, как правило, работают на стабилизацию хотя бы ближайшего окружения своих стран.
Государственное начало в политике СССР играло исключительно важную роль. Во-первых, оно обеспечивало безопасность страны за счет заключения определенной суммы соглашений, договоров о безопасности и т. п. Многие из этих договоров носили ненасильственный характер. Так, с Финляндией с 1944 года установились отношения добрососедства. В Европе смотрели на это косо, называли «финляндизацией» — ведь Финляндия не могла развернуться против СССР и войти в западные структуры. При этом Финляндия не входила в Варшавский договор, в социалистический блок, не имела военных обязательств и сохраняла нейтралитет. Другой пример: Советский Союз в 1955 году вывел свои войска из Австрии. Причем никто не заставлял нас это делать, Москва могла бы так не поступить.
СССР сыграл колоссальную роль во Второй мировой войне. Иногда говорили, что это была схватка между двумя идеологиями — фашизмом и социализмом, но это поверхностная оценка. По форме это было так, а по сути это была схватка между имперской Германией в ее нацистском обличье и историческим Российским государством в его советском обличье. Фашизм и социализм были временными формами существования Германии и России. Национальное начало определяло характер схватки между ними. Со стороны России это была борьба за национальное выживание, а со стороны Германии — за национальное доминирование. Наши солдаты, идя в атаку, не кричали: «За социализм, за коммунизм!» Они кричали: «За Родину, за Сталина!» А Сталин олицетворял государство. Да социалистическое, но также, и даже в большей степени, историческое.
Государственное начало СССР во внешней политике было чрезвычайно сильно. Через систему договоров оно обеспечивало международную стабилизацию. В войнах же участвовали, когда был брошен вызов самому существованию нашего государства или его безопасности. Участвовали и в обустройстве послевоенного мира. Именно как государство участвовали, а не как коммунистическая держава. В этом качестве, например, вырабатывали Устав ООН.
Наши отношения с Западом имели не только идеологическое содержание, это было соперничество между государствами. И в лице Советского Союза ведущие страны Запада боролись и соперничали с исторической Россией. Точно так же, как Карл XII сражался с Петром Первым, а Наполеон — с Александром Первым.
У нас иногда отечественную историю прошлого века воспринимают как некую аберрацию, порожденную революцией 1917 года. Но забывают о колоссальной преемственности между Российской империей и Советским Союзом. Во внешней политике СССР, в принципе, выполнял функции Российской империи с некоторыми нововведениями, такими, как поддержка коммунистического и национально-освободительного движений. Но это тоже была форма национального соперничества. Мы соперничали с США, со странами Западной Европы. Элементом соперничества был и подрыв их позиций в бывших колониальных империях, на тех континентах, где они имели свои сферы влияния, от Латинской Америки до Азии. Здесь была идеологическая составляющая, но была и чисто государственная политика. Это была форма конфликтного взаимодействия с Западом — через, скажем, поддержку Северной Кореи, а позже и Северного Вьетнама против США.
Когда Горбачев начал свои реформы, он, как мне кажется, не понял важную вещь. Одно дело — избавить внешнюю политику от обременяющего страну идеологического компонента, который иногда вел ее к неверным политическим решениям, обременительным расходам, накладывающим слишком большую нагрузку на ее бюджет. В частности, очень широкая поддержка и финансирование национально-освободительных движений была не в наших интересах. Оглядываясь назад, видишь, что в большинстве стран Африки те люди, которые просили и получали у нас помощь, сражались в основном за власть, а не за модель. Для них вопрос был лишь в том, кого выбрать в качестве старшего брата: США, Англию, Францию или Советский Союз. Естественно, что и там, среди очень узкого слоя африканской элиты, были люди, которые получали образование в развитых странах и транслировали левые идеи. К нам в основном обращались фигуры, тяготевшие к социалистической ориентации. Но слишком часто наша помощь использовалась для создания диктаторских и, что главное, неустойчивых режимов. И в этих случаях она была неоправданна: она нам мало что давала в геостратегическом соперничестве — это были неустойчивые зоны влияния.
Много говорят об ошибочности нашего участия в афганской войне. Как известно, до начала событий конца 1970-х там был устойчивый королевский режим, который поддерживал с Советским Союзом добрососедские отношения. Мы имели неосторожность поддержать революционные силы верхушечного типа, никак не связанные с массами, с тем, что тогда называлось «толщами народа». Это привело к свержению монархии, затем установлению диктатуры Хафизулы Амина, который избавился от своих бывших союзников и решил переориентироваться на США. Нашим ответом, в котором была смесь идеологических и геополитических мотивов, стал ввод войск в Афганистан.
Теперь уже можно констатировать, что это был серьезный просчет, который усугубил негативные процессы в самом СССР, привел к ослаблению страны, ускорил ее распад. Это была десятилетняя война, которая нам очень дорого обошлась, потребовала больших ресурсов, привела к гибели многих сограждан. Она ввела сильный элемент болезненности в существование СССР — подобно тому, как война во Вьетнаме ввела серьезный элемент болезненности во внутреннюю жизнь Соединенных Штатов.
Но подобные ошибочные шаги делали и наши западные соперники, причем не только США. Франция в течение восьми лет вела войну во Вьетнаме, которая закончилась поражением в битве при Дьенбьенфу и полным выводом французских войск. Это была огромная ошибка: попытка решить вопрос военной силой мотивировалась желанием во что бы то ни стало сохранить азиатские колонии распадавшейся французской империи. Позже Франция повторила эту же ошибку в Алжире.
Что касается афганской войны, то Советский Союз ошибся как сверхдержава, которая переоценила свои возможности, способность поставить под контроль другое государство, имеющее совершенно другую иную, особую культуру, исторически не подчинившееся никому. Недаром Афганистан называют «кладбищем империй». Кто бы там ни воевал, устойчивого успеха никто не добился, начиная с Александра Македонского. Он дошел до Бактрии, оставил там наместников, но те довольно быстро были свергнуты. Такова очевидная особенность этого горного региона — он плохо поддается внешнему управлению и контролю.
Конечно, есть доля истины в том, что просчет произошел из-за примата идеологической компоненты в решении о помощи Компартии Афганистана из-за ошибочной предпосылки, что возможна победа социализма в этой стране, которая затем примкнет к нашему социалистическому блоку. За такое решение высказывалась та часть Политбюро, которую условно можно отнести к военно-идеологической прослойке партийного руководства, — Суслов, Устинов. И все же ошибку СССР совершил именно как государство, как выше было сказано, подобные ошибки совершали и другие государства, с другой идеологией.
Проблема Горбачева была в том, что он не смог отделить от государственных интересов идеологическую составляющую отечественной внешней политики, которая подчас толкала нас на акции и действия, не вполне просчитанные с точки зрения национальных приоритетов. Когда страна становилась жертвой собственной увлеченности процессами трансформации мира в ущерб интересам государства как такового. Эту составляющую последний генеральный секретарь и первый президент не сумел отделить от собственно государственной составляющей, которую следовало сохранить. Это было непросто, они были сильно переплетены. Но все же: четкой линии на сохранение, удержание именно государственных позиций при Горбачеве выработано не было. Началась сдача позиций — чем дальше, тем быстрее. К 1988–1989 годам этот процесс стал набирать обороты. Можно сказать, «процесс пошел», используя известное выражение самого Горбачева. Но процесс очень опасный, хотя начинался он как избавление от чрезмерной идеологизированности отечественной внешней политики.
Здесь Горбачев попал в историческую ловушку с весьма серьезными для него и всей страны последствиями. Во имя избавления от обременяющих советскую экономику факторов идеологического характера, которые действительно надо было пересматривать, он пошел в сторону отказа от позиций, завоеванных Советским Союзом как государством. Здесь была основная драма, которая до сих пор вызывает большие дебаты в нашем обществе и острую критику Горбачева как руководителя, который разрушил не только Советский Союз, но разрушил всю систему нашего международного влияния.
Возникает вопрос: а могли бы мы сохранить рычаги и систему нашего влияния на мировые процессы, оказавшись вне идеологической, коммунистической оболочки? Вопрос сложный, дискуссионный.
Но в любом случае обвальный отказ от завоеванных международных позиций, прежде всего в Европе, был немотивирован. И объяснить его можно двумя теориями. Первая версия, и у нее есть сторонники, связана с теорией заговора. Согласно этой версии, Горбачев с самого начала был «агентом влияния» на высшем уровне политическим агентом Запада, который осознанно вел дело к распаду государства и глобальному ослаблению наших позиций. Версия, конечно, весьма конспирологическая. Но скорость и последовательность событий были таковы, что сторонники этой теории могут найти немало подтверждений, уж больно стремительно развивались негативные для нашего государства процессы, а порой происходили и совсем необъяснимые вещи.
Есть вторая теория, которая, на мой взгляд, ближе к истине: Горбачев, не сумев понять, от чего надо избавляться, а что нужно всеми силами сохранять, пошел по пути широкого недискриминационного пересмотра основ нашей внешней политики. И попал в уже упомянутую ловушку, когда, начав избавляться от идеологического начала, стал избавляться и от государственного. Сама логика этого порочного подхода привела к тому, что он отступал все больше, откатывался и откатывался назад. А в итоге попал в полную зависимость от наших западных контрагентов, которые начали диктовать свои условия, поскольку Горбачев все чаще действовал с позиции слабости, слабой стороны.
Конечно, этот период требует очень серьезного, досконального изучения. Его оценка сильно зависит от идеологических подходов. Либерально настроенные эксперты в России склонны оправдывать шаги Горбачева и говорить, что это был позитивный процесс отказа от неверной доктрины и правильный выбор в сторону сближения с Западом. Патриотические исследователи, напротив, уверены, что это был исключительно негативный процесс ослабления нашего государства и резкого снижения наших возможностей на мировой арене.
Правда в том, что нам безусловно надо было отказываться от наследия «холодной войны», но не такой ценой. Цена должна была стать предметом жестких переговоров, в ходе которых надо было отстаивать наши позиции.
Горбачев и его окружение выбрали другой путь. По необъяснимым причинам была избрана стратегия полного доверия к нашим западным контрагентам. Это была позиция именно Горбачева, и довольно странная. Вполне мотивирован и объясним его курс на отказ от наследия «холодной войны», который открывал для граждан внешний мир, избавлял от излишней подозрительности, давал новые возможности. В этом было здравое начало. Но принципиальный отказ от отстаивания государственных позиций обескураживает даже людей со взглядами, далекими от советской идеологии, а просто патриотически настроенных. Ведь уже очевидно, что по многим важным вопросам нас обманули. И почему была выбрана именно эта стратегия «тотального доверия», так и остается непонятным.
Здесь уместно вспомнить один эпизод, который мне в свое время пересказал дипломат Александр Бессмертных (короткое время, с января до августа 1991 года, после ухода в отставку Эдуарда Шеварднадзе, он возглавлял МИД СССР). Эта история произошла во время переговоров, на которых он присутствовал в качестве нашего посла в США, между госсекретарем США Джеймсом Бейкером и Горбачевым, вскоре после падения Берлинской стены. Бейкер приехал в Москву по поручению Джорджа Буша — старшего добиться согласия Горбачева на воссоединение Германии. США рассматривали этот вопрос как важнейший элемент победы в «холодной войне».
Это был конец 1989 года. Берлинская стена была разрушена, но СССР еще сохранял в Германии 350-тысячную группировку войск. Никто не хотел идти по насильственному пути. В ГДР еще оставались государственные структуры, многие люди в них по-прежнему работали. Вопрос о воссоединении Германии был тогда отнюдь не решен. Одно дело открыть границу или, допустим, снизить контроль за границей. И совсем другое воссоединить два государства.
Бейкер приехал в Москву торговаться, искать компромиссный вариант. Он сказал Горбачеву: мы прекрасно понимаем, что воссоединение Германии вы воспринимаете как угрозу для своей безопасности. Мы можем дать свои гарантии. Первое: НАТО «ни на дюйм» не продвинется на Восток — как было на территории ФРГ, так там и останется. Второе: США готовы вообще не допускать никакого размещения войск НАТО за пределами той зоны, в которой они сейчас находятся. Мы готовы дать письменные гарантии. Но хотим точно знать, что нужно вам.
У нас были разные варианты. Мы могли, например, потребовать выхода ФРГ из НАТО и закрепления внеблокового статуса объединенной Германии. Не факт, что американцы на это пошли бы, но такие условия выдвинуть было возможно. Можно было вообще вести речь о создании своего рода буфера — пояса нейтральных государств в центре Европы. Это была бы страховка на случай нового похолодания отношений с Западом. Тем более что уже тогда было очевидно: Варшавский договор, скорее всего, перестанет существовать.
Мы могли настаивать и на том, чтобы НАТО в дальнейшем не продвинулось ни на дюйм к востоку от его тогдашних границ, как, собственно, предлагал Бейкер.
Для большей гарантии можно было потребовать принятие официальной декларации, провести крупную конференцию, скажем, в Хельсинки, что-то вроде Хельсинки-2, где были бы провозглашены новые договоренности и была бы принята важная декларация, которая, даже не будучи юридическим документом, обязывала бы к соблюдению определенных правил обе стороны переговоров.
Но ничего подобного Бейкеру ни Горбачев, ни Шеварднадзе, который возглавлял МИД СССР, не предъявляют. Госсекретарь в замешательстве. Он пытается что-то выбить у русских переговорщиков, хоть какое-то их дополнительное условие, чтобы договоренность имела более прочную основу, но ничего не получает. От Горбачева он просто слышит: «Хорошо, мы согласны».
Бейкер возвращается в Вашингтон, передает итоги переговоров президенту Бушу. Тот сперва не верит, что все так просто. Не выдвинули никаких условий? Их устраивает то, что ты сказал? Им достаточно одних словесных заверений?! Это ведь всего лишь личные обещания, они ничего не стоят, остаются, так сказать, в переговорном кабинете.
«Не может быть, — говорит Буш Бейкеру, — русские играют в какую-то двойную игру. Поезжай снова, они что-то задумали. Я не могу допустить срыва объединения Германии. Я готов им дать любую цену, все что попросит но чтобы объединение состоялось».
Бейкер приезжает второй раз, вновь проводит переговоры с Горбачевым. На них вновь присутствует Бессмертных. Московские визави Бейкера повторяют: «Хорошо, нас все устраивает. Мы ведь с вами друзья». И Шеварнадзе произносит сакраментальную фразу: «Мы с друзьями не торгуемся».
Так советское руководство отдало «друзьям» ГДР. Сейчас, ретроспективно, можно выдвинуть три версии, почему оно так поступило. Первая: Горбачев к этому времени уже начал терять контроль внутри страны (до конца его правления оставалось меньше двух лет, до путча полтора года). Обвальные изменения политического ландшафта в СССР привели к тому, что он уже не имел ни интеллектуальных, ни душевных сил заниматься проработкой и отстаиванием позиций в диалоге с Западом. Колоссальная перегрузка, слишком много всего надо решать внутри страны — не до внешних событий.
Вторая версия: основной переговорщик, глава МИД СССР Шеварднадзе, уже тогда встал на путь государственного предательства, если называть вещи своими именами. Как человек хитрый и опытный, понимая, к чему движется ситуация в СССР, он уже тогда решил сделать ставку на Соединенные Штаты. Он мог прогнозировать распад СССР и появление независимой Грузии (которая все бурлила после апрельских событий уходящего 1989 года). И Шеварднадзе, долго возглавлявший Грузию как первый секретарь Компартии, имел основания полагать, что возглавит уже независимую республику и станет привилегированным партнером США. Как это в итоге и произошло. Иными словами, уже тогда он вел свою политическую игру.
Но это никак не объясняет позицию Горбачева. Шеварднадзе мог позволить себе начать такую игру, но только в том случае, если не было противодействия со стороны главы государства.
Третья трактовка, которую можно предложить, это полное непонимание Горбачевым логики внешней политики. Непонимание того, что внешняя политика не зависит от личных обещаний Джорджа Буша-старшего или Джеймса Бейкера.
Есть знаменитое высказывание лорда Пальмерстона: «У Англии нет вечных союзников и вечных врагов, у нее есть вечные интересы». Постоянный интерес нашей страны, будь то Российская империя, Советский Союз или нынешняя Россия, состоит в том, чтобы удерживать наши международные позиции, а если эти позиции по каким-то причинам удержать невозможно, то получить максимальные компенсации. Наличие 350-тысячной военной группировки на территории Германии было колоссальным рычагом, что прекрасно понимали в Вашингтоне. К тому же на тот момент с окончания Второй мировой прошло не так уж и много времени — всего 44 года. Наличие такой группировки было гарантией сохранения послевоенных договоренностей, гарантией и от возможных реваншистских настроений в самой Германии. Все это было признано в Ялте и Потсдаме, зафиксировано в международных пактах. Мы на полных правах находились в Германии, мы ее не завоевали, а освободили от фашизма. И точно так же, как американцы, англичане и французы находились на территории ФРГ, мы находились на территории Восточной Германии, осуществляя наши союзнические прерогативы, юридически признанные всем миром.
Просто скинуть с себя разом эти обязательства и эту ответственность, в одночасье сдать все позиции в центре Европы под лозунгом «Мы с друзьями не торгуемся» — для меня это свидетельство полного непонимания, к каким последствиям такой шаг мог привести, к какому колоссальному стратегическому отступлению он вел нашу страну.
Тот самый горный поток, дно которого все время пытался нащупать Горбачев, на определенном этапе его просто унес. И если в области внутренней политики он еще пытался стоять на ногах до 1990 года, когда был декларирован суверенитет Российской Федерации, то во внешней политике стремнина подхватила его еще на рубеже 1988–1989 годов и понесла неудержимо. Он пошел по пути тотальной сдачи позиций, не будучи способен осуществлять рациональную, взвешенную, эффективную внешнюю политику. Горбачев стал жертвой процесса, который он запустил, но не смог контролировать, процесса, ставшего стихийным.
Меня в свое время, когда я узнал про переговоры о будущем Германии, потрясла беспомощность этой позиции. Здесь проявился глубокий непрофессионализм Горбачева как главы государства.
В руководстве страны были люди, которые предупреждали Горбачева о возможных последствиях такой политики. Международный отдел ЦК КПСС тогда возглавлял Валентин Фалин, много лет служивший послом в Германии. Он был категорическим противником подобной позиции. Но все его попытки переиграть Шеварднадзе, убедить Горбачева, что да, нужно двигаться, расставаться с наследием прошлого, но не так, не таким обвальным образом, а выбивая для себя лучшие условия и международные гарантии, — все эти попытки были пресечены на корню. Говорю об этом, чтобы было ясно: это не тот случай, когда у позиции Горбачева — Шеварнадзе не было интеллектуальной альтернативы. Она у него была. Но он раз за разом выбирал наихудший сценарий. В итоге уступил власть Борису Ельцину, был изгнан из Кремля и беспомощно наблюдал за распадом государства, президентом которого являлся. Так сама история вынесла вердикт и Горбачеву, и его политике.
2. Как из ведущей державы делали ведомую
На протяжении трех лет мне довелось работать в группе консультантов международного отдела ЦК, которая занималась подготовкой речей (сейчас их называют спичрайтерами) и аналитических записок для руководства страны, для Политбюро и самого Горбачева. Мне неоднократно приходилось участвовать в подготовке его выступлений на крупных мероприятиях. Собирали членов нашей команды из международного отдела ЦК, добавляли одного-двух человек из Министерства иностранных дел, как правило на уровне руководителя департамента МИД, в соответствии с нужной тематикой, а также представителей Минобороны и других профильных ведомств.
Эта группа собиралась на загородной даче и проводила «мозговые штурмы» в течение нескольких дней, иногда до двух-трех недель. Нам никто не мешал, не надо было возвращаться домой, мы там жили, это была командировка в Подмосковье. Это позволяло максимально сосредоточиться и отвечать ожиданиям тех, кто давал нам поручения. Вопрос был в том, насколько конкретными были поставленные задачи.
Что бы ни говорили об Александре Яковлеве, он, как правило, четко представлял, что хотел получить на выходе. Собирая нас, предлагал ясные наметки того, как он видит свое будущее выступление. Тоже достаточно четко, хотя и в меньшей степени, чем Яковлев, формулировал задачи член Политбюро Вадим Медведев, который отвечал за идеологию при Горбачеве.
Сам Михаил Сергеевич, когда готовилась его речь, был гораздо менее конкретен. Конечно, у него было намного меньше времени для разъяснений, но дело было не только в этом. Главная проблема была в том, что у него не было ясности в голове. Как правило, нам предлагалось написать нечто, что продвинуло бы вперед «новое мышление».
Когда мои коллеги пытались добиться большей ясности, нам говорили: вы консультанты, вот и консультируйте. Вы речи пишете, вот и пишите. Куда, в каком направлении, как двигаться? Что думает по этому поводу генеральный секретарь? Сие было неведомо.
Помню, мы готовили одну крупную речь Горбачева, кажется, к его выступлению в Варшаве на заседании политического комитета Варшавского договора. Нас собрали тогда на даче ЦК в Волынском (по преданию, когда-то ее занимала любовница Берии, а затем в ней останавливались лидеры братских стран от Хоннекера до Цеденбала). Написали, как нам казалось, вполне приличный текст. Но он к нам вернулся с возмущенными комментариями от помощников Горбачева, с вычеркнутыми страницами. Осталось там буквально три-четыре абзаца. Все остальное было «чудовищно», «ужасно», «чем вы там занимаетесь?!». «В бильярд играете вместо того, чтобы трудиться?» А мы действительно играли в перерывах в бильярд.
Пишется второй вариант. Нет! Третий вариант. Снова нет! Четвертый… Руководители нашей цековско-мидовско-минобороновской сборной недоумевают. Просят: хоть какое-то направление дайте! Но нет… Слышим только: «Вам сказано — надо идти вперед! Михал Сергеич хочет сказать новое слово!»
Пятый вариант… Шестой… Все отвергается. Последний вариант был отвергнут в 11 часов вечера накануне вылета, который намечался на 8 утра. Звонок от кого-то из помощников, от Шахназарова или Остроумова. Смысл таков: если к утру текста не будет, последуют кары небесные. Полетят головы. Не помню точной терминологии, но звучало устрашающе.
Оставалось шесть часов, за которые сочинить новый текст принципиально невозможно. Это страниц 12–15, с глубоко продуманным содержанием, да еще и с новизной формулировок. Хотят ведь что-то новое, а что — непонятно. Мы уже на грани нервного срыва.
И вдруг наиболее опытный из нас говорит: «Слушайте, а у кого первый вариант сохранился? Его ведь уже все забыли…» Я, самый молодой (мне было 35 лет), говорю: «Да, у меня есть, на всякий случай оставил». — «Давай его сюда!»
Мы подняли первый вариант. Вставили в него несколько кусков из последующих шести — из тех, что понравились, прописали их более подробно. Перекрестились. И в четыре часа ночи срочно отправили.
В восемь часов утра звонок с борта президентского самолета, который уже готовился к взлету. Звонил Шахназаров. «Хочу вам передать, что Михал Сергеич очень доволен. Вот ведь можете, когда захотите!»
Такое функционирование сознания на уровне неких порывов, неких не до конца осознанных импульсов было характерно и для политики Горбачева. Отчасти он действовал по принципу Наполеона: «сначала ввязываемся в бой, а там посмотрим». Но Наполеон был гениальным полководцем, он мог себе позволить так действовать, хотя и это вызывало критику многих военных специалистов того времени. В конце концов, это его подвело, но в первое время на европейском театре военных действий он так одерживал победы. Хотя у него были и битвы, которые являлись образцами продуманности и завершенной логики.
Импровизация в политике возможна в двух случаях. Либо у тебя достаточно сильные позиции и ты можешь себе позволить импровизированные шаги. Либо ты должен отличаться сильной способностью к моментальному анализу, чтобы правильно реагировать и решительно действовать без предварительной подготовки. Ни того, ни другого у Горбачева не было. У него было некое желание сделать лучше. Он действительно считал, что нужно уходить от «холодной войны», от излишней враждебности с Западом, что страну нельзя дальше держать в закрытом режиме. И ее действительно нельзя было сохранять в прежнем состоянии.
Но благими намерениями вымощена дорога в ад. Если эти благие намерения не продуманы, не положены на солидную основу оправданных политически шагов, то они, как правило, заканчиваются тем, что разрушается существующая система, но на ее место не обязательно приходит новая, а весьма вероятен политический хаос. Возможно резкое ослабление власти, утрата контроля. На мой взгляд, произошло второе. Горбачев, желая создать новую систему отношений с Западом, на самом деле полностью утратил инициативу, уступив ее западным контрагентам. И именно Запад выстраивал новую систему отношений на выгодных ему началах.
А Горбачев, вместо того чтобы быть ведущим или хотя бы партнером в тандеме «СССР — Запад», стал ведомым. Как говорил Бисмарк, в любом альянсе есть всадник и есть лошадь, и надо всегда стремиться быть всадником. Горбачев же очень быстро стал лошадью, причем практически добровольно. Это произошло в 1988–1989 годах. Как только он стал следовать за процессом, а не направлять его, это проложило путь к серьезным политическим поражениям — к большому ущербу для национальных интересов, сперва советских, а затем и российских.
В чем состояли эти интересы на том этапе? Нужен был контролируемый, постепенный, взвешенный переход от отношений «холодной войны» к новому типу отношений. Какой это мог быть тип отношений? Конечно, это не мог быть «общеевропейский дом», о котором любил рассуждать Горбачев. И, конечно, это не мог быть мир «нового мышления». Если Горбачев, по сравнению с предыдущими руководителями страны и партии, действительно пытался предложить новую систему координат, то его западные коллеги Буш, Коль, Тетчер придерживались прежней. На Западе ее до сих пор придерживаются. Прежде всего потому, что там не наивные люди. Они прекрасно понимают, что в отношениях между такими крупными центрами силы могут быть либо отношения соперничества, либо отношения первенства одного центра по отношению к другому, за счет ослабления его позиций. Горбачев же полагал, что можно создать некую гармоничную картину, новый мир, где мы будем взаимодействовать, учитывая интересы друг друга. И где с нами будут считаться, несмотря на то что мы добровольно отказываемся от наших внешнеполитических возможностей.
Но так в международной политике не бывает. От этих иллюзий ничего не осталось, когда мы попытались идти по этому пути при Ельцине. Да и после него, когда делали шаги навстречу Западу в ожидании ответных шагов.
Один американский политолог как-то сказал мне: во-первых, мы же не просили вас это делать. А во-вторых, если вы какие-то шаги нам навстречу сделали и они нам выгодны, мы, разумеется, не будем отказываться от тех возможностей, которые вы нам предоставляете, но это совершенно не означает, что вы можете ждать от нас равноценного ответа. Такой ответ может быть только в случае, если вы заключаете некую договоренность, где обе стороны принимают на себя определенные обязательства. Опережающими встречными шагами вы добиваетесь в лучшем случае некоторой признательности, но которая совершенно не обязательно приведет к нужным вам политическим последствиям, поскольку чаще всего воспринимается как проявление слабости. И если вы что-то делаете, что выгодно Соединенным Штатам, не ожидайте, что Соединенные Штаты в ответ сделают то же самое для вас.
Горбачев считал, что он разоружит Запад, точнее, обезоружит своей демонстративной готовностью скидывать наши возможности, менять наши позиции, идти навстречу его пожеланиям и т. п. А произошло другое. Запад не пошел на встречные шаги, а воспользовался этой ситуацией для того, чтобы максимально укрепиться и создать принципиально новое соотношение сил.
Разрушительный подход Горбачева затем повторил и Ельцин. Откуда это идет? На мой взгляд, есть глубокое заблуждение, что внешней политикой может заниматься любой человек, который обладает здравым рассудком, высшим образованием и имеет некоторый политический опыт. Это не так. Люди, которые изучали историю внешней политики англосаксонских стран, таких как Великобритания, США, да и других государств западного мира, знают определенные принципы, на которых базируется их политика. И они знают, что слова на самом деле имеют очень малую цену. Слова всего лишь инструмент для достижения политических целей. Слова меняются очень быстро. Важны не столько намерения, сколько объективные возможности. Вас могут заверять, что в отношении вас нет агрессивных намерений, а потом будут делать шаги, которые на самом деле являются агрессивными. А заверяют вас для того, чтобы ввести в заблуждение. Вся история англосаксонского мира показывает, что внешняя политика достаточно цинична и исходит исключительно из принципа расчета.
Здесь опять вспоминается приведенное выше высказывание о друзьях, врагах и интересах Великобритании. Друзья и враги могут меняться местами. Политикой правят интересы, а не симпатии, не заверения, не приятные вечера, проведенные у камина за бокалом виски. Они могут иметь определенное значение на коротком историческом отрезке. Но не они правят бал.
Незнание основ внешней политики, безусловно, подвело и Горбачева, и Ельцина. Ельцин еще и бравировал ее незнанием. Выпив пару бокалов, он мог сказать в переговорной комнате своему американскому визави Биллу Клинтону: «Билл, давай выгоним отсюда советников, они только мешают, мы сейчас с тобой обо всем договоримся!» Но только Билл, во-первых, был посообразительней, чем Борис Николаевич. А во-вторых, у Билла было гораздо лучшее представление о внешнеполитических задачах своей страны, чем у Ельцина. Поэтому каждый раз из этих посиделок тет-а-тет победителем выходил Клинтон, а не Ельцин.
В эту ловушку попал и Горбачев. Ему казалось, что внешняя политика дело нехитрое. Что такого? Поехал к Маргарет Тэтчер, встретился, поговорил, обаял… Может, даже где-то и обаял. Но так и Брежнев обаял Никсона, который с тех пор был о нем высокого мнения, да и Хрущев тоже обаял Эйзенхауэра в конце 1950-х годов, когда приезжал в Америку. А результат?
Было, как известно, два визита Хрущева в США, и оба в эмоциональном плане прошли хорошо. Несмотря на свою несколько неуклюжую фигуру и, мягко скажем, не слишком рафинированный облик, Хрущев понравился американцам. Он был открытым, смеялся, делал комплименты женщинам. С ним познакомили Мэрилин Монро. Он понравился Эйзенхауэру. Ему показали небоскребы, и он сказал: «Я такие же в Москве построю!» В США ожидали увидеть человека в футляре, наследника Сталина. А увидели живого, веселого, умеющего остро и быстро реагировать человека. По этой же причине и о Брежневе хорошо отзывались западные партнеры, и германский канцлер Вилли Брандт, и французский президент Жискар д’Эстен. Отмечали, что он был радушным хозяином, умел обаятельно вести застолье, шутил во время переговоров.
Но от эмоций внешняя политика не менялась. Уже после милых бесед Хрущева с Эйзенхауэром произошли и история со сбитым американским летчиком-шпионом, и Берлинский кризис, и Карибский кризис. Собственно, когда в 1950-е годы началась очередная кризисная фаза в отношениях США и СССР? В тот момент, когда возникла эйфория, когда Хрущев посчитал, что отношения на подъеме: посидели хорошо, поговорили, нормальные люди эти американцы. И вдруг в разгар потепления они засылают летчика-шпиона! Наш генсек опешил. Как же так? Ведь мы только что вернулись оттуда. Так хорошо разговаривали! А они!..
А у них другая психология. Хорошо поговорили? Замечательно. Но все остается прежним. Соперничество, подготовка к войне на случай необходимости, шпионаж. Игра против интересов «партнера». Обстановка за ужином не определяет внешней политики США, Великобритании, Франции или Германии. Не понимая этого, было легко попасть в эту психологическую ловушку.
При этом на Брежнева, и на Хрущева работал мощный аппарат, который им готовил, все необходимые материалы для переговоров. И они к этому аппарату, как правило, внимательно прислушивались.
При Горбачеве произошла диффузия аппаратной работы. Было всего несколько человек, которым он доверял основные направления деятельности. И эти люди, к сожалению, придерживались той же самой концепции, что и Михаил Сергеевич: сейчас давайте покончим с «холодной войной», на каких условиях — не важно, а дальше будет видно. Этой линии придерживался и Шеварднадзе, и ряд его заместителей в Министерстве иностранных дел, и помощник Горбачева по международным делам Анатолий Черняев. На вопрос, что делать дальше, когда мы избавимся от наследия прошлого, всегда следовал ответ: «А дальше будет видно».
Горбачева обмануло показное радушие, с которым его встречали западные визави. А как его не встречать радушно, когда он был готов в одностороннем порядке двигаться туда, куда хотелось Западу? Это показное радушие произвело на него и его супругу Раису Максимовну неизгладимое впечатление. Им показалось, что они становятся частью узкого круга мировой элиты, где будут решать глобальные вопросы.
Для Горбачева это был особенно сильный магнит. Тэтчер, Рейган, Коль, Клинтон — не рядовые представители западной элиты. Это лучшие ее представители. Не в морально-этическом плане — моральные качества западных лидеров обсуждать бессмысленно: вместо них у них голый расчет. Нет, в другом смысле — в плане их профессионализма, умения общаться с людьми, проецировать свое влияние, в степени ловкости, убедительности аргументации, умения гнуть свою линию (не зря Маргарет Тэтчер называли «железной леди»). В способности, не очень разбираясь в деталях и нюансах политики, тем не менее создать миф о себе как о великом президенте, как это удалось Рональду Рейгану.
Сам образ Рейгана до сих пор довлеет над американской политикой. К его авторитету обращался во время последней избирательной кампании даже демократ Обама, когда критиковал Трампа. Обама говорил: Трамп хочет возродить наследие Рейгана, но Рейган был бы в ужасе от Трампа! На Рейгана ссылаются сейчас чуть ли не как на Авраама Линкольна. Из президентов США в XX веке над всеми возвышаются двое: Франклин Рузвельт, победитель во Второй мировой войне, и Рональд Рейган, победитель в «холодной войне». Два великих президента.
При этом Рейган засыпал на заседаниях Совета национальной безопасности. Был вовлечен в громкий скандал с незаконной продажей оружия Ирану для финансирования деятельности контрреволюционеров в Никарагуа: была изобретена хитрая схема поставки оружия Ирану через Израиль, что было грубейшим нарушением американских законов. За это в принципе можно было пойти в тюрьму. Но Рейгану простили. Все свалили на одного из его помощников в Совете по национальной безопасности и тихо заглушили скандал… А Рейган был причислен к лику великих.
Таким образом, Горбачеву пришлось общаться не с рядовыми, а с лучшими представителями западной элиты с точки зрения их способности заниматься политикой и политиканством. И этого соревнования он не выдержал. Ведь они были отобраны всей системой, которая выделяет лидера в западном мире. А Горбачев был выбран узким кругом пожилых людей, которые исходили из принципа — сгодится любой, лишь бы начал хоть какое-то движение в застоявшейся стране. Но у него не только не было профессиональной подготовки, но и какого-либо представления о том, на каких принципах строится внешняя политика в англосаксонском мире. А ведь такое понимание является единственной основой, на которой можно строить отношения с западными государствами.
Ибо есть психотипы в отношениях между странами, как и в отношениях между гражданином и государством. Например, в России, с ее авторитарной властью, своя сумма отношений. Здесь власть всегда осуществляла свою политику через доминирование над индивидом. А на Западе, где иная политическая культура, политика осуществляется через манипуляцию индивидом. Это совершенно разные подходы.
Аналогичные психотипы есть и во внешней политике. Они разные. Обман, которому мы всякий раз так изумляемся: «Нас опять обманули!» — во внешней политике западных стран является нормой. Этому нельзя изумляться. Мы должны не допустить обмана. А то, что будут пытаться обманывать, регулярно, обещать и не выполнять? — это один из важнейших приемов во внешней политике, особенно в англосаксонском мире, где не считается зазорным обмануть контрагента, а тем более противника. Если ты сумел обмануть противника, то ты его переиграл!
И когда Сталин, насколько можно судить, уверил себя в том, что Гитлер не нападет на Советский Союз, потому что фюрер ему это обещал, даже подписал пакт о ненападении и дал «слово чести» (!), это была огромная ошибка. Безусловно, с точки зрения способности осуществлять власть Сталин был одним из крупнейших политиков XX века, да и мировой истории. Это признавали и Рузвельт, и Черчилль. Но с Гитлером случился явный «пробой», когда Сталин не просчитал ситуацию. Возможно, по той же причине: он плохо знал психологию западного мира. Видимо, казалось, что договоренности имеют, по крайней мере, какую-то протяженность во времени. А это совершенно не обязательно. Они могут быть прерваны на следующий день. А могут через два года. Как это сделал Гитлер.
Одним словом, Горбачев был не первым, кто оказался обманут. Но, в отличие от других руководителей нашей страны, Горбачев был обманываться рад. Его обмануть было несложно. И он совершенно не слушал тех, кто пытался как-то выправить ход событий, кто указывал на опасности, последствия такого движения.
Ведь национальные интересы страны состояли не только в прекращении холодной войны. Подлинный национальный интерес состоял в том, чтобы выйти из «холодной войны», максимально сохранив позиции на международной арене. Ровно потому, что это было основой для дальнейшего политического торга.
Конечно, было бы преувеличением считать, что контуры будущего мира были ясны и таким политикам, как Джордж Буш-старший, Джеймс Бейкер, Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль, что они точно знали, как все будет, и являлись гениальными стратегами. Нет, и они в точности не знали, куда движется ситуация. Но они действовали жестко отстаивая свои интересы. Они были готовы выйти из холодной войны, но только на определенных условиях. И эти условия состояли в том, что Запад должен был получить преимущественное положение на выходе из холодной войны. А Горбачев готов был выйти из холодной войны на любых условиях. Вот в чем разница.
Свою роль в ослаблении СССР сыграла и политическая эволюция в Восточной Европе. С конца 1970-х годов там стало созревать серьезное недовольство ограниченными возможностями той экономической модели, которая существовала в рамках социалистического лагеря. Первым звонком, предупредившем о будущем распаде Варшавского договора и СЭВа, стали события в Чехословакии в 1968 году. Пражская весна показала те линии напряжения, которые уже возникли в социалистическом лагере. А самым громким звонком стали события в Польше в начале 1980-х, когда противостояние властей и движения «Солидарность» закончилось введением в стране военного положения.
В Польше протестное движение было основано не только на либеральной интеллигенции, диссидентствующих партийцах или творческих кругах (как в Чехословакии), там протестовали уже рабочие. Развернуть рабочий класс против государства пролетариата — это был сильный ход. А поставить во главе этого движения плохо причесанного сантехника с висящими усами и в стоптанных сандалиях по имени Лех Валенса — это был второй сильный ход.
Представить себе, что это процесс был чисто стихийным, невозможно. Над этим проектом серьезно работали. Но правда и то, что в польском обществе возникли внутренние основания для появления такого протеста. Здесь совпали два элемента. Прежде всего, сознательная работа со стороны внешних сил, то, что сейчас называют подготовкой «оранжевой революции». Ведь дестабилизация Восточной Европы рассматривалась как важнейший инструмент ослабления Советского Союза. Внешние силы участвовали и в венгерских событиях, и в чешских событиях. И второй элемент — те настроения недовольства, которые объективно присутствовали в социалистических странах и обществах.
В Восточной Европе в 1980-е годы иностранные центры, с одной стороны, готовили протестные настроения, а с другой — опирались на тенденцию, которая наблюдалась в этих обществах. Тенденция была проста и очевидна: жители европейских соцстран хотели того же уровня жизни, что был к тому времени на Западе.
Способность достичь такого уровня, причем быстро? — ‘то была во многом иллюзия. И до сих пор в Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, хотя прошло уже 25 лет со времени распада Советского Союза и соцлагеря, не могут достичь того уровня жизни, который отличает Западную Европу и который всегда разделял Восточную Европу и Западную. Страны Восточной Европы всегда были бедными европейскими задворками западного мира. Так оно и осталось. Тем не менее эта иллюзия оказалась устойчивой. При этом наши «братья-славяне», венгры и румыны сравнивали себя не с небогатой Португалией, а с Францией и Великобританией, со Швецией и Финляндией. Социалистическая модель экономики такой уровень жизни обеспечить, естественно, не могла в силу своей низкой эффективности.
Таким образом, начиная с польских событий стартовал процесс распада социалистического лагеря, который застал Горбачева врасплох.
И в Москве возникло желание отгородиться от этой тематики.
По долгу службы я участвовал в заседании секретарей по идеологии коммунистических и рабочих партий соцстран в Берлине в 1989 году. Главой нашей делегации был Вадим Медведев. И на этом совещании уже было ясно, что социалистический лагерь раскалывается на две части. Идти дальше вместе с Советским Союзом были готовы чехословацское руководство, власти ГДР, Болгарии. А венгры и поляки уже открыто ставили вопрос о своей автономии. Венгрия откровенно смотрела на Запад. В Польше тоже были сильны такие тенденции.
Социалистический лагерь был нашей опорой. Шесть государств в Восточной Европе были спаяны в единый геополитический блок. Это была внушительная сила. И все последующее расширение НАТО было направлено как раз на то, чтобы вобрать эти государства.
Мне поручили подготовить бумагу для Политбюро по итогам совещания в Берлине. В ней мне пришлось отразить возникшие разногласия, тот факт, что социалистический лагерь фактически разделился на две группы стран и что он находился на грани раскола и даже развала. Написал я и то, что одна группа явно работает против наших геополитических интересов, что чревато крахом всей системы, на которую опирается СССР в Восточной Европе.
Медведев прочитал и сказал: «Написано хорошо, все верно, только это надо переписать». Спрашиваю: «А что не так?» Отвечает: «Надо убрать все эти тревожные моменты».
Спорить было трудно: он был членом Политбюро. Но я все же попытался возразить: «Вадим Андреевич, но ведь то, о чем я пишу, очевидно! Все это видели, слышали». «Да, это так, — с улыбкой успокоил меня партийный функционер. — Но не будем расстраивать товарищей в Политбюро».
Эта фраза запомнилась мне на всю жизнь: «Не будем расстраивать товарищей в Политбюро».
Из этого можно сделать два вывода. Первый: на определенном уровне советского руководства, на уровне Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, Медведева, с Восточной Европой уже распрощались. То есть посчитали, что ее уже не удержат. С ней нужно расставаться, как поступают на войне: если вы не можете удержать крепость, лучше покинуть ее и укрепиться в своей главной крепости, которую вы сможете отстаивать. Второй вывод: неспособность команды Горбачева отвечать на новые вызовы и в силу этого нивелирование, приглушение поступавших сигналов об опасности. Как-нибудь выправится. Как-то само рассосется.
До сих пор не знаю, какой из мотивов был доминирующим. Думаю, было сочетание того и другого. Не уверен, что был некий сговор в советском руководстве, тайный уговор расстаться с Восточной Европой. Я этого не чувствовал. Скорее, чувствовал другое — неспособность действовать. Неспособность удержать ситуацию. И даже нежелание это делать. Что возвращает нас к теме неадекватности той политической элиты, которая правила страной в 1980-е годы.
Некоторые говорят: «Горбачев великий человек, он прекратил холодную войну, открыл нашу страну миру. И неважно, что там произошло в области геополитики и наших внешнеполитических позиций…»
Но есть один главный критерий, по которому оценивают политика: он ушел во славе или он проиграл? Рузвельт умер во славе. Сталин умер, будучи неоспоримым руководителем страны. Рейган и Коль ушли под аплодисменты. А Горбачев проиграл. И кому? Он проиграл Ельцину, которого не уважал и ставил ниже себя.
Помню, как в середине 1990-х годов мы пересеклись с Михаилом Сергеевичем на одном из политических приемов. А перед этим я выступил в своей телепрограмме с неприятным для него комментарием — сказал, что внешняя политика Ельцина и его неудачи являются продолжением внешней политики Горбачева и его неудач. Встретив меня на приеме, Горбачев отозвал меня в сторону и сердито сказал: «Алексей, ты меня с Борькой через запятую не ставь!» Горбачев ставил себя намного выше Ельцина. Но при этом ему проиграл.
Внешнеполитические поражения Горбачева нельзя рассматривать как нечто отдельное от его поражения внутри страны. Проиграв во внешней политике, он проиграл и во внутренней. Ведь если уступаешь вовне, то это неизбежно сказывается на твоем имидже и возможностях внутри страны.
Если ты раз за разом, имея на руках сильные карты, проигрываешь игру одну, вторую, третью, то недавние союзники перестают быть таковыми и образуется вакуум доверия. Люди уже не верят, что ты когда-нибудь сможешь выиграть, и перестают тебя поддерживать. И тогда к власти приходит твой противник.
Незабываемая сцена: Горбачев спускается по трапу самолета, на котором вернулся в Москву из Фороса. И вдруг обнаруживает, что его не ждут, что вокруг него лишь небольшая группа людей, с которыми он работал, а всем остальным он уже глубоко безразличен. Ельцин уже готов его свергнуть, но никто по этому поводу не переживает. Горбачев уже утомил общественное сознание своими метаниями и поражениями, в том числе внешнеполитическими.
Если Горбачев исходил из доктрины, что с окончанием «холодной войны» США автоматически превращаются в союзника, это был грубейший просчет, грубейшая ошибка в понимании логики современного мира. Для Соединенных Штатов победа в «холодной войне» открывала путь к установлению однополярного мира, мировой гегемонии, которой мешал Советский Союз.
В начале 1990-х известный американский правоконсервативный обозреватель Чарльз Краутхаммер написал оду Америке как мировому гегемону. Он ликовал: «США победили, отныне мы правим миром! Больше нет препятствий для этого!» Краутхаммер, как человек откровенный, открыто выразил то, что чувствовала американская элита. Президент Буш говорил об установлении «нового мирового порядка», а Краутхаммер торжествовал: «Мы новый Рим, новая Римская империя!»
Горбачев, а за ним и Ельцин не понимали, что США не собираются на равных с Россией управлять мировыми процессами. В их глазах Россия проиграла «холодную войну». А проигравший не встает в один ряд с победителем. США стали новой Римской империей, а России была уготована роль ее подчиненной провинции.
3. Ельцин и Козырев: дипломатия добровольного подчинения
В то время как Горбачев, окруженный такими сподвижниками и помощниками, как Шеварднадзе и Черняев, так называемыми реформаторами, которые не столько реформировали созданную Советским Союзом систему, сколько разрушали ее, пытался вырваться из навалившейся на него массы внутренних и внешних вызовов, внутри правящего класса созревала альтернатива. Она получила название демократической, хотя на самом деле была не демократической, а антикоммунистической. Это была альтернатива, предлагаемая часто советской (подчеркнем это слово) политической элитой, которая в силу разных причин либо не имела достаточного доступа к власти, либо вознамерилась сменить знамена и вписаться в новый поворот истории, заняв в нем господствующие, а не подчиненные позиции.
Стоит еще раз посмотреть на те фигуры, которые составили основу так называемого демократического движения. Секретари ЦК ВЛКСМ, главные редакторы или заместители главных редакторов крупнейших советских изданий. Таким был, например, Егор Яковлев — типичный партийный журналист! Заведующие кафедр и деканы факультетов, такие как Гавриил Попов, работники партийных журналов, такие как Егор Гайдар. Иными словами, большинство людей, участвовавших в этом движении, вышли из коммунистической или околокоммунистической элиты. Радикальное крыло этого движения составляли диссиденты.
Объединяла эти разные силы борьба за власть. Это была неожиданная смычка изгоев советской системы и недавних активных проводников политики партии и правительства, которые решили стать активными проводниками другой политики, вырисовывавшейся за контурами разрушения, инициированного Горбачевым.
«Новое понимание» национальных интересов России, характерное для «демократического движения», сформулировал первый министр иностранных дел Российской Федерации Андрей Козырев. Это был профессиональный дипломат, до своего назначения министром иностранных дел в 1990 году он работал директором департамента международных организаций МИД СССР. Он был типичным представителем той части советской элиты, которая быстро встала под новые знамена. Плоть от плоти советской элиты: был в свое время комсомольцем, работал за границей, имел все необходимые степени допуска, был помощником замминистра иностранных дел Владимира Петровского.
Увы, новая идеологическая платформа была не переосмыслением системы национальных интересов Советского Союза, а состояла в их примитивном отторжении. Иными словами, везде, где стоял знак плюс, ставился знак минус. Если СССР соперничал с США в области гонки вооружений, то был сделан вывод, что мы должны вообще отказаться от новых разработок, перестать развивать наш ядерный потенциал и даже поставить его под контроль США. Если мы были в конфронтации с западным альянсом, то теперь должны перейти к тесному союзу с ним. Если поддерживали антизападные силы в «третьем мире», то должны были отказаться от борьбы за влияние в этих регионах и т. д.
Это был не пересмотр, не переосмысление политики, как в Китае, где нашли некую амальгаму между теми ориентирами, которые были у Пекина в 1950–1960 годы, и новым политическим курсом, нацеленным на экономическое развитие страны и встраивание в глобальную экономику.
В России псевдодемократическое движение пошло по другому пути — пути отрицания всего, что делалось на советском этапе. Если попытаться оценить это с точки зрения национальных интересов страны и просто здравого смысла, то отдельные элементы новой доктрины были справедливы. Конечно, надо было отказываться от наследия холодной войны. Конечно, надо было прекращать изнуряющее и бессмысленное соревнование с Соединенными Штатами по числу ядерных боеголовок и ракетоносителей. Кстати, первые шаги были сделаны еще в советское время, когда начали заключаться договоры о контроле над ядерным оружием. Конечно, нужно было открыть границы и дать людям возможность выехать за рубеж, перестать держать страну «на замке», прекратить практику согласования выезда за рубеж в райкомах и парткомах, когда разрешали сначала выехать только в Венгрию, и если ты прошел испытание развитым социализмом, уже тогда отправляли в капиталистическую страну. Это был вопиющий атавизм, и, конечно, от этого надо было отказываться.
Но проблема была в том, что вместо достаточно целостной, хотя и устаревшей системы национальных ориентиров и интересов, основанной на соперничестве с западным миром, — вместо нее не была предложена новая сбалансированная система приоритетов. Вместо всего этого была придумана некая идеальная картина мира. Взамен противостояния с Западом провозглашалось объединение, единение, соитие с ним — назовите это как угодно.
Вот характерный эпизод. В 1993 году Москву посетил с визитом бывший президент США Ричард Никсон. Он спросил у Козырева: «Скажите, как видите новые интересы России?» Вопрос логичный. Американцы имели дело, конечно, не совсем с новой страной. Россия стала правопреемницей СССР с точки зрения международного права. И Никсону было интересно понять: на что теперь будет ориентироваться Россия. На это Андрей Козырев дал поразительный ответ. Он звучал примерно так: «А это я у вас хотел спросить, каковы наши национальные интересы».
Никсон опешил. «Погодите, — говорит, — вы у меня спрашиваете? Но Россия все-таки член Совбеза ООН, у вас ядерное оружие, вы вообще-то великая держава. Может, вы мне все-таки сами обрисуете вашу новую картину мира?» И тут Козырев ответил еще «оригинальнее»: а у нас, мол, нет специфических национальных интересов — у нас только общечеловеческие. И они полностью соответствуют интересам Соединенных Штатов.
Уезжая, пораженный Никсон сказал своему помощнику: «Да, с такими политиками страна далеко не пойдет». Он понимал: слепое следование США — не для такой страны, как Россия.
Тогда, в начале 1990-х, у некоторых российских политиков была идея — войти в НАТО, а позже и в Евросоюз. Но наши западные контрагенты совершенно не поддерживали такие разговоры, потому что было совершенно непонятно, куда в итоге двинется Россия. И более того, в отличие от тогдашнего окружения Ельцина, европейские и американские политики хорошо понимали, что концепция «общечеловеческих ценностей» для России неприемлема. Не все, но многие на Западе осознавали, что «медовый месяц» в отношениях между Россией и Западом не может тянуться долго. В Европе никогда в долговременность такой модели не верили. В США некоторое время подобные иллюзии испытывали. Прежде всего, потому что плохо знали историю России и допускали, что она может существовать в роли младшего и подчиненного союзника Запада — союзника, который будет беспрекословно выполнять все предписания из Вашингтона.
У меня была интересная беседа в 1993 году с руководителем аналитического отдела Министерства обороны США. И он мне сказал одну вещь, которая меня поразила. Он сказал, что проводит большую часть своего времени, убеждая свое начальство, что тандем Гайдар — Козырев долго не удержится, что он противоестественен для России. Начальники ему возражали: мол, это же хорошие ребята, good guys, надо сделать, чтобы они остались! А он им отвечал: это вряд ли возможно, это вопрос времени, когда их заменят другие политики. Этот короткий период постреволюционного, либерально-прозападного романтизма неизбежно закончится.
Это была здравая оценка, которая постепенно стала утверждаться в США. Одной из последних попыток обосновать козыревскую формулу была большая публикация в «Независимой газете» Стивена Сестановича (он был ранее руководителем Центра Карнеги в Москве, а в конце 1990-х стал специальным представителем администрации Клинтона по Советскому Союзу и СНГ). В своей статье он доказывал, что российские национальные интересы эквивалентны американским. Но поскольку Америка — страна лидирующая, передовая в плане развития демократии, то в этом тандеме Россия, естественно, должна играть подчиненную роль.
Это была одна из последних попыток убедить российский политический класс в том, что Россия не должна претендовать на собственную роль в мировых делах.
Для Бориса Ельцина в период конца 1980-х — начала 1990-х был только один принцип существования — движение к высшей власти в стране. Для него все те, кто поддерживал его намерение возглавить страну в любом ее виде, будь то Советский Союз или остатки Советского Союза, выступали как политические союзники. Когда Ельцин начал формировать свою внешнеполитическую команду (это происходило в 1989–1990 гг.), он остановил свой выбор на Козыреве — о нем хорошо отзывалась либеральная интеллигенция, на которую Ельцин стал ориентироваться.
МИД РФ располагался тогда в небольшом особняке в самом начале проспекта Мира. Это была во многом условная единица. Российская Федерация имела свое небольшое представительство в ООН, как Украина и Белоруссия. Задачи Козырева как министра иностранных дел РФ были невелики. МИД РФ занимался в основном тем, что сейчас мы называем региональным сотрудничеством — развивал отношения России с регионами других стран, например с федеральными землями Германии.
Но как проводнику личных интересов Ельцина Козыреву были даны самые широкие полномочия. Его главной задачей было мобилизовать максимальную поддержку Ельцина на Западе. Тогда состоялся первый нашумевший визит Ельцина в США. Организацией этих визитов занимался Андрей Козырев.
Для Ельцина картина будущего внешнеполитического существования России и защита ее национальных интересов тогда не имели значения. Ему важно было другое — мобилизовать те зарубежные силы, которые могли его поддержать в нужный момент внутри России.
Общее представление его о том, как должен функционировать мир, когда Ельцин придет к власти, было весьма примитивным и сводилось к двум-трем позициям, которые были подсказаны ему людьми типа Бурбулиса и Козырева. Состояли они в том, что поскольку, холодная война закончилась, новая Россия должна превратиться из противника в союзника США. Эти страны будут вдвоем решать основные вопросы мировой политики. Поскольку мы в России откажемся от социалистической системы, то исчезнет основа для вражды и конфронтации и США сами не будут проводить по отношению к нам враждебную политику. На пространстве бывшего Советского Союза неким удивительным образом возникает подобие Евросоюза — для этого лишь нужно «освободить» все республики, а затем они к нам непременно вернутся, на добровольной основе, в новой системе, выстроенной на началах экономического взаимодействия.
Была такая установка у Ельцина и его окружения: «А куда они от нас денутся?!» Установка абсолютно неверная, порочная. В итоге Туркмения практически прервала все отношения с Россией, Узбекистан при Каримове вышел из ОДКБ, Грузия встала на путь конфликта с Россией, Украина пошла по пути «оранжевых революций».
Была создана идеализированная картина мира, в котором будто бы будет существовать новое Российское государство. Полностью отсутствовало понимание того, что в странах, появившихся на месте советских республик, появятся мощные националистические течения, эти настроения захватят и властную элиту, и местную интеллигенцию, а национализм вместо коммунистической идеологии превратится в главную идеологию этих государств. Как новые государства, они будут искать опору и свои истоки в прошлом, искать историческую легитимность своего существования. А это неизбежно приведет к усилению националистических, а в таких странах, как Украина и республики Прибалтики, ультранационалистических начал.
Помню, как в 1995 году оказался в кабинете одного из лидеров новых государств Средней Азии. У нас был разговор о сотрудничестве между российском телевидением и этой республикой. И в глаза мне бросилась огромная картина, висевшая на стене. Монументальный всадник, вздымавший меч, очевидно харизматичный лидер, а за ним тьмы, и тьмы, и тьмы — вооруженные, на конях. Поинтересовался, что изображено на картине. И хозяин кабинета не без гордости объяснил: «Это наш предок — Чингисхан».
Сегодня Чингисхана считают своим прародителем в ряде стран. Памятник ему стоит в столице Монголии Улан-Баторе. На гигантском евразийском пространстве, где сформировались новые государства, появилось новое осознание своей государственности. В период существования социалистического лагеря та же Монголия значительную часть своего суверенитета делегировала Советскому Союзу: по обороне, по внешней политике, по развитию экономики. В то время национализм всячески подавлялся, в том числе и в советской Средней Азии.
Когда же соцсистема распалась, а за ней рухнул и СССР, то новую легитимность стали искать в истории. И когда встал вопрос, кто является историческим предком новых правителей династий на огромном пространстве от Каспийского моря до Монголии, ответ дала история, точнее, псевдо-история: Чингисхан, Тамерлан, «древнеукраинские князья»… Не они были прародителями новых государств на постсоветском пространстве, но они должны были сообщить этим государствам историческую легитимность.
Понимания всего этого в окружении Ельцина не было, а подход «Куда они от нас денутся?» отражал общий примитивизм политического мышления нового руководства страны. Ельцин был человеком резких, грубых движений в политике. Во внешней политике это проявлялось еще сильнее, потому что он в ней плохо разбирался; как и Горбачев, долго принимал за чистую монету то, что ему говорили западные лидеры. А западная дипломатия несет в себе огромный заряд лицемерия и фарисейства.
Трудно ожидать искренности от европейской дипломатии, которая насчитывает полторы тысячи лет (если считать от распада Римской империи). Это 15 веков интриг, убийств, переворотов, заговоров, войн, аннексий и захвата территорий. Один из символов западной политической мысли — Николло Макиавелли, апологет интриг, злодейства и лицемерия на службе у государственного интереса. Доверчиво смотреть на наследников Макиавелли и восклицать: «Да, мы вам верим на слово!» — могли либо недалекие, либо все понимавшие, но злонамеренные люди.
Ельцин был человеком провинциального типа, руководителем из глубинки. Во внешней политике он хотел лишь проявить себя, впечатлить, показать свои лидерские качества. Ему неоправданно казалось, что своим «природным шармом» он мог очаровать своих западных контрагентов. «Особые отношения» с признанными лидерами западного мира должны были, с одной стороны, помочь Борису Николаевича в поддержании его непомерного эго, а с другой — помочь прийти к некоему равновесному, в его понимании, типу отношений с Западом.
Конечно, было бы неверно говорить, что с самого начала Ельцин собирался ездить в Вашингтон, дабы «получать ярлык на княжение», как делали русские князья в Золотой Орде, возить туда дань и кланяться президентам США. Но по факту так и получилось. Ельцинская Россия была слабой, плохо управляемой, с руководителями, которые готовы были отдать лидерство в международных отношениях Соединенным Штатам Америки и западному миру в целом, с политиками, которые видели в западном мире объект для поклонения и образец для подражания. Это автоматически ставило Россию в подчиненное, зависимое положение.
Мне довелось не раз наблюдать Бориса Ельцина в его зарубежных визитах, в частности в ходе его поездки в Соединенные Штаты в июне 1992 года. Его выступлению в Конгрессе политическая элита США аплодировала стоя. Прежде всего ему аплодировали как человеку, окончательно развалившему Советский Союз, который был колоссальным вызовом и для безопасности, и для идеологии, для экономической и политической системы Соединенных Штатов. Но также аплодировали и за те новые принципы, которые пытался предложить им Ельцин, — принципы новых отношений между Россией и Западом.
В этих принципах — отказ от холодной войны, схватки систем, признание ценности демократии и т. д. — было разумное начало.
Но идею равноправия России и США в зале конгресса воспринять не могли. Международные отношения — это отношения доминирования, это отношения властные. Мировая политика — это борьба за власть на мировой арене. Она этим не исчерпывается, но многое подчинено этой борьбе. Даже многие международные организации, которые внешне кажутся не связанными борьбой за власть, на самом деле являются полем схватки за власть. Внешняя политика — это борьба за власть и влияние в международном масштабе, борьба за ту или иную степень доминирования, ту или иную степень подчинения других государств.
И даже когда речь идет о структурах типа ООН, ПАСЕ и др., которые основаны на принципе равноправия, на уровне устава, на уровне декларируемых ценностей, резолюций и т. п., то в них полноценного равноправия нет.
Взять Евросоюз. Формально его принципы выполняются: теоретически даже одно государство может блокировать любое решение, например санкции против России. Но этого не происходит. Малые зависимые страны на это не решаются. Если они сомневаются, то их начинают убеждать, обрабатывать. Пока все члены ЕС не дадут формального согласия, решение принято быть не может, как это было в случае с решением об ассоциации ЕС с Украиной, его на время заблокировал парламент Нидерландов. Однако позже ассоциацию все же утвердили. И это закономерно: всем прекрасно известно, кто определяет в конечном счете позицию ЕС. Возможно, через ряд ступеней, через дебаты и прочие инструменты убеждения, возможно, на это потребуется полгода или год, но все равно верх возьмет позиция, которую занимает Германия и прогерманский блок стран — членов ЕС. Официально в ЕС все равны, но в реальной жизни, по выражению Джорджа Орруэлла, «некоторые животные более равны, чем другие». Иначе быть не может! Ведь эти «животные» крупнее, мощнее, их позиция является определяющей для Евросоюза. Германия — номер один. Франция — номер два, но в связке с Германией. До Брекзита «равнее других» была также Великобритания, в меньшей степени — Италия. Вот четыре страны, которые определяли до сих пор судьбы Евросоюза.
В такой организации, как Североатлантический альянс, тоже заложен принцип равенства. Но и здесь есть «животное», которое «равнее» всех остальных, — США. Иначе и быть не может: именно США несут на себе 75 % расходов Североатлантического альянса. В НАТО есть и еще несколько крупных «животных», которые вместе с США, но не будучи равными им, определяют политику этой организации.
Даже при всех международно-правовых амортизаторах, которые должны продемонстрировать равенство государств на международной арене, что является признаком «цивилизованного мира», по сравнению с прежним миром грубых завоеваний, захватов и уничтожения противника, — даже при всем этом международные отношения остаются отношениями борьбы за власть и доминирование.
Это относится и к организации, которая должна, казалось бы, быть главным оплотом принципа равенства в мире, Организации Объединенных Наций. Но в действительности она не является таковой: поскольку пять членов Совета безопасности, признанных победителей во Второй мировой войне, определяют судьбы мира в гораздо большей степени, чем все остальные члены ООН, вместе взятые.
Таким образом, принцип неравенства заложен в мировую политику. И когда Борис Ельцин по наущению своих советников и друзей решил, что перед «новой Россией» сейчас все расступятся и скажут: «Конечно, Россия же освободилась от коммунизма, так мы ее немедленно возьмем в нашу семью демократических народов!» — это было глубокое заблуждение.
На Западе возобладала совершенно другая точка зрения. Россия — страна с неопределенным будущим. Президент Ельцин — весьма неустойчивая политическая фигура. В стране накопились огромные противоречия. Экономика после распада Советского Союза, горбачевской перестройки, гайдаровских реформ находится в предсмертном состоянии. Утрачено более 50 процентов промышленного потенциала страны. Предсказать дальнейшее развитие страны невозможно. А потому западный альянс должен воспользоваться слабостью России, чтобы усилить свои позиции за ее счет. Самые умные ожидали, что после «демократической» волны, которая смела старую систему, неминуема ответная волна, поскольку первая привела к серьезным перекосам в политическом, экономическом, социальном развитии страны.
И эта ответная волна пришла в октябре 1993 года. А когда Ельцин подавил это выступление жесткими силовыми методами, расстреляв российский парламент, в американском посольстве в Москве, как рассказывали, пили шампанское. Так это было или не так, но миф о шампанском в Спасо-хаусе существует. И он выглядит достоверным. Ведь если бы в противостоянии с Ельциным возобладал Белый дом, Россия получила бы совершенно другую ориентацию во внешней политике. С Соединенными Штатами отношений добровольного подчинения не было бы. Или, по крайней мере, эти отношения новая власть, какой бы она ни была, попыталась построить на иных основах, в соответствии с историческими традициями нашей страны.
Россия со времен Ивана Грозного и даже еще раньше всегда играла самостоятельную роль в мировой политике. В силу многих факторов: и психологии «третьего Рима», наследника Византии, и масштабов государства, и численности населения, и ресурсного потенциала — Россия, как крупная самостоятельная держава, была веками воспитана в духе самостоятельности. И это видно по русской классике. В гражданской поэзии Пушкина заметны выпады против Европы, которая в начале XIX века в очередной раз сражалась с Россией за влияние, пытаясь оказать на нее давление.
«О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнения Литвы? Оставьте: это спор славян между собою…»При всех известных либеральных убеждениях Пушкина, воспевавшего свободу, которая всех «встретит радостно у входа», он занимал ясную позицию в отношении Запада, поскольку Запад в лице Европы (США тогда не играли никакой роли) был естественным антиподом России на огромном европейском пространстве, где шла борьба за влияние, ресурсы и господство.
С тех пор прошло почти 200 лет — и что? Публично, на словах поддерживая Россию, делая ставку на Ельцина как на «демократического лидера», коим он, конечно же, не был (Ельцин был гораздо ближе к лидерам популистско-разрушительного типа), западные политики готовились к продолжению противостояния с Россией в новых формах.
Риторика Запада была позитивная. Шумно готовились пакеты «крупномасштабной помощи» России, например так называемый Токийский пакет. В его рамках нам пообещали в начале 1993 года выделить 40 миллиардов долларов. В итоге до России почти ничего не дошло: 10 миллиардов — это были кредиты под высокие проценты, еще 10 миллиардов ушли на обслуживание западных консультационных фирм, чьи сотрудники жили в Москве в лучших гостиницах и вели шикарную жизнь, о которой до сих пор вспоминают как о своем «золотом времени»; еще 10 миллиардов ушло непонятно на что, если они вообще были выделены, а реальных денег мы получили от силы 5–8 миллиардов. Остальные расползлись на финансирование нужных самому Западу проектов.
Поначалу даже рассуждали о новом «Плане Маршалла» для России подобно тому, который был разработан госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947–1948 годах, когда США начали восстанавливать экономику Европы после Второй мировой войны. Вопрос ставился так: Запад поможет России восстановиться после распада Советского Союза, а Россия превратится в деятельного члена западного альянса и «демократического сообщества».
Тогда говорили, впрочем, о «плане Бейкера» по имени госсекретаря США Джеймса Бейкера в администрации Буша-старшего. Но ни нового «плана Маршалла», ни «плана Бейкера» так и не появилось. А пресловутый Токийский пакет оказался пшиком.
Само ожидание нового «плана Маршалла» для России было иллюзией. Его и не могло быть. Он был разработан в конце 1940-х для той части Европы, которая была оккупирована Соединенными Штатами после ее освобождения от гитлеровской Германии. Американцы вкладывали средства в те страны и те земли, где они были намерены закрепиться и играть решающую роль. Они вкладывали деньги туда, где были уверены в политической надежности и окупаемости своих вложений.
Россия — совсем другое дело. Вкладываться в страну, которая имеет сравнимый с США ядерный потенциал, непредсказуемое политическое развитие, неустойчивого лидера и узкую элиту либерально-прозападного типа, которая уже тогда сталкивалась с серьезным сопротивлением и на политическом уровне, и на уровне общественного сознания, было бы крайне рискованно. Кроме того, с середины 1990-х альтернативные элиты начали проявлять себя, а в конце 90-х они были уже очень заметны: это были такие оппоненты Ельцина, как Юрий Лужков и Евгений Примаков.
Надо сказать, что уже с 1992 года либеральная элита сталкивалась с серьезным сопротивлением даже со стороны политиков ельцинского круга, взять хотя бы председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова. Это был человек, который делал вместе с Ельциным «демократическую революцию». Но позже по закону всех революций произошло размежевание бывших союзников, и часть той новой элиты, которая с Ельциным пришла и утвердилась вместо Политбюро, стала разворачиваться против гайдаровско-чубайсовского курса и против самого Ельцина. Черномырдин, Сосковец, Скоков, Лужков были представителями плеяды «красных директоров», у них был свой генезис. Они выросли не в либеральных НИИ, в курилках и кофейнях, где обсуждали последние эфиры «Радио Свободы», статьи Сахарова и книги Солженицына. При Ельцине в одной лодке оказались представители совершенно разных частей советской элиты, от Гайдара до Примакова. И хотя на Западе делали ставку на Гайдара, Чубайса и Козырева, серьезно вкладываться в столь противоречивую Россию там явно не собирались.
США и западные страны сделали выбор в пользу укрепления своих геостратегических позиций за счет России. Так родилась идея расширения НАТО. Впервые она была открыто вброшена в дискуссионное пространство в 1993 году. Тогда в США появилась программная статья на эту тему в главном внешнеполитическом издании американской элиты журнале Foreign Affairs за подписью Строуба Талботта (в 1994–2001 годах заместителя госсекретаря США), а также трех бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб США. В ней рассматривалась возможность долгосрочного расширения НАТО за счет бывшего «социалистического лагеря». И были обозначены три фазы будущего расширения. Первая фаза — Польша, Чехия, Венгрия. Вторая фаза — ряд стран на востоке Европы, в том числе прилегающие к российским границам республики Прибалтики. И наконец, третья фаза, наиболее проблематичная, но очень заманчивая для западного альянса, — включение в НАТО Украины и Грузии.
Впрочем, и до этого уже были сигналы, что, несмотря на активное заигрывание Москвы с Вашингтоном и на попытки Ельцина установить дружеские отношения и с Биллом Клинтоном, как и с другими представителями западной элиты, никто тесниться и уступать России «место за столом» не собирался.
Впервые это проявилось уже в 1992 году, еще в период так называемого «медового месяца» (honey moon) между Россией и США. Тогда глава МИД Андрей Козырев вдруг сделал весьма симптоматичное заявление: мол, Запад не пускает Россию на западные рынки оружия! А в России сохранилась еще военная промышленность и ей нужны были рынки сбыта.
Козырев исходил из того, что, если хорошо попросить, то с нами поделятся, в том числе и рынками оружия. Но с нами отказались делиться. И он выступил с заявлением, где был вынужден выразить недовольство этим фактом.
Нас действительно не хотели пускать на оружейные рынки. Тогда американцы блокировали большую закупку российского оружия Южной Кореей. Были попытки блокировать закупки и со стороны других государств, причем попытки часто успешные.
В 1993 году вспыхнул большой скандал, когда США заблокировали продажу Индии наших криогенных двигателей, способных выводить спутники на околоземную орбиту. Закупка предполагалась на 800 миллионов долларов, для нас это была тогда значительная сумма. Американцам поставка была невыгодна — они хотели, чтобы Индия покупала такие двигатели у них. В Вашингтоне подвели сделку под международное соглашение о запрете на распространение ракетных технологий, обосновали блокировку сделки тем, что это якобы приведет к развитию ракетно-ядерного потенциала Индии. США угрожали подвести наши предприятия, собиравшиеся осуществить поставку, под американские санкции. Соглашение все же было заключено, даже вопреки давлению со стороны Соединенных Штатов, но в итоге не было выполнено.
Так мы столкнулись с жестким блоком на экспорт наших военных технологий и вооружений. Пытаясь повлиять на Запад, и прежде всего на США, Козырев привел тогда такой аргумент: если нам не дают продавать оружие союзникам Запада, то нам придется продавать его так называемым странам-изгоям (в западном понимании). В итоге мы стали продавать вооружение нашим традиционным покупателям: Ливии, Сирии, Китаю.
Этот эпизод стал первым признаком новых разногласий. Уже тогда стало ясно, что нас с распростертыми объятиями в западном альянсе никто не ждет, что за место под солнцем на мировых рынках придется бороться. Никто уступать добровольно позиции нам не собирается.
Но в 1992–1993 годах степень психологической зависимости от Запада была крайне высока. Тогда случился потрясающий эпизод, описанный в газете New York Times: как американцы фактически поручили Козыреву сорвать сделку по поставкам криогенных двигателей Индии. Американский корреспондент подслушал где-то в коридоре разговор Козырева и госсекретаря США Уоррена Кристофера, которые шли вместе, покидая очередную международную встречу. Козырев сбивчиво объяснял Кристоферу, что ему не удается блокировать заключение этой сделки с Индией, потому что в России есть большое военно-промышленное лобби, которое заинтересовано в этой сделке — и лобби очень влиятельное. Более того, оправдывался Козырев, президент Ельцин тоже выступает за заключение этой сделки. И его, Козырева, сил недостаточно, чтобы ее блокировать. На что Уоррен Кристофер, снисходительно похлопав Козырева по плечу, сказал: «Андрей, ты должен больше постараться». Буквально: «Andrey, you should know better».
Таков был тип отношений. Помню, в узком кругу сам Козырев жаловался, что Уоррен Кристофер любил звонить ему перед уходом с работы, часов в 8 вечера по вашингтонскому времени, то есть в четыре часа утра по Москве. «Первый раз, — говорил Козырев, — я вскочил как ужаленный. Думал, что-то случилось. Как бы не ядерная война!
Но Кристофер таким безмятежным тоном говорит: “Hello Andrey, how are you? Как дела? — спрашивает. У нас тут очень красивый закат. Как ты вообще?”» И Козыреву понадобилось два или три таких звонка, чтобы понять, что это была определенная форма издевательства и унижения. Такая как бы дружеская беседа, госсекретарь звонил вроде как поддержать отношения. Но Кристофер прекрасно знал, сколько было времени в Москве. И знал, что Козырева разбудят: было установлено, что российского министра иностранных дел должны были немедленно извещать, когда звонил американский госсекретарь.
Теперь на часах у Козырева всегда было американское время…
Эти маленькие детали показывают тот тип отношений, который установился у России с США. Подобный тип отношений не мог быть долгим. Именно на Западе первыми решили идти по пути усиления своих геополитических позиций за счет России, что выразилось прежде всего в расширении НАТО. Но и в России постепенно начала созревать принципиально другая концепция внешней политики, нежели та, которую отстаивали фигуры типа Козырева и Бурбулиса. Их концепция была основана на следующем принципе: мы должны пойти на максимальные уступки Западу, тогда нас примут в западный альянс и мы станем полноценным членом западного сообщества.
Эта концепция к концу 1993 года столкнулась с резким неприятием в российском обществе. Одна из главных причин лежала в сфере политической психологии. Когда Козырев говорил, что мы должны пойти по пути ныне процветающих Германии и Японии, которые потерпели поражение во Второй мировой войне и приняли доминирование Соединенных Штатов Америки, он забывал об одной важной вещи. Эти страны подписали капитуляцию. Они проиграли войну. И там сформировалась под влиянием США, американской пропаганды, американских СМИ, иных форм внешнего влияния принципиально новая политическая элита. Она была воспитана, в случае с Японией, не в духе «бусидо», то есть веры в силу и мощь имперской Японии, а на иных, новых основах — на восприятии Японии как младшего партнера и робкого союзника США. Такого же типа элита была сформирована под кураторством США в западной части Германии.
Россия же не проиграла войну и не подписала капитуляцию. Изменение системы произошло у нас без прямого западного вмешательства, хотя и не без влияния извне. Советский Союз распался не в результате войны, и мы не считали себя побежденной нацией. Все это имело принципиальное значение: по этим причинам Россия не могла пойти по германско-японскому пути. И по этой причине узкая либерально-прозападная элита, де-факто исходившая из идеи капитуляции, оказалась в растущей изоляции в обществе. От нее откалывались даже те, кто к ней присоединился на первом этапе после ее прихода к власти. Откалывались по очень простой причине: прозападная доктрина «не работала». Она не обеспечивала той степени сближения, интеграции, «деконфликтизации» отношений, на которую была сделана ставка прозападными либералами. Объективная структура наших отношений с Западом этого не позволяла.
Для Литвы или Латвии было естественно признать лидерство крупного государства в Европе Германии, а в мировом масштабе — лидерство Соединенных Штатов. Здесь эти страны ничем не поступаются — они не могут претендовать на самостоятельную роль в европейских и мировых делах.
Средние державы типа Польши также должны искать внешнеполитического покровителя. Нейтральные страны привыкли к своему нейтралитету и аккуратно выстраивают отношения на многих векторах. Но все нейтральные государства тоже являются частью западного альянса. Даже если Швеция и Австрия не члены НАТО, они все равно себя относят и относятся к западному миру.
Россия и субъективно, и объективно не вписывается ни в одну из этих моделей отношений.
К тому же вставал ключевой вопрос о контроле над российским ядерным оружием. Были ли мы готовы поставить свой ядерный арсенал под контроль США? Ведь во многом из-за этого Франция при де Голле вышла из военной организации НАТО. США тогда поставили перед де Голлем следующий вопрос: «У вас есть ядерный потенциал, но, если мы — союзники по НАТО, он должен быть интегрирован с американским ядерным потенциалом, должна быть создана единая система контроля над ядерным оружием». Таким образом, фактически французы должны были поступиться своим суверенитетом в этой области. Такого де Голль не мог допустить.
Спор вокруг этой темы вызвал острый конфликт, который зашел так далеко, что де Голль выгнал штаб-квартиру НАТО из Парижа в 1963 году, а в 1966 году Франция вышла из военной организации НАТО. Такова была цена суверенитета. Франция, страна с тысячелетней историей, в понимании де Голля должна была быть самостоятельным центром силы. И на том этапе французская элита, воспитанная в духе величия Франции, поддерживала такой подход.
Для нас все эти факторы играли еще бо́льшую роль. У нас в 1991 году не произошло тотальной смены элиты, не произошло замены основ общественного мышления. Мы по-прежнему были и воспринимали себя победителями во Второй мировой войне. У России осталось место в Совете Безопасности ООН. Мы все равно были второй или даже первой, наравне с США, ядерной державой мира. Мы все равно оставались первыми в мире по запасам нефти и газа. Это самоощущение носило глубинный характер и не могло привести к утверждению линии на добровольное подчинение США и Западу в целом.
В итоге добровольного подчинения не получилось. Точнее, оно получилось на очень короткое время, пока Россия была крайне слаба. Как только она стала восстанавливаться, дух зависимости, навязываемый стране козыревыми, стал выветриваться. Чем сильнее становилась экономика, тем более крепла идея российского суверенитета. Окончательно она оформилась к Мюнхенской речи Путина (февраль 2007 год). Благодаря росту цен на нефть страна поднялась, стала одним из четырех «локомотивов» мировой экономики, как ее тогда называли, наряду с Китаем, Индией и Бразилией. Наши темпы роста составляли 6–7 % в год. Именно в эти годы оформляется законченная идея суверенности России, которая находит свое выражение в Мюнхенской речи.
Впрочем, то, что Россия не могла долго идти по пути роста зависимости и подчиненности по отношению к западному миру, стало видно уже к середине 1990-х и по выступлениям Бориса Ельцина. Он все-таки был советским человеком. Он вышел из эпохи, когда СССР вместе с США был одним из двух признанных лидеров мира, был сверхдержавой. Сверхдержавное мышление могло отступить на время, но исчезнуть полностью не могло.
С середины 1990-х начинается новый этап в отношениях с Западом, этап, который отмечен прежде всего решением Ельцина заменить Андрея Козырева на посту главы МИДа. И это не замена на еще одного из членов реформаторской либеральной команды. По принципу «Козырев не справился, возьмем другого, похожего». Нет, Ельцин берет человека, который воплощает в себе классическое державное начало в российской внешней политике — руководителя Службы внешней разведки Евгения Примакова.
Замена Козырева на Примакова была, конечно, серьезным поворотом в подходе российского руководства к внешней политике. Хотя, мне кажется, Ельцин сам не до конца понимал сути этого поворота и его последствий. Ельцин, как человек управляющего типа, реагировал на кризис в системе управления, который у него появился в условиях пребывания во главе МИД Андрея Козырева. Кризис состоял в том (и об этом говорил сам Ельцин), что Козырев не пользовался авторитетом у других ведомств. Он часто жаловался Ельцину, что к нему не вполне серьезно относятся в Министерстве обороны, в разведывательных структурах, других силовых ведомствах. А дело в том, что Козырева уже тогда многие представители правящей верхушки рассматривали, с одной стороны, как человека вредного, а с другой — как человека, который себя уже сильно дискредитировал.
Козырев испортил свою репутацию безоглядным движением навстречу нашим американским так называемым партнерам. И сильно переигрывал в этом направлении. Он активно продвигал идею стратегического альянса с США. Пытался убедить американцев в необходимости такого рода отношений. Естественно, это не нашло ответа и понимания с американской стороны. И не могло найти. Потому что Россия была совсем не той страной, которую можно было сравнить с Советским Союзом. Ни по геополитическому положению. Ни по военной мощи. Ни по экономической ситуации. Ни по идеологическому потенциалу.
Ельцин пытался сделать вид, что ничего драматического не произошло с падением Советского Союза. Но на самом деле произошло. Произошло резкое падение международного веса обновленного государства. Связано это было с большой суммой факторов. Каким бы неэффективным в некоторых сферах ни был Советский Союз, он обозначал альтернативу Западу. Как системе экономической, политической, идеологической, военной. С учетом того, что 50, 60, 70-е годы были периодом деколонизации, установления новых национальных государств, идея социализма была популярна в этих странах. Популярна по той простой причине, что совпала с логикой национального освобождения. Освобождаясь от прежних метрополий, эти страны искали новую модель. Они не хотели оставаться в неоколониальной зависимости от бывших колониальных держав.
Социалистическая модель создавала одним странам иллюзию выхода (потому что они не были способны ее осуществить), другим — реальный выход. Как, например, во Вьетнаме. И в Китае, где в последующем сформировалась однопартийная система с рыночной экономикой. И на Кубе. Этой моделью всерьез интересовались и в других странах по всему миру. Например, в Чили при Сальвадоре Альенде. Социализм давал альтернативу по отношению к тем странам, где бывшие колонии превращались в неоколонии, снова становились зависимыми от Запада.
Социалистическую модель выбирали, в частности, те силы, которые Запад не хотел видеть во главе этих стран. Запад активно поддерживал продвижение во власть людей, тесно с ним связанных, и отвергал тех, кто не желал проводить политику добровольной зависимости. Таких как Фидель Кастро на Кубе, Патрис Лумумба в Конго, Сиад Барре в Сомали. Эти люди вызывали неприятие и желание их свергнуть.
Социализм давал сразу несколько плюсов. Он давал идеологическую модель для существования. Перспективу для развития, освященную классиками типа Карла Маркса, который в то время был признан во всех западных университетах.
Наконец, это давало четкую геополитическую ориентацию. То есть мы уходим из западного стана, где нас угнетали, колонизировали. И переходим в стан советский. Который нас будет поддерживать, подкармливать, вооружать. И обеспечивать нашу безопасность от тех же богатых империалистов в том случае, если они захотят нас свергнуть и заменить на лояльных правителей.
Советский Союз пользовался этой ситуацией. Запросом на социализм. Одна Куба чего стоила, расположенная в 90 километрах от американского штата Флорида, ставшая государством, твердо ориентирующимся на Советский Союз.
Россия потеряла не только все свои международные позиции, но, помимо прочего, 9 миллионов квадратных километров собственной территории. А иллюзия, которую Ельцин испытывал, что Россия станет правопреемником Советского Союза не только де-юре, но и де-факто, то есть будет иметь ту же мощь и то же влияние на мировой арене, — эта иллюзия была совершенно необоснованна. Эта иллюзия была связана либо с тем, что называют благими намерениями, ни на чем не основанными. Либо с глубокой необразованностью Ельцина в международной сфере. Просто непониманием тех процессов, которые происходят на мировой арене.
Козырев, навязывая американцам стратегический альянс с Россией, подыгрывал Ельцину, но обеспечить этого не мог. За несколько лет стало ясно, что никакого стратегического альянса не будет. Более того, во весь рост начиная с 1994 года встала проблема будущего расширения НАТО. Которая вызвала кризис в той доктрине, которую пропагандировал козыревский МИД и которой до поры придерживался Борис Николаевич.
Тут надо отметить, что Ельцин постигал внешнюю политику в основном в рамках личного общения с западными лидерами. И у него возникло то же ощущение, как в свое время у Горбачева на ранних этапах, когда он превратился в любимца западных средств массовой информации (это было в 1988–1989 гг.), как человек, который был настроен на то, чтобы закончить холодную войну, сблизиться с Западом, сделать все необходимые уступки. Это застило несколько глаза Михаилу Сергеевичу. И он перестал видеть реальные проблемы, реальные угрозы, которые были связаны с отходом от холодной войны. Потому что мало провозгласить отход как цель — надо осуществить его таким образом, чтобы это прошло с минимальными потерями для собственного государства. Мы уже говорили о том, почему Горбачев не справился с этой задачей.
Так вот, Ельцину тоже льстило отношение к нему западных лидеров, которые его хорошо принимали, видели альтернативу Горбачеву. К Михаилу Сергеевичу тоже хорошо относились, но все же он был партийным руководителем. Возглавлял КПСС. А Ельцин был руководителем нового типа. Те, кто считал, что Советский Союз надо не просто вывести из положения сверхдержавы, не только добиться прекращения конфронтации с ним на западных условиях, но и изменить внутреннее устройство России, те делали ставку на Ельцина. В этом смысле западная элита была разделена. Причем очень многие долго ориентировались на Горбачева. Но были и те, кто говорил: нет, будущее связано с Ельциным, потому что он не хочет Коммунистической партии, хочет превратить Россию в классическую прозападную демократию. Горбачев — это паллиатив, он не решает проблемы. Горбачев — это Советский Союз. Пусть ослабленный, ушедший из Восточной Европы. Но все равно Советский Союз. А Ельцин это нечто новое, принципиально другая Россия.
Этот стан апологетов Ельцина уделял ему довольно большое внимание. Это люди, которые позже, в нулевые годы, занимали ярко выраженные антироссийские и даже русофобские позиции. У них был свой сценарий для России. Сценарий этот состоял в том, что Россия превращается в государство, находящееся в очень глубокой зависимости. Прежде всего от Соединенных Штатов и в целом от западного альянса. Является неформальным членом западного альянса, который поддерживает его, но не пользуется ничем из того, что западный альянс предоставляет своим членам. Ни гарантиями безопасности, ни американским ядерным зонтиком, ни экономическими преференциями.
Козырев очень активно работал на установление контактов именно с этой группой интересов. Дело еще в том, что Ельцин — персонаж очень угловатый, спорный, сложный. Стилистически сильно отличающийся от Горбачева, человека обходительного, достаточно мягкого, улыбчивого. Ельцин был лидером, малопонятным для Запада, из российской глубинки, популист, от которого не знали, чего ждать. Человек с быстрой сменой настроений. И со склонностью к алкоголизму, становящейся все более очевидной. Чего стоит одна поездка в Канаду, когда он, выйдя из самолета, решил помочиться на шасси. История, которая быстро обошла западную прессу.
То есть человек диких нравов, необузданного темперамента и непредсказуемый в политике. Вот каким виделся Ельцин. При том, что все понимали, что он вроде бы играет на отказ от политической системы во главе с КПСС. Горбачев, наоборот, имел все позитивные характеристики на личном уровне. Но в глубинном плане он не устраивал наиболее последовательную часть западной элиты. Потому что нужен был человек, который повел бы Россию по пути сознательного ослабления и подчинения ее Западу. Ельцин общался именно с такой публикой. И эта публика создала у Ельцина такое ощущение, что, когда он возглавит страну на новой основе, после ее декоммунизации, она станет полноправным союзником Соединенных Штатов. И вместе с США будет и дальше определять течение мировой политики.
С таким настроением в июне 1992 года Ельцин отправился в США. Это был его первый визит в новом качестве полноправного президента самостоятельной России. Он выступил в очень престижном формате (потом такого уже не было) на совместном заседании двух палат Конгресса США. Знаковое событие произошло 17 июня.
Выступление Ельцина не было конкретным. В нем была выражена надежда на некий новый формат отношений, связанная с тем, что Россия сама, добровольно, без внешнего давления отказалась от коммунистической модели. И было некое воззвание к западному миру, прежде всего к США, оценить это, сделать правильные выводы, окончательно отказаться от практики холодной войны и начать выстраивать принципиально новые отношения.
Эта речь 14 или 15 раз прерывалась аплодисментами, а в конце Ельцину устроили стоячую овацию. Выглядел он, в отличие от некоторых других своих появлений на Западе, очень представительно. В строгом черном костюме, который даже заставлял его выглядеть стройнее, чем он был на самом деле. Он был абсолютно трезв. Речь была им осознанная, было видно, что он готовился к этому выступлению. Это было выступление уверенного в себе руководителя, приехавшего протянуть руку дружбы американской политической элите. И спич как таковой носил позитивный характер, с учетом того, что ряд исторических событий уже произошел, СССР и социалистический блок было не восстановить и нужно было устанавливать некую новую сумму отношений. И в этом плане данная речь была одним из самых удачных выступлений Бориса Ельцина на западных политических площадках.
Проблема была в том, что ему аплодировали не за его идею объединения усилий США и России в борьбе с международными угрозами. Ему аплодировали как человеку, который развалил Советский Союз. Снял с США угрозу, которая над ними висела в результате конфронтации с СССР. Более того, ему аплодировали как человеку, который и дальше будет делать то, что выгодно Соединенным Штатам. Вот этого Ельцин абсолютно не понял. Да и не мог понять, потому что некому было ему подсказать. Ни Козырев, ни Бурбулис, сопровождавший Бориса Николаевича в этой поездке, ни посол РФ в США Владимир Лукин в таком разрезе ситуацию не видели. Они видели ситуацию как линейную, уход от конфронтации времен холодной войны и переход к партнерским, а в перспективе даже союзническим отношениям с США.
Я находился тогда в зале американского Конгресса и могу засвидетельствовать, что атмосфера была исключительно позитивная. И не было ощущения, что люди, которые находились тогда в зале Конгресса, держат камень за пазухой. Просто они имели другое представление о том, что последует дальше. И были разные мотивации у Ельцина, который выступил с подобным спичем, и у аудитории, которая восприняла речь на свой лад.
Объективное абсолютно размежевание в представлении о будущей, выстраивающейся тогда системе международных отношений с неизбежностью привело к тому, что ельцинская речь так и осталась благим пожеланием. Она была в каком-то смысле отброшена, отвергнута историческим процессом. Заклинания о мире, дружбе и сотрудничестве остались в области риторики. Из этой речи не было сделано практических выводов.
И сделано быть не могло. Потому что США в то время вступили в эпоху однополярного мира. Они это очень хорошо понимали. Они понимали, что сейчас надо очень быстро укрепить свои позиции, используя для этого слабости России. Началась эпоха триумфализма, когда американское военно-политическое влияние никем и ничем не сдерживалось. Напомню, что Китай в то время не был государством, которое могло бросить вызов США. Он только вышел из длительного периода собственной неопределенности, отстраивал свою экономику. Китай в то время был великим отсутствующим на геополитической карте мира.
Россия была «присутствующей». Но она присутствовала только как объект, который предстояло встроить в однополярный мир во главе с США. Вот в чем состояла американская доктрина. Тогда как Ельцин считал, что будет двухполярный мир с центрами в Вашингтоне и Москве. А вот здесь была его очень большая ошибка, большой стратегический просчет.
Возвращаясь к тому памятному визиту, должен отметить, что долго в хорошем рабочем состоянии Ельцин не удержался. На следующий день после выступления в Вашингтоне он поехал к Роберту Доулу. Это был тогда один из ведущих республиканских политиков, сенатор, представитель от Канзаса. В то время он был лидером республиканцев в сенате, а в 1996 году стал кандидатом от республиканцев на президентских выборах, но проиграл Биллу Клинтону.
Одним словом, это была очень влиятельная фигура. Мы все отправились на виллу Доула в городок Уичито (у нас его чаще называют Вичита), столицу Канзаса. Уичито показался мне самым скучным городом на земле. Куда ни бросишь взгляд, всюду бескрайняя равнина. Где-то засеянная и застроенная, а где-то пустая. Это середина, сердце США. Удивительно тоскливое место.
И там Борис Николаевич, видимо решив, что он успешно выполнил свою задачу накануне, захотел немного расслабиться. И выступить перед студентами местного университета, а также теми, кто приехал с Доулом из Вашингтона, Ельцин вышел уже изрядно подшофе. Он начал разыгрывать из себя такого незлобивого, добродушного русского мишку. Пытался веселить публику.
Должен признаться, что я тогда впервые испытал стыд за руководителя собственного государства. Причем стыд не интеллектуальный, какой возникает, когда человека, за которого ты болеешь, обыграли, он не справился с серьезной задачей. Такого рода чувство я испытывал по отношению к Горбачеву. Который со встреч тет-а-тет с западными руководителями выходил, делая все большие и большие уступки. Здесь же был стыд чисто человеческий. Было некое покушение на достоинство, но это покушение осуществляли не американцы, они были лишь реципиентами того покушения на достоинство, которое осуществлял, к сожалению, президент моей страны. Который незатейливыми прибаутками, гримасами и неумными шутками пытался расположить к себе аудиторию.
При этом сам Борис Николаевич, по-видимому, был убежден, что он неотразимо и очаровательно располагает к себе аудиторию и повышает свой авторитет в американском истеблишменте. Но обменявшись впечатлениями с нашими дипломатами и журналистами, я понял, что у нашей части аудитории было совсем другое мнение. Думаю, что и у американской части публики сложилось впечатление, что приехал человек, который пытается заискивать перед ними. Они вежливо посмеивались, вяло аплодировали, но это был далеко не триумф. У меня было ощущение, что Доул испытывает неловкость за своего гостя. Думаю, ему бы гораздо больше понравилось, если бы перед местной достаточно большой аудиторией, а в зале университета собралось несколько сот человек, выступил тот президент России, которого на самом деле были готовы видеть в Соединенных Штатах Америки. Сосредоточенного, грамотного, подготовленного к новому российско-американскому диалогу. К сожалению, это было совершенно не так.
На следующий день мы перелетели в Канаду, и там Ельцин выступал перед канадским парламентом. Не исключаю, что кто-то накануне вечером провел с Борисом Николаевичем воспитательную работу. Там уже он был опять в хорошей форме, выступил достаточно хорошо, это был фактически римейк того спича, который он произносил в Вашингтоне. С поправками на канадскую специфику, с этой страной у нас были традиционно достаточно развитые торговые отношения. Помню, как он встречал гостей перед своим выступлением вместе с премьером Канады, в светло-сером костюме, снова бодрый, подтянутый.
В общем, это было два Ельцина. Которых я лично видел во время поездки. Потом я еще несколько раз видел такого Ельцина со знаком плюс на закрытых встречах. Но в публичном пространстве я все чаще наблюдал другого Ельцина. Того, что прославился на весь мир, когда дирижировал оркестром в Берлине в конце августа 1994 года на церемонии по поводу завершения вывода Западной группы войск из Германии.
Я бы сказал, что его пьяные эскапады в Канзасе были провозвестниками того позора, который обрушился на страну уже в 1994 году. И это было естественно, потому что, чем старше Ельцин становился, тем больше он сдавал. Ему было все труднее удержаться на этой грани между собственно президентским стилем и президентом, срывающимся в алкоголизм.
Американцы этим пользовались. Позже была опубликована книга заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта «Билл и Борис», где подробно описывалось, как американцы намеренно спаивали Ельцина. В частности, во время обедов с Биллом Клинтоном. Клинтон мог выпить полбокала белого вина. Ельцин выпивал 5–6 бокалов. И потом на переговорах он вел себя исключительно решительно, очень хотел понравиться американцам, затыкал рот своим советникам и принимал такие решения, которые были выгодны США, например по югославскому кризису.
Здесь надо уточнить, каким образом я оказался свидетелем того, как действовала наша дипломатия в эпоху раннего Ельцина. В августе 1991 года провалился так называемый ГКЧП, в силу исключительно плохо подготовленной акции по переходу власти от Горбачева и недопущению прихода к власти Бориса Ельцина. После этого в короткие сроки было принято решение о запрете КПСС (знаменитый документ, который Ельцин публично показал Горбачеву). После этого закрылась и та организация, в которой я работал, а именно ЦК КПСС и его международный отдел, где я был одним из консультантов. В комплекс зданий на Старой площади вселилась веселая ватага новой демократической администрации, которая прежде всего с большим интересом стала заниматься той собственностью, которой располагал ЦК КПСС: пансионатами, поликлиниками, домами, квартирами. И занималась этим долгие годы, потому что все это надо было перераспределить и поделить. Продать и распродать.
Оставаться в системе власти в такой ситуации было сложно и затруднительно. У меня было несколько предложений. Работа в государственном аппарате меня не привлекала, потому что государство развалилось, а каким будет новое государство, тогда было совершенно непонятно. Я принял предложение возглавить международное направление в газете «Московские новости», которое поступило от нового главного редактора Лена Карпинского, занявшего этот пост вместо Егора Яковлева, перешедшего на телевидение (он был назначен генеральным директором «Останкино»).
Карпинский меня позвал, поскольку у меня тогда была репутация не только как сотрудника международного отдела, но также политолога и публициста. Так я оказался заместителем главного редактора «Московских новостей». И с Ельциным ездил в той группе журналистов, которые освещали его зарубежные поездки.
Кроме того, в 1992–1993 годах я довольно часто получал приглашения от пресс-службы МИД в этом же качестве присоединиться к команде Андрея Козырева, которая тоже осуществляла поездки за рубеж с разными целями. Наиболее интересная поездка была в марте 1992 года в ЮАР, когда мы поехали устанавливать дипотношения с Южной Африкой. Та сама была тогда на грани перехода от государства апартеида к государству черного большинства. И нас еще принимал Филипп Декерк, последний премьер-министр белых в Южной Африке.
Должен сказать, что мы были знакомы с Андреем Козыревым в период моей работы в ЦК и его работы в МИД. Он возглавлял департамент, я был консультантом в международном отделе, то есть должности были сравнимые по уровню, и мы достаточно тесно общались при подготовке различных документов. Но это до 1990 года, когда Козырева сделали министром иностранных дел Российской Федерации, которая уже тогда вошла в оппозицию к Советскому Союзу и начала проводить свою собственную внешнюю политику по поиску сил за рубежом, которые могли бы поддерживать Бориса Ельцина в его игре против Михаила Горбачева.
Меня приглашали в эти мидовские поездки не просто так. Козырев, как я понимаю, имел по моему поводу некоторые планы. И дважды я получал приглашения присоединиться к его политической команде в качестве советника министра. В декабре 1991 года я получил первое такое приглашение, но отклонил его, потому что только вышел на работу в «Московские новости». И второе приглашение я получил во время поездки в ЮАР. Тогда я тоже отказался. Мне было малопонятно, куда идет российская государственная машина. Было видно, что она находится в чудовищном состоянии. Престижность работы в государственных структурах резко упала.
В общем, я не принял этих приглашений. Но еще несколько лет меня звали в поездки с Козыревым. С Ельциным я летал в Великобританию, США, Канаду, Японию, Китай, Южную Корею. И перестал с его пулом летать в 1993 году, после октябрьских событий в Москве. Тогда я уже глубоко разочаровался в той и внешней, и внутренней политике, которую проводила действующая власть.
«Московские новости», надо отдать им должное, перешли тогда в оппозицию к Борису Ельцину, такую демократическую оппозицию. Они критиковали его не с точки зрения коммунистических или социал-демократических воззрений, а с либеральных позиций, в какой степени он перестал соответствовать критериям демократии. Помню, тогда возник фундаментальный спор, который обозначил ухудшение отношения нашей так называемой демократической общественности к Лене Карпинскому. Когда Егор Гайдар после известных событий октября 1993 года призвал «раздавить гадину». И Карпинский выступил публично в «Московских новостях» и задал вопрос: «Вы предлагаете раздавить гадину? Очертите контуры гадины!»
Карпинский был убежден: то, что произошло в октябре 1993 года, было не заговором нескольких ура-патриотов и подпольных коммунистических фанатиков против нового режима. А было результатом глубокого конфликта между интересами основной части населения и той группы людей, которая дорвалась до властных ресурсов.
Так же считал и предшественник Карпинского, бывший главред «Московских новостей», а к тому времени основатель и главред «Общей газеты» Егор Яковлев. Он и должен был так считать. Потому что Яковлев был из той демократической волны, которая все же пришла на базе идей как бы подлинной демократии.
В России же стала устанавливаться власть олигархата. И Борис Березовский вполне откровенно сказал в 1996 году в интервью Financial Times (друзья потом попытались заткнуть ему рот: «Ты что говоришь?!!»): семь банкиров, финансировавших предвыборную кампанию Ельцина, контролируют более половины российской экономики. «Семибанкирщина», как сформулировали тогда журналисты «Общей газеты». Есть версия, что этот термин они изобрели в соавторстве с Березовским.
«Россией владеем мы», постулировал Березовский. Несколько утрированно, но в целом верно. Россией владели они. И нежелание отказаться от владения Россией привело позже к конфликту между Ходорковским и Путиным. Ходорковский не мог смириться с тем, что новые власти решили изменить установленный в 1990-е порядок. Не мог смириться в силу уже выработанной привычки «владеть Россией».
С тех пор, с 1993–1994 годов, я уже не мог ездить с Ельциным, и из-за его внутренней политики, и из-за того, что я просто не видел смысла участвовать в этих поездках, где лидер страны регулярно напивался. С ним работать становилось все сложнее даже его ближайшему окружению, это было видно.
С Козыревым я перестал ездить после его визита в Грецию на саммит НАТО в декабре 1994 года. Тогда я выразил сомнения в его линии на полную поддержку политики Запада против Сербии. А он мне на полном серьезе стал доказывать, что Милошевич — это второй Гитлер. Этого уже моя душа не выдержала, и с тех пор я отказался ездить с главой МИД.
Уже тогда было ясно, что линия, которую он проводит, входила во все больший диссонанс с постепенным осознанием утопичности того, что провозгласил Ельцин в Вашингтоне в 1992 году. Эта утопия, может быть, и была выражена красивыми фразами, но не было ни одного западного государства, которое готово было всерьез откликнуться на ельцинские призывы. Потому что на Западе все равно рассматривали отношения с Россией в рамках политического реализма, то есть жесткой системы интересов, военно-политических позиций, наличия баз, военных альянсов и т. д. Никто не собирался строить общеевропейский дом. Никто не собирался включать Россию бесплатно в какие-то совместные структуры и проекты.
Международные отношения — это отношения подчинения и доминирования. И предположить, что новая Россия избежит этой парадигмы, было совершенно невозможно. Можно было, конечно, убеждать в этом себя, но всерьез такую возможность рассматривать не следовало. И главное, американцы стали постоянно и открыто доказывать свою претензию на доминирование. Это видел и чувствовал уже и сам Козырев. Чего стоит история с Кристофером, пресловутое похлопывание по плечу с призывом «постараться» остановить сделку с Индией. Таких случаев очень много.
И произошла еще одна история, которая подписала Козыреву как политику смертный приговор. Это тайные переговоры, которые начал вести один из его заместителей. Он был отправлен Козыревым в Вашингтон в марте 1995 года с миссией по поводу расширения НАТО. Было уже ясно, что расширение НАТО будет происходить. Как минимум в НАТО войдут Польша, Чехия и Венгрия с перспективой распространения и на государства, которые имеют общую границу с Российской Федерацией. Имею в виду Прибалтику, другие страны Восточной Европы. И третья фаза еще не просматривалась, но уже обсуждалась: Украина, Молдавия и Грузия.
Козырев понимал, что в случае, если будет принято положение о расширении НАТО, положение самого Козырева будет магистральным образом подорвано. Он держался. Недовольство им возникло где-то начиная с 1993 года. Уже в правительстве Черномырдина и в самой администрации были люди, которые указывали, что Козырев — американский министр иностранных дел в Москве. Была такая полушутливая формулировка. Уже в МИД, Совете Безопасности начала возникать тихая оппозиция.
Его спасло лишь то, что за него всегда стояли горой американцы. Во время переговоров они объясняли Ельцину, какой у него прекрасный министр иностранных дел. И как его важно сохранить на этой должности. В эту же игру играли англичане, французы, немцы. Получалось, что все внешние партнеры, с которыми Ельцин имел дело, очень хвалили его министра.
За счет этой внешней помощи Козырев продержался до начала 1995 года, но там наступил момент истины. На каких условиях будет расширяться НАТО? И можем ли мы этому процессу что-то противопоставить?
Итак, Козырев послал одного из своих замов, который курировал отношения с США, договариваться с коллегами, а именно с упомянутым Строубом Тэлботтом, заместителем госсекретаря. Поскольку переговоры носили рабочий характер и не были санкционированы Ельциным, то и американцы не стали придавать им особое звучание и повышать их уровень.
Но произошла утечка. Стало известно, что Козырев договаривается о следующем: Россия соглашается на расширение НАТО в обмен на отказ США размещать в новых странах — членах НАТО ядерное оружие и создавать там американские базы.
Статья, где содержалась информация об этой утечке, появилась в «Московских новостях». Автором ее был заместитель главного редактора по внешней политике Алексей Пушков. Я об этом узнал из, скажем так, достоверных российских источников.
Статья легла Ельцину на стол. И Борис Николаевич пришел в ярость. Он сказал: «Я не давал санкции на эти переговоры! Больше всего его возмутили не конкретные условия, которые там обсуждались, а сам факт подобных переговоров без его ведома».
Ельцин тогда уже был настроен очень резко против расширения НАТО. И получалось так, что его министр начал играть двойную игру. Играть против публично обозначенной самим Ельциным линии. А он тогда на одном из мероприятий с участием представителей СНГ высказался однозначно против движения НАТО на Восток. Он сказал, что есть некая красная черта, через которую нельзя переступить. Это было выступление, которое Ельцин не мог политически обеспечить. Но риторически оно показало, что глава государства крайне уязвлен подобной перспективой. Потому что такое расширение означало как минимум две вещи. Ухудшение военно-политических позиций России. Если чужой альянс движется к вашим границам, это всегда против вас. А во-вторых, это же была отброшенная его рука, которую он протягивал Западу. То есть фактически под убаюкивающие заявления о том, как Запад ценит новую Россию и поддерживает строящуюся демократию, готовилась серьезная акция по мощнейшему геополитическому сдвигу в Европе. Иными словами, Ельцин это воспринимал еще и как личное оскорбление.
Ельцин вспылил. На той самой неделе, когда была опубликована утечка, он выступал на коллегии МИД. На которую Козырев приглашал Ельцина заблаговременно. Коллегия была призвана продемонстрировать единство между президентом и российской дипломатией. Но в силу совпадения указанных обстоятельств и уже созревшего раздражения Ельцина по поводу Козырева участие в коллегии президента оказалось в итоге разгромным для министра. Ельцин с ним холодно поздоровался, не протягивая руки, уже внизу, когда глава МИД встречал президента у входа. Козырев сразу почувствовал, что дело плохо, еще не зная причин, но может, и догадываясь о них.
Во время выступления Ельцин никак не упоминал Козырева, не обращался к нему и старался вообще на него не смотреть. Из чего все сделали вывод, что звезда Козырева закатилась. После чего Ельцин произнес следующую фразу: «Если кто-то решил, что мы уже согласились с расширением НАТО и следует обсуждать его условия, то такие переговоры надо прекратить».
Эти слова были произнесены на закрытом заседании и лишь позже просочились в прессу. Но уже тогда стало ясно, что над Козыревым сгустились тучи. Осенью, на встрече с узкой группой экспертов в области внешней политики, в которой мне довелось принять участие, Ельцин уже открыто говорил: «Зачем мне такой министр?» Как дал понять Ельцин, его особенно раздражали жалобы Козырева, что с ним не считаются руководители других министерств и ведомств. «Я ему дал все полномочия, а он мне жалуется, понимаешь…» — ворчал Ельцин. Он уже не скрывал своего намерения расстаться с Козыревым. Это был лишь вопрос времени. А сама его отставка произошла в начале января 1996 года. Новым главой МИД был назначен Евгений Примаков, занимавший до того времени пост руководителя Службы внешней разведки.
В этой перестановке важную роль сыграло еще одно соображение: Ельцин не хотел идти на выборы в окружении политиков, непопулярных в народе в силу своей реформаторской и про-американской репутации. В условиях начавшейся предвыборной кампании по переизбранию Ельцина на второй срок Козырев был очевидным кандидатом на «вылет». Вторым был Анатолий Чубайс, которого Ельцин снял с вице-премьерского поста (в результате Чубайс с января по июнь 1996-го не состоял на госслужбе), дистанцировавшись от крайне непопулярного приватизатора.
Кстати, Чубайса Ельцин после выборов вернул во власть и даже сделал главой президентской администрации. Его увольнение перед выборами было чисто тактическим ходом: Ельцин не собирался менять свою внутреннюю политику. Но с Козыревым он расстался навсегда. Иллюзия возможности тесного союза с США к этому времени рухнула. Ельцину нужен был другой — более популярный и более национально ориентированный — глава МИД.
Евгений Примаков, в отличие от Козырева, воспринимал Запад не как «старшего брата» России, а по достоинству — как геополитический и идеологический альянс, жестко и даже цинично преследующий интересы. У Примакова не было желания подыгрывать геополитическим соперникам России. Он был представителем классической государственной школы. В советское время его карьера увенчалась постом председателя Совета Союза Верховного совета СССР. Он имел репутацию прогрессивного, но взвешенного политика. Примаков оказался одним из немногих членов советской политической верхушки, кто оказался востребованным новой властью — прежде всего в силу ума и профессиональных качеств. В 1991 году Ельцин назначил Примакова директором Службы внешней разведки (СВР). В этом качестве Примаков хорошо отдавал себе отчет в происходящем и понимал те вызовы, которые встали перед нашей страной. В качестве главы СВР он не участвовал в идейных дебатах. О его взгляде на внешнюю политику стало известно только в конце 1993 года, когда СВР выпустила доклад о последствиях возможного расширения НАТО. В докладе были обозначены угрозы этого проекта для России и вероятное развитие событий. То есть уже тогда Примаков фактически встал в оппозицию курсу Козырева, хотя это и было известно лишь в коридорах власти.
Одним словом, Примаков был антиподом Козырева — и по возрастным параметрам, и по опыту работы, и по внутренней ориентации, и по тому пониманию, куда должна двигаться Россия. Именно Евгений Примаков подготовил внешнюю политику Владимира Путина. При нем начало формироваться нынешнее понимание наших национальных интересов, которое оформилось окончательно в период президентства Путина.
4. Новая линия: миссия Евгения Примакова
Приход Примакова в Министерство иностранных дел обозначил новый этап во внешней политике России и в осознании ее национальных интересов. Это новое понимание стало основой для общенационального консенсуса, который сформировался позже, уже в годы президентства Владимира Путина. Команда Ельцина в целом и Андрей Козырев в частности, как ответственный за внешнюю политику, выражали взгляд очевидного меньшинства российской политической и социальной элиты, хотя и очень активного меньшинства, нацеленного на радикальный отход от политической практики и идеологии Советского Союза.
Это меньшинство опиралось на формировавшийся тогда в России крупный бизнес. Для крупного бизнеса национальные границы и интересы в принципе являются помехой. Крупный бизнес заинтересован в наименьшем контроле за своей деятельностью, в возможности беспрепятственно перебрасывать финансовые средства через границы, без помех приобретать и продавать собственность. Политические конфликты с другими государствами, твердая защита национальных интересов способны ударить по различным сделкам, инвестициям, финансовым трансакциям, крупным проектам. И надо сказать, что тот бизнес, который родился в России в первой половине 90-х годов, был большей частью анациональным, то есть мало соотносил себя с судьбой страны, а в худшем случае антинациональным. Для этой части российского бизнеса было важно нивелировать то восприятие национальных интересов страны, которое могло бы войти в конфронтацию с интересами стран Запада и поставить под вопрос его интеграцию в западную финансовую систему и предпринимательскую элиту.
Запад рассматривался как «вторая родина» для этого нового анационального или антинационального бизнеса. А Россия воспринималась, по выражению Михаила Ходорковского (которое он использовал в одном из своих писем из тюрьмы), как «зона свободной охоты». Такое «разделение труда» — «охота» в России, а наиболее приятная часть жизни на западе, как и образование для детей, хранение финансовых средств, преимущественно в офшорах, и размещение своего собственного будущего за пределами России, — создавало базу для новой идеологии. Эта идеология навязывалась российскому обществу как естественный путь развития, необходимость вписываться «в глобальный мир» под руководством Запада и, естественно, на его условиях.
То активное меньшинство политической элиты, которое группировалось вокруг Ельцина, опиралось на интересы именно этого антинационального бизнеса. Национальные интересы им игнорировались, отвергались, поскольку у нового правящего класса или как минимум его наиболее прозападной части была другая система приоритетов. В результате создавалась определенная идеологическая, медийная, образовательная среда, которая должна была привести общество к выводу, что у России нет собственных, отличных от Запада национальных интересов. Именно это доказывали нам и идеологи администрации Клинтона: у России, мол, нет стратегических интересов, отличных от интересов США, и ее задача — поддерживать внешнеполитическую стратегию Вашингтона.
Конечно, речь здесь идет не обо всем российском бизнесе. ВПК, аграрный, нефтегазовый сектор, авиастроение и ряд других отраслей тесно связаны с государством. Здесь имеется в виду новый для стран тип бизнеса, частично криминального происхождения, который захватил командные высоты в экономике и, что не менее важно, командные высоты в политике, СМИ и части общества.
Тут надо отметить, что мы говорим не обо всем российском бизнесе. ВПК, аграрный бизнес имеют другие позиции, они тесно связаны с государством. Нуждаются в защите, дотациях и прочей поддержке. В данном случае я имею в виду новый тип бизнеса, который захватил командные высоты в экономике и, что не менее важно, командные высоты в общественном сознании. Соответственно, идеология, сопровождавшая появление нового бизнеса и превращение им России в зону «свободной охоты», была либеральной, антикоммунистической, рыночной, прозападной, потребительской, элитарной. Но национального начала в ней не было.
Позже это привело к выдавливанию части представителей этой новой элиты из России. Чисто внешне оно выглядело как конфликт между ними и новой властью — между Путиным и Березовским, Гусинским, Ходорковским, Невзлиным и др. Но была и более глубокая причина. Она состояла в том, что представители транснациональной концепции российского существования не вписались в новый политический контекст. Этот контекст стал оформляться в середине 90-х годов под влиянием нескольких факторов. Прежде всего в силу отсутствия экономических успехов у той реформаторской команды, которая сделала заявку на «новый путь» для развития России. Вместо «новой экономики» Россия оказалась в удручающем экономическом и социальном состоянии, а также в полной зависимости от МВФ и внешних кредиторов. Эта ситуация подробно описана в книге британского профессора Питера Рэддуэйя и его российского соавтора Дмитрия Глинского «Трагедия российских реформ», изданной в 2001 году в Вашингтоне. По словам автора книги, радикальные реформы Гайдара и «шоковая терапия», приписанная МВФ, резко усугубили и без того сложное экономическое положение страны. «Масштабы разрушения превзошли по уровню наблюдавшиеся в США во время Великой депрессии и промышленные потери, которые понес Советский Союз в 1941–1945 годах». Чудовищный вердикт.
Неудивительно, что «герои» этих либеральных реформ — Егор Гайдар, Анатолий Чубайс и другие — пользовались исключительно низкой поддержкой в обществе. При этом они пользовались высокой поддержкой во власти. Этот «ельцинский» парадокс длился до конца 1990-х, но не мог выйти за пределы его правления. В 2000-е произошло закономерное выравнивание отношения власти к раннелиберальной элите, хотя ряд ее представителей остались во власти, например Алексей Улюкаев.
Еще быстрее это политическое направление начало терять свои электоральные позиции. Это стало очевидно уже с 93-го года, когда на выборах в Госдуму победил Жириновский с 24,5 процентами голосов. То есть даже в период своего «расцвета», имея все рычаги власти, «Демократический выбор» Егора Гайдара набрал лишь 13,5 процента, хотя был правящей партией и имел неограниченный доступ к средствам массовой информации и поддержку телевидения. «Россия, ты одурела!» — вскричал реформатор Юрий Карякин, но лучше бы ему и его единомышленникам было посмотреться в зеркало.
Вопль Карякина отражал возмущение, негодование, ярость и непонимание либеральной интеллигенции, непонимание неприятия страной того «либерального идеала», который ей был навязан, но который за пять лет привел к утрате половины экономического потенциала и социальной катастрофе. Этот «идеал» скорее подорвал, чем обогатил национальное самосознание. Он привел к фактической утрате части территории страны в 1996 году — от России де-факто отделилась Чечня. Это было признаком исключительной слабости центральной власти, ее неадекватности, неспособности решать проблемы ни политического, ни экономического, ни социального, ни военного характера. При этом наблюдалось нежелание, неспособность либеральной элиты признать, что она провалилась на этапе, когда была главной силой, руководящей страной. В итоге это привело ее к политическому провалу и эволюции всей политической системы. Окончательный удар по либералам как политической партии был нанесен избирателями на выборах в Госдуму в 2003 году, когда Союз правых сил не попал в парламент, набрав 3,5 процента и не сумев преодолеть 5-процентный барьер. Это было логичным завершением длительного нахождения у власти представителей либерал-реформаторов. Они не сумели пережить ухода Ельцина.
Помню, в январе 2003 года я оказался рядом с Борисом Немцовым в одном самолете, летевшем на Всемирный экономический форум в Давос. Дело было сразу после выборов. Мы стали обсуждать итоги голосования. И Немцов честно признал, что 3,5 процента, которые они получили, это был подлинный результат. По его словам, усилий в сторону занижения их результата не было.
Хорошо помню опрокинутое лицо Анатолия Чубайса — он этого явно не ожидал. Помню удивленную, негодующую Ирину Хакамаду. Но на что могли рассчитывать эти трое, если главный избирательный ролик СПС изображал их, сидящих в сиденьях из тончайшей кожи цвета слоновой кости и летящих куда-то в частном самолете — то ли в Лондон, то ли в либеральное будущее? Куда, кстати, они совершенно не собирались брать 140 миллионов граждан Российской Федерации. Столько людей в частный самолет не посадишь. Один этот ролик мог угробить всю предвыборную кампанию СПС. Его лидеры были страшно далеки от народа, но, судя по всему, этого не понимали.
Позже Ирина Хакамада как-то в сердцах сказала, что моя телепрограмма сыграла роковую роль в провале СПС. «Ты со своей программой нас утопил», — заявила она. Думаю, что это большое преувеличение моей роли, а заодно и недооценка своей собственной. Если кто и утопил СПС, то это сам СПС. Взять хотя бы его главное детище — дефолт 1998 года, который стал приговором экономической и финансовой политике реформаторов. И стал реальным, так сказать, досрочным завершением эпохи Ельцина. Ельцин находился еще полтора года у власти, но уже в крайне ослабленном состоянии. После дефолта его и без того низкий авторитет сошел на нет. Это был не просто провал определенной политики. Это был провал всей философии создания отдельной либеральной России, которая полетит вдаль на самолете с кожаными креслами цвета слоновой кости, а вся измученная, бедная, «малоразвитая», «непрогрессивная» и нелиберальная Россия останется где-то там, сзади, в болотах. Так политика не делается.
В ходе тех же выборов только что созданная партия «Родина» получила 9,5 процента. При этом не думаю, что у власти было искушение искусственно приподнимать «Родину». Эти два результата — «Родины» и СПС — были очень показательными.
Здесь следует оговориться: в российской политической культуре утвердился термин «либерализм», хотя правильнее было говорить о неолиберализме. Либерализм, особенно левый в США — течение, критическое по отношению к современному капитализму. Левые либералы в США — это сторонники социалистических убеждений и противники внешних интервенций. Таким обзором, российское и американское понимание либерализма сильно разнятся. Поэтому, говоря о российских реформаторах, следует говорить именно о неолиберализме и неолибералах как сторонниках неограниченной «свободы предпринимательства» и «шоковой терапии». Наши либералы на самом деле смыкаются с представителями неолиберального лагеря. Это силы, которые представляют крупный финансовый капитал, интересы транснациональных корпораций, глобализированных структур. Неолиберализм утвердился на Западе в эпоху Рейгана и его «рейганомики» и рыночных реформ Маргарет Тэтчер.
Неолиберальная доктрина получила и в России своих последователей. Как основополагающая на Западе, она была воспринята нашими «младореформаторами» как руководство к действию. Однако российские неолибералы слишком сильно противопоставили себя стране и не создали прочных основ для внешнеполитического курса с одной стороны. А с другой стороны слишком сильно противопоставив себя всей стране. Примаков должен был исправить создавшийся перекос.
Примаков был представителем прежней, советской элиты, но элиты не партийной, а государственной, которая ориентировалась на интересы страны как таковой и сдержанно относилась к идеологической составляющей Советского Союза. К таким «государственникам» относились многие советские и российские дипломаты, многие сотрудники спецслужб, директора крупных предприятий, создатели космической техники, то есть те, кто работал скорее на государство, чем на его идеологическую составляющую.
Примаков был из их числа, он не был идеологизированным человеком. При этом он хорошо понимал, что длительная история России и ее объективный геополитический вес предполагает определенный тип самосознания, который исключает добровольное подчинение другим центрам силы, будь то Соединенные Штаты, Европа или Китай. Исторически со времен Ивана Грозного Россия была самостоятельным центром силы. Это наложило глубокий отпечаток на национальное мышление, самосознание, национальную мифологию. Страна, которая победила Карла XII, Наполеона и Гитлера, сыграла решающую роль во Второй мировой войне и получила юридическое, международно признанное оформление своего статуса державы-победительницы как постоянный член Совета Безопасности ООН, а затем укрепила свое уникальное положение созданием ракетно-ядерного потенциала, примерно равного потенциалу США, такая страна не может соглашаться с ролью младшего партнера иного центра силы.
Примаков при этом понимал ограниченность возможностей Российской Федерации в середине 90-х годов. Страна была в чудовищном запущенном состоянии, было утрачено 50 процентов производственного потенциала, валютные резервы были мизерными, армия деморализована и слаба, государственный аппарат дезориентирован. Занимались в основном дележкой, перераспределением, закрытием и перепродажей того, что было создано во времена СССР. Говорить о какой-либо серьезной экономической основе для независимой внешней политики не приходилось. Тем не менее в обществе созрел запрос на возвращение к самостоятельной роли в мировых делах, выработку новой внешнеполитической доктрины, которая отражала бы подлинные национальные интересы страны.
Советское понимание национальных интересов диктовало экономическое, политическое, идеологическое и военное состязание с Западом в борьбе за распространение советской модели по всему миру. Эта доктрина была отринута. Но что пришло на ее место? Команда Ельцина — Козырева предложила фактическое слияние с западным альянсом без формального вхождения в него и при согласии со своей подчиненной ролью. Однако этот подход противоречил национальному самосознанию, настроениям немалой части российской элиты, и был подорван результатами правления Ельцина и его реформаторов. Дефолт, ставший результатом западного «кураторства» под реформами, и неспособность Москвы противопоставить что-либо войне НАТО в Югославии приговорили «козыревщину» к смерти.
Вспоминается беседа с начальником аналитического отдела минобороны США Шерманом Гарнеттом. Тогда он сказал мне: «Тандем Гайдар — Козырев не является естественным для России, но мне стоит большого труда убедить в этом мое руководство. Они не хотят этого понимать».
Был еще один фактор, который сыграл большую роль в назначении Примакова и оказал решающее влияние на настроения в стране. Повлиял он и на самого Ельцина. Быстро выяснилось, что Запад разыгрывает совершенно другую карту, чем та, на которую рассчитывали Ельцин и его ближайшие советники. Запад не стал выстраивать стратегический альянс с Россией, а выбрал политику усиления уже действующих альянсов, и прежде всего НАТО, за счет России. Мало того, был взят курс на ее финансовое, экономическое, а в конечном счете и политическое подчинение. И вот это, как мне кажется, уже входило в противоречие с представлениями самого Ельцина относительно того, какую роль он видел для России на международной арене. Не думаю, что у Ельцина случилось какое-то прозрение. Считаю, что он просто не думал о внешней политике, когда боролся за власть. Потом он разгребал те завалы, развалины, которые сам же создал своими крайне необдуманными действиями по развалу Советского Союза. Имевшему гораздо более болезненные последствия, чем все ожидали, не только на окраинах бывшего государства, но и в самой России.
Понимание, что во внешней политике происходит совсем не то, на что Ельцин рассчитывал, пришло позже. До той поры он рассматривал американцев как своих союзников. Нет никаких оснований не верить Руслану Хасбулатову, который рассказывал, как 19 августа 1991 года, в первый день ГКЧП, перепуганный Борис Ельцин собрался ехать в посольство США и просить там политического убежища. Соратники еле-еле отговорили его от этого и убедили отправиться к Белому дому.
Фактически 19 августа 1991 года была предпринята лишь попытка переворота, причем очень слабая. Ельцин и другие лидеры оппозиции арестованы не были. Государственный переворот — дело серьезное. Если просто что-то объявить на пресс-конференции, как это сделали члены ГКЧП, считать, что с этим все согласятся, то это гарантия провала.
Тем не менее Ельцин был перепуган. Да, он фрондер, в определенный момент он готов порвать на груди тельняшку и ринуться в бой. Но когда спадает это состояние наносной молодецкой удали, он сникает. Такие люди бывают подвержены и приступам страха. Судя по воспоминаниям о Ельцине тех, кто его хорошо знал, он был именно таким человеком. Его окружению стоило немало труда уговорить его отправиться к Белому дому и встать на танк. Сам он сильно сомневался. И пошел на это скорее под влиянием обстоятельств, чем в силу своего собственного порыва. Знаменитая фотография Ельцина, выступающего на танке, скорее, заслуга убедивших его отправиться к Белому дому, чем его самого.
Что же касается бегства в посольство США, то это был резервный вариант. Ельцин считал тогда американцев своими союзниками и возможными защитниками. Есть ощущение, что он продолжал рассматривать их в этом качестве и во второй половине 1990-х годов, когда оппозиция в Думе угрожала ему импичментом. Но и Ельцину к 1995–1996 годам стало ясно, что геополитический выбор США — это не выбор в пользу стратегического союза с Россией. А выбор в пользу усиления НАТО за счет России, продвижения альянса вплотную к нашим границам и выдавливания России отовсюду, откуда возможно, — с Балкан, со Среднего Востока, из Закавказья, с наших традиционных рынков вооружений.
Обнаруженная реальность Ельцина не устраивала. Он хотел быть равным среди великих мира сего, хотел впечатлять и поражать их воображение. У Ельцина была и сильная склонность к позерству. Даже его печально знаменитые пьяные выходки, когда он дирижировал оркестром на площади Жандарменмаркт в Берлине, были вызваны позерством. Наблюдая его во многих публичных ситуациях, я пришел к выводу, что ему все время хотелось произвести впечатление на окружающих. Ему мало было внутреннего ощущения своей силы, своего «я», ему постоянно нужна была внешняя подпитка. В узком кругу Ельцин был другим, это было менее заметно. Но публика влияла на него как возбудитель. При этом характер у Ельцина был неуравновешенный, конвульсивный, да еще отягощенный склонностью к спиртному. Ему хотелось всех ошеломить, выступить с такой инициативой, чтобы все замерли. А он своим скрипучим надломленным голосом должен был произнести такую внешнеполитическую «штуку», сделать такой «сильный ход», чтобы оставить всех потрясенными от того, что они только что услышали.
В мае 1997 года проходил саммит Россия — НАТО в Париже. Председательствовал глава Франции Жак Ширак. Ельцин вдруг встал и сказал: «Я сегодня принял решение. Все то, что у нас нацелено на страны, которые возглавляются сидящими за столом… снимаются все боеголовки». И сел. Все были потрясены, но не содержанием этой фразы, а тем, что никто ничего не понял. Ширак, помню, тогда недоуменно пожал плечами и, словно извиняясь за своего гостя, посмотрел на Клинтона: мол, чудит старик. Ведь до этого Москва уже объявляла, что было принято такое решение и российские боеголовки более не нацелены на США. Что же нового хотел сказать Ельцин? Все стали выяснять, что же имел в виду Борис Николаевич. Его пресс-секретарь Сергей Ястржембский и другие сопровождавшие Ельцина чиновники проявляли чудеса риторической эквилибристики, объясняя, что это новая гениальная инициатива президента, хотя между собой они пожимали плечами и спрашивали друг друга: а что он действительно хотел сказать? И понять этого не могли. Это было ни с кем не проговорено, не обсуждено. Чистая и, как часто бывало у Ельцина, нелепая импровизация.
Это позерство как в трезвом, так и в нетрезвом состоянии составляло бо́льшую часть его политической натуры. Схожая история произошла во время встречи в Красноярске с японским премьером Рютаро Хасимото — «другом Рю», как называл его Ельцин. Была весна 1998 года. После приятного застолья Ельцин на озере под Красноярском обещал Хасимото «проработать» вопрос о Курильских островах и поручил это принимавшим участие во встрече Ястржембскому и Немцову. Хасимото это воспринял как сигнал того, что Россия согласна на передачу островов.
Это был период, когда Ельцин находился под угрозой импичмента. Страна шла к дефолту. Ситуация была исключительно сложная. Такое решение, скорее всего, не было бы утверждено Госдумой и Советом Федерации. Многие депутаты, да и сенаторы были в оппозиции к Ельцину. Более того, на передачу территории требовалось согласие того региона, к которому относились острова. А Приморье тогда возглавлял Евгений Наздратенко, откровенный противник ельцинской политики. Было трудно предположить, чтобы регион под его руководством дал бы согласие на передачу островов.
Тем не менее Хасимото вышел с переговоров «тет-а-тет» очень воодушевленным. Мол, Ельцин сказал ему: «Пора решать эту проблему!». Как потом объясняли помощники Ельцина, никаких островов он на деле передавать не собирался. Но многое — слишком многое — Ельцин делал ради того, чтобы произвести эффект, понравиться, впечатлить. Никакой пользы, однако, от этого не было, скорее, вред. Ельцин ставил себя и свою страну в неловкое положение.
К середине 1990-х годов у Ельцина возникло ощущение, что Запад начинает его ставить в невыгодные условия. И он попытался внести коррективы в свою политику.
В 1995 году Ельцин собрался выступать на 50-й, юбилейной сессии ООН. Перед поездкой по поручению президента его помощник Дмитрий Рюриков собрал пятерых экспертов по внешней политике, в том числе автора этих строк, на встречу с президентом с целью обсудить главные темы и тезисы, с которыми он собирался выходить на эту высокую трибуну.
Дело было в начале сентября 95-го. Ельцин был тогда в хороший форме — собранный, подтянутый, в хорошем костюме, с красивой прической.
Помню его слова: «Мы должны продемонстрировать на этой сессии, что Россия уже не та! Не та Россия, которая была в 1991-м, в 1992 году, когда нам было так тяжело, что нами можно помыкать. Мы уже другие!»
До этого у Ельцина таких ноток почти не было. Тогда же, в 1995-м, на одном из своих официальных выступлений он заявил о «красных линиях»: мол, есть «красные линии», через которые мы не позволим Западу перейти. Это касалось планов по расширению НАТО и тоже отражало недовольство Ельцина тем, как выстраивались отношения Москвы с Западом.
Таким образом, когда Ельцин назначал Примакова, он искал фигуру, которая могла бы начать проводить твердую внешнюю политику. И дать понять Западу, что Россия не будет столь уступчивой, как прежде. Это не означало перехода ни к конфронтации, ни к курсу на серьезное противопоставление России Западу. Речь шла о том, чтобы и на уровне дипломатии, и риторики, и действий в ООН продемонстрировать, что мы перестаем играть в откровенные поддавки и что с Россией пора начинать считаться.
Однако наши контрагенты исходили из того, что если Россия изменила риторику, то это не означает, что у нее появились серьезные возможности для проведения самостоятельной внешней политики. Поэтому они отнеслись к попыткам Примакова вести с Западом равноправный диалог с раздражением и подозрением.
В 1998 году в газете «Уолл-стрит джорнэл» вышла статья «Fire Primakov» — «Уволь Примакова!». Это было прямое обращение, даже призыв к Ельцину. Газета выразила отношение к Примакову большой части политической элиты США. Тогда я ответил на это своей колонкой в «Независимой газете», где объяснил, откуда такая реакция. А суть была в том, что любая внешнеполитическая доктрина, исходящая из того, что у России есть свои собственные интересы на мировой арене, не обязательно совпадающие с американскими, есть свои позиции по Ирану, Югославии и т. д., принималась в штыки в США. России с собственными интересами, по их мнению, существовать было не должно.
Примаков олицетворял переходный период во внешней политике от политики Козырева к политике Путина. У Примакова было две основные позиции. Первая. Россия должна интегрироваться в мировую экономику, поскольку у нас нет альтернативы: если мы пошли по пути рыночной экономики, значит, должны стать частью мировой. Будучи министром иностранных дел, а потом премьером, он несколько раз приезжал на Всемирный экономический форум в Давос. Он исходил из того, что Россию надо встраивать в мировую экономическую систему координат.
При этом он с неизбежностью столкнулся с представителями антинационального олигархического капитализма, прежде всего с Березовским. Березовский действовал в собственной системе координат. Она никак не соотносилась с интересами государства — только с его собственными. Он так действовал в Чечне, на Украине, на международных площадках. Договаривался о чем-то с американцами, переговаривался с англичанами. Полагаю, Примаков все это хорошо знал — и как глава МИД, и как бывший директор Службы внешней разведки. Отсюда его острейший конфликт с Березовским.
Второй важнейший элемент внешней политики Примакова — это очерчивание особых национальных интересов России в рамках отношений стратегического партнерства с Западом. Примакова Ельцин ориентировал на то, что надо договариваться, но пытаться делать это на наших условиях.
Но когда договариваться на наших условиях невозможно, то надо идти на обострение. Примаков был к этому готов, Ельцин — нет. Примаков вел упорные переговоры, пытаясь очертить зону наших интересов, с Хавьером Соланой, тогдашним генсеком НАТО, по поводу параметров расширения НАТО на Восточную Европу. Ему удалось немалого добиться. Результатом стал Основополагающий акт Россия — НАТО, подписанный в мае 1997 года. В этом документе были перечислены основные ограничения, которые накладывались на НАТО в процессе его расширения за счет приема в его ряды стран Восточной Европы. Это был отказ от размещения ядерного оружия в новых странах — членах НАТО, отказ от размещения там военных баз альянса, а также крупных воинских контингентов. При этом Основополагающий акт не был юридически обязывающим документом, а скорее, заявлением о намерениях.
Кстати, эти пункты уже нарушаются Западом, хотя в НАТО отнекиваются: мол, контингенты размещаются не на постоянной, а на ротационной основе. Но это лишь попытка сохранить букву акта, нарушая его дух. По сути, и буква не выполняется, ведь если в Прибалтике постоянно присутствуют 4 тысячи человек солдат НАТО, то какая разница, на ротационной основе они находятся или на постоянной? Не так важно, там находится солдат Браун или солдат Смит, — важно, что там все время присутствует американский солдат.
Тогда же, в мае 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт, было достигнуто и соглашение о координации внешнеполитической деятельности России и стран НАТО: в случае, когда возникают угрозы европейской безопасности, НАТО ведет с Москвой консультации и стороны по возможности координируют свои действия.
Полагаю, Примаков мог бы добиться и большего, если бы имел свободу рук. Ему помешали две вещи. Во-первых, кампания по его подсиживанию и дискредитации, которая проводилась сторонниками догмата о необходимости договариваться с Западом любой ценой, на любых условиях. Такие люди были и в администрации президента, и в правительстве, и в руководстве СМИ. Первый канал, которым тогда руководил Березовский, получал прямые указания: создавать впечатление, что Примаков затягивает переговоры, что это плохо для России, надо быстрее подписывать соглашение. Это было откровенное политическое давление на Примакова через СМИ. А Березовский хотел его таким образом ослабить, а заодно и транслировал настроения части нашей элиты, которая готова была расплатиться национальными интересами за комфортное существование в пресловутой западной системе координат.
Вторым фактором, усложнявшим переговоры, был сам Ельцин — с его желанием выглядеть «на коне» даже тогда, когда на коне он явно не был. В начале весны 1997 года у него намечалась встреча с Биллом Клинтоном в Хельсинки. И Ельцин хотел, чтобы к этой встрече был уже выработан текст Основополагающего акта. И хотя Примаков докладывал, что ему нужно еще время, что он может попытаться добиться лучших условий для России, Ельцин настаивал, чтобы текст был готов к сроку.
Ельцин все время пытался, несмотря на исключительную слабость, особенно по сравнению с США, того государства, которое он возглавлял, сделать вид, что он на равных общается с Вашингтоном. Конечно, это не соответствовало действительности. Но такая ложная установка не раз толкала его к неоправданным действиям.
Билл Клинтон и другие руководители стран НАТО, в то время Гельмут Коль в Германии, Жак Ширак во Франции, не ставили своей целью рассориться с Россией из-за расширения НАТО. У Клинтона задача была иная: провести расширение НАТО, но так, чтобы с этим согласилась Россия. Большой доблести в том, чтобы рассориться с Москвой, не было — и это прекрасно понимали на Западе. Западу важно было сохранить Россию под колпаком своего влияния, сохранить отношения с ее президентом, которого можно было бы задействовать в нужных ситуациях. Или, по крайней мере, иметь возможность уговорить его, например, не вступать в югославский конфликт на стороне Милошевича, не поставлять ему оружие. Западу нужно было сохранить Россию как объект влияния и при этом провести расширение НАТО.
Клинтон и следовал такой двойственной стратегии. Нельзя исключить, что, если бы он получил информацию, что для того, чтобы договориться с русскими, нужно сделать еще пару уступок, даже если переговоры продлятся еще какое-то время, он, возможно, на это бы пошел.
Во всяком случае, Примаков просил Ельцина дать ему возможность задержать переговоры, потому что чувствовал, что Запад готов был пойти на дополнительные уступки. Но Ельцин скидывал эту карту, которой располагала наша дипломатия, ради того сиюминутного впечатления, которое он хотел произвести на внешний мир. Впечатления, что они с Биллом решают судьбы человечества. «Мы с Биллом договорились!» Многое подгонялось под эту отвратительную по самонадеянности и позерству фразу: «Мы с Биллом договорились». На деле «Они с Биллом» не договаривались, а Борис принимал условия Билла. С некоторыми, возможно, легкими поправками, но не более того.
Ведь нам так и не удалось добиться, чтобы Акт Россия — НАТО стал юридически обязывающим документом. Запад настаивал на том, что это невозможно, поскольку, дескать, трудно провести его через парламенты всех государств членов альянса, что необходимо, дабы документ стал законом. Уверен, что это был ложный аргумент. В ЕС и не такие документы ратифицировали парламенты всех стран-членов. К тому же в то время еще ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни тем более Прибалтика, ни Румыния, то есть страны, чьи элиты мотивируются длительной, исторической ненавистью к России, не были членами НАТО и не могли заблокировать ратификацию. Акт мог не пройти сразу через конгресс США (и то это зависело бы в основном от настойчивости администрации Клинтона), а в парламентах Франции, Италии, Германии, Испании проблемы вряд ли бы возникли. Во всяком случае, не было никаких оснований утверждать обратное. Но из-за желания Ельцина поторопить события нам пришлось пойти на попятную, отказавшись от попытки добиться от НАТО юридически обязывающего документа.
Прояви Россия характер, возможно, мы бы добились этого. НАТО очень важно было получить согласие России на присоединение сначала трех стран, а потом и новых государств — ведь Основополагающий акт создавал «алиби» для Запада на неограниченное расширение НАТО.
Кстати, уже при Путине и Буше-младшем, когда прошла вторая волна расширения НАТО (о ней было объявлено в ноябре 2001 года), Москва не выразила по этому поводу радости, но и не выразила горячих протестов. Это не привело к кризису в наших отношениях. Почему? Потому что Россия ничего уже не могла сделать. При Ельцине мы подписали этот документ без географических ограничений и без юридически обязывающих положений. Так мы сами обрекли себя на то, что становились стороной, которая — volens nolens — принимает решения Запада.
Таким образом, Ельцин, с одной стороны, поступил правильно, избавившись от Козырева и назначив Примакова, который в общественном сознании ассоциировался с традиционной политикой, основанной на национальных интересах, и мог в более жесткой тональности вести диалог с Западом. Примаков имел совсем иной вес по сравнению с Козыревым, зависевшим от своих западных покровителей, которые нахваливали его Ельцину, чтобы он мог удержаться на своем посту. У Примакова совершенно не было такой зависимости. Но, с другой стороны, Ельцин продолжил пресловутую линию неопределенных уступок — иногда для внешнего эффекта, а порой из-за того, что не чувствовал себя уверенным в отношениях с Западом.
Финансовое положение страны было очень ненадежным. Небольшой рост экономики в 1996–1997 годах был слишком слабым, не позволил ни сделать достаточный запас золотовалютных резервов, ни создать основ для новой экономики. Это создавало условия для зависимости от США и МВФ. Кроме того, Ельцин рассматривал Запад как союзника в борьбе против коммунистов, которые постоянно бросали ему вызов, получали большое число голосов на выборах, добивались его импичмента. Ельцин не забыл ни событий октября 1993 года, когда его власть висела на волоске, ни выборов 1996 года, когда он одержал победу за счет откровенных манипуляций и искажений результатов голосования. В этой ситуации у Ельцина всегда в сознании была мысль, что в крайнем случае он сможет обратиться за помощью к Колю или Клинтону. Известно о крупных суммах помощи с Запада, которые поступили оттуда на его избирательную кампанию в 1996 году. Таким образом, как он собирался бежать в американское посольство в августе 1991-го, так и продолжал рассматривать посольство США как последнее убежище в случае, если что-то пойдет совсем не так. Эта психологическая зависимость у Ельцина, судя по всему, сохранилась до последних лет его пребывания на высшем посту. В этих условиях говорить о глубокой, последовательной доктрине внешнеполитической самостоятельности России — даже с учетом усилий и роли Примакова — не приходилось.
5. Конец ельцинского правления и эпохи иллюзий
Решение о расширении НАТО на Восток положило конец периоду иллюзий, что Россия может стать стратегическим союзником Соединенных Штатов Америки. Стало ясно, что США будут укреплять систему своих союзов без России. Стало также ясно, что они не намерены ограничиваться присоединением к НАТО лишь трех стран Восточной Европы, а именно Польши, Венгрии и Чехии, и пойдут дальше. Хотя официально США заявляли об обратном, по многим заявлениям, по тем встречам и дискуссиям в Вашингтоне, в которых мне довелось принять участие, по тому настрою, который господствовал в США, было очевидно, что они хотят извлечь максимум возможного из периода слабости России, прикрывая это разговорами о сотрудничестве и партнерстве.
Надо сказать, что на Западе была оппозиция расширению НАТО. Политики и общественные деятели, выступавшие против этого, отмечали существенные различия между Россией и СССР. Россия, по их мнению, уже не была противником Запада. Одним из них был известный американский дипломат и политолог Джордж Кеннан, автор так называемой длинной телеграммы. Она была написана в бытность им советником американского посольства в Москве в 1947 году и стала идеологической основой перехода США к холодной войне и политике «сдерживания» СССР. Кеннан, заложивший основы курса США в отношении СССР в годы холодной войны, в 1990-е пришел к выводу, что Россия — это не Советский Союз, что США и Россию больше не разделяют фундаментальные различия между политической и экономической системами, в идеологии. И возвращать ситуацию ко временам холодной войны, во-первых, неоправданно, а во-вторых, стратегически невыгодно Соединенным Штатам. Выигрыш от расширения НАТО, по убеждению Кеннана, был значительно ниже, чем проигрыш: США «приобретали» Восточную Европу и теряли Россию.
В парадоксальной форме эту мысль выразил известный американский политический обозреватель, колумнист «Нью-Йорк таймс» Том Фридман. В 1995 году в разгар дебатов о расширении НАТО он с сарказмом написал, что Западный альянс через расширение НАТО «получает чешский флот и польскую авиацию, но теряет Россию». Ирония понятна: с учетом того, что у Чехии может быть только речной флот, а военная авиация у Польши была весьма слаба, Фридман имел в виду, что приобретения несоразмерны потерям. Ведь Россия — даже в состоянии относительной слабости великая держава, член Совета Безопасности ООН, ядерное государство, ее вес и роль неизмеримо выше всех стран Восточной Европы. Несравнимые величины.
В Европе также были противники расширения НАТО. В частности, Эгон Бар, видный немецкий социал-демократ, один из авторов «новой восточной политики», которую ФРГ начала проводить в 1968 году при Вилли Брандте. У Франции были серьезные сомнения в необходимости расширения НАТО. Были и другие сомневающиеся. Но верх взяла линия на сплочение западного альянса на потенциально антироссийской основе.
Речь шла о расширении организации, которая профессионально занималась только одним военно-политическим противостоянием с Советским Союзом в Европе. Попытки НАТО представить дело таким образом, будто альянс в 1990 году превратился в гуманитарный клуб по обсуждению проблем демократии и защиты прав человека, не отвечали фактам и имели очень ограниченный успех в России. В основном НАТО внимали в либеральном лагере. Его представители призывали руководство России обратить внимание на то, что НАТО значительно изменилась, что теперь, после конца холодной войны, это уже совсем другая организация.
Иногда раздавались голоса, что России надо вступить в НАТО. Но США никогда всерьез не рассматривали возможность принятия России в альянс, даже если такие иллюзии могли быть у отдельных европейских политиков. В США не рассматривалась такая возможность по простой причине: появление России в НАТО при том ядерном потенциале, который у нее сохранялся, низменно привело бы к созданию внутри альянса альтернативного центра силы. Какие-то государства — члены НАТО вполне могли в определенной ситуации занять сторону России. И США пришлось бы не меньше, а больше считаться со своим недавним противником и даже зависеть от него при выработке стратегии альянса. Это не отвечает их интересам.
НАТО — это организация, где США не просто оплачивают 75 процентов бюджета, но и пользуются решающим политическим влиянием. НАТО — это становой хребет, основа американской глобальной мощи. Этот хребет, проложенный через Атлантический океан, служит опорой всего «скелета» американского военного присутствия в других регионах земного шара. Ни один регион, даже Дальний Восток, где у США есть сумма очень серьезных военных соглашений с Японией, Тайванем, Южной Кореей, не может сравниться по своему геополитическому значению для США с евроатлантическим регионом. Ставить под сомнение сплоченность НАТО вокруг США за счет появления другого, сравнимого по военной мощи государства, априори неприемлемо для Вашингтона. США никогда на это бы не пошли.
Это неприемлемо и для многих стран Европы. Великобритания, Франция, Германия выступают как опорные партнеры США в Европе. Да, среди формально равных членов НАТО есть один гораздо «более равный» — США. Но Лондон, Париж, Берлин тоже очень серьезные игроки. В случае же вступления России в НАТО значение этих государств неизбежно падает, поскольку их военный потенциал несравним с российским. Это кошмар Европы еще периода разрядки при Брежневе и Никсоне, когда в европейских столицах очень боялись, что Европу отбросят на задворки политики, а все глобальные вопросы будут решать между собой Москва и Вашингтон, не считаясь с мнением европейцев.
По всем этим причинам прекраснодушные разговоры о том, что Россию надо включить в НАТО, на серьезном уровне в Европе тоже не рассматривали, поскольку прекрасно понимали: это приведет к пресловутой биполярности, когда все вопросы решают Москва и Вашингтон. А европейцы, тем более такие, как постоянные члены Совбеза Англия и Франция и как экономически мощная Германия, рассчитывали на то, что их голос должен быть громко слышен в западном альянсе. Вступление России в альянс означало бы его качественное изменение не в пользу европейских держав.
Должен сделать ремарку и по поводу восприятия НАТО как «клуба защиты демократии и прав человека». Этот нарратив мы постоянно слышали тогда со стороны НАТО. Я лично много раз его слышал с 1992 по 1997 год, поскольку участвовал во всех крупных дискуссиях по расширению НАТО, которые проходили на европейских и американских площадках. Неоднократно по приглашению Североатлантического альянса приезжал в Брюссель, где выслушивал в подробностях официальную доктрину НАТО. Встречался со всеми тремя генсеками того периода. Это Манфред Вернер, бывший министр обороны ФРГ, бельгиец Вилли Класс (недолго пробыл, ушел в результате коррупционного скандала) и всем хорошо известный Хавьер Солана, который длительное время занимал данный пост. Я был со всеми лично знаком, поэтому могу судить о логике этой организации.
Вот эти все прекраснодушные разговоры относительно изменения НАТО, снижения его военной направленности, перехода на рельсы защиты демократии и прав человека — все эти рассуждения были опровергнуты бомбежками натовскими самолетами Югославии в 1999 году. Если до этого еще были споры, видоизменилась ли НАТО и насколько и как теперь следует эту организацию воспринимать, то после гибели пяти тысяч человек в ходе бомбардировок, осуществленных без всякой санкции Совбеза ООН, после всего произошедшего на Балканах кошмара вопрос был снят. НАТО — это военно-политическая организация, причем слово «военная» стоит на первом месте. Что и в дальнейшем было многократно подтверждено. Когда НАТО взяла на себя выполнение операции в Афганистане по борьбе с «Аль-Каидой» (это было поддержано СБ ООН) во время ливийской войны в 2011 году, когда НАТО проявила себя во всей красе.
После всех этих событий стало окончательно ясно: это военная, военизированная организация, боевой кулак западного альянса. Все дискуссии, которые шли до Югославии, прекратились: после пресловутых бомбежек те защитники НАТО и на Западе, и в России, которые доказывали, что это гуманитарная организация, вынуждены были прекратить подобные попытки.
Война в Югославии вслед за расширением НАТО стала самым мощным ударом по тому внешнеполитическому курсу, которого пытался во все годы своего правления придерживаться Ельцин. Агрессия НАТО против Югославии нанесла удар по самой идее стратегического альянса между Россией и Западом. В Основополагающем акте Россия — НАТО помимо декларативных гарантий, которые давались Москве (отказ от размещения ядерного оружия на территории новых стран-членов, военных баз НАТО и крупных воинских контингентов), содержался еще один важный пункт: в случае возникновения угрозы европейской безопасности стороны будут стремиться к координации своих усилий. Югославская война выкинула эту договоренность на помойку. НАТО попыталась добиться поддержки со стороны Москвы, но натолкнулась на несогласие и сопротивление с нашей стороны, в том числе в Совете Безопасности ООН. Затем последовал знаменитый разворот Евгения Примакова над Атлантикой, его отказ от визита в США. И тогда альянс отказался от идеи координации внешнеполитических позиций.
Война ясно показала: никакой координации не будет, Россию будут ставить перед фактом, а альянс понимает «согласование позиций и координацию» чисто односторонне. НАТО готово «согласовывать» и свои позиции, если Россия их поддерживает, и «координировать» их, если Россия следует за альянсом. Иными словами, России было предложено соглашаться с тем, что делает западный альянс. Если же она не согласна, западный альянс будет действовать без оглядки на Россию. Осознание этого сыграло большую роль в переосмыслении всей суммы отношений между Россией и Западом в конце 1990-х годов.
Война в Югославии разламывала сознание Ельцина. С одной стороны, он все еще цеплялся за иллюзию «партнерских отношений» с Западом. С другой стороны было ясно, что налицо ситуация, когда он не может поддержать США и НАТО, что страна ждет от него другого, что он не может вести себя так, будто дает американцам карт-бланш. Но «другое» совершил не он, а Евгений Примаков, занимавший тогда пост премьер-министра.
Речь о развороте Примакова над Атлантикой. 24 марта 1999 года российский премьер вылетел в США на встречу с вице-президентом Альбертом Гором. Как вторые лица в своих странах, они возглавляли комиссию «Примаков — Гор» (до этого работала комиссия «Гор — Черномырдин»), занимавшуюся развитием двусторонних отношений. Но когда Примаков узнал, что США начали войну с Югославией — а это случилось утром того же дня 24 марта, он связался с Гором с борта своего самолета и спросил, что происходит. Гор ответил: «Евгений, ты приезжай, мы все обсудим». Но Примаков ответил: «Нет, Альберт, в такой ситуации я ехать не могу и отменяю свой визит». Примаков отдал приказ развернуть самолет и после этого позвонил Ельцину. Как бы тот повел себя, если бы Примаков сначала спросил у него разрешения на срыв визита, — об этом можно сейчас только гадать. Но когда Примаков поставил перед фактом Ельцина, сообщив, что уже принял решение отменить визит из-за начатых США и НАТО военных действий против Югославии, президент лишь немного помолчал и сказал: «Хорошо. А бензина у вас хватит?» На что Примаков ответил: «Бензина — хватит!»
Ельцину хватило политического чутья, чтобы понять: в создавшейся ситуации он не должен противостоять такому демаршу. Хотя сам он, скорее всего, поступил бы иначе, что и подтвердил позже своей поездкой в Кельн на саммит «большой восьмерки» после капитуляции Югославии.
Второй исключительно важный эпизод того периода — марш-бросок российского батальона ВДВ на Приштину, столицу Косово, в ночь с 11 на 12 июня 1999 года. К тому времени натовская военная операция уже закончилась и обсуждалось, как страны, которые принимают участие в югославском урегулировании, получат под свой военный контроль секторы на территории Югославии. России такой сектор страны НАТО давать не хотели, наша дипломатия была бессильна. И тогда российские военные взяли дело в свои руки.
Наш батальон входил в международный миротворческий контингент и находился в Боснии и Герцеговине. Это была молниеносная ночная операция. Утром американцы, англичане и другие натовцы обнаружили, что российские войска взяли под контроль приштинский аэродром «Слатина» — тот самый, куда собирался передислоцироваться миротворческий контингент НАТО, и единственный в Косово, способный принимать тяжелые военно-транспортные самолеты.
И вновь решение принимал не Ельцин. Изложенная в ряде источников версия, будто Ельцин изначально был в курсе операции и чуть ли не сам отдал приказ о ее проведении, не соответствует действительности. Решение принимала группа военных, прежде всего в руководстве ВВС: оно было принято с ведома и согласия тогдашнего министра обороны маршала Игоря Сергеева, при активном и даже решающем участии генерал-полковника Леонида Ивашова, а также генерала Виктора Заварзина, который принял командование батальоном после марш-броска от его командира генерала Николая Игнатова. Таким образом, это было решение военных, которые, видя бездействие высшего руководства страны — или его неспособность действовать в силу плохого состояния здоровья, а также нездоровой атмосферы в Кремле — на своей страх и риск предприняли самостоятельный шаг, направленный на укрепление международных позиций Российской Федерации.
Тогда мы оказались буквально на грани войны с США. Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк (кстати, патологический русофоб) заявил, что НАТО должна ответить на эту несогласованную с альянсом военную акцию. Были свидетельства, что он отдал британскому командованию — именно британский контингент НАТО должен был приземлиться в «Статине» — приказ отбить у русских аэродром.
Но в альянсе произошел раскол. Британский генерал Майкл Джексон, который руководил натовской группировкой на Балканах, получив приказ от Кларка, парировал, что не позволит своим солдатам развязать «третью мировую» войну. В итоге НАТО пришлось смириться с итогом российского марш-броска в надежде, что позже, на дипломатическом уровне, удастся все отыграть обратно. Что и произошло.
Хотя министр обороны маршал Сергеев получил на «одновременный ввод» войск России и НАТО в Косово общее согласие президента, Ельцин не был в курсе ночной операции. Его фактически поставили перед фактом, сообщив о марш-броске только утром 12 июня, когда наш батальон уже занял позиции в «Слатине». Ему ничего не оставалось, как поддержать наших военных. Кстати, Ельцин увидел здесь повод уязвить Клинтона. «Наконец-то мы показали этому выскочке Клинтону, на что мы способны», — сказал он маршалу Сергееву. Но не он был инициатором этой операции, пусть и рискованной, но нацеленной на укрепление наших позиций перед дальнейшей борьбой с Западом вокруг югославского урегулирования.
Ельцин придерживался иной стратегии. Предшественника Примакова на премьерскому посту Виктора Черномырдина Ельцин назначил в апреле 1999-го, после начала бомбардировок НАТО сербских городов, спецпредставителем по урегулированию кризиса в Югославии. Черномырдин не пошел по пути Примакова. Напротив, экс-премьер выбрал, по сути, тактику смыкания с позицией западных стран. Возможно, из собственных расчетов, но, возможно, на это его нацелил сам Ельцин, исходя из той логики, что в конце концов югославский кризис будет преодолен, а России не стоит из-за Сербии ссориться с западными странами. Здесь надо еще раз подчеркнуть большую внутреннюю слабость Ельцина как руководителя страны — Запад он по-прежнему рассматривал как одну из гарантий сохранения своих позиций и собственной безопасности.
Интересные характеристики главным действующим лицам с российской стороны дает Строб Талботт, бывший в то время заместителем госсекретаря США, занимавшийся югославским кризисом. В своей книге «Знаток России» (The Russia hand), вышедшей в 2002 году в Нью-Йорке, Талботт пишет: «Из лидеров бывших советских республик наиболее активно в поддержку операции НАТО выступал Эдуард Шеварнадзе, президент Грузии». По словам Талботта, вскоре после начала военных действий Шеварнадзе встретился с Черномырдиным в Тбилиси. «Черномырдин, — продолжает Талботт, — сказал ему, что Ельцин ненавидит Милошевича и считает его более виновным, чем США, в кризисе, который поставил под угрозу отношения России с Западом. Черномырдин также подтвердил недовольство Ельцина Примаковым, в особенности за его решение развернуть самолет над Атлантикой». Талботт также свидетельствует: «Шеварнадзе посоветовал нам сделать все возможное, с тем чтобы помочь Черномырдину в его миссии». Трудно, на мой взгляд, дать более красноречивые характеристики.
Как спецпредставитель по югославскому урегулированию, Черномырдин работал в тандеме с Марти Ахтисаари, финским дипломатом, в те годы президентом Финляндии, который был спецпредставителем ЕС по Югославии. Они разработали план урегулирования. Фактически это был ультиматум главе Югославии Милошевичу. План содержал ряд пунктов, которые категорически отвергались Белградом, включая вывод сербских войск из Косово. На мой взгляд, Черномырдин, при одобрении со стороны Ельцина, сыграл здесь предательскую роль по отношению к Сербии. Его позиция при выработке плана мирного урегулирования лишила Милошевича какой бы то ни было опоры. После того как Россия отказалась хоть в чем-то встать на сторону Сербии и фактически поддержала западный ультиматум, тот был вынужден согласиться. Без поддержки хотя бы одной из великих держав совокупной мощи Запада он противостоять никак не мог.
Мое отношение к маневрам Черномырдина и Ельцина я сформулировал в те дни в статье под названием «Отвращение», опубликованной в «Независимой газете», где выразил резкое несогласие с линией Черномырдина и со всей политикой ельцинского руководства по Югославии.
После этой истории пошли слухи, что Черномырдин надеялся получить Нобелевскую премию мира на паях с Ахтисаари за «урегулирование» югославского кризиса. Фактологических подтверждений этим слухам нет. Но логика поведения Черномырдина указывала на то, что он решил примкнуть в этом вопросе к НАТО и заработать себе очки на Западе. Возможно, не понимая, что Запад совершенно не собирался делиться с российскими государственными деятелями какими бы то ни было лаврами. Черномырдина использовали, на переговорах похваливая и похлопывая по плечу, использовали в том числе для нейтрализации сторонников более жесткой линии в российском, прежде всего, военном руководстве. С его помощью западные политики показали, что Россия является частью западного варианта урегулирования косовского кризиса силовыми методами. Ни о справедливости, ни о международном праве говорить не приходилось.
Кстати, в итоге бывший российский премьер, мечтавший в 1998 году заменить больного, слабеющего Ельцина, остался практически ни с чем. Премию мира он не получил, а на высокую должность Ельцин его не вернул. Статус депутата Госдумы и Председателя Совета директоров Газпрома в 1999–2000 годах вряд ли можно было считать большим утешением. Зато он удостоился высокой оценки за свои действия в мемуарах бывшего замгоссекретаря США Строуба Талботта.
Вскоре после этих событий, вызвавших значительное напряжение между Москвой и Вашингтоном, Ельцин решил продемонстрировать восстановление партнерских отношений с западным альянсом. На саммите «большой восьмерки» в Кельне 18 июня 1999 года Борис Николаевич заслужил аплодисменты Клинтона как верный друг Соединенных Штатов. При этом в администрации отрыто иронизировали по поводу упрямого убеждения Ельцина, что он и Клинтон составляют «большую двойку» — идеи, к которой он постоянно возвращался в ходе встреч с Клинтоном.
Большой любитель внешних эффектов, Ельцин вознамерился приехать в Кельн в качестве миротворца. Иллюзий особых насчет того, чего ждать от Запада, он, видимо, уже не имел. Однако ни политических, ни психологических ресурсов противостоять ему у тогдашнего российского руководства не было, а обострять отношения не хотелось. Поэтому и была выбрана такая тактика: разыграть из себя миротворца и прибыть в роли одного из великих мира сего. Проблема для России состояла в том, что эта тактика вновь ничего не давала стране. В итоге вышло так: Ельцин поехал в Кельн поддержать своим присутствием результаты югославской войны, которые были явно не в пользу России и не в пользу Сербии, а в пользу НАТО и США. Если бы Ельцин хотя бы в обмен на то, что он в конечном счете по факту поддержал западный сценарий разрешения ситуации в Косово, хотя бы попросил о списании части российского внешнего долга или о каких-то особых условиях финансирования российской экономики, в этом по крайней мере был бы какой-то практический смысл. Тогда позицию нового ельцинского сближения с западными лидерами еще можно было попытаться оправдать с точки зрения, что он принес такой результат. Но нет. Кроме похлопыванья по плечу, аплодисментов, этой традиционной клинтоновской клоунады демонстрации особо теплых отношений с «другом Борисом», мы ничего не увидели. И в результате Ельцин приехал туда как представитель страны, которая противостояла натовской агрессии в Югославии, а уехал как человек, который ее поддержал. По итогам, по факту поддержал эту агрессию.
Помимо расширения НАТО и войны с Югославией, был и третий фактор, который подписал смертный приговор всей внешней политике Бориса Ельцина. Это августовский дефолт 1998 года. Казалось бы, событие чисто внутреннее. Но на самом деле провалилась целая стратегия. Провалилась стратегия опоры на западные финансовые институты при решении российских экономических проблем. Провалились носители этой линии. Такие фигуры, как Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Андрей Нечаев, Борис Немцов, Яков Уринсон, Евгений Ясин. Все те, кто отстаивал эту линию опоры на западные институты, вся эта группа либеральных экономистов и государственных деятелей поставила страну перед печальным фактом. После семи лет ельцинских реформ Россия объявила дефолт по своим долгам. И после этого апеллировать к необходимости взаимодействия с МВФ, необходимости следовать советам Ларри Саммерса, замминистра финансов США, курирующего Россию (позже возглавившего минфин США), необходимости ориентации вообще на внешние центры финансовой силы, жесткой ориентации, которой придерживалась Москва при Ельцине, эта логика уже не выдерживала никакой критики. Это нанесло удар, естественно, и по сторонникам добровольного подчинения России, добровольного отказа от части суверенитета в пользу более тесных отношений с Западным альянсом.
Поэтому к тому времени, когда Евгений Примаков в разгар экономического и правительственного кризиса в сентябре 1998 года стал премьером (после того, как Дума дважды отказалась утвердить Виктора Черномырдина), Россия вступила в этап постепенного и глубокого пересмотра отношений с Западом, при котором стало очевидно: удержать прежнюю внешнеполитическую линию будет невозможно.
Тогда уже назревал новый кризис вокруг Ирака. В 1998 году американские военные по приказу Билла Клинтона подвергли территорию этой страны удару крылатыми ракетами. Якобы в ответ на разработку Саддамом Хусейном оружия массового поражения. Уже тогда начались серьезные ссоры между Москвой и Вашингтоном на площадке ООН. Если большую часть 1990-х годов США не рассматривали Россию как антипода себе, как антитезу, и в ООН все решали так называемые permanents three — три постоянных члена Совбеза ООН: США, Великобритания и Франция, то с конца 1990-х годов, с момента обострения ситуации вокруг Ирака и с начала Югославской войны, ситуация изменилась. Стало очевидно, что Россия все чаще и чаще оказывается в оппозиции к США и Западному альянсу в ООН.
Тогда Россию еще не считали крупным вызовом, как это произошло в последнее десятилетие, после начала Сирийского кризиса и Украинского кризиса. В те времена Россию называли спойлером — страной, которая портит Западу игру.
Как мне говорил известный американский дипломат, гарвардский профессор Роберт Блэквилл (который позже работал в Совете национальной безопасности США, был послом США в Индии), «вы постоянно тычете нам пальцем в глаз». «Для нас это болезненно, нам это не нравится», — отмечал дипломат. На что я ему объяснял, что Россия если и тычет американской администрации пальцем в глаз, то не потому, что Москве это нравится, а просто у нее нет другого выбора. Потому что США ставят нас в такие условия, что мы не можем согласиться с теми сценариями, которые предлагают и применяют на практике.
Этот переходный период длился, на мой взгляд, до 2002–2003 годов. Это был период осознания Россией некой новой парадигмы своего и внутреннего развития, и внешнего. Ключевыми фигурами этого периода были Евгений Примаков и Владимир Путин. А Борис Ельцин со второй половины 1998 года был игроком законным, как президент, но несильным. В Государственной Думе постоянно обсуждалась возможность его импичмента. Коммунисты были очень сильны. Состояние здоровья Ельцина резко деградировало. К этому времени относится знаменитое высказывание его пресс-секретаря Сергея Ястржембского: «Рукопожатие крепкое, работает над бумагами». Работа над бумагами и крепкое рукопожатие осуществлялись на лечебной койке Центральной кремлевской больницы. Ястржембский проявлял чудеса риторической изворотливости, чтобы показать, что президент по-прежнему в строю. Хотя в строю он не был.
Последние месяцы правления Ельцина — это, с одной стороны, внутреннее разложение элиты, с другой стороны — разочарование общества в ельцинской политике внутри страны, приведшей к дефолту, и в Западе как в партнере в результате расширения НАТО и войны в Югославии. Все это сошлось в одну точку. И тогда стало ясно, что Россия стоит на пороге больших перемен. Вопрос был в том, будут эти перемены управляемыми или нет.
В стране начался острый внутриполитический кризис, связанный с тем, что руководство взяла на себя так называемая Семья, которая не имела абсолютно никакой легитимности. Причем Семья, помноженная на олигархат. На людей типа Березовского, Гусинского, Ходорковского, которые ногами открывали двери в любые кремлевские кабинеты в условиях слабости Ельцина. Потому что, когда Ельцин был в силе, он все-таки не делился властью. Даже свои неадекватные, неоправданные решения он старался принимать таким образом, чтобы создалось впечатление, что это его личное решение. Но теперь он был уже физически не в состоянии руководить страной.
Ельцин все хуже контролировал ситуацию внутри страны, Россия была на грани нового правительственного кризиса. Начался активный поиск замены для Евгения Примакова. Последний был достаточно мощной фигурой, человеком с убеждениями. Внешнеполитическая доктрина Примакова не до конца поддерживалась Ельциным, поскольку тот считал, что она подрывает действующую модель взаимодействия с Западом, которую президент рассматривал как финальную гарантию удержания власти. Помимо этого Примаков начал очень серьезные действия по деолигархизации власти. Он вошел в острый конфликт с Борисом Березовским. Закат этого олигарха начался именно тогда (тогда, в частности, было возбуждено «дело “Аэрофлота”» против Березовского и его соратников). Березовский чуть позже вернулся на политическую сцену, восстановил позиции, но это было возвращение перед окончательной эмиграцией.
Противостоял Примаков и другим олигархам. Потому что он отстаивал государственные интересы, а олигархи — свои собственные, корпоративные. Или интересы своего клана олигархата, «семибанкирщины», к которой всегда очень внимательно прислушивался Ельцин.
На этом фоне Ельцин начал искать альтернативу Примакову. В качестве его замены и возможного преемника президента рассматривался Николай Аксененко, министр путей сообщения, вице-премьер. На короткий период премьером был назначен Сергей Степашин. Но в итоге премьерская позиция была предложена директору ФСБ Владимиру Путину.
Чего Ельцин не мог тогда предвидеть, это того, что Владимир Путин в результате собственных политических инстинктов, тех выводов, которые он, несомненно, сделал с периода 1990-х годов, своего политического характера пойдет скорее по пути Евгения Примакова, а не по пути Бориса Ельцина. И по отношению к олигархату. И в своем понимании национальных интересов России. И по отношению к Западу. Эти позиции, естественно, проявились не сразу. Путину нужно было время, чтобы укрепиться во власти.
В общем, Ельцин сделал очень интересный выбор в том смысле, что не просчитал его последствия. Он искал человека, который будет ориентироваться на него даже тогда, когда он не будет президентом страны. Известно, что Владимир Путин был очень лоялен к Борису Николаевичу. Признателен за тот выбор, который Борис Николаевич сделал. Но за пределами личной лояльности и личной признательности говорить о преемственности в политике уже не приходилось.
И тому много объяснений, начиная с того, что просто личные характеристики этих двух людей абсолютно не совпадали. Да, Путин ушел из КГБ в начале 1990-х годов, прошел через мэрию Санкт-Петербурга, контрольное управление президента, через руководство ФСБ. Но как офицер российских, советских спецслужб он, конечно, воспринимал происходившее иначе, чем Ельцин. Для Ельцина развал, распад Советского Союза (на мой взгляд, уместно говорить о том, что частично был распад, а частично развал) был способом прийти к власти и утвердиться в качестве альтернативы Михаилу Горбачеву, пусть на более ограниченной территории, зато полновластным хозяином. Для Путина, как он чуть позже сказал, это была геополитическая катастрофа. Еще раз подчеркнем: для Ельцина развал Союза был инструментом в его властной игре, для Путина — именно геополитическая катастрофа. Причем здесь ключевое слово второе, не «геополитическая», а «катастрофа». Путин воспринял это как очень болезненное для страны явление.
В отличие от Ельцина, Путин имел лучшее представление о Западе и гораздо меньше по его поводу иллюзий. Хотя бы потому, что, проработав несколько лет в Дрездене, он был достаточно хорошо информирован о той холодной войне, которая шла не только между СССР, социалистическим лагерем в целом и западным лагерем, а между ФРГ и ГДР. На этой территории весьма острая борьба. ГДР пыталась ослабить политическую власть в ФРГ, ФРГ работала на ослабление власти в ГДР. Информация об этом, конечно, доходила до Владимира Путина. То есть у него было меньше иллюзий относительно того, что можно ожидать от Запада.
А кроме того, если Ельцин все интересы страны воспринимал через призму собственного положения и личной власти, Путин все же с самого начала стал утверждать себя как государственник. То есть человек, который отстаивает прежде всего государственные интересы и себя сопрягает с государственными интересами. Его формула — сильная президентская власть в сильном государстве. Ельцину же важно иметь просто сильную власть, а будет ли она в сильном государстве — вопрос второй. Укрепление страны не было его главной задачей. Это показывает вся политика, включая подбор кадров.
Для Путина государственническое начало было и остается частью его политических убеждений. Вспоминаю высказывания Билла Клинтона в сентябре 1999 года, когда президент США впервые встретился с недавно назначенным премьером Путиным, которого сразу стали воспринимать как наследника. Встреча произошла на саммите АТЭС в Новой Зеландии. Клинтон сказал: «С этим парнем нам будет гораздо труднее, чем с Борисом. Этот будет отстаивать национальные интересы своей страны». Это была характерная фраза, которую приводит в своей нашумевшей книге «Билл и Борис» тогдашний заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт. То есть с самого начала Клинтон обозначил, что это слом преемственности, а не ее возобновление. Что приходит другого типа человек, другого типа руководитель. И Клинтон почувствовал в Путине ту силу, которая через много лет превратит его в одного из лидеров современного мира.
На мой взгляд, путинская доктрина внешней политики, которая была окончательно сформулирована им в знаменитой Мюнхенской речи в феврале 2007 года, опиралась на тот опыт взаимодействия с Западом, который накопился в 1990-е годы. Помимо исторического опыта, профессионального образования, личных склонностей Путина, играла роль и сфера деятельности, в которой он работал.
При этом Путин не отличался идеологическим подходом к Западу. Ни разу не было замечено, что он воспринимал Запад как противника, врага по определению. И он давал это много раз понять. Он дал понять это, в частности, когда позвонил Джорджу Бушу — младшему после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, предложив помощь в борьбе с терроризмом. Он был первым из зарубежных лидеров, предложивших помощь, и это во многом предопределило дальнейшие личные отношения Путина и Буша. Американский президент потом много раз говорил, что вот Путин настоящий человек, в отличие от европейцев (Ширак, например, позвонил только через три дня).
Символичным было и выступление Владимира Путина в бундестаге на немецком языке в том же сентябре 2001 года. Спич, в котором было подчеркнуто, что Россия — часть Европы, произвел весьма позитивное впечатление на немцев. Это была неидеологическая речь, спич европейца, который видит Россию в Европе. Но Россию, с чьими интересами будут считаться, будут их уважать.
И вот здесь в будущем происходит главный надлом. Потому что до этого Россию воспринимали не как субъект, а как объект политики. Как государство, на которое Запад собирался влиять, диктовать повестку дня. От которого ожидал поддержки основных акций, поддержки в международных организациях. И был готов не начинать новую холодную войну при таких условиях. Любая самостоятельная игра России неизбежно должна была встретиться с отторжением на Западе, серьезным и весьма болезненным. Что мы и увидели после Мюнхенской речи, короткой войны с Грузией и уже в высшей стадии неприятия во время украинского и сирийского кризисов в 2014–2017 годах.
6. Начало нулевых: еще одна попытка договориться с Западом
Переход от времени Ельцина к правлению Путина с точки зрения внешней защиты национальных интересов России был подготовлен внешней политикой и философией Евгения Примакова. К началу 2000-х накопилась сумма доказательств того, что смена экономической, политической и идеологической системы в России не означает устранения геополитических и ценностных разногласий с западным миром. Россия оставалась крупной державой, второй ядерной державой мира, первой по объему природных ресурсов и по размерам территории, что обеспечивает ей выход на важнейшие геостратегические регионы мира — Европу, Ближний Восток, Среднюю Азию, Средний Восток, Дальний Восток. Практически на всех этих направлениях между Россией и Западом по-прежнему продолжалось достаточно очевидное соперничество. Таким образом, сама логика геополитического положения России, логика ее национальных интересов сталкивают ее с логикой интересов Запада, стремящегося к безостановочной экспансии. В наиболее острой форме эти интересы сталкиваются на бывшем советском пространстве — в силу курса западного альянса на геостратегическое освоение тех новых государств, которые сформировались во время распада Советского Союза.
Когда в 2001 году было принято решение о включении Прибалтики в состав НАТО, это, конечно, уже был переход некой «красной черты»: через эти страны военный альянс прямо вышел на границу России. Еще в середине 1990-х нас заверяли, что Запад никогда не перейдет «красную черту», под которой понимали границу бывшего Советского Союза. Нас убеждали, что расширение НАТО охватит самое большее те государства, которые были частью Варшавского договора, вышли из него и изъявили желание присоединиться к Западному альянсу: Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию, но ни в коем случае не бывшие республики СССР.
Для одних западных политиков и экспертов это был сознательный обман, для других заблуждение. Мне лично было изначально понятно, что НАТО не остановится на Восточной Европе. Экспансия системы, которая считает себя определяющей ход событий в мире, не имеет границ и пределов. Американская экспансия закончится только с концом Соединенных Штатов в их нынешнем виде. Экспансия Римской империи закончилась лишь тогда, когда начала затухать империя. Вместе с тем ее расширение ограничивалось силами тех народов, которые имели способность сопротивляться. На краях империи, где выигрыш от захвата новых территорий был неочевиден, а затраты на это слишком велики, Римская империя останавливалась: она не пошла на север от Дуная и на восток от Рейна, где жили воинственные дикие племена. Их подчинение было бы слишком тяжелым бременем, а большой потребности в этом не было.
В наши дни экспансия США упирается в такие «ограничители», как Россия, Китай, Иран, Вьетнам, ряд стран Латинской Америки, которые не принимают американское господство. Но это не меняет логику США как новейшей империи: она состоит в постоянной экспансии. И любые обещания, противоречащие этой логике, заведомо лживые. Так, вслед за первым обещанием не двигаться к востоку от прежних границ альянса (вспомним, как Джеймс Бейкер — и не он один — обещал «ни на дюйм не продвинуться на восток» после объединения Германии) нам говорили, что расширение ограничится Польшей, Венгрией и Чехией. А затем страны Прибалтики были приглашены в состав альянса и на очереди оказались Молдавия, Грузия, Украина.
Все это сыграло решающую роль в переосмыслении Россией взаимоотношений с Западом. В России на руководящем уровне стало укрепляться убеждение, что Запад стремится воспользоваться периодом нашей экономической и геополитической слабости, чтобы максимально укрепить собственные геополитические позиции и превратить Россию в страну с ограниченным суверенитетом. Страну, которой можно диктовать модель поведения, указывать, как голосовать в ООН, как вести себя на европейском континенте, по отношению к другим государствам бывшего СССР. Замысел состоял в том, чтобы перед подавляющей военно-политической мощью объединенного Запада Россия начала сдавать оставшиеся позиции и перешла к внешнеполитическому обслуживанию интересов Запада. Важнейшим рубежом стала война в Югославии. Она показала, что соперничество Запада с Россией продолжается.
В этих условиях линия на приспособление к США, а по сути — подчинение им, которую проводил в этом вопросе Виктор Черномырдин как спецпредставитель по югославскому урегулированию, уже не воспринималась российской политической и военной элитой как правильная. Любопытно, что в своей книге «Билл и Борис» Строуб Тэлботт дал весьма лестные характеристики Черномырдину и весьма плохие — российским военным, прежде всего генералу Ивашову. В книге бывший замгоссекретаря противопоставлял экс-премьера генералам и прямо отмечал, что, если бы дело зависело от Черномырдина, броска на Приштину не было бы. Но в России линия Черномырдина вызвала большое отторжение, а линия Примакова получила поддержку большей части элиты.
Судя по всему, Владимир Путин тяготел ко второй модели поведения России на мировой арене, но при этом хорошо отдавал себе отчет в тех ограничениях, с которыми мы сталкивались. Среди них — большая зависимость от Международного валютного фонда, от западных кредитов. Денег в казне было мало. У нас не было боеспособной армии — ее успешно развалили и разворовали в 1990-е годы. То есть эмоционально Путин принадлежал к примаковцам. Но политически понимал, что пойти по этому пути безоглядно Россия не может.
На первом этапе перед Путиным, как представляется, стояла задача остановить внешнеполитическое отступление России и выстроить такую сумму отношений, которая позволила бы стране начать возвращать себе тот авторитет, который был у Советского Союза. После потери более 9 млн кв. километров территории Россия по потенциалу не могла сравниться с СССР. И все же она могла претендовать на крупную роль в мировых делах как главная держава Евразии, представленная в Совете Безопасности ООН, имеющая статус ядерной державы и сохранившая огромную территорию.
Тот факт, что Россия по определению является сверхдержавой Евразии, принципиален. Евразия является «телом» современного мира. Это регион, где находится наибольшее число значимых государств и все ядерные державы, кроме США. Здесь сосредоточены две трети мировых запасов природных ресурсов, в том числе нефти и газа. Здесь же, в Евразии, сосредоточены основные мировые кризисы — от ближневосточного до корейского. И судьбы человечества на протяжении всей истории за редким исключением зависели от событий в Евразии. Исключением можно назвать лишь нападение Японии на Перл-Харбор и Карибский кризис. А все остальные войны проходили на евразийском континенте: 1-я и 2-я мировые, корейская, вьетнамская, ближневосточный конфликт, война в Ираке, война в Югославии, советско-китайский конфликт в конце 1960-х, индо-пакистанский конфликт, ирано-иракская война… И расположение России в Евразии, где она является в военно-политическом отношении самой важной державой, конечно, придает ей особый вес.
Путину надо было найти такой алгоритм международного поведения, который отличался бы от ельцинской линии подыгрывания Западу, но при этом не привел бы к острой конфронтации с западным альянсом, к чему Россия начала 2000-х была совершенно не готова.
Путин пришел к власти в условиях ухудшения российско-американских отношений. Оно было вызвано тем, что уже к началу 2000-х годов консервативная часть американского правящего класса стала заявлять, что Россия постепенно возвращается к своей предыдущей роли соперника Соединенных Штатов. Западный мир безошибочно учуял это в политике Евгения Примакова. Уже тогда были острые несогласия по Югославии, по Ираку. Не случайно в 1998 году в газете «Уолл-стрит джорнэл» появилась статья «Fire Primakov» («Увольте Примакова»). Таким образом, уже тогда, в 1998–1999 годах, в США возникло раздражение в связи с тем, что Россия начинает слегка приподнимать голову. Хотя еще была в очень зависимом положении и приподнимала голову очень аккуратно. Но уже тогда это вызвало в США противодействие и возмущение. Атмосферу дополнительно накаляла вторая война в Чечне, последовавшая вслед за набегом банд Басаева на Дагестан.
Генезис отношений России с США при Путине невозможно понять, если оставить в стороне фактор Чечни. Для государственника Путина возвращение этой республики в состав России стало первым и самым главным приоритетом. Тем более что лидеры сепаратистов намеревались вовлечь в процесс отделения от России и соседние республики. Это и стало причиной второй чеченской войны.
Для Путина как для премьера, а затем президента это был вопрос сохранения целостности, а значит — и выживания России как государства. Для руководства США это была, напротив, «ахиллесова пята» России. Вашингтон постоянно призывал Путина к переговорам с сепаратистами в лице Масхадова, отлично зная, что единственное, о чем они готовы были вести переговоры, было полное отделение Чечни от России.
Эта тема стала главной причиной напряженности, возникшей уже в ходе первых встреч между Путиным и Клинтоном, который регулярно поднимал в беседах с Путиным вопрос о войне в Чечне. Позже Путин не раз возвращался к этой теме, вспоминая, как США политически поддерживали чеченских террористов и тем самым фактически помогали подрыву целостности страны.
Джордж Буш-младший пришел в Белый дом в атмосфере заметно усилившейся антироссийской кампании. Попутно били по Клинтону — мол, Клинтон «потерял» дружественную Соединенным Штатам Россию. Ту, что готова была таскать каштаны из огня для Вашингтона и получать за это почесывание за ушком. И вот этой России, дескать, больше нет, и Клинтон в этом виноват. «Кто потерял Россию?» — таков был предмет острых дебатов в американских СМИ в период перехода от Клинтона к Бушу. И вывод был такой: «потеряли Россию» демократы, а миссия Буша должна состоять в том, чтобы «поставить Россию на место».
Кстати, темы американских предвыборных кампаний поразительным образом повторяются. На последних выборах уже Хиллари Клинтон разыгрывала «русскую карту» и твердила о необходимости поставить Россию на место. А тогда, в 2000 году, с этой картой выступала команда Буша. Жесткие заявления делала Кондолиза Райс, другие представители Республиканской партии. Неоконсерваторы обвиняли Москву во всех грехах.
Путин стал президентом весной 2000 года, Буша избрали в ноябре — через полгода. И первые несколько месяцев взаимоотношения двух стран были очень напряженными. США решили отыгрывать линию жесткости.
Но тут произошли весьма любопытные события. К этому времени начал поднимать голову Китай, вышедший на очень высокие темпы экономического роста. В конце марта — начале апреля 2001 года я находился в составе делегации российских политологов и экспертов в Соединенных Штатах. У нас была запланирована встреча с Кондолизой Райс, занимавшей пост помощника президента по национальной безопасности. Встреча должна была проходить в Западном крыле Белого дома, где размещен Совет по национальной безопасности, в зале под названием «Зал Рузвельта» (залы там носят имена американских политиков). Мы ждали Кондолизу Райс. Примерно через пять минут к нам подошла помощница Райс и сообщила, что, к сожалению, госпожа Райс принять нас не сможет, потому что в Вашингтоне с визитом находится президент Египта Мубарак и ее график изменился. Поэтому вас, говорит, примет заместитель госпожи Райс — Дэн Фрид.
До этого Фрид был послом США в Польше и был известен весьма русофобскими взглядами. Я с ним до этого уже встречался и знал, что он отличается тем, что очень занудно излагает свои позиции. И перспектива в очередной раз выслушивать его рассуждения меня нисколько не обрадовала, напротив, привела в состояние некоторого уныния. Но другие мои коллеги с ним не встречались и не возражали: ну, Фрид так Фрид.
А дальше случилось непредвиденное. Через 40 минут в RoosveltHall стремительно вошла одетая в красный костюм Кондолиза Райс. Деловая, энергичная, подтянутая. И сказала: «Я все-таки нашла время для встречи с вами. Хочу, чтобы вы донесли до Москвы определенный месседж. Месседж состоит в том, что эта администрация не собирается конфликтовать с вами. Эта администрация хочет выстроить с вами отношения. Потому что для нас важны контроль над ядерным вооружением, разрешение региональных конфликтов. Для нас важна борьба с государствами-изгоями, которые бросают вызов современному миропорядку. И мы хотим быть с вами партнерами».
Это были неожиданные слова. До этого мы слышали от Кондолизы Райс и ее коллег совсем другие разговоры, в основном о том, как надо поставить на место Россию. И вдруг выясняется, что мы уже почти привилегированные партнеры. И если мы ими еще не стали, то утвердить США и Россию в этой роли — одна из задач администрации Буша-младшего.
Беседа продлилась около часа и была весьма содержательной. В чем была причина такого поворота? Вернувшись в гостиницу, я понял, что произошло. Встреча с Райс прошла 1 апреля, а в ночь с 31 марта на 1 апреля китайский «МиГ» столкнулся с американским самолетом-разведчиком над Южно-Китайским морем. Вероятно, намеренно столкнулся, специально задев «американца» крылом. Самолет-разведчик после этого не смог продолжать полет и был вынужден сесть на одном из китайских островов. Видимо, была специально поставлена задача его повредить и посадить.
Как посчитали в Пекине, самолет США пересек воздушную границу Китая. В итоге китайцы целую неделю продержали у себя экипаж и отказались поддаться на давление США, которые требовали сразу же — завтра! — вернуть экипаж и самолет. В итоге самолет вернули только через пару месяцев, предварительно разобрав его по винтику и изучив вдоль и поперек.
В гостинице я увидел газету Washington Post со статьей на первой полосе о том, что, возможно, грядет военный конфликт с Китаем. Беспрецедентная история — китайцы повредили и вынудили сесть американский военный борт! США обвиняли китайцев в намеренной провокации. А Пекин, в свою очередь, обвинял американцев в нарушении китайского воздушного пространства. Возникла очень острая ситуация. Чуть ли не впервые за долгие годы Пекин мерялся силами с Вашингтоном.
На следующий день в New York Times появилась статья известного специалиста по стратегическим вопросам Эдварда Латтвака. Суть ее сводилась к следующему: Вашингтон может себе позволить конфликт с Пекином, если у него хорошие отношения с Россией. Вашингтон может также позволить себе конфликтовать с Москвой, если у него хорошие отношения с Китаем. Но Вашингтон не может позволить себе находиться в плохих отношениях одновременно и с Москвой, и с Пекином. Позже такую же позицию сформулировал патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер.
Этот эпизод, думаю, серьезно повлиял на начинающую администрацию Джорджа Буша. Ведь к России, помимо общего недовольства ее поведением, у новой администрации не было конкретных претензий. С Китаем же возникла ситуация настоящего конфликта. В тот момент вообще непонятно было, что произойдет с экипажем (а на борту было 24 человека). США как сверхдержава № 1 должна была вынудить Пекин вернуть самолет и экипаж. Но как? Начинать войну? Нельзя. А не начинать — значит, стерпеть пощечину, плевок в лицо от нарождающейся новой сверхдержавы.
Тогда проявились контуры потенциально длительной конфронтации США с Китаем как с государством, способным бросить вызов интересам США и даже их практическим действиям. Возможно, этот эпизод повлиял на дальнейшие расклады. Возможно, и желание новой администрации США выстроить собственную сумму отношений с Россией. Так или иначе, ситуация к середине 2001 года изменилась.
В июне состоялась встреча двух лидеров в Любляне, где Джордж Буш произнес знаменитую фразу: «Я заглянул в глаза Путина и увидел там его душу». Это было начало личной дружбы между Путиным и Бушем. Тогда многим показалось, что эта дружба может стать важнейшим фактором стабилизации российско-американских отношений и перевода их из зоны взаимных обвинений и взаимного раздражения в зону сотрудничества и партнерства.
Этот сценарий, казалось, получил свое подтверждение после трагических событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Первым иностранным лидером, который позвонил Бушу, чтобы выразить свои соболезнования по этому поводу и предложить сотрудничество в «войне с терроризмом», был Владимир Путин. Ближайшие союзники Соединенных Штатов прореагировали через несколько часов, а кто-то и через день-два. Это надолго запомнил Буш. Он говорил: «Помню, как Владимир мне первым позвонил. В отличие от этих французов. Ширак ждал сутки, чтобы позвонить и выразить свою поддержку».
В ноябре того же года состоялась встреча Буш — Путин в Кроуфорде, штат Техас. Буш принимал Путина на собственном ранчо. Они катались на электрокаре, носили техасские шляпы, ели шашлык. Давно российско-американские отношения не казались столь безоблачными.
Однако, как и следовало ожидать, это потепление оказалось краткосрочным. Но примерно полгода — с июня по ноябрь — в отношениях Москвы и Вашингтона был период ясного потепления. На мой взгляд, связано это с тем, что Владимир Путин хотел заключить с администрацией Джорджа Буша — младшего некое неформальное соглашение, что-то вроде «новой Антанты», если использовать слово «entente» в его изначальном французском значении, как «согласие», «взаимопонимание».
Такая договоренность могла быть заключена на следующих основаниях:
Первое. Крупнейшие державы столкнулись с беспрецедентной угрозой со стороны международного терроризма. И Россия готова помогать США, учитывая, что большая часть таких угроз исходит с Евразийского континента. Здесь у нас общий враг, общие интересы, мы можем найти общий язык.
Второе. Россия не намерена ставить под сомнение законные интересы Соединенных Штатов в тех регионах, которые являются ключевыми для национальных интересов США. И Москва не будет заниматься тем, чтобы портить американцам игру и нервы просто ради удовольствия противостоять извечному сопернику.
Третье. В свою очередь, Соединенные Штаты воздерживаются от того, чтобы превращать бывшие советские республики в зону противоборства с Россией, то есть ведут себя аккуратно на постсоветском пространстве, не пытаются прямо противопоставить новые государства России. При этом у Москвы не вызывали возражений инвестиции, экономическое присутствие, политические контакты, да и военные контакты, скажем, внутри программы «Партнерство ради мира», в рамках которой с НАТО сотрудничала и сама Россия, и все другие экс-республики СССР.
Таким образом, Соединенные Штаты получали Россию в качестве союзника в борьбе с терроризмом и партнера в Афганистане и других важный районах в обмен на сдержанное, аккуратное поведение на постсоветском пространстве.
Уже тогда в Москве вынашивалась идея евразийской интеграции, о которой еще в начале 1990-х говорил Нурсултан Назарбаев и которая занимала тогда умы многих политиков и в России. Такая интеграция уже развивалась и с Казахстаном, и с Белоруссией. Однако Путин стал уделять немного большее внимание этим реинтеграционным процессам, естественно, на новой основе, уже не на советской.
Не думаю, что такие договоренности с США могли бы носить характер «большой сделки». Речь шла скорее об общем подходе, неофициальной философии для обеих сторон: Россия поддерживает США там, где это важно для американцев, а они воздерживаются от того, чтобы ставить под угрозу интересы России там, где это важно России. Понятно, что где-то интересы будут все равно сталкиваться. Но, насколько можно судить, Путин предлагал сократить зону расхождений и соперничества до минимума и максимально расширить зону взаимного согласия.
Именно такое ощущение сложилось по первым шагам Путина во взаимоотношениях с Бушем. Но эта тактика немедленно столкнулась с неумолимой логикой американской экспансии и самоутверждения США в качестве единственной глобальной державы, для которой нет необходимости считаться с интересами России. 13 декабря, вскоре после внешне успешной и даже теплой встречи в Кроуфорде, США заявили о выходе из Договора по противоракетной обороне.
Этот факт сыграл в истории наших отношений поистине роковую роль. По условиям договора США имели право выйти из него, как и Россия. Однако их выход из договора создал качественно новую ситуацию, резко снизив уровень стратегической стабильности.
Российско-американские отношения в стратегической области, в частности в ядерной сфере, регулировались суммой договоров, заключенных между США и СССР в начале 1970-х годов. Договор по ПРО, заключенный в мае 1972 года, имел стратегическое значение. В чем был его смысл? В том, что обе стороны отказывались от создания национальных систем противоракетной обороны, которые прикрывали бы всю территорию СССР и США. В рамках договора стороны условились, что сохранят лишь два «кольца» ПРО на своей территории: одно вокруг столицы, другое — по выбору каждой страны для защиты одной из баз межконтинентальных баллистических ракет. Позже число зон, где могла действовать ПРО, было сведено к одной. Тем самым обеспечивалась взаимная уязвимость. А она, в свою очередь, была главной гарантией от так называемого MAD — «Mutual Assured Destraction» — «гарантированного взаимного уничтожения» в случае начала ядерного войны. Таким образом, у договора по ПРО был глубокий, весьма продуманный смысл. Ведь в случае, когда обе стороны уязвимы для ядерного удара, ни одна из них не решится начать ядерную войну.
В конце 2001 года, выйдя из договора по ПРО, Соединенные Штаты нарушили эту логику. Они фактически сказали нам: мы создаем собственную систему защиты, а ваше положение нас больше не волнует — отныне каждый сам по себе. То есть США «распарили» свою и нашу безопасность — до этого они были де факто спарены, сопряжены, связаны одним договором. Была единая «скоба»: вы зависите от нас, а мы зависим от вас. Теперь же, нарушив эту логику, создавая собственную систему обороны, одна из стран становится угрозой для другой: США ставят перед собой задачу стать неуязвимыми, а Россию, напротив, сделать уязвимой.
Конечно, все это США объясняли тем, что появились некие «новые угрозы» — со стороны Ирана и КНДР. Но тогда, в 2001-м, таких угроз не было, а со стороны Ирана нет и сейчас. Причина была в другом: США захотели выйти из состояния взаимной уязвимости, а нас оставить в этой зоне. Им было известно, что у России нет планов выхода из договора и создания своей национальной системы ПРО. Да и территория России столь обширна, что для нее это исключительно сложная задача.
Идея национальной ПРО для США была высказана еще в 1983 году Рональдом Рейганом. Но тогда американцы находились еще на стадии обдумывания этой идеи и первых разработок. При Клинтоне появились первые подвижки в деле ее практического осуществления, начались регулярные испытания противоракет. А при Буше-младшем американские правящие круги решили, что настало время перестать связывать себя обязательствами по этого договору перед русскими.
Владимир Путин отреагировал на решение США исключительно сдержанно: он лишь сказал, что это ошибка. Больше он не сказал тогда ни слова, возможно рассчитывая достичь новой договоренности. Но за несколько лет эта «ошибка», которая на деле была продуманным решением, переросла в одну из главных сфер разногласий между Москвой и Вашингтоном, и даже шире — между Москвой и НАТО. И до сих пор остается таковой. Размещение систем ПРО США в Польше и Румынии, то есть в непосредственной близости от границ России, рассматривается в Москве как угроза нашему потенциалу ядерного сдерживания, угроза российскому ракетно-ядерному оружию, которое призвано удержать Соединенные Штаты от возможного ядерного удара по России.
6 ноября того же года было объявлено о «второй волне» расширения НАТО — на семь государств Восточной Европы, включая страны Прибалтики. Это также было встречено Москвой со сдержанным недовольством. Сдержанным, потому что к этому времени вопрос был уже решен, и, конечно же, неожиданностью для нас это не было. Но «вторая полна» расширения НАТО подтвердила: наши цели и цели альянса глубоко различны. «Вторая волна» не только ухудшила атмосферу российско-американских отношений, но создала качественно новую ситуацию, наносившую значительный ущерб нашей безопасности. Приняв в свой состав страны Балтии, альянс окончательно перешел условную «красную черту», которую до той поры переходить не решался. И было также ясно, что на этом НАТО не остановится.
Все это напрягло отношения, но лишь до определенной степени. И в Вашингтоне, и в Москве продолжали говорить о партнерстве и о совместных целях в борьбе с терроризмом. В мае 2002 года Путин и Буш подписали московский договор, касающийся стратегических ядерных вооружений. Это было продолжение целой серии соглашений в этой сфере. Московский договор 2002 года проложил путь для договора СНВ-3, который был подписан в 2010 году уже с администрацией Барака Обамы. СНВ-3 ввел очень серьезные ограничения на число боеголовок и носителей с обеих сторон. По сути, это соглашение считается единственным серьезным достижением между США и Россией в сфере разоружения, которое до сих пор не оспаривалось американцами.
Безудержную американскую экспансию, конечно, не могли остановить шашлыки на ранчо Джорджа Буша. Здесь вступала в силу более мощная логика. Американская империя ощущала себя лидером «однополярного мира». Тогда еще не было войны в Ираке, которая столь дорого обошлась Соединенным Штатам и сильно подорвала их моральный авторитет. Американцы исходили из того, что наступил «конец истории». Эта дефиниция была вброшена в политический обиход американским политологом Френком Фукуямой еще в 1991 году. «Конец истории» означал окончательную победу в мире либеральной демократии во главе с США. И на пути к этой цели в Вашингтоне были готовы идти на любые обострения и военные авантюры, а учет интересов России не входил в число приоритетов США. В силу этого было лишь вопросом времени, когда разновекторные интересы России и США должны были столкнуться напрямую. Не косвенно, как в случае с расширением НАТО, а именно напрямую. Этот момент наступил в ноябре 2003 года. В центре столкновения оказалась Молдавия.
Осенью 2003 года замруководителя администрации президента, давний соратник Путина Дмитрий Козак подписал с Кишиневом так называемый меморандум Козака. С руководителем Молдавии и молдавской Компартии Владимиром Ворониным была достигнута договоренность о том, что Молдавия превращается в федеративное государство, русский становится вторым государственным языком и на этой основе Приднестровье возвращается в состав Молдавии, то есть происходит воссоединение Молдавии и Приднестровья при посредничестве России. Хотя этот документ называют «меморандумом Козака», более правомерно было бы его назвать «меморандумом Путина». Президент очень плотно занимался этой тематикой и разрешение молдавского кризиса рассматривал как одну из своих важнейших внешнеполитических задач.
24 ноября 2003 года Путин готовился к визиту в Молдавию. В 8 утра президентский борт должен был вылететь из Москвы в Кишинев. Но не вылетел. В полночь Путину позвонил Воронин и сообщил, что, к сожалению, не готов подписать достигнутое соглашение. В ответ на предсказуемую реакцию Путина Воронин объяснил свои действия тем, что возникли некие «обстоятельства», которые лишают его всякой возможности и меняют его планы.
Что же произошло, почему Воронин так поступил? Готовившаяся договоренность была воспринята на Западе как возрождение России в качестве центра принятия крупных политических решений на постсоветском пространстве. Естественно, если бы Путину удалось тогда добиться такого урегулирования молдавского конфликта, авторитет России сильно бы вырос. А Молдавия могла бы, как тогда считали на Западе, вернуться в российскую «зону влияния». При том, что на нее на Западе уже были собственные планы.
Вскоре выяснилось, что в самый канун визита Путина Воронину позвонили два человека: один из ЕС, второй — из США. Первым позвонил Хавьер Солана, руководивший в то время внешней политикой Евросоюза (на посту верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности). Второй звонок был от некоего высокого американского представителя. Чуть позже стало известно, что это был госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл. Воронину было сказано, что если он пойдет на подписание этого соглашения, то это перекроет «европейские перспективы» для Молдавии и сильно ухудшит ее связи с Западом, снизит возможности инвестиций и т. д.
Со стороны Воронина это была грубейшая ошибка. По сути, он подписал себе как политику в тот момент смертный приговор: его отстранение от власти стало после этого вопросом времени. С одной стороны, Воронин навсегда испортил отношения с Москвой, с другой — Запад он в любом случае не устраивал как коммунист. В западных столицах готовили «смену режима» в Молдавии.
Но для Москвы даже важнее было другое: выяснилось, что и такая страна, как Молдавия, которая имеет не слишком значительный вес в системе американских внешнеполитических приоритетов, оказалась столь существенна для США, чтобы из-за нее поставить под вопрос дальнейшие отношения с Россией. Вывод можно было сделать один: ради перевода Молдавии в западную сферу влияния и сохранения перспективы ее включения в НАТО администрация Буша-младшего была готова к ухудшению отношений с Москвой. В самой Москве это было воспринято как демарш американцев, да это и был демарш. Судя по всему, при этом администрация Буша исходила из того, что Москва будет вынуждена с этим согласиться, что у нее нет выбора.
На мой взгляд, этот эпизод сыграл очень значительную роль в переосмыслении той большой договоренности, идею которой, вероятно, вынашивал Владимир Путин в качестве основы для дальнейших взаимоотношений с Западом. Стало ясно, что США не пойдут на сдержанное поведение на постсоветском пространстве как на условие нашей поддержки американцев по волнующим их вопросам.
С этого момента — с ноября 2003-го — отношения России и Запада вступают в новую фазу — в фазу размежевания, перешедшего в 2007–2008 годах в фазу острого размежевания. Это нашло свое высшее выражение в Мюнхенской речи Путина, с которой он выступил 11 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности.
События начали развиваться с ускорением. Следующей зоной конфликта стал киевский Майдан. Зимой 2004–2005 годов, в ходе выборов на Украине, Запад бросил все силы на поддержку Виктора Ющенко и против Виктора Януковича, который считался ставленником Москвы. Тогда на Украине Запад и Россия столкнулись фактически напрямую в борьбе за политическую и геополитическую ориентацию нашего южного соседа. Победа Майдана, победа Ющенко рассматривались Западом как победа над Россией.
Ради чего Западный альянс поддерживал Майдан? Сама по себе Украина с ее слабой экономикой и невысоким уровнем жизни сомнительный приз. Но Украина как часть западного альянса, а в будущем и часть НАТО (именно к этому вела дело администрация Буша. Майдан и смена власти в Киеве и были задуманы как средство отрыва Украины от России и включения ее в НАТО) — это уже серьезный приз, потому что геостратегически Украина, несомненно, представляет ценность. Большая территория (603 тысячи кв. км — вторая по площади страна Европы, не считая Турции), огромная, более 2 тысяч километров, протяженность границы с Россией, выход к Черному морю… Украина — это мягкое подбрюшье европейской части нашей страны. С территории Украины ракеты США могут достичь Москвы за несколько минут.
После того как западный альянс сделал все, чтобы привести к власти в Киеве «оранжевого» Ющенко, стало ясно, что экспансию Запада на Восток остановить будет исключительно сложно и что геополитическая схватка неизбежна, как бы ни хотела от нее Россия уклониться. Тогда же — в 2004 году — закончилась первая фаза политики Владимира Путина на западном направлении. Ее можно назвать фазой несостоявшейся «большой сделки».
Одной из причин, по которой Владимир Путин быстро откликнулся на террористическую атаку на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года, было то, что Россия в то время по-прежнему воевала против террористов в Чечне и страдала от регулярных терактов. После гибели почти 3000 человек в Нью-Йорке дело выглядело так, что мы с американцами могли стать «братьями по оружию». Отсюда — и хорошие личные отношения, установившиеся у Путина с Бушем-младшим, и голосование России в Совете Безопасности ООН, открывшее путь к законной с точки зрения международного права военной операции США в Афганистане. На территории этой страны скрывался в то время бен Ладен, и отказ правительства талибов выдать его США как главного подозреваемого в терактах и стало официальной причиной этой операции с участием США, их союзников по НАТО и при поддержке России.
Этому же сопутствовали начавшиеся тогда заметные изменения во внутренней политике России. Западу было продемонстрировано, что те силы и персонажи, которые выступают если и не как прямые агенты Запада, то во всяком случае как представители его интересов, не будут иметь в России автоматического иммунитета. Известно, что Ходорковский, прежде чем перейти в конфликтную фазу отношений с российским руководством, вел достаточно активную международную деятельность, в ходе которой стремился заручиться политической поддержкой лидеров западного альянса. Он встречался с вице-президентом США при Буше Диком Чейни, премьером Великобритании Тони Блэром, другими высокопоставленными американцами и европейцами, подавая себя как политическую альтернативу Путину. И ему была обещана весьма серьезная поддержка. Его рассматривали как фигуру, которую при определенных обстоятельствах можно противопоставить Владимиру Путину. Выборы 2003 года рассматривались командой Ходорковского как возможность создания своей платформы в Госдуме, а президентские выборы 2004 года должны были, по их замыслу, стать пробой сил, оппозиционных Путину. Этим планам не суждено было осуществиться. А арест Ходорковского и последовавший судебный процесс вызвал большое раздражение в США и на Западе в целом, где началась мобилизация и консолидация антипутинских политических кругов.
Уже тогда, осенью 2003 года, в наших отношениях с США появился и важный внутриполитический аспект, способствовавший нарастанию конфликта. К 2011 году он выйдет на первый план, когда Путин напрямую обвинит США, в частности госсекретаря Хиллари Клинтон, в призывах к протестам, уличным беспорядкам и подрыву политической стабильности России.
В 2003–2004 годах таких обвинений еще не было. Чисто внешне отношения Путин — Буш оставались хорошими. Между ЕС и Россией действовало стратегическое партнерство. Однако подспудная борьба за политическую ориентацию России началась еще тогда. И с 2004 года, с начала первого Майдана, мы вступили из фазы потенциального партнерства в фазу косвенного, но интенсивного противостояния. Еще не было прямой конфронтации, санкций и такой оголтелой, как в 2014–2018 годах, антироссийской кампании, но уже началось опосредованное противоборство между Западом и Россией, которое развивалось на территории постсоветских государств: в Молдавии, на Украине, в меньшей степени — в Белоруссии. Вступив в НАТО, Прибалтика все больше стала проявлять себя как плацдарм антироссийских настроений. Начались попытки США прочно обосноваться в Средней Азии — прежде всего в Киргизии и Узбекистане, развернуть против России Грузию.
Подытоживая этот период, можно констатировать, что ключевыми были выход США из договора по ПРО, срыв путинского плана по Молдавии и, наконец, словно драматические аккорды Пятой симфонии Бетховена, схватка за Украину, когда Запад, абсолютно не скрывая своих намерений, бросил все свои силы, информационные, политические, финансовые, на поддержку Виктора Ющенко. Через 10 лет Украина, после государственного переворота в Киеве, превратится в главное «яблоко раздора» между Западом и Россией. Однако корни этого острого конфликта уходят именно в 2004 год, когда западный альянс взял курс на отрыв Украины от России и превращения ее в неформального члена НАТО.
7. Мюнхенская речь и внешнеполитическая доктрина Путина
О внешнеполитической доктрине Путина как качественно новом феномене можно говорить с середины 2000-х годов. Она окончательно сформировалась в ходе его второго президентского срока — с 2004 года, когда состоялось переизбрание Путина, до 2008 года, когда произошла российско-грузинская война из-за нападения грузинской армии на Южную Осетию.
Это был также период, когда Путин утвердился в глазах граждан России как национальный лидер. Основы для этого были заложены во время первого президентского срока, но второй срок у руля страны однозначно утвердил Путина в этом качестве. Этому сильно способствовал заметный экономический рост в период с 2005 по 2008 год. В мире Россию называли тогда одним из локомотивов мировой экономики — вместе с Китаем, Индией и Бразилией. В этот благоприятный для страны период экономического развития, отмеченный исключительно высокими ценами на нефть, России удалось заметно упрочить свое финансовое положение, избавиться от зависимости от кредитов МВФ, создать значительные золотовалютные резервы (более 600 млрд долларов). Удалось также выплатить основную часть государственного долга. И в условиях очень выгодных для России цен на углеводородное сырье набрать высокие темпы экономического роста — в 2007 году они превысили 7-процентную отметку.
Экономический бум в России был отмечен бурным ростом потребления, существенным ростом среднего класса, появлением массового туризма, возникновением уверенности в завтрашнем дне. Резкий рост числа российских туристов на зарубежных курортах превратил Россию в туристическую сверхдержаву. Тогда же заметно усилился интерес к России со стороны крупных зарубежных инвесторов. Возросло число совместных и иностранных фирм, работающих в России, — они исчислялись уже тысячами.
Утверждение Путина в качестве национального лидера шло параллельно с достижением Россией нового уровня экономического развития, нового уровня благосостояния и нового самовосприятия. Дело в том, что после распада СССР — и даже еще раньше, с конца 1980-х годов, — наша страна вступила в период серьезного идентификационного кризиса. Нам стало понятно, кем мы не являемся. Мы перестали быть коммунистической державой, лидером социалистического лагеря, главным носителем и мотором идеи преобразования мира на социалистических началах. Мы перестали быть идейной антитезой США и западному альянсу. Мы отказались от политики холодной войны. И мы отказались от поддержки тех политических движений за рубежом, которые делали ставку на развитие вне рамок американской глобальной империи и искали политическую и финансовую поддержку в лице Советского Союза.
От всего этого мы отказались. Но не нашли новой убедительной идеологии и национальной задачи. Острый психологический кризис 1990-х годов, который отражал и глубокий кризис национального самосознания, был связан с тем, что время Ельцина не дало ответа на вопросы, кем мы являемся и к чему мы идем. Идея копирования западной демократии и рыночной экономики в России была дискредитирована политической практикой ельцинизма, с которой столкнулись граждане нашей страны. Никто не оспаривал того, что хорошо иметь развитую, устойчивую демократическую систему, многоукладную экономику с эффективным частным сектором, верховенство закона и т. д. Но как сказал в свое время Виктор Черномырдин, характеризуя наше развитие: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». И даже хуже.
Получилось так, что высокие демократические нормы, которые выдавали за свою политическую программу, идеологи ельцинского правления, да и сам Борис Ельцин, совершенно не подтверждались тем, что люди видели вокруг себя. А видели они цинизм, схватку за собственность, нередко сопровождавшуюся кровью, расхищение государственной собственности и чудовищную коррупцию. В результате хаотичного и непродуманного проведения так называемых рыночных реформ подавляющая часть населения России впала в состояние социального шока. И сколько бы ни пытались оправдать Ельцина за события октября 1993 года в Москве, ссылаясь на то, что против него выступили ультранационалистические силы, которые грозили России политической диктатурой, сами эти события и поражение партии власти на выборах Госдумы в декабре 1993 года, когда Демократический союз Гайдара получил лишь 15 %, продемонстрировали острое недовольство населения действиями Ельцина и его ближайшего окружения. Это выразилось и в резком падении поддержки на выборах, и в долгосрочном кризисе прозападного, либерального крыла российского политического класса. Уже в 1999 году СПС выступил неубедительно, а выборы 2003 года стали для него катастрофой. И самое парадоксальное то, что авторы этой политики такого эффекта не ожидали. Вспоминаю опрокинутое лицо Анатолия Чубайса, когда он узнал, что его партия получила лишь 3,5 процента и не прошла в Госдуму. Однако это были объективные цифры, которые подвели окончательную черту под эпохой ельцинского правления.
Помимо того негативного, что сделали радикальные реформаторы, было и то, чего они сделать не смогли. А именно убедить население в том, что та экономическая и социальная практика, которая утверждается в России, является лучшей по сравнению с советскими временами. Преимущества новой системы ощутили новые предприниматели, олигархическая часть элиты, та часть среднего класса, которая выиграла от изменений. Но подавляющая часть граждан России проиграли. В области внешней политики также не была предложена внятная альтернатива советской внешней политике. Ельцин от нее отказался, но что предложил взамен, кроме унизительного заискивания перед Западом? Да, холодная война, чреватая ядерной зимой, конечно, мало кого вдохновляла. Но заявить, что мы прекращаем холодную войну, еще не означало объяснить, к какой политике мы переходим. Идея стратегического альянса с Западом не выдержала самых первых испытаний: на Западе ельцинскую Россию считали не союзником, а клиентом и зависимым партнером, предпочитая держать ее на обочине международной политики.
Стилистика общения Билла Клинтона с Борисом Ельциным — эти похлопывания по плечу, хохот Клинтона в ответ на скоморошеские выходки Ельцина, стремление Бориса Николаевича непременно понравиться, рассмешить, подладиться под американского президента, показать, что «я — свой парень», «посмотрите, какой я непосредственный, милый и смешной» — все это было с иронией и даже сарказмом воспринято людьми в России. Печально известный эпизод, когда нетрезвый Ельцин дирижировал оркестром в Берлине, стал предметом насмешек по всему миру. Ельцин тогда привел в изумление не только руководство Германии, которое не ожидало подобной выходки, и западные СМИ, но и собственную страну. Как ядовито отметила газета «Вашингтон Пост», Ельцин помимо того, что дирижировал оркестром, еще и заказал «Калинку» таким голосом, словно хотел, чтобы его услышали во Владивостоке.
Такой образ президента принижал образ страны, дискредитировал ее внешнюю политику. Пресс-секретари пытались найти объяснения его странным заявлениям и иногда не находили. А когда Ельцин на очередном международном мероприятии по непонятным причинам включил Германию и Японию в число ядерных держав, даже интеллектуальная изворотливость его пресс-секретаря Сергея Ястржембского не позволила тому выйти из положения. И когда на пресс-конференции его спросили, что имел в виду президент России, Ястржембский ответил: «Президент просто устал».
От такого образа России устали и ее граждане. Людям хотелось уважительного отношения к собственной стране. Нет, речь не шла о том, чтобы Россию воспринимали как Советский Союз. Но Россия — это страна, которая победила во Второй мировой войне, была одним из основателей Организации Объединенных Наций, располагает местом в Совете Безопасности ООН, сравнима с США по ядерному потенциалу, является одной из богатейших в мире по природным ресурсам, обладает уникальным геополитическим положением, образованным населением, богатой культурой и 1000-летней историей. И людям обоснованно хотелось, чтобы отношение к ней было иное, чем то, которое возникло после распада СССР, причем во многом по вине Ельцина и реформаторов.
В то время политические рассуждения на российском телевидении в основном сводились к тому, что мы ни на что не способны, какие мы бездарные и как надо идти вслед за мировыми лидерами, которые прекрасные и замечательные, уверенно ведут мир в светлое будущее.
Страна жаждала другого — и Путин сумел ответить на этот запрос, сумел начать процесс изменения восприятия России, возвращения ее международного авторитета. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще Евгением Примаковым. Но у него было исключительно сложное положение — в силу финансовой и экономической слабости России, а также слабости ельцинского руководства. Примакову мешал Ельцин, часто не давал довершить задуманное.
Над Путиным не довлел фактор Ельцина. Новый лидер страны мог выстраивать свою внешнюю политику в соответствии со своей системой координат и имевшимися у него возможностями. Это сыграло большую роль в его утверждении в качестве национального лидера. Ведь экономические и социальные успехи в начале 2000-х были еще не очевидны, они обозначились позже. В то время страна только начинала выбираться из постдефолтного состояния. Но на внешней сцене смена стиля была заметна сразу. Путин сумел быстро побудить — не заставить, а именно побудить — лидеров современного мира (к ним я отношу не только западных политиков, но и руководителей Китая, Индии, Бразилии, других крупных держав) начать уважительно относиться и к нему лично, и к России.
Новое восприятие внешней политики России на Западе возникло еще до того, как Путин был избран президентом. Слушая предновогоднее выступление Ельцина от 31 декабря 1999 года, в котором он заявил о своей отставке, заместитель госсекретаря США С. Талботт пришел к следующему выводу: «Миру придется иметь дело с новой фазой внешней политики — менее податливой, хотя и не более воинственной. Мы уже достаточно услышали от Путина и увидели его в действии, чтобы понять: его стиль был совершенно другим, чем стиль Ельцина».
Талботт был прав, но он даже не ожидал, насколько верной оказалась его оценка. Это стало окончательно ясно, когда Путин выступил 11 февраля 2007 года в Германии со своей знаменитой Мюнхенской речью. За эти 6 лет многое изменилось. Качественно укрепилась экономика страны, национальное самосознание стало выходить из кризиса, появилось чувство гордости за страну, которая успешно развивалась во главе с энергичным руководителем. Рос интерес к России и за ее пределами, она уже не выглядела как немощный остров поверженной сверхдержавы. Когда в 2006 году Владимир Путин выступил в роли хозяина G8 в Санкт-Петербурге, было ясно, что Россия участвует в «Большой восьмерке» уже в качестве полноценного и весомого члена этого клуба мировых лидеров.
Противоречия между Россией и Западом накапливались и проявлялись, но на том этапе еще не выражались в конфронтации. Взаимное недовольство усиливалось, но еще не набрало критической массы. В годы второго президентства Владимира Путина столкнулись два феномена. С одной стороны — феномен возрождающейся России (то, что англосаксы назвали «Resurgent Russia»). А с другой стороны, это был период пика глобальной экспансии Запада — с оккупацией Ирака, войной в Афганистане и стратегией втягивания в НАТО Украины, Грузии, Молдавии.
Однополюсный мир или «новый мировой порядок», как назвал его президент США Джордж Буш — старший, прошел через несколько фаз. Когда в 1990–1991 годах распался Варшавский договор, а затем и СССР, первые два-три года элита США наслаждалась ощущением полного торжества и безальтернативности американских ценностей, идеологии, глобального господства. Затем США перешли к окончательной перестройке мира под себя, под свою гегемонию. В мире еще остались «неосвоенные зоны». Это было наследие периода биполярного противостояния. Еще далеко не все страны вписывались в американскую глобальную систему.
В Европе был запущен процесс ее консолидации как на атлантических началах, прежде всего через экспансию НАТО, так и через расширение Евросоюза. Однако из этого процесса выпала такая крупная страна, как Югославия. И Запад сделал все возможное, чтобы расчленить Югославию. Закончилось это весной 1999 года, первой коллективной военной операцией НАТО по «смене режима» в европейской стране. Сначала через военные действия Сербия была поставлена в униженное положение, когда она потеряла часть своей территории — Косово. А затем — через организацию активного гражданского процесса, прежде всего со стороны молодежи (движение напрямую финансировалось из США) была проведена «оранжевая революция», Слободан Милошевич был свергнут, а затем выдан международному суду в Гааге. Это должно было продемонстрировать полное господство западного альянса на европейском континенте.
После югославской войны степень триумфализма в западной альянсе еще больше возросла. Следствием острого желания США перекроить мир под себя стали еще две войны. Первой стала война в Афганистане, которая была не столько ответом на события 11 сентября 2001 года в США, сколько выполнением давнего плана по укоренению военной машины США в этом стратегически важном регионе — у западных границ Китая и у южных границ России. Одной из главных задач военного присутствия США в Афганистане было создание на территории этой страны постоянных американских военных баз. Такие базы там были созданы. США прочно обосновались в этой стране.
Но еще в большей степени логика неограниченной экспансии проявила себя в Ираке. Сразу после событий 11 сентября 2001 года президент Буш попытался «повесить» их на Саддама Хусейна. Уже 12 сентября он дал задание одному из ответственных за контртеррористические операции: «Подумайте, мог ли это сделать Саддам. Он должен быть с этим связан», а министр обороны Рамсфельд приказал военным начать разработку плана удара по Ираку: «Удар должен быть массированным. Уничтожьте их, независимо от того, причастны они или нет».
Доказать связи Саддама Хусейна с террористическими организациями администрации Буша так и не удалось, хотя шума в «свободных» американских СМИ по этому поводу было немало. Главная причина проста: таких связей не было. Саддам Хусейн ненавидел Аль-Каиду как организацию, способную бросить ему вызов на его территории. При Хусейне террористов в Ираке не было: они появились позже, когда США разрушили эту страну.
Если исходить из чисто рациональных соображений, то одного рационального объяснения вторжению американцев и их союзников в Ирак в 2003 году фактически нет. Саддам Хусейн не представлял для США никакой военной угрозы. У него не было оружия массового поражения, и в США это знали. Вся система доказательств его наличия была основана на лжи, то есть на «высказываниях» так называемой «Группы Б», созданной в аппарате администрации Буша. Эта группа отсеивала разведывательную информацию по Ираку, отбрасывая все, что противоречило задаче — найти обоснования для начала войны, доказать вопреки фактам наличие у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Возглавлял группу замминистра обороны Пол Вулфовиц, известный американский неоконсерватор. Эта группы клала на стол Бушу, по сути, подложные, «фейковые» данные, отлично зная, что именно этого и ждали президент Буш — младший и вице-президент Чейни. Это была откровенная подгонка фактов или псевдофактов под запрос, и именно она легла в основу политики администрации Буша, была подхвачена СМИ и сыграла ключевую роль в принятии решения о вторжении в Ирак.
Позже, когда эту тактику разоблачили, разразился большой скандал. Но американская система отличается тем, что, как правило, информационные атаки, включающие непроверенную или заведомо ложную информацию, активно используются для подготовки страны к принятию решений, нужных правящей элите. А когда спустя годы поставщиков фейковых новостей разоблачат, это уже не имеет особого значения — очередное преступное решение уже было принято, дело сделано. Так было в случае с началом военных действий во Вьетнаме, с обвинениями в адрес Милошевича и т. д. Эта практика составляет важную часть американской «демократии».
Иракская нефть также не была, по моему убеждению, главной причиной войны. Безусловно, и сам Буш-младший, и Чейни, и помощница Буша-младшего по национальной безопасности К. Райс, и ряд других фигур в администрации Буша хотели бы наложить лапу на иракскую нефть. «Ближний Восток, обладающий двумя третями мировых запасов нефти и возможностями добычи с минимально возможными затратами, по-прежнему является самым желанным призом», — заявлял Дик Чейни. Но нефтяной фактор был частью лишь общего фона американской агрессии — в том смысле, что США в принципе лучше иметь дело со странами, обладающими крупными запасами, в качестве политических союзников, а не противников, которым, конечно же, был Саддам Хусейн. Но просто присвоить себе иракскую нефть, отняв ее у иракского государства после свержения Хусейна, США никак не могли. Развитие событий полностью подтвердило это.
Новое правительство Ирака установило жесткий контроль над нефтяными доходами, деньги от экспорта нефти поступают в бюджет страны, а по закону, как и прежде, нефть принадлежит государству. Более того: новое иракское правительство провело прозрачные тендеры на добычу нефти иностранными компаниями. В результате право на добычу получили лишь 2 компании из США — «Оксидентал» и «Эксон», а также 2 российские, 2 китайские, 3 британские, 3 малазийские компании и по одной из ряда других стран. И затевать ради этого войну было совершенно бессмысленно. Для США важно, чтобы крупная нефтяная страна на Ближнем Востоке была лояльна к их интересам, но прямой и безусловной выгоды от доступа к иракской нефти, которая могла бы оправдать длительную, кровопролитную и дорогостоящую войну, обошедшуюся США более чем в 1,7 трлн долларов, США от иракской нефти не получили и получить не могли.
Перед началом войны в США ссылались также на то, что Ирак представлял угрозу для Израиля. Этот фактор называют одной из причин войны. Действительно, Саддам Хусейн выступал с воинственными заявлениями в адрес Израиля и периодически обстреливал его территорию ракетами СКАД. Но все обстрелы свелись к незначительным разрушениям, обошлось без жертв. Ни разу ракета не попала в поселок или в город. Не думаю, что Саддам Хусейн ставил такую задачу. Скорее, ему важно было показать, что Багдад имеет такую возможность. Это была демонстрационная политика, не ставившая перед собой каких-либо военных задач. Конечно, это тревожило руководство Израиля и могло оказать определенное влияние на администрацию Буша, которая воспринимала защиту Израиля как одну из своих приоритетных задач. Но все же само по себе это не было достаточным для начала войны: Израилю гораздо больше угрожали ракетные обстрелы с территории Ливана, но по этой причине США не захватили Ливан.
Но все же не было того, что в США называют «smoking gun» — «дымящегося пистолета» (эффекта, когда выстрелил человек — и его поймали с дымящимся пистолетом в руках), указывающего на конкретную и масштабную угрозу со стороны Ирака. Саддам Хусейн не дал ни одного подтверждения того, что у него в руке дымящийся пистолет. Да, он угрожал Соединенным Штатам, но угрожал лишь решительным ответом на их возможную агрессию — мол, американская армия будет похоронена в Месопотамской пустыне, но это было не более чем бравадой.
Идеологическое обоснование — убеждение, будто США хотели «распространить демократию» на весь Ближний Восток и решили начать с Ирака, — не выдерживает критики. Когда администрация Буша говорила, что с падением Хусейна и демократизацией Ирака произойдет демократизация всего региона, то это был лишь способ оправдать войну. Можно допустить, что среди наиболее фанатичных идеологов «либерального интервенционизма» были также те, кто действительно верил в эту химеру: степень идеологизации американской внешней политики гораздо выше, чем принято считать. Но для ультра-циничных деятелей типа вице-президента Чейни или министра обороны Рамсфельда, как и для озабоченных гегемонией неоконсерваторов, это была не более чем пропагандистская болтовня.
Так чем же была вызвана агрессия США против Ирака, если очевидных рациональных оснований, пусть даже цинично рациональных, у нее не было?
Единственная подлинная и глубинная причина агрессии США против Ирака (помимо, разумеется, огромных прибылей военных концернов и поставщиков армии США) состояла в их геополитических интересах. Американская экспансия, как ненасытный Молох, требовала новых жертв — теперь на Ближнем и Среднем Востоке. В качестве такой жертвы был избран Ирак, с которым в начале 1990-х воевал еще отец Буша-младшего. Выбран в силу того, что Саддам Хусейн был независим от США и не вписывался в «новый американский век». Позже такая же судьба постигла ливийского лидера Муамара Каддафи, а затем США попытались — чужими руками — осуществить тот же сценарий в отношении Башара Асада в Сирии, но уже с другим результатом.
Ирак же должен был показать всему миру мощь и решительность США не остановиться ни перед чем ради установления своего миропорядка. И для начала переформатировать Средний Восток. В этом и было высшее рациональное начало агрессии США против Ирака. Фактически в глобальном плане была поставлена задача «бесперебойного обеспечения» нарастающей американской экспансии. И в этом была определенная логика, даже сверхзадача. Идеологически ее обеспечивали американские неоконсерваторы, и практически воплощала в жизнь администрация Буша. Через войну в Ираке правящая элита США сделала заявку на безоговорочную американскую гегемонию в современном мире. Быстрая военная победа, казалось, подтвердила эту заявку. Через два месяца после начала войны, 1 мая 2003 года, президент Буш на борту авианосца «Авраам Линкольн», в военной форме, которую он никогда не носил, поскольку не служил в армии США, провозгласил победу, выступая под огромным транспарантом, на котором было начертано: «Миссия выполнена».
Это позже, через 2–3 года, в США осознали: военная победа в Ираке обернулась политической катастрофой. Но тогда, в 2003-м, Америка торжествовала, отмечая, не зная того, свою пиррову победу. Тогда чувство всемогущества переполняло американскую правящую элиту. Эта элита не предполагала возвращения на мировую арену России в качестве полноценного игрока. Она была готова видеть лишь подчиненную Соединенным Штатам Россию, которая была бы в положении, скажем, Италии или Японии. При этом США не брали на себя никакую ответственность за развитие России до уровня Италии или Японии. США согласились на включение России в «Большую восьмерку», но на правах младшего партнера при соблюдении написанных ими глобальных правил игры. Вот что нам было предложено, причем без включения России в западную систему безопасности. Вопрос о приеме России в НАТО обсуждался сначала в середине, а затем в конце 1990-х, когда с этой идеей выступил Тони Блэр, но на деле это было невозможно: Россия не вписывалась в альянс, где роль безусловного лидера играют США и где нет ни одной равной им по мощи ядерной державы. А вопрос о вступлении России в ЕС даже не обсуждался. «Не при нашей жизни», — сказал мне как-то председатель Еврокомиссии Романо Проди.
Таким образом, в 1-й декаде 2000-х Россия с ее постепенно восстанавливающейся мощью (несравнимой с советской, но все же выводящей ее на одну из ведущих ролей в мировой политике), переживающая экономический бум и преодолевающая кризис национального самосознания, столкнулась с западным альянсом, находившимся на пике экспансии и триумфализма. Что могло из этого получиться? Лишь то, что давно откладывалось: неизбежное столкновение частично восстановившегося российского самосознания и американского чувства тотального превосходства. Вопрос был только в том, когда и по какому поводу этот назревший конфликт выйдет наружу.
В 2004–2005 годах этот конфликт в опосредованной форме проявился на Украине. Тогда Запад бросил все силы на поддержку Ющенко, Россия поддерживала Януковича — и Украина стала очевидным полем противоборства между Россией и Западом. Победу Ющенко, совершенно нелегитимную (третьих туров на выборах не бывает), отмечали на Западе как праздник, как демонстрацию торжества западного альянса. И все же это было опосредованное столкновение интересов, которое прошло в сглаженном виде и не привело еще к открытому кризису между Россией и Западом. Но напряженность в отношениях уже тогда заметно возросла. Параллельно началась подготовка к размещению систем ПРО США в Восточной Европе, как и подготовка во включению Украины и Грузии в НАТО. В Грузии вскоре после переворота 2003 года установился враждебный России режим во главе с Михаилом Саакашвили, который получал и прямую военную и финансовую помощь, и указания из США.
Знаменитое выступление Владимира Путина в Мюнхене в феврале 2007 года отразило его понимание неизбежности конфликта. Именно об этом он предупредил в Мюнхене «западных партнеров». Путин выступил, по сути, с пророческой речью. Он видел, как назревают негативные тенденции, он лично, на себе ощущал неготовность и нежелание Запада воспринимать Россию в качестве относительно равного партнера и его неготовность считаться с российскими внешнеполитическими интересами. Для Путина была очевидной активизация экспансии Запада на постсоветском пространстве, в непосредственной близости от российских границ, в тех странах и обществах, которые исторически и культурно были особенно близки к нам. США последовательно добивались отрыва этих обществ и стран от России, даже более того — противопоставления их России. Возросло соперничество с Россией в энергетической области. На Западе это назвали доктриной «энергетического плюрализма», которая была нацелена на снижение веса России в Европе как поставщика углеводородов.
Все эти тенденции были уже очевидны к 2005–2006 годам, и в Мюнхене Путин об этом сказал прямо. Известно, что первый вариант выступления, подготовленный для Путина его аппаратом, российского лидера не устроил. И по пути в Мюнхен он почти полностью его переписал. Словом, это была речь не формальная, а отражающая личные размышления и собственные выводы президента.
Эта речь имела в Мюнхене эффект разорвавшейся бомбы. Несомненно, западные лидеры ожидали от Путина ряда претензий, даже открытого недовольства и раздражения по ряду поводов. Но они не ожидали столь развернутой и глубокой критики всей стратегии западного альянса. Не ожидали они от Путина и развернутой доктрины противодействия «однополярному миру» со стороны России.
Никогда не забуду, как было воспринято его выступление. На Путина, стоявшего на трибуне, почти никто не смотрел. Меркель глядела в сторону. Сидевший рядом с ней генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер нервно барабанил пальцами по столу, другие нервно оглядывались. Лишь сенатор Джон Маккейн смотрел на Путина, но с таким видом, будто в этот момент прямо в зале началась новая холодная война. Остальные политики, например министр обороны США Боб Гейтс, прятали глаза, словно услышали что-то неуместное и даже неприличное.
По сути, Путин сказал: ваш «однополярный мир» порождает войны, госперевороты и разрушение целых регионов, мы — и не только мы — не можем с ним согласиться; ваши «правила глобального поведения» порочны, поскольку служат не утверждению принципов равноправия, а гегемонии США и западного альянса, навязыванию своей воли, использованию вооруженных сил в политических целях, оккупации неугодных стран, «смене режимов». То есть Путин покусился на «святое» для собравшихся в Мюнхене западных политиков. Неудивительно, что они смотрели в сторону, а затем принялись дружно осуждать Путина.
Из Мюнхена Путин отправился с визитом на Ближний Восток. И его там спросили: «Как вы относитесь к тому, что взорвали в Мюнхене политическую бомбу и вызвали сильную негативную реакцию?» Он ответил: «Знаете, я думал о такой возможной реакции, но сказал правду и об этом не жалею». В Мюнхене столкнулись также два политических стиля: русский, основанный на презумпции того, что все же и в политике есть место правде и справедливости, и англосаксонский, построенный на лицемерии и двойных стандартах, возведенных в норму. На Западе ничто из того, что заявил Путин, оспорено не было, но зато все принялись рассуждать о том, что он якобы выступил в духе холодной войны.
На Западе привыкли, что на такого рода саммитах говорят в вежливой плоскости, а проясняют отношения за закрытыми дверями. Но в течение шести-семи лет Путин и пытался прояснять отношения за закрытыми дверьми, не вынося, как говорится, сор из избы. Более того, он сделал ряд важных шагов навстречу США и странам западного альянса. Вспомним звонок Бушу после 11.09.2001, вспомним знаменитую речь в бундестаге на немецком языке. Путин делал и другие шаги, демонстрируя, что Россия готова учитывать интересы США — при том понимании, что интересы России (кстати, не столь глобальные, а более узкие) также будут учитываться. Однако в итоге выяснилось, что ни публичные обращения с демонстрацией доброй воли, ни попытки договариваться за закрытыми дверями не меняют сути политики США и западного альянса. Она, если отбросить детали, остается прежней: экспансия и навязывание своей воли. И тогда, насколько можно понять, Путин решил «взорвать» ситуацию, выложить карты на стол. Карты, которые принято показывать партнерам из-под полы в политических кулуарах, были открыты на всеобщее обозрение. И этот непривычный для западных политиков ход их фрустрировал, хотя ничего скандального или неизвестного западным лидерам сказано не было.
Эта «взрывная» манера изложения взглядов и убеждений и сделала Мюнхенскую речь Путина столь резонансной. Кроме того, он, по сути, выдвинул геополитическую доктрину, альтернативную западной, заявив, что с господством США и «однополюсным» миром Россия не согласится.
Именно с того момента началась демонизация Путина в западных СМИ. Ее элементы появились и раньше, особенно в связи с делом Ходорковского, но последовательная и широкая схема демонизации президента России стала выстраиваться после Мюнхенской речи.
Эта речь была воспринята западными лидерами не в качестве основы для переговоров, а как объект критики и несогласия. Соответственно, стороны пошли не по пути преодоления противоречий, а их обострения. Отношения между Россией и США стали ухудшаться. В США начался новый раунд антироссийской истерии, которому всячески помогала администрация Буша-младшего. Особенно старалась Кондолиза Райс. В те годы Соединенные Штаты продолжали вооружать Грузию и готовить ее включение в НАТО. То же самое делалось по отношению к Украине.
В этой обстановке — и во многом из-за нее — и произошла краткосрочная, но закономерная война между Россией и Грузией в августе 2008 года, которая стала предвозвестником будущих, еще более острых конфликтов между Россией и Западом. Этому предшествовала коллизия на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, куда был приглашен и Владимир Путин. Тогда уходящая администрация Буша подготовила проект быстрого включения Украины в состав НАТО в виде поэтапного плана подготовки к полноценному членству Украины в альянсе. Виктор Ющенко, прозападный президент Украины, приехал на тот саммит с полным убеждением, что этот план будет принят и осуществлен.
Администрация Буша добилась бы своего, если бы этому не воспротивились руководители Франции и Германии — Меркель и Саркози. Они хорошо понимали: включение Украины и Грузии в НАТО превратит НАТО в «прифронтовой альянс», сделает его заложником отношений между этими двумя странами с неустойчивой безответственной элитой и Россией. И если на границе с Прибалтикой, которая к тому моменту уже была включена в альянс, ничего драматического не происходило, то включение Украины и Грузии в альянс сулило большие неприятности. И Меркель, и Саркози отдавали себе отчет, чем чревато членство этих стран для НАТО. Они не хотели воевать ради Украины и Грузии с Россией, стать частью российско-грузинского и российско-украинского конфликтов, если таковые возникнут.
Между тем конфликт Грузии с Россией становился все более вероятным. Абхазия и Южная Осетия уже более 15 лет существовали как де-факто независимые территории при российской поддержке и не хотели возвращаться в Грузию. Угроза новой войны с Грузией давно нависла над этими территориями. Принимать в свои ряды страну, которая могла вовлечь альянс в военный конфликт с Россией, европейские лидеры не предполагали. В итоге лидеры Франции и ФРГ остановили администрацию Буша на саммите в Бухаресте. Это было сделано не из симпатий к России, а из прагматических соображений: нежелания увеличивать степень своей уязвимости и жертвовать важными отношениями с Москвой ради призрачных выгод от включения Украины и Грузии в члены НАТО. Это был важный момент, который показал: у логики у экспансии есть определенные прагматические ограничения. Но он также показал, что в западном альянсе есть силы, которые не желают признавать такие ограничения и нацелены на острый конфликт с Россией, новую холодную войну. Эти силы убеждены, что экспансии надо добиваться при любых обстоятельствах и любой ценой, вплоть до возможного военного конфликта с Россией.
Расклад, который обнаружился на саммите НАТО в Бухаресте, сохранился до сих пор, несмотря на то что киевский режим барабанит кулаками в двери альянса. Конечно, на Западе немало тех, кто готов на достаточно авантюристичные действия с целью расширения зоны влияния НАТО, и прежде всего — на поставки оружия Украине. Но при этом остаются политики, которые считают, что у этого процесса должны быть пределы. В той же Франции большинство ответственных политиков до сих пор считают, что Украину ни в коем случае нельзя принимать ни в ЕС, ни в НАТО, потому что она, во-первых, не готова, во-вторых, сверхкоррумпирована, а в-третьих, такой шаг создаст серьезные проблемы в отношениях с Россией. В Париже мне не раз говорили: это оборонительный альянс, но не союз, который должен защищать Украину от конфликта с Россией, возможно, спровоцированного самим Киевом.
В 2004–2008 годах атмосфера в отношениях России и Запада соответствовала переходной фазе к предконфронтационному состоянию, которое наступило в 2012–2013 годах. Уже прозвучала Мюнхенская речь Путина, уже были заложены основы новой внешнеполитической доктрины России, но, поскольку прямого столкновения на тот момент еще не было, сохранялась линия и на взаимодействие с Россией. Российско-грузинская война августа 2008 года и последовавшее за ней признание Москвой Абхазии и Южной Осетии привели к всплеску истерики, но не долгосрочному. Призыв вице-президента США Дика Чейни (получившего кличку «Дарт Вайдер» за мрачный и агрессивный характер) «изолировать Россию», прозвучавший на крупной международной конференции в Италии, на озере Комо, был встречен молчанием и жидкими хлопками. «Нам надо сохранить отношения партнеров с Россией», — сказал мне тогда канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. Кто-то отстаивал политику партнерства, прежде всего, ради экономического взаимодействия с Россией: Германия, Франция, Испания, Италия, Греция. Кто-то — ради политических контактов. К тому же в Германии подеялись, что экономическая модернизация позволит изменить и политическую систему в России. Из «демократизации через модернизацию» долгое время исходила германский канцлер Ангела Меркель.
На саммитах Россия — ЕС обсуждали такие вопросы, как взаимный отказ от виз. Результатом этих переговоров стали многолетние визы, которые теперь получают граждане России.
Россия и ЕС также обсуждали пути углубления «стратегического партнерства», в основе которого находилось большое и тесное экономическое взаимодействие. Взаимная торговля бурно росла: товарооборот достиг 245 млрд евро в 2010 году, а в рекордном 2013-м превысил 410 млрд евро. ЕС стал нашим главным торговым партнером, главным рынком сбыта нефти и газа.
Помимо соображений выгоды, ЕС имел и политические расчеты. Там исходили из перспективы новой «либерализации» российской политической системы, что открывало путь к подчинению России не через силовое давление, а через «шелковый кокон» экономических отношений. Были во Франции, Германии, Италии и те политики, которые выступали за тесное партнерство, исходя из убеждения, что Россия — естественное продолжение Европы. Жак Ширак в этом отношении был последователем Де Голля. Он считал, что Россия приумножает силу Европы, а отношения с Москвой делают Европу менее зависимой от США. Этот подход, хотя и в меньшей степени, разделял и Николя Саркози. Они оба считали, что идея де Голля «Европа от Атлантики до Урала» соответствует интересам Франции, это партнерство с Россией увеличивает вес Франции. Хорошими были отношения и с итальянским премьером Сильвио Берлускони.
На высоких политических уровнях в силу целого ряда соображений поддерживалась прежняя позитивная динамика. Но она не могла выдержать столкновения двух фундаментальных начал западной экспансии и возрождения России как страны, изменившейся, но унаследовавшей от Советского Союза роль державы — победительницы во Второй мировой войне место в Совбезе ООН и статус ведущей ядерной державы. Столкновение было неизбежным. Оно произошло, когда США фактически подтолкнули Михаила Саакашвили к агрессии против Южной Осетии.
8. Война в Грузии и кризис американской модели мироустройства
Мюнхенская речь обозначила наступление качественно нового этапа в наших отношениях с Западом. Прежде всего, это относится к США, которые раньше других западных стран начали проводить жесткий курс по отношению к России. Связано это было с большим грузом накопившихся разногласий между администрацией Буша и Кремлем.
Как уже отмечалось, Россия негативно отнеслась ко второй волне расширения НАТО, резко негативно — к выходу США из договора по ПРО и восприняла как прямую атаку на ее интересы поддержку антироссийских тенденций и политических сил в Молдавии, на Украине и в Грузии.
Кроме того, Россия не поддержала войну в Ираке, выступив со всей определенностью против этой военной авантюры. Вместе с Жаком Шираком и Герхардом Шредером была создана так называемая тройка в составе лидеров трех государств — России, ФРГ и Франции — для консультаций по этому вопросу. «Тройка» возникла именно на базе общего для этих трех стран несогласия с оккупацией Ирака, что вызвало большое раздражение у США. Там возникло ощущение, что Россия вторгается в сферу их влияния, устанавливает неформальные отношения, причем оппозиционные по отношению к американской линии, с другими государствами западного альянса.
К этому добавилась фрустрация администрации Буша в связи с неспособностью привести в НАТО Украину и Грузию. На Бухарестском саммите в апреле 2008-го попытка США утвердить план так называемого поэтапного вступления в НАТО для Украины и Грузии был заблокирован руководителями Франции и Германии, которые оправданно увидели в этом угрозу будущего прямого столкновения с Россией. Несмотря на все усилия госсекретаря Кондолизы Райс, ярой сторонницы этой идеи, США не удалось провести эту политическую операцию.
В итоге к лету 2008 года Россия и США подошли к состоянию, которое одни называли холодным миром, а другие — «предбанником» новой холодной войны. И именно это время Михаил Саакашвили выбрал для того, чтобы ударить по Цхинвалу. В надежде на поддержку Соединенных Штатов, Саакашвили решил силовым путем присоединить Южную Осетию, фактически отделившуюся в 1992 году, к Грузии. Для таких надежд у него были основания.
Атмосфера к тому времени была совсем иной даже по сравнению с 2005 годом, когда, несмотря на все разногласия, Буш-младший приехал в Москву на празднование 60-летия Победы и сидел рядом с Путиным на трибуне на Красной площади. Ткань двусторонних отношений еще существовала, еще не была порвана, как впоследствии. Путин и Буш встречались, были на «ты», у них были неплохие личные отношения, Путин относился к Бушу даже лучше, чем СМИ и рядовые граждане — причем и в России, и в США, где тот начиная с 2005 года начал терять популярность.
На одной из встреч Путин в сочинской резиденции Бочаров Ручей с главными редакторами и ведущими обозревателями российских СМИ объяснил свое отношение к американскому президенту. Как он выразился, Буша не считают большим мыслителем, но у него есть одна отличительная особенность — если с ним о чем-то договоришься, то он старается держать слово.
Увы, опыт отношений России и США в 2000–2008 годах, когда Буш-младший был у власти, показал, что даже личные хорошие отношения двух лидеров не могут спасти разрушающиеся межгосударственные отношения. Когда сумма противоречий достигает определенной критической массы, личные отношения могут это только немножко смягчить, но не способны спасти ситуацию.
В начале августа 2008-го Саакашвили, оценив ситуацию в отношениях между США и Россией как критическую, решил пойти ва-банк и вернуть Южную Осетию военным путем. Это была агрессия. Саакашвили настаивал, что это не агрессия, а возвращение собственных территорий. Но эта республика оставалась частью Грузии только формально, а фактически с 1992 года жила сама по себе. Более того: уже была система международных договоренностей, которые фиксировали необходимость урегулировать эту проблему мирным путем. В нарушение этих договоренностей Саакашвили отдал приказ о наступлении и ракетном обстреле Цхинвала. Это был обстрел столицы республики из системы залпового огня «Град» и ствольной артиллерии. В результате обстрела и захвата части Цхинвала грузинскими войсками погибли не менее 350 граждан Южной Осетии, а также 10 российских миротворцев. Таким образом, безусловно, это был акт войны и против Российской Федерации, поскольку имело место нападение и на наш миротворческий контингент, находившийся в Южной Осетии.
Для агрессии Саакашвили выбрал ночь на 8 августа, когда весь мир следил за открытием Олимпийских игр в Пекине. Там же находился в те дни и Владимир Путин, занимавший пост премьер-министра. Саакашвили отважился на такой шаг, придя к выводу, что в создавшихся условиях Соединенные Штаты его поддержат, возможно, даже окажут военную поддержку или помешают России предпринять ответные шаги. Вероятно, он не исключал, что Россия на такие шаги не решится. Ведь уровень военно-политических связей с США и их союзниками был таков, что Грузия была фактически неофициальным членом НАТО, без пяти минут кандидатом в члены альянса. Ее армия формировалась и тренировалась под присмотром американских и натовских специалистов, грузинские разведслужбы тесно работали с американскими, которые стали их кураторами. И, наверное, Саакашвили на правах лидера страны — неофициального члена НАТО полагал, что США не позволят Москве дать адекватный ответ на его действия, что эта авантюра сойдет ему с рук.
Уже после войны в СМИ разгорелась дискуссия о том, получил ли Саакашвили не официальное, но, скажем так, рабочее согласие Вашингтона на эту агрессию. Известно, что незадолго до этих событий в Тбилиси приезжала Кондолиза Райс. И, безусловно, внешняя политика Грузии, ее отношения с Россией и самопровозглашенными республиками должны были в ходе визита Райс обсуждаться за закрытыми дверями. Возможно, тогда она и намекнула Саакашвили, что США были бы не против такой операции.
Как бы то ни было, никаких прямых свидетельств того, что США дали добро на эту операцию, за истекшие годы не появилось. Если добро и дали, то все сигналы были тщательно скрыты. Скорее всего, Саакашвили дали понять, что США не возражают против военной операции, но без жестких обязательств со стороны Вашингтона. То есть США были готовы никак не реагировать на агрессию и в случае ее успеха заявить: это было возвращение грузинских территорий, на которые Тбилиси имел право. В случае же осложнений и провала операции США оставались в стороне и могли возложить ответственность на Саакашвили.
Как точно выразился американский журналист, позже ставший главным редактором журнала «Тайм», Майкл Элиот, «язык тела» (body language) администрации Буша подтолкнул Саакашвили к принятию этого решения. Иными, словами, по версии Элиота, не было прямого согласования этой военной акции, но грузинский президент знал, что в случае начала войны со стороны Грузии США закроют на нее глаза. По этой версии, Вашингтон дал ему понять, что не возражает против такого развития событий.
Как известно, между моментом, когда грузинская армия начала бомбить Цхинвал, а российская группировка вошла на территорию Южной Осетии, прошло 8–9 часов. Связано это с тем, что нужно было время на реагирование. Но не исключено, что и с другим обстоятельством. Владимир Путин в качестве премьер-министра находился в те дни в Пекине, где стартовала Олимпиада. Там же находился и президент Буш. Они пересекались во время церемонии открытия Игр — по версии американских журналистов, Буш уговаривал Путина прекратить вторжение. Однако есть и другая версия, которая в то время ходила в дипломатических кругах. Согласно этой версии, Путин первым обратился к Бушу со словами о том, что Саакашвили начал войну. Это было еще до ответа со стороны России. Путин сообщил это в расчете на то, что Буш отреагирует, США все же были неформальными кураторами Грузии. Буш же якобы ответил: «Начал войну? Но никому не нужна война!» Однако ничего не предпринял. Хотя понятно, что один звонок Михаилу Саакашвили — даже не от президента США, а от помощника по национальной безопасности — вынудил бы Саакашвили прекратить обстрел.
Но реакции со стороны США не последовало, что подтверждает предположения относительно негласного согласия администрации Буша на агрессию. Вместо того чтобы остановить Саакашвили, США начали обсуждать свои действия на случай жесткого ответа России. Как позже стало известно, в Белом доме обсуждалась возможность бомбардировки Рокского туннеля, через который проходили российские войска, чтобы попасть на территорию Южной Осетии. Но в итоге от такой идеи отказались: бомбардировка туннеля слишком сильно приблизила бы США к прямому военному конфликту с Россией.
Позже, в вышедшей в 2010 году книге «Маленькая война, которая потрясла мир: Грузия, Россия и будущее Запада», американский политолог Рональд Асмус (один из авторов доктрины продвижения НАТО на Восток, а также помощник госсекретаря в администрации Клинтона) подробно описал реакцию в Вашингтоне.
Некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома, по словам Асмуса, «настаивали на рассмотрении вариантов ограниченных военных действий — таких как бомбардировка с целью блокировки Рокского туннеля», по которому двигались российские войска и через который осуществлялось их снабжение. Сторонники таких действий призывали и к другим точечным бомбовым ударам с целью не допустить разгрома грузинских военных сил российскими войсками. Наиболее активным сторонником такого сценария был вице-президент Чейни, в то время как помощник президента по национальной безопасности Стиве Хэдли был против таких ударов, предлагая «хорошо подумать о последствиях любых возможных военных действий». В итоге на совещании в Белом доме 11 августа 2008 года Буш не поддержал идею вмешательства США в войну в Грузии. «У собравшихся вокруг стола было ясное понимание: почти все военные шаги могли привести к конфронтации с Москвой, исход которой никто не мог предсказать и которая была не интересах США», — подвел итог Рональд Асмус.
Однако сам факт обсуждения такой возможности показывает, как далеко тогда зашло противостояние между Вашингтоном и Москвой. Российско-грузинская война стала первой зоной опосредованного столкновения между Россией и США, которое назревало со времени первой «оранжевой революции» на Украине.
Эта война стала прямым следствием резкого ухудшения российско-американских отношений. Саакашвили как клиент Соединенных Штатов посчитал, что может использовать эту ситуацию в своих интересах для короткой военной кампании по силовому возвращению Южной Осетии в состав Грузии.
Реакция Запада на грузинскую войну стала предвестием будущей его реакции на Сирию и Украину. Как говорят, одна молекула свидетельствует о состоянии всего организма; точно так же эта реакция показала, как мыслят западные политики и средства массовой информации, как общественное мнение формируется через массированную пропаганду, как его разворачивают против России. Уже тогда стали ясны механизмы использования такой ситуации для последующей организации масштабной политической атаки на Россию с участием ряда международных организаций.
В Цхинвале наряду с мирными гражданами погибли и российские миротворцы. Это давало России полное право на военный ответ. Тем не менее не Грузия, а именно Россия была обвинена Западом в нарушении международного права и договоренностей по Южной Осетии. Были приняты зубодробительные декларации со стороны НАТО. Международные организации типа ОБСЕ и ПАСЕ, как по команде, начали клеймить Россию, со схожими заявлениями выступили делегации из разных западных стран. Россию обвинили во всех смертных грехах. Фактически виновность России была продекларирована сразу, априори, без предъявления и обсуждения каких-либо доказательств. Все элементы кампании по демонизации России уже тогда были налицо. И можно было предвидеть, что произойдет в будущем в случае возникновения подобных ситуаций.
Если кто-то в России полагал, что будут попытки объективно оценить ситуацию, хотя бы исходя из того, что атака со всей очевидностью началась со стороны Грузии, ничего подобного не произошло. Правда замалчивалась, европейские и американские СМИ создавали информационный фон, крайне негативный для нашей страны. Единственное, чего не было тогда, по сравнению с 2014 годом, так это почти полного единства западной политической элиты. Если в США, Великобритании, Прибалтике и раздавались голоса в пользу новой холодной войны с Россией, то значительная часть Европы не хотела идти по этому пути.
Тогда же прозвучали первые призывы к изоляции России. С таким заявлением выступил, в частности, вице-президент США Дик Чейни, побывавший в начале сентября 2008 года в Италии и посетивший крупный политико-экономический форум под Миланом, в Черноббио. Выступление Чейни было исключительно жестким. В том же духе впоследствии, в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией и начала войны на Украине, выступали представители администрации Обамы.
Однако призыв Чейни к изоляции России вызвал в элитарной аудитории, собравшейся на озере Комо, лишь жидкие аплодисменты. Тогда сама идея изоляции, которая ближе к концу президентства Обамы была поддержана практически всеми европейскими лидерами, еще не получила признания в западном альянсе. В Европе многие знали о том, что на самом деле произошло в Грузии, знали, что была агрессия со стороны Тбилиси, хотя публично этого никто не признавал. Никто не встал на сторону России и даже не позволил себе выказать сомнение в декларативной и бездоказательной версии об агрессии со стороны Москвы, однако и решимости ополчиться против России тогда не было.
США тогда не удалось бы добиться, если бы они даже поставили такой вопрос, решения о выводе России из G8. На Западе были достаточно сильны круги, которые выступали за поступательное взаимодействие с Россией — и во Франции, и в Германии, и в Италии.
Именно президент Франции (она в то время председательствовала в ЕС) Николя Саркози сыграл важную посредническую роль в замораживании конфликта и стабилизации обстановки, когда помог договориться о разграничении сил на осетино-грузинской границе. Затем была проведена достаточно большая работа по нормализации на границе.
При этом Запад постоянно требовал от России вывода ее войск из Южной Осетии, а западные наблюдатели отказывались заезжать на территорию непризнанной республики со стороны России, настаивая на въезде только со стороны Грузии. Это приводило к проблемам: несколько раз юго-осетинские власти отказывались пускать наблюдателей ПАСЕ, готовивших доклад о последствиях конфликта, с грузинской территории. В итоге миссия наблюдателей проходила без наблюдения непосредственно на месте, они довольствовались информацией от жителей Грузии и официального Тбилиси, в силу чего готовили весьма односторонний анализ сложившегося положения. Из-за этого российская делегация голосовала против доклада в ПАСЕ. Мы предлагали обеспечить безопасный въезд докладчикам со стороны России, это бы все упростило. Но такой вариант всегда отвергался западными представителями.
Через год, 30 сентября 2009 года, глава комиссии ЕС по войне на Южном Кавказе швейцарка Хайди Тальявини признала: войну начала Грузия, хотя и оговорилась, отражая позицию Запада, что этому якобы во многом способствовала «вызывающая позиция России». Тем не менее было признано, что поводом для широких военных действий было нападение грузинской армии на российских миротворцев в Цхинвале.
Таким образом, было официально признано на международном уровне, что Тбилиси совершил акт агрессии. Цитирую доклад международной комиссии: «Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали… в ночь с 7 на 8 августа 2008 г., которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел». Это, однако, так и не было признано западными СМИ. До сих пор западные журналисты и политологи пишут об «агрессии» России против Грузии как о бесспорном факте. Признание вины Саакашвили было сделано сквозь зубы. Его не сделать было нельзя. Но оно не получило широкого политического и информационного сопровождения. Общественное сознание на Западе застыло на том представлении, будто Россия атаковала Грузию. И только люди, хорошо разбиравшиеся в ситуации, знали о том, что произошло на самом деле, и знали об этом заявлении Тальявини. Российская сторона предприняла усилия для того, чтобы его максимально растиражировать, но, естественно, это было ограничено территорией РФ и тех стран, где есть наше информационное присутствие, то есть ряда республик бывшего СССР.
Таким образом, кризис был разрешен, снят с повестки дня, по крайней мере, в острой форме, но в общественном сознании и политических структурах на Западе утвердилась точка зрения о «виновности России». При этом никто не берет на себя труд эту позицию обосновывать — она уже воспринимается как факт. Что же касается заявлений комиссии во главе с Тальявини, то они просто остаются за пределами изложения истории конфликта. Идет замалчивание всей информации, противоречащей концепции «агрессивной России», осуществляющей империалистическое вторжение на территорию соседних стран. Именно тогда начала выстраиваться такая концепция. И те, кто ее выстраивал, подхватывали все обвинения в адрес Москвы — и в поддержке Приднестровья, и Южной Осетии, и Абхазии, которые звучали еще в 1990-е годы, — обвинения в скрытом или открытом империализме.
Отсюда черпали энергию и «доводы» русофобы и истерики типа Эдварда Лукаса из британского журнала «Экономист», французского публициста Бернара Анри-Леви, немецкого обывателя Джозефа Иоффе, и американские неоконсерваторы типа Пола Волфовица или Роберта Кагана, мужа Виктории Нуланд (долгое время была помощницей госсекретаря США по России). Вся эта публика при активном участии антироссийской элиты Польши и Прибалтики воспользовалась ситуацией, чтобы создать России максимально негативный имидж.
Но в то же самое время начался период критического переосмысления роли самих США в мировых делах. Это было связано с тем, что США долгое время не могли нанести поражение движению Талибан и другим исламистским силам в Афганистане, а также провалились в Ираке. США, как говорили, «выиграли войну, но проиграли мир», и, как выразился один из американских сенаторов, создали в Ираке рай для террористов. Это был очень серьезный удар по американскому политическому самосознанию, да и восприятию США во всем мире. Не столь серьезный, как поражение в войне во Вьетнаме, но весьма серьезный, особенно на фоне того ощущения полного внешнеполитического триумфа, с которым США вступили в нулевые годы. Финальным аккордом десятилетия «американского триумфа», которое началось с 1989–1991 годов, стала война против Югославии в 1999-м, которую США и их союзники провели абсолютно безнаказанно, без санкции СБ ООН и в нарушение международного плана. Четыре года спустя в Ираке началась совсем другая история.
В конце президентства Буша возник серьезный контраст между сохранявшимися настроениями триумфализма и политической реальностью. США использовали теракт 11 сентября 2001 года, чтобы начать массированное наступление на Ближнем и Среднем Востоке. Формально это был ответ США на исламистскую террористическую угрозу через демократизацию Ближнего и Среднего Востока. Но на деле вышло все наоборот. «Аль-Каида» из маргинальной организации, действовавшей в начале 2000-х на территории двух-трех государств, уже к концу пребывания Буша у власти действовала на территории 10–15 государств — от Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока до Индонезии. А идея демократизации оказалась фейком, запущенным администрацией Буша и неоконами для прикрытия подлинных, весьма неприглядных целей своей политики на «большом Ближнем Востоке».
Речь шла на самом деле об усилении геополитического присутствия США в этом регионе. По сути, США решили колонизировать в военном и политическом отношении Ближний и Средний Восток. Именно для этого нужна была оккупация Ирака. И когда выяснилось, что вся военная мощь США не способна наладить относительно нормальную жизнь в оккупированной стране с 20-миллионным населением, а породила лишь хаос, которому не было конца, когда обнаружилась неспособность США справиться с талибами в Афганистане, тогда в США началось переосмысление роли и способностей Америки. Это совпало с появлением связанным с мировым кризисом 2008–2009 годов бурным ростом экономики и веса Китая и другими новыми факторами.
В первой декаде нулевых на страницах западной, прежде всего американской, прессы заговорили о том, рушатся ли США как «держава номер один». Политическое поражение в Ираке было воспринято как нечто ставящее под сомнение так называемое глобальное лидерство США.
Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся с Уолл-стрит, сильно повлиял на восприятие Соединенных Штатов в мире и на самовосприятие американцев. К политическому поражению в Ираке и полному тупику в Афганистане добавился финансовый крах самой Америки.
Ведь экономический кризис начался именно в США, на Уолл-стрит, с банкротства инвестиционного банка «Леман Бразерс», который входил в категорию «too big to fail», считался слишком крупным, чтобы обрушиться. Он входил в число системных банков, финансовых организаций и страховых компаний, которые, как предполагалось, были несущими конструкциями всей экономики США. Считалось, что нельзя допустить их краха, ибо тогда разрушится вся система.
В результате кризиса погибли несколько ведущих банков США, на грани краха оказались крупнейшие ипотечные компании Freddie Mac и Fannie Mae, где крутились триллионы долларов. Кризис сильно ударил по европейским странам, его волны докатились даже до таких островков финансовой стабильности, как Дубай.
На Давосском форуме 2009 года, где присутствовал Путин в качестве премьер-министра, находился и премьер Китая. Они выступили в унисон. Оба указали на то, что высокомерная самоуверенность Запада в абсолютной правильности, непогрешимости и неуязвимости западной экономической модели не выдержала проверку практикой. Как иронично сказал китайский представитель, «наши учителя немножко поторопились». Поспешили, объявив либеральную экономику неким посткапиталистическим феноменом, который не подвержен серьезным финансовым потрясениям. Безкризисная неолиберальная модель оказалась мифом.
Эти события усилили школу пораженцев в США. К геополитическим факторам добавился важный системный. Возник вопрос: способна ли вообще американская экономика оставаться на лидирующих позициях? Не произойдет ли так, что она уже завтра уступит место Китаю, Индии, другим новым экономикам? По всему миру возникли сомнения и в устойчивости доллара.
В США все чаще стали вспоминать знаменитый труд гарвардского профессова Пола Кеннеди «Взлет и падение великих держав», вышедший в 1976 году. Кеннеди вывел закономерность: все империи гибли по одной причине — они брали на себя слишком много обязательств, их национальная экономическая база не справлялась с чрезмерным количеством обременений. Этот феномен наблюдался еще в Римской империи, он же привел к падению Испанской, Французской и Британской империй. Ученый назвал этот феномен over-extension — «чрезмерное расширение», которое порождает перенапряжение сил в результате чрезмерных обязательств, прежде всего военных и финансовых.
Крах ждал бы, скорее всего, и США, с их колоссальным госдолгом, если бы американцы не создали такую систему, благодаря которой эта страна является всемирным финансовым паразитом. США живут за счет всего мира, печатая доллары, общий объем которых давно не соответствует тому объему товаров и услуг, которые производит американская экономика. Если бы США не создали систему всеобщей зависимости от доллара, то, конечно, давно бы рухнули. Но они ее создали. И теперь США сами — «too big to fail», то есть слишком велики, чтобы рухнуть, поскольку на них замкнута вся глобальная финансовая система, они могут себе позволить такой долг.
Поскольку никто в банкротстве США не заинтересован, они держатся за счет круговой поруки. За счет того, что Китай, Япония, России и многие другие страны держат свои резервы в американских ценных бумагах. Главные кредиторы Америки не заинтересованы в ее разрушении.
Все это позволяет США выжить. Но одно дело выжить, а другое дело — быть неоспоримым лидером, осуществить ту заявку, которую США сделали после распада СССР, когда Буш-старший объявил, что наступил «новый мировой порядок» во главе с Америкой, где будут править США вместе со своими ближайшими союзниками, по сути, младшими партнерами.
С этой заявкой на тотальное лидерство США не справились не только в конкретных странах: Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, но и на уровне собственной экономической модели, которую они представляют. Кризис показал, что эта модель весьма уязвима. Крупные экономисты, нобелевские лауреаты — такие как профессор Джозеф Стиглиц из Гарварда, Пол Кругман и другие — стали говорить о том, что острые кризисы заложены в современной неолиберальной модели, которая делает ставку не на движение товаров и услуг, а прежде всего на движение денег.
Политический провал в Ираке и финансовый кризис 2008–2009 годов стали отправной точкой для перехода США в новое состояние. Если до войны в Ираке США воспринимались как безусловный лидер «однополярного мира», то через пять лет после начала оккупации Ирака Америка из неоспоримой глобальной державы стала превращаться в страну с оспариваемым лидерством. Оно оспаривается на целом ряде направлений. На геополитическом направлении — с Россией и Китаем, особенно когда речь заходит о Дальнем Востоке, но также Ираном и даже КНДР, которая бросила открытый вызов США, создав собственное ядерное оружие.
Оспаривается на финансово-экономическом направлении всеми теми, кто пострадал от этого кризиса и осознал, что у неолиберальной модели есть серьезные изъяны и ограничения.
Оспаривается и на уровне общественного мнения. Доверие к США резко упало. Печально знаменитая пробирка Колина Пауэлла (липовое доказательство оружия массового поражения у Ирака) была не просто неудачным для США эпизодом в истории ООН. Она сохранилась в глобальной политической мифологии как хрестоматийная американская ложь, одна из отправных точек в оценке внешней политики США.
В США, правда, настаивают: это был невольный обман, неправильное чтение разведывательных данных или прямая ошибка разведки. Но в России и многих других странах уверены, что это был сознательный обман. И конечно, таковым он и был. Позже в мемуарах это признал не кто иной, как сам Пауэлл.
В силу всех этих факторов период с 2003 по 2009 год — от оккупации Ирака до финансового кризиса — стал началом заката однополярного мира и абсолютного американского лидерства. Конечно, это будет длительный процесс. У США сохраняется огромный запас прочности. Он позволил им выйти из этого кризиса с минимальными потерями. И все же США не сумели восстановить образа неоспоримого лидера «однополярного мира». Это ощущение пронизывало всю американскую предвыборную кампанию 2016 года и стало важнейшей причиной поражения Хиллари Клинтон и победы Дональда Трампа, который пообещал исправить ситуацию, сделав Америку вновь великой (Greatagain).
Очень сильно возросло самосознание и экономическая мощь Китая. Кризис, от которого Китай пострадал меньше прочих, дал Пекину моральное основание заявить, что он тоже вправе определять правила мировой торговли, да и мировой политики. Ослабив США и страны западного альянса, кризис вбросил Китай на первые позиции. И уже через 5 лет, в 2014 году, по данным МВФ и Мирового банка, Китай обошел США по такому важному показателю, как ВВП (валовый внутренний продукт) по паритету покупательной способности, то есть объему произведенных в стране товаров и услуг в пересчете на покупательную способность населения. И с тех пор Китай по этому показателю на первом месте, США от него по-прежнему отстают.
Проявившаяся слабость США усилила и российское национальное самосознание, хотя и Россия пострадала от кризиса. Это было заметно в речи Путина на Давосском форуме, не издевательской, но не без иронии, где он прошелся по западным финансовым институтам. Западной аудиторией этот тон был воспринят как вполне заслуженный, возмущения не было.
Эти сдвиги придали уверенности и новым центрам силы — таким как Индия, Бразилия, Южная Африка, Мексика, Индонезия — странам, которые находятся «на подхвате» и готовятся войти в ряды ведущих держав мира. Их сдерживает в основном низкий уровень жизни большой части населения. Но по объективным экономическим параметрам эти страны уже находятся на подходе к ключевым ролям. Достаточно сказать, что, по подсчетам экономистов, к 2020 году совокупный ВВП стран БРИКС обойдет совокупный ВВП США и Евросоюза, достигнув 32,5 триллиона долларов против 32 триллионов.
Еще в 2005 году произошло важное событие, которое тогда мало кто заметил, но которое, на мой взгляд, стало предвестником революции против однополярного мира революции в пользу многополярности. Это событие заложило экономическую основу многополярности: в 2005 году так называемые развивающиеся экономики, и Россия в их числе, создали больше товаров и услуг, чем классические развитые экономики. То есть глобальный альянс США, Канады, Австралии, Японии и ЕС стал уступать остальному миру по объему производственных товаров и услуг.
За столь крупными мировыми экономическими изменениями неизбежно происходит перераспределение политических ролей. Не сразу, но неизбежно. После кризиса мир вступил в новую эпоху — эпоху начала конца «однополярности». Это не означает немедленного краха доллара и обрушения США, как поспешно предсказывали некоторые. У Америки сохраняются огромные ресурсы, это экономически мобильная, хорошо вооруженная, информационно сильная технологическая держава с разветвленной системой влияния на внешний мир и распространения своей культуры (чем не могут похвастаться такие крупные державы, как Китай, Индия, Россия).
И все же совпадение объективных параметров и субъективных привело к тому, что в 2008–2009 годах мы вступили в качественно новый этап. Этап относительного, медленного, но неуклонного снижения глобальной роли США. Начались и сдвиги в миропорядке, что стало очевидным во время конфликта в Сирии и после госпереворота 2014 года на Украине. В обоих случаях носителем этих сдвигов стала Россия. Поэтому на Западе ее посчитали главным «нарушителем спокойствия». Всегда, когда рушится старая глобальная система, кто-то выходит на первый план как нарушитель спокойствия. Как правило, это та страна, которая в наибольшей степени страдала от экспансии ослабевшего затем гегемона. Если Россия 1990-х годов не могла ничего противопоставить расширению Запада, то Россия 2014 года уже могла противопоставить поддержанному Западом перевороту на Украине операцию по воссоединению с Крымом, основанную на ясно выраженной воле населения полуострова. Это был не только политический и военный ответ. Действия России имели стратегический характер: ведь контроль над Крымом и обладание Севастополем — это контроль над всей северной частью Черного моря.
Но еще раньше, уже к 2007–2008 годам, стало ясно, что внешнеполитические доктрины России и Запада не просто различны — они несовместимы. Как минимум экспансионистские устремления США на постсоветском пространстве стали несовместимы с интересами укрепившейся России, которая твердо решила остановить эту экспансию. В этом смысле российско-грузинская война была рубежной.
9. Попытка «перезагрузки» и переход к «прохладной войне»
Если посмотреть на историю советско-американских и российско-американских отношений, то можно увидеть чередование кратких периодов относительно умеренной американской политики по отношению к России и определенного взаимодействия между двумя державами (то, что получило название «разрядки») и гораздо более продолжительных периодов жесткого внешнеполитического курса со стороны США и обострения отношений, то есть холодной войны. Об этом говорит вся послевоенная история. При этом инициатива таких обострений, как правило, исходила от США, которых не устраивала политика СССР, а затем и России, а также их конкретные шаги на мировой арене.
1945–1946 годы — период, когда еще действовала логика антигитлеровской коалиции, когда в США при президенте Рузвельте и даже при Трумэне сохранялась инерциальная сила прежних отношений. Она проявлялась и в совместном обсуждении будущего Германии и многих других вопросов, и в довольно сдержанном отношении американской прессы к сталинскому Советскому Союзу.
После Фултоновской речи Черчилля от 5 марта 1946 года, где прозвучали знаменитые слова о «железном занавесе», разделившем Европу, начался переход к первому этапу холодной войны. В 1941–1947 годах происходила смена послевоенных правительств стран Восточной Европы на социалистические, ориентированные на СССР. Запад это категорически не устраивало. Началась холодная война, которая длилась до конца 1950-х годов.
Первая разрядка случилась после визита Никиты Хрущева в США в сентябре 1959 года. Период потепления длился полтора-два года и завершился мощнейшим обострением. Его пик пришелся на октябрь 1962 года: Карибский кризис, противостояние вокруг Кубы, которое едва не завершилось ядерной войной. Но до этого, в 1961-м, был еще и почти столь же острый Берлинский кризис, когда Европа оказалась на грани войны.
Затем был период ослабления напряженности, но снова очень короткий. Он был отмечен встречей Хрущева с Кеннеди в Вене и подписанием договора 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трех средах: на суше, в воздухе и воде (разрешались только подземные испытания). Затем, после убийства Кеннеди в ноябре 1963 года и прихода к власти Л. Джонсона, — новое обострение до конца 1960-х годов, прежде всего из-за войны США во Вьетнаме.
Война складывается неудачно для США. Уже в конце 1960-х становится ясно, что американцы терпят поражение и Вьетнам им не удержать. В начале 1970-х годов вновь президентом Никсоном предпринимается попытка улучшения отношений между США и Советским Союзом. Никсон едет в Москву, стороны подписывают договор по ПРО (1972 г.) и ОСВ-1. Начинается знаменитая «разрядка». Она длится до первой половины президентства Картера, то есть до конца 1970-х годов, когда Советский Союз принимает решение ввести войска в Афганистан в декабре 1979 года.
Происходит резкое обострение, США бойкотируют Олимпиаду-80 в Москве, в США к власти приходит Рейган, который объявляет так называемую программу звездных войн. СССР бойкотирует ОИ-1984 г. в Лос-Анжелесе, начинается острейший кризис вокруг ядерных ракет средней дальности в Европе. В мире все чаще говорят об угрозе ядерной войны и перспективе «ядерной зимы». Все это заканчивается так называемым нулевым вариантом: стороны договариваются не размещать ракеты средней дальности ни в Западной, ни Восточной Европе. Это открывает путь к новой разрядке Горбачев — Рейган.
Впрочем, у этой разрядки есть существенное отличие от предыдущих. Если до этого периоды разрядки были основаны на балансе интересов и определенном равновесии сил, то с ослаблением СССР при Горбачеве и его распадом при Ельцине разрядка приобретает принципиально иной характер: отныне в ее основе лежит геополитическое и стратегическое отступление СССР, России, которая подстраивается под американскую систему внешнеполитических координат за счет собственных национальных интересов.
Чисто внешне это выглядело как попытка нового руководства России в лице Ельцина через сдачу геополитических позиций сделать заявку на вступление в западный альянс. Теоретическая возможность присоединения России к главной структуре объединенного Запада — НАТО обсуждалась вплоть до 2000 года. На это была идея без будущего. В 1990-е годы выяснилось, что отказ от коммунистической идеологии, социалистического блока и военного противостояния с США вовсе не означает, что у России принципиально изменилась система национальных интересов: даже в советский период она лишь частично формировалась под воздействием идеологии и в основном определялась геополитическим положением страны. А это положение диктовало и диктует важнейший постулат: ни СССР, ни Россия были совершенно не заинтересованы в приближении к ее границам военного альянса, в который она не входит и входить не будет. Более того: во все времена Москва рассматривала это как угрозу безопасности страны. Со времен Ришелье, сформулировавшего понятие национального интереса, было очевидно, что экспансия любого альянса, если туда входят соседние страны, но не входит ваша страна, противоречит интересам вашей страны. Между тем Запад именно тем и занимался, что усиливал эту угрозу, неуклонно расширяя НАТО — военно-политический альянс, который с каждым расширением все больше приближался к нашим границам.
Однако как Советский Союз был заинтересован в дружественном, безопасном окружении в виде стран так называемого социалистического содружества, а к югу от своих границ — стран, которые не представляли угрозы (как тот же Афганистан, пока он был стабильным королевством), так и современная посткоммунистическая Россия заинтересована в доброжелательном окружении. Это диктуется не только потребностями безопасности, но и экономики. Ведь Россия остается достаточно крупным экономическим центром: с 2005 года она входит в десятку ведущих стран мира по ВВП. В лучшие годы Россия занимала 5–6 места в мировой табели о рангах с объемом ВВП в 2,5 триллиона долларов. Страна с таким экономическим потенциалом нуждается в хороших соседях — ведь это дает возможность расширять рынки сбыта, выстраивать новые интеграционные структуры. И это, конечно, отвечает нашим национальным интересам.
В интересах России оказывать влияние на ход ключевых мировых событий в нужном ей направлении и в соответствии со своими собственными представлениями, не оставляя это поле полностью другим игрокам — США, Германии, Франции, Англии. Здесь возникает соперничество доктрин, подходов, пониманий, каким должен быть современный мир. Для России очень важно, чтобы Ближний Восток не превращался в зону постоянного хаоса. Хаос генерирует террористическую активность и внешнюю экспансию радикальных фундаменталистских течений. А она, как показали события в Чечне и соседних с ней республиках, крайне опасна и для Северного Кавказа, и для Средней Азии — нашего «мягкого подбрюшья», где относительно светские постсоветские режимы могут оказаться — и уже оказывались — под давлением радикальных сил, использовавших Афганистан как базу для дальнейшей экспансии.
В силу этих факторов у России есть совокупность интересов, которые не совпадают с американскими или прямо противоречат им. 1990-е годы показали, что, пытаясь приспособиться к США, подстроиться под них, Россия фактически отказывалась от своих интересов. Найти примирение между национальными интересами России и США оказалось чрезвычайно сложно.
Даже в тех областях, где наши интересы объективно сходятся, наблюдаются серьезные противоречия. Например, в сфере нераспространения ядерного оружия. И Россия, и США в этом заинтересованы. Ни мы, ни США не заинтересованы в превращении Ирана в ядерную державу, поскольку это открывает дверь для гонки ядерных вооружений на Ближнем и Среднем Востоке. В этом случае с высокой долей вероятности Саудовская Аравия пойдет по этому же пути, возможно, Турция и Египет. То есть как минимум четыре государства Ближнего Востока, не считая Израиля, могут пойти по пути создания ядерного оружия. А если учесть, что им уже обладает еще одно мусульманское государство — Пакистан, которое уже находится в противостоянии с ядерной Индией, то мы получим огромный пояс ядерных держав, находящихся в зоне повышенной политической нестабильности. США рассматривают Иран как своего противника со времен иранской революции 1979 года и захвата американского посольства в Тегеране. К Ирану крайне враждебно относятся и ближайшие союзники США на Ближнем Востоке, прежде всего Саудовская Аравия и Израиль. Для России же Иран — дружественное государство, никогда не создававшее угроз для нашей безопасности в Чечне и сотрудничающее с нами в Сирии. Оттого и подходы к иранской ядерной и ракетной программе разные. Более того: в США немало сторонников войны против Ирана, к этому же подталкивает США правительство Израиля. Для нас же идея военных действий против Ирана неприемлема.
Это же относится и к отношению к ядерной программе Северной Кореи. И здесь острота восприятия проблемы различна. Ядерная программа Северной Кореи не направлена против России, она направлена потенциально против Южной Кореи, Японии как ближайшего союзника США и, прежде всего, против самих Соединенных Штатов как главной угрозы для безопасности КНДР. Пхеньян никогда не ставил своей задачей «дотянуться» до Москвы, не угрожал Советскому Союзу или России в военном отношении. Мы сейчас — не близкие друзья, но КНДР и США — открытые враги. Администрация Трампа не раз угрожала применить силу оружия против КНДР.
В еще одной важной области пересечения интересов необходимости борьбы с терроризмом — расхождения еще более крупные. Как принцип ее необходимость признают обе стороны. Но на практике все иначе. В конце 1990-х — начале 2000-х годов, когда Россия столкнулась с терроризмом и экстремизмом в Чечне, США и их ближайшие союзники в явной или скрытой форме политически поддерживали сепаратистов, США принимали эмиссаров Аслана Масхадова. Великобритания давала убежище боевикам, которые участвовали в военных действиях против России и которых мы с полным основанием считаем террористами. Наиболее известен Ахмед Закаев, который получил политическое убежище в Великобритании. Известно также, что очень многие лидеры террористов нашли пристанище в различных государствах Ближнего и Среднего Востока Турции, Катаре, Иордании.
Теоретически все государства согласны с тем, что необходимо бороться с терроризмом. Но конкретное отношение к террористическим организациям — разное. Это стало особенно очевидным в ходе Сирийского конфликта. Тогда как Россия рассматривает ряд организаций, которые действуют против правительства Асада как террористические, Запад отказывается их признавать таковыми. Более того, США прямо или косвенно поддерживали и ИГИЛ, и Джабхат ан-Нусру в Сирии, хотя и признают обе эти организации террористическими, а ан-Нусра вообще является отпрыском Аль-Каиды — официального заклятого врага США.
Не менее важно и другое обстоятельство — значительный сдвиг в национальном самосознании России, который произошел в конце 1990-х годов. Период крайней слабости страны и острого кризиса самовосприятия (того, что я бы назвал острым комплексом национальной неполноценности) пришелся на девять лет ельцинского правления. В 2000-е годы он сменился периодом относительного восстановления силы и восприятия России как великой державы со своей суммой интересов. Этот процесс был не просто реакцией на действия Запада. Да, страна только начала выходить из фазы экономического и демографического упадка, но к 2006–2007 годам все же на уровне общественного сознания произошел важный сдвиг: мы стали воспринимать себя как государство, которое имеет собственную основу существования, а не должно гнаться за так называемыми западными демократиями, пытаясь копировать и отрицая собственные исторические корни и политическую культуру. И уж тем более не должно делегировать свой суверенитет западным странам и от них получать согласие на внутри- и внешнеполитические действия.
В этом очень важную роль сыграла победа во второй чеченской войне. В отличие от поражения в первой, когда Ельциным были подписаны Хасавюртовские соглашения, эта победа показала, что Россию можно сохранить, что при правильной политике дезинтеграция СССР не распространится на Россию. Она показала также, что у Центра есть сила и политическая воля противостоять распаду страны. Это, конечно, сыграло большую роль в изменении самосознания.
Одновременно те политические силы, которые ассоциировались с отступлением России на мировой арене, потеряли политическое влияние (даже при том, что их представители частично остались во власти, заняв некоторые важные позиции, как А. Чубайс). Но адепты зависимости от Запада перестали существовать как движение, которое имеет моральное право возглавить страну. Символом их упадка стали 3,9 процента голосов, отданные за СПС в 2003 году. Их политическая линия рухнула. Попытка Михаила Прохорова позже ее возродить дала ограниченный результат. В 2012-м на выборах президента Прохоров получил более 20 процентов голосов москвичей, то есть в наиболее прозападном, наиболее космополитическом городе, где проживает наивысшая в стране доля людей с высоким уровнем доходов. Но по России в целом Прохоров получил всего 8 процентов голосов. Это показало, что в стране есть определенные слои, которые тяготеют к либеральной модели и прозападной политике. Однако эти слои имеют ограниченное влияние, их потолок не выше 10 процентов. А президентские выборы 2018 года нанесли еще более сильный удар по прозападным либералам: два их кандидата — Явлинский и Собчак — на двоих получили чуть больше 2,5 процента голосов.
Те политические силы, которые возглавили страну в 2000-е годы, хотя часть из них вышла из ельцинской системы власти, исходили уже из иных ориентиров. Они ставили перед собой задачу отстроить самостоятельную, независимую, суверенную, но не изолированную от внешнего мира Россию. Эта новая установка отражала не только настроения бо́льшей части населения, но и политические инстинкты российской национальной элиты, которые были временно подавлены после распада СССР, но сохранились в политической психологии российского общества.
На Западе, правда, называют это «комплексами» былого величия страны. Однако можно говорить о комплексах, когда страна делает заявку на бо́льшую роль, чем та, которая соответствует ее потенциалу. В случае с Россией термин «комплексы» не подходит: потенциал у России таков, что она правомерно делает заявку на роль одного из ведущих государств мира. Другое дело, что слабости и несовершенство нашей экономической политики, ее противоречивость, неспособность в полной мере использовать этот потенциал подрывает внешнеполитические возможности России. Можно признать, что работа с этим потенциалом на ряде направлений весьма неадекватная. Однако во всем мире, называя ведущие, наиболее весомые державы, в их число включают, прежде всего, США, Китай и Россию, но не Францию или Великобританию.
Поэтому речь в случае с Россией идет не о комплексах, а о присущих нашему общественному сознанию политических инстинктах, то есть о том, что нам достается генетически. Несмотря на весьма драматические периоды нашей истории, когда поляки дважды занимали Кремль, когда Наполеон взял Москву, когда мы потерпели поражение в Крымской, а позже в русско-японской войнах, когда мы откатились до Москвы и Сталинграда под напором гитлеровских войск, наш национальный политический инстинкт состоит в стремлении к независимости и к положению одной из ведущих держав мира. Так сложилось исторически, и роспуск СССР не отменил этой глубинной установки русского национального самосознания.
Этот политический инстинкт иногда проявлялся даже у Бориса Ельцина. На одной из встреч с экспертами по внешней политике, в которой мне довелось принять участие (нас пригласили в Кремль для обсуждения его речи на юбилейной Генеральной Ассамблее ООН), Ельцин сказал: «Надо выступить так, чтобы все поняли: Россия уже не та», что она стала весомее, чем в 1991–1993 годах. Ельцин не ставил задачу выступить как представитель обычной средней страны. Нет, он пытался подчеркнуть особое место России. И это настроение было характерно для основного массива нашей политической элиты, кроме весьма узкой прозападной либеральной части, которая упорно сравнивала Россию с Португалией по ВВП на душу населения, хотя абсурдность такого сравнения очевидна: разумеется, уровень жизни важен, но не только им определяется вес державы в современном мире.
В этой ситуации политика «перезагрузки» отношений между Россией и США могла дать лишь ограниченные результаты. И вряд ли могла быть долговечной. Причиной согласия США на «перезагрузку» стала смена администраций в Белом доме и стремление использовать иную стратегию в отношении России. К приходу в Белый дом Барака Обамы стало ясно: конфликтная линия поведения США по отношению к России, к которой скатилась администрация Буша, не дала результатов. Напротив, Москва все меньше поддавалась на давление Вашингтона. А война в Грузии показала, что Россия может — в случае необходимости — использовать военную силу за рубежом и что Соединенные Штаты, если только это не затрагивает их непосредственно, не станут рисковать и ставить ситуацию на грань войны между ядерными державами ради маргинальных для них, но важных для России интересов.
Как уже не раз было, разрядка в форме «перезагрузки» последовала за периодом обострения отношений, кульминацией которого стала война между Россией и Грузией. Администрация сменившего Буша Барака Обамы решила отказаться от дрейфа к холодной войне. Тем более что это соответствовало изначальным установкам Обамы, который пришел в Белый дом как «анти-Буш», как президент-миротворец. Обама был одним из немногих американских сенаторов, который голосовал против войны в Ираке. Он обещал быстрое решение палестино-израильского конфликта, выступал за примирение США с мусульманским миром после «крестового похода» Буша. В июне 2009 года Обама обратился к мусульманскому миру — произнес свою знаменитую речь в Каирском университете. В ней Обама протянул руку дружбы исламскому миру, что дало повод произраильскому лобби в США обвинить его в проарабских настроениях. В СМИ США появились карикатуры Обамы в белых одеждах в виде мусульманина, вспомнили его второе имя Хуссейн (Барак Хуссейн Обама сын белой американки и мусульманина из Кении).
Миротворческая риторика, характерная для начала первого срока Обамы, была распространена и на Россию. Его администрация, в отличие от администрации Буша, хотела использовать по отношению к России другой набор инструментов влияния.
Были и другие соображения. За полгода до выборов 2008 года в США в России к власти пришел молодой президент Дмитрий Медведев. Именно с ним намеревался наладить «особые отношения» Барак Обама. При этом расчет был сделан на то, чтобы противопоставить Медведева Путину и подтолкнуть Москву к более покладистой или даже проамериканской внешней политике.
Россия, со своей стороны, исходила из того, что в ходе «перезагрузки» удастся выйти на некое общее согласие между Россией и США относительно баланса их интересов. Россия не претендует на роль СССР, но в Евразии, прежде всего на постсоветском пространстве, у нее есть законные интересы, которые Соединенные Штаты должны уважать. Такова была наша логика.
Был и другой аспект. Москве казалось полезным получить больший доступ к американским инвестициям и технологиям, привлекать американский бизнес в крупные проекты. Появилась даже идея, что американский бизнес сможет сыграть роль мотора, «тягача» для модернизации российской экономики. В свою очередь, для американского бизнеса российский рынок считался весьма привлекательным. И был перспективным, так как показал большую динамику роста в 2005–2007 годах.
Однако для американской администрации «перезагрузка» означала, прежде всего, мягкий способ подчинения России. Об этом весьма ясно сказал вице-президент Байден в интервью газете «Уолл-стрит джорнэл» в июле 2009 года. Байден сформулировал подход Вашингтона так: «перезагрузка» — это лишь средство для оказания нужного США воздействия на Россию. А через несколько лет Россия, ослабленная внутренними противоречиями, будет вынуждена «встать на колени» перед США. Интервью было так и озаглавлено: «Ослабленная Россия подчинится Соединенным Штатам». Так Байден объяснил линию Обамы влиятельному русофобскому лобби, которое упрекало новую администрацию в неоправданном сближении с Москвой.
Таким образом, цели американской внешней политики по отношению к России не изменились, но изменилась форма, инструментарий их осуществления. После периода противостояния новая администрация США решила сыграть в более мягкую игру.
Одной из важных составляющих этой игры была поддержка оппозиционного движения в самой России. Когда Барак Обама впервые приехал в Москву в июле 2009 года, через полгода после прихода к власти, одним из первых его мероприятий стала встреча с оппозицией. Причем его интересовали не КПРФ и ЛДПР, хотя и Зюганов, и Жириновский были приглашены на встречу. Главный интерес состоял в контактах с несистемной оппозицией. Для демократической администрации линия на открытую поддержку антисистемных сил в России была весьма важна. И в Вашингтоне не раз подчеркивали, что от этого не откажутся ни при каких обстоятельствах. Отсюда и более поздние заявления Хиллари Клинтон в декабре 2011 года по поводу демонстраций на Болотной площади, воспринятые в Москве как форма поддержки несистемной оппозиции.
Как уже отмечалось, «перезагрузка» была связана также со сменой президента в России. Приход в Кремль Медведева был воспринят в Вашингтоне как появление нового «окна возможностей».
Противопоставление Медведева Путину имело целью проверить, не будет ли новый президент проводить принципиально иную линию, чем Владимир Путин, — даже не столько в области внутренней, сколько в области внешней политики. Не произойдут ли какие-то изменения, которые позволят Соединенным Штатам нарастить свое влияние и использовать те рычаги, которые у них есть (обещание наладить экономическое сотрудничество, поощрение американских инвестиций в российскую экономику, создание условий для экспорта американских технологий), чтобы убедить Москву пойти на своеобразный размен. А именно меньшая активность России во внешней политике и большее согласие с Соединенными Штатами в обмен на коммерческое участие США в экономической модернизации России.
Полагаю, США исходили из того, что часть российской элиты позитивно воспринимала такой сценарий, считая, что экономическое и технологическое сотрудничество с США даст необходимый толчок развитию российской экономики, ее модернизации и выходу на новый качественный уровень.
Уязвимое место этой схемы с точки зрения наших национальных интересов состояло в том, что Россия, согласно американскому видению «перезагрузки», должна была не просто консультироваться и взаимодействовать с США по крупным международным вопросам. Она, по сути, должна была вернуться к пресловутой доктрине добровольной зависимости от США и гарантированного согласия с их основными внешнеполитическими действиями. Администрация Барака Обамы совершенно не собиралась делать уступки России. Напротив, она исходила из того, что именно Россия должна будет идти на уступки Соединенным Штатам. Об этом прямо говорил Байден, из этого исходила и госсекретарь Хиллари Клинтон. Клинтон выступила за бомбежку Югославии в 1999 году, по ливийскому и иракскому и другим вопросам занимала ястребиную позицию. При таком госсекретаре речь не могла идти о каком-либо сознательном отказе США от политики гегемонии и о возможности восприятия России как равного партнера, с которым США были бы готовы искать компромиссы.
Напротив, России предлагалось отказаться от своего понимания национальных интересов, как бы «купив» ее согласие на стратегические уступки. Ради этого США поддержали вступление России в ВТО, администрация Обамы поставила вопрос об отмене дискриминационной по отношению к Москве поправки Джексона — Вэника, которая с 1970-х годов служила барьером для экономических отношений между двумя странами.
Вашингтон был готов сыграть в «перезагрузку» с одной целью: убедить Москву сдвинуться с того курса, который Владимир Путин провозгласил в Мюнхене. Тогда Владимир Путин объявил однополярный мир «неприемлемым», отверг дальнейшее приближение НАТО к нашим границам и не согласился с тем, что у США и западного альянса есть право на вмешательство в дела других стран и «право на интервенцию». В Мюнхене устами Путина Россия заявила: необходимо создавать новый мировой порядок, где не будет доминировать один центр силы, а будут в большей степени учитываться интересы других игроков.
Но правящая элита США была убеждена в обратном: США должны продолжать строить однополярный мир. Отличие новой администрации от прежней состояло лишь в том, что предлагалось строить его с большим привлечением других государств. Идея Обамы была в том, что надо не заставить, а убедить другие страны поддерживать США. Цель политики оставалась прежней, но проводить ее теперь намеревались в бархатных перчатках.
То есть разница между Обамой и Бушем была в основном стилистической. Буш говорил о «крестовом походе» во имя демократии, Обама — о мире и сотрудничестве. Но речь шла в основном о смене тех средств, которые США хотели использовать для достижения своих неизменных целей.
Главным символическим моментом «перезагрузки» стала встреча Хиллари Клинтон с Сергеем Лавровым весной 2009 года в Москве. Тогда госсекретарь презентовала Лаврову огромную красную кнопку на желтой панели, на которой по ошибке было написано «перегрузка», что стало предметом долгих насмешек в СМИ. Клинтон с Лавровым, весело смеясь, нажимали на эту кнопку. Вроде бы наступала новая эпоха в отношениях.
Однако получалось, что это была пророческая ошибка, как говорится, «оговорка по Фрейду, совершенная Госдепартаментом США». В итоге произошла именно «перегрузка», хотя и не сразу. И она была неизбежной.
Дело в том, что политика «перезагрузки» со стороны США носила поверхностный характер. Идти на серьезный пересмотр своих подходов при новой риторике и разговорах о сотрудничестве США не намеревались. Русофобское начало в американском истеблишменте оставалось весьма сильным. Обаму даже обвиняли в том, что «предает национальные интересы» в угоду отношениям с Кремлем (шли те же самые разговоры, которые немного активнее зазвучали позже — с избранием Дональда Трампа). Так противники Барака Обамы использовали «перезагрузку» для атаки на его внутриполитические позиции и одновременно пытались сорвать наметившееся российско-американское, пусть символическое, сближение и взаимодействие.
В силу всего этого сам Обама не выглядел как большой и искренний энтузиаст «перезагрузки». Я увидел Обаму в июле 2009 года на приеме в Кремле, когда он приехал со своим первым и, как оказалось, последним визитом в Москву. У меня сложилось ощущение, что Обама был разочарован. И не столько переговорами и личным общением с Медведевым, сколько общим фоном, реакцией аудитории. В Москве Обаму не встретили как рок-звезду, которой он уже успел стать на Западе.
Помню, за месяц до его приезда в Москву известный эксперт по России профессор Колумбийского университета Роберт Легволд сказал мне: «Вот увидите — это не просто президент. Это рок-звезда». И действительно: когда Обама приезжал в другие страны, его приезд сопровождался массовой медийной и общественной истерией. На его выступления на открытом воздухе собирались огромные толпы — в Берлине «на Обаму» пришли 200 тысяч человек. Во всех столицах мира его приезд воспринимался как событие мирового масштаба. В 2009–2010 годах приезд Обамы был даже «круче», чем гастроли «Роллинг Стоунз». Его встречали как поп-звезду, и такая роль ему очень нравилась. Он ждал обожания и получал желаемый эффект. Как-то Обаму спросили: «Как вам удается говорить вещи, которые нравятся такому большому числу разных людей?» И он ответил: «Это у меня дар от Господа». Обама, видимо, верил, что его «дар» и образ вызовут восторг и обожание и в России.
Но ничего из этого в Москве не случилось — и случиться не могло. Россия с трудом поддается западным приступам массовой истерии, быть может, в силу присущего нам критического сознания и меньшей зависимости национальных СМИ от глобальных маний. Ни наши СМИ, ни наше общество не восприняли приезд Обамы как приезд мессии, который привезет нам божественное откровение.
Кроме того, в России Обаму с самого начала справедливо подозревали в двойной игре. Нам было ясно, что Обаму выдвигают на пост президента все те же скрытые могущественные силы, но как антитезу Бушу, как «анти-Буша». Ведь Буш провалился в качестве президента США, прежде всего, из-за своей внешней политики. Он стал одним из самых непопулярных президентов США за всю историю страны. И образ США сильно пострадал — и от агрессии в Ираке, и от той лжи, которая предваряла эту агрессию. Поэтому в качестве нового президента Соединенным Штатам нужен был человек, про которого сказали бы: да, это точно не Буш. Обама на эту роль вполне подходил.
Однако, хотя говорил он прямо противоположное тому, что произносил Буш, он не был «анти-Бушем», что выяснилось очень быстро. Точнее, был «фейком» — поддельным анти-Бушем, но не более того.
В 2008 году в США была проведена пиар-операция по смене имиджа американского президента при сохранении прежней направленности глобальной американской политики. США должны были предложить миру вместо президента-крестоносца, который готов был отправлять в далекие страны войска с целью их покорения, лидера нового типа, президента-миротворца, президента земного шара. Лидера, который понимает все народы мира и сам, будучи афроамериканцем, сыном белой и африканца, символизирует слияние и смешение всех рас. Если хотите, Обама был задуман как «президент нового Вавилона»: он и гуманен, и либерален, и открыт для всего мира. Он был задуман как президент, который сблизит расы, народы, этносы, географические пояса. Именно с такой легендой Обама пришел в Белый дом.
И Нобелевская премия мира, которую он получил всего девять месяцев спустя, должна была поддержать этот образ, придать ему убедительность. Но в реальности очень многие восприняли эту Нобелевскую премию в штыки — от главы исламистов на Ближнем Востоке до Леха Валенсы, который воскликнул: «А за что?! Он же еще ничего не успел сделать».
Но премию Обаме дали не за то, что он сделал, а за образ, за риторику, за слова, а не за дела. Это позже признал председатель Нобелевского комитета норвежец Турбьерн Ягланд. В одном из интервью он сказал, что он и его коллеги хотели поддержать тот посыл, который содержался в выступлениях и политической программе Обамы. Таким образом, Нобелевская премия была ему дана авансом. Было ясно, что президент-крестоносец уже не может объединить вокруг себя мировые элиты, такой образ стал работать против интересов США. А Вашингтону нужна была максимальная глобальная поддержка. И весь расчет был на нового, красноречивого президента-миссионера.
И вот «мессия» приезжает в Москву. Но толпы его не встречают, особых восторгов нет. Перед приездом долго решают, где Обаме выступать. Наконец решено: он будет выступать в Российской школе экономики (ею руководил тогда Сергей Гуриев, впоследствии покинувший Россию). Американская сторона считала, что в такой либеральной прозападной аудитории Обама получит тот объем аплодисментов, который был ему необходим. Но выступление нового президента было встречено достаточно прохладно — и в силу высокой степени недоверия к Соединенным Штатам, накопившегося в России, и потому, что сам Обама не был убедителен. Было ощущение, что он не нашел ключа к российской аудитории. Его тексты звучали банально, слезу не вышибали. Москва слезам не верит.
Оглядываясь назад, мы видим, что наше недоверие — в отличие от европейского энтузиазма — было оправданным: Обама так и не выполнил большую часть своих обещаний. Его резонансное выступление в Каире в июне 2009 года, где он обещал быстро примирить Палестину и Израиль, не имело никаких последствий. Оно лишь вызвало раздражение в Израиле и напрасно обнадежило арабский мир, который в итоге еще больше разочаровался в возможностях США повлиять на ближневосточный конфликт.
Обама — это человек слов, не человек дела. И в Москве это понимали. Поэтому и встретили Обаму очень сдержанно, как человека, который был провозглашен мировой суперзвездой, еще ничего не успев сделать.
На приеме в Кремле новый американский лидер меня совсем не впечатлил. Там был очень активен, оживленно перемещаясь между гостями, будущий посол Майкл Макфол, курировавший в Совете по национальной безопасности отношения с Россией. Он считал себя архитектором «перезагрузки» и был полон надежд. Но сам Обама не производил впечатления такого же оптимиста: мы увидели высокого, сутулого, усталого афроамериканца, у которого ни в словах, ни в жестах не было никакого энтузиазма. Было ощущение, что он очень устал после перелета в Москву, либо Москва не давала ему той эмоциональной подпитки, которая помогла бы ему поддерживать свой политический шарм, эффектно выступать, влиять на аудиторию. Обама был формален, сдержан и неинтересен.
Мне тогда подумалось, что Обама на самом деле воспринимал Россию как еще одну территорию, которую хотел подчинить своему пресловутому «дару», который ему якобы дал Господь, дару всем нравиться. Однако «территория» не поддалась шарму Обамы.
И с этого момента Россия для него потеряла интерес. Потом мне не раз приходилось слышать, что Обама, мол, Россию не понимает, не интересуется ею и только раздражается, когда она мешает ему проводить его инициативы. Думаю, началось это, как только понял, что Россия не поддается его пресловутому личному шарму.
Среди достижений этого периода стоит назвать договор СНВ-3. В нем были соблюдены принципы равной безопасности и взаимных интересов сторон. И кстати, с тех пор он не подвергался серьезной критике ни в России, ни в Соединенных Штатах. Также произошло некоторое увеличение взаимного товарооборота, хотя он не достиг существенных величин — не превысил 30 млрд долларов, что несравнимо с товарооборотом России с ЕС, который достиг в то время 400 млрд долларов.
За исключением договора СНВ-3 «перезагрузка» не дала результатов, на которые некоторые рассчитывали. Россия не получила той степени участия американского бизнеса в ее экономике, на которую надеялись в Москве. А в Вашингтоне не получили той степени поддержки со стороны Москвы своих внешнеполитических шагов, на которые делался расчет в рамках новой (а на самом деле старой, еще с горбачевских и ельцинских времен) «стратегии похлопывания российского президента по плечу». С Путиным у Обамы не заладилось с самого начала. Он предпринял попытку установить хорошие личные отношения с Медведевым, особенно когда принимал его в июне 2010 года в США.
Но и эти отношения оказались хрупкими и краткосрочными. Сразу после окончания визита в США Дмитрия Медведева, в конце июня 2010 года, США пошли на громкий скандал: заявили, что задержали десять так называемых российских шпионов, которые тихо жили в США и якобы внедрялись в американское общество для того, чтобы в перспективе выполнять разведывательные функции. Никаких конкретных обвинений американская сторона так и не выдвинула. Судя по всему, реальной разведывательной деятельностью они не занимались. Словом, если бы в администрации США ценили отношения с Россией, дело вполне можно было спустить, что называется, на тормозах. Но выбран был другой сценарий.
Не успел Дмитрий Медведев долететь до Москвы, как вдогонку он получил из США скандал международного масштаба. Это, конечно, было сделано намеренно. Позже было много обсуждений, был ли этот скандал осознанным демаршем самого Обамы или же Обаму поставили перед фактом его собственные спецслужбы и противники «перезагрузки». Я лично склоняюсь ко второй версии. Не вижу, какой был смысл для Обамы демонстрировать расположение к Медведеву (пусть даже и лицемерное), чтобы тут же вылить на него и на вроде бы потеплевшие отношения ушат ледяной воды.
Следует отметить, что по вопросу налаживания отношений с Россией Обама находился под постоянным прессингом, и со стороны Конгресса, и со стороны СМИ, и спецслужб, и части собственной администрации. В Конгрессе тогда уже началась активная кампания в пользу принятия законодательства, которое ввело бы против России санкции в связи с гибелью аудитора Сергея Магнитского (он умер в Матросской тишине в ноябре 2009-го). В этих условиях, полагаю, вспыхнувший скандал стал результатом усилий той части американской правящей элиты, которая в 2017–2018 годах стала активно атаковать Трампа за его миролюбивые заявления в адрес Москвы.
Конечно, шпионский скандал был демонстративным жестом. Это была публичная пощечина России. Эта история сильно охладила энтузиазм, который возник было в Москве по поводу новых отношений с Вашингтоном. Ведь если стороны хотят развивать отношения в позитивном ключе, всегда есть способ решать даже щекотливые вопросы в непубличном формате. Если же отношения не ценят или хотят унизить другую сторону, тогда все делается демонстративно, с громкими обвинениями и шумной кампанией в прессе.
Именно с этого инцидента начались похороны «перезагрузки». Период похорон занял около полугода. «Перезагрузка» окончательно умерла в дни войны США и НАТО против Ливии.
Для России именно война в Ливии стала фактическим концом «перезагрузки». Для администрации Обамы он наступил чуть позже — осенью 2011 года, когда стало ясно, что Путин намерен вернуться в Кремль. Зимой Хиллари Клинтон подвергла критике выборы в Госдуму и фактически выступила в поддержку «болотного движения». В Москве это было воспринято как вмешательство в дела России и прямой призыв к широкому массовому протесту, о чем впоследствии неоднократно говорил Путин.
К президентским выборам в России от «перезагрузки» уже ничего не оставалось, за исключением общих упоминаний и фразеологии.
Почему Ливия стала началом конца и одним из финальных аккордов «перезагрузки»? В марте 2001 года Россия воздержалась при голосовании в СБ ООН по Резолюции 1973 и тем самым фактически дала зеленый свет началу военных действий. Сама резолюция санкционировала лишь введение бесполетных зон над Ливией и принятие «всех необходимых мер» для защиты мирных граждан, а не ракетно-бомбовую войну. Но США и их союзники в лице Франции и Британии дали такую трактовку Резолюции 1973, которая им была необходима для начала войны против правительства Каддафи.
В этой ситуации Россия повела себя в логике «перезагрузки», то есть сделала то, чего от нее ожидали Соединенные Штаты. Российское руководство поступило так, вероятно желая сохранить тот характер отношений, который установился между нашими странами в 2009–2010 годах. Однако США и их союзники использовали Резолюцию 1973 как основу для широких военных действий с целью «смены режима» в Ливии.
Война, как всегда, началась с подлога: в частности, западные СМИ обвинили Каддафи в убийстве 6 тысяч (!) человек, в «геноциде» гражданского населения. Но массовых убийств людей в Ливии со стороны власти не было. По данным Human Rights Watch и других правозащитных организаций, в Ливии во время массовых беспорядков февраля — марта 2011 года погибло 373 человека. Каддафи же обвинили в том, что он убил несколько тысяч. Доказательства этому так и не были найдены. Телевизионные кадры рвущих на себе волосы матерей либо относились к этим тремстам погибшим, либо и вовсе были постановочными. Трупы не были обнаружены.
После того как 20 октября 2011 года в результате кровавого самосуда был убит Муаммар Каддафи, эта тема вообще исчезла из западных СМИ. Таким образом, обвинения были вброшены по той же схеме, что и доказательства наличия оружия массового поражения в Ираке (пресловутая «пробирка Пауэлла»). Что же касается гибели 373 человек, то в основном речь шла о гибели во взаимных стычках в ходе массовых беспорядков.
В США резолюция 1973 была использована как санкция на безоговорочное применение вооруженных сил против режима Каддафи. Фактически как санкция на уничтожение самого Каддафи. В НАТО тогда заявили, что «имеют право» уничтожать места дислокации войск, которые могут быть направлены против мирного населения, пункты управления и руководителей, которые могут отдать такие приказы. Это получило название «расширительного толкования Резолюции 1973». На самом деле это была попытка Запада присвоить себе право на войну против Ливии.
На мой взгляд, такое развитие событий можно было предвидеть. Было странно исходить из того, что будет применяться узкая трактовка резолюции, в чем нас заверяли так называемые западные партнеры. Разные взгляды на правильность нашей позиции в СБ ООН возникли в самом российском руководстве. Жесткие заявления по этому поводу сделал премьер Владимир Путин. Судя по всему, он довольно быстро пришел к выводу, что наша попытка сыграть в лояльность была использована США в своих интересах. Позже наши дипломаты заговорили о том, что нас обманули.
И уже в июне 2011 года, когда встал вопрос о принятии аналогичной резолюции в отношении Сирии, в Москве заявили, что наложат на нее вето. Как сказал Медведев в интервью «Файненшл Таймс»: «Что я не готов поддержать, так это резолюцию а-ля 1973 по Ливии, потому что из неплохой резолюции сделали бумажку, которой прикрывается бессмысленная военная операция».
Тогда уже назревал Сирийский кризис. В Сирии началось массовое протестное движение, которое решили поддержать и США, и их союзники в регионе, поставив задачу по ливийскому образцу сменить режим и в Сирии. Но уже в мае 2011 года Дмитрий Медведев дал понять, что Запад больше не может рассчитывать на подобную поддержку Москвы, на то, что в Сирии будет позволено повторить то, что делается в Ливии. К этому времени российская позиция уже оформилась — был достигнут консенсус: больше мы в эту игру в поддавки не играем.
Таким образом, именно ливийские события стали для нас концом «перезагрузки». Мы столкнулись с невозможностью поддерживать новые военные акции по силовому вмешательству США и их операции по «смене режимов» в других странах. Невозможно было и подыгрывать желанию Вашингтона оставлять Москве роль беспомощного наблюдателя. В этих событиях роль страны, которая не способна повлиять на ход событий, а лишь подстраивается, подлаживается, воздерживается, оказалась неприемлемой для России.
Тем временем администрация Обамы продолжала линию на поддержку антироссийской политики Грузии и превращение этой страны в неформального члена западного альянса. Та же линия проводилась по отношению к Молдавии. США готовили такие же сдвиги и на Украине.
Позже помощник госсекретаря США в администрации Обамы Виктория Нуланд заявила, что американцы вложили 5 млрд долларов в «демократизацию Украины», имея в виду весь комплекс программ, которые финансировались из США, — в сфере образования, политики, развития НКО и т. д. Таким образом, США продолжали свою активную работу по ослаблению российского влияния на постсоветском пространстве и созданию политических условий для отрыва бывших советских республик от России. Все это, конечно, не было секретом для российского руководства.
Однако в тот период политика США на Украине и в других республиках бывшего СССР были фоновым раздражителем. Главной же причиной нового обострения стали усилия США по смене режимов на Ближнем Востоке. США столкнулись с нашим неприятием действий западного альянса в Ливии и отказом дать добро, пусть даже в пассивной форме, на повторение такой же операции в Сирии, где назревал новый крупный международный кризис. На мой взгляд, новая холодная война началась именно из-за Сирии, именно там фронтально столкнулись интересы США и России. И только спустя три года возник кризис на Украине, новая холодная война началась не из-за нее. Украина лишь придала этой войне исключительно острую конфронтационную форму.
В моей памяти застыло выражение лиц Путина и Обамы на саммите G8 в Лох-Эрне (Северная Ирландия), состоявшемся в июне 2013 года. Это снимок, запечатлевший двух президентов после переговоров: Путин с каменным лицом смотрит в одну сторону, Обама, с таким же каменным лицом, — в другую. Это была фиксация полного взаимного отдаления Москвы и Вашингтона. В Лох-Эрне семь членов «Большой восьмерки» попытались надавить на Путина, чтобы изменить его позицию по Сирии. Путин отказался это сделать и возвращаться к ливийской схеме. Отказался от предложения закрыть глаза на смену режима в еще одной важной для себя стране. Запад же отказывался примириться с такой линией поведения российского лидера. Начинала набирать обороты новая холодная война.
10. Политика «сдерживания» и попытка изоляции России
К 2012 году, когда Путин вновь был избран президентом России, на Западе возникло большое разочарование отношениями с Москвой. И неудивительно: «перезагрузка», как и сближение России с ЕС, рассматривались не столько как самоцель, как способ создания более стабильных и предсказуемых отношений, а прежде всего как новые инструменты по подчинению России системе западных интересов. Конечно, напрямую эта задача не формулировалась. Но по факту Запад преследовал именно такую целью.
В США достаточно откровенно, хотя и не прямо, об этом говорил вице-президент Байден, чье высказывание мы уже приводили. В Европе же была взята линия на так называемое сближение через модернизацию. Смысл состоял в том, что европейские страны через торговлю, инвестиции, другие формы сотрудничества окажут содействие экономической модернизации России, а она должна будет пересмотреть ряд своих подходов и позиций, которые не отвечают или противоречат западным интересам.
Ставка делалась и на внутреннюю трансформацию России — в сторону более либеральную, более прозападную, более примирительную, более компромиссную. В западном альянсе рассчитывали, что в России постепенно откажутся от собственно российского восприятия мира, а ему на смену придет некая усредненная, «бесполая» евро-философия.
В 2007–2008 годах большие надежды, особенно в США, связывались с избранием президентом Дмитрия Медведева. Если Путина в США рассматривали как президента, сконцентрированного на продвижении российских национальных интересов и превращении нашей страны в одну из ведущих держав мира, то президентство Медведева рассматривали как возможность для Соединенных Штатов увести Россию с этого пути, сделать ее политику более приемлемой для Запада за счет подталкивания российского политического класса и российского общества к более либеральному и прозападному типу развития. И об этом достаточно откровенно говорили американские политические эксперты. В закамуфлированной форме обозначали эти расчеты и некоторые американские политики.
Однако через 2–3 года стало ясно, что эта стратегия не приносит видимых результатов. А когда выяснилось, что на пост руководителя Российского государства возвращается Владимир Путин, это породило на Западе большую нервозность. И вызвало острое желание поставить Путина в сложные условия и психологические, и международные, и внутриполитические. Тогда США сознательно пошли на прямое вмешательство во внутренние российские процессы: в конце 2011 года Хиллари Клинтон дала ряд жестких заявлений, содержащих критику и даже осуждение выборов в Госдуму.
Это было воспринято в Москве не просто как попытка вмешательства, но и как сигнал радикальным оппозиционным силам в России к переходу в политическое наступление. В силу этого дальнейшие события — протестные демонстрации в Москве на Болотной площади, которые произошли в январе — феврале 2012 года и имели откровенную антипутинскую и антивластную направленность, — были политически «окрашены» заявлениями американского руководства. Всем было ясно, на чей стороне Обама и Клинтон. Возникло ощущение, что американская администрация сама является частью «болотного движения». Не думаю, что администрация Обамы руководила процессом на Болотной. Но то, что она его поддерживала (и, возможно, скрытно финансировала), не вызывает сомнений.
Послом США в Москве был назначен Майкл Макфол. Его я знал еще с середины 1990 годов. Макфол несколько лет был научным сотрудником в Московском центре Карнеги, который является российским отделением Фонда Карнеги в Вашингтоне. Этот фонд тесно связан с Демократической партией, давно изучает политические процессы в России и всегда активно поддерживал либеральные силы, включая антисистемную оппозицию.
Макфол всегда очень гордился тем, что был архитектором «перезагрузки». Но в Москву он приехал со странным представлением о том, что у него есть две равноценные задачи. Одна задача — поддержание отношений и, по возможности, их улучшение с официальными российскими властями. А другая задача — развитие гражданского общества в России. Между тем, с точки зрения международной дипломатической практики, развитие гражданского общества в стране пребывания никак не входит в функцию послов. Тем более в их функцию не входит поддержка оппозиционных движений. В случае с американскими и британскими послами это не раз было причиной их высылки и громких скандалов. Посол должен прежде всего развивать отношения на межгосударственном уровне. Он может и должен иметь разнообразные общественные и политические контакты, но они не должны производить впечатление целенаправленной деятельности, направленной на усиление оппозиционных движений в том или ином государстве. Макфол пошел по противоположному пути: он свел чуть ли не всю свою деятельность к встречам с оппозицией. Они буквально дневали и ночевали у него в посольстве. Как-то, вскоре после приезда Макфола в Москву, меня пригласили на вечерний прием в его резиденцию. В то время я занимал пост главы Комитета по международным делам Госдумы. Оказавшись в Спасо-хаусе (резиденция после США в Москве) у Макфола, я был немало удивлен, что бо́льшую часть российских участников можно было отнести к представителям либеральной оппозиции.
Но еще до этого, через несколько дней после своего прибытия, Макфол влетел в крупный скандал. Тогда в американское посольство были приглашены самые радикальные оппозиционеры. Среди приглашенных были и представители системной оппозиции КПРФ, «Справедливой России», но костяк составляли радикальные оппозиционеры: Чирикова, Немцов, Пономарев и другие. Все они были собраны на встречу с первым заместителем Клинтон в Госдепартаменте, экс-послом США в Москве Уильямом Бернсом. Макфол потом оправдывался: мол, это было не его собственное мероприятие, на встречу приглашали по пожеланию Бернса. Но это — внутренняя кухня американцев. А впечатление было произведено шокирующее: не успел посол вступить в должность и вручить верительные грамоты, а уже приглашает в американское посольство тех, кто громче других кричит: «Долой Путина!»
Можно представить, что было бы, поступи так наш посол в США. Там тоже можно найти людей, очень радикально настроенных по отношению к Белому дому. И вот, приехав в Вашингтон, наш новый посол первым делом пригласил бы к себе представителей движения «Оккупай Уолл-стрит», известного борца с истеблишментом Алекса Джонса и другие радикально настроенные фигуры. Какое впечатление это произвело бы на администрацию США? У них возник бы вопрос: а для чего приехал этот человек? Он приехал нам объявить политическую войну или развивать и поддерживать с нами отношения?
Уже после этого Макфол оказался в непростом положении. Затем он сделал очередную ошибку, когда, приехав на встречу с оппозиционером Львом Пономаревым, оказался лицом к лицу с журналистами телекомпании НТВ, которые задали ему вопрос о цели встречи с Пономаревым. Макфол стал объяснять, что Пономарев его друг, старый знакомый. Но энтэвэшники не отставали и спрашивали, нет ли здесь политической подоплеки. И тогда Макфол не сдержался и в сердцах по-русски воскликнул: «Что же это за дикая страна, где журналисты так преследуют послов!» Это тут же попало в эфир, получило сильный резонанс и симпатий послу США не добавило. Позже были и другие скандалы.
В итоге Макфол потерял доступ к большинству представителей российской власти. Его крайне редко принимали в администрации президента. Его перестали принимать и в правительстве, за исключением тех фигур, которые курировали сохранявшиеся еще тогда экономические контакты с США. Макфол предпринял попытку встретиться на Охотном Ряду с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Но получил отказ.
Как глава международного комитета Госдумы, я его принял — после нескольких запросов с его стороны на такую встречу со мной.
Он меня спросил, как поступить в возникшей сложной ситуации, когда с ним почти никто из представителей власти не хотел общаться. Я ему предложил воздержаться от встреч с радикальными оппозиционерами и в течение полугода не выступать с громкими заявлениями. Он согласился. Но уже через пару месяцев, выступая перед студентами в одном из московских университетов, опять сделал заявление, которое привело в шок МИД и окончательно поставило крест на Макфоле как на после Соединенных Штатов.
В ряде интервью российским СМИ я тогда сформулировал ситуацию так: Макфола прислали в качестве посла США при Кремле, а он превратился в посла при радикальной оппозиции. Естественно, такая роль не могла обеспечить ему необходимое влияние в Москве. И через два года после назначения Обама его отозвал, заменив на профессионального дипломата Джона Тэффта.
Теффт был известен тем, что работал в тех странах, где произошли «оранжевые революции» или были очень сильны антироссийские настроения — на Украине, в Грузии и Литве. Одно это вызвало настороженную реакцию в Москве. И все же, обладая большим опытом дипломатической работы, Теффт умело вписался в свою новую роль. Ему удалось восстановить некоторые контакты, которые были утрачены при Макфоле. Теффт, несомненно, учел печальный опыт Макфола. Он исходил из необходимости взаимодействия с российской властью, а не с радикальной оппозицией. И отношение к нему было другое — более спокойное, более ровное. Это позволило ему продержаться в Москве до 2017 года — несмотря на резкое ухудшение отношений между Россией и США.
Макфол же решил, будучи послом, принять участие в российской политической борьбе, и это была его фатальная ошибка с точки зрения посольской миссии. У этой ошибки есть объяснения. На том этапе США были настолько обнадежены «болотным движением», настолько хотели сделать на него ставку, что Макфол сыграл в эту игру. Он выражал настроения, которые были в Вашингтоне, и в этом смысле был достойным представителем линии администрации Обамы.
Но движение затухло. Путин был избран президентом подавляющим большинством голосов. При этом почти 4 месяца между выборами в Госдуму (декабрь 2011 г.) и выборами президента (март 2012 г.) были отмечены конфронтацией с Соединенными Штатами по вопросу внутриполитического развития России. И это Владимир Путин расценил как попытку вмешательства Вашингтона во внутренние дела России, что с самого начала бросило тень и наложило негативный отпечаток на отношения России и администрации Обамы, который тогда вступал в свой второй срок.
Этот фактор усугубил уже состоявшееся размежевание по Ливии и ряду важных международных вопросов. Однако худшее было еще впереди: ничто так не противопоставило Россию и Запад до кризиса на Украине, как разногласия вокруг Сирии.
Начиная с 2012 года влияние сирийских событий на российско-американские отношения шло по нарастающей. США восприняли так называемую Арабскую весну как дающую возможность смены неугодных им режимов на Ближнем и Среднем Востоке. Война против Муаммара Каддафи стала не чем иным, как реакцией западного альянса именно на Арабскую весну. Ведущие страны Запада решили воспользоваться ситуацией, разогрев оппозиционные настроения в этой относительно спокойной стране, которая находилась под контролем Каддафи. И когда начался бунт на Востоке страны, в Бенгази, страны НАТО — Великобритания, Франция, США — вмешались в дела Ливии военным путем. В Сирии они пошли по иному сценарию. Там ставка была сделана на активную поддержку политической и военной оппозиции без прямого внешнего вмешательства.
Алавиты являются миноритарной группой в Сирии, но именно в силу этого всегда были удобными посредниками между мусульманами-суннитами, шиитами, христианами, друзами, курдами — теми различными религиозно-этническими образованиями, которые проживают на территории Сирии. В течение длительного времени это позволяло удерживать устойчивый этно-конфессиональный баланс в стране.
Сирия, по моим личным наблюдениям (я посетил ее в феврале 2012 года, когда встречался с Башаром Асадом, другими представителями сирийского руководства), производила впечатление продвинутой по арабским меркам страны. По крайней мере, Дамаск оставлял ощущение весьма современного, открытого города, сильно отличавшегося от традиционных городов арабского востока. Женщины одеты по-европейски, много террас, кафе, ресторанов. Сирия оставила у меня впечатление спокойной и во многом светской страны. Ее президент Башар Асад никогда не был близким другом Запада, но и врагом никогда не был. В Европе и США его воспринимали как современного политика, стремящегося к модернизации страны. Он был в хороших отношениях с Россией, но хотел и лучших отношений с Западом. Известны кадры, на которых Башар Асад со своей женой Асмой (сирийкой из Лондона, прекрасно владеющей английским и хорошо знающей европейскую культуру) дружески ужинал с Джоном Керри, в то время — председателем Комитета по иностранным делам сената США.
Тогда США воспринимали Сирию как если и не дружественное, то заслуживающее внимания государство, с которым нужно иметь дело. Конечно, Сирия находилась в состоянии войны с Израилем, но между ними уже долго не было военных действий.
Конечно, в большой стратегии США Дамаск всегда считался «клиентом» СССР, а затем России — еще со времен отца Башара Асада — Хафеза Асада. Его сын Башар сохранил хорошие связи с Россией, но и пытался разнообразить внешнеполитические контакты. В целом до Арабской весны у Запада не было политики, направленной на его свержение. Это казалось и нереальным, и ненужным.
Арабская весна, начавшаяся с событий в Тунисе, прокатилась по многим странам Ближнего Востока, в том числе по Египту, где привела к массовым выступлениям на площади Тахрир и свержению Мубарака. Вскоре началось брожение в суннитской части населения Сирии, зазвучали известные требования свободы и демократии, призывы выпустить политических заключенных, снизить роль внутренних служб безопасности. Вероятно, некоторые из этих требований и были обоснованными, но этому движению протеста не было суждено остаться внутрисирийским. После массовых протестов, которые привели к жертвам как со стороны демонстрантов, так и полицейских, началось активное вмешательство в дела Сирии со стороны главных центров суннитского влияния, прежде всего Саудовской Аравии и Катара, которые располагают огромными финансовыми ресурсами для проведения своей политики. В США начали также изучать возможность замены Асада на другую фигуру, которая заняла бы прозападную позицию и превратилась бы в политического клиента США.
Газета «Уолл-стрит джорнэл» в 2016 году опубликовала материал о том, что уже начиная с 2012 года администрация Обамы искала пути свержения Асада. Начался поиск фигуры, которая могла бы его заменить, поиск тех политических сил, которые могли бы его ослабить. Таким образом, на международном уровне в 2012 году уже был заговор против Асада.
Когда я в качестве вновь избранного председателя международного комитета Госдумы прибыл в начале 2012 года в Сирию, то каждую ночь слышал, как вокруг Дамаска рвались снаряды. Обстрелы шли в основном по ночам. Российское посольство представляло собой настоящую крепость: стены были увеличены на 3 метра, опутаны колючей проволокой, въезд был защищен специальными бетонными укреплениями. Эти меры предосторожности не были излишними: перед моим приездом посольство было обстреляно, во внутреннем дворе взорвались две мины. Вооруженная оппозиция уже тогда была весьма активной.
Россия тогда заняла абсолютно четкую позицию: мы не допустим смены режима в Сирии, не дадим повторить ливийский сценарий. Одно дело, когда это происходит в результате внутренних событий, как в Тунисе, когда был вынужден бежать из страны обвиняемый в коррупции президент и в процесс перехода власти к более демократическому правительству мало кто вмешивался. И другое дело — ситуация в Сирии, где были все признаки внешнего вмешательства, с целью использовать существующее в стране недовольство для того, чтобы противопоставить одну религиозную группу, суннитов, остальным группам — и алавитам, и христианам, и курдам.
Отказ Москвы «сдать Сирию» вызвал бешенство у Хиллари Клинтон и крайнее неудовольствие Барака Обамы, которые рассчитывали через своих союзников в этом регионе и через вооруженные организации боевиков свалить Асада и привести в Дамаск другие силы, нужные Саудовской Аравии и США.
Сирийский фактор резко ухудшил отношения между Москвой и Вашингтоном, привел к личной конфронтации между Обамой и Путиным. Эта конфронтация уже бросалась в глаза на саммите «Восьмерки» в Северной Ирландии летом 2013 года.
Договоренность о химическом разоружении Сирии, достигнутая, прежде всего, благодаря России, не изменила сути разногласий. Это была тактическая договоренность, необходимая для самого Обамы. После скандала с использованием в Сирии химического оружия (кстати, так и не было доказано, что это было делом рук правительства Асада, вполне возможно, что это была провокация спецслужб враждебных Асаду стран или вооруженной оппозиции) Обама находился под большим давлением в США: от него требовали устроить военную акцию возмездия с нанесением ударов по Дамаску. Обама был на грани начала войны, но пойти на нее не решился, так как у него не было в конгрессе большинства. Большинство у конгрессе выступило против военных действий. А из двух главных военных союзников США, с которыми Обама собирался нанести удары по Сирии, осталась только Франция. Британский парламент, памятуя уроки Ирана (откуда в Великобританию вернулась тысяча трупов солдат и офицеров) и цену военной авантюры, в которую втравил англичан Тони Блэр, проголосовал против участия британских вооруженных сил в новой войне в Сирии.
В итоге вместо военной интервенции Обама был вынужден согласиться с российским планом химического разоружения Сирии. Асад на это пошел в том числе и под нашим влиянием, потому что это позволяло ему выйти из того капкана, в который его усиленно загоняли и региональные враги, и западный альянс. Однако после этого в сирийском кризисе наступила лишь временная передышка.
Еще одним фактором, который сыграл большую политическую и психологическую роль, стало противостояние спецслужб и шпионские скандалы. В 2010 году разразился громкий скандал с арестом и последующим обменом 10 человек, объявленных американцами российскими шпионами. Вслед за этим последовал обмен ударами в виде задержаний и высылки дипломатов из обеих стран. Но все это были еще «цветочки»: летом 2013 года возникла совершенно непредсказуемая для обеих сторон ситуация.
Тогда, в июле 2013 года, в России объявился whistle blower (информатор, буквально «свистун») Эдвард Сноуден. Этот бывший сотрудник ЦРУ разочаровался в практике ЦРУ и АНБ, где он работал, и сумел скачать огромный объем информации на электронных носителях. Оказавшись в Китае, он решил обнародовать эти секретные сведения. Начался гигантский скандал. Поражал объем тех данных, которые выложил Сноуден на всеобщее обозрение. Данные свидетельствовали, что АНБ ведет тотальный шпионаж по всему миру, прослушивая в том числе руководителей зарубежных государств, включая глав самых влиятельных союзников США.
С этого началась полоса резкого ухудшения глобального имиджа Соединенных Штатов, которые всегда подавали себя как главных носителей идей демократии и свободы. А тут выяснилось, что американские спецслужбы ведут себя как спецслужбы тоталитарного государства, подслушивая и американцев, и иностранцев, и их лидеров. 550 тысяч абонентов подслушивались только во Франции, более миллиона — в ФРГ. Эти гигантские масштабы незаконного вторжения в частную жизнь показали, что мир имеет дело со злонамеренной и преступной сверхдержавой, которая провозглашает одни принципы, но в политической практике следует совершенно другим.
Речь, по сути, идет об установлении глобального контроля под предлогом борьбы с терроризмом. Когда выяснилось, что одним из основных объектов, которые интересовали АНБ, была Франкфуртская биржа, то возник закономерный вопрос: какое отношение эта биржа имеет к международному терроризму? А вывод напрашивался сам собой: США, являясь ближайшим союзником Германии, ставят перед собой задачу постоянного контроля над ней, сбора всей важной информации, прежде всего экономической, чтобы Германия не превратилась в сильного конкурента США, чтобы держать ее «под каблуком». А для чего еще прослушивать Ангелу Меркель? Вряд ли она связана с террористами на Ближнем Востоке и дает им указания, как действовать.
Одним словом, Большой брат — Big Brother — для всего мира. Этот образ из романа Оруэлла вернулся в широкий обиход именно благодаря Сноудену. Выяснилось, что в лице АНБ и США мир получил того самого выдуманного Большого брата. Из мира антиутопии, фантазии он пришел в реальную жизнь.
Самое непредсказуемое и неожиданное в этой истории было то, что Сноуден в итоге оказался в России. Можно предположить, что Китай не хотел оставлять его на своей территории, чтобы не вступать в острый конфликт с США. Сноуден прибыл в Россию в ситуации ее ухудшавшихся отношений с США, когда у нас уже были серьезнейшие разногласия по Сирии, когда Путина в западных СМИ вовсю демонизировали, изображали врагом демократии и свободы на всей планете, когда США попытались поддержать радикальное оппозиционное движение против Путина. В этих обстоятельствах руководство России оказалось перед сложной дилеммой. С одной стороны, если выдать США Сноудена, то Россия будет выглядеть как страна, которая уступила американскому давлению. А поскольку Вашингтон уже осуществлял мощный на нас прессинг по многим другим позициям, то ни психологически, ни политически у Кремля не было ни малейших оснований идти навстречу США. Отношения были уже достаточно враждебными. С другой стороны, если Сноудена оставить, то Россия получает еще один мощнейший раздражитель для США.
В российской политической элите мнение по этому вопросу было однозначным. Могу засвидетельствовать, что все силы в Госдуме выступили за то, чтобы Сноуден остался в России, если он сам этого захочет.
Администрация Обамы попыталась оказать давление на Москву. Американские дипломаты ходили по высоким кабинетам, то уговаривая, то требуя выдать им Сноудена. Но ответ был отрицательный.
Какое-то время обсуждались и варианты его переезда в одну из латиноамериканских стран. Говорили об Эквадоре, Кубе, Венесуэле, чей лидер Мадуро объявил, что готов предоставить Сноудену политическое убежище. Но у всех этих сценариев был один недостаток: любой самолет, который покинул бы воздушное пространство России, в направлении страны, способной предоставить политическое убежище Сноудену, мог быть посажен и досмотрен американскими спецслужбами, и Сноуден не долетел бы до места назначения.
Это подтвердила скандальная история с вынужденной посадкой и досмотром самолета боливийского президента Эво Моралеса в аэропорту Вены. Судя по всему, американские спецслужбы получили информацию, что Моралес, известный резко критическим отношением к США, может тайно вывезти на своем борту Сноудена из Москвы. Самолет был вынужден сделать посадку по указанию австрийских диспетчеров, после чего на борт зашли представители австрийской полиции и спецслужб. Думаю, что среди них были и американцы. Обыскали весь самолет. Сноудена не нашли. Был скандал на весь мир. Моралес осудил американский империализм, вседозволенность, нарушение международного права — и с полным на то основанием. Но, как известно, для США это никогда не было препятствием.
Это показывает степень раздражения в Вашингтоне действиями Сноудена и масштабом ущерба, который он нанес и спецслужбам, и имиджу США в мире. Американцы тогда показали, что их до такой степени волнует Сноуден, что они готовы пойти на все что угодно, лишь бы заполучить его обратно.
После досмотра самолета Моралеса у Сноудена не осталось ни малейших шансов покинуть Россию. Было ясно, что его арестуют на полпути — будь то в Венесуэлу, будь то в другую страну. А в США ему было гарантировано пожизненное заключение, по обвинению либо в предательстве, либо в шпионаже. Это только в голливудском боевике герой, верящий в американскую демократию, смело разоблачивший преступную деятельность ЦРУ, вместе с красивой блондинкой гордо стоит на ступенях Капитолия, а ему аплодирует благодарная американская нация. Но такой сценарий — не из реальной американской жизни. Сразу стало ясно, что Сноудена ждет на родине жесткая расправа. Не случайно отец Сноудена, сначала выступавший за его возвращение, вскоре посоветовал сыну оставаться за пределами США.
1 августа 2013 года Сноудену было предоставлено временное политическое убежище в России, что вызвало острейший приступ ярости в спецслужбах США и в администрации Обамы. Однако США виноваты сами: они ни в чем не шли навстречу России и в «деле Сноудена» натолкнулись на «зеркальный ответ». Ведь за год до этого в США был осужден на 25 лет тюрьмы российский предприниматель Виктор Бут, выкраденный американцами из Таиланда и обвиненный в намерении поставить оружие колумбийским радикальным группировкам. Такая же судьба постигла российского летчика Ярошенко, выкраденного задолго до прибытия Сноудена в Россию. Все это существенно ухудшило отношения двух стран.
Однако история со Сноуденом превратила Обаму и Путина из противников во врагов. Она вывела Россию и США на новый уровень противостояния. В сентябре Обама отменил намеченный визит в Москву, а прилетел, вопреки первоначальным планам, сразу в Петербург, где проходил саммит «Двадцатки».
Четвертым фактором, во многом производным от первых трех, стала попытка американской стороны (не только на уровне администрации, но и на уровне сената и Конгресса США) если не сорвать, то максимально осложнить проведение Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. ОИ-2014 — «флагманский проект» Владимира Путина — были превращены в повод для массированной атаки на Россию в связи с вымышленной дискриминацией сексуальных меньшинств и «преследованием» ЛГБТ-сообщества. В США в связи с этим прозвучало огромное число заявлений и даже призывов не ехать на сочинскую Олимпиаду, обращенных к спортсменам с нетрадиционной ориентацией. Почти никто из руководителей западных государств не приехал на открытие Игр-2014 или же был сильно понижен политический уровень участия. В силу этого сочинская Олимпиада фактически проходила в обстановке психологической войны. Западные СМИ начали кампанию демонизации России, причем было полное ощущение, что кампания проводилась скоординированно и намеренно. Как решили на Западе, по любимому проекту pet-project, российскому лидеру должен был быть нанесен максимально сильный удар.
А за год с лишним до этого — в конце 2012 года — в США был принят так называемый Акт Магнитского, который заложил юридическую основу для новой холодной войны между США и Россией. Как принятая в свое время «поправка Джексона — Вэника» под предлогом защиты прав человека ограничивала возможность экономического взаимодействия между нашими странами и стала символом холодной войны, так и Акт Магнитского, позже воспроизведенный в Канаде, заложил юридическую основу для противостояния между Россией и США под тем же самым предлогом защиты прав человека.
Высшей точкой новой холодной войны стала конфронтация вокруг Украины. Эта конфронтация была подготовлена всеми конфликтами, которые уже обозначились между Россией и Западом.
Но вокруг Украины началось фронтальное столкновение. Зимой 2014 года западные страны решительно поддержали выступления антиправительственных сил на Украине, закрыв глаза на провокационный и насильственный характер этих выступлений и на убийства представителей сил правопорядка.
Более того. Главы МИД трех европейских стран — ФРГ, Франции, Польши — выступили гарантом соглашения между президентом Януковичем и оппозицией о том, что в стране будут проведены внеочередные выборы, а Янукович до этого времени останется президентом. Соглашение было подписано в присутствии Штайнмайера, Фабиуса и Сикорского 21 февраля 2014 года. Но уже на другой день оно было, по сути, порвано оппозицией. Радикалы двинулись к администрации президента с целью его ареста — или убийства, что в царившей в Киеве атмосфере насилия нельзя было исключить. Янукович был вынужден покинуть Киев, а затем через два дня бежать из страны. Оказалось, что подписи министров иностранных дел Франции, Польши и Германии, которые обеспечивали гарантии выполнения достигнутых договоренностей, не стоили даже той бумаги, на которой были поставлены.
При этом никаких объяснений России не дали, хотя Москва направила своего представителя (Владимира Лукина) на подписание данного акта. Мы рассматривали этот документ как упорядоченный шаг по выходу из критической ситуации, сложившейся на Украине. Позже Путин заявил, что западные лидеры, просившие его поддержать это соглашение, нас грубо обманули. Он также говорил, что если бы Запад сделал необходимое, чтобы в Киеве соблюли это соглашение и стороны действовали бы по плану, о котором договорились, то не было бы и последовавших событий: Крым остался бы в составе Украины, не было бы войны на Донбассе и весь кризис можно было предотвратить. Но соглашение выполнено не было. В очередной раз Россия была обманута нашими так называемыми партнерами.
Потом западные политики говорили, что на Украине произошла революция, а раз революция, то и законы и соглашения не действуют. Однако на Западе должны признать и вытекающий из этого вывод: в условиях бездействия органов, которые должны были наблюдать за осуществлением законности на Украине, в ситуации, когда существующие органы власти принимали противоправные решения, как поступила Верховная рада, сместившая законно избранного президента Януковича, не задействовав единственно возможную для этого процедуру импичмента, не имея на то никакого права, в нарушение конституции страны, на Украине возник юридический вакуум. И в создавшемся правовом вакууме население Крыма имело право провести референдум и проголосовать за отделение от Украины и присоединение к России. Совершенно непонятно, почему по отношению к Крыму должна была действовать украинская конституция, а по отношению к президенту страны не должна. Непонятно, почему Януковича можно было заменить неким и. о. президента, хотя в правовом поле Украины такое понятие вообще отсутствует. Так что аргументация Запада — не более чем попытка оправдать подлинный государственный, антиконституционный переворот на Украине. Кстати, факт госпереворота признали и авторитетные западные юристы, в частности профессор права университета г. Ниццы Р. Шарвэн.
С момента госпереворота началась фронтальная битва между Россией и Западом за Украину. Инициатором битвы был Запад. Россия оказывала определенную поддержку Януковичу. Естественно, Москва была заинтересована в том, чтобы удержать Украину в качестве экономического партнера. И конечно, мы поддерживали те политические силы, которые выступали за взаимодействие с Россией. Но каких-либо действий насильственного характера Россия не предпринимала. В сложный период, когда Янукович оказался на грани финансового краха, Россия выделила Украине 3 млрд долларов. Но Москва не послала спецназ или войска в Киев спасать законную власть. Мы не делали ничего для того, чтобы силовым способом изменить развитие событий на Украине. Позже некоторые говорили, что мы за это и поплатились, «потеряв» Украину. Поскольку вместо нас это сделали другие. Западные страны решили силовым способом изменить развитие Украины через использование внутренней радикальной оппозиции, националистических и неонацистских организаций, которые сыграли главную роль в противоборстве с представителями правоохранительных структур.
После госпереворота на Украине речь пошла уже об угрозах для безопасности России, ее геополитического положения. Такая угроза возникла после прихода к власти в Киеве не просто прозападных сил, а сил, откровенно антироссийских, ориентированных на крайние русофобские круги на Западе, типа сенатора Маккейна и иже с ним. Украина давно интересовала западные страны, прежде всего США, но также и ряд государств НАТО, как страна, которая является «мягким подбрюшьем» России и которую можно использовать против нее. Не случайно еще в 2008 году администрация Буша пыталась втянуть Украину в НАТО и разработала целый план совместных действий с Ющенко, но он не был реализован из-за сопротивления Франции и ФРГ. В целом же о целесообразности включения Украины в НАТО в Вашингтоне говорили с середины 1990-х годов.
Что такое Украина в НАТО? Это возможность размещения ракетных установок, будь то ударных установок или систем противоракетной обороны, на границе с Россией, которая проходит в 600 километрах от Москвы. Кроме того, Украина в НАТО — это почти полный контроль над Черным морем. Обладание Крымом и Севастополем как военной базой дали бы альянсу контроль над всей северной и центральной частью Черного моря, а Россия осталась бы «запертой» в Новороссийске и вытесненной на его окраины.
Таким образом, если бы Украина целиком оказалась в руках Запада, это бы создало беспрецедентную ситуацию приближения военных структур Североатлантического альянса к границам России. Предположить, что новое украинское руководство от этого воздержится, было невозможно. Оно пришло к власти под лозунгами антироссийскими, русофобскими, с замыслом искоренения русского языка на территории Украины. Не приходилось сомневаться, что Севастополь окажется в руках американцев и превратится в крупнейшую военно-морскую базу США в регионе.
Помню, как Путин, выступая перед Федеральным Собранием 18 марта 2014 года («Крымская речь Владимира Путина»), отклонился от текста и иронично заметил: в НАТО, конечно, есть хорошие ребята, «но пусть лучше они к нам приезжают в Севастополь в гости, чем мы к ним».
Было очевидно, что за завесой риторики о «демократических ценностях», «незалежности» и «свободе выбора» на Украине на деле скрывалась целенаправленная стратегия США, НАТО и Евросоюза по включению Украины в сферу влияния западного мира. Причем в качестве страны, которая будет играть резко антироссийскую роль. Со стороны Запада схватка за Украину изначально была борьбой за ключевую зону геополитического влияния. Не Россия продвигалась в геополитическом отношении на Запад, а Запад неуклонно шел в нашу сторону. Госпереворот на Украине, по сути, стал новой формой расширения НАТО на Восток. Из-за отсутствия возможности официально включить в альянс Украину в силу отсутствия большинства голосов на самой Украине по этому вопросу (в 2013 г. в НАТО хотели вступить всего лишь 18–20 процентов населения), а также в силу сопротивления некоторых стран Европы, была поставлена задача обеспечить превращение Украины в военно-политического союзника западного альянса через изменения вектора ее развития в пользу однозначной переориентации на ЕС и НАТО.
Надо признать, что это удалось. Но не в полной мере. Ответом России стало воссоединение с Крымом и поддержка ополченцев на Донбассе, не признавших госпереворот на Украине.
После событий февраля — марта 2014 года началась открытая конфронтация России и Запада и экономическая война западного альянса против России.
Завершение правления Барака Обамы прошло на ноте новой холодной войны против России. США поставили перед собой задачи изоляции России, ее «сдерживания», то есть ослабления ее международного влияния, нанесения максимального ущерба экономике и социальному развитию России. Это, по замыслу администрации, должно было ослабить Путина и привести его президентство к политическому краху.
Однако задача изоляции России изначально была невыполнимой. Задача изоляции такой крупной и весомой страны нереальна в условиях современного многополюсного мира. Было ясно, что целый рад стран за пределами западного альянса — от Бразилии до Китая и даже Японии — будет относиться к России как к важному и необходимому партнеру. Не говоря уже о том, что многие в мире знают: Крым исторически был частью России и лишь в силу исторического казуса временно оказался на территории Украины. Об этом заявил как-то президент США Джимми Картер американскому телевидению. По его словам, он никогда не сомневался в том, что Россия вернет себе Крым, — речь шла только о сроках. Дональд Трамп также отмечал (до своего избрания президентом), что население Крыма всегда выступало за возвращение в Россию.
Помню, весной 2014 года, в разгар кризиса, я приехал во Францию на встречу с руководством Комиссии по международным делам национальной Ассамблеи США. Включил телевизор. И первое, что услышал, была фраза: «Крым? Так он же всегда был русским!» Это был Жан-Люк Меланшон, лидер объединенных французских левых (позже он возглавил движение «Непокорившаяся Франция» и получил на последних президентских выборах 19 процентов голосов). И так считает во Франции далеко не он один.
У многих политических фигур в Европе, скажем у экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена или экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, не было сомнений в моральном праве России воссоединиться с Крымом. Но не их мнение определяет позицию западного мира и его политическое отношение к России.
Как бы то ни было, изоляция России невозможна. «Сдерживание» России, однако, продолжится: это стратегическая линия. Ее главная цель — ограничение внешнеполитических возможностей страны, ее ослабление путем военно-политического и экономического давления. Политика «сдерживания» предполагает также зажим страны в стратегические клещи. Этого США стремятся достичь через расширение НАТО и размещение систем ПРО вокруг российских границ. Россия ответила на эту политику отправкой своих ВКС в Сирию. Операция России в Сирии — это демонстрация провала тактики Обамы по связыванию России по рукам и ногам. И не случайно эта операция произвела колоссальное впечатление на весь мир.
Начало российской операции в Сирии было совершенно неожиданным для США и Запада в целом. Говорят, Путин накануне операции ВКС РФ, находясь в Нью-Йорке на сессии генеральной Ассамблеи ООН, 28 сентября 2015 года дал понять Обаме о намерениях Москвы во время их полуторачасовой встречи. Обама будто бы спросил Путина: «Правильно ли я понимаю, что вы уже приняли решение и ничто его не изменит?» Об ответе Путина мне неизвестно, но, видимо, ответ был положительный. На следующий день — 30 сентября — российские самолеты уже были на месте боевых действий.
Именно после этого демонизация Путина на Западе достигла беспрецедентных масштабов. Но именно с Сирии началась тенденция признания Путина мировым лидером номер один. Характерно, что эти две линии идут параллельно — демонизация и признание. Не случайно Барак Обама испытывал приступы ревности, когда даже во влиятельных американских СМИ — Foreign Policy, «Форбс» и ряде других — публиковались рейтинги ведущих политиков мира, в которых эксперты ставили на первое место по влиянию Путина и лишь на второе Барака Обаму. Это был, конечно, удар для Обамы. Ведь он сделал все для того, чтобы, как он говорил, «порвать в клочья» российскую экономику. Вместо этого он получал рейтинги, в которых Путин оказывался выше его.
Задачи, которые поставила администрация Обамы по отношению к России, оставались невыполнимыми. Санкции, безусловно, усложнили экономическое развитие России. Вкупе со снижением цен на нефть они стали одной из причин падения темпов роста и сокращения ВВП в 2015–2017 годах. Но ни финансового дефолта, ни обвала экономики не произошло. США не удалось и изолировать Россию от всей Европы. У нас сохранились устойчивые контакты с руководством Греции, Чехии, Венгрии, Финляндии, Италии, Австрии, Словакии, Кипра. Таким образом, даже в рамках Евросоюза стратегия изоляции России не была эффективной в силу того, что Россия слишком крупный, слишком важный фактор, который нельзя ни игнорировать, ни изолировать.
11. Устаревшие догмы Запада и новые центры силы
В середине второй декады XXI века обозначилось серьезное противостояние между Россией как возродившимся центром силы и влияния и западным миром, который воспринял распад Советского Союза как окончательное торжество американоцентричного мира и либеральной демократии. Этот конфликт сопровождается относительным ослаблением Запада, в том числе Соединенных Штатов, и снижением лидерского потенциала США. США остаются важнейшей военно-политической, информационной, технологической державой, однако развитие мировой экономики ведет к неуклонному ослаблению роли США в глобальных экономических процессах. Это объективная тенденция, которая мало зависит от политики, проводимой Вашингтоном. Она связана даже не столько с ослаблением самих Соединенных Штатов, сколько с возрастанием веса новых центров силы. Если в 1960 году на США приходилось 44 процента мирового ВВП, а в 1990-м 26 процентов мирового ВВП, то в 2014-м на них стало приходиться всего лишь 14 процентов (в пересчете по паритету покупательной способности).
США не стали менее развитой экономикой. В ряде секторов, например в добыче сланцевого газа, они даже нарастили свои возможности. Но появление таких центров силы, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, Мексика, Индонезия, ведет к снижению удельного веса США в мировой экономике. И с середины второй декады XXI века первой экономикой мира является Китай, он занимает первое место по ВВП в пересчете на покупательную способность населения. При этом у США наблюдается 20-триллионный государственный долг, в то время как Китай является страной с гигантскими золотовалютными резервами, исчисляемыми примерно в 3 триллиона долларов. Причем половина из них резервы в американской валюте. У Китая есть гигантская подушка безопасности, которой нет у США. Америка уже должник, Китай кредитор.
Но при этом нельзя упускать из виду важнейший фактор: созданная США мировая финансовая система такова, что она сильно зависит от американской валюты. Налицо вообще уникальная ситуация: весь мир своим производством поддерживает доллар, пользуется им либо в качестве условной расчетной единицы, либо как реальной расчетной единицей. Вся мировая торговля нефтью и газом идет на доллары. Это, конечно, дает Соединенным Штатам гигантские возможности влиять на мировую финансовую и экономическую систему, а также обеспечивать собственную устойчивость.
Тем не менее долгосрочные тенденции в мировой экономике явно не в пользу Соединенных Штатов Америки и западного мира в целом. В 2005 году произошла мало кем замеченная, но от этого не менее важная революция: впервые в истории развивающийся мир произвел больше товаров и услуг, чем традиционно развитые экономики. Дальнейшее развитие мировой экономики подтвердило это перераспределение ролей. К 2020 году оно приведет к тому, что на страны БРИКС будет приходиться 32 процента мирового ВВП, а на страны западного альянса (США, ЕС и Японию) — лишь 30 процентов. Таким образом, и в коллективном соревновании новых центров силы и традиционных (для XIX–XX веков) побеждать будут новые центры экономической силы.
Эти фундаментальные сдвиги сильно влияют на психологическое восприятие современного мира. Они стали важнейшим фактором, который побудил Барака Обаму де факто признать, что современный мир многополярен. Обама не пошел столь далеко, чтобы заявить, что это конец однополярного мира во главе с США. Но, по сути, Обама признал: многополярный мир заменяет однополярную модель, обеспечить господство которой США уже не в состоянии.
Неуклонный процесс сдвига в мировом экономическом соотношении сил оказывает определенное воздействие и на самооценку Соединенных Штатов. Начиная с мирового экономического кризиса 2008–2009 годов в США усилилась тенденция к признанию ослабления, особенно в долгосрочной перспективе, глобальной роли Соединенных Штатов. Сторонников этой доктрины — экономистов, финансистов, политологов — назвали на родине «пораженцами», (defeatists), которые принижают способность США адаптироваться к потребностям современного мира и по-прежнему играть ведущую роль в мировых делах. Но этот первый всплеск американского «пораженчества» — наверняка не последний.
Проблема США не только в том, что другие центры бросают вызов Соединенным Штатам. Проблема не только в том, что сейчас в мировой экономической табели о рангах (по объему ВВП по паритету покупательной способности) Китай уже опережает США, а скоро на второе место выйдет Индия. Проблема в том, что сами Соединенные Штаты — в соответствии с неотвратимой логикой всех сверхдержав — взяли на себя огромное число обязательств в военной области. С одной стороны, эти обязательства обеспечивают работу их экономики — прежде всего военно-промышленного комплекса, от которого сильно зависит вся экономическая жизнь США. Но, с другой стороны, эти обязательства (особенно военные действия на Среднем Востоке) являются огромной нагрузкой для американского бюджета. В итоге США не могут эффективно обеспечивать обязательства, которые они на себя взяли. Речь идет о системе союзов по всему миру (именно США оплачивают 75 процентов расходов блока НАТО); военных базах по всему миру; отправке вооруженных сил в различные точки земного шара; о 17-летней войне в Афганистане, которой не видно конца; о пребывании американских контрактников в Ираке; о двух тысячах американских военных в Сирии; о подготовке боевиков и вооруженной оппозиции в этой стране, отправке ей оружия и т. д.
США попали в классическую ловушку для великих держав, которая называется over-extension — «перенапряжение сил». Об этой ловушке писал гарвардский профессор Пол Кеннеди в своем знаменитом труде «Взлет и падение великих держав». Его выводы до сих пор никто не смог опровергнуть. По пути перенапряжения сил шли все великие империи. И именно это было главной причиной падения этих империй. В итоге и США этой участи не избегнут. Другое дело, что они будут пытаться адаптироваться к новым условиям, стараться смягчить последствия этого процесса. Но то, что этот процесс уже влияет, причем сильно влияет, на способность США определять ход событий в мире — несомненно. Достаточно посмотреть на развитие событий в Сирии, где США не достигли своих целей и утратили инициативу.
Этот процесс влияет и на американских союзников, и на весь западный альянс. «Большая семерка», которая придала себе новый импульс, когда приняла в свой состав Россию, потеряла эту «прибавочную стоимость», когда рассталась с Россией в 2014 году. Началась постепенная деградация этой группы, превращение ее в клуб друзей Соединенных Штатов. Да, там обсуждаются многие важные вопросы, вырабатывается общая стратегия Запада. Конечно, с этой стратегией считаются в незападном мире, поскольку у Запада сохраняются большие ресурсы и возможности влиять на ситуацию. Но директивы этого клуба уже не являются обязательными для Китая, для Индии и многих других государств.
И сейчас, когда Запад пытается задействовать карту «Большой семерки» и поставить перед Россией ряд условий, при выполнении которых страны G7 могли бы вернуть ее в состав этого клуба, Москва ясно дает понять, что «Большая семерка» как формат нас не интересует. Мы предпочитаем работать в формате «Большой двадцатки».
Таким образом, руководители западных стран, которые приняли решение об исключении России из состава «Большой восьмерки», как говорят американцы, выстрелили себе в ногу. Они считали, что исключение России станет для них рычагом воздействия. А на деле Россия утратила интерес к этому формату, поскольку он использовался в основном с целью оказания давления со стороны семи членов клуба на одного члена. А для России нет никакого смысла поддерживать организацию, в которой она является объектом давления и находится в одиночестве. Другое дело — «Большая двадцатка», где у России много партнеров, в том числе все наши партнеры по БРИКС.
То, что «Большая семерка» устаревает, видно и по снижению к ней внимания со стороны СМИ: оно гораздо меньше, чем было когда бы то ни было. Одновременно наблюдается возрастание и авторитета «Большой двадцатки», в которую входят и страны Азии, и Ближнего Востока, и Латинской Америки. Это уже прообраз мира многополярного — реального мира XXI века.
Единственное, что могло бы оживить «Большую семерку», — это приглашение в ее состав России, Китая, Индии и, возможно, Бразилии. При этом следовало бы подумать об одновременном исключении Канады. Канада в G7 является неким атавизмом периода американской гегемонии. Ее американцы провели в G7, можно сказать, с черного входа. Канада имеет незначительное влияние на мировые дела, ее влияние намного меньше, чем у других членов этой организации, и неизмеримо меньше, чем у ряда стран, не входящих в этот клуб. Канада выполняет в нем функцию верного клеврета и вассала США, не имея ни своего голоса, ни серьезного веса. Если бы западный альянс действительно хотел сделать из G7 организацию, где было бы взаимодействие между старыми и новыми центрами силы, следовало бы как минимум включить в ее состав Россию, Индию и Китай. Но, полагаю, что, как и все организации, которые построены вокруг некоего устаревающего принципа, «Большая семерка» не имеет шансов на реформирование. Скорее, США предпочтут сохранить ее в качестве закрытого клуба ведущих держав западного альянса.
Таков контекст нынешнего конфликта между Россией и западным альянсом. Этот конфликт — в той или иной форме — будет продолжаться на протяжении длительного времени. Западный альянс уже не настолько силен, чтобы заставлять другие государства следовать его линии. Россия пережила период слабости в эпоху позднего Горбачева и Ельцина, но начиная с 2005–2006 годов вышла на другую траекторию развития. Именно в это время сформировалось новое самовосприятие России, которое не позволяет ей вернуться в состояние добровольной зависимости от США и их союзников. Тем более что западный альянс, претендуя на ведущую роль в мировых делах, не демонстрирует способности решать острые кризисы и направлять в конструктивное русло ход мировых событий.
Это подтверждает и развитие событий в Сирии. В Сирии действует много игроков со своими интересами: и Россия, и Иран, и Саудовская Аравия, и Турция, и США. Но, несмотря на все усилия, США не сумели стать ключевым игроком в Сирии. А Евросоюз там вообще отсутствует. Как фигура ЕС выпал с ближневосточной шахматной доски.
По Украине у ЕС — статичная позиция: сохранение санкций, пока Россия не выполнит Минские соглашения. Это тактика прямого давления без каких-либо вариаций. Это не столько политика, сколько отсутствие таковой. Санкции должны давать результат. Если они его не дают, это означает, что они бессмысленны. Но для ЕС сохранение санкций превратилось не в средство достижения цели, а в средство поддержания статус-кво и предотвращения раскола в самом ЕС. В этом кроется коварство санкций против того, кто их вводит, — в данном случае для Евросоюза: их проще сохранить, чем отменить, не рискуя вызвать раскол среди членов ЕС. Известно, что несколько стран ЕС выступают против санкций, они заинтересованы в изменениях. Однако 5–6 членов ЕС категорически настаивают на сохранении санкций: Польша, прибалтийские республики, Швеция и др. Чтобы его избежать, а также продолжить давление на Россию по вопросу о Донбассе, каждые полгода возобновляется прежняя формула.
Евросоюз ранее уже продемонстрировал неспособность решить проблему Ливии. После войны она так и осталась расколотой страной без единого правительства, где действуют отряды радикальных исламистов и террористические организации. Все попытки стран НАТО наладить стабильность в Афганистане и одолеть движение Талибан оказались безуспешными. Афганистан давно называют «кладбищем империй». Судя по всему, для НАТО Афганистан так и останется если не кладбищем, то полем поражений, которые НАТО будет терпеть раз за разом, пока не покинет страну.
Евросоюз практически не участвует в поиске решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Он ничего не способен предложить Китаю по поводу перспективы развития ситуации вокруг спорных островов Южно-Китайского моря. И даже в случае с ядерным соглашением с Ираном, где наблюдается высокая степень согласия среди европейцев, общая позиция ЕС не помешала Трампу выйти из так называемой ядерной сделки.
Таким образом, Россия сталкивается в лице западного альянса с силой, которая пытается блокировать наши шаги, нацеленные на разрешение ряда региональных кризисов, но при этом сама не способна предложить адекватных решений этих кризисов. Такая неспособность создает ситуацию хаоса и геополитической неустойчивости.
Более 20 лет США и их союзники имели фактически «карт-бланш» на Ближнем Востоке, так как Россия почти полностью устранилась от решения проблем региона. И что? Результаты плачевны: трагедия Ирака, катастрофа в Ливии, возникновение ИГИЛ, продолжающийся конфликт между Израилем и Палестиной, бесконечная война в Афганистане. Таким образом, сам ход событий постоянно демонстрирует неэффективность действий Запада (или же сознательные усилия по дестабилизации положения в ряде стран, прежде всего в Сирии).
Следует также сказать о кризисе устоявшихся международных институтов — таких как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Совет Европы и др. Эти организации из структур, призванных направлять ход мирового развития, все больше становятся структурами, которые сопровождают мировое развитие, не оказывая на него решающего влияния. Запад пытается использовать их в своих целях, делая это жестко, отказываясь от компромиссов. Это ведет к недееспособности международных структур и острым конфликтам, как в Совбезе ООН, так и в европейских институтах, прежде всего в Совете Европы, где Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ, а Турция отказалась от статуса основного плательщика в этой организации. В дискуссиях о реформе ООН видно стремление новых центров силы получить большее влияние, более весомый голос в системе принятия решения.
Параллельно идет процесс создания новых альтернативных структур. Китай создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с капиталом в 100 млрд долларов, который привлек к себе внимание и Франции, и Великобритании, несмотря на настойчивые рекомендации Соединенных Штатов своим союзникам не участвовать в этом проекте.
Появляются и другие альтернативные финансовые организации. Страны БРИКС создали Новый банк развития в центром в Шанхае, с капиталом 100 млрд долларов. И это лишь начало. С учетом, что в БРИКС входят пять стран из «Большой двадцатки», уверен, что у этого банка есть перспективы.
Конечно, та западноцентричная система институтов, которая существовала до сих пор, не исчезнет — ей трудно найти замену. Но внутри этой системы начинается борьба за большее влияние и большую роль новых центров силы.
Тот же процесс наблюдается и в ООН. В 2015 году лидер Китая Си Цзиньпин, выступая в Нью-Йорке на 70-й Генассамблее ООН, фактически провозгласил стратегию приобретения Китаем за финансовые взносы статуса глобальной державы. Он объявил, что, во-первых, Китай резко увеличивает финансирование миротворческих операций, которые проводятся по линии ООН. Создает особый фонд с бюджетом в 1 млрд долларов, направленный на поддержание мира и развития. Цифры показывают, что возможности и влияние Китая в международных организациях растут по экспоненте. Например, если посмотреть взносы на миротворческие операции, то Китай пока еще отстает от США по их финансированию, но уже сильно опережает Великобританию, Францию, Россию. США оплачивают 28,5 процента миротворческих операций по линии ООН, Китай — 10,5 процента, а остальные велики державы — лишь по 4–6 процентов. Китай имеет в миротворческих силах 2,5 тысячи своих представителей солдат и офицеров, тогда как Франция — 900, Великобритания — 400, а США — меньше сотни.
Понятно, что Китай еще не заменил США в качестве ведущей силы мировой геополитики. Но заметна тенденция к наращиванию роли Китая на международной арене.
Китай наращивает и оборонные расходы, сейчас это третья по военной мощи держава мира после США и России. Китай также давно уже имеет возможность поразить территорию США ядерным оружием.
Таким образом, новые центры силы делают заявки на переустройство современного мира. Почему же на острие противостояния между западным альянсом и новыми центрами силы оказалась именно Россия? Это важный вопрос. В России иногда говорят: давайте вести себя как Китай. Он отстаивает свои интересы в узкой зоне (в частности, в Южно-Китайском море, где продолжаются территориальные споры), уделяет основное внимание безопасности вокруг своих границ, активно работает в ООН на миротворческом направлении, развивает экономические и торговые связи со всем миром, но не ввязывается в крупные кризисы типа сирийского, ведь это не принесет ему экономических дивидендов, но может рассорить его с западным миром, что подорвет возможности экономического развития.
Так почему же и нам не поступать как Китай? При всей кажущейся рациональности такой аргументации проблема состоит в том, что у России и Китая — принципиально разное геополитическое положение. Китай находится в зоне, удаленной от основных мировых кризисов, за исключением корейского. Он не соприкасается с НАТО, которая является становым хребтом американской глобальной мощи. Альянс ни в каком виде не приближается к Китаю, соседние с Китаем государства не присоединяются к НАТО, поэтому Китай не испытывает синдрома окружения. У НАТО нет стратегии военного присутствия у берегов Китая. У Китая есть свои проблемы безопасности, прежде всего в виде американского военного присутствия на Дальнем Востоке (наличие американских баз в Южной Корее, Японии, на Филиппинах, военное сотрудничество США с Тайванем). Но у Китая нет ощущения постоянного приближения к его границам могущественного военно-политического альянса, который вбирает все новых членов и который укрепляет свою безопасность за его счет. Россия же находится именно в таком положении.
Это единственная европейская страна, которая по причинам, о которых уже было сказано, не может быть включена в Североатлантический альянс. Геополитически Россия является препятствием для экспансии НАТО и для консолидации всего европейского и части евразийского пространства вокруг США. Из-за России в НАТО, по крайней мере в нынешних условиях, не могут войти Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Молдавия. Постсоветское пространство остается во многом недоступным для НАТО из-за того, что дальнейшее расширение НАТО чревато риском конфронтации с Россией. Альянсу удалось укрепить свои позиции на Балканах, но Сербия, вероятно, останется вне НАТО. Черногорию в альянс втянули, но при сопротивлении большой части населения. И оппозиция в этой стране не намерена отказываться от борьбы против участия Черногории в НАТО. Лидеры оппозиции даже утверждают, что Черногория станет первой страной, которая выйдет из Северо-Атлантического альянса.
Таким образом, выбор политики противодействия экспансии НАТО был для России неизбежным. Россия долго фактически не сопротивлялась этому процессу, пока в НАТО не попытались втянуть Украину с Крымом и установить полный военный контроль альянса, то есть США, над Черным морем.
В конце 1990-х у нас в стране была сформулирована доктрина защиты «ближних рубежей». Доктрина гласила: мы не должны сопротивляться экспансии НАТО, пока она не затронет наших непосредственных интересов. Но когда они попытаются включить в свой блок Украину или Грузию, тогда, мол, мы им покажем. Эта доктрина оказала заметное влияние на нашу внешнюю политику. Слабость же ее состоит в том, что как только вы «отдаете», уступаете дальние рубежи, то уязвимыми становятся и ближние рубежи. Это, собственно, и произошло. Мы не сопротивлялись первой «волне» расширения НАТО, вобравшей в альянс три бывшие соцстраны: Польшу, Венгрию и Чехию. Мы не смогли ничего противопоставить второй волне расширения, вобравшей страны Прибалтики, в силу чего у нас появилась протяженная общая граница с Североатлантическим альянсом. Кризис уже наступил, когда НАТО подошло к «третьей волне» расширения. Вступление Украины в альянс привело бы к появлению принципиально иной геополитической ситуации, для нас крайне невыгодной. И вот здесь, когда НАТО уже подошло к естественным границам своего потенциального расширения (дальше — только Россия), российское руководство заняло жесткую позицию: было принято решение о воссоединении с Крымом. С 2014 года Россия также препятствует тому, чтобы НАТО утвердилась от Балтийского до Черного морей в качестве доминирующей геостратегической силы.
Иными словами, само наше геополитическое положение предопределило высокую степень конфликтности с Западом. И не мы ее выбрали. Все было бы иначе, если бы западный альянс пошел по пути создания нейтральных государств в Восточной Европе (такая идея в свое время высказывалась); если бы такие страны, как Чехия, Словакия, Венгрия, присоединились к Австрии в качестве нейтральных государств, создав пояс стабильности в Центральной Европе; если бы в НАТО исходили из того, что включение в альянс прибалтийских государств — это серьезный провокационный момент для России, создающий напряженность в силу одного лишь появления натовских структур на наших границах; наконец, если бы НАТО ограничилось тем, что дало бы этим странам гарантии безопасности, не включая их в свой состав. Иными словами, если бы Западом проводилась такая мудрая, сдержанная политика, подобного столкновения удалось бы избежать. Но на Западе, и прежде всего в США, господствует логика экспансии и доминирования. В этих условиях конфликт был неизбежен.
Хочу подчеркнуть, что Россия не пытается «перехватить» у НАТО зоны, являющиеся сферами влияния альянса, — она лишь реагирует на постоянную экспансию этой военно-политической организации. Китай может позволить себе роскошь напрямую не схлестываться с США, поскольку Запад не угрожает его границам, точнее, новых угроз за последние десятилетия не появилось, нет враждебного продвижения к китайским границам, не создаются военно-политические альянсы, которые бы окружали Китай. В нашем же случае крупнейший в мире военно-политический альянс занимается тем, что пытается усилить свои позиции за счет российской безопасности, вынашивая цель побудить Россию к вынужденному подчинению (в условиях ее отказа от подчинения добровольного). Это и является главной причиной, по которой нам исключительно сложно принять стратегию Китая, уклоняющегося от прямой конфронтации с США и их союзниками.
При этом подчеркнем: по ряду вопросов, где у Пекина и Вашингтона разные позиции, Пекин жестко отстаивает свою точку зрения и не демонстрирует готовности пойти на уступки, прежде всего по поводу спорных островов в Южно-Китайском море. То есть, как только США хотя бы в минимальной степени затрагивают интерес Китая, следует очень жесткая реакция. Это показал и ответ Пекина на введение администрацией Трампа весной 2018 года таможенных пошлин на 1,3 тыс. китайских товаров, поставляемых в США. Пекин ответил зеркально — к немалому удивлению Вашингтона.
С 2014 года Россия действует как действовала бы любая крупная держава в такой ситуации. Но именно Россия оказалась на острие противостояния с Западом по вопросам как европейского порядка, так и глобального миропорядка.
Избрание Трампа — это не случайность, а свидетельство глубокого кризиса доктрины американской гегемонии. И Трамп пытается пересмотреть эту доктрину на уровне здравого смысла, на уровне собственного понимания глобальных процессов и понимания того, что США в одиночку не способны справляться с проблемами, перед которыми стоит мир.
Неустойчивая политическая психика американского правящего класса чревата переходом в состояние предвоенного конфликта — как с Россией, так и с Китаем. Не имея возможности добиться своих целей политическими, дипломатическими, экономическими средствами, правящий класс США может сделать ставку на военные методы, по крайней мере, такое искушение у него может возникнуть — и возникнет. Именно этого опасаются сейчас и в Европе, и на Среднем Востоке (речь о кризисе вокруг Ирана) и в Азии, и в Китае, и в Латинской Америке. Вопрос, который не возникал со всплеска холодной войны 1981–1985 годов: «Не начнется ли горячая война между США и Россией?» — звучит сегодня во многих аудиториях и тревожит многих.
Новая холодная война, которую называют то «горячим миром» (HotPeace), то «ледяной войной» (IceWar) уже началась. Ведет ее западный альянс против России. Это попытка, не имея возможности остановить восстановление позиций России как великой державы чисто политическими средствами, сделать ставку на средства экономической войны. Западный альянс все больше прибегает и к средствам военного давления. Присутствие американских и натовских вооруженных сил в республиках Прибалтики, в Балтийском море, размещение военных баз и баз ПРО в Польше, Румынии, Болгарии — все это средства военного давления на Россию. На обозримое будущее нет оснований полагать, что США и НАТО откажутся от этой политики, напротив — она может быть еще усилена. Это стратегическая попытка изменить соотношение сил с Россией, которое меняется не в пользу западного альянса, прежде всего в сфере новейших вооружений, что стало ясным после выступления Путина перед Федеральным Собранием в феврале 2018 года.
При этом следует ожидать устойчивого взаимодействия России с альтернативными центрами силы, прежде всего с Китаем. Де-факто с Китаем образуется стратегический альянс, это наш крупнейший стратегический партнер. Здесь играет роль и такой фактор: в Китае хорошо понимают, что при определенных условиях он может стать объектом такого же давления, таких же попыток изоляции и «сдерживания», как те, что были применены западным альянсом к России в период 2014–2018 годов. Китай, естественно, ищет противовес США и их союзникам, способным перейти к политике давления, — и находит этот противовес в лице России.
Среди факторов, стабилизирующих международное положение России, важны ее хорошие отношения с такими странами, как Индия, Бразилия, расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и развитие БРИКС. Для нас очень важна политика выстраивания новой архитектуры отношений с новыми центрами силы.
Что касается Европы, то она еще долгое время будет расколота между стремлением задействовать российский экономический и ресурсный потенциал, освоить Россию как огромное пространство для инвестиций, освоить российский рынок, который очень сильно расширил бы европейский (145 миллионов жителей России — это пятая часть от населения Европы), и логикой «сдерживания» России, противоборства с ней, стремлением подчинить ее своей системе интересов и ценностей. Европу будут постоянно ограничивать в стремлении пойти навстречу России, во-первых, США, во-вторых, собственно европейская проамериканская элита, взращенная и вскормленная Соединенными Штатами. Мешают сотрудничеству и экспансионистские амбиции самой Европы.
В России долгое время была в моде такая формула: мы не возражаем против расширения Евросоюза, но возражаем против расширения НАТО. В этой формуле скрыт элемент самообмана — ведь в Евросоюз входят почти те же самые государства, которые входят и в НАТО. Поэтому расширение Евросоюза также является геополитическим вызовом для России. Возможно, не таким вызовом для безопасности страны, как расширение НАТО, но несомненным геополитическим вызовом. Это отчетливо проявилось в ситуации на Украине. Евросоюз вступил в конфронтацию с Россией, стремясь вобрать Украину в свою зону влияния и противопоставить ее России.
Когда меня во время моих зарубежных поездок убеждают, что на Западе было романтическое восприятие Украины как «новой страны, открытой для демократии и независимости», это всего лишь риторические формулы, всего лишь идеологические одежды, в которые облекается голый геополитический интерес. Европе важно вобрать Украину в свою сферу влияния — так же, как Молдавию и Грузию. ЕС не прекращает усилий втянуть в свою сферу влияния и Армению, и Азербайджан, и Белоруссию, а по возможности, в будущем, и государства Средней Азии. То есть задействовать европейский экономический и торговый потенциал для политической и экономической экспансии в Евразию.
Санкционная политика ЕС, которая проводится начиная с 2014 года и уже приобрела инерциальный характер, когда каждые полгода по умолчанию продлеваются санкции против России, подтверждает, что Евросоюз — это экспансионистская группировка. Путем экономического и политического давления она пытается вынудить Россию, которая препятствует этой самой экспансии, изменить свою политику. Здесь мы видим жесткое столкновение интересов. Дело, конечно, не в Крыме и не в том, что Россия якобы не соблюдает некие «европейские ценности». Разговор о ценностях — это в основном идеологическое прикрытие экспансионистских целей организации, которая имеет собственную логику развития. Эту логику недавно подтвердила глава внешней политики ЕС Федерика Могерини: будущее Евросоюза, по ее словам, лежит через расширение.
Расширение за чей счет? За счет России, потому что ЕС пытается, расширив свои зоны влияния, сузить сферу тех интеграционных образований, которые создает Россия. Если, скажем, в сферу влияния ЕС попадет Белоруссия, ЕАЭС потеряет одного из главных своих участников. Если, допустим, в Молдавии одержат верх сторонники политической переориентации на Брюссель, то она также будет окончательно потеряна для России как возможный участник — или партнер — нашей интеграционной группировки.
Таким образом, речь идет о столкновении, соревновании двух интеграционных группировок. Одна — установившаяся, добившаяся больших результатов, успешная на целом ряде направлений, имеющая убедительную социальную политику в лице Евросоюза. А другая — группировка, которую создает Россия. Она имеет значительный потенциал и перспективы развития, но еще не утвердилась в той степени, в которой утвердился Евросоюз.
При этом, однако, внутри Евросоюза нарастают глубокие противоречия. В силу спорных политических решений, жесткости брюссельской бюрократии, в силу неспособности гибко подходить к различным государствам-членам, ЕС вступил в фазу серьезного кризиса.
Выход Великобритании — это колоссальный удар по ЕС. Прежде всего, погибла доктрина «федеративной Европы». Она предполагала полный отказ от национальных государств в Европе, превращение их в части единой федеративной системы с общим президентом, общим министром иностранных дел, общим правительством. События в Греции, которые показали, что Евросоюз не может гарантировать бескризисного развития для своих участников, и Брекзит, который показал, что существует возможность выхода из ЕС важных стран, исключили перспективу превращения ЕС в федерацию. И сейчас уже ясно, что ЕС сохранится как интеграционное объединение национальных государств, делегирующих Брюсселю ряд своих полномочий, но не как некая «единая федеративная Европа». А какова будет степень этого делегирования — вопрос, которые будет решать Евросоюз для своего выживания после Брекзита.
Как бы то ни было, ЕС остается мощной и влиятельной группировкой. В качестве стержневого участника Евросоюза выступает Германия. В каком-то смысле ЕС — это форма возрождения германского геополитического влияния в Европе. Без Евросоюза Германия своих целей достичь не сможет: на ней висит слишком большой груз исторических обвинений, да и собственных комплексов, особенно после гитлеровского периода. Вообще господство в Европе через интеграцию окружающих земель характерно для германского политического психотипа (вспомним Священную Римскую империю). И закономерно, что центробежные тенденции в ЕС резко обострили в Германии восприятие Евросоюза как объединения, необходимого для экономического процветания и политического успеха ФРГ. Любая критика Евросоюза воспринимается в Германии намного более болезненно, чем во Франции, Испании или Италии. В Германии критику ЕС воспринимают как атаку на тот набор ценностей, который цементируют современную германскую нацию и ее роль в современной Европе. С точки зрения Берлина, Германия — это часть Европы, но Европа — это продолжение Германии. Эта доктрина исходит из того, что в центре Европы находится Германия, она определяет ход европейского развития, а другие европейские страны зависят от Германии больше, чем она зависит от этих стран. В свою очередь существование в рамках объединенной Европы в виде ЕС обеспечивает Германии глобальную роль. Поэтому, когда Дональд Трамп заявил, что евро лишь современная форма существования немецкой марки, то он смотрел в корень. Действительно, более всего выигрывает от интеграционных процессов в Европе именно Германия. Вся Европа становится огромным рынком для германских товаров. У ФРГ самая мощная экономика, соответственно, она выигрывает более всего от единого европейского рынка.
В силу этой причины Германия будет сражаться за сохранение ЕС до последнего. Само существование ЕС (при ведущей роли Германии) ослабляет обвинение в том, что Германия пытается возродиться как неоимперия. Берлин всегда ссылается на коллективный характер принятия решения в Евросоюзе: мол, все ключевые вопросы развития Европы решаются не в Берлине, а в Брюсселе. При этом всем известно, что это не совсем так, что здесь есть большой элемент лукавства, но это обеспечивает Германии некое политическое алиби.
В этих условиях неизбежно продолжение противостояния между Россией и Европой. Между нами будут и впредь как элементы сотрудничества, взаимодействия, так и элементы конфликта. Стороны вряд ли выйдут на ту благостную форму «стратегического партнерства», которое было провозглашено в начале 2000-х годов.
В течение лет десяти мы считали себя стратегическими партнерами, но это партнерство было основано на двух принципах. Во-первых, на признании Россией приоритета Евросоюза, то есть признании того, что ЕС является ведущим в этом тандеме. И во-вторых, на отказе России ставить под вопрос политику Евросоюза и, прежде всего, его стратегию расширения на Восток. Выступив против государственного переворота на Украине, поддержанного ЕС, Россия нанесла удар по самой сути современной европейской доктрины, состоящей в том, что именно Европа должна решать, как будут развиваться бывшие советские республики. Именно поэтому наша реакция на смену власти на Украине была так болезненно воспринята в Брюсселе. Словно безостановочно движущиеся войска натолкнулись на стену, непреодолимую преграду. Естественно, это вызвало в ЕС сильную фрустрацию, даже истерику, желание обвинять Москву во всех смертных грехах. Хотя единственное, что мы сделали, — это попытались остановить европейскую экспансию на последних для нас рубежах.
Говоря шире, нас ждет перспектива все более неустойчивого мира. В его развитие вмешиваются новые факторы, не зависящие от России, такие как миграционные волны, которые уже обрушиваются и будут обрушиваться и на Европу, и на США. Это в современном мире неизбежно. Число людей, населяющих развивающиеся страны, быстро растет, и все бо́льшая часть этих людей пытается найти убежище от преследующих их бед и неурядиц в богатых странах Европы, а также в США и некоторых других странах.
Терроризм уже превратился в норму международной жизни. Теракты стали частью повседневной жизни, это уже не исключительные эпизоды, как прежде.
Предложение Путина о создании международной антитеррористической коалиции — идея перспективная. Многие государства понимают: в одиночку они эту проблему не решат. Поэтому, как некая основа для обсуждения и даже для координации действий, эта идея, вероятно, будет востребована. Но в ситуации, когда западный альянс привык действовать в рамках парадигмы своей исключительности, не прибегая к помощи других государств или прибегая к ней на своих условиях, он будет мешать созданию такой коалиции — ведь в ее рамках у России будет исключительно сильная позиция. И Западу придется считаться с Россией в большей степени, чем там готовы.
Налицо глубинное противоречие: есть объективная потребность во взаимодействии и сотрудничестве, но геополитические интересы тех государств, которые должны играть главную роль в борьбе с терроризмом — США, Великобритания, Франция и др., — толкают их к противостоянию с Россией.
К тому же США активно пытаются использовать эти террористические организации в своих целях. Позже эти организации, как, скажем, «Аль-Каида», начинают разворачиваться против самих США. Но логика внешней политики США такова, что они пытаются использовать террористические или потенциально террористические организации для достижения ограниченных тактических целей (как США пытались использовать ИГИЛ для свержения Б. Асада в Сирии). Да, позже это может создать угрозу для самих Соединенных Штатов, но с этим будут разбираться последующие президенты. Вряд ли США откажутся от этой политики и в дальнейшем.
Все больше держав будут заигрывать с идеей обладания ядерным оружием. Большим усилием удалось убедить Иран отказаться от ядерной программы. Но никто не знает, как долго Иран удержится на этой позиции, особенно в условиях выхода администрации Трампа в мае 2018 года из соглашения с Ираном. Трудно предсказать и развитие ситуации на Корейском полуострове.
Эти непредсказуемые факторы создают объективную основу для взаимодействия между Россией и западным альянсом, как и между Россией и Китаем, Японией и рядом других государств.
В силу этого нас ждет сочетание конфликта и взаимодействия. Главная же угроза состоит в том, что конфликтность возобладает над взаимодействием. Скажем, в Сирии и мы, и США понимаем: прямое столкновение наших военных самолетов в небе над Сирией способно привести к военному конфликту, который может перерасти в крупный военный конфликт между Россией и США. А этого не хочет ни одна из сторон. Отсюда — элементы взаимодействия. Но конфликтности, несомненно, больше.
У России и США — разное понимание наших интересов, разное понимание будущего Сирии, принципиально разные взгляды на отношения к так называемой вооруженной оппозиции и т. д. Расходящиеся геополитические интересы неизбежно порождают ситуацию конфликта, и далеко не только в Сирии.
Сочетание взаимодействия и конфликта — с преобладанием конфликта — будет главной чертой мировой политики в течение нескольких десятилетий, пока не сформируется новое глобальное соотношение сил. Полагаю, оно будет в пользу новых центров силы в ущерб старым. Но старые не намерены отказываться от приоритетности своих интересов. И это нам предвещает исключительно бурную, нестабильную, полную вызовов и угроз международную политику в первой трети XXI века.


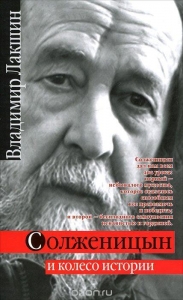
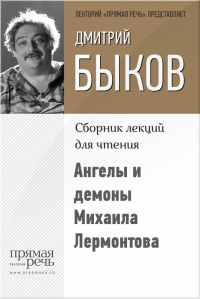





Комментарии к книге «Глобальные шахматы. Русская партия», Алексей Константинович Пушков
Всего 0 комментариев