Колючая роза
С ВЕРОЙ В ЧЕЛОВЕКА
«Ложь — это чума литературы».
«Если писатель не оптимист, он — мертв. Он вообще не может быть писателем. Писатель должен верить в человека, в мир — даже, если это необходимо, вопреки своему жизненному и мировому историческому опыту».
«Из процессов, сопровождающих урбанизацию, наиболее сильное впечатление производят на меня психологические изменения, вызванные тем, что человек отдалился от физического труда».
«Не люблю копаться в грязи жизни, в помойных ямах. Предпочитаю заниматься тем, что меня приподнимает, очищает и наполняет душу — героическим, романтическим. Отсюда и мое «верую»: «Описывай только то, что делает человека более человеком».
Николай Хайтов. Из бесед с журналистами.Есть в Болгарии такое место — Родопы. Горный район. Горы не очень-то высоки, не встретишь шатрообразных вершин, сияющих вечными снегами, бездонных пропастей и мрачных ущелий. Но склоны, покрытые густыми лесами, но светлые реки, бурлящие по камням, с серебряной форелью в их ледяных и чистейших струях, но живописные жилища и целые деревни, но перезвон колокольчиков на зеленых, просторных пастбищах, но многочисленные водолеи (чешмы) на витиеватых горных дорогах и тропинках, но некоторая все-таки обособленность этого географического горного района делают Родопы неповторимыми, самобытными и прекрасными.
Стоит упомянуть тут про один исторический курьез. Часть родопского населения во время османского владычества была омусульманена. Эти болгары-мусульмане называются помаками. От турок они были обособлены тем, что — болгары, а от братьев-болгар тем, что — мусульмане. Так вот, из-за этой двойной обособленности именно помаки сохранили в наибольшей чистоте как свой антропологический тип (они по преимуществу голубоглазы и светловолосы), так и исконный болгарский язык, а вместе с тем песни, обряды, обычаи, этнографию.
В условиях непосредственного соприкосновения двух религий (а если хотите, и двух цивилизаций), поскольку именно в Родопах нащупывается этот шов соприкосновения, вырабатываются наиболее яркие и сильные характеры, личности.
В этих-то Родопах и родился в 1919 году замечательный болгарский писатель Николай Хайтов.
История литературы всех времен и народов знает немало примеров, когда у писателя существовала первая, предваряющая профессия: врача, мореплавателя, артиста, офицера, агронома, педагога, дипломата, ученого… Все это в конце концов шло на пользу литературе, ибо очень важно, чтобы человек приходил в нее обогащенный опытом жизни, познавший действительность глубоко и в подробностях.
Если перебирать эти предваряющие, как мы их назвали, профессии и смотреть на них с точки зрения их благоприятствования будущему писательскому делу, то трудно найти профессию более благоприятную, нежели та, которой владел Николай Хайтов.
Он сначала, в тех же Родопских горах, был лесничим, лесоводом. Наиполнейшее и притом активное слияние с родной природой, ощущение ее прошлого, настоящего и будущего, ее не только ведь географической судьбы, ибо от состояния природы во многом зависит и жизнь людей, самого народа — где найдешь ценнее тот основной, первоначальный багаж, с которым человек постучался бы в двери литературы?
Николаю Хайтову было 25 лет, когда Болгария, в результате победы СССР во второй мировой войне, из государства монархического (царь Борис) превратилась в государство социалистическое, или, скажем так, — встала на путь строительства социализма, стала Народной Республикой Болгарией. Дата известна — 9 сентября 1944 года. Так что Николай Хайтов, становясь писателем, прекрасно помнил, как было «до», и не менее прекрасно знал, как стало «после».
Эти три важнейших момента: рождение в Родопах как в крае наиболее своеобразном и обособленном с точки зрения жизненного уклада и этнографии, активное соприкосновение с родной природой в должности лесовода и социальный, революционный перелом в стране, происшедший уже в зрелые годы будущего писателя, определяют все главные особенности, весь колорит, всю философию, весь публицистический пафос творчества Николая Хайтова.
Надо считать бесспорным, что граждански активный писатель, особенно в наше время, не может не существовать одновременно в трех ипостасях, создающих тем не менее единство, как металлы в сложном и прочном сплаве или как мифическая православно-церковная троица. Эти ипостаси: художник, очеркист, публицист.
И действительно, все три эти сферы, потока, элемента, составные части (назовите их, как хотите) мы находим у Николая Хайтова.
Его яркие, колоритные рассказы (настолько яркие, что один из главных своих сборников Николай Хайтов назвал «Дикие рассказы») прежде всего принесли ему известность как писателю. За этот сборник ему была присуждена Димитровская премия — высшая литературная награда в Болгарии. Рассказы переведены на многие языки. Некоторые из них экранизированы, а фильмы, подготовленные по этим рассказам, получали награды и премии в свою очередь.
Очерк, как таковой, даже трудно и выделить в чистом виде в творчестве Хайтова: рассказ может быть документальным, а очерк по своей словесной ткани художественным, «рассказовым», по крайней мере, приближающимся к рассказу. Скажем так: Николай Хайтов — автор многих работ по истории и этнографии родного края, сборников рассказов и очерков. Назовем главные из них: «Искры из очага», «Письма из дебрей», «Листья граба», «Гайдуки» (историческая хроника), «Капитан Петко-воевода» (документальная повесть), уже называвшиеся нами «Дикие рассказы».
Многие очерки Николая Хайтова я назвал бы скорее этюдами. Ведь никто же музыкальный этюд или живописный этюд не считает музыкой и живописью второго сорта, нет ведь понятия очерковой музыки и очерковой живописи. Достаточно прочитать такие этюды Хайтова, как «Родопская кошма», «Палочник», «Прощай, чечевица», «Чудо», чтобы понять, что мы хотели сказать.
Если говорить о публицистике в ее чистом виде, то надо назвать прежде других две большие работы Николая Хайтова, они суть: «Волшебное зеркало». — о сохранении чистоты родного языка и «Колючая роза» — о сложнейших взаимоотношениях человека и среды его обитания, окружающей среды, природы, Земли как планеты.
Конечно, об этом написаны сотни книг. Взять хотя бы книгу француза Дорста «До того как умрет природа» или нашего Владимира Чивилихина «Земля в беде». В этом смысле «Колючая роза» — не изобретение пороха. Но она сама — порох. Она оснащена таким количеством своих наблюдений и фактов, эти наблюдения и факты приведены в такую последовательность и стройность, все это умножено на такой публицистический темперамент, что в целом «Колючая роза» производит неотразимое впечатление. Кроме того, сколько бы об этом и как бы хорошо об этом ни было написано, лишнего не будет никогда.
Ведь земля и правда — в беде.
Читающие на русском языке не впервые встретятся с Николаем Хайтовым. Отдельные его рассказы публиковались в журнале «Иностранная литература», книга «Дикие рассказы» была издана в 1970 году издательством «Прогресс».
Новая встреча с замечательным болгарским писателем Николаем Хайтовым, издающимся теперь более широко и полно, принесет читателям новую радость.
Вл. Солоухин
ОДОЛЕЛ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК Рассказы
ВРЕМЕНА МОЛОДЕЦКИЕ
В те давние-то годы был я парень удалец, буйная головушка. Ростом невысок, зато крепенек. За спиною ружье торчит, за поясом нож к ножу топырятся. Два ли, три ли — того не помню, а левольверт — вот тут, на боку. Слава про меня шла, что лихости мне не занимать, так что когда собирался кто невесту умыкать, ни к кому другому — ко мне шли. В ту пору девок в жены брали без обхаживаний да улещиваний — времена были молодецкие.
Был у меня тогда сосед один, приглядел он себе в Настане девушку и как-то раз зазывает меня к себе.
— Сколько, — говорит, — возьмешь, чтоб выкрасть ее и свадьбу мне с ней сыграть?
— По сотне, — говорю, — мне и двум сподручникам, сверх того две сотни на пропой — всего, выходит, полтыщи, и можешь свадьбу играть.
На том и сладились. А через несколько дней отправились мы в Настан. Ну, а когда в селе четверо чужаков появились, ясное дело, сразу слух пошел. Упредили девку: так, мол, и так, умыкать тебя будут! Она из дому носу и не кажет. А братец ее ружье зарядил. «Пущай, говорит, только сунутся, живо им башки продырявлю!»
Ну ладно, ждем день, ждем два — девки все не видать. На третий день — дружок у меня в Настане был, Шукри звали — прибегает ко мне Шукри этот и говорит:
— Пошли они в Блатниште поле пахать. Туда идите!
— А девка?
— И девка, — говорит, — там.
Куда уж лучше! В чистом поле за нее и вступиться некому. Братец у нее, правда, крепкий орешек, но он один, а нас четверо.
Захватили мы с собой винца, ракии и зашагали к Блатниште. Где прямиком шли, где в обход и притаились под высоченными елями возле родничка. Сидим, ждем. Поле рядом, нам видать, как они там пашут — девка и брат ее.
— Давайте, — говорю, — хлебнем ракии, а в обед девка придет сюда волов поить, тут-то мы ее и сграбастаем.
Я, значит, так располагаю, да вышло не по-моему. Приметил нас пастушок один, залез на сосну и давай оттуда кричать что есть мочи:
— Э-э-эй! Шебан-ага! (Брата ее тоже, как и меня, Шебаном звали). В овраге люди чужие хоронятся, сестру твою умыкнуть хотят! Чужие лю-у-ди-и!
Говорю я своим:
— Плохо наше дело! Пойдем в открытую!
Брат ее, как увидел нас, топор — в руки, сестру собой загородил и кричит:
— Ворочайтесь назад, откуда пришли, не то худо будет! И ну пулять в нас камнями, чтобы ближе не подходили. Он пуляет, а мы знай себе идем, и я кричу на ходу:
— Эй, тезка, зря стараешься, все равно по-нашему выйдет. А насчет того, что худо будет, так еще посмотрим кому, нам или вам! Брось, — говорю, — топор и проваливай, а сестру твою мы не в плохое место отведем, в город, — говорю, — отведем ее!
— Назад! — не унимается он. — Не то башки прошибу!
У сподручников моих поджилки трясутся, а мне нипочем, иду и иду. Одна рука — на рукояти ножа, другая — на левольверте.
— Ежели башки прошибать, сучий сын, так давай прошибать!
И — на него, а он — на меня, да с топором, и разрубил бы, как пить дать, не отскочи я в сторону, так что топор только по руке моей проехался, вот тут, пониже локтя. Рассек рукав и в мясо врезался. Рука у меня враз ослабла — на счастье, левая. Крепкий я в ту пору был, здоровущий, никому спуску не давал. Схватил его здоровой рукой за шкирку, повалил на землю, коленом прижал, дотянулся до какой-то дубины, саданул ему по башке, и содрал кожу от макушки до лба. Потом размотал на нем пояс, и прикрутили мы пария к сосне, крепко-накрепко прикрутили, чтоб не трепыхался. Рану тоже тем же поясом перевязали — навертели, ровно чалму. И тут только спохватились: сестры-то его нету, ищи-свищи. Пока мы с ним возились, удрала девка, и след простыл. Как быть? Говорю жениху:
— Где у тебя глаза были, сучий ты сын? Ослеп, что ли?
Ну ладно, сунулись мы туда-сюда и нашли ее за грабами — лежит, чадрою прикрылась, затихла, молчит. Мы — к ней, а она — скок на ноги и давай отбиваться! Нас четверо, она одна, а уж заставила попыхтеть! Но как ухватили мы ее за косы — тут уж она угомонилась. Повели назад, в поле, к брату, а тот взмолился:
— Отпустите, — говорит, — не губите душу мою, не оставляйте у этой сосны погибать!
Ну мы и отпустили. Пожалели парня. А он как даст стрекача — быстрее ветра помчался! И про соху позабыл, и про сестру, и про все на свете. Сиганул в овраг, да и был таков.
— Ну, все, — говорю я невесте, — все! Пойдешь теперь с нами, женой этому доброму молодцу будешь.
— Уж не этому ли сопляку? Тьфу! — Плюнула она в его сторону. — Нипочем, — говорит, — не пойду за него!
Ну мы опять схватили ее и поволокли в гору, а она упирается, не идет и все тут! Волосы у нее в косички тоненькие заплетены, так мы, почитай, половину тех косичек выдрали, а она знай вырывается — и ни в какую! Тогда подхватили мы ее за руки, за ноги и так дотащили до Джиндовой топи. Не впервой мне было невест умыкать, но такой, как эта, еще не доводилось: ядреная, норовистая, и все при ней — и кость, и мясо, а про то, что спереди, и говорить нечего — ходуном ходит, огнем пышет, так что глядеть не наглядишься, тискать не натискаешься.
Из лесу поворотили мы на Грохотно. Опаска меня взяла, что братец ее кликнет в селе подмогу и кинется за нами в погоню. Поэтому пошли мы не на Девлен, а в обратную сторону. Несли мы невесту, несли, а потом притомились. Стали волочить ее за собой, так что шальвары у нее вскоре изодрались в клочья. Жених и говорит вдруг:
— Отпустим ее, братцы, а? Ведь зверь лютый, а не баба!
— Да ты что, — говорю, — рехнулся? Чтоб потом по всей округе молва пошла, что она верх над нами взяла?
Волокем ее, значит, дальше, все вниз и вниз, до самой речки. А там надо было переправиться на другой берег. Легко сказать — переправиться, а как? Вода в реке прибыла, мутная да буйная, аж кипит! Мост через нее есть, да, как говорится, не про нашу честь — посередке села он. Хошь не хошь, а надо вброд идти. Сподручники мои оба назад повернули, побоялись в воду лезть. И невеста тоже упирается — своей волей в воду не идет. Велю я тогда жениху:
— Взваливай ее на спину!
Оно бы хорошо, да девка-то высоченная, жених ей по плечо, как он ее «взвалит»? Я говорю:
— Ты пригнись, на корточки сядь, а она на тебя верхом!
Он-то присел, да она — опять ни в какую! Попробовал я толкнуть ее, но одной рукой несподручно. Она уперлась ногами — и ни с места! Вытащил я тогда нож, приставил ей к груди:
— Сейчас, — говорю, — всю кровь из тебя выпущу!
Я, значит, надавливаю нож, она изгибается, я надавливаю, она изгибается, пока не упала жениху на спину, и он подтащил ее к самой воде. А уж там — делать нечего — обхватила она его за шею.
— Топай! — говорю ему. — И не оборачивайся, а я ее за ноги придерживать буду!
Ну, идет он, идет и вдруг — бултых в яму и исчез под водой. И невеста с ним. Одни лишь чулки ее у меня в руках остались! Эх, думаю, жаль девицу-красавицу! И тоже — плюх в воду! Я верткий, плавать умею, воды не боюсь, но та вода и не вода была — сплошь каменюги да коряги намешаны. Одна коряга чуть мне брюхо не вспорола, другая по плечу двинула, третья по ребрам прошлась — и не знаю уж, то ли самому спасаться, то ли других спасать? Добро бы я еще при обеих руках был, а каково с одной-то рукой! Ну, делать нечего, с одной, так с одной. Ухватил я девку за ногу — зубами ухватил, не рукой, рукой-то вцепился в какой-то комель и по нему выполз на берег. Два часа кряду мы слова вымолвить не могли, сидим синие, от холода зубами лязгаем. А уж на небе месяц светит. С братом ее мы сшиблись в обед, покуда девку ловили — уже солнце село, а пока остальное все — и луна взошла.
Ну посидели мы сколько-то, я и говорю.
— Поднимайтесь, дальше пошли!
А невеста опять за свое.
— Не пойду, — говорит, — дальше! Лучше в реке меня утопите!
Я сначала по-хорошему:
— Будет тебе, Эмине, кочевряжиться! Вставай, пока по-хорошему просят!
— Нет и нет! У меня, — говорит, — в Драме брат есть, разбоем занимается, ежели попрошу — золотом тебя осыплет, только отпусти, не хочу я за этого замуж идти! Отпусти!
Жених заробел, сидит и ждет. В глаза мне засматривает.
— Вставай! — цыкнул я на нее. — Замуж тебя выдавать будем. Вот тебе муж, не парень — орел!
— На кой он мне сдался, орел твой, отпусти ты меня! Умру, а шагу дальше не сделаю!
Выхватил я свой левольверт и упер ей в грудь.
— Восьмерых, — говорю, — на тот свет отправил, — ты, — говорю, — девятой будешь! Восемь душ — ты девятая, коль немедля не встанешь и вперед не пойдешь!
Струхнула девка, встала. Идем мы, идем — светать начало. Смотрю — перевалили мы уже через Хамамбунар и по Кривому гребню к Девлену спускаемся. Всю ночь шли: где по тропе, где напрямки, через кусты да заросли продирались, так что лоскутка целого на нас не осталось — точно гребнем прочесало, каким шерсть чешут. Ладно, нам-то плевать, хоть нагишом, без штанов идти, а вот девке, как ей-то в городе показаться? Говорю я жениху:
— Шагай в город, принеси ей одежи, не вести же ее в Девлен такой оборванкой!
А он отводит меня в сторону и шепчет:
— Пойти-то пойду, только ты пока оставь меня с нею один на один, маленько я ее приласкаю, может, она тогда поукротится…
— Ладно, — говорю.
Прошли мы немного, и принялся я пояс на себе разматывать.
— Идите, — говорю, — вперед, я малость поотстану, нужду справлю.
Они дальше пошли, а я стою, но из виду их не выпускаю. Гляжу, остановились посередь дороги, жених вроде что-то сказал ей и подножку поставил. Она упала, а он повалился на нее. Но и тут не поддалась девка: как подожмет ноги да как вытянет, жених и полетел кубарем прочь, два ли, три раза кувырнулся — уж и не знаю. Эх, думаю, растяпа. Коль не по тебе дело — не берись! Догнал я их, пошли мы дальше. Послал я жениха за одежей, а мы с Эмине сели аккурат над самым Девленом дожидаться, покуда он одежу эту принесет. Уставилась на меня Эмине и говорит!
— Зачем ты меня слюнтяю этому отдаешь? Не надо мне такого мужа. Скорее руки на себя наложу, а в Девлен не пойду!
— Пойдешь, — говорю, — нельзя не пойти. Мне за тебя деньги плочены!
— Коли в деньгах дело, — Эмине мне в ответ, — мой брат тебя золотом засыплет, только отпусти ты меня!
— Уговор, — втолковываю ей, — дороже денег. Не миновать тебе в Девлен идти.
— С тобой, — говорит, — не только в Девлен, на край света пойду, а с ним — ни в жисть!
Ишь ты, куда дело-то повернулось! У меня, правда, дома своя баба была, да разве этой чета? Эта белая, как сметана, глаза ножом острым в сердце вонзаются, а грудь, брат ты мой, ну печь горячая: тесто кидай, хлеб пеки да ешь!
— Согласен? — спрашивает. — Вот она я!
И тогда — ох, сладок грех! — опрокинул я ее на одном краю поляны, а опамятовались мы аж на другом краю. Ни единой травинки, скажу я тебе, непримятой не осталось! «Пока что, думаю я, все любо-дорого, а дальше как быть? Взять ее за себя — ремесло свое опозорить. Не взять — ранить ее в самое сердце!»
Она почуяла, что засомневался я.
— С тобой, значит, пойду? — спрашивает, а глазищами так и сверлит.
В самое нутро мое вонзилась, проклятая баба! Дорого бы я дал в такую минуту, чтоб два сердца иметь — одно, значит, чтоб честь соблюсти, другое — для утехи, а оно, неладное, всего ведь одно! Хоть рассеки его, хоть пополам разорви — все равно одно и есть!
Ну, честь все ж таки перетянула, и сказал я ей:
— Не со мною пойдешь, а с ним. Ничего не поделаешь.
Как она тут завопит:
— Не пойду!
— Пойдешь! — говорю.
— Не бывать тому! — И кинулась прочь. Только что в глаза мы друг дружке глядели, а она прочь бежать. Я швырком на брюхо и хвать ее за пятку. Она ни встать мне не дала, ни приподняться — завертелась волчком, кружит, волокет меня по камням да колючкам, поляну-то, как гумно, можно сказать, измолотила, несчастная! Но я мертвой хваткой держу ее за ногу, не выпускаю. Под конец споткнулась она и упала, на губах — пена. Я тоже весь в ссадинах, да что делать было?
Передохнули мы, посидели малость, я и спрашиваю:
— Ну, а теперь как — пойдешь?
— Делай, — говорит, — со мной, что хочешь.
Тут наконец и жених явился. Приодели мы ее и стали в город спускаться. До дому, как говорится, рукой подать — мост перейти и все. Закончили, значит, дело, как следует быть, полегчало у меня на сердце, повело песни петь…
Да-а… Самое, оказалось, время для песен…
Только это мы к мосту подошли, глядь — бросается нам наперерез кто-то, лица не разглядеть, и орет:
— Сто-ой, гад!
Увидал я дуло ружейное — ну, шагах в десяти от себя, самое большее. Да еще голову перевязанную увидал, и тогда дошло до меня: ведь это брат ее, невестин-то… Знал он, что к Девлену ниоткуда больше не подойти, вот и поджидал нас у реки, под мостом. Жених как расчухал, в чем дело — а шел он позади меня, — нырнул в межу, под куст, а я остался один посередь дороги. Одна рука на перевязи, левольверт за пояс глубоко засунут, покуда выхватишь, тот сто раз меня из ружья своего прикончить успеет.
— Стой, ни с места! — орет мне невестин брат и, значит, навстречу идет — сестру отымать… А ружье свое на меня наставил.
Но тут, брат ты мой, хошь верь — хошь не верь, сестрица его, которую мы целую ночь волоком тащили, все на ней в клочья изодрали, вдруг — прыг! — сбоку от меня была, а впереди очутилась. По своей воле! Ухватил я ее за пояс здоровой рукой и кричу брату:
— Шаг один сделаешь — брошусь с твоей сестрой в реку!
А река под ногами так и кипит — страшное дело! Ну он и застыл на месте, а я задом да через мост — на ту сторону. Сестру его крепко держу, не отпускаю, а он только смотрит — ни вдогонку не бежит, ни стрелять не стреляет… Вот когда привелось увидеть: человек что мумия, что свеча восковая, в лице — ни кровинки! Постоял он, будто окаменелый, потом ружье швырнул, лицом в ладони уткнулся и — заплакал! Никогда я до того не видел, как мужик плачет, а вот привелось… Хотел я вернуться, отдать ему сестру, а нельзя: одно дело — хотеть, другое дело — мочь, а третье и четвертое — взять да сделать.
Так вот и доставили мы невесту в Девлен. И первым делом к мулле, чтоб окрутил их. Мулла спрашивает ее:
— Согласна ли ты стать женой этого человека?
— Не согласна! — кричит.
Тут и мулла раскричался:
— До чего супротивная баба! Живого места на ней нет, а она — свое! Веди, — говорит, — Шебан, ее назад в лес, пускай посидит там одна, может, в разум войдет.
Испугалась тогда девка и сдалась. Окрутили их…
— Ну, а потом, Шебан-ага, что потом с ними стало? — спросил я.
— Потом-то? Два месяца прожили они, самое большее… Как-то раз говорит она моей жене: «Пойдем, соседка, со мной в поле. Поучи меня кукурузу сеять, потому не умею я сеять кукурузу-то». Муж отпустил ее (а до того дня никуда не пускал), и пошли они с женой моей, чтоб жена поучила ее кукурузу сеять. Пошли, значит, вместе, а воротилась жена одна. Молодайка-то не воротилась — через реку перебралась да назад в родное село ушла.
Вскорости прислала она мне весточку — приходи, мол, потолковать надо. Пошел я, и она мне сказала:
— Разведи меня со слюнтяем этим, а я за это дам тебе все, что попросишь.
— Что же дашь-то?
— Два золотых, материи на три пары обмоток и кожи на постолы…
Вон сколько всего посулила.
— Коли так, — говорю ей, — не беспокойся. Считай, что дело сделано.
Воротился я в Девлен и сразу принялся за своего соседа:
— Брось ты ее, — говорю ему, — что ты ни делай, по своей воле она к тебе не воротится. Хочешь, чтоб женой тебе была — надо сызнова умыкать ее, как в тот раз умыкали.
— Ни за что! — перепугался он. — Нипочем в другой раз за такое дело не возьмусь, лучше уж бобылем свой век буду доживать.
— Коли так, — говорю, — брось ты ее, мы тебе другую умыкнем, смирную, чтоб жить тебе и горя не знать!
— Сколько, — спрашивает, — возьмешь с меня в этот раз?
— Да по сотне, — говорю, — мне и сподручникам моим да две сотни на пропой, всего, выходит, полтыщи.
— По рукам! — говорит. — А той, бешеной, поди скажи, что не надо мне ее больше!
— Зачем я ей говорить буду? Сходим вместе в Настан, мулла разведет вас, и дело с концом!
Сходили мы в Настан, развели их, потом другую невесту ему присмотрели и умыкнули ее. Только на этот раз умыкание совсем другое было: чуть ухватили ее за косы, она сразу притихла…
А та, как посулилась, и два золотых отдала, и все прочее…
Много я баб умыкал, но эта, брат ты мой, присушила мое сердце, потому — всем бабам баба, что ни возьми — все при ней. По сию пору вспоминаю о ней и жалею. Да ведь как давеча говорил я тебе: одно дело — хотеть, другое дело — мочь, а взять да сделать — это уж третье и четвертое.
Перевод М. Михелевич.
КОГДА МИР СБИЛСЯ С ПАНТАЛЫКУ
Один, бывает, пострадает на войне, другой — от бабы, а меня заел «Бакиш». Поедом меня ел и чуть не довел до погибели. Но лучше я тебе все с самого начала расскажу, по порядку.
Был я чувячных дел мастером. Ты не путай, чувячный мастер это не то что башмачник. Башмачники — они потом объявились, кусок хлеба у нас отняли. А раньше-то, пока они нас не выжили, мы, чувячных дел мастера, на базаре заправляли. Лавки наши помещались все у фонтана, в самом, можно сказать, центре города, восемнадцать их было, одна за другой, точно бусины на четках. Как выставим свой товар перед дверью, до того весело и пестро: тут тебе и белое, и черное, и коричневое, и красное — как на ярмарке, право слово.
Каких мы только чувяков не шили! Если ты щеголь — греческие покупаешь, носки у них загнутые, как птичий клюв, и кисточки шелковые болтаются. К ним носили шапку набекрень и кинжал за поясом. Для людей посолидней мы другие шили — с тупым носком, на толстой подошве. К таким каракулевую папаху надевай, желтые четки иерусалимские в руки бери. Был еще особый фасон — плотогонский: белые, плоские, сзади язычок, мягкие да легкие, как голубиное крылышко. Покупали их больше плотогоны с Марицы, потому и прозывались они плотогонскими, но кто толк понимал в красоте, тоже их брал. Были чувяки пожарничьи — для пожарников с каланчи, с набойкой на пятке, с ремешком сзади, чтобы быстрее надевались и крепче держались. И каких еще только не было! Для мастеров и подмастерьев, для буйных и смирных, холостяков и женатых. Никаких тогда не требовалось бумаг и удостоверений — глянул, что у человека на ногах, и сразу все ясно: в каких он годах, умен иль не очень, при деньгах или в карманах ветер свищет, смирного он нрава или буйного, каких занятий и в каком квартале живет — Амбелинос, Жаблица или Метошка. Теперь не то! Все обуты одинаково. Поди разбери, что за человек, откуда, кто таков.
И по сию пору не могу я взять в толк, отчего это люди прельстились башмаками, Разве они лучше чувяков? Нет! Куда им до чувяков! И сравнения никакого. Дешевле они? Тоже нет! Дороже еще! И все-таки взяли они, треклятые, верх над чувяками. Сначала объявился один башмачник — не знаю уж откуда, потом прибился еще один — двое их стало, значит. Чужаки они были, и гильдии своей у них не было, но народ кинулся к ним, а наши молотки и колодки начали ржой покрываться.
Собрались мы все — и молодые мастера, и старые, — чтобы вместе обмозговать, как дальше быть. Мы, кто помоложе, яримся, предлагаем столкнуть обоих башмачников в реку — мол, напугаются, тогда и дадут деру. А старики не соглашаются. В особенности турок один, Али по имени. Он мудрый у нас, башковитый был, борода седая, шея малость кривоватая. Так вот он нипочем не соглашался, чтобы мы башмачников в реку бросили.
Дело, ребятки, — говорил он, — не в чувяках и не в башмаках, дело в том, какой на свете порядок! Коли стал мир чувяки скидывать, не помешать тому, нипочем не помешать. Коли он, — говорит, — потури скидывает, то и чувяки скинет беспременно. Не трожьте вы башмачников. А лучше, кто еще молодой, позабудьте про чувяки и садитесь башмаки тачать!
Мы все на Али набросились, шум поднялся, еще немного и его б самого сбросили в реку. Стали кричать, что подкупленный он, из ума выжил, и бог весть еще чего наговорили. Под конец мы, молодые, рассудили по-своему: собралось нас пять молодцов, на ногах чувяки, за поясом кинжалы острые, подкараулили этих несчастных башмачников и спихнули в воду. А сами отправились в корчму к Петру Бледной Немочи, наняли шарманщика, вина густого заказали, и пошло у нас веселье: до самого утра песни пели, вино рекой лилось, стаканы в зубах трещали. Ни у кого и мысли не мелькнуло, что последняя это у нас, чувячных дел мастеров, гульба. Только мы собрались по домам разойтись, слышим — в набат бьют, пожар! Выбежали поглядеть, где горит, и вмиг протрезвели: наши лавки полыхают. Ну, тут и ведра с водой, и половики мокрые, и пожарники с кишкой! Да разве тремя бочонками загасить старые, сохшие-пересохшие строения, которые от одной искры вспыхивают? Стены рушатся, крыши сами в огонь срываются, а чувяки пищат в огне, точно живые!
Башмачники-то оказались не робкого десятка — мы их в реке искупали, а они нам красного петуха пустили, рассчитались око за око, зуб за зуб. Кинулись мы бока им память, а их уже давно след простыл.
После пожара большинство из нас бросили свое ремесло, разбрелись кто куда. Кое-кто отстроил лавки заново, а я — один из всех — остался без лавки и без гроша ломаного. Сунулся туда-сюда, никто даже и не сулит ничего. Наконец повстречался мне однажды мясник Колю, по прозвищу Прыщ.
— Слыхал я, Коста, — говорит, — будто ты все еще лавкой не обзавелся.
— Так оно и есть, — говорю.
— А коли так, могу тебя безо всякой платы в свою лавку пустить, но при одном условии: исхлопочи мне в городской управе разрешение мясные туши вешать на крючках перед дверью, на улице, как раньше заведено было. Если выгорит это дело, мне лавка только вечером нужна будет, а днем шей свои чувяки сколько душе угодно.
Обеими руками уцепился я за ту соломинку и бегом к городскому голове:
— Будь отцом родным! Бога за тебя молить буду, гостинцами завалю, только разреши Колю Прыщу мясо на крюках перед лавкой вывешивать, он меня за это в лавку свою пустит. Погорелец я, не оставь без помощи!
А тот — ни в какую!
— Как я могу дать такое разрешение, когда от ветеринарного начальства приказ есть, чтоб не висели мясные туши на улице. Одному разрешить, за ним остальные вылезут, и конец тогда гигиене.
Но я не отступался, умолял, улещал, посулил летом у него на винограднике отработать и в конце концов уломал.
— Ладно, — говорит, — только сперва Таратора уговори.
А Таратор был у нас важная шишка, депутат и все такое прочее. Пошел я к нему: так, мол, и так. Он говорит:
— Нет, нет и нет!
Но я все-таки нащупал его слабое место.
— Вроде бы, — говорю, — скоро выборам быть? В нашем роду сорок пять душ, не считая троюродных и четвероюродных. Могу тебе их всех скопом привести, сорок, а то и пятьдесят голосов прибавится — глядишь, тебе депутатство и обеспечено! Возьмем, говорю, флаг вашей партии и пройдем по всем торговым рядам, только устрой то дельце, о каком я хлопочу, ведь сущая пустяковина!
Ну, этот тоже сдался.
Ночью Прыщ врыл перед дверью столб, к столбу крюк приладил, повесил тушу, а еще через день все мясники вывесили туши на прежних местах. Ветеринар столбы валить не осмелился, и мясной ряд возродился снова.
Взял я денег взаймы, купил новую машину «Зингер», новых колодок, подошв, сафьяну и опять занялся своим ремеслом. Всяких чувяков нашил — греческих, плотогонских, пожарничьих, всех цветов и фасонов, — черные, белые, красные, тупоносые и остроносые, с язычками и без язычков, нанизал их на веревку и повесил перед входом в лавку, кто ни пройдет — взглянет, кто ни взглянет — остановится. Одни только поглядят, другие купят, и вроде дела мои пошли в гору. Еще до пожара была у меня невеста, набрался я храбрости и сыграл свадьбу. Сняли мы с ней пустую, можно сказать, комнату, два стула да столик, но ведь у меня в руках ремесло было, и рассчитывал я, что заработаю и на дом собственный, и на всякую утварь домашнюю. Но тут — надо же — объявился этот «Бакиш»!
Как-то раз утречком говорю я Колю Прыщу:
— Послушай, Колю, давай сегодня на пару пообедаем — ты мясца дашь, от меня — зелень.
— Согласен, — сказал Прыщ. — Давай деньги, зелени куплю.
Дал я ему денег, пошел он на базар. И что-то долго его назад нету. Потом возвращается, картошки несет, укропу, лук и еще издали кричит мне:
— Беги, Коста, на базар, погляди на диво-дивное! Постолы из резины продают! Чуть не задаром!
Екнуло у меня что-то внутри. Отложил свой молоток и пошел. Наро-одищу-у-у! Не подойти, не протолкнуться, облепили лоток со всех сторон, а на нем доверху постолы навалены. Взял я в руки один, перевернул вверх подошвой, на подошве написано «Б а к и ш» — р е з и н о в а я ф а б р и к а.
— Почем? — спрашиваю продавца.
— Десять левов. А три пары возьмешь — могу скидку сделать, по восемь отдам!
Гляжу я на постолы, щупаю: тяжеленные, как гири! Куда им до моих, к примеру, плотогонских чувяков с желтым кантом, легких как перышко! Но это я понимаю, а для других что тяжелые, что легкие — все одно! Народ набежал простой, что блестит, то им и любо, хватают эти утюги резиновые почем зря! Старую обувку с ног скинут, новую, резиновую, наденут и скорей бежать к фотографу — на карточку сняться в «Бакише» на ногах. Муторно мне, скажу я тебе, стало. И не из-за чего другого, а из-за карточек. Столько лет шил я свои чувяки, столько умения положил и стараний, ни от кого спасибо не слыхал. А эти мокроступы, в которых ни красоты нет, ни души, ни умения, — с прилавка — и сразу на карточку!
Ни одного человека не нашлось с пониманием, в чем она есть, истинная красота.
В лавку я ворочаться не стал, а отправился прямым ходом в корчму и нализался так, что не помню, как меня домой приволокли. С той поры дела мои пошли хуже некуда. Отбил у нас «Бакиш» всех заказчиков из деревень, и застопорилась наша торговлишка. Сбавили мы цену на свой товар. «Бакиш» тоже сбавил. Он продавал за наличные, мы надумали в кредит торговать и тем его одолеть, но опять остались внакладе. Покупатели взяли привычку только в долг и брать, наличными совсем платить перестали. Один говорит: «Жалованье получу — отдам». Другой: «Вот виноград продам — расплачусь». Третий сулится отдать, как хлеб обмолотит, пятый, шестой — в том же роде, конца-краю нету. Я уж не говорю про всяких там любителей поживиться на даровщину — приставов, финансовых агентов, стражников — берут, тащат и спасибо даже не скажут. Про них и говорить нечего. Один тебе саблей грозит, другой — бумагой казенной. А у городских полицейских одна угроза: «Смотри, заставим мясников убрать свой товар в лавки!» И брали у меня чувяки, кто для бабки, кто для жены, кто для ребятишек, все будто до следующего жалованья, а ни один гроша медного не отдал!
До того я с этим кредитом влип, что даже в церковь к причастию мы с женой и тещей стали по очереди ходить — потому на троих всего одна пара чувяков была!
Как увидал я, что вконец прогорает моя торговля, решил твердо-натвердо: «Никому больше в долг не даю! Хоть сам господь бог с неба явись, отправлю ни с чем, пока не выложит наличными!» Даже клятву дал. Встал на колени и вслух поклялся: «Господи Иисусе Христе, чтоб мне ослепнуть, если я с этого дня хоть одному человеку в долг поверю!» Осенил себя крестом, но еще с колен не успел встать, вижу, входит дружок родителя моего из Козанова, был у него такой, Митю, Воркун по прозвищу. Улыбается во весь рот, на плече — торба, кричит с порога:
— Привалило тебе, Коста, счастье! Пришел я для тридцати свадебщиков чувяки покупать! Показывай товар, у меня с собой мерки есть!
И вынимает из мешка горсть лучин — мерки, по которым он чувяки покупать собрался свадебщикам в подарок. Вот эти ему подай и те! И вон те еще и эти! Почти все, что у меня наработаны были, отобрал, в торбу свою затолкал и — к выходу.
— Постой, а деньги?
— Хлеб обмолочу — отдам! — отвечает. — Запиши в долг.
— Ах, в долг? Давай сюда товар!
Он глаза выпучил. Хочет уйти, а я его назад тащу.
Схватились мы крепко, отобрал я у него торбу, вытряс оттуда чувяки, схватил у Прыща секач и давай их рубить на мелкие кусочки. Все соседи сбежались.
— Да погоди, Коста! Будет тебе! Перестань!
— Никаких «погоди», никаких «перестань»! К чертовой матери, пропади они пропадом и чувяки эти, и ремесло мое распроклятое, и «Бакиш», и покупатели — обманщики и разорители, и весь этот растреклятый мир, который вовсе сбился с панталыку.
Чертыхаюсь и рублю, рублю и чертыхаюсь, пока не порубил все чувяки в мелкую крошку. А потом швырнул секач и пошел. Не домой пошел, а вниз по реке, потому кипела во мне ярость и не хотелось на людей глядеть. Сел я на берегу, голову в воду окунул, поостыл, и вдруг до того легко стало! Нету больше должников, нету налоговых агентов, нету хапуг-полицейских, нету «Бакиша» — душителя моего. Ничего нету! Нету! Нету!
Да-а… Их-то нету! А жена есть, и дом есть. Пустой дом, голодный. А в доме теща. И всегда-то она мне в руки смотрит: с хлебом иду или без, и тут же глаза на жену переводит: дескать, видала? Она ведь уговаривала ее не за меня идти, а за внука Хаджи Фаницы, у которого восемнадцать декаров бахчи. Но Минка за меня пошла, и мать не может простить ей этого. Как я сейчас ей в глаза посмотрю? Как скажу, что у меня за душой гроша ломаного нету? Уж лучше в реку вниз головой — и покончить с этим позором!
Встал я, походил по берегу, поискал, где поглубже, перекрестился, сказал: «Прощай, Минка!» — и бултых в мутную воду. Хотел поглубже нырнуть, чтоб поскорей на дно, а ткнулся во что-то мягкое. Открыл глаза — кошка! Дохлая кошка плавает. Тошно мне стало, и я давай скорей на берег выбираться. Сел пообсохнуть и стал размышлять. Для чего мне топиться? Чтобы Минка внуку Хаджи Фаницы досталась? А почему бы не дернуть в Америку? Я там на целых две бахчи заработаю, пускай тогда теща локти себе кусает!
В Америке у меня как раз двое парней знакомых было — еще до четырнадцатого года подались в Детройт. А когда война началась, они — патриоты, вишь — назад из-за океана приплыли, кровь за Болгарию пролить. Зачислили их в роту капитана Челбова. Однажды на марше, когда мы месили грязь на дороге, один из них ненароком обрызгал капитана. Капитан, сукин сын, сразу за хлыст. «Куда прешь, сволочь?» — кричит. И хрясь американцу по шее. Тот солдатчины-то еще толком не хлебнул, дисциплине военной не обученный, как пошлет капитана по матушке! Челбов — за револьвер. И пристрелил бы, как пить дать, еле удержали. Приказал он влепить американцу двадцать пять палок. Я тогда при Челбове денщиком состоял и умолил его не наказывать американца перед всей ротой, а в палатке, подальше от глаз, чтоб не осрамить вконец парня — все ж таки по своей воле приехал помирать за отчизну. Послушался меня капитан и поручил мне провести экзекуцию. Ввел я американца в палатку, велел вопить во всю глотку и начал: р-раз палкой по ранцу, американец ревет, будто его режут. Я колочу, он ревет, пока не досчитали мы до двадцати. Пять только раз ударил я его по-настоящему — так уж, для порядку. С той поры паренек просто молился на меня, в огонь и воду за меня был готов. Когда подошла демобилизация, он при расставании сказал мне:
— Здесь у вас, Коста, при таких, как Челбов, не жизнь! Махнем лучше со мной в Америку. Капиталец сколотишь, а потом будет охота, так и вернешься.
Вспомнились мне эти слова, и решил я: в Америку, другого выхода нет! Многие там счастье свое нашли, авось и мне повезет!
Воротился я домой веселый. Жене и теще ни гугу. Послал письмо своему американцу, через месяц с небольшим пришел ответ: «Приезжай! Жду! Встречу по-царски».
Исхлопотал я себе пачпорт — в те времена пачпорт исхлопотать было раз плюнуть, а жене по-прежнему ни полслова. Крик поднимет, плач, попробуй успокой. Я так решил: уеду втихую, а из Америки пришлю весточку. И день уже назначил — двадцатое августа. Велел жене сварить в тот день обед с мясом. Отобедали мы, и я пошел… Пойти-то пошел, да вдруг защемило у меня сердце, жалко стало с городом родным расставаться, будь он трижды неладен. «С женой не простился, — думаю, — дай хоть с городом прощусь». Времени до поезда еще оставалось порядочно… Прошел я по торговым рядам, спустился к Чинаре, где у нас Офицерское собрание было. В окнах свет горит. В самый раз напоследок на родную болгарскую фуражку поглядеть. Окошки там низкие, заглянул я внутрь и вижу: господа офицеры, бездельники, сидят за столом, посередке стола бочонок поставили, цедят из него что-то желтое, пенистое и пьют. «Пиво!» — смекнул я. И раньше слыхал я, что появилось такое питье, но какое оно — ни видать, ни пить не доводилось. Так вот, значит, сидят господа офицеры, пьют, кружками стучат. Они пьют, я гляжу.
И вдруг вспомнились мне слова старого Али: «Коли стал мир чувяки скидывать, нипочем тому не помешать. Коли он потури скидывает, то и чувяки скинет беспременно. И много еще чего произойдет». Вон она — новая мода! Просто моча желтая, можно сказать, а господа офицеры дуют вовсю, потому — в новинку! Но только на сей раз и я с этого дела пенки сниму! А там будь что будет! Америка, рассудил я, никуда от меня не уйдет. Пачпорт тоже. Подхватился я — и в Прангу, в родное село.
— Отец, — говорю своему старику, — один раз ты меня родил на свет, роди во второй!
— Ты что, Коста, — удивился старый, — нешто может человек дважды на свет родиться?
— Может, — говорю. — И три раза может! Отдай ты мне мою долю от своего сада, я продам ее и сделаю то, что задумал.
И рассказываю ему, на какую я жилу набрел. Отец у меня прежде в лесной охране служил, уразумел что к чему и — царствие ему небесное! — спорить не стал. Завязал я в платок десять, золотых, купил патент, привез из Пловдива пива, бочонок льду, жаровню — мясо жарить, две тарелки, две кружки, а Вангелаки богомазу велел нарисовать святого Георгия на коне — в одной руке кружка с пеной через край, в другой — копье, а на копье котлета нацеплена, под картиной — подпись громадными буквами, черными по желтому нолю: «Пиво ледяное офицерское».
Народу слетелось — туча! Народ ведь как кинется — его не остановишь. Пиво — горечь одна. А им, дурачью, все равно! Некоторые интересовались, отчего оно офицерское.
А я говорю:
— Уж такое оно есть.
Фотограф увидал, как люди пиво мое лакают, поставил свой аппарат возле моего ларька и стал снимать всех любителей с кружкой в руке рядом со святым Георгием. Простых любителей он снимал с кружкой в руке, а самым ретивым на голову еще желтую каску напяливал, какие пожарники носят.
Попросил я Вангелаки подсобить мне: он котлеты жарит, продает, я пивом торгую, и уже к обеду выцедили мы все пиво до последней капли. Денег я напихал полный ящик! И говорю Вангелаки:
— Охота тебе была святых малевать? Не видишь разве, что теперь и на святых спрос поубавился? Давай лучше вместе торговать — ты будешь котлеты жарить, я пиво разливать.
— Давай! — говорит Вангелаки. — Все одно у нас в городе никто в иконах и картинах не смыслит. Коль я тебе подхожу в напарники — давай! Я ведь и фигуры лепить могу, так что котлеты наделаю — первый сорт!
Купили мы в Избегли буйволиную тушу, наготовили фаршу. У Вангелаки пальцы длинные, ловкие, котлетки он лепил аккуратненькие. Я десять бочек пива привез, и завертелась у нас такая торговля, что «Бакишу» впору мне завидовать. Пошло дело! Деньги повалили валом! К вечеру чуть не мешок их набирался, даже считать было лень.
— На, посчитай! — пихает мне, бывало, выручку Вангелаки. — А то я с ног валюсь.
— Считай ты! — отмахиваюсь я. — Я сам валюсь.
В конце концов решили так; один день он выручку считает, другой день — я.
Взыграла у меня душа от таких доходов, купил я жене шелковой материи на платье и велел сшить у самой дорогой портнихи, какая есть в городе. Жена показала подарок матери и похвасталась, кому шить отдаст. У тещи аж глаза на лоб полезли:
— Ты в своем уме иль нет? Чтоб жена какого-то лотошника платья портнихам шить отдавала? У муженька еле-еле на хлеб хватает, а ты форсить будешь, точно госпожа какая!
На другой день спрашиваю у жены, почему она новое платье не надела.
— Оно, — говорит, — не сшитое.
И рассказывает про то, что мать не разрешила шить его и какие при этом говорила слова.
— Скажи своей матери, чтобы завтра вечером спать не ложилась, а сидела и меня дожидалась!
На другой вечер ссыпал я выручку в мешок, не считая, мешок на плечо взвалил и домой. Жена с тещей сидят, дожидаются. Говорю жене:
— Постели скатерть.
Она постелила, я мешок вытряс, зазвенели монеты, покатились во все стороны, теща чуть умом не тронулась.
— Давай, — говорю, — тещенька, поработаем, денежки вместе посчитаем. Ты, — говорю, — шестилевовые монеты считай, Минка пятилевовые, а я бумажки складывать буду!
Старуха слова сказать не может. Три раза глаза терла — проверяла, не во сне ли такое привиделось, а потом взялась считать. Считали мы, считали, а как пересчитали все — сгреб я две пригоршни ассигнаций и бросил жене на колени:
— Держи, жена! Это, — говорю, — тебе, чтоб портнихе платить. А это — кидаю две пригоршни шестилевовых монет теще, — тебе, старуха, чтобы запомнила ты те времена, когда мир сбился с панталыку.
Ну, про Али я тоже не забыл. Взял его к себе в зазывалы, потому что это он мне глаза раскрыл, объяснил, что к чему, и от «Бакиша» спастись помог.
Али здорово зазывал, на совесть. Шея у него была кривая, чалма драная, но уж коли он брался за какое дело, то всю душу в него вкладывал. Только почему-то «ледяное» он выговорить не мог и кричал: «Пиво ильдяное! Ильдяное пиво-о!»
Перевод М. Михелевич.
СТРАХ
Как-то раз вызвал меня лесничий к себе, дверь поплотнее закрыл и говорит:
— Есть, Порязов, тебе одно секретное поручение: в Каракузе лесник, по всему видать, помер! Вот уж пятнадцать ден никто его в округе не видал, и в управе он тоже не показывался. Ты у нас старший объездчик, поезжай в Каракуз и лично проверь, жив он там или нет.
— Слушаюсь!
— Оружие захвати, патроны — и с богом! Район пограничный, население мусульманское, а сверх того слух идет, шайка Али Бекира опять объявилась, так что гляди в оба!
— Слушаюсь, господин лесничий!
В те времена «господин» говорили, а не «товарищ».
Наложил я в сумку провизии дня на три, вскочил на коня — и в путь. Ружья с собой не взял: ружье — его издали видать, в глаза лезет, а я наган зарядил — был у меня наган с барабаном на шесть патронов. Со ста двадцати шагов на дереве лист пробивал.
В Каракуз дорогой ехать семь часов, а я — напрямки, по тропкам, за пять проезжал, да еще успевал по сторонам глазеть, пить останавливался и прочее. Горы там высокие, лес дремучий — деревья толстенные, в три обхвата, а на скалах орлов полно — было на что поглядеть, но у меня лесник из головы не выходил — неужто его прикончили или что другое стряслось?
И всю дорогу, пока я взбирался верхом на кручу, не выходил он у меня из головы: что бы такое могло случиться? Хотя, по чести, с лесником всякое случиться может. Ведь он следит, чтоб порубки не было да потравы, а в таком деле всегда кто-нибудь может всадить пулю либо ножом пырнуть. За сколько-то лет перед тем случилось такое со средокским лесником. Он чьих-то коз застал на вырубке, снял с них колокольцы, а пастухам без колокольцев нельзя — они ведь по ним обмирают, по колокольцам этим. Вот и подстерегли лесника, огрели дубиной разок-другой, и нету человека. Из-за двух ржавых колокольцев!
На меня тоже Бурунсуз из Карамушицы и Салих Кривой ножи точили. Кривой мне потом сам признался.
«Кабы ты, — говорит, — бежать кинулся, я б тебя беспременно ножом проткнул, потому как я, — говорит, — с тридцати шагов сосновую доску могу пробить! Но ты, — говорит, — не струсил и тем жизнь свою спас».
Среди этакого народа лес стеречь — дело непростое, тем более у них за спиной был Али Бекир, родом болгарин из Драмских сел, но веры мусульманской. Он ходил через границу, угонял мулов с нашей стороны и сбывал на греческой. Вместе с ним еще трое орудовали. Акцизного из-за коня прикончили, а пастуха одного — за то, что отказался барашка им зажарить. С той поры у всех браконьеров и порубщиков Али Бекир не сходил с языка, с его именем вставали и спать ложились, его именем грозились и запугивали. Я, сказать по правде, не Али Бекира опасался, я о другом думал: в такие времена кого хочешь можно пристукнуть — хоть лесника, хоть полевого сторожа, — все спишут на Али Бекира.
Конь у меня был сильный — к полудню я уже добрался до Холодного ключа. Оттуда дорога петлями шла книзу — все вниз да вниз, где через кустарник и сливовые рощи, где по камням да скалам, и так до самого Каракуза.
Каракуз тогда не село было, а так, несколько выселков небольших, раскиданных по соседним горушкам. Поодаль, у реки — деревянная мечеть с минаретом, народ сходился туда по пятницам поклоны бить. Ни старосты, ни сборщика налогов у них не было. Помощник старосты жил на ближних выселках, но он, оказалось, поехал на гумно молотить, так что волей-неволей пришлось мне к мулле идти.
Мулла дома был: сидит в тенечке под ивами, чалму снял — жарко, чувяки с ног скинул, сидит, чинит вьючное седло. Молодой ли, старый — не понять, борода обкромсана ножницами. «Хош гелдин!» — «Хош булдук!» — поздоровались мы. Он меня сесть пригласил, коню моему сенца кинул, а я стал обиняком дознаваться про лесника — случаем не видал ли?
— Я, — мулла говорит, — дней пятнадцать уж на гумне молочу и никого не видал. Сегодня пришел домой, потому похороны у меня.
Человек у них один помер на соседних выселках, Метко по имени.
— А ты, — мулла спрашивает, — по какому делу сюда?
Я говорю, так, мол, просто объезд совершаю.
— Твое счастье, — говорит мулла, — что ты меня застал, переночуешь у меня в медресе, а утречком, как рассветет, поезжай куда тебе надо.
Медресе ихнее показалось мне вроде сарая — приземистое, глиной обмазанное, в одной комнате, попросторнее, школа, в другой, поменьше, мулла живет. В комнатушке этой кровать была — на двух козлах доски положены, козьими кошмами застланы, а поверх них шкуры козлиные, штук пять-шесть. Еще там стол стоял, стул и жаровня. Пол подметен, чисто, на стенах ни одного клопиного следа. Ночь вполне переспать можно. Мулла показал, как запирать дверь, какой кошмой укрыться и какую под себя стелить, потом вынул из-за пояса карманные часы с двумя крышками — огромнющие, с солонку величиной, — глянул и скорей на минарет голосить… Ну, поголосил он там, что положено, попел ихние молитвы, а как кончил, обернулся к домам на ближнем бугре да как заорет:
— Э-эй, Расим! Гяур у меня тут. Принеси ему еды какой!
Пока мулла кричал да голосил, показалась похоронная процессия — одни мужики, ни одной бабы. Несут покойника, завернутого в кусок рядна, а старик с длинной бородой идет позади и выкрикивает: «Аллах, аллах! Аллах, аллах!»
Вошли они в мечеть вместе с муллой, а я стреножил своего коня и пустил пастись. Вдруг слышу топот: бегут по кладбищу люди, мчатся врассыпную, кто куда, руки за шею закинуты, бегут не оглядываются, будто за ними сама смерть гонится по пятам. Увидал я, что и мулла тоже с ними, и вспомнил, что слыхал от людей про этот чудной мусульманский обычай: когда покойника опустят в могилу и первый ком земли бросят, надо разбегаться и назад не глядеть.
Покончив с похоронами, мулла заглянул ко мне попрощаться. Показал, на какой горушке его родные выселки, и ушел.
— Нынче же, — говорит, — пошлю кого-нибудь из наших в лес поискать лесника, а ты ложись себе спокойно и спи. Завтра приду пораньше, горячего качамака тебе принесу!
Ушел мулла, а вскорости явился ко мне помак, борода всклокоченная, в руках медный котелок и узелок с едой. Я догадался, что это Расим, которого мулла давеча с минарета кликал. Положил он еду на стол и пошел к двери.
— Посиди со мной, — говорю ему. — Тебя как звать?
А он мычит — язык у него отрезанный. Я подумал — утром спрошу муллу, кто и за что ему язык отрезал, да до утра такие дела сотворились, что я своего-то языка, почитай, лишился, а про Расимов язык начисто позабыл.
Немой ушел, и остался я один. Дома, на горушках раскиданные, видать-то видать, но даже в самые близкие пальни из карабина — пуля не долетит. И никого рядом, ни единой души, не с кем словом перекинуться, цигарку выкурить.
Вошел я в дом, но там дух показался мне больно тяжелый, попробовал окно отворить, но оно гвоздями оказалось заколоченное, так что вместо окна распахнул я дверь, а сам вышел на свежий воздух. Костер разложил, сидел, грелся да ужинал, пока совсем не смерклось. Тут из мечети кто-то крикнул: «У-ху-ху-у-ху!» Это, значит, совы заухали, и филин тоже голос подал. Не хватало только волкам завыть, чтоб уж совсем было как в дремучем лесу. «Ступай-ка ты, Георгий, в дом, — сказал я себе, — да спать ложись, а то завтра, кто его знает, что тебя ждет!» Загасил я костер и пошел в дом. Зажег спичку, чтоб оглядеться, дверь подпер толстой палкой, котелок с молоком на стол поставил, а поскольку прикрыть его было нечем, то взял я Коран, накрыл им котелок и лег спать, как был, в одежде. Только ремень да фуражку снял, а наган под подушку сунул.
Ну, как говорится, успокоился малость и потихоньку, полегоньку уснул. Сколько я проспал, не скажу, но слышу сквозь сон: что-то будто рвется. Бумага вроде! Проснулся я, но лежу — не шелохнусь. «Может, мышь?» — думаю. Прислушался — нет, не мышь! Это из книги лист за листом выдирают! Сунулся я за наганом, доски подо мной скрипнули и — звяк! — котелок с молоком на пол кувырнулся. А потом водворилась мертвая тишина. Только чье-то дыхание слышится. «Может, это мое же дыхание, как эхо, от стены отскакивает?» — мелькнуло у меня в голове. Затаил дыхание — нет, все равно кто-то дышит. Вот дела! Чую я — волосы у меня дыбом встают. Нащупал наган и, только когда положил палец на спуск, чуток приободрился. И так про себя решил: «Ежели человек какой — уложу на месте!» Но тут же вспомнил, что окно гвоздями заколочено, дверь на запоре, да еще палкой подперта, мухе и той не залететь. А может, кто-нибудь еще раньше под кровать залез? Притаился там, дожидаясь, покуда я засну? Тут я как гаркну:
— Стой! Стрелять буду!
Как я на ноги вскочил, как из нагана палить стал — убей не помню, но после третьего выстрела опамятовался и соображаю: стою я на кровати, в руке наган. Опустился я тут на колени и, не выпуская нагана, дотянулся до коробка со спичками. Прижал коробок коленом, чиркнул спичкой, осмотрелся: дверь палкой подперта, окно закрыто, в комнате — никого, а на полу Коран и котелок из-под молока.
Смотрел я, пока спичка не погасла, и глазам своим не верил. Потом снова лег, но наган так в руке и держу. Думал было встать, за дверь выйти, но слабость такая одолела — ноги и руки как отнялись! Сердце тук-тук… ну сейчас из груди выпрыгнет. Спины, ног не чувствую. Вот оно, значит, как бывает, когда страх берет — просто смерть! Явись в ту минуту Али Бекир, я б ему от радости на шею бросился, как брата родного расцеловал, а там он меня хоть зарежь или повесь — мне все одно. Но никакого Али Бекира не было, а стул скрипнул, и кто-то на него залез. Пол неровный был и стул зашатался — то одной ножкой обопрется, то другой, будто на нем кто качается. Хотел я крикнуть, но горло так перехватило — ни крику, ни шепоту. «Может, это мне снится», — думаю. Но ведь есть же все-таки разница — когда сон, а когда явь. Какой там сон, когда зубами лязгаешь, а за ушами холодная испарина. Ты небось спросишь, что мне тогда в голову лезло. Да уж чего только не лезло! И духи разные, и чудища, а главное — покойник тот, уж не встал ли он из могилы, чтобы удушить меня. Только те три патрона, что в нагане у меня оставались, чуток подбавляли смелости, хотя много ли проку от патронов в таком деле?
Сколько этот стул качался, не скажу, только вдруг он перестал качаться, и в сей же момент — звяк-звяк-звяк — полетела с полки посуда. И такой меня взял страх, что все три патрона сами собой вылетели из нагана друг за дружкой. После пальбы тихо стало, и слышу я в тишине: возится кто-то, шуршит. Ну, думаю, совсем я свихнулся! Заткнул уши — проверить, может, это у меня в голове шумит? Шум прекратился. Значит, впрямь шуршит — этак ровно, таинственно и, скажу по чести, жутко! Бросил я наган, обеими руками в кошму вцепился, глаза зажмурил, сжался в комок, чтобы не слыхать и не видать, когда ОНО на меня навалится.
Сколько я так пролежал, не помню, но показалось мне — вечность целую. И все это время шуршать не переставало. А знаешь ты, каково это, когда возле тебя возится что-то, шуршит, а ты ведать не ведаешь, что это такое есть? Мне на моем веку с медведем схватываться доводилось, руку он мне прокусил, вон он, шрам, из ружья брюхо мне продырявливали — акты я на одного браконьера составил, а он принуждал меня эти акты порвать, в войну я невзорвавшуюся гранату поднял да назад кинул и опять же со страху не обмирал, а тут, богом клянусь, чувствую — душа с телом расстается! Не для красного словца говорится такое — впрямь цепенеешь весь, сердце останавливается, все, конец! И пришел бы тут конец на самом деле, кабы в ту самую минуту не прокукарекал петух! Чей это петух был — муллы моего или еще чей, не скажу, кукареканье откуда-то издалека донеслось, будто из-под земли, и тогда я малость — ну самую малость — в себя пришел. А все равно лежу, не шелохнусь, жду, чтоб рассвело. За первым петухом второй голос подал и третий, далеко они были, но я слушал их, и было мне это кукареканье как райское пенье.
Петухи поют — друг перед дружкой стараются, и тут дошло до меня, что уж совсем рассвело. Сбросил я кошму, и первое, что увидал — посуда с полки впрямь на пол скинута! Приподнялся я в кровати, и еще в глаза мне бросилось — куча зерна на полу, вот этакой высоты. Окно целехонькое, гвоздями заколочено, дверь заперта, а зерна — с кроватью вровень и стол тоже засыпан до половины. Копнул я — да, зерно! Самое что ни на есть настоящее. В комнате светло уже, все ясно видать.
Сполз я кое-как с кровати и вдруг за кучей зерна вижу, кого б ты думал? Сидит возле перевернутого котелка зверь какой-то серый, на щенка смахивает, капли молока о морды слизывает, на меня глядит. Я тоже минуту-другую глядел на него, пока уразумел наконец, что барсук это, будь он трижды проклят! Сидит, смотрит на меня, облизывается, усы от молока белые — вот кто, значит, посуду с полки смахнул и на стуле качался! Взяла меня злость, схватил я палку, которой дверь подпирал, и замахнулся на него, но он, видать, смекнул, что его ждет, и шмыгнул под кровать. Я нагнулся, думал — поймаю, но увидал только, как его хвост юркнул в дыру в стене и — нет барсука, след простыл! Выскочил я с палкой за дверь и чуть на муллу не налетел — стоит, улыбается, в одной руке барашек освежеванный, в другой — баклага.
— Ты куда это с палкой?
— Да барсук здесь… Я ему покажу!
— Стой! — схватил меня мулла за рукав. — Не надо! Это хозяин здешний, господин объездчик… Он каждую ночь пролезает в дыру, как домой к себе приходит… Дом-то, — говорит, — столько же его, сколько мой. Я ему каждый вечер молока оставляю и — вишь беда какая — забыл тебе сказать, чтобы ты отлил ему в миску молока. И он бы поел, и ты б из-за него страху не натерпелся!
Так и подмывало меня размахнуться да дать этому мулле по башке палкой, но я удержался.
— Ну, ладно, — говорю, — ладно, барсук — здешний хозяин, а вот откуда эта куча зерна взялась? — Растворяю дверь и показываю ему.
— Вай, вай, вай! — запричитал мулла. — Как же это приключилось?
— Это ты мне скажи, — говорю, — как? Вы ведь с барсуком хозяева этой медресе, будь она неладна! Ну, говори!
Мулла подошел к зерну, взял горсточку.
— Да ведь, — это говорит, — моя рожь! С пшеницей перемешанная!.. Вон они, зерна пшеничные.
— Где ты ее держишь, рожь эту?
— На чердаке!
Глянул я вверх; потолок дощатый, из сосновых досок, беленных известкой, а посередке дырочка небольшая, ну, мизинец просунуть. И тут только меня осенило: когда я ночью палил из нагана, не глядя, одна пуля пробила потолок, и рожь с чердака протекла в комнату, точно вода… Вот он, шорох-то, из-за которого я чуть не рехнулся.
Как разъяснилось все, такая на меня слабость напала, что как сел я у реки под ивами, так часа два или три сидел, с места не сходил. Тошнота подступать начала, во рту пересохло, горечь какая-то, нижняя губа треснула, и кровь потекла, точно из раны. Мулла испугался, как бы я не помер, водой меня побрызгал, полынной настойки дал, на углях шептал, пока я в себя не пришел. Но потом я еще месяц-полтора ходил как после самой что ни на есть тяжелой болезни. Одно время бредил, говорил во сне и уж думал, вовсе ума лишусь, но, слава тебе господи, все прошло и быльем поросло и одно только осталось — петухи. Петух для меня теперь — заместо господа бога. Потому я и держу их по десятку и никому не даю пальцем тронуть. Все мне чудится, что если переведутся петухи и некому будет кукарекать, ночь прогонять, то и заре никогда не загореться.
Соседи сколько раз спрашивали:
— На кой тебе эти петухи?
— Для песен. Больно поют хорошо. Неужто не понимаете, какая это красота — кукареканье петушиное? Соловей рядом с ним гроша ломаного не стоит!
— Да что уж такого хорошего в этом кукареканье? — дивятся соседи.
— Вам покойник дышал когда в лицо? Нет, не дышал! Съездите, — говорю, — в Каракуз, пускай он на вас подышит, а как вернетесь, тогда и потолкуем про петушиное кукареканье. Потому, чтобы дело какое уразуметь, надо на него не с одного боку взглянуть, а со всех сторон!
Взять, к примеру, брата моего двоюродного, хмурый человек, вечно сычом смотрит, а намедни встречаю — сияет, улыбается, рот до ушей.
— Уж не в лотерею ли выиграл? — спрашиваю.
— Какая там лотерея! Воле радуюсь! Было дело, я со сторожем рыбным схватился, и меня шесть дней в кутузке продержали, под замком. Теперь уж я знаю, до чего же хорошо, когда руки у тебя не скрученные и можешь ты идти, слава тебе господи, куда только захочешь!
Вон оно, значит, как! Во многие заводи человек совался, где только рыбку не удил, пока расчухал наконец, в чем главный-то улов состоит.
Много в нашей жизни всяких заводей, и какой только рыбы в них нету, но пока не шарахнет тебя как следует по башке, до тех пор ты этих заводей и не видишь.
Вот потому и держу я петухов, дай им бог здоровья и большого потомства! Как они запоют, начнут ночь прогонять, филины и совы враз смолкают, место им уступают. Как кукарекнут — значит, не бойся: солнце беспременно взойдет, будет день, будет свет, а уж ты мне поверь, нету на земле ничего лучше, чем день, ничего радостней, чем свет солнечный!
А насчет лесника, которого я искал тогда, с ним знаешь что было? Присушила его одна вдовушка, и поскольку братья ее за него не отдавали, он увел ее в лес, соорудил себе хибарку и проводил там, скотина, месяц медовый!
Перевод М. Михелевич.
ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЯ
Как звать меня, спрашиваешь?.. Вот спасибо, преогромное спасибо тебе. Год уж, почитай, живу тут, в городе, чуть не каждый божий день сижу на этой лавке, и никто еще не спросил, как меня звать. Ну ни один человек! Ты первый. Потому я тебе спасибо и говорю. Дай тебе бог долгой жизни и чтоб никогда в моей шкуре не оказаться!
Не то чтобы я в голоде жил или в холоде! Это — нет! Со стороны глянуть — все у меня ладно да славно. Дочка замужем, живет в родном селе, ребятенок у ней здоровенький, муж в председателях ходит. Сын у меня в министерстве, как говорится, первый человек, инженер, диплом у него с простыню размером, с работы на работу в автомобиле казенном возют. Жена у него — докторша, жалованье хорошее получает, моются в фаянсовом корыте, и кормят меня вволю, и постель у меня что надо, и комнату мне отдельную отвели, а все равно худо мне, до того худо, что невмоготу просто! Чувствую — сдаю, слабеть стал, худеть. Кусок в рот не лезет, сна совсем лишился, и в голове разные мысли дурацкие ворочаются, а рассказать про них некому… А скажу, думают — дурак я, из ума выжил.
Возьми такой пустяк, ерундовина сущая: простокваша!.. Говорю я сыну своему, Кирчо:
— Давай, сынок, я за простоквашей ходить буду! Все-таки сходишь туда-сюда, людей посмотришь, себя покажешь — какое-никакое, а разнообразие. Верно я говорю?
— Никуда ты, — отвечает, — ходить не будешь! Зазеваешься, еще, пожалуй, машиной задавит, кому потом морока? Мне! Так что сиди, — говорит, — дома! Живи в свое удовольствие!
Вот я и сижу. Куда денешься? А уж дом у них — хоть рысаков объезжай! Дворец!.. Внутри убрано, прибрано, только я-то, как говорится, пятое колесо в телеге… Ковер на ковре — ступить страшно. Паркет — так и сверкает! Шаг сделаешь и растянешься.
— Будь как дома! — сын говорит. — Живи в свое удовольствие, ешь, пей, и ни об чем не заботься!
Да как я, милок, жить-то буду? И с кем? Со столом обеденным или с буфетом? Когда ни сына, ни снохи с утра до ночи дома нет… Спозаранку уйдут, к вечеру воротятся, а как воротятся, сядут, точно приклеенные, перед ящиком этим треклятым и кино смотрят, пока не подойдет время спать ложиться, и тогда: «Спокойной ночи, отец». «Спокойной ночи» — «до свиданья», «до свиданья» — «спокойной ночи», кроме этих слов, ничего друг дружке и не говорим, вот уж второй год пошел.
Пока мальчонка ихний дома был — еще полбеды. Поиграю с ним, повожусь — глядишь, и на душе веселее стало, но сноха проклятая, прости меня господи, возьми да отдай его в детский сад, так что он теперь в неделю раз дома бывает. И знаешь, из-за чего она его в детский сад отдала? Чтоб от меня деревенским словам не выучился! Добро бы я, к примеру, его дурным словам учил! Ведь нет же! Одно-единственное словечко обронил — хлыстка, прутик такой тоненький, хлещут им. У нас в селе такие хлыстками прозывают. Даю его как-то внучонку — будто конь это — и говорю:
— На, держи хлыстку, скачи, только, гляди, не споткнись!
А сноха как вскинется:
— Что еще за «хлыстка» такая? Сказали бы «прутик». Зачем ребенку язык засорять?
— Да что плохого, ежели мальчонка и такое слово знать будет? Ветка потолще — она палкой зовется, потоньше — хлыстка. Пущай он и такое слово знает — может, когда сгодится!
— Ему не в пастухи идти, зачем ему знать вашу «хлыстку»? Он в спецшколу пойдет, там его научат, чему нужно, а «хлыстка» ему не нужна!
И из-за одного этого словечка, из-за «хлыстки» этой запихали мальчонку в детский сад.
— Лучше уж, Кирчо, — говорю я сыну, — поеду я обратно в село, а мальчонка пущай дома живет…
Но он сказал, как отрезал:
— Никуда ты не поедешь! Не хватало, чтобы ты там один куковал, а люди про меня языком трепали — хорош, мол, отца бросил. Живи, — говорит, — тут, ешь, пей и ни об чем не заботься!
«Ешь…» Да мне ихняя еда из банок в горло не лезет! Вся еда, какая есть, в банках жестяных: и голубцы, и мясо. Колбаса — и та из банки! Откроют байку, еду оттуда вытрясут, подогреют, а сноха еще сверху майонезом польет… Она у нас в Германию ездила, увидала, что там все с майонезом едят, купила себе такую машинку — майонез сбивать, только он кончится — она опять наготовит, так что конца ему нету… Хоть телятина, хошь свинина или голубцы — все с майонезом! Жуешь, а что жуешь — не разобрать. А не есть нельзя: сноха у меня бабенка вспыльчивая, чуть что — серчает.
Говорю я однажды Кирчо:
— Доконает меня ваш майонез!
— Почему?
— Живот от него болит.
— Не хватало еще, — говорит, — чтобы ты себе язву нажил! Завтра же отвезу тебя к врачу, и, если правда язва, пусть вырежут.
— Вези, вези, пущай режут!
Вот тебе истинный крест: пускай бы меня взрезали, вспороли — я на все согласный, только бы от майонеза этого избавиться!
Захотелось мне как-то чесноку натолочь с солью да уксусом — поесть по-людски. После сладкого-то ихнего майонеза горечь мне эта царскою пищей показалась, так что я и еще раз себя побаловал, и еще, да как-то забыл окна открыть, и докторша моя запах учуяла.
— Чем это, — спрашивает, — воняет?
Ну, ее ведь не проведешь, я и говорю: чесноком, мол.
— Откуда он взялся?
— Ну… Растолок я его и съел!
Она аж позеленела. Сноха у меня как в гнев войдет — не кричит, не ругается, ей воспитание не позволяет. Тихо говорит, спокойно, но под самый дых как ножом втыкает.
— Прекрасно! Замечательно! Мы, значит, с мужем дом обставляем, со всего света вещи заграничные привозим, чтобы они из-за вас чесноком пропахли! Вон гардероб уже провонял насквозь! Придется, — говорит, — звать столяра и полировку заново делать, а то я даже гостей пригласить не могу! Ни в коем случае!
Еле умолил ее не портить шкаф.
— Закрой, — говорю, — глаза и на эту мою провинность. Больше чеснока не будет! Только чтобы в доме был мир!
Мир-то мир, да что толку? Я, сказать тебе, на двух войнах воевал — в первую мировую на передовой, во вторую — в дивизионном обозе служил — и скажу тебе — не помер от войны и страху не знал, но точно могу сказать, что мирная жизнь тоже вполне может довести человека до погибели. И объясню тебе как: посели человека в городской квартире, не давай ему никакого дела, корми его майонезом, двух слов за весь день ему не скажи — и человеку крышка!
Говорю я Кирчо:
— Ты там разъезжаешь всюду, водохранилища открывать да закрывать, привез бы мне ивовых прутьев, хоть корзины, что ль, плести буду!
— Ты, — отвечает, — уже свое отплел. Хватит, наработался на своем веку, отдыхай, живи в свое удовольствие!
Весь в мать-покойницу, царство ей небесное! Уж ежели что скажет, нипочем не уступит. Хоть год назад сказал… Или два — не важно, все равно на своем стоит. Чай, инженер! Ему цифры подавай: два да два завсегда будет четыре… Нуль — завсегда нуль! А все прочее — брехня да чепуха! «Покойной ночи, отец, ложись спать!» Ну ляжешь, а спать не спишь, потому — стоит лечь, как начинает тебя сверлом сверлить: «Вот вроде бы родные мы, отцом меня называют, под одной крышей живем, за один стол садимся, а друг дружке чужие. Отчего это?»
И до того чужие, что, как пошли записывать мальчонку, не захотели моим именем назвать, Игнатом, потому, вишь, что мальчишки будут его Гатей дразнить, и заместо Игната назвали его по-новомодному — Красюмиром… Деда у нас Игнатом звали, прадеда тоже — и ничего, жили, добро наживали, на войне воевали, с иродами бились, двух связных партизанских родине дали, а внучек у нас Красюмиром прозывается! Да еще ладно — внук, а то ведь и сын заместо Игнатова Игнатиевым себя называет, вроде так благородней. Так и в книгу телефонную записался: «Инженер Игнатиев…» Зазвонил телефон, сымаю я трубку:
— Вам кого?
— Товарища Игнатиева…
Пришел он домой, я ему в глаза сказал:
— Моя фамилия Игнатов. Так и в бумагах записано было, еще до сорок четвертого года. Благодаря фамилии этой тебя в университет взяли, наукам инженерским выучили, в машине казенной возют. Ты как думаешь? Отказывайся, — говорю, — через газету от нашего роду, а я фамилию свою коверкать и позорить не дам!
Другой раз он, бывало, огрызнется, а тут даже пикнуть не посмел. А насчет внучонка не хватило у меня духу спор поднять, и остался он Красюмиром!
Ну, это сверло еще тонкое, есть и потолще. Как вонзится, во какие в душе дыры просверливает! Начинает оно сверлить меня ночью, часам эдак к двум. Лежу и спрашиваю себя, для чего бросил я родной дом, село и полез в эту золоченую клетку? Зачем? А как заговорю об этом с сыном, он, знай, одно твердит: «Чего тебе там одному делать?» Поди растолкуй ему, что дома, в селе, я человек. Во дворе у меня черешни растут… Тыквы, лучок, то, се… Одно журчит, другое шелестит, третье блеет — перед тем, как мне в город податься, у меня двое козляток было, красивые, чертенята, пестрые! Как вернусь я домой усталый да потный, они подойдут и давай язычком пот с меня слизывать. Шею лижут, за ушами — куда достанут. Пот-то соленый… Лижут и дуют, дуют и лижут, как к причастию обряжают. Прирезали мы их — сыну гостинцы везти. По сю пору простить себе не могу… Бывало, только заслышат — дверь отворяется, сразу блеять начинают: «Ме-е-е! Ме-е-е-е!»
И еще про дверь я тебе скажу. Она хоть на самодельных петлях, зато дубовая, тяжелая, так что, когда отворяешь ее и затворяешь, поет! Иной раз как дрозд, другой раз похрипше. В сырую погоду она блеет, что твой козленок, а в жару рассохнется и заведет, как шарманка — право слово, шарманка! Я по ее скрипу узнавал, когда дело к дождю, а когда к вёдру. Один раз предупредил я агронома:
— Ты бы приготовил опрыскиватели — завтра дождь будет.
— По радио, — говорит, — ничего такого не передавали.
— Ты свое радио слушай, я — свое, посмотрим, чье вернее.
Дождь-то и пойди! По-моему, значит, вышло, и с того дня каждое утро бригадир приходил ко мне справляться, какая погода будет нынче и завтра.
А теперь моя дверь ржой покрывается. Некому открыть ее, послушать, что она скажет, чем душу порадует. Написал я свояку, чтобы наведался, поглядел, в порядке ли дом и дверь, а он прислал мне такое письмо:
«Здорово, свояк!
Проведал я твою дверь и сообчаю, что она стоит на месте целехонькая, только вот не поет и не свистит, а, можно сказать, зубами скрипит и повизгивает, как собака побитая. Спрашивал про тебя бригадир. И все остальные тоже. Так что поимей в виду!»
Показал я то письмо сыну — авось уразумеет, что я тоже кому-то нужен, не мусор какой, на помойку вроде еще рановато. А он, знаешь, что мне сказал?
— Старики все равно что дети малые: жили бы да радовались, а вам все неймется, все чего-то у вас свербит.
Вот те на! Поди сделай, чтоб чеснок с ихним майонезом в ладу жили!
Уж если с сыном родным не сговоришься, так с кем же тогда? А мне выговориться надо, до того надо, что места себе не нахожу. А не с кем! В парке молодежь сидит, в карты дуется. Сюда глянешь — парочки целуются, обнимаются. Туда глянешь — матери с детишками. А таких, как я, постарше, посолидней, и нету. То ли по очередям стоят, то ли от жары прячутся — сказать не могу, но нету! Иной раз встретишь какого-нибудь, так он до пенсии либо в банке служил, либо писарем в конторе, так что с ним и двух слов не скажешь. Намедни с подполковником отставным разговорился — я ему толкую про то, что виноградарям нонешний год тяжко придется — лозу что ни день опрыскивать надо, а он мне про лазары толкует. Какие-то лазары, вишь, придумали, которые все как есть прошибают насквозь.
— Лазар этот, — говорит, — рано или поздно заменит артиллерию. Не будет, — говорит, — больше артиллерии! — И пошел рассказывать, как в девятнадцатом году его артиллеристы в пух и прах разбили какой-то там англо-французский полк; про то, какие снаряды как рвались, куда летели, и все огорчался, что лазар будет убивать без шума, как будто с шумом и грохотом убивать людей лучше.
Ну, этот хоть про войну со мной толковал, а с другими и про войну нельзя — им бы только про болезни да лекарства, у кого где кольнуло, кто чем поясницу себе мажет, какие припарки велит ставить профессор Динков, а один из Красного Села — не то Йог его звать, не то Йорг — говорил, будто стоит каждое утро на голове, чтобы к мозгам больше крови натекло. А сам с лица бледный, будто за всю жизнь у него в голове и кровинки не было. Шея кривая, а левая бровь то и дело дергается. Вот этак!.. Я бы этому Йоргу дал в руки лопату, он бы увидел, отчего кровь разыгрывается. Меня позапрошлый год, еще когда в селе жил, колени так донимать стали, что я решил: «Все! Смерть пришла!» Всего меня продырявили разными уколами, а суставы болят — и ни в какую! Вижу как-то, свояк мимо идет, в руке лопату держит.
— Куда это ты? — спрашиваю.
— Мне, — говорит, — правление выделило лужок один. Пойду его подровняю, чтоб было сено для овец. Пошли вместе!
Ну, заковылял я за ним кое-как. Разровняли мы лужок, кустарник повырубили, и к вечеру у меня всю боль как рукой сняло! Попросил я председателя кооператива и мне тоже участок отвести, потому суставов у меня еще разных много, в случае, если опять схватит — так чтоб вылечить.
— Живи ты в свое удовольствие, — говорит мне председатель. — На кой тебе лужок?
— Ты мне его сначала отведи, а потом я объясню тебе, какое бывает в жизни удовольствие!
Ну, он меня, ясное дело, уважил, потому как кооператив наш я, можно сказать, создавал. Отвел мне лужок, но только знаешь где? У черта на рогах, в чаще непролазной. Был там когда-то лужок, потом забросили его и весь он зарос густым кустарником. Нипочем не скажешь, что тут нога человеческая ступала. Сам-то я, по правде сказать, больше по виноградарской части, но и тут — ничего, не оплошал. Первым делом выкорчевал все кусты. С мелочью еще туда-сюда, посечешь и откинешь в сторонку, но был там один кизиловый куст, такие корни в землю запустил, что ни тпрру, ни ну! Я его колом поддел — стоит! Подкопал кругом, а он, паршивец, цепкий такой — стоит, упирается. Все корни ему перерубил, один только и остался, а все равно держится! Целую неделю воевал я с ним, рубил, копал, пыхтел и наконец одолел — лужку моему на радость. Разровнял землю граблями, загородку поставил, на место куста кизилового черешню посадил, грушу и сливу — не помешает небось. Клеверу засеял, полил и оставил — пускай растет.
В Константинов день отправились мы со свояком косить и что увидели? Поднялся мой клевер, в клевере — маки полыхают, черешни мои алеют, и такое вокруг благоухание, что сколько было в лесу крылатой твари — вся слетелась меду испить.
Свояк говорит:
— Давай косить!
— Кидай косу! — говорю. — Этот лужок косить грех! Пущай жучки да пчелки мед пьют да деда Игната добром поминают.
Вечером говорю я нашему председателю:
— Коли хочешь уразуметь, что такое значит удовольствие в жизни, пошли завтра на мой лужок.
— Пошли! — говорит.
Ну, пришли мы.
— Вот оно, председатель, в чем удовольствие-то.
— Ясно, — говорит. — Но кабы стояла тут, остужалась в воде бутыль с винцом, кабы умяли мы на этой травке барашка жареного — да так, чтоб косточки обглоданные к небу летели, тогда б и до тебя дошло, какое оно есть удовольствие. Хорошо, — говорит, — что я с собой сала прихватил.
Достал кусок сала, съел и пошел — ни на черешни мои не глянул, ни благоухания не почувствовал. Обглоданные косточки ему, вишь, в небо кидать охота…
С того дня донимает меня это дело — насчет того, что оно такое есть в жизни удовольствие. Однажды даже решился сына своего спросить:
— Вот ты, товарищ инженер, все советуешь мне жить в свое удовольствие. А как это понимать — удовольствие?
— Что значит — как? Спать вволю. В кино сходить. В картишки перекинуться, если есть с кем. И чтоб никто к тебе не цеплялся — это и называется жить в свое удовольствие.
— Чушь, — говорю, — это собачья, а не удовольствие! Кино твое, на которое ты каждый божий день глаза пялишь, это знаешь что? Все равно, что журавлю с тарелки кашу есть. По мне то кино хорошо, которое я сам для себя разыграю… А насчет того, чтобы никто к тебе не цеплялся, — так это смерть.
— Когда человек выходит на пенсию, — говорит мне сын, — его уже ничего не должно касаться. Он должен отдыхать. Это естественно.
— Нет, неестественно живому человеку жить так, чтобы его ничего не касалось. Разве лиса, к примеру, выходит на пенсию? Нет! Не было такого и не будет. Слыхал ты когда, чтобы орел по старости вышел на пенсию, а молодые чтобы ему в клюв мышей совали? Орел летает, пока не испустит дух, и тогда уж на землю падает.
И рассказал я ему про один случай. Было это в местности Белая Вода, в полдень овцы мои легли отдохнуть, а я сижу под сосной, что-то строгаю. Вдруг слышу шум. Поднимаю глаза — орел! Летит откуда-то со стороны Персенка, спускается все ниже, ниже, прошумел у меня над головой и — хлоп! — за сосной грохнулся. Подбежал я поглядеть, как да что, а он лежит на поляне, крылья свои огромнущие раскинул, ни раны нет, ни царапинки, а он мертвый! Помер, значит, на лету! Вот она, сынок, в чем главная-то суть: на лету помереть… А ты меня запер тут, точно в клетке! Последние-то слова мне хотелось ему сказать, да стерпел, не сказал.
Глядел на меня Кирчо, глядел, словно впервой увидел:
— Отведу, — говорит, — тебя к доктору! Нервы у тебя не того.
— Спихивай, — говорю, — спихивай меня на докторов, чтоб спокойней свое кино смотреть!
Я думал, он смекнет, про что речь, да куда там! Для него слова все равно, что цифры: два — это два, нуль — это нуль. Я, как говорится, в родную сторону путь держу, а он — в какой-нибудь там Багдад. Где уж тут встретиться?
Это вот и есть тот толстый бурав, что меня по ночам дырявит. Сверлит и сверлит, пока не начнет бросать меня в жар и пот. Я скорей окно настежь распахивать, чтоб ветерком обдало, но только распахнешь — снизу пальба начинается: пыр-пыр-пыр, пу-пу-пу, гыр-гыр-гыр. Мотоциклы носятся по улице и палят почем зря прямо тебе в уши и в сердце. Город вон какой, народу чуть не миллион. В горсовете председатель есть, дивизия целая помощников, и никто не возьмется приструнить эту тыщу или хоть там пять тыщ мотоциклистов, от которых в этом городе совсем житья нету. Захлопываю, значит, окно и сую голову под кран! Пока только этим и спасаюсь. И еще в одном вижу я спасение: смазать пятки салом и удрать отсюда. Запах земли вдохнуть хочется, рыхлой да теплой — живой земли! Только с сыном говорить — все равно что с холодильником. Вот ведь и неплохой у меня сын — работящий парень, честный, крепкий, а словно не из утробы материнской вышел, а из бочки железной, и не молоком материнским вскормлен, а бензином! Так что говорить с ним, значит, без толку. Оставлю ему письмецо и все.
«Уезжаю я, Кирчо, обратно домой, в село. Деревья, сынок, пересаживают, пока они молоденькие. А ты привез меня в город, пересадил, как говорится, на старости лет, а у меня тут, сынок, корня нету. Корень мой в селе, и потому еду я назад, а то увяну, засохну я здесь и прежде времени в могилу лягу.
Прости, сынок, и не зазывай меня обратно!
Я двину в родную сторону, а ты… ты себе двигай в Багдад!
Остаюсь — твой отец
Игнат Игнатов».Перевод М. Михелевич.
ЛЕСНОЙ ДУХ
Что по нонешним временам лесником-то быть? Ни фуражки форменной, ни ружья! Рубаху белую наденет, в грузовик заберется — и поехал в горы. Походит-побродит там, и еще солнце не село, а он уж домой воротился. Он себе ездит и ворочается, а как лес-то уходит, назад его не воротишь… Вот Ахмет Деликадиров — тот, скажу я тебе, настоящий лесник был. Ахметова поляна на Зеленом перевале по его имени прозвана, потому он там скрывался. Знаете что? Расскажу я вам про этого Ахмета, который тут у нас года два был заместо и царя, и пристава, и самого аллаха!
В ту пору здесь ни шоссе не было, ни большака. Вилась кривая тропка из села вверх по склону да вниз, и опять вверх, и опять вниз — дня четыре добираешься до города, на ярмарку. А ежели из города кто к нам соберется — уж хлебнет горюшка! Один акцизный как-то отправился в наши края овец переписывать да сорвался с лошаденкой своей с Орлиной скалы — и в пропасть.
Поговаривали тогда, что это наши, деревенские, его спихнули, но как оно на самом деле было, так и не дознались. Я мальчонкой вместе с другими ребятами бегал в ущелье искать его, но орлы уже по косточкам его растаскали. Орлов тогда было видимо-невидимо. Всего, скажу я тебе, видимо-невидимо было: и коз, и овец, и лесу… А уж лес был!.. Деревья все ровненькие, одно к одному, как на подбор!.. Ни засек, ни вырубок, ни просек… Идешь лесом, справа и слева от тебя — хруп-хруп, а что хрупает и трещит — не видать! Вон он какой лес был при дедах наших и прадедах, безо всяких лесников и лесничих.
Потом-то они появились… В первый раз лесничий пожаловал к нам, как сейчас помню, на Петков день. Решили барашка для него зарезать, но к Петкову дню ягнята уже большие, мясо у них жестковатое, с таким к лесничему не сунешься. И послали меня аж в Борово, к пастухам, за молоденьким барашком. Жарили мы его на Ахметовой поляне… Сам Ахмет и жарил. Он у нас в селе первым мастером слыл по этому делу. Лесничий оказался мелкорослый, сухонький, в зеленой шляпе с павлиньим пером. Поел он, даже не поел, поклевал — как ребятенок, и сели они с нашими общинными заправилами решать, кого лесником поставить. Думали они, гадали, и глянул тут лесничий на Ахмета.
— А почему бы, — говорит, — нам этого не поставить? Он и барашков жарить мастер!
— Идет! — согласились те. — Все равно он хромый, ни пахать, ни копать толком не может, пускай хоть эту дыру заткнет!
Лесничий тогда и говорит Ахмету:
— С сего дня ты этому лесу хозяин! Стереги его хорошенько, растаскивать не давай!
Достает фуражку с зеленым околышем и надевает ему на голову. Фуражка оказалась мала, но старики подсобили и кое-как напялили. Красивая фуражка — козырек черный, околыш зеленый и кокарда с узором желтая! Не кокарда, а — как тебе получше сказать — чистое загляденье! Что мужики, что бабы — глаз никто отвесть не может, а уж об Ахмете и говорить нечего. Ежели доводилось тебе когда видеть, как уж из старой кожи вылазит — вот и Ахмет наш точь-в-точь так же. Простую одежу скинул, обрядился в джупкен, ружье большущее допотопное на плечо взгромоздил, ноги белыми обмотками обмотал и — поверишь ли? — даже прихрамывать перестал. Есть люди, стоит им форменную фуражку нацепить, у них сразу же глаза кровью наливаются. А у Ахмета — нет! Глаза у него ясные остались, только иногда злобой зажгутся, потому некоторые по-хорошему не понимают.
— Послушай, Сеню, — бывало, скажет, — откуда ты эти дровишки приволок?
— Из рощи, дядя Ахмет, из той рощи, что возле поля нашего, — начинает заливать Сеню.
— С каких это пор возле вашего поля бук растет? Нет, брат, из Усое они, кого обдурить хочешь? Уж мне ли не знать, где какие деревья растут? Давай сюда топор, в другой раз умнее будешь!
Каждое дерево знал так, будто самолично сажал его и растил. Молодняк рубить нипочем не давал, но если кому нужно было дом ставить или подправлять, тут уж он не ждал, покуда придут к нему кланяться, сам приходил.
— Слышь, Сулю, — скажет он, к примеру, хотя бы Сулю, — вон те подпорки гнилые менять не пора?
— Да надо бы удумать чего-нибудь, — скажет Сулю.
— Тут думать нечего, — скажет Ахмет. — Поезжай-ка ты туда-то и туда-то, есть там пихта, бурей обломанная, и ее, горемычную, от муки избавишь, и халупу свою подопрешь.
А вот с чабанами у него другая повадка была. Пастухи, особливо которые из каракачан, привыкли испокон веку лес палить — пастбища себе расчищать. Но Ахмет и на них управу нашел. Заставил окурки, и те подбирать, а не то начинал играть прикладом, и тут уж поблажки не жди. Одного пастуха за то, что тот пожар в лесу устроил, он прямо на раскаленные угли столкнул. Заставил босиком с обожженными пятками пробежать по пожарищу из конца в конец.
После того уж никто больше не осмеливался лес жечь…
И не сказать, чтобы больно много ходил он по лесу! Но был у него заведен обычай: с утра по лесу побродит, потом ружье на плечо — и на Чил-тепе. На той горушке была у него одна маленькая пушчонка припрятана, еще наши отцы пушчонкой этой стращали разбойников. Приспособил он эту пушчонку. Всыплет в нее, бывало, сухого пороху, натолкает старых подков и разной ветоши да подпалит… Громкая была пушчонка. Как бабахнет — ели гнутся, а грохот перекатывается с горы на гору, пока не замрет где-нибудь в ущелье. Тогда Ахмет встанет да крикнет:
— Э-эй! Вы это куда собрались, сучьи дети?
Чабаны, как голос его заслышат, давай скорее окурки подбирать, коз подальше от заповедных мест отгонять, а которые коров пасут, загоняют стадо, где лес погуще, и до вечера носа из чащи не кажут. А если порубщик в лес забрался и на хорошее дерево нацелился, так он от дерева того отступается, идет сухостой искать.
Дела шли — лучше не надо. Ахмет из пушчонки палил, люди порядок знали. Речки мирно текли. Лес, знай себе, шумел да рос. Но надо же, проложили ниже нас шоссе, и не простое шоссе, а главное! «Пущай! — решили мы. — Легче будет вниз спускаться». Легче-то легче, брат ты мой, да ведь не только вниз, вверх тоже легче стало! И повалили к нам сборщики налогов, стражники да акцизные, пересчитали, у кого сколько коз, овец и кур, а там взялись и пихты с соснами пересчитывать. Хошь верь, хошь не верь — пересчитывали! Краской какой-то стволы метили, знаков каких-то понаставили и убрались восвояси… Эти-то убрались, да других принесло — лесоторговцев. Немного их сначала было, один-единственный, но с нас и одного хватило. Привел с собой рубщиков и пильщиков, часть оставил лесопилку строить, остальных погнал лес валить. Приказ-то был только те деревья валить, что с отметинами, но он распорядился: «Вали все подряд», и начали они все подряд валить. Подчистую! Набросились на лес с топорами да пилами, и, пока Ахмет с вершины из пушки палил, они склон основательно порасчистили.
Спустился к ним Ахмет, да поздно. Пихты навалены одна на другую, а каждой по три сотни лет! Такая рухнет на землю — вся гора ходуном ходит, словно живая.
Увидал это Ахмет и говорит лесоторговцу:
— Проваливай откуда пришел! Чтоб до захода солнца духу вашего тут не было!
Схватились они. Тот ему приставом и начальством всяким угрожает, но Ахмет не отступается. Прекратили порубку. Торговца два дня не было видно, потом является вместе с полицейским — тот верхом, в сапогах, на рукавах нашивки. Злой да распаленный, к такому коровью лепешку поднеси — она загорится.
Вызвали Ахмета в управу. Полицейский бумагу какую-то вынул, перед носом у Ахмета помахал:
— Ты уволен по причине неграмотности!
Ахмет подступил к нему поближе и спрашивает:
— А ты кто такой будешь?
— Я, — тот отвечает, — из полиции, чином сержант.
— Мне полицейские сержанты не указ! — говорит Ахмет. — Лесничий мне кокарду прицепил, он ее с меня и сымет.
Наши, из управы, хотели вмешаться, да кто их слушать будет. И стало у нас лесников не один, а двое. Один возле лесопилки кружит, с торговцем шушукается, а другой смотрит, что дальше будет. И управа тоже, что делать не знает: торговец, по слухам, с большими людьми дружбу водит, трогать его боязно. А у Ахмета ружье!
День-другой было тихо, а на третий спозаранку заиграли внизу топоры. И как пошли падать вековые пихты — хрясь, хрясь! — гнезда птичьи, ветки, листья — все кувырком полетело. Люди сказывали, что, когда падали эти пихты да сосны, Ахмет сидел, притаившись в кустах, глядел, вздыхал и зубами скрипел. А ночью, когда совсем стемнело и лесорубы спать легли, из верхних пещер донесся крик:
— Э-э-эй, люди! Не рубите лес, не то худо будет!
Несколько раз тот крик повторился. Кто говорил — человек это, а кто — не иначе, как дух. На другую ночь опять тот же крик.
— Не губите ле-ес! Не то худо будет!
Некоторые струхнули, говорят: «Надо уносить ноги». А торговец как напустится:
— Какого-то полоумного, — говорит, — испугались! Делайте свое дело. А нужно будет, и власти с нами, и оружие найдется!
Только он об оружии заикнулся, оно и отозвалось: невесть откуда бахнул выстрел, и пуля угодила в коня под сержантом. Сробел полицейский, и к вечеру его след простыл. У торговца под буками лежак подвесной был. Грянул выстрел — пуля угодила в самую веревку, на которой держался лежак, и плюхнулся голубчик наземь. Помчался он в управу. Там сразу крик, гам, полетели сторожа лес прочесывать, да ведь это все равно, что иголку в стоге сена искать.
Торговец остался ночевать в управе. Ночью из пещеры опять тот самый голос:
— Не трожьте лес, не то худо будет!
А на другой день, ближе к вечеру, вспыхнула лесопилка, взлетело пламя аж до самого неба. Забили в барабаны народ скликать, но никто не пришел пожар гасить. Гасили одни лесорубы, да и те не шибко старались, так что лесопилка тихо-мирно сгорела дотла.
Торговец сел на мула и уехал. За ним и лесорубы. Остались одни пихты поваленные, и все поутихло. Не было тогда в наших краях телеграфов-телефонов, чтоб страх на людей наводить. По-прежнему Ахмет из пушчонки палит, речка течет, лес шумит… Но только недолго это длилось.
Как-то вечером прибыли двое стражников, взяли с собой старосту и прямиком к Ахмету в дом. Жил он вместе с матерью. Жена у него померла, а второй раз жениться он не стал. Староста кликнул его, Ахмет вышел, тут стражники его и схватили. В одной рубахе, как был, но при фуражке форменной. Поволокли его в управу, затолкали в подвал и стали бить смертным боем, чтобы сказал, кто лесопилку поджег. Дубасили его, ногами топтали, кипятком шпарили, соломой горящей жгли, но он как воды в рот набрал. Утром скрутили ему руки веревками и погнали в город. Гуськом шли: Ахмет со связанными руками — впереди, за ним — один стражник с ружьем, позади — второй. Тропка под сплетенными ветками вилась, стражники и не приметили, когда Ахмет веревки перегрыз, руки себе высвободил. Отвел он одну ветку, отпустил, и та стражника по глазам как хлестнет! С обоими стражниками справился. Отнял патроны, штаны с них снял и отпустил на все четыре стороны. А сам воротился в село с двумя ружьями: на одном плече — одно, на другом, — другое. Отыскал в подвале свою фуражку, надел, а тем, из управы, так сказал:
— Либо будете смирно сидеть, либо все село спалю! Один у леса хозяин, и хозяин тот — я!
Так-то оно так, да сыскался и другой хозяин, и наслал он конных стражников, взвод ли, эскадрон ли, не скажу. Ахмет подгадал, когда они проедут, и выкатил пушку к ущелью, набил ее ломом железным и прицелился. А как показались стражники, закричал:
— Ворочайтесь назад, не то свинцом угощу!
Те позамешкались, но капитан ихний отматюкал их и погнал вперед. Тогда Ахмет пальнул из пушки, лошади стражниковы попадали одна на другую, а сами стражники врассыпную бросились. И уж больше никто к нам носа не показывал — ни акцизные, ни стражники. Целое лето! Ахмет знай себе лес стережет, чабаны окурки подбирают, речка течет, лес шумит… А ветер золу да пепел развеял, так что и не распознать, где лесопилка стояла. Только Ахмет больше дома не ночевал и ружья своего из рук не выпускал. Одной рукой ест и пьет, другую на курке держит. Домой к себе и в управу не показывается. От людей держится подальше, оврагами не ходит… Точно зверь лесной.
Как-то раз прислали ему через Сабри Имамова весточку — Сабри в Пашмакли ездил на ярмарку, — чтоб явился Ахмет за жалованьем. Сабри сказал, будто начальники судили там, рядили, на чьей стороне правда, и будто порешили, что правда-то на Ахметовой стороне и даже заслужил он повышение.
Поверил тому Ахмет или нет, не знаю, но ружья по-прежнему из рук не выпускал и даже в мечеть с ним ходил. По пятницам со всех выселок — так уж у нас заведено было — собирался народ у мечети. Мулла попоет, отобьют поклоны аллаху, а потом все сядут под старой ивой потолковать о том о сем. Кофе варится, сладости разные продаются — веселье, вроде как на ярмарке. В войну еще и скотину резали, так что и мясцом жареным угощались. Кино и прочего такого тогда еще не было, так что для удовольствия одна мера была — кофе. Одна чашечка — удовольствие, две — радость, три — раздолье! Но три-чашки кофе выпить — это только мулла мог себе позволить либо Ахмет. Ребятишки вроде меня, те только глядели да слюнки глотали, либо же — если отец даст монетку — жареным горохом лакомились.
Так вот беда-то, самая последняя и страшная беда, стряслась аккурат в пятницу осенью. Как сейчас помню, виноград собирали. Сабри корзину винограда приволок, оттого и запало мне в память, что осенью дело было. Ахмет пригнал свою яловую корову и прирезал. А уж корова — одно сало! Повесил он тушу на вербу. Отрубает куски и продает. Вокруг бабы толкутся, парни, девки — смотрят. А он в одной рубахе стоит, фуражку набекрень сдвинул, в руке нож держит, а ружье коленями зажато… Тогда-то я всего лучше разглядел его: русый, росту невысокого, но крепкий. Глаза у него были острые, взглянет — как ножом пронзит. Глаза эти на мужиков страх наводили, а бабы… бабы просто обмирали, чтоб он на них глянул… И больше всех Сабри Имамова жена — эта с коих пор по Ахмету сохла. Не в мои годы об этих делах толковать, но я все думаю: стряслась бы с Ахметом та беда, кабы не зацепка эта с женой Имамова? Ну так вот… Примечаю я вдруг, что Ахмет занес нож, чтоб мяса отрезать, а опускать не опускает. На дорогу смотрит. А по дороге едут в нашу сторону двое в фуражках с бляшками медными. Оба верхом, при ружьях. Ахмет ружье свое хвать — и в сторону, отошел этак шагов на двадцать — тридцать, сел к ограде, спиной прижался, ружье на колени положил и цигарку сворачивает. Сворачивать сворачивает, а сам со всадников глаз не сводит. Те тоже приметили его, остановили коней, спешились. Ружья у них за спиной. Подходят поближе, один с улыбочкой спрашивает:
— Кто тут Деликадиров будет?
Поднялся Ахмет.
— Я Деликадиров!
Сабри Имамов к приезжим навстречу так и кинулся:
— Добро пожаловать, гости дорогие! — Потом к старикам из управы обернулся, говорит: — Вы что, не узнаете? Чапрашовы это, из Чепеларе, друзья наши, приятели, Чапрашовы. Акцизные! — И приезжих спрашивает: — Какими судьбами к нам, с каким таким делом?
— С добрым мы делом, — отвечает один. — Только добро это — не нам, а другому человеку! Приказ мы привезли Деликадирову — сержантом его назначили. — И с этими словами лезет он в карман, достает оттуда бумагу с печатями и подходит к Ахмету. Второй поодаль стоять остался. — Поздравляю с назначением, господин сержант, — говорит и берет под козырек. — С этого дня, — говорит, — весь лес отсюда и до самого Рожена у тебя под началом! Поздравляю!
Взял Ахмет бумагу, смотрит на нее, но краем глаза и за приезжим следит. Глядел на бумагу, глядел и позвал муллу:
— Взгляни, что тут за печати такие?
— Казенные печати, — говорит тот. — Без обману… — И наклоняется, чтоб бумагу прочесть.
А в то самое время второй акцизный отошел привязать коня к вербе. Привязал коня и стал ружье с плеча снимать, но тут кто-то из баб как завизжит:
— Беги, Ахмет, убьют!
В сей же момент, тот, что коня привязывал, выстрелил, Ахмет взревел, прыгнул и враз перемахнул через ограду в чужой двор. Акцизные залегли, стали палить из ружей, бабы и ребятишки кинулись врассыпную, старики в мечеть попрятались, ни одной живой души не осталось. Акцизные стреляли, стреляли, потом бросили, орать принялись:
— Бандит! Разбойник! Сдавайся!
Со двора ни гугу… Ждали они час, ждали два, потом встали с земли и народ созвали.
— Вы, — говорит, — пойдете впереди, мы сзади, возьмем бандита во дворе.
Ни у кого не было на то охоты, но, когда тебя ткнут дулом в ребра, пойдешь, куда ни прикажут. Открыли ворота — за воротами никого… Во дворе тоже никого. Кинулись они искать, все как есть перерыли, сеновал по соломинке раскидали — никого и ничего! Только у ограды, возле того места, где Ахмет через нее перемахнул, лужа крови осталась. А дом тот на таком месте стоял, что суслику и тому не улизнуть. Куда Ахмет девался, так и не догадался никто — ни тогда, ни потом. Ровно сквозь землю провалился!
После уже слух прошел, как оно все было, но верный слух или нет — кто его знает! Байки про начальников и все, что Сабри тогда наплел — про приказы да указы, — это в полиции придумали, чтоб отвести Ахмету глаза и покончить с ним.
Сабри Имамова жена с горя умом тронулась. А самому Сабри шитья не стало в селе — он подался за кордон, и ни слуху о нем, ни духу.
А так все мало-помалу пошло по-старому.
Не стало Ахмета, а следом за ним — потихоньку да полегоньку — и леса не стало. Жгли его, растаскивали, рубили, пилили, скотину пасли, сводили дерево за деревом, по частям, пока не оскалились эти лысые склоны, что ты видишь перед собой… Только на самом верху, под скалами, осталось одно нетронутое местечко, и в темные ночи доносится оттуда тот самый голос: «Э-э-эй, люди-и-и, не трожьте лес, не то худо будет!»
Ахмет ли это кричит или дух какой — про то я, дед Хасан Дубовик, знать не могу. Но кричать кричит! Лишь только стемнеет да стихнет, беспременно слыхать: «Э-эй, люди-и-и, не трожьте лес, а то худо будет!»
Перевод М. Михелевич.
МИР ЧУДНОЙ И МУДРЕНЫЙ
У каждого человека своя судьба, а вот у меня их, должно, целых две! Сколько себя помню, одна норовит в землю меня вогнать, другая — на ноги ставит… Всю жизнь так! И еще до того даже, как я на свет появился!
Ты, само собой, спросишь — да как же это может быть? А вот так…
Что голова у меня набекрень — так это благодаря родной бабке. Хотела задавить еще в утробе матери, потому что понесла она за два месяца до того, как они с отцом свадьбу сыграли, и позор, значит, наружу бы выплыл. Велела ей бабка на пол лечь и уж мяла ее, мяла! Мать памяти лишилась, а мне хоть бы хны! Только голова малость приплюснулась.
Которые дети прежде времени родятся, их у нас в селе кличут «ранниками», и судьба их — за родительские грехи расплачиваться. Все глядят на них косо, будто это их вина, что они родились не в срок. И по этой самой причине все у меня пошло вкривь и вкось.
Перво-наперво мать не стала меня кормить грудью — кусается, мол, и кабы меня тетка козьим молоком не поила, отправиться бы мне на тот свет еще до того, как я ходить выучился. Пяти годков мне еще не было, а меня — в горы, к чабанам, овец пасти, чтоб никому в селе глаза не мозолил, о родительском грехе не напоминал.
С чабанами мне и хорошо было, и худо. Хорошо — потому что, как придет охота поесть, я заберусь козе под брюхо и сосу молоко до отвала. А худо то, что в хижине у нас от дыма было не продохнуть: огонь посередке, трубы нет — ну, лисья нора, да и только. Это с тех пор у меня глаза как кровью налитые. Уж какими я их промываниями ни промывал, и водой святой смачивал, и бабьими заговорами заговаривал, все одно — точно их кто теркой тер. Ну, глаза — ляд с ними! А то ведь чуть жизни не лишился. Шел мне тогда уж десятый год. Первый раз штаны надел. Гоню своих коз, а сам на коз и не гляжу — штанами любуюсь. Лес в те времена не такой был, как сейчас, гладенький, вылизанный да расчищенный, так что суслику — и тому притулиться негде. Густой тогда лес был, дремучий да темный — что твоя преисподняя! Солнце еще не село, а уж холодина, как в погребе… Я как брел за своими козами да новыми штанами любовался, так и отстал от своих, а поднял глаза посмотреть, куда идти — и вижу: передо мной медведище на задних лапах, высоченный, как… ну, как сосна. А я — ни охнуть, ни крикнуть. Кинулся бежать, да споткнулся и упал. Дите еще малое, а ведь тоже смекнул — мертвым прикинулся. Лежу, не дышу, не пикну. Медведь — на меня! На ноги навалился, даже лизнул, но жрать не стал. То ли сыт был, то ли для медвежат своих припасти хотел — не скажу, не знаю, но только взялся он, дуролом, заваливать меня хворостом. Завалил и пошел. Как почуял я, что нету уж его рядом, вскинулся да скорей на ближайшее дерево. Ель там стояла разлапистая. Высоко забрался, на самую макушку. Только тут воротился ко мне голос, и я заорал благим матом.
Прибежали чабаны, прогнали медведя, сняли меня о дерева. И тут обнаружилось, что ходить-то я не могу, медведь ступню отдавил, все косточки раздроблены. Лечили меня чабаны по-своему, кое-как, и нога срослась тоже кое-как. Вот потому у меня ступня не наружу повернута, а внутрь, и в суставе не сгибается, так что хожу я вроде как спутанный. Чабаны жалели меня.
— Бесталанный ты, — говорят, — с кривой-то ногой не больно на гулянках попляшешь!
Меня и самого тоска брала, что я с такой ногой. Ни бегать невмочь, ни плясать, как другие, да что поделаешь? Мои одногодки женихаться уже начали, на гулянки ходят, а я прячусь за оградами и гляжу на них. Сердце разрывается, что не могу поплясать да попрыгать со всеми, не могу, как другие, с девушкой погулять… Самое это худое было в моей жизни, а то невдомек, что в этом худом счастье мое и крылось.
Разразилась Балканская война, угнали моих одногодок всех до единого, и все до единого полегли они от холеры в Сара-Шабанской долине. А меня, как негодного к строевой, всю войну продержали у моста Олу-Эле. А как протрубили отбой, воротился я в село целый-невредимый, и, поскольку других женихов не было, то, хромый ли, скособоченный ли, я всем невестам оказался люб. Выбрал я самую богатую, Ангелачкову дочь в жены взял.
Сказал я себе тогда: поймал ты судьбу за хвост, выбился из голытьбы! Коль у тебя сам Ангелачко тесть, пойдут дела как по маслу!
И вроде бы вправду стала у меня жизнь слаживаться. Послал меня тесть в Гюмюрджинскую долину — овечьи отары у него там паслись.
— Ты мне, — говорит, — зять. Где мое, где твое — теперь разницы нету. Следи, чтоб овцы на хорошей траве паслись, доились чтоб получше.
И я взялся за дело. А на том же пастбище пасли своих овец и мугленские чабаны. Ну, вместе-то, конечно, тесно. Время смутное, рассуживать нас некому, сами между собой суд вершили. Ругались, угрозами сыпали и однажды надумали они покончить со мной. Как-то утром все наши погнали овец, а я один остался — мамалыгу на обед сготовить. Вдруг слышу — конь скачет, и является тут Саню Хаджи-Бекиров, «Чубастый» по прозвищу. Был он мугленский, своих овец не держал, нрава шального, дикого, кичился своей лихостью и ею кормился. Коли требовалось отдубасить кого, страху нагнать либо убить, подсылали Чубастого. Коня ли, барана угнать — опять к нему шли. Так вот его-то и подослали со мной расправиться. Что у него было на уме — бока мне намять или вовсе жизни лишить, — сказать не могу, но я, как увидал незваного гостя, тут же смекнул, что дело плохо. Конь у него огромный, и Чубастый на нем хмурый, как туча. А я стою рядом с голыми руками.
— Ах ты, сукин сын… — ругнулся Чубастый и выхватил клинок из ножен. — Сейчас я тебе покажу, как чужих овец прогонять.
Но как только клинок сверкнул, я нагнулся, и не успел Чубастый до двух сосчитать, как я хватил коня под колено, и он грохнулся наземь вместе с ездоком. Чубастый выронил нож, а я до него дотянулся. Схватил недоуздок да как начал стегать, колотить, покуда он не взмолился, ноги мои не стал целовать, чтоб отпустил его с миром. Ну, я отпустил, и с тех пор о нем ни слуху ни духу. Было это перед Петровым днем, а на рождество богородицы собрался я в дорогу — свежей брынзы домой свезти. Сыскались у меня попутчики, мои односельчане-каменщики тоже домой собрались, так что мог я с ними через перевал перебраться, но сердце до того истомилось по молодой жене, что невтерпеж показалось с пешими вровень плестись. Так что сел я верхом и отправился в одиночку. Подъезжаю к Ташкапии, вижу: сидят у дороги трое не то четверо цыган, закусывают. Один из них увидел, что седельные сумки у меня полные, подошел, попросил угостить брынзой. Нагнулся я брынзы из сумки достать, а он — бревном ли, дубиной ли, сказать не могу — как бабахнет меня по голове! Я и брякнулся наземь, точно сбитая груша. Подбежали тут остальные, принялись они все вместе молотить меня палками, как фасоль. Народ-то здоровенный, разделали меня, как тушу. По говору догадался я, что они из Змеицы, тоже чабаны. Один орудует дубиной и все приговаривает:
— Пастбище тебе? Вот тебе пастбище! Вот тебе!
А когда я стал на помощь звать, затолкали мне в рот травы.
Лупцевали они меня, покуда я шевелиться не перестал. Тогда только унялись и исчезли в буковых зарослях, оставив меня и коня моего посередь дороги. А потом подошли наши деревенские. Взвалили меня на коня, хотели домой везти. Но я сказал:
— Нет! Не появлюсь я такой в селе. Вернусь в Сары-Шабан.
Привязали они меня к коню, чтобы я не свалился, сунули в руки поводья, и мы расстались: они — домой, а я — в обратную сторону. Крестились они мне вслед, думали, не добраться мне живым до Сары-Шабана, но у меня шкура дубленая, добрался. Неделю целую лечили меня в больнице, а тут пришел один из тех каменщиков и говорит:
— Смеяться тебе, говорит, и песни петь, а не охать. И службу, говорит, вели попу отслужить, что одним битьем отделался!
И рассказал он мне, что малость повыше того места, где змеичане меня отколошматили, караулил меня — ты думаешь, кто? — Чубастый со своими дружками. Кол отстругали, чтобы посадить меня, угольев наготовили, чтоб изжарить. Ждали, когда я подъеду, того не зная, что и другие подстерегали меня, чтоб свести старые счеты…
Битье битьем, а, выходит, и оно на благо. Потому что, кабы не оно, сидеть бы мне на колу да печься на угольях.
Отведал я побоев, но зато вернулся в село с овцами. Шесть их сотен поначалу было, а в село я пригнал восемьсот шестьдесят, и все жирные, с такими вот мохнатыми хвостами. Я велел чабанам три раза их по селу прогнать, чтоб видели люди, какие овцы бывают. Как раззвенелись мои колокольцы, как залились лаем мои собаки, то-то радость, то-то наслаждение! Почем мне было знать, что много радости не к добру? Однажды сказал я тестю: а не продать ли нам сотню овец и не поставить ли хороший дом?
— Когда будешь этим овцам хозяин, — говорит в ответ тесть, — тогда и продашь.
— Это как же? Небось они у нас общие?
— С чего это ты взял?
Ну, слово за слово, и уразумел я, что мой тестюшка в мыслях не имел меня к себе в сотоварищи брать. Что я для него всего-навсегда даровой батрак и слова про «наше», «общее» были чистый обман, чтоб поймать меня на удочку.
Разругались мы. Я сказал ему, что он мошенник и сквалыга. Он меня назвал «ранником» и дерьмом и отвесил две оплеухи. Две оплеухи, да еще при жене при моей! Хотел я его через перила кинуть, да удержали меня. А он, вражина, до того лютый был, что решил совсем меня сгубить и подговорил старосту призвать меня на войну. А тогда как раз пятнадцатый год был, на войну брали. Не спасла меня и кривая нога.
— Мы, — доктор сказал, — не берем только тех, у кого вместо ног деревяшки, хотя, кабы меня спросили, я брал бы и с деревяшками, потому для чего солдату ноги? Солдат драться обязан, а не бегать. А без ног в самый раз в окопе сидеть!
Попали мы в лапы одному фельдфебелю, и тут пошло: «Встать — лечь! Налево — направо!»
Ну, с грехом пополам подучили нас, как воевать надо. Вот-вот погрузят в вагоны и отправят драться, а у меня мысли не о войне, а о тех оплеухах, что отвесил мне тесть при жене. Я ему овец сторожи, врагов кровных наживай, а он мне за это оплеухи в награду? И решил я так: до той поры на войну не пойду, покуда не рассчитаюсь со стариком. Являюсь к фельдфебелю и говорю: так, мол, и так, господин фельдфебель, жена у меня молодая, дай ты мне три дня отпуску, а я за это принесу тебе из дому золотой и пять ок меда.
— Ладно, — говорит фельдфебель, — отправляйся!
Я — ружье за спину — и в путь. Иду и мозги выворачиваю, какую бы мне такую пакость сотворить. Овчарню поджечь — за овец душа болит. Дом подпалить — чего доброго, и жена сгорит. Хлеб уж смолочен, так что и хлеб не сожжешь. И решил я тогда пасеку раскидать. Пришел я в село ночью, прирезал двух коз, освежевал, сделал два меха, наполнил водой. Оседлал коня и отправился на пчельник. Пять-шесть ульев залил, повыбросил оттуда соты, а потом все двадцать семь покидал с обрыва. Покончив с этим делом, ускакал прочь — никто не видал, никто не слыхал. Но на полпути я призадумался: а что проку, что я стариковы ульи в речку покидал, коль он не узнает, кто ему этот гостинец поднес? Поворотил я назад, встал в стременах перед его воротами и крикнул:
— А ну-ка, выйди, дед Ангелачко, выйди, я скажу тебе, почем нынче оплеухи!
Двух дней не прошло, засадили меня в гарнизонную тюрьму за решетку, и тем война для меня кончилась. Из нашей третьей роты сорок первого резервного батальона ни один человек назад не пришел! Кабы не тестевы оплеухи, быть бы и мне среди «почивших в бозе героев».
После войны пересилила вторая моя судьба — добрая. Отец надумал отделить нас с братом и дал мне овец — тридцать голов. Поскольку был я «ранник», то овцы достались мне какие похуже, все больше яловые. Я взял их да продал. Попас, подкормил немного и сбыл одному барышнику из Греции, Адилом его звали. Часть Фракии, что у моря, у нас отняли, но границу особенно не стерегли, переходить было дело плевое. Адил скупал овец на нашей стороне, потому что у них в те годы голод был. По золотому за овцу платил. Получил я тридцать золотых и думаю: а не отправиться ли мне в Петвар либо в Осиково, где за один золотой четырех овец отдают? Переправлю их через границу моему барышнику и за свои тридцать сто двадцать золотых возьму! Неужто мне век в дураках ходить? Бочонок вина пограничной страже, жареного барашка — и дело сладилось. Границу-то не больно стерегли, переходи сколько хошь, не как теперь.
Сбыл я сто двадцать овец, сотню золотых сразу получил на руки, а остальные Адил принес мне домой в Катраницу, как говорится, самолично. Честная душа! Через кордон пробирался, на риск шел, только бы мне деньги в срок отдать. Я на эти деньги еще овец купил, перегнал на ту сторону, продал и так покупал и продавал, покуда не скопилось у меня полтыщи золотых лир! Коли у тебя никогда враз по полтыщи не бывало, могу рассказать тебе, что это значит — такие деньги иметь! По земле иначе ступаешь, откашливаешься и то иначе, долго этак, басовито, и пока ты прочищаешь горло, все стоят, слушают и молчат. А ты неторопливо откашляешься и пойдешь себе дальше, тоже неторопливо, вроде, мол, шагать тебе неохота, а охота перешагивать через все: через людей, скотину, дома, через горы даже! Вот что оно такое — полтыщи лир! А главное дело, каждый золотой так и подзуживает тебя положить в карман второй! Их у тебя пять сотен, а тебе тыщу подавай! Вот я и взялся из пяти сотен тыщу делать. Уговорились мы с Адилом, что пригоню я ему еще тыщу овец; трижды по триста голов. Разослал я во все концы скупщиков, нанял чабанов. Сколько барашков было скормлено, сколько подарков роздано, но точно в срок, как уговаривались, первая отара была переправлена через границу, на другую ночь — вторая, на третью — третья. Это мы нарочно так уговорились — по частям, а сам я чтобы прибыл с последней отарой, тогда, мол, и получу свои лиры. Прибыл я. Адил уже дожидается.
— Айда, — говорит, — друг, со мной в Скечу (тогда Ксанти так называлось). Айда, там мы с тобой разочтемся, а то здесь всякий народ шатается, так что боязно мне было такие деньги с собой возить.
Сели мы на коней — и в путь. Подъезжаем к Азмаку, откуда дорога на Габриште отклоняется, Адил и говорит:
— Вот тебе повод, подержи моего коня, а я схожу по нужде, — говорит, — подожди немножко.
Жду немножко, жду множко, а моего Адила нет и нет. Принялся звать — никто не отзывается. Стал в лесу искать — может, худо ему сделалось, а его и нет нигде. Понял я тогда, какую шутку сыграл со мной мой разлюбезный Адил, и поскакал что было духу назад, отару хотя бы повернуть. Какое там! Не только овец, хвоста овечьего не нашел. А поскольку дело-то контрабандное, то ни к грекам, ни к болгарам — ни к кому с жалобой не сунешься. Застал я на месте только одного чабана — дожидался меня Тодор из Широкой Лыки, чтобы в обратный путь вместе двинуться.
— Тодор, — говорю ему, — у тебя посох какой?
— Кизиловый, — говорит.
— Коли, — говорю, — кизиловый, то я лягу, а ты колоти. А зачем и почему, не спрашивай. Колоти, говорю, не то не видать тебе от меня ни гроша!
Десять раз вытянул меня Тодор своим пастушьим посохом, а потом сели мы на коней и вернулись восвояси. Принялся я плакать — не текут слезы, принялся пить — ни вино меня не берет, ни ракия… «Беда, — говорю я себе, — ох, беда!..» И того не ведал, что эта беда еще не беда, что самая-то беда впереди. На другой день прибыл в село пристав Перпелан с двумя стражниками из Девлена и прямиком к нам в дом. Ни «здрасте», ни «добрый день».
— Именем закона, ты арестован! — А стражникам велит: — Вяжите его!
— Да почему такое? За что?
— Шагай и не спрашивай!
Пригнали меня в участок, и началось следствие:
— Какие у тебя дела со шпионом? Говори!
— Ты что, обалдел? С каким таким шпионом? Знать не знаю никаких шпионов.
Заиграли они дубинками, и мало-помалу уразумел я: этот самый Адил, с которым мы в моем доме пили, ели и торговлей занимались, на самом-то деле шпионом был. Так что он не только обчистил меня, но еще под монастырь подвел. Я клялся, божился, что ведать ничего не ведаю, да разве поверят? Из участка в другой участок, от одного жандарма к другому, от другого к третьему, пока не очутился я опять под замком один-одинешенек. Судили меня и присудили расстрел. И как пить дать, отправили бы меня на тот свет, кабы не поймали Адила. Разобрались тогда, что к чему, и выпустили меня из тюрьмы.
С той поры я берусь отличить, кто родился: самец или самочка, козленок или барашек, хилый или здоровый, но что к добру, что к лиху — не отличаю. И не берусь, и не суюсь.
Год… не то год, не то два тому, не скажу, приходит сын мой, Ангелачко, и говорит:
— Отец, а отец, приглядел я себе в Кричиме хорошую девушку. Как думаешь, жениться мне?
— А ты, — спрашиваю, — с чего взял, что хорошая она?
— Так видать ведь.
— Кабы, сынок, с одного виденья понять можно было, что хорошо, а что худо, я бы сейчас в окружных начальниках ходил. В лес, в партизаны в свое время подался бы… Но тогда за лесом не разглядеть было, что к добру, а что на беду.
Так или иначе, женился мой Ангелачко на той девушке, и зажили они припеваючи. Он по каменотесному делу немалые деньги зашибал, но ведь деньгами никогда не насытишься; взбрело ему определить жену в город, в телефонистки. Того-другого подмазал и определил.
— Вот теперь, — говорит, — отец, чистая благодать. Дом, — говорит, — у нас новый, галдироб еще купить, и ничего мне больше не надо!
Он, значит, так предполагает, а телефонисточка по-своему располагает. Спуталась с телефонным начальником, а мой-то малый их и застань. Задал он ей хорошую трепку, она сбежала в родное село, а он с горя напился, да и поджег дом, чтобы вышибить из памяти и дом и жену.
Люди жалеют нас: «Вот горе-то! Вот несчастье!» И слышу, толкуют меж собой: «Постарел, — говорят, — Милю, из ума выживать стал, вон сидит, улыбается как ни в чем не бывало. Господи, спаси и помилуй!» А я перебираю четки и в ус не дую, потому что знаю наперед: рано ли, поздно ли мутная вода стечет и опять побежит прозрачная!
И она побежала — да не из одного, из трех желобов разом! Как расчищали мы пожарище, то ковырнули старую кладку, еще от дедова дома, и нашли там в медном кувшине — как думаешь, что? — клад старого Ангелачко! Тридцать империалов австрийских и сотню лир!
Вот теперь ты мне и скажи, что к добру, а что во зло! Я и втолковываю моему Ангелачко: «Чудной этот мир, мудреный, и никогда наперед не узнать, что к добру, а что на беду».
Перевод М. Михелевич.
ГОЛОВА ЕЛОВАЯ
Осерчал на нас церковный певчий. Батюшка, вишь, когда крестил или отпевал, не звал его, а плату, и певческую, и поповскую, себе в карман клал.
И вот надо же, в Петров день пришла одна тетка, просит молебен отслужить. Мы раз пробили в колокол, другой, а певчего нет как нет. А без певчего какая служба!
— Сходи, — посылает меня батюшка, — покличь Илию.
Иду к Илие.
— Два раза в колокол звонили, чего не идешь! Третьего раза дожидаешься? Батюшка без тебя службу начать не может!
— Пущай, — говорит, — один служит! Коль он мастак сам денежки получать, пущай сам и служит!
Что делать? В церкви народ ждет — не здешний народ, из города. Тут вспомнил я, что один из писарей у нас в сельсовете малость поет. В молодые годы на попа учился, да архиерей прознал, что он из красных, и отказался его рукоположить. Бегу к нему:
— Свечи горят, в колокола прозвонили, а службу начать нет возможности, потому певчий у нас забастовку объявил! Выручай!
— Нет, — говорит, — не могу!
— Почему не можешь?
— Начальство не велит!
Бегу к председателю.
— Разреши, товарищ председатель. Приезжий народ у нас, нельзя осрамиться.
— Пускай идет! — говорит председатель. — Кто ему не велит?
— Пошли! — говорю я писарю. — Начальство разрешает!
— Это он сейчас разрешает, а потом голову с меня снимет. Охота была наживать неприятности!
Иду к батюшке — так, мол, и так, дело дрянь, службу придется отложить до завтра, а тем временем пошлю я записочку Маню Быкларову в горы, на пастбище, чтоб оставил своих овец и спустился в село. Малый он не шибко грамотный, но, бывает, поет…
Согласился батюшка. Послал я записочку, и к вечеру Маню был уже в селе. Утром отслужили мы молебен, и я говорю батюшке:
— Раз певчий у нас блажит, давай прогоним его и возьмем певчим Быкларова, а жену его старостой церковным сделаем.
— Не по мне это занятие, — говорит Быкларов. — Я порядка не знаю, еще не там вступлю.
— Коли ты из-за этого, — говорю я ему, — так я тебя научу, где вступать, небось не первый день в причетниках хожу.
— А-а, тогда ладно! — согласился он.
Мы и назначили: жену его — старостой, его — певчим.
Месяца этак через два подошло время луга церковные в аренду сдавать. Иду я к Быкларову и даю ему такой совет:
— Собери, Маню, попечителей и устрой ты на луга торг, может, тогда храму нашему перепадет лишний грош, а то народ стал не тот, коммунизм ему больше по душе пришелся, в церковь не ходят, даров не несут, так хоть за луга лишний лев выручим, а то на какие шиши содержать будем храм божий?
— Ты, — отвечает мне Быкларов, — знай себе звони в колокол, а в мои дела не суйся.
«Ах, так? — думаю я про себя. — Ну, ладно, сам ломай себе шею!» И отступился. А он сладился с какими-то типами, получил с них денежки, а сколько получил и сколько батюшке отдал, одному богу известно.
Прихожу я однажды в церковь. А у меня такой обычай: беру свечки, зажигаю, а платить — плачу за все разом, когда ухожу. Так вот, подхожу я к свечному ящику и говорю Быкларову:
— Дай-ка свечек!
— Сколько тебе?.
— Столько-то!
— Сперва, — говорит, — деньги, а потом уж свечи.
— Сейчас, — говорю, — старуха моя придет, тоже свечи ставить будет, так мы сложим ее расход и мой, когда будем уходить, за все разом расплатимся.
— Нет, ты мне деньги давай! Для чего я тут поставленный?
— Я-то знаю для чего! Это ты не знаешь! — Вынул я десять левов. — На, держи!
Через какое-то время встречаю я его у магазина. Кто-то привез с личного участка лук-порей продавать, а Маню, зажав нос платком, подходит к нему. Хотел, видно, луку купить, но увидел меня, лук бросил, ко мне подходит.
— Известно тебе, — говорит, — что все часовни взломаны и лампады в них переколоты?
— Да кто ж это мог все лампады переколоть?
— Ты знаешь кто! Беспременно знаешь, а прикрываешь их! Но это, — говорит, — их не спасет! Хоть под землей, а найду и в тюрьму запрячу!
— А чего тебе их искать, если я их знаю?
— Знаешь, знаешь, — шипит. — А известно тебе, что из часовни икону святого Димитрия унесли? Или это тебе тоже не известно?
Разговор этот у нас был перед обедом, а после обеда отправился он в совет, наплел председателю, что я украл икону святого Димитрия и продал какому-то посольству за шесть тысяч левов. В это самое время сидел в кабинете у председателя Каручев из автодорожного управления — приехал дорогу проверять, можно ли по ней автобусы пустить, — так что Каручев тоже про это услыхал. Очень это ему интересным показалось.
— Что за человек? — спрашивает председателя.
— Да так, — сказал тот, — баламут!
Поговорили они между собой и пошли в закусочную выпить. Маню как увидал их, решил, что он тоже из начальства, и подсел к ним. А Каручев, веселый человек, вздумал над Маню подшутить.
— Слушай, про какую икону у вас разговор шел? Большая она? Столько на столько будет? — И показывает, значит, сколько на сколько.
— Будет, — говорит Маню. — А что?
— А то, что сын у меня, — говорит Каручев, — ездил в город на промышленную выставку и видел — в одном посольстве на стенке точь-в-точь такая икона висит.
— Она это! — подскочил Быкларов. — Святого Димитрия! Она самая!
— Кто же знал! — заахал Каручев. — Мы же вполне могли поднять вопрос, и была бы икона сейчас на своем месте! А мне и в голову не пришло, что икона эта ваша!
Наплел Каручев от нечего делать с три короба, а неделю спустя является ко мне рассыльный из совета:
— Пошли, — говорит, — дядя Вранко, председатель вызывает.
— А кто там у него?
— Милиционер при портфеле.
Иду в сельсовет и впрямь вижу: сидят милиционер с председателем. Смекнул я, что будут они у меня про что-то выпытывать.
— Садись, дед! — говорит мне милиционер.
Сажусь. Председатель помалкивает. Слово, значит, за милицией.
— Что нового слышно?
— У нас в селе, — говорю, — ничего не слышно.
— Ладно, выкладывай.
— Чего выкладывать?
Тут отворяется дверь и входит Быкларов. Милиционер к нему обращается:
— А ну, дядя Маню, давай ты скажи!
— Об чем?
— Вот про деда Вранко скажи!
— А чего сказать-то? — отводит Маню глаза, на меня косится. — Нечего мне говорить!
— Ничего он такого не сотворил?
— Ничего!
Председатель глядит на него, усмехается.
А милиционер как напустится:
— То есть как это «ничего»? А я какого лешего сюда явился? Может, я так, ни с того ни с сего явился? — Лезет он в портфель и достает оттуда бумагу. — Твоя подпись?
Быкларов надевает очки, кивает:
— Моя!
— Раз признаешь, что твоя, рассказывай!
Милиционер, значит, допытывается, а Быкларов на своем стоит.
— Ничего он не сотворил!
— Ах, ничего? — строго спрашивает милиционер. — А это кто написал? Может, я? — И читает: «Начальнику милиции. Товарищ начальник, довожу до вашего сведения, что объявился у нас в селе один мошенник, такой туполобый, что ни председатель не может его вразумить, ни милиция приструнить. Ничем эту башку не прошибешь, потому как еловая она. И даже не еловая, а дубовая. И зовется эта башка Вранко Йотов — тот самый, который украл из храма икону святого Димитрия и продал ее посольству за шесть тыщ новыми деньгами!»
— Это вот и есть Вранко Йотов? — спрашивает его милиционер. — Что же ты, когда тебя спрашивают, твердишь: «Ничего не сотворил»? Отвечай сейчас же, что он сотворил, если еловая у него голова.
Тот, знай, отмалчивается. Ухватил его тогда милиционер за шкирку, как волк ягненка, дверь распахнул и вышвырнул вон.
— Катись, — говорит, — болван!
На том история с иконой и кончилась.
Вышел я из той истории чист, но взяла меня злость, что Быкларов грязью меня поливает, и созвал я церковных попечителей — батюшки в ту пору в селе не было, он у нас на три села один, так что приезжает только, когда надо кого отпевать либо венчать. Из пятерых попечителей двое пришли, остальные давно в город перебрались.
— Этому человеку, — говорю, — в церкви не место.
— Почему? — спрашивают попечители.
— Потому что творится в церкви неладное. Худые дела делаются.
— Какие?
— На руку он нечист!
— Не пойман — не вор, — говорят попечители.
— А как его поймать, когда вы в церковь ни ногой!.. Вы загляните, — говорю, — в церковь и увидите! Он снял подзор с пресвятой богородицы, срезал с него кружева и кружевами этими украсил свечной ящик, за которым жена его сидит, свечи продает! На Иисуса Христа повесил платок носовой, пришпилил к челу кнопками! Трем святителям глаза майкой прикрыл, чтобы не видели глаза их, что он творит в храме божьем. Раньше-то, — говорю, — как переступит человек порог церкви, вся святые смотрят на него — видят, значит, кто входит и выходит, и про себя замечают. А Быкларов всем им глаза заслонил, чтоб не видели, как он ворует!
— А ведь верно! — говорят. — Нам и невдомек. Поручаем тебе за ним присмотреть.
Я и стал присматривать. Подарили церкви двух ягнят.
— Дед Вранко, — спрашивают попечители, — что делать будем с ягнятами? Кто их пасти будет?
— Берите их, отведите на площадь к магазину и продайте с торгов. Как всегда делается.
Быкларов так и вскинулся.
— Чего, — говорит, — лезешь не в свое дело? У меня свой ягненок есть да двое церковных — будет трое. Мне своего все равно пасти, так попасу заодно и этих, а осенью, как подрастут, продадим их живым весом, чтоб побольше за них взять!
— Молодчина, Маню! Хорошо придумал!
Пришла осень. Встречаю я как-то Маню и спрашиваю:
— Что с ягнятами? Много ли выручил?
— Батюшка, — говорит, — угнал их в Чепеларе, там продал, а деньги записал в приходную книгу.
Когда приехал батюшка в село, я пошел к нему в алтарь. Быкларов в это время пел на клиросе, но, как услышал, что мы с батюшкой разговор ведем, петь бросил, чтобы послушать, про что это мы говорим.
— Батюшка, — спрашиваю, — сколько вы взяли за ягнят?
— Каких ягнят?
— Церковных, которые вы в Чепеларе продали.
— Ничего я не продавал, — удивился батюшка. — С чего ты взял?
— Певчий сказал.
— Да ведь он, — говорит, — прошлый раз меня спрашивал, что с ягнятами делать, я и велел продать с торгов. Потом я его спросил, как он ими распорядился, так он сказал, что торги устроить не удалось и он сбыл их с рук на руки — одного за семь левов, другого за пять.
— Батюшка, — говорю я, — нет у меня к этому человеку доверия. Давай снимем его жену со старост. Чтоб не было ему доступу к даяниям и деньгам, пусть свое певческое жалованье получает — и хватит с него.
— Обидится, пожалуй, — говорит батюшка, — и уйдет.
— Не уйдет. Больно жаден.
— Коли так, подыщите нового старосту. Только чтоб с нового года!
Передал я об этом попечителям, они спорить не стали. Под новый год надоумил я их отобрать у Быкларова ключ от церкви, а он не отдает.
— На кой вам ключ? — спрашивает.
— Как мы есть попечители, — отвечают те, — то желаем произвести ревизию.
— Не отдам я вам ключ, — разорался Маню. — Вы мне никто. Ключ я только благочинному могу отдать.
— Этот полоумный, — говорят мне попечители, — нам ключа своей волей не отдаст. Придется силой.
А я их наставляю:
— Коли он не в своем уме, так вам ума лишаться не к чему. Есть порядок. Идите, — говорю, — в совет, возьмите там две полоски бумаги — длинные такие, узкие, в магазине клею возьмите, воску я вам дам, печать у вас в руках, запечатаете храм, а поверх печати: «Церковь закрыта на ревизию». Посмотрим, осмелится ли он отпереть ее!
— Да ведь он ненормальный, — говорят. — Отопрет!
— Еще, — говорю, — лучше! С прокурором будет дело иметь!
На другой день приезжает батюшка. Я в закусочной был.
— Ну, — говорю, — батюшка, молодчина ты у нас! В какое время уговаривались, в такое и прибыл!
— Покончили вы, — спрашивает, — с Быкларовым?
— Не отдает, — говорю, — Быкларов ключа, так что пришлось нам церковь опечатать.
— Вот те на! — покатился со смеху батюшка. — Пошли отпечатывать!
— Отпечатать-то можно, но нужно ревизию сделать. Опись имущества!
— Чего там описывать? — говорит батюшка. — Иконы на месте. Чаша водосвятная на месте, книги тоже, остается только ларь с пожертвованиями. Если из-за них, что ж, делайте опись!
Вынесли попечители ларь и стали переписывать: штаны, платки разные — прихожанки много всего нанесли. Когда кончили они переписывать, я говорю попечителям:
— Намедни принесли передник один тканый в дар пресвятой богородице. Что-то этого передника не видать! Спросите Быкларова, где он.
— Маню, — говорят, — неси передник!
— Какой еще передник?
— Тот, который намедни принесли!
— Это, — говорит, — вы из своей головы выдумали! Не было никакого передника!
— Маню, — говорю, — когда вешали тот передник на икону богородицы, тетка Трендафила в церкви была, я был, старуха моя тоже была! И завмагова жена тоже тот передник видала… Что же это получается?
— Кто да что видал, этого я не знаю. Знаю только, что я никакого передника в глаза не видел!
— Ты спроси, — говорю, — у жены у своей. Может, ей тот передник по вкусу пришелся, она и прибрала его, а тебе не сказала?
Пошел он у жены спрашивать.
Я попечителям говорю:
— Если есть в нем хитрость и соображение, то он спросит у жены, воротится и скажет, что и впрямь жена передник забрала, думала заплатить, да только предупредить о том не успела… Полезет, — говорю, — в ту лазейку, которую мы ему открыли. А коли он, — говорю, — дурак, то сам ту лазейку захлопнет и в капкан попадется.
Ворочается наш Маню.
— Ну что?
— Говорил я вам, никакого передника у ней нету! Напраслину возводите, чтобы очернить меня!
— Как же так? — спрашивает один попечитель. — Как могут десять душ одно и то же выдумать?
— А коли у этих десяти глаза не видят, кто тут виноватый?
— Выходит, один ты у нас зрячий, — говорю. — Коли ты такой зрячий, скажи, куда ты девал тех церковных ягнят? Кому продал?
— Одного за семь левов продал, другого за пять, всего выходит двенадцать, и деньги эти, — говорит, — у батюшки заприходованы!
— А есть свидетели, что ты за тех двух ягнят не двенадцать, а сорок левов взял!
— Может, и сорок, но только не за двух, а за трех — вместе с церковными и мой ягненочек был.
— За три головы — сорок, разделить на три — получается двадцать шесть за церковных, а не двенадцать!
— Мой, — говорит, — жирнее был.
— А с чего это он жирнее был, если ты их вместе пас?
— А уж это, — говорит, — от самого ягненка зависит! Не в одной пастьбе дело, а еще и в породе! Виноват я, если мой лучшей породы оказался?
— И не совестно тебе! Мы тут перед тобой, как говорится, святой синод храма сего, а ты нам в глаза заливаешь, что продал своего ягненка вместе с церковными? Да ведь ты, — говорю, — своего Кыркелану отдал, а тот прирезал его и скормил шоферам, которые ему камень привозили дом строить. Думаешь, слепые мы? А церковных ты леснику продал, он их на грузовике увез. Может, ты и впрямь с него только двенадцать левов взял, но по какой причине? Чтобы он зятю твоему лесу дал!
— Довольно! — говорит батюшка. — Не будем созывать все село, и без того ясно! Давай сюда ключи, Маню!
Тот не отдал — швырнул ключи.
— Нате вам ключи, — говорит. — И до свиданья!
Увольнением, значит, дело и решилось.
В тот день в селе у нас свадьбу играли. Повенчал батюшка новобрачных и говорит мне:
— Пошли, дед Вранко, к молодым в гости.
— А меня не звали!
— Со мной пойдешь! Ты уже десять лет причетником состоишь при нашем храме. Вполовину, можно сказать, попом стал! — смеется батюшка.
Идем мы с ним к молодым в гости, а дорогой я батюшке говорю:
— Знаешь, батюшка, чего я надумал? Быкларов оговорил меня, будто я икону святого Димитрия украл, и осталось на мне пятно, которое ни мылом не смоешь, ни щеткой. Облил он меня грязью, и чтоб очиститься от той грязи, подам я на него в суд за украденные дары, а когда суд назначит день, объявим по радиоузлу на все село: пусть, мол, каждый, кто при Быкларове приносил в храм какие-нибудь пожертвования, о том заявит, чтобы подсчитать, сколько всего уворовано.
Батюшка так посередь дороги и встал.
— Помилуй! — говорит. — Все что хочешь, только не это!
— Да отчего же, батюшка? Он меня может грязью обливать, а я не моги? Нет, я тоже его оболью, да так, что ему ни в какой реке ие отмыться!
— Господом богом прошу! — взмолился батюшка. — Если имеешь ко мне уважение, не делай этого! Церковь нашу на осмеяние выставишь! Мы и так у всех как бельмо на глазу!
— Так ведь не церковь воровала, не ее будем на смех поднимать! Певчий воровал!
— Выкинь ты это из головы! — раскричался батюшка. — И думать позабудь! Если хочешь ревизию, составим комиссию из своих людей, проведем проверку, начет на Быкларова сделаем — и конец! Разве моя вина, что он воровством занимался!
Расстроился наш батюшка и на свадьбе гулял без всякого удовольствия. Барабаны бьют, волынка гудит, а ему никакой радости. Ворочаемся мы со свадьбы, а Быкларов батюшку дожидается — жалованье свое получить.
— Батюшка, — говорю, — никакого ему жалованья! Его жалованье арестованное.
Маню говорит:
— Подавай сюда деньги, батюшка! Подавай деньги, или я не знаю что сделаю!
А я говорю:
— Никаких денег! Я-то знаю что сделаю!
Оказался батюшка между двух огней, но мой огонь ему показался опаснее.
— Нету у нас сейчас в церкви никаких денег, Маню, и потому не могу я тебе жалованье заплатить.
А Маню говорит:
— Как это нету? А аренда за луга? А свечные деньги?
— Это по другим статьям! — объясняет батюшка.
— Что ты с ним цацкаешься? — говорю я батюшке. — Зачем прямо не скажешь, что жалованье его арестованное?
Взъярился тут Быкларов и говорит попу:
— Пропади, — говорит, — пропадом мое жалованье, но и тебе, батюшка, солоно придется, имей в виду! — И пошел прочь.
Оробел батюшка, бросился вдогонку, и стали они толковать о чем-то за оградой. Хотел я послушать о чем, но на ухо туговат стал, так ничегошеньки и не разобрал. Воротился батюшка, в лице даже переменился: было у него красное лицо, стало белое.
— Чем он, — спрашиваю, — тебя напугал?
— Написал, — говорит, — жалобу благочинному.
— Подумаешь, велика беда! Пускай пишет, мы тоже напишем и посмотрим еще, чья возьмет.
Оглянулся батюшка по сторонам. В одну сторону посмотрел, в другую и спрашивает меня:
— С коих пор ты у нас в храме причетником? Нету разве у тебя желания повышение получить, старостой церковным стать?
Сколько времени о новом старосте речь шла, он слова не обронил, а тут вдруг: «Нету желания старостой стать?»
— Подумать, — говорю, — батюшка, надо.
— Подумай, — говорит, — и да просветит тебя мать пресвятая богородица, чтобы не подкапывался ты под святую нашу церковь!
И теперь вот сидим мы с моей старухой и думаем-гадаем, как лучше: раскапывать дальше или в старосты пойти?
Перевод М. Михелевич.
ИБРЯМ-АЛИ
Был он, что называется, молодец-удалец! Только вот разбойник… Много раз доводилось мне видеть его, приходил он ко мне на овечье зимовье за хлебом, и всякий раз я диву давался — откуда в нем это проворство? Подкрадется к тебе, чуть, как говорят, на голову не наступит, а ты не слыхал, и собаки твои не учуяли! Делисивко — тот четырех псов во дворе держал, а он прошел двором, со двора к Делисивко в горницу заявился, раскаленный треножник ему на голову поставил и ушел — и ни один пес даже не тявкнул! Делисивко их потом посадил всех на цепь и пристрелил из двустволки за то, что тревоги не подняли.
Я как-то спросил Али:
— Чего ты с ними делаешь, с собаками, что они тебя не чуют?
— Козлиными потрохами мажусь, они человечий запах отбивают.
В шутку он это или взаправду сказал, уж и не знаю, улыбаться он никогда не улыбался, так что, когда он шутит, когда нет, не понять. Лицо у него всегда одинаковое было. Только однажды видел я, как он зубами заскрипел — это когда в первый раз сцапали его и к матери привели, чтобы мать сказала, приносил ли он домой Делисивковы деньги. Мать сказала, не приносил, и тогда сторож общинный, Фандыклия, схватил ее за косы и ударил. Руки у Али веревками были скручены, но он напрягся и всех трех стражников наземь стряхнул, а сторожа так пнул коленом, что тот перекувырнулся.
Говорили люди, что сторож этот потом ему в общине спину горящей соломой жег и дубиной ноги перешибить старался. А из-за чего весь сыр-бор разгорелся?
Из-за десяти золотых!
Али батрачил на Делисивко, а к концу срока тот возьми да и скажи, что Али у него десять золотых украл. Посадили Али в управе под замок и били, колотили до тех пор, пока шкуру, прости господи, с зада не спустили. Ну, битье — еще ладно, но ведь его недели две по участкам таскали, пока не подвернулся Али случай: его через реку переводили, а он спихнул стражника в воду — и был таков, в горы подался.
Уже после того, как бежал он, оказалось, что десять золотых этих Марин, старший сын Делисивков, украл, да и махнул куда-то с одной певичкой. А когда воротился домой да прослышал, какие дела творятся, пришел к отцу и повинился: дескать, золотые-то я стянул. Али тогда еще в участке сидел. А Делисивко, вместо того чтобы вызволить Али и прощения у него попросить, приказал сыну держать язык за зубами.
Первым поплатился сторож, который хотел Али ноги переломать. Поймал его Али на лугу возле Азмака и прикончил. Потом Делисивко весточку прислал — сам он писать был не обученный, так велел одному дровосеку вместо себя написать: «Жди, приду!» Палец себе порезал и вместо подписи внизу крест кровью поставил.
Перепугался Делисивко, да ведь у богатея дружков повсюду предостаточно, так он всю полицию на ноги поставил Али ловить. Его-то они не поймали, а мать-старуху схватили, терзали ее и мучили — мол, выдай, где сын, — до тех пор пока до смерти не замучили. Не сделай они того с матерью, Ибрям рассчитался бы с Делисивко как следует быть и на том бы успокоился, но как загубили они ее, порвалась последняя ниточка, что связывала его с людьми, и озверел он, стал, что называется, разбойником с большой дороги. Подпалил он у Делисивко снопы, кошары пожег, чабанов, что овец Делисивковых пасли, избил, сыроварню его повалил. Двести овец у Делисивко угнал и через границу переправил. А потом и других принялся грабить, но бедняков не трогал. Беспокойно стало на дорогах, власти всполошились, объявили за его голову награду — пять тысяч левов, еще старыми деньгами, дорогими. И Делисивко от себя тысячу посулил, но никто не посмел выслеживать Али, на жизнь его покуситься. Только один каракачанин — жадность, видать, разобрала — хотел предать Али, но тот дознался, подстерег его и ножом пырнул. А потом в муравейник кинул, и муравьи обглодали его живого до костей.
Меня, было дело, винили, что я хлеб ему давал! А ты бы как на моем месте, если б был всегда в горах, у него под ножом, можно сказать? Не только что дашь — просить будешь: возьми. Да потом знали мы, что не родился он разбойником, а из-за Делисивко разбоем занялся. А еще был у Али голос красивый, и песни он пел, как никто… В особенности любимую «Заболела Руфинка…» Бывало, как запоет эту песню, как полетит его голос над лугами и пашнями, косари косы бросают, жнецы — серпы, чтобы песню послушать. Много сердец от той песни забилось, и меж них сердце Джинковой Фатьмы из Козлука. Хотела она пойти за него, но отец за батрака отдавать не согласился. Против воли отцовской решилась Фатьма уйти к Али, и у них уже день и час были назначены, да не ведал бедняга Али, что злодейка-судьба определила ему вместо черноокой Фатьмы палки да плети.
Стал Али разбойником, охотились за ним, как за зверем диким, но песни он той не забыл: слышали люди, как поет он ее в лесной чащобе, а еще говорили, что по той песне стражник из Белицы выследил его, поранил и вроде бы даже убил. В подтверждение стражник принес кошель окровавленный, синими бусинками расшитый, а в кошеле — тридцать монет золотых. Разве бросил бы Али такой кошель, кабы не чувствовал, что с жизнью расстается?
Так уверял стражник, и все ему поверили. И старая лиса Делисивко на ту приманку попался: отсчитал он стражнику тысячу левов и спокойно вздохнул. Стал за порог выходить, в церкви появляться, в общинной управе в меховой шубе заседать и на батраков с бранью накидываться, словно и не проносилось никогда грозы над его головой… Мало-помалу и мы, чабаны, уверились, что погиб Али от тяжкой раны, тем более ни к кому он больше не наведывался, ни к дровосекам, ни к чабанам.
Так дело и шло, пока однажды не разнесся слух, что ночью Али побывал у Делисивко. И главное, не понять, что он с ним такое сотворил! Никаких ран у Делисивко не было, видел я его недели через две после того, как Али у него побывал. Держался он прямо, не хромал и не охал, но все в землю смотрел, и уж никто больше не слыхал, чтобы он голос поднял, с руганью на кого набросился. Только собак своих опять всех перестрелял.
С месяц жил он в горнице вместе с тремя работниками — двое сторожат, третий спит. А сам Делисивко, люди сказывали, ни одной ночи не спал: только, бывало, задремлет, и тут же, как его кто толкнет — соскочит с постели, по полу катается и вопит: «Тут он! Идет!» Работники говорят: «Нету его, хозяин, никого нету!» А он свое твердит: «Тут он!»
Как-то вечером велел он работникам выйти на минуту — рубаху хотел сменить. А вернулись они — он висит удавленный!
Неделю спустя, как похоронили Делисивко, произошло большое ограбление, и ранили Ибряма-Али во второй раз. Мне Коче Попвасилев рассказывал — он при этом был, — что ехало их человек десять, все больше барышники, за скотом в Карамушицу. На Каракуласе остановились воды попить, а тут как выскочат двое, лица красными платками завязаны:
— Руки вверх! Ни с места!
У одного в руках левольверт, у другого бомба. С левольвертом Али был, он-то и приказал, чтобы барышники прошли мимо него гуськом и деньги на землю бросали.
— Деньги эти, — говорит, — не ваши, а тех бедняков, у которых вы задарма скот купили.
Двое человек прошли, пятеро прошли, а шестой, вместо того чтобы кошель вынуть, кинжал выхватил и бросился на Али. Началась тут лютая схватка, но сунуться никто не посмел: барышники бомбы опасались, а который был с бомбой — барышников. Стояли они и глядели: кто кого на тот свет отправит. Барышник вцепился в Ибряма, как клещ, причинное место ему, ты уж прости, вертит, выворачивает. Видит Ибрям, плохо его дело. И кричит товарищу своему, чтобы бомбу кидал:
— Кидай, пусть нас обоих прикончит!
Метнул тот бомбу в обоих. Разорвалась бомба, а когда дым рассеялся, барышник на земле убитый лежит, а Ибрям-Али целехонек! Только ляжку осколком пробило. Меня, когда рану его увидал, аж затрясло. А было это дней через десять после того грабежа. Воротился я к вечеру к себе на зимовье, загнал овец в кошару, подоил и сел у костра молоко греть. Вдруг слышу, окликает меня кто-то по имени:
— Бечо-о!
Встал я, огляделся, — никого не видать. «Померещилось», — думаю, и опять к костру сел. Только сел, опять зовут:
— Бечо!
Заглянул я в кошару — может, там кто прячется? Нет, пусто. Вышел, осмотрелся — еще не совсем стемнело, — ни души! Овцы мои лежат смирно, собаки жрут в корыте отруби и ухом не ведут. Тут у меня над головой что-то прошумело и — хлоп! — прямо передо мной Ибрям-Али! Широким поясом кожаным опоясан, с латунными пряжками. На голове шляпа соломенная, русые усы книзу закручены, концы аж под подбородком сходятся, левольверт на цепочке через плечо, наган с барабаном да кинжалы за поясом. Лицо загорелое, из себя малость похудал. Я до того оторопел, что слова не вымолвил — ни «здравствуй» не сказал, ни «милости просим».
— Испугался вроде? — спрашивает.
— Как не испугаться? С неба падаешь!
— Это ты сосну небом зовешь? Перед тем как костер разжигать да садиться молоко греть, чего ж на сосну не взглянешь, может, на ней кто сидит?
Чуть было не ляпнул я: чего мне на сосну глядеть, чай, не разбойник, как ты, а чабан, но решил лучше не связываться.
— Нальешь мне, — говорит, — молока?
Отдал я ему молоко вместе с кринкой, а он вынимает из-за пояса наган и на меня наставляет!
— Барашка мне приведи!
— Я и так приведу, — говорю, — без нагана!
— Для тебя же лучше, чтобы с наганом, — говорит. — Завтра пойдешь в село и скажешь, что я приходил и силой барана отнял. Чтоб не винили тебя, что мне помогаешь. А то еще пострадаешь из-за меня!
Всю ночь пекли мы на углях барашка, а пока пекли, об овцах да баранах толковали. Спросил он меня насчет колокольцев, какие у меня колокольцы, откуда, хорошо ли звенят, и посоветовал:
— Этот вот колоколец смени, он с другими не в лад звенит, а вот тот подточи малость, звон прозрачнее будет.
Вишь ты, пока на сосне сидел, все мои колокольцы распознал, про каждый понял, какой он есть и что сделать надо, чтобы звонче стал.
— А еще, — говорит, — нужно тебе два новых колокольца завесть: один — басовитый, другой с тонким голосом, с серебряным звоном. Будут, — говорит, — перекликаться, а еще будут дело делать: если мне беда какая грозит, ты большой колоколец толстому барану подвяжешь, брюхо ему крапивой настегаешь, чтобы он чесаться начал, от колокольца гул пойдет, знак мне и подаст, чтоб я сюда не совался. Если ж оба колокольца разом поют, значит, все в порядке! А коли я тебе для чего понадоблюсь, повесь тонкоголосый мулу на шею, сам верхом садись, и если я только живой-здоровый, то, где я ни будь — хотя в самом Чамжасе, — тотчас к тебе примчусь.
— Трудно ли, — спрашиваю, — разбойником быть?
— Кабы можно было петь без помехи, — отвечает, — так не трудно было б. Давай, — говорит, — споем, только тихонько!
И запел. Глаза у него серые, с голубизной, взглянет строго — что ножом пронзит, но стоит ему запеть, мягкими становятся они да ласковыми, аж светятся.
— Эдак шепотом петь, — говорит, — все равно что возле красивой бабы со связанными руками лежать.
С теми словами встал он и в лесу исчез.
В село я не пошел, а что он мне велел с колокольцами сделать, то сделал. Звенят два колокольца вместе, как было у нас уговорено — мол, тишь да благодать, но Али больше не показывался. Слух разнесся, что ушел он через границу и что убили его где-то на греческой стороне.
Разбойник ведь такой-разэтакий, а стало мне, правду сказать, горько, привязал я басовитый колоколец толстому барану на шею, брюхо ему крапивой настегал и пустил. Тот как припустит, от колокольца гул пошел: у-у-у-у! На одной вершине — у-у-у, на другой — у-у-у, по полям и лугам, чащобам и ущельям, вверху и внизу день-деньской гул идет, как от церковного колокола, и поняли горы и долы, что нету больше Ибряма-Али. (Ибрям — разбойничье его имя было, но иногда его обоими именами звали.)
Много мне бед после того претерпеть пришлось: в переворот двадцать третьего года[1] дала нам полиция жару, и мне намяли бока, а потом кризис навалился, овечья шкура дороже ягненка стоить стала! Бросил я овец, купил двух мулов и начал извозом на жизнь добывать. С гор доски пиленые везу, в горы — соль, керосин.
Как-то в субботний день подъезжаю я к Станимакской станции за товаром. «Аккурат, — думаю, — и на поезд гляну, ребятишкам потом расскажу, что это за штука такая — поезд». Подкатывает поезд к станции, выходят из него щеголихи разные в шляпах, фу-ты, ну-ты! Я аж рот разинул, гляжу и вдруг чувствую, кто-то мне на плечо руку кладет. Оборачиваюсь — усач какой-то с сизыми глазами, на голове каракулевая шапка с красным верхом. У меня враз ноги подкосились.
— Тихо! — говорит он. — Чего тебе тут надо, на этой станции?
— За товаром приехал.
— В самый раз! Поворачивай своих мулов, поехали!
Штаны, правда, на нем нашенские, настоящие, без обмана. В лицо гляжу — он самый! Ибрям-Али!
Как выехали мы за город, спросил я:
— С того света, что ль, ворочаешься?
— Ты что? Погоняй давай, дальше отъедем — расскажу.
— Куда ехать-то?
— В Чепелли…
В наше село, стало быть. Екнуло у меня сердце.
— А не узнают тебя там?
— Постой, — говорит, — минуту, не оборачивайся!
Слез он с мула. Чуть погодя повертываюсь я поглядеть и вижу — кого бы ты думал? Молодца чернобородого в соломенной шляпе. Стоит от меня в двух шагах. «Ах, ты, мать родная, — думаю, — это что ж за чудеса такие, откуда он взялся?»
— Ты кто же будешь?
— Ибрям!
Как выговорил он «Ибрям», засмеялся, и тут понял я, что это Али. А как он бороду с себя снял, я уж и вовсе уверился. Почем мне знать было, что бывают на свете покупные бороды?
— В таком обличье, — говорю, — не только в Чепелли, даже в Пашмакли, в полицейское управление ехать можно, с приставом кофе распивать, никому не раскумекать, кто ты и что ты!
Сунул он бороду в переметную суму и, только как подъезжать стали к Чепелли, опять прицепил. А пока ехали, рассказывал он мне, что прикатил из Адрианополя по железной дороге. Перед тем он в Греции был, оттуда уже в Турцию перебрался. И все дорогой твердил:
— До чего ж ты кстати на станции оказался! За таким, — говорит, — я делом приехал, что мне беспременно верный человек требуется.
— Смотри, — говорю ему, — кровь проливать я не хочу.
— Мне от тебя одно нужно, — говорит Али. — Привезешь меня в село и, ежели кто спросит, отвечай, что я старший пастух у Стойчоолу, из Шумнатицы. Хромый я, вот ты меня и подвез. А дело у меня тут недолгое и бескровное.
— Домой ко мне поедем?
— Нет! Домой родных возят да друзей. Оставишь меня на постоялом дворе.
Как проезжаем мы мимо буков, он лист сорвет, жует и приговаривает:
— В родном краю листок с дерева вкуснее жареного барашка! В Анатолии листьев таких нету, а вода у них, уж прости, хуже помоев.
Чешму увидит, останавливается!
— Погоди, дай напиться!
Слезет с мула, пьет не напьется, голову под кран подставляет, воду из корытца горстями загребает и в лицо себе плещет, плещет…
А как в сосняк въехали, остановился он возле одной сосны, погладил ее ласково, обнял:
— Сосна, — говорит, — сосенушка, ты в горах, а я у моря дальнего!
Добрались мы до села, к постоялому двору путь держим. Он в шляпе соломенной, с бородой, едет себе преспокойно по улице, никто на него не оглянется: бородатых в ту пору много было, а в шляпах соломенных ходило полсела.
Подъезжаем мы к постоялому двору. Все, значит, сошло как нельзя лучше.
— Отправляйся домой, покорми скотину и приходи в корчму, вместе поужинаем, одному мне ужинать неохота, — говорит мне Али.
Ну, пошел я домой, мулов в хлев поставил, жене велел ужинать да спать ложиться, а сам на постоялый двор воротился. Окна светятся, шум, гам, народу — пропасть… Говорю я Али:
— Не ходи в корчму, Ибрям! Принесу тебе из дому брынзы да хлеба, вкусней поешь, чем в корчме.
Да что! Как об стенку горох! Он в корчму, а я за ним. Внутри — жара, дымище! Мясо жарится. Волынка играет. Песни орут — не поверишь, что в страдную нору (а дело было в самую молотьбу) столько народу может сидеть в корчме, пировать… А по какой причине? Кабана охотники убили, мясо жарят, пьют да едят, а Друлю из Левочева им на волынке играет. Ну, известное дело, зеваки сбежались поглядеть.
Сели мы в уголок, Али себе фасоли с вяленым мясом заказал, стал ужинать. А вокруг песни орут… Все, какие есть, перепели… Али ест, а сам на певцов поглядывает. И вдруг кто-то — уж кто, не помню — крикнул музыканту:
— А ну, Друлю, давай про Руфинку!
Заиграл тот песню про Руфинку, заиграл и запел. Буруштила стал вторить ему, за ним еще трое-четверо, а потом подхватили все хором. Потолок заходил ходуном, окна зазвенели, как бубен. Корчмарь в бутылку вино наливал, бутылка уже полная, а он знай себе льет, не видит. Мясо на углях пригорело, а люди стоят, не шелохнутся, боятся песню спугнуть.
Али отставил тарелку. Поднял стакан — и пить не пьет и обратно не ставит. Сжимает его, пальцы аж посинели, а лицо каменное! Только за ухом синяя жила бьется. Чем дальше песня, тем жила чаще бьется, а глаза горят, смотрят — не видят.
Почуял я: чему-то быть, но пока уразумел чему, Али вскочил на ноги, точно ветром его подняло! Подошел к певцам и запел во весь голос:
Заболела Руфинка, прилегла на горе, на вершине высокой…Все вокруг замерли и онемели. Только Друлю продолжал играть.
— Вина! — крикнул Али. — Всем по бутылке!
Захлопотал корчмарь, зазвенели бутылки, взлетели пробки, а Али поет и поет. Он поет, Друлю играет, а люди слушают и то на певца глядят, то меж собой переглядываются.
Понял я, что дело не к добру оборачивается, и пошел домой. А пришел — моя жена уже прослышала, что Ибрям-Али в селе. Лег я спать, а что-то свербит внутри: «Поди скажи ему, что узнали его! Поди спаси его!»
Поднялся я, опять в корчму пошел. Жена не пускала, так пришлось цыкнуть, чтоб крику не поднимала. Протолкался я к нему, шепчу на ухо:
— Узнали тебя!
А он:
— Просит душа песни, и буду петь! Коли кому охота схватить меня, пусть сунется. — И ко рту мне бутылку приставляет: — Пей! — А корчмарю велит: — Выкатывай бочонок вина, я плачу́! А дверь — на запор!
Что потом было — все у меня как в тумане. Пели, пили, под конец все под столами очутились, вдрызг пьяные, Уж светало, когда Али заплатил корчмарю и встал:
— Веди мулов, ехать пора!
Я хоть и хмельной, но смекнул, что корчмарь с меня глаз не спускает и, ежели я повезу Али, беспременно донесет в полицию. Никуда мне тогда не уйти, нигде не спрятаться! Взял я грех на душу, сказал Ибряму:
— Не ведаю я, что ты за человек, и не повезу тебя!
Поглядел мне Али в глаза острым взглядом и пистолет вытащил:
— Ступай, либо с жизнью прощайся!
— Подчиняюсь, — говорю, — насилию.
Сели мы верхом на моих мулов, поехали. Я впереди, он за мной. Пока по селу ехали, слова не проронили. А как выехали за село, хлестнул он мула, догнал меня и говорит:
— Ты давеча нарочно сказал или вправду не хотел везти меня?
Совестно мне признаться было, и я покривил душой:
— Известное дело, нарочно, неужто взаправду?
— А ну посмотри мне в глаза!
А ведь рассвело уже, все видать, как я ему в глаза посмотрю?
— Да ведь ты, — говорит, — брешешь! Брешешь ведь, а?
И тогда повинился я перед ним:
— Верно, брешу! Потому что ты, — говорю, — укатишь, а мне деваться некуда! Вот тебе истинная правда! Кто виноват, что ты распелся?
— Чего ж ты? Так бы сразу и сказал! — говорит мне Али. — Мне, — говорит, — такого провожатого не надо. Я, — говорит, — хотел закопанные золотые с тобой поделить, но коли ты струсил, ворочайся назад, а я тропку через границу и без тебя знаю. Поворачивай, — говорит, — назад, проваливай. И не бойся, я в спину не стреляю!
Пожалел я обо всем, да поздно. Не о золотых пожалел! Пропади они пропадом, золотые эти! О том пожалел, что враньем себя опоганил.
— Али, — говорю, — коли я нужен тебе, то поеду с тобой, честно говорю, без обмана!
— За золотыми, что ль?
Крепко мне рот заткнул, у меня аж дыхание перехватило. Взял я мула за недоуздок и назад повернул. Второго мула ему оставил. А перед тем как уехать, сказал:
— Одно я хочу сказать тебе напоследок. Выслушай меня и знай, что от чистого сердца говорю. Все село уже знает, что ты здесь, а приговор есть, чтобы тебя повесить! Корчмарь в полиции свой человек, доносчик, а еще видал я в корчме Февзи, старшего сына Фандыклии — того сторожа, который тебе ноги перебить хотел. Пробирайся, Али, лесом, по дороге не ходи!
А он в ответ: «Проваливай!» — и все.
Повернул я назад и уж больше не оборачивался. А когда к селу подъезжал, услышал ружейный выстрел и подумал: «Чему быть, того не миновать».
Неспокойно у меня на душе было, и отправился я не домой, а в корчму.
— Где разбойник? — корчмарь спрашивает.
— Ускакал.
— А ты что же?
— Прогнал он меня.
— Выходит, ты с ним удрать хотел?
— Хотел, — говорю, — сволочь ты этакая! Хотел, да он не взял! Разбойнику такие мозгляки, как мы с тобой, ни к чему. Понятно тебе, — говорю, — гадина? — Да как огрею его недоуздком по башке — раз шесть небось вокруг шеи у него обкрутился.
Схватились мы с ним за грудки, еле нас растащили. И тут слышу: шум, топот. Еще понять не успел, что к чему, увидал своего мула. Волочит за собой слеги, а к тем слегам Ибрям-Али привязан, лежит, белая рубаха вся в пятнах кровавых. (Из-за пятен потом, как помер он, третье прозвище к нему прилепилось — Пятнистый.) Позади с ружьями наперевес шагают полицейский и Февзи, Фандыклиево отродье. Въехали они во двор, и я кинулся к Али:
— Раненый ты? — спрашиваю. — Худо тебе?
А у Али уже глаза помутнели.
— Худо ли, — говорит, — нет ли, все равно конец! Одно хорошо, что положат меня в родную землю…
Тут на губах у него кровавая пена выступила, и на том слове умолк он.
— Али, Али! — трясу его. — Очнись!
А он дернулся у меня на руках, голову уронил и кончился…
— Эх вы! Не могли перевязать человека! — сказал я Февзи, а он отвечает:
— За его голову, — говорит, — одинаково платят. Живой, мертвый ли — цена одна.
* * *
А потом приставы, жандармы, доктора… Допросы, расспросы… Разрезали его — посмотреть, не два ли сердца в нем билось, понять не могли, как это он, двумя пулями в спину простреленный, еще полтора часа живой был, покуда приволокли его на постоялый двор!
После того отдали мне его тело, и похоронил я его в нашей земле. И камень сверху положил, и цветы… Столько лет с той поры прошло, а меня все одно и то же грызет: кабы пошел я с ним, избежал бы он той судьбы злосчастной? Или нет? Как одолеет меня эта мысль — я к учителю.
— Скажи, — говорю, — учитель, есть ли у человека судьба?
— Сколько раз тебе повторять? Есть, есть! Только судьба — она не вне человека, а в нем самом. Взять к примеру твоего Али: кабы песня не разбередила его — никто б его не узнал, никто бы не тронул… Сильный был человек, кремень, а песня, — говорит, — сильней оказалась.
Перевод М. Михелевич.
ГОЛАЯ СОВЕСТЬ
Один-разъединый год походил я в начальниках — в тридцать третьем, в блоковое[2] время, а век помнить буду. Когда делили мы власть на селе, демократам досталась должность сельского старосты, а земледельцам — помощника. Я бы мог старостой стать, потому как старее меня демократа в селе не было, но думаю: «На кой шут мне эта канитель? Кто у кого украл, кто кому межу запахал — все к старосте бегут, заварят кашу, а ты расхлебывай! Уж лучше рассыльным быть, и работа нехлопотная, а жалованье то же». Нашли мы и грамотного парня, записали в демократы, определили в сборщики налогов, В лесничестве разрешили нам две тысячи кубов общинного лесу вырубить, выручку, значит, только считай, и пошли у нас в общинном совете дела — любо-дорого смотреть. Любо-то любо, да дорого обошлось не кому-нибудь, а мне — месяца через три-четыре, когда подошло время эти две тысячи кубов продавать. Я-то думал, что вырубку будем вести на деньги из сельской кассы и лес с торгов продавать, чтобы барыш весь селу достался, ан староста с секретарем сговорились с двумя торговцами отдать им лес чуть не задарма.
Учуял я их шашни и заявляю старосте, что по закону положено лес с торгов продавать, а не тайком.
— Ты знай печи топи, — отвечает мне староста, — а в дела не встревай!
— Я, — говорю, — членам совета расскажу!
— Валяй рассказывай, только помни, что я здесь начальник, а ты рассыльный и у меня в кулаке!
На другое утро дают мне приказ об увольнении: «За пререкания со старостой и недобросовестную топку печей!» Жалованье мне выдать — у них денег не оказалось, и отделались они от меня бумагой, что, мол, совет мне его позже выплатит. С той бумагой пошел я в суд, но в суде велели выписку из выплатной ведомости представить, секретаришка же ведомость спрятал, и жалованье мое погорело. Тем временем торговцы в общинном лесу хозяйничают, вырубку начинают. Такую вырубку, что ахнешь: одно дерево с маркировкой, пять без маркировки валят! Рубят, на телеги грузят и через Студницу — прямо в город. И так подстроили разбойники, что никто из лесников даже и не смотрит, что там делается. От лесников до начальства лесного — все молчок! Как понял я, что все куплены, с потрохами перекуплены, что самим нам с этаким мошенством не совладать, то начал каждый день в министерство земледелия одну и ту же телеграмму посылать: «Лес рубят незаконно, шлите комиссию! От населения Кривой Луки — Панайотов». Телеграммы денег стоили, но я ни денег, ни времени не жалел. Забросил работу, соорудил себе хибарку у дороги в Студницу, где проезжали возчики с лесом, сидел там с попом, свояком моим, и записывал, сколько телег втихаря провозят. Днем телеги считаем, вечером прошения сочиняем министру земледелия. Он пишет, я подписываю.
Раз приходит ко мне Ванчо, посредник у этих торговцев.
— Хочу, — говорит, — с тобой с глазу на глаз поговорить!
Попа как раз не было, в село пошел.
— Заходи, — отвечаю, — в хибару!
Вошли мы в хибару, он пошарил в сумке, что у него через плечо висела, и достает оттуда пачечку ассигнаций.
— Вот тебе десять тысяч на пропой, и не суйся ты больше в это дело, а то неладно получается!
— Я на свою совесть такого греха не приму!
Он решил, что мне десяти тысяч показалось мало, и взялся за карандаш.
— Больше, — говорит, — у меня при себе нету, но я тебе расписку напишу, и ты у хозяина еще пять тысяч лично получишь, как только в город пойдешь. Купишь себе чего-нибудь или на что другое потратишь.
— Плохо вы меня знаете! Не возьму я ваших денег!
Смотрит на меня Ванчо и глазам своим не верит: пятнадцать тысяч по тем временам большие деньги были!
— Ты, дядя Гроздан, — кричит, — в своем уме? Смотри, как бы тебе не пожалеть! Выгоды своей, что ли, не понимаешь?
— Ты, — отвечаю, — свою выгоду понимай, а обо мне не печалься.
Куражусь, значит, что и я не пешка последняя.
Через несколько дней приходит в село приказ выслать в город трех мулов, комиссия едет. Приуныли в нашем совете, но делать нечего — послали мулов, и к вечеру прибыли в село сам начальник околии, лесничий и писарь. Для них рыбы наловили, барашка зажарили — угощать, значит. Но начальник угощения есть не стал, велел в селе не останавливаться, прямым ходом на порубку ехать и там свидетелей опрашивать.
Дело, видать, всурьез оборачивалось.
Пошел я по селу.
— Самое сейчас время, — говорю. — Идите к начальнику, скажите ему правду, как общее наше добро разворовывают!
Один отвечает «приду», другой — «приду», третий говорит «ладно», а как началось следствие, никого нет! Кто испугался, кому на лапу дали, и опять мы с попом за все про все оказались в ответе.
— Сколько, по-твоему, вырублено? — спрашивает меня начальник. Писарь записывает.
— Самое малое пять тысяч кубов!
— Факты, факты! — кричит лесничий. — На слово никто не поверит.
— Вот же, — говорю, — записки мои: за тридцать четыре дня шестьсот телег прошло!
— Твои записки, — расшумелся лесничий, — не документ!
— Тогда, — предлагаю, — пересчитайте пни на порубке, чего уж ясней.
— И это, — говорит лесничий, — не доказательство! Может, не только они рубили.
— Каваклиев, — срезал его начальник, — ты кой-кого не выгораживай! Я сам деревенский, — говорит, — сам топором махал, пока форму не надел, и эти дела знаю. Тайком можно сто, ну двести кубов вырубить, но уж никак не тысячу или две! Без согласия лесничества ни в коем разе!
Уехала комиссия, и дня через два приносят мне повестку явиться к следователю в город. Жене говорю:
— Власти времени зря не теряют! Покажут шельмецам, как наши леса переводить.
На другой день иду в город по следственной повестке. Никуда не захожу, спешу явиться.
— Добрый день, господин следователь!
Не успел я порог переступить, как он на меня накинулся:
— Как звать? По какому делу?
— По делу о лесе. Глянул он на повестку:
— Гроздан Панайотов?
— Я самый!
— А кто, — говорит, — тебя уполномочивал подписывать телеграммы от имени местного населения?
Вот ведь не чаешь, где найдешь, где потеряешь!
— Никто!
— Пиши, — говорит следователь машинному писарю: — «Никто не уполномочивал!»
— Вот тебе, — подает мне, — показания, подписывай и вноси пять тысяч левов залогу или я тебя заарестую!
Как сказал он «пять тысяч левов», так у меня вся кровь в жилах застыла! За пять тысяч тогда самого лучшего мула можно было купить, а виноград был по полтора лева!
— Нет ли тут ошибочки, господин следователь? Пять тысяч — деньги немалые, не человека ж я убил…
— Фальсификация, — говорит, — все равно что убийство. Вноси залог или садись в тюрьму!
Вышел я от него, ровно пьяный, куда идти, не знаю, но пошел все же в околийское бюро демократической партии к Василеву, был такой адвокат.
— Скажи, господин Василев, что делать? Такая, вишь, беда со мной приключилась!
— Раз подписал, — говорит, — показания, вноси залог. А потом на суде я уж постараюсь тебя оправдать.
— А если денег нет?
— В тюрьму садись!
— Что ж за напасть такая! Может, ты мне пять тысяч ссудишь?
— У меня нет, — отвечает Василев, — но я тебе дам записку к Ничеву (аптекарь такой был, тоже в околийском бюро демократической партии состоял). — На, иди к Ничеву!
Пошел я к Ничеву.
— Я, — говорит Ничев, — могу за тебя пять тысяч внести, ежели ты мне вексель на шесть подпишешь.
Тут уж, как говорится, куда ни кинь, всюду клин. И решил я: лучше в тюрьму!
Распорядился следователь, явился за мной конвойный, через весь город прямо на станцию препроводил меня, как положено, по этапу и к обеду в окружную тюрьму доставил. Так и шли по улице: я — спереди, конвойный с ружьем — позади. Народ оглядывается, диву дается, что я за злодей такой, у меня шапка и та от стыда покраснела. Говорю конвойному:
— Пойдем рядышком!
А он меня концом ружья подталкивает:
— Шагай да помалкивай!
Только одну поблажку мне дал: разрешил два слова попу написать, что я в тюрьме.
В тюрьме-то мне раньше бывать не приходилось, и думал я, что это бог весть какая страсть, а оно вроде и не так страшно мне показалось. Людей там много, люди всякие, хлеб как хлеб, еда как еда, сидишь себе за решеткой и отдыхаешь. В карты не умел я играть — научили меня два жулика, которые со мной в камере сидели. Смекалистые люди оказались, и деньжонки у них водились, так что свою порцию они мне отдавали, а себе харчи прикупали на стороне. Спросили меня, за что я в тюрьму угодил — ну рассказал я, за что да как.
— Василев, — говорю, — меня бы спас, да я обмишурился, подписал, так уж ничего не поделаешь…
Жулики мои переглядываются и посмеиваются.
— Чему это, — говорю, — вы смеетесь?
— А тому, что мозги у тебя куриные, — отвечает один — Арменко его звали, сам из себя жилистый, лицо дубленое и шибко смешливый. Все зубы скалил, так они у него наружу и торчали. — Ты, — говорит, — не понимаешь разве, что Ничев, Василев и следователь — одна бражка? Следователь таких лопухов, как ты, к Василеву отсылает, Василев — к Ничеву. Сначала залог с тебя сдерут, потом в окружном суде оберут, в третий раз — при апелляции, в четвертый — при кассации, пока не останешься ты гол как сокол. Мы, — говорит, — жулики, но мы только карманы у людей обчищаем, а эта разбойничья шайка обдирает вчистую, последнюю рубаху с тебя сымет! Им десятки или сотни мало, им тыщи подавай. Нас как поймают, так засудят, а этих и не ловят, и не судят, наоборот, они шуруют, а дурачки вроде тебя шапку перед ними ломают… На первую удочку ты случайно не попался. Смотри, — говорит мне Арменко, — на вторую не попадись, когда они тебя начнут вызволять… Скажи им, что сам будешь защищаться. А мы уж тебя научим.
Как они сказали, так оно и вышло. На третий день вызвали меня на свидание. Гляжу — Василев.
— Прислал меня, — говорит, — Ничев тебя спасать! Вот доверенность — подпиши, чтобы я мог свою роль исполнять! Подвели тебя, — говорит, — под самую страшную статью, и положение у тебя аховое. Слава богу, что судья — наш, демократ, уж как-нибудь расстараемся, чтоб тебя выручить. Подпиши!
— Не буду, — говорю, — подписывать! Нет у меня денег. Сам защищаться буду!
Был Василев в очках, так вторые нацепил, чтобы получше меня разглядеть.
— Ты что, — кричит, — спятил? Хоть жену и детишек пожалей!
— Пускай у следователя этот грех на душе будет, господин Василев! Прощевайте!
Повернулся к нему, значит, спиной и иду к моим мазурикам:
— Учите теперь, что в суде отвечать!
— Расскажи мне, — говорит Арменко, — всю историю от корки до корки!
Начал я рассказывать. Как дошел до телеграмм, он меня останавливает:
— Ты имя и фамилие подписывал или одно фамилие?
— Фамилие, — говорю, — Панайотов!
— Все?
— Все! Что, у меня денег куры не клюют, еще и имя писать?
— А в вашем селе другие Панайотовы есть?
— С десяток, не меньше. Церковь у нас — пресвятой богородицы, по-гречески — нанайцы, и потому у нас Панайотовых пруд пруди.
— Вернешься в село, — говорит Арменко, — не забудь свечу поставить пресвятой панаице, через нее тебе спасение выйдет. Приведут тебя в суд, попроси приложить для доказательства список избирателей. Пускай дознаются, кто из десяти или пятнадцати Панайотовых телеграмму подписывал… Лишь бы, — говорит, — почерк не сверяли.
— Почерк-то сверяй не сверяй, ничего не дознаешься, потому как телеграммы не я писал, а наш поп, у него почерк разборчивей, а про попа они не догадаются, а и догадаются, не посмеют его судить, а будут судить, за него архиерей вступится.
— Хорошо! — говорит Арменко. — Откроем тогда заседание.
Он прокурора изображает, второй мазурик — председателя суда, а меня посадили у двери вроде как на скамью подсудимых и начали суд. Раз пятнадцать мы это дело разыграли, и они потешились, со смеху животы понадрывали, и я языком так навострился чесать, что когда меня потом в суд привели, то и прокурор, и судьи прямо рты разинули… Одно плохо, жена, не спросившись, подписала вексель с процентами на шесть тысяч против пяти, и за десять дней до суда меня из тюрьмы выпустили.
Спрашиваю жену:
— Кто тебя надоумил на свою голову подписать?
— Батюшка.
— Ты зачем, — говорю, — батюшка, в мои дела нос суешь?
— Это не я, а околийское бюро вмешалось, — отвечает мне поп. — Они решение приняли — как бы там ни было, а залог внести, чтобы ты, — говорит, — не пятнил партию, в тюрьме со всяким жульем не сидел!
Так меня подмывало сказать ему, кто настоящее-то, страшное жулье, но, думаю, промолчу лучше, пускай суд пройдет, пускай в моем доме мир настанет.
Прошел суд. Отмыли меня прямо-таки святой водой, вернулся я в село, да только всего одну недельку в мире и пожил. «В мире и любви», как сказано в Библии. Жене тогда было тридцать два, мне — тридцать девять, все нам было нипочем! Только ребятишки у нас без штанов бегали, и очень мне это обидно казалось, но жена у меня была веселая, не давала сильно над этим задумываться.
— Нашел о чем тужить, — говорит. — Да они еще не понимают, что у них зад голый.
Прошла, значит, неделя, а в понедельник с утречка сторож притаскивается. Фуражку снимает, достает повестку и мне протягивает.
— Кто ж это меня вызывает?
— Читай, — говорит, — ты ведь у нас грамотный! Телеграммы пишешь да подписываешь, в чужих карманах деньги считаешь, читай!
И он, значит, поганец, против меня, старосте и секретарю подпевает.
Читаю и глазам своим не верю: вызывают меня в управление общественной безопасности, комната номер три! Написано «срочно», а число не проставлено. «Не иначе, — думаю, — как это староста мне подсуропил».
Иду к старосте.
— Твоя, — говорю, — работа?
— Знать, — отвечает, — ничего не знаю!
Ах ты, лиса этакая, гадина паршивая! Смотрит мне в глаза и врет. Пальто на меху себе справил, оборванец вшивый, так ведь я ему старостово место уступил, а теперь он, значит, в гору пошел, на плешивую голову соломенную шляпу напялил, в конторе в ней сидит, не снимает, чтобы — боже упаси! — за мужика его не приняли. Так бы и хватил его по башке, да сподручные старостовы тут как тут! С ружьями! Только и ждут зацепки, чтобы тебя пришибить. Куда податься? С кем посоветоваться? Пошел я к попу, какой-никакой, а все же свояк.
— Такое, — говорю, — дело… От этой повестки хорошего не жди. Тюрьма не мать родная, но там хоть, — говорю, — и закон и порядок есть, а уж про эту «общественную безопасность» такого я в тюрьме наслышался, что рассказать, так у тебя не то что волосы, борода дыбом встанет! Присоветуй, что делать?
— Иди, — говорит он, — хоть узнаешь, зачем вызывают.
— Узнать-то узнаю, да поздновато будет! Скажи лучше, где мне помощи искать?
— Сходи к Ничеву!
— Глаза б мои на этого Ничева не глядели!
— К Василеву!
— Василев такой же мошенник, как и Ничев и все их околийское бюро!
— Пойди тогда к Попвасилеву, секретарю окружного управления! И связи у него есть, и у нас он бывал, и тебя знает. Это который в прошлом году приезжал на кабанов охотиться.
— Я ж для него кабана убил!
— Верно! — говорит свояк. — Я ему письмо напишу, но ты на письмо-то не очень надейся, а купи медку малость, а то они, тузы-то наши, не любят, когда к ним с пустыми руками приходят.
— Одолжи, — говорю, — двадцать левов, а то мне меду не на что купить!
— Своих у меня нету, даю тебе из церковных. Помни, — предупреждает поп, — что ты должен Иисусу Христу и святым и обязан их деньги поскорее вернуть!
Пошел я мед покупать на деньги Иисуса Христа. Как назло нашего пасечника не оказалось, и пришлось мне за этим проклятым медом аж в Косово идти!
— Для начальника? — спрашивает пасечник. — Или для больного?
— Для начальника!
— Купи тогда в сотах. Богаче смотрится.
В сотах так в сотах! Заплатил я и пошел пятками чесать так, что, когда колокола в католической церкви ударили к вечерне, был я уже в Пловдиве перед окружным управлением демократической партии.
Говорю дежурному:
— Мне к господину секретарю.
— Господин секретарь, — отвечает полицейский, — не принимает!
Упросил я его хоть попово письмо отнести.
— Скажи, — объясняю, — господину секретарю, что это я для него кабана убил, когда он в наше село охотиться приезжал.
Унес дежурный письмо и немного погодя на балкон выходит.
— Ступай домой! Господин секретарь письмо взял.
— А ты господину секретарю сказал, что это я по прошлому году кабана для него убил?
— Доложил, — отвечает полицейский, — но господин секретарь сказал, что ему до тебя дела нет. Ступай отсюдова!
Стою я и не знаю, что и делать. А мед у меня под руками протек, и мух вокруг меня — туча! Нужно и его куда-то девать! А куда? Вспомнил я, что поблизости анбулатория доктора Кейбашиева. Когда Кейбашиев в Студийце дачу строил, я ему камни возил, там и познакомились.
Слава богу, Кейбашиева застал!
— Принимай, доктор, от меня нежданный подарок — соты с медом.
— Отчего ж нежданный?
Рассказал я ему, что да как. Доктор на меня уставился — вот уж сразу видать, что доктор: очки в золотой оправе, голова лысая, борода пышная, гладит бороду и смотрит, словно в первый раз увидел.
— Ты, — говорит, — и вправду от взятки отказался?
— Вправду!
— Почему?
— Чтоб совесть у меня была чистая!
Выпустил доктор бороду, стал в затылке чесать.
— Ты, — спрашивает, — черную икру когда ел?
— Кто ж у нас черную икру ест? Она поди дорогая!
— Дорогая! — говорит мне Кейбашиев. — А чистую совесть ты себе за пятнадцать тысяч покупаешь! И на залог еще тысяча ушла — шестнадцать получается! И в тюрьме ты время терял, то да се — итого двадцать! Не по карману замахиваешься! Я, — говорит, — доктор Кейбашиев, прыщик выдавлю — двести левов беру, и то не могу себе позволить чистую совесть иметь, а ты, рвань рваньем, хочешь, чтобы у тебя совесть чистая была! Самое дорогое на свете желаешь иметь! Можешь ты, — спрашивает, — еще раз поговорить с этим Ванчо или как его там?
— Нет! Не могу!
— Ну, тогда бог в помощь! — перекрестился доктор. — Я попробую тебе записочкой помочь, а там — одна надежда на бога.
Написал он писульку и подает мне:
— Пойдешь в управление общественной безопасности и скажешь дежурному, что тебе надо старшему инспектору лично, в собственные руки передать письмо от доктора Кейбашиева. Так и скажешь: старшему инспектору, шестая комната! А там уж он посмотрит, что можно сделать и чего нельзя. Ну, иди!
Пошел я в управление, но уже шагаю бойчее. Показываю дежурному письмо, докладываю, что надо мне его лично передать. Дежурный привел меня к шестой комнате, там другой дежурный сидит, он меня ему передал. Тот взял письмо, пошел к инспектору и вскорости из двери высовывается.
— Заходи!
Вхожу, а у самого со страху ноги подкашиваются. Начальник из-за стола встает, в глаза мне уставился, не отводит.
— Ты ли это, Гроздан? Очень ты сдал, прямо не узнать!
Вгляделся я — мой бывший взводный Иосиф Попов.
— Садись, — говорит, — в кресло, успокойся, приди в себя.
И начал спрашивать: кто из наших убит, да кто помер, да кто сейчас где… А я сижу как на иголках. Улучил момент, говорю:
— Ты, господин начальник, оставь мертвых в покое, они пристроились, скажи лучше, зачем меня вызывают в третью комнату.
— Обожди-ка! Сейчас узнаю!
Вышел он куда-то, вскорости возвращается.
— Устроил тебе, — говорит, — эту пакость секретарь округа. Затеял ты, вишь, тяжбу из-за какого-то леса… Только никому ни полслова!
— Идти мне, — спрашиваю, — в третью комнату?
— Никуда не ходи, домой возвращайся. Твое счастье, что шестая главнее третьей! А если кому из ваших адвокат потребуется, так знай, что я тоже адвокат. Временно я в управлении сижу, но у меня заместитель есть. Если у вас кто в суд подавать будет, так посылай ко мне. Скажи, Иосиф Попов!
Показался он мне не Иосифом, а прямо-таки Моисеем — черноглазым, прекрасным, — тем, что Красное море заставил расступиться, чтобы прошли по нему сыны Израилевы.
Возвращаюсь я в село, нарочно иду мимо совета, чтобы староста меня видел. Цветок за ухо заткнул, как цыган на свадьбе. Секретарь на дворе сидел, с писарем в кости перекидывался, бросил игру, побежал старосте сказать, а староста ему не поверил, сам вышел на меня посмотреть.
— Тебя, — говорит, — не посадили разве?
— Ты что думаешь? В нашей стране законов нет? Гляди, — говорю, — как бы тебя самого не посадили!
У него аж челюсть отвисла, как у бешеной собаки. Вхожу в дом — поп уже тут, улыбается.
— Видал, ведь выгорело через мое письмо!
— Как не выгореть…
— Теперь ты Попвасилева отблагодарить должен, — советует, — он дачу в Студнице будет строить, совет ему участок отвел, можешь ему на фундамент камней покрепче наворотить.
— Это-то, — говорю, — ладно, а что еще?
— Еще, — говорит, — принято решение подарить участок в Студнице министру земледелия, чтоб и он себе дачу построил. Если министр согласится, то ради дачи и дорогу проложат, и село наше разбогатеет. Но и мы, — говорит, — ему должны подсобить, кто камнем, кто лесом!
— Я о лесе позабочусь, — отвечаю ему, — а ты знаешь, что сделаешь? Как дачу построят, пошлешь свою попадью министра ублажать! Дураки вы, — говорю, — набитые! Тому подарить, этому подарить, чтобы те, которые у нас в селе заправляют, связи имели и себе кошельки ворованными деньгами набивали! — И рассказываю попу, что мне подстроил секретарь округа, по чьему наущению и зачем.
Поп испугался:
— Свояк, — говорит, — на мне сан священнический, я в такие дела впутываться не могу! Мне архиерей уже и так замечание сделал, чтобы я не вмешивался, занимался своими молитвами, а потому ты уж не обессудь, если завтра мы с тобой на улице встретимся, и я не поздороваюсь. Ряса должна быть нетральной. А по-родственному, — говорит, — тебе советую: уехал бы ты на время из села, не мозолил бы глаза старосте и прочему начальству!
— Никуда я не поеду! — отвечаю. — Будь что будет!
Сказал я ему такие слова, а сам и не думал, не гадал, что может статься, когда и сельская, и околийская, и окружная власть в руках у мошенников. Перво-наперво лесник за мной по пятам стал ходить. Куда ни пойду, он следом. Палку себе срежу — акт. Липовый цвет собирать стану — акт! Хворосту наберу — штраф! Остались мы дома без полешка, и начал я печку кизяком топить. Собрались мои вороги на военный совет и решили обложить Панайотова со всех сторон! Не лесник, так сторож пускай за ним следит! Осел его травку отщипнет — давай разрешение на пастьбу. И акты со штрафами один за другим так и полетели. Говорю жене:
— Пойду-ка поживу в хибаре, а то тут меня актами в гроб вгонят! А ты со двора не выходи! Как можешь, на одной картошке да фасоли посиди, пока идут, — говорю, — военные действия!
Взял я подстилку и айда в Студницу — вблизи смотреть, как растаскивают землю и как под нуль лес выстригают. Если уж помешать не могу, так хоть насмотрюсь.
Вижу, приходят как-то инженеры — государственную дорогу через наш лес к дачам прокладывать. И для шишек благодать — на машинах будут на дачу ездить, и для торговцев раздолье, что лесу в самую что ни на есть середку залезут. Выходит, под их дудку нонешний министр пляшет… Одна, видать, лавочка!
Неделю сидел я в хибаре, а ни лесник, ни сторож не объявлялись. Один Ванчо, посредник, прошел раз мимо и спросил:
— Ты еще, — говорит, — здесь?
— Отчего ж, — говорю, — еще?
— Да так, — говорит, — просто спросил! Уж и спросить нельзя?
И пошел себе дальше. Вечером, чуть стемнело, кто-то в дверь стучит. Открываю, смотрю: дядьки моего сын, Личо, он у нас в селе за быками присматривал. Запыхался, весь в поту и с лица белый-пребелый как полотно.
— Прибежал я, — говорит, — тебе кое-что сказать, но поклянись, что никому не проговоришься! Детьми своими поклянись!
— Богом нельзя разве?
— Нет! И у меня дите растет, уж я знаю, что этого на свете дороже нет.
Поклялся я.
— Ну, теперь говори!
— Наняли, — говорит, — убийцу, тебя убить! Македонца какого-то. Спасайся, а то к воскресенью тебя в живых не будет.
— Как так?
— Да вот так! Придет он и в хибаре ли, в лесу ли тебя укокошит. Спасайся, а то убьют!
— А тебя часом не староста подослал?
У парня на глазах слезы выступили.
— Я от чистого сердца, а ты поступай, — говорит, — как знаешь! Одно я тебе скажу: куда бы ты ни пошел, он тебя найдет. Такое они решение вынесли. Смекнули, значит, что ты все их дела знаешь, и надумали от тебя избавиться! Ладно, прощай, а то если меня здесь увидят, то и мне конец!
Повернулся парень и убежал.
Ну, Гроздан, посмотрим, что ты теперь делать станешь!
На всякий случай ушел я в тот же вечер из хибары и переночевал в кустах. Утром решил залезть на сосну и поглядеть, что дальше будет. До полудня — тишина. После полудня — тишина. Только овцы прошли по тропке, и опять все замолкло, замерло. Да из буков вдруг птицы взлетели, и почудилось мне, что верхушка на одном дереве колыхнулась. Всмотрелся я — все тихо-мирно, только пташки беспокоятся, порхают все, чирикают. Гнездо у них, видать, там было в кустах, и они отчего-то встревожились. Говорю себе: «Тут что-то есть! Как знать, может, змея, может, лиса, а может, и человек!»
Солнце к закату стало клониться, а шороха в кустах никакого. Пташки перестали пищать. И я успокоился, уж хотел было слезть воды попить — пить мне страсть захотелось, — как вдруг посредь буков мелькнуло вроде зеркальце, блеснуло и исчезло. Присмотрелся я к тому месту, через минуту опять блеснуло. Тут заметил я руку, потом и голову, по-женски платком повязанную, а в руке наган, от мух человек отмахивается, чуточку шевелится и от шевеления наган поблескивает, как зеркальце! В кустах, шагах в шестидесяти от хибарки!
Холодный пот меня прошиб, и подумал я: «Ясно! Давай, Панайотов, деру, а то оставит македонец твоих детей сиротами!»
Подождал я, пока стемнело, слез с сосны и ползком, ползком, через овраги, через бугры, через поле, и к утру до города добрался. Хорошее я от одного Кейбашиева видел и решил опять к нему пойти.
— Ну что? — спрашивает доктор. — Снова в «общественную безопасность» вызывают?
— Никуда меня не вызывают, а дело, — говорю, — вот какое. Нахожусь я под дулом пистолета, научи, что делать!
Задумался доктор. Очки протирает, бороду гладит и наконец говорит мне:
— От македонца никто тебя не спасет. Сейчас столько бродяг развелось, которые за куль муки человека пришьют и глазом не моргнут, что каждый день кого-нибудь убивают, и полиция ничего сделать не может. Она с коммунистами расправляется, а эти расправляются с кем пожелают.
— А Иосиф Попов не может меня спасти?
— Что ж ты хочешь, — говорит, — чтоб он тебе охрану дал? Он тюрьму и ту охранить не может, на днях четверо сбежало, другого дела у него нет, как о тебе думать.
Как сказал он «тюрьма», так у меня на душе посветлело.
— Нельзя ли, господин Кейбашиев, попросить Иосифа Попова меня в тюрьму посадить? И о пропитании думать не надо, и охрана государственная, — говорю, — меня охраняет, так я бы в тихом месте и переждал, пока все уляжется.
— Знаешь, — отвечает мне Кейбашиев, — это, пожалуй, неплохо! Только тут ходатайством не поможешь. Нужно тебе какое-нибудь преступление совершить. Укради что-нибудь на базаре, вот тебе и тюрьма!
— Не хочу, — говорю, — чтоб меня вором считали!
— Ну, тогда что-нибудь другое сделай! И ступай с повинной к Иосифу Попову, пока тебе в участке кости не переломали. Об остальном уж я попрошу его позаботиться! Прощай, — говорит, — Панайотов, дай тебе бог удачи!
Поел я похлебки из рубца и пошел в село. Два дела надо было мне сделать: с женой попрощаться и преступление совершить. Для первого нужен мне был один вечер, а для второго — два с половиной часа, аккурат сколько на похороны. А уж какие похороны я придумал!
Затемно спустился я с гор и затемно вернулся в село. Ребятишки спят, легли и мы с женой. Хорошо так полежали, выспались, а как рассвело, вскочил я и говорю жене:
— Опусти занавески и на двор не выходи, пока я тебя не позову!
— Зачем это?
— Увидишь!
Приучил я ее во всем меня слушаться, и всю жизнь мы с ней душа в душу жили.
Надел я башлык и через сады, огороды — в церковь. Залез на колокольню и, как бывший звонарь, ударил три-четыре раза в колокол, словно по покойнику. И опять садами, огородами домой иду. Жена удивляется:
— Ты что, пьяный или ума решился?
— Молчи! — говорю. — Ежели можешь, реви, а не можешь, вот тебе одна оплеуха, вот вторая. А коли тебе и этого мало, так знай, что я одной ногой в тюрьме, а завтра обеими буду!
От оплеух она не заплакала, а от слов моих в слезы кинулась. Она ревет, а я пошел в соседский сад и начал ноготки да астры рвать. Увидала меня соседка, кричит:
— Ты чего в мой сад залез? Чего цветы рвешь?
— На похороны!
— Да кто же это помер?
— Кто помер, тому светлая память!
Тем временем жена дома в голос ревет, рекой разливается.
Мигом по селу слух разнесся, что я кого-то хорошо. Тут и поп прибежал:
— Что случилось, свояк?
— Ты, — говорю, — в дом не ходи, нетралитет свой не нарушай! В церкви жди! Мертвые мертвыми, а живые жить должны! И пошли, — говорю, — кого-нибудь выкопать могилу!
Убежал поп, а я во двор вышел, пилу взял, рубанок, гвозди и в полчаса гроб с крышкой сколотил. Внес гроб в комнату, положил туда что нужно, закрыл крышкой и так его разубрал, что будь у тебя сердце хоть каменное, и то заплачешь. Тем временем во дворе народ собрался. Поднял я гроб на плечо, жена с заплаканными глазами сзади, и потянулись мы в церковь. Бросились трое-четверо помогать мне гроб нести.
— Назад! — кричу. — У меня с советом война. Не нарушайте нетралитета!
Если б знали, кого я хорошо, а то ведь не знают, вот и идут все за мной к церкви посмотреть, кого хоронят.
Кончили в церкви отпевать, поп говорит:
— Сними крышку для последнего целования!
— Целование, — отвечаю, — на кладбище!
А на кладбище у всех на виду отодвигаю крышку и достаю из гроба календарь, где весь «Демократический сговор» изображен с премьер-министром во главе и всей его разбойничьей шайкой.
— Братцы! — говорю и календарем размахиваю. — Сегодня мы хороним Сговор! Вот эти, которых вы на картинках видите, прилизанных да приглаженных, при галстучках, они, — говорю, — взяточники и убийцы, все — от первого министра до последнего лесника. Это, — кричу, — разбойничий сговор, чтобы народ грабить! Вот почему я, Гроздан Панайотов, его хороню! Долой разбойничий сговор, да здравствует поруганная правда!
Опустил я календарь в гроб, столкнул гроб в могилу, схватил лопату и начал землей засыпать.
Народ вокруг замер — не дыхнет, не шелохнется! Поп тоже ни жив ни мертв!
Прибежали сторожа, но похороны-то уже закончились, аллилуйя, речи и все прочее, как полагается. Попробовали меня схватить:
— Именем закона, ты арестован!
— Ах, гады! Никаких я ваших законов не признаю! — Крутанул я лопату. — Назад! — кричу. — Не то еще кого-нибудь хоронить сегодня будем!
Расшвырял их и, не заходя домой, прямиком в общественную безопасность, в шестую комнату! «Виноват и так далее…» Трое суток в «общественной» просидел, а потом в окружную тюрьму перевели. Дали мне два с половиной года, но как случился в тридцать четвертом году в мае переворот[3], освободили меня до срока.
Вернулся я в село, но леса нашего уже и в помине не было. Свели под корень. Сборщик налогов в Студнице гостиницу построил, староста в Брястове купил тридцать декаров виноградников, лесник дом отгрохал… Один я остался при своей голой совести да грошовой пенсии. Дорогонько мне обошлось, но что поделаешь — совесть завсегда дороже черной икры была!
Этим летом ходил я в Студницу, встретил там бывшего секретаря окружного управления — Попвасилева. Помятый, потрепанный, как старая лиса. Дачу у него отобрали, ему только две комнаты оставили. Узнал меня, заулыбался как ни в чем не бывало и говорит:
— Вернемся еще! Вернемся!
— На-ка, выкуси! — говорю ему. — Вернетесь! Когда рак на горе свистнет! Я вас еще в тридцать четвертом хоронил, — говорю, — в сорок четвертом коммунисты на вас крест поставили, так что вас только второе пришествие воскресить может! Тоже мне «демократы», — говорю, — вор на воре! Разбойники с большой дороги!
Перевод М. Тарасовой.
СВАДЬБА
Стоит кому произнести «Дубовик», как меня — словно ножом в сердце, хотя прозвали меня так за мой собственный грех, и ничьей тут вины, кроме моей, нету.
А случилось все из-за девушки. Хатте ее звали. Как раз против наших выселок высокий бугор, так он отца ее, Сулеймана Чалого. На том бугре поля его, выгоны, овчарни и все прочее. В те поры так заведено было у нас в Лыкавице — у каждого хозяина свой бугор, и так он там и живет. Лишь по пятницам да в байрам старики спускались в село помолиться в мечети, а остальное время всяк у себя на горе. Там на свет появлялись, там женились и детей рожали — все там.
Не знаю, как детей рожать, а жениться было делом трудным. Приглянется тебе девушка — так не возле дома или двора кружить приходится, а возле горы целой. А гора — что твоя крепость, хуже даже. У каждого хозяина по ружью, по десять — пятнадцать псов злее волка, мухе не пролететь, а уж парню к девушке подойти — и подавно. Захочешь девушку увидеть, неделю целую караулить надо, да и то неизвестно, кого повстречаешь — ее ли саму или ее родителя.
А родитель у нее, у Хатте у моей, был нрава буйного. Ездил он верхом на чалом жеребце, потому и прозвище ему было такое — Чалый. Стремена у жеребца бронзовые, удила перламутром выложены, недоуздок весь в бляшках. И на платье у Сулеймана столько нашито галунов, что гору ими два раза опоясать можно. Ходил он всегда хмурый, насупленный. Суров был и неразговорчив — каждое слово на вес золота. Зато дочка его, Хатте, только запоет бывало, — и все живое замрет, затаится, ее слушает.
Запал мне в душу этот голос, и я решил: вот моя суженая! Но только ей как про то сказать? Кабы она на байрам приходила, тогда бы просто, но отец не пускал ее на байрам. Принялся я бродить возле ихних владений. Тянул меня тот бугор пуще сахара, потому что Хатте иногда выходила из дому коз пасти. А я — по другую сторону обрыва: либо камни вниз сталкиваю, деревья крушу, либо песни пою, авось догадается, что полюбил я ее.
Много я камней покидал, много деревьев повалил и песен спел, пока наконец увидал: сняла она с головы платок и машет мне. В тот же вечер пошел я к старой Пехливанихе. Она варила всякие мази и снадобья, носила их по дворам на продажу. Не только каждый человек, пес каждый в селе знал ее, и преграды ей нигде не было.
— Сходи, — говорю я ей, — к Сулеймановой Хатте и скажи, ранен, мол, добрый молодец, так нет ли у ней мази целебной для той раны? А коли принесешь мне того снадобья, куплю тебе алой краски шерсть красить.
Пехливаниха старуха была смекалистая — вмиг уразумела, какая хворь меня прихватила, и на другое утро как встала, прямо туда, к моей Хатте.
— Поклон, — говорит, — тебе низкий от Хасанчека. Люба ты ему, хочет тебя в жены взять.
— И он мне люб. Слышала я, как он хорошо на кавале играет, — отвечает Хатте. — Но только знай: коли проведает о том мой отец, как овцу, меня прирежет. Поэтому никому ни слова.
Взыграло мое сердце, когда принесла мне ту весть Пехливаниха, и пожалел я, что небо не колокол, а то ухватился бы я за било да как начал бить и трезвонить, чтобы над горами и долами разнеслось имя ее милое. Но так как небо не колокол, нацепил я колокольцы на своих коз и погнал их через Усое. И до тех пор гонял их да нахлопывал, пока наверху, на горе, не показался платок моей Хатте. Это было первое наше свидание. Пока дождался я второго и третьего, трава успела выгореть, пожелтела листва на деревьях, запестрела гора всеми красками — осень пришла. Уже хлеб и сжали, и смолотили, близилась пора помолвок и свадеб. Мать с отцом мои догадались, какое солнце мне светит, но виду не подали. Только раз как-то отец сказал мне:
— Ты, сынок, особенно-то не звони колокольцами, потому что на твой лужок еще кое-кто тропку протаптывает!
Как громом ударили меня эти слова, но спросить я ни о чем не решился. Послал Пехливаниху к Хатте, и она вернулась не с мазью целебной, а с ядом.
— Как увидит Хасанчек, что мой платок к палке привязан, — сказала ей Хатте, — пускай ждет меня в овраге с ружьем и кинжалом!
И больше ничего не прибавила.
А к вечеру все стало ясно. Барабанщики из Бакларских выселок пошли в Лыкавицу. Дели Мехмед их позвал. Похвалялись они, что на другой вечер будут бить в барабаны у Сулеймана Чалого. Значит, Дели Мехмед хочет женить своего сына Брахома на Сулеймановой дочке Хатте.
Эта весть мне как кость в горле — ни вздохнуть, ни выдохнуть. Будь то не Дели Мехмед, а другой кто, можно бы хоть что-нибудь сделать: овин ли, дом ли подпалить, нагнать страху, но ведь тут Дели Мехмед! Тот самый, что водил башибузуков на Батак резать и грабить. Этот богатей и кровопийца на всех наводил страх и трепет. И коли Сулейман посулился отдать ему Хатте, один лишь аллах мог ее вырвать у него из рук.
Только одна-единственная звездочка мерцала мне в беспросветной мгле: наказала мне Хатте дожидаться ее в овраге. Но, по правде сказать, не верилось мне, что знак она мне подаст, что придет в овраг.
На другой вечер взял я свою двустволку и забрался на Орлиную скалу, что напротив Сулейманова бугра. Вдруг слышу — бам-бара-бам, бам-бара-бам, — забили оба барабана, и от Лыкавицы вверх к Сулеймановой усадьбе потянулась пестрая вереница свадебщиков. Ползет вереница вверх, колотят барабаны, а у меня на виске жила бьется — того и гляди лопнет! Видел я, как Сулейман вскочил на коня, чтобы выехать навстречу гостям. Он пальнул из пистолета, а те отозвались снизу залпом из десятка ружей, так что всю гору дымом окутало. А когда дым рассеялся, гляжу — к тому самому камню, где, бывало, сиживала Хатте, палка прислонена, и на палке белый ее платок. Значит, и обо мне печется господь на небе! Думал я, Хатте прибежит ко мне, прежде чем прибудут свадебники, но она смекнула: ежели пуститься в дорогу засветло, люди Дели Мехмеда настигнут ее, и решила выждать. Пускай стемнеет хорошенько, да пускай гости хорошенько напьются — и уж тогда бежать.
Так оно и вышло. Прибыли свадебщики. Ели, пили, да музыку играли, пели до полуночи. Тогда Хатте и говорит матери:
— Ты уже уморилась, давай я телятам сена снесу.
Взяла мешок с сеном — и за дверь. А как вышла за дверь, так и не вернулась. Послали за ней брата ее, Ресима, но нашел он только мешок. Мать грохнулась без памяти, Сулейман — как зверь бешеный, свадебщики взъярились. Ножи, пистолеты — за пояс, ружья — за спину, верхом на коней — и на поиски.
А я все это время сижу в овраге. За триста метров почуял ее шаги. Подошла она ко мне и говорит:
— Веди меня куда пожелаешь.
Взял я ее за руку и повел. Но только вместо того, чтобы повыше в горы, в пещеры увести да переждать там неделю-другую и уж тогда воротиться, когда все поутихнет, я, олух этакий, двинулся по тропе на Крушово! К нашим выселкам!
Когда подходили мы к дому, уже светать начало. И тогда только я в первый раз увидел Хатте вблизи: зубки белые, ровные, губы словно ежевикой поенные-кормленные, яркие, свежие, и не посмел я коснуться их… Думал тогда: «Еще будет время», а времени-то нашего были минуты считанные.
На зорьке добрались мы до нашего дома. Все соседи сбежались — и родные, и чужие обрадовались, что такая видная девушка будет снохой у нас в Крушове. Отец говорит:
— Скорей бегите кто-нибудь за муллой, чтоб поженить их, а то эти молодчики вот-вот налетят!
А молодчики плутали-плутали без всякого толку и на заре воротились к Сулейману, стали толковать, куда девалась Хатте — сквозь землю ли провалилась, в преисподнюю ли угодила. А потом додумались покликать вокруг, и слышим мы, кричит Сулейман:
— Э-ге-ге-гей, крушовские! Слышите? Нет ли у вас одной нашей девушки?
— Как не быть! — отозвался мой отец. — Но только не ваша она, а наша! Нашенская она теперь, вот оно как!
Как вымолвил он «нашенская», те на миг смолкли, а потом подняли такой вой, будто три сотни волков завыли разом. И тут же рванулись конники Дели Мехмеда с Сулейманова бугра напрямки к нашим выселкам.
Как тут быть? Свадьба в разгаре, а муллы нету. Наши гости — двоюродные братья, сестры, дядья и прочая родня — сначала храбрились, кричали, но чем ближе подходила орда Дели Мехмеда, тем больше они робели и разбредались потихоньку кто куда.
А те-то разбойники скачут! В зубах — ножи, в руках — ружья, и скачут! Около меня еще оставался кое-кто, говорят:
— Сметут они нас, Хасанчек, как метлой. Надо уносить ноги, пока не поздно!
Отец сказал:
— Не могу я тебя защитить! У меня два патрона, а у этих бандитов полны сумки.
А те уже близко, уже копыта по булыжнику цокают. Раздались ружейные выстрелы, послышался голос Дели Мехмеда:
— Сжечь их всех!..
Глянул я — возле меня ни души! Толкнул заднюю калитку — и вверх по склону. Лишь когда забрался на самую маковку, смотрю: Хатте со мной нет, внизу осталась. А во дворе у нас полно людей Дели Мехмеда, и у меня не хватило духу спуститься…
— Ты что здесь потеряла, потаскуха этакая? — заорал на нее Сулейман.
— Что потеряла, отец, то и нашла.
Он во дворе стоит, а она ему из окна отвечает.
— Иди сюда, живо! — рявкнул он. — Не то голову снесу с плеч долой!
— Нет, отец, живой я отсюда не уйду, — говорит ему Хатте.
— Ты с кем сбежала? — спрашивает Дели Мехмед.
— Со мной, Мехмед-ага! — отозвался низкий голос, и в окне рядом с моей Хатте встал — кто бы ты думал? — брат моего отца, дядя Селим.
Неженатый он был и даже ни к кому никогда не сватался, потому что правая рука у него была калеченая и не мог он ни пахать, ни боронить. Сидел дома, ел за нашим столом, мастерил ребятишкам луки, стрелы, игрушки разные, а в летнюю пору стерег кукурузу от барсуков… Лицо у него было в оспинах, зубы — лопатой, никому и в голову не могло стукнуть, что он на такое способен. А вот на тебе, выходит, способен!
— Я увел ее, Мехмед-ага! — повторил Селим и левой рукой вскинул наган — наган с барабаном. И крикнул он Дели Мехмеду: — Дели Мехмед! Один у меня наган, и одна в нагане пуля! Коли есть среди вас смельчак, кому Хатте дороже, чем мне, — пускай выйдет! Пальнем друг в друга, и кто живой останется, тому жениться на Хатте.
Зарычали Делимехмедовы молодцы, но Дели Мехмед укротил их.
— Кто первый стрелять будет? — спросил он.
— Да хоть ваш! — ответил дядя Селим.
— Брахом! — сказал тогда Дели Мехмед сыну. — Пусти ты поживей кровь из этого бубнилы, и поехали назад.
Все отступили, остался Брахом один посередь двора. Осмотрел он старательно свое ружье, прицелился. Долго целился. Опустил ружье и снова стал целиться, а Селим стоит, опершись на перила, улыбается, глядит ему прямо в глаза и говорит:
— Целься, целься, Брахом Делимехмедов, а оставишь меня живым — ты у меня материнским молоком блевать будешь!
Негромко говорил он, но кругом такая стояла тишина, что каждое слово было слыхать. Негромко говорил он, но от таких слов волосы дыбом встают…
Бахнуло Брахомово ружье, заволокло двор дымом, а как рассеялся дым — вижу, стоит Селим цел и невредим.
Тут Делимехмедов ублюдок повернул коня — и наутек. Струсил, значит. Вскинулся от ярости Дели Мехмед, заорал ему вслед:
— Стой, так-перетак! Стой, тебе говорят!
А Брахом, знай, скачет, долама его вьется по ветру, как бумажный змей. Дели Мехмед выстрелил, но сынок и тогда не остановился. Обернулся Дели Мехмед к Селиму и говорит:
— Мой выродок не пара такой невесте, Селим-ага! Пускай она тебе на счастье достанется.
Поворотили они коней и ускакали прочь. Тут наши стали вылезать из-за кустов, и я тоже вернулся домой. Хатте и Селим сидят рядышком и глаз друг с дружки не спускают.
— Хасанчек, — сказала она, завидев меня. — Я останусь у вас, но только с Селимом.
Кинулся я на Селима, и схватились мы насмерть, но отец растащил нас.
— Селимова, — говорит, — она невеста по справедливости. Кабы не он, не осталось бы тут не только невесты, камня бы не осталось.
Тут и другие голос подали, тоже против меня… И стала Хатте женой Селима.
А потом… Что тебе сказать? Лучше не рассказывать, но ты спросил, что за фамилия такая — Дубовик. А я тогда убежал от срама в дубняк и прятался в том лесу несколько месяцев кряду, с того времени и прозвали меня Дубовиком.
Забился я в пору, как дикий зверь. Один-одинешенек! Но куда ни обернусь, куда ни гляну, отовсюду глядит мне в глаза другой Хасанчек: «Зачем удрал? Почему?» Отвернусь, гляну в другую сторону, а там Хатте: «Эх ты! Заячья твоя душа!» Зажмурюсь покрепче, чтобы не видеть, и что снаружи — того не вижу, но от того, что внутри, не зажмуришься, и опять передо мной заново: белый платок Хатте, наше свидание, свадебщики, песни — все, все! И Хатте с Селимом держатся за руки! Ворочаюсь я с боку на бок, со спины на живот, но глаза, что внутри нас, продолжают видеть, а уши, что внутри нас, — слышать.
А потом стал я подумывать: долго ль я буду себя изводить, отчего не порешу обоих, чтобы окончились эти адовы муки?
Стали мне видеться сны — как я убиваю Хатте. Правая рука пистолет наводит, а левая тянется приласкать ее. Полсердца задубело, а полсердца мягкое. Чего я только не делал: мясо лисье сырое ел, орлиные когти варил, кровь дикой кошки пил, чтобы зачерствело сердце! В конце концов перестали мне сниться сны, и я сказал себе: «Пора, Хасанчек, иди и убей их!»
Воротился я домой, никто меня ни о чем не спросил. И я ничего не сказал.
Стал нож точить… Точу и думаю, куда этот нож вонзится: Селиму в спину или Хатте в белую грудь? И так надумал: «Дай хоть погляжу на нее, погляжу да голос ее послушаю, покуда она еще на этом свете!» И стою у окна, караулю, когда пройдет она по двору воды набрать, полюбоваться хочу, как красиво стан ее колышется. Я на нее из окна гляжу, а Селим сидит на пороге и смотрит — не потерялась бы она куда от двери до дворовой чешмы. Во все глаза смотрит, а глаза у него голубые… Эх, Селим… «Пускай, — думаю, — поглядит, пускай поглядит еще малость».
Вернется Хатте к себе в горницу и начнет песни петь. В доме никого, все в поле. Она поет, а он ей вторит. Поет она и смеется. День и ночь смехом заливается, только по ночам смех у нее другой: будто щекотно ей, будто он ее бородой колет. Взметнется ее смех, а он его потушит, опять взметнется и опять потушит, и так до самой зари…
Я у себя в комнате, они у себя, а все равно слыхать. С головой укрываюсь, по самые плечи башлык натягиваю, чтобы не слышать, но из дому не ухожу. Сон не идет ко мне, кусок в горло не лезет. Истаял весь, еле ноги таскаю. Отец говорит:
— Коль ты помирать собрался, Хасанчек, так иди, говорит, сам вырой себе могилу. А коли думаешь еще пожить на свете, бери соху — и в поле, время пахать да сеять!
И сказал я себе тогда: «Завтра прикончу их, а там будь что будет!»
Наши чуть свет все в поле ушли. Хатте вышла во двор за водой. Селим сел на пороге глядеть на нее. А я взял свой кинжал и подобрался к нему сзади. Сидел он без шапки, над ухом — цветок. Не то крокус, не то чемерица — в глазах темно было, так что не разобрал. А за ухом у него бородавка с кукурузное зернышко, точь-в-точь такая же, как у моего отца… Померещилось мне, что не Селима я сейчас проткну, а отца родного… И не услышал я, как нож брякнулся наземь. Селим повернулся, поднял кинжал, засунул мне в карман и говорит:
— Орлиц, милок, живым мясом приманивают, не падалью! Уходи отсюда прочь!
Ушел я и больше не вернулся. В разных краях селился и дальше шел. В Турции побывал, назад пришел, женился не раз и не два, но слова те Селимовы крепко засели в памяти: «Орлиц живым мясом приманивают, не падалью!»
Уйти-то недолго, а вот вернуться… Жизнь целую возвращаешься, а туда, откуда ушел, вернуться не можешь.
Перевод М. Михелевич.
ИСПЫТАНИЕ
Шесть лет я убил, чтобы бондарем стать. Вот как было в прежние-то времена. Два года по лесу бродишь, пока не начнешь различать, из какого дерева хорошие доски выйдут, год учишься выпиливать, год — обтесывать, два года — выстругивать да досточку к досточке подгонять, и уж тогда только, чтоб испытать, годишься ты в мастера иль нет, дают тебе с завязанными глазами бочку сделать. Двенадцать мастеров-бондарей сидят, а ты посередке бочку собираешь с завязанными глазами! Соберешь, наливают в нее воду. Одна-разъединая капля просочится — подмастерьем останешься, не просочится — повяжут тебе особый такой пояс, стал ты, значит, мастером.
Тяжкое было испытание, но уж какое мне потом испытание выдержать довелось, век буду жить, не забуду!
Шесть месяцев прошло, как повязал я пояс мастера, а работы почитай что никакой. За шесть месяцев сколотил я, если не считать лоханок, за которые мне творогом заплатили, пять бадеек — вот и весь доход. Отец у меня был старый да больной, работать не мог. И если б мать грибов не собирала, то нам бы и есть было нечего. А ведь я был парень молодой, самая пора жениться.
И в это-то самое время приходит ко мне Кара Сулю Бялковски из Хамбардере и говорит:
— Сделай мне такую бочку, чтоб в нее триста ок творогу входило и чтоб я, наклонясь, до дна рукой доставал. Сумеешь?
— Сумею. Отчего не суметь?
— Триста ок и чтоб рукой до дна достать?
— Триста ок и до дна рукой достать!
— Тогда приступай, — наказал мне Сулю. — Чтоб к Константинову дню была готова!
О деньгах ни словечка. Сел на коня и ускакал, а я только тогда спохватился, что заказ какой-то несуразный. Что это за бочка такая, чтобы триста ок творогу в нее входило и чтоб, наклонясь, до дна рукой можно было достать? Чтоб до дна рукой достать, нужно ее неглубокой делать. А чтоб в неглубокую бочку триста ок входило, нужно, чтоб она в высоту и в ширину почти что одинаковая была.
Пошел я к отцу и спрашиваю: так и так, заказали мне такую вот бочку, что делать?
— Коли ты мастер, — отвечает отец, — то сделаешь! А не сделаешь, имя свое опозоришь, а для мастера главное — доброе имя!
Начал я бочку мастерить. Труда своего не жалел, сделал бочку, не совру — на славу! В высоту и в ширину одинаковая, сосновая бочка из белых, как брынза, досок! Сто раз проверил, можно ли до дна рукой достать, — можно! Разобрал я ее, погрузил на ишака — и потихоньку-полегоньку в Хамбардере. Собрал ее снова во дворе у Сулю и только обручами стянул — глядь, хозяин идет. Увидел он бочку, обрадовался, щупать стал, но как заметил, что обручи деревянные, нахмурился, помрачнел.
— Бочка, — говорит, — мастер, хорошая, а обручи-то не годятся! Разве можно этакую здоровущую бочку, на целых триста ок, ореховыми обручами скреплять? Железо, что ли, на свете перевелось?
— Поезжай в город, — отвечаю я ему, — купи обручей каких хочешь, позови меня, я тебе их прилажу, а пока обойдешься деревянными! Деревянные-то попрочнее железных будут!
— Прочные — непрочные, ты мне железные подавай, а то люди скажут, что у Кара Сулю денег не хватило на бочку с железными обручами, так он с деревянными заказал.
Пока мы с ним препирались, народу набралось полон двор: бабы, дети его, соседи, мулла. Село глухое, сроду не видывали бочки на триста ок — вот и сбежались поглазеть. Задымили чубуками, бороды поглаживают, языками прищелкивают!
— Вот это бочка так бочка! Кабы обручи у нее были железные, цены б ей не было!
Кара Сулю спрашивает у муллы, что он скажет.
— Ореховые обручи, — отвечает ему мулла, — если выдержат, пока ты бочку в погреб вкатывать будешь, и то хорошо!
Объясняю я мулле, что коли ореховые обручи сделаны из веток, что с солнечной стороны росли, да пока мезга из них не вышла, да в дождевой воде вымочены, то очень они гибкие и прочные.
— Если мы некрещеные, — отвечает мне мулла, — так уж ты нас вовсе за дураков считаешь? Прокати-ка бочку по двору, если у нее обручи не лопнут, то я хоть сейчас бороду сбрею!
Взяла меня злость.
— Прокачу, — говорю, — я ее по двору, но двора, сдается мне, мало! Я ее лучше отсюда вниз по склону спущу! Лопнут обручи — потешайся надо мной, сколько влезет, а не лопнут, так и знай, сбрею я тебе бороду.
— Сбривай! — говорит мулла.
Увидели старики, что дело не к добру, стали муллу в бок толкать, а он уперся, твердит:
— Отсюда камень скатится — на куски разлетится. А от его бочки, — говорит, — и щепки не останется.
— Хорошо, — отвечаю, — Несите воды!
Принесли мне полное ведро воды, обдал я бочку, чтобы обручи хорошенько намокли, и подкатил ее к самому краю обрыва. Глянул я, мил человек, вниз, в ущелье, увидал страшенную пропасть и камни зубьями по всему склону да реку, что билась, металась на самом дне, и подумал: «Пропала моя бочечка!» Но виду не подал. Выпрямился, толкнул бочку и отвернулся, чтобы не глядеть, как ей конец придет.
Раздалось «бу-ум!» — и после долго ничего ие было слышно. Потом опять «бу-ум!» — и опять тишина. Летела, видно, бочка, пока второй раз оземь не брякнулась, и уж тогда такой стук да гром по ущелью пошел, словно в горах обвал начался.
Козы, что паслись на другой стороне, испугались. Зазвенели колокольцы и колокольчики, собаки залаяли, с соседних холмов люди закричали: «Бочка упала, бочка!» — «Цела, значит», — мелькнуло у меня в голове, наклонился я и увидел, как шлепнулась она в реку, исчезла и опять выскочила цела-целехонька, белая да ладная, закрутилась в водовороте, забилась о прибрежные камни и загромыхала. Ткнется в один берег — «ба-ам!» Стукнется о другой — «бу-ум»! Подтащит ее водой к скале — «бах-бах», словно пушки палят. Мулла белый стал как полотно. Старики в землю уставились, а у Сулю от головы прямо пар повалил. Он шапку снял, и голова у него курилась, ровно навозная куча.
— Садись, — говорю мулле, — сейчас я тебе бороду брить буду!
— Не трогай ты его бороды! — взмолился Кара Сулю. — Двойную цену тебе дам! Что ж за мулла без бороды!
— Раньше надо было думать! Несите бритву!
Не оказалось у них бритвы.
— Носите тогда ножницы! Тут уж старики вмешались:
— Тройную цену тебе за бочку заплатим, только отступись!
— Хоть впятеро дороже дадите, не отступлюсь!
Двое-трое за ножи схватились.
— Назад! — кричу. Бабы заголосили, дети забегали, а я за топор схватился:
— В куски всех разнесу!
Сейчас рассказывать и то страшно, а тогда бедовый я был, все мне было трын-трава. Да ведь коли по правде-то рассудить, с меня семь потов сошло, пока я эту бочку мастерил, а они, бесстыжие рожи, не хотят ее брать да еще над моим же старанием да умением насмехаются!
— Садись! — говорю мулле. — Хоть топором, а срежу тебе бороду!
Снял я с осла седло, усадил муллу, жена Кара Сулю ножницы принесла, и начал я ему бороду выстригать. Волосок за волоском! Пот с него ручьями течет, а я знай себе стригу. И пока я этим занимался, бочка внизу все гремела да гремела: «Ба-ам, бу-ум, бу-ум, ба-ам!» Люди на крыши, на ограды забрались — глядят. А старики глаз от земли не смеют поднять, один Кара Сулю мне на руки смотрит.
— Довольно, мастер! — говорит.
Как увидел, что я и последний волосок срезал, лицом в ладони уткнулся и запричитал:
— Нет у нас больше муллы! Нету!
Сел я на ишака и крикнул:
— Прощайте, почтенные! Не забывайте про мастера Лию и про то, как вы над ним посмеялись!
Никто мне ни «прощай», ни «до свидания» в ответ не сказал.
Отвел я душу и уехал с великой радостью, что не посрамил своего звания. О деньгах вспомнил, только когда к селу подъезжать стал. Отец мой был старый, и одышка его мучила, закашляется, так чуть не падает, а все же боялся я его. Почему? Отчего? Сказать не могу. Только стоило ему взглянуть на меня, как становился я смирней барашка.
Но делать нечего, приехал я домой. Чуть ворота заскрипели, отец вышел мне навстречу» «Здравствуй» не сказал, спрашивает:
— Продал бочку?
— Нет!
— Почему?
Рассказал я ему все как есть, по порядку. Ничего не утаил.
— Ложись на землю! — приказал мне отец. — Трандафила (так мою мать звали)! Принеси-ка, — говорит, — палку, которой ты коноплю треплешь!
Принесла мать палку, заперли ворота, и начал отец меня колотить по мягкому месту. Раз пять-шесть хватил, задохнулся, отдал матери палку, а сам считать стал. Сосчитал до десяти и говорит:
— Вставай, озорник, дай я тебя обниму! За дурь ты свою получил, а за то, что бороду у муллы срезал, хвалю. — И поцеловал меня. — Вижу, что стал ты настоящий мужчина. Этой осенью, — говорит, — женим тебя.
— А деньги? — спрашивает мать.
— Кто ремесло знает, — отвечает ей отец, — тот без денег не останется.
Как сказал отец, так и вышло. Двух дней не прошло после того, как я мулле бороду состриг, заявляются из Хамбардере средний сын Большого Мехмеда и Кривой Салих.
— Приезжай в село, вытащи бочку! Старики тебе заплатят, только вытащи ее из реки!
Подъезжаю к Хамбардере, еще издали слышу — «ба-ам, бу-ум!» — бьется бочка о берег, как в барабан стучит. Старики уже собрались, меня дожидаются.
— На тебе деньги за три бочки, только вытащи ты ее из реки, чтоб не громыхала. Ребятишки пугаются, да и мы третью ночь глаз сомкнуть не можем.
Легко сказать «вытащи», а как? Хамбардере — ущелье метров эдак пятнадцать глубиной, все скалистое, река на дне воет, ревет, пенится, из-за пены и не разберешь, где вода, где камень. А водоворот, куда бочка упала, так берега пообтесал, что не подступишься: слева и справа стена отвесная! Ящерице не уцепиться, не то что человеку.
— Давайте, — говорю, — веревку!
Сняли веревку, какой ослов привязывают, одним концом обвязался я вокруг пояса, а другой бросил в руки парням. Велел им потихоньку меня спускать, а как привяжу бочку, вытаскивать вместе с нею.
Спустить меня спустили. Очутился я по колено в воде и вот тут, скажу тебе, заробел! Вода бурлит, клокочет, крутится как бешеная. Мутная, сине-зеленая, и один бог знает, есть тут дно или нет! А я в воду не окунался с того дня, как меня крестили, и плаваю как топор. Крикнул я, чтоб спустили веревку ниже, надо проверить, есть ли дно. Опустили меня по самое горло — не достать дна! Кричу я тогда, чтоб обратно меня вытягивали — не слышат! Вода грохочет, но и они нарочно глухими прикидываются. Понял я, что страсть как им хочется, чтоб я утоп. А у меня в душе словно двое сидят. Один говорит: «Ворочайся, пока они тебя не сгубили». Другой шепчет: «Лучше смерть, чем позор! » Решил я второго послушать и крикнул во весь голос, чтоб крепче держали, а сам стал ногами в воде шевелить, чтоб бочку задержать, когда она мимо проноситься будет.
Кружится бочка в воде, вот-вот подплывет. А я хочу ноги поднять, чтоб ее зацепить, но штаны до того от воды отяжелели, что не дают ногам подыматься, вниз тянут. Подплыла бочка и унеслась дальше. Тьфу ты, черт! Что ж теперь делать? Придется штаны скидывать, иначе дело плохо. Скинул штаны, слышу, наверху бабы (они, видать, стояли позади мужиков) визг подняли, бросились бежать кто куда. Стал я снова бочку поджидать, дождался и таки зацепил ее. Подтянул потом руками и крикнул, чтоб вытаскивали.
Начали они за веревку тянуть, но чую, чем дальше, тем тише идет. Бочка от воды разбухла и раз в пять тяжелее сделалась. Приподняли нас пальца на два над водой, и повис я вместе с бочкой.
— Тащите же! — кричу.
— Не можем! — слышится мне сверху. — Больно тяжело!
Подтянули еще на вершок, и опять остановка. Собрались с силами, еще подтянули, но вершка на два, на три от воды — снова остановка. Глянул я вверх — хотел понять, что там делается — и тут только заметил, что веревка-то протерлась о скалу чуть ли не на половину. Волокна трещат, и вишу я, можно сказать, на волоске. «Ну, Лию, посмотрим, что ты теперь делать станешь. Выпустишь бочку, вытянут тебя — хорошо, а вдруг веревка порвется и плюхнешься ты в воду один, без бочки? Ну, а не выпустишь бочку, тогда уж наверняка веревка оборвется, и ты опять же в воде очутишься!»
«С бочкой или без? Решай! Решай, а то веревка вот-вот лопнет!» Решил я: «Не выпущу бочку». И закричал что было мочи:
— Веревка рвется, несите другую! Скорее, не то конец мне!
Зашевелились там, наверху, кто-то в село за веревкой пошел. Да только знаешь, как пошел? Еле-еле пополз как черепаха, а у меня на метр-два над головой веревка трещит, обрывается. Не успел я крикнуть, как с головой в воду ухнул, глаза мне пеной залепило, но бочку из рук не выпустил. Наверху слышу, орут:
— Утоп, утоп!
Потом увидали все-таки, что я вместе с бочкой вынырнул, и зашумели:
— Живой, живой! Бегите за веревкой!
Уж чего я натерпелся, пока меня водой крутило, а они за веревкой ходили, — врагу своему не пожелаю! Бочка склизкая, я еле за нее держусь, а вода швыряет ее так, что она мечется, ровно бешеная! Об один берег стукнется, к другому отлетит, и дела ей нет, что этак мне и руки переломать недолго. А ведь если по рукам саданет, то эта пучина меня разом проглотит, потому как чую я, что водяной бурав норовит меня вглубь затолкать. Тут осенило меня сесть на бочку верхом, чтоб хоть малость ее придерживать. Собрался я с последними силами, оседлал бочку и закрутился на ней как был, без штанов.
Наверху в сто глоток гаркнули: «Молодец! Ай да молодец!» И тут заметил я, что по обоим берегам народу собралось тьма-тьмущая. Крутимся мы с бочкой, как очумелые, а я об одном только думаю, выдержат ли обручи. Не лопнут ли сейчас, в самое-то нужное время. «Обручи вы мои милые, — взмолился я, — не подведите, родненькие, спасите меня! Держитесь сами и меня спасайте!»
Прошу их, а сам ногами бочку сжимаю и ногами же работаю. Поднесет бочку к берегу, вытяну я ноги, и не бочка о камень стукается, а мои ноги, и она обратно летит. Притащили наконец веревки, кинули их мне. Привязал я к одной бочку, к другой себя, уж как я это сделал, и не рассказать, привязал, значит, и кричу:
— Тяни-и!
Вытянули они бочку, потом — меня. Ступни у меня все в крови! Кожа на коленях содранная. Дали мне штаны, сел я на осла и поехал в село. Один ведет моего осла, словно я от святых мест возвращаюсь, а следом за мной целая толпа валит — стар и млад идет. И бочку тащат. Поставили ее во дворе мечети и объявили:
— Тут стоять будет, в общем владении.
Спрашивают моего согласия.
— Согласен, — говорю, — только, чур, уговор: пускай Кара Сулю на нее влезет и три раза перед всем народом прокричит, что деревянные обручи лучше железных.
Залез Кара Сулю на бочку и не только это прокричал, но еще и от себя прибавил:
— Эй, люди добрые, стар и млад, знайте, что нет лучше деревянных обручей, коли их настоящий мастер сделал! Лучше деревянных обручей не найти!
Заплатили мне сколько положено и еще сверх того дали шерсти, меду, воску, так что за одну бочку получил я добра — на трех ослах не увезти. Как увидал меня отец со всем этим добром, да как рассказал я ему, почему на мне чужие штаны, так у него прямо глаза на лоб полезли.
После этого начали объявляться один за одним желающие, чтоб я им бочку сделал, пошла торговля, отбою не стало от заказчиков, и денег не сосчитать. Старых мастеров люди обходили и ко мне шли, а ведь было тогда в наших краях больше ста двадцати душ бондарных дел мастеров!
Сто двадцать мастеров, да никто из них верхом на бешеной бочке не скакал и бороды у муллы не отрезал.
Перевод М. Тарасовой.
ДОРОЖКИ
Пришел вчера ко мне домой дорожный обходчик и спрашивает, я ли Влашо.
— Начальник дорожного управления Георгиев приказал, — говорит, — привести тебя к нему!
— Приказано, так веди!
Подвел он меня к самым дверям начальника.
— Постучи, — говорит, — сними шапку и входи!
Я постучал, снял шапку и вошел.
Начальник сидел за столом и читал газету.
— Добрый день, товарищ начальник.
— Что надо? — спрашивает начальник, а сам в газету глядит.
— Звали меня, — говорю. — Я — Влашо.
Услыхал он «Влашо» — газету отложил.
— А-а-а! — говорит. — Значит, это ты за городом дороги прокладываешь и денег не берешь?
— Да, — говорю, — я.
— Живешь где? В городе? — спрашивает начальник.
— Да.
— Интересно, как это я никогда тебя не видел.
— Город, — говорю, — большой. Да я редко куда и выхожу. На дому работаю. Сапожничаю. А вернее сказать, чиню и латаю.
— Как же так, — удивляется начальник, — ты и сапожничаешь, ты и дороги прокладываешь?
— А что? Запрещено разве?
— Да нет, кто ж говорит, что запрещено…
— А то обходчик пришел ко мне и говорит: «Начальник дорожного управления приказал привести тебя к нему!» Я и подумал: может, что нарушил.
— Вот скотина! — вскипел тут начальник. — Я ему велел не привести тебя, а попросить зайти. Просто хотелось повидать тебя, потолковать. И что положено заплатить. Я, — говорит, — отвечаю за дороги во всем районе. Сколько ж ты с нас возьмешь?
— Я, — говорю, — товарищ начальник, не за деньги дорожки прокладываю!
А он словно обозлился, что кто-то не за деньги работает.
— Государство этого не допустит! Как же так? Раз работал — получай свое!
— Ну коли так, пусть платят.
— Сколько?
— Я ведь не нанимался. Сколько заплатят, столько и ладно.
— Сколько времени ты провел на объектах?
— Дней я не считал. А работаю я только после обеда.
— А до обеда?
— А до обеда сапожничаю.
— И много выручаешь?
— Когда лев, когда полтора. А случается, и два лева… Раз на раз не приходится. Но жена тоже помогает. Она судомойкой в ресторане работает. Столуется там. А сыновья взрослые, обженились, отдельно живут.
Вылупился на меня начальник, очки даже снял, чтоб получше меня разглядеть.
— Интересно, — говорит. — Ты не выглядишь таким старым.
— А что? — говорю. — Шесть десятков уже разменял.
— И каждый день дорожки делаешь?
— Каждый.
— И никогда не берешь денег?
— С кого мне их брать? Кто мне их даст? Я люблю дорожки прокладывать — и прокладываю. Меня же никто не заставляет, с кого мне деньги брать? Разве только пенсионеры попросили проложить тропу к их парку и пообещали два лева; дорожку-то я сделал, а заплатить они мне позабыли.
— Ежели так, — говорит начальник, — может, ты и на нас поработаешь?
— Можно. А чего ж!
— А сколько возьмешь?
— Сколько дадите.
— Инструмент есть?
— Есть.
— Взрывчатка?
— На что она мне? Я со взрывчаткой не работаю.
— Почему?
— Лес пугается. Птицы улетают.
— А если скала поперек дороги, тогда как?
— Обхожу! Или киркой. Когда можно, киркой. Когда нельзя, обхожу. Я знаю, у какого камня есть корень, у какого нет. Иной раз такой попадется, что с места не стронешь. Без корня. Что человек, что камень — без корня никуда не годятся. Ни с какой стороны его не подцепишь. Ни киркой не возьмешь, ни лопатой. Кружишь вокруг него, а он хоть бы что. Плевать ему на то, что тут дорожке пролечь надо! Потому рубаха на мне больше месяца не держится. Пот вконец съедает.
— Ну так брось это дело, — советует он мне. — Ты свои дорожки, я слышал, прокладываешь в самых непроходимых местах, по кручам.
— А где ровно, на что там дорожка! Где ровно, там и без дорожки пройдешь. Дорожка — она имеет цену в горах, где круто.
— Хорошо, а кто же по твоим дорожкам на кручу взбирается? — спрашивает меня, значит, начальник. А я вижу, что его любопытство разбирает, и давай ему рассказывать во всех подробностях, кто по какой дорожке ходит.
— Одни, — говорю, — гуляют, потому как влюбленные. Другие за кизилом ходят. А больше всего пенсионеров бродит. Чуть рассветет, они уж тут как тут. Проветриваются. Кто голову проветривает, кто нервы. Нервов-то теперь сколько! Одни молчат, другие смеются… Третьи меня ругают. Недавно вот один ругался из-за того, что я не довел тропы до вершины и он себе брюки разодрал. Я ему говорю: «А чего тебя несет на самый верх? Дай срок, и туда дорожку проложу!» А он: «Я, друг, вот-вот богу душу отдам. Нет у меня времени ждать. Хочу на белый свет сверху поглядеть, пока в силах, а то потом в землю зароют, уж не вылезешь». — «Ладно, — говорю, — в таком разе я тебе проложу тропку на самый верх!» Вот сейчас, значит, ему эту тропку и делаю. А то вот Дарачев! Знаешь Дарачева? Он из-за давления ходит, мужчина из себя солидный, пузатый, вот и взялся меня отчитывать: «Куда ты так круто забираешь? Для кого стараешься? По твоим дорожкам орлам летать, а не людям ходить! Вел бы где поровнее! Смотри, возьмусь я за тебя». Вот Дарачев как говорит. Ну, я и проложил для него ровную тропку. По ней теперь и доктор Пумков ходит. Ровная тропка и к роднику ведет. Я ему там и желобок смастерил, чтоб пить было удобно. Попьешь водички — и назад. Вот какие у меня клиенты взыскательные… А туристы, так те даже спасибо говорят. Вот как! На днях дали мне целую сумку помидоров. А один, из Софии, сказал: «Я тебе медаль выхлопочу «Великий радетель туризма»! Видать, партийный, потому как еще сказал: «Ты наш человек, — говорит, — только вот по части энтузиазма чересчур далеко ушел!»
Веселый народ, целая компания, хохотали прямо до упаду. Битый час вертелись возле меня. Только одни был хмурый, увидел у меня метлу и спрашивает, для чего она. «Камушки, — говорю, — сметать». — «Зачем их сметать?» — спрашивает. «Босиком кто пойдет, ногу наколет». — «Да разве сейчас кто ходит босиком? — кричит. — Видел ты сейчас в Болгарии, чтоб кто-нибудь босой ходил? Ты что, хочешь сказать, в Болгарии люди босыми ходят? Ну-ка, — говорит, — давай удостоверение личности! Паспорт!..» — «Вот тебе, — говорю, — паспорт! Влашо! Гляди не гляди, Влашо и есть Влашо!» — «Улыбнись, — говорит, — я посмотрю на твои зубы, на фотографии они у тебя вроде не вставные». Ощерился я, показал ему зубы, вот эти самые. «А почему, — спрашивает, — они у тебя вставные?» — «Свои, значит, выпали», — говорю. — «Но здесь-то, — говорит, — у тебя настоящие! — И тычет в паспорт. «Паспорт, — говорю, — выдан в пятьдесят третьем, а с той поры сколько воды утекло…» Отцепился он от моих зубов, взялся за дорожки. «Кто тебе платит за работу?» — «Никто!» — «Значит, задарма работаешь?» — «Значит, задарма». — «А ну, говорит, пошли со мной в совет, посмотрим, что за благодетель такой выискался!» Хорошо, люди вмешались, оставил он меня в покое, но потом сказали мне, что он прятался где-то неподалеку и следил за мной.
Разговорился это, значит, я вовсю, а начальник слушает:
— Говори, говори, очень интересно… А пока мы разговариваем, я, — говорит, — позвоню бухгалтеру, чтобы тебе спецодежду выдали.
— Бухгалтер не разрешит, товарищ начальник!
— Почему? Ты что, его знаешь?
— Этого, — говорю, — не знаю, а вот с бухгалтером, который в лесничестве, имел дело.
Объяснил я начальнику, как однажды позвал меня лесничий поработать у него… Лето, людей не хватает. Взмолился человек: «За деньги, без денег — как хочешь, — говорит, — только выручи, приходи. Вода размыла дорогу, неровен час грузовик перевернется или человек свалится, что тогда делать?» Я пошел, поработал день, а назавтра он и говорит мне: «Уходи!» — «Что такое?» — спрашиваю. «Я тебе скажу что, но пусть это промеж нас останется. Бухгалтер заявил, что он с ненормальными не хочет связываться… Еще какое несчастье случится, а мне отвечай, что человека незаконно на работу взяли. Нам такие не нужны, гони его!» И пришлось лесничему выгнать меня. «Принесешь, — говорит, — медицинскую справку, тогда работай!»
— И все-таки не могу я взять в толк, — говорит начальник, — почему ты работаешь без денег, когда можно за деньги?
Рассказал я ему тогда, как я на днях из-за этого же вопроса страху натерпелся. Встретились мне наверху, в ложбине, дорожники, и пристал ко мне один: «Ты чего, дурья башка, работаешь без денег и цену нам сбиваешь? Мы все за деньги, а он без денег! Почему?» А другой, прыткий такой, еще и крикнул: «А ну, ребята, макнем этого болвана в реку. Небось никто по нему плакать не будет!» И столкнули бы меня в реку, не подоспей тут лесорубы. «Твое место в сумасшедшем доме, гад ты этакий! Мы, — говорят, — тебя образумим!» — «Как знаете, — говорю, — но я люблю дорожки делать, вот и делаю. Идешь по лесу — кусты, бурьян, камни, глядь — тропинка вьется! Глушь и пустошь была, а там смотришь — человек гуляет!.. Прислушивается… Парочка пройдет. Все и ожило! А за деньги не то! Нет той радости. Как-то раз идут парень с девушкой, увидели, что я ветки обрезаю, и говорят: «Смотри, не очень обрезай, а то пенсионеры чересчур любопытные стали!» Мол, чтоб не подглядывали за ними. Чтоб было им где укрыться. У каждого свой интерес. Потом вот лесорубам дороги нужны.
— Они меня и отбили у дорожников, — говорю я начальнику, — у тех, что за деньги дороги прокладывают. Лесорубы частенько мне подбрасывают то щепок на растопку, то хворосту. А воспаление легких меня свалило, так они трав в лесу насобирали, раза три припарки мне ставили, пока я не поднялся. «Ты, — говорят, — нужен нам, не смей помирать!» Веселый народ, уважительный. Кабы не они, отправился бы я, как пить дать, на тот свет, потому как жена дома мало бывает, она у меня в ресторане работает, восемьдесят левов получает и столуется там, а сыновья в травах не разбираются. Им другое подавай: дом, барахло всякое… У каждого свое направление в жизни…
— Скажи, а какие же дорожки бывают? — спрашивает начальник. — Кривые, прямые? Хорошие, плохие? — Интересуется человек.
— Ошибаетесь, — говорю, — товарищ начальник. Плохих дорожек не бывает. Раз ведет куда-то, значит, хорошая. А вот какая куда ведет — это другой вопрос. Одна, например, ведет на Кале. На самую верхотуру. Ведет, ведет, наконец остановится на вершине. Смотри, мол! Под тобой вся равнина, весь город! Разве с другого какого места всю равнину разом увидишь? Другая ведет, ведет, глядишь — к роднику привела или к источнику: стой, мол, испей водицы. Отдышись, передохни, зря ты так торопился. Торопись не торопись, все равно к одному придешь! В прошлом году я провел тропку к одной липе, под Равдином. Старая липа. Старая, огромная и вся в цвету! Сядешь под ней, и голова от сладкого этого запаха кружится! Вот и прикинь: нет тропки — и липы нету! Я ее так и назвал: Липовая тропа! И прижилось название. Спускается по ней человек, я спрашиваю: «Откуда идете, товарищ?» А он отвечает: «Гулял по Липовой тропе». Иногда нарочно спрашиваю, хитрю, чтоб себя потешить. У каждого свое направление.
Начальник смотрит мне в рот, слушает.
— Интересно, — говорит, — очень интересно!
— Самое интересное — старые тропки, заброшенные. Стояло когда-то село, теперь его нет, а тропка осталась. Идешь по ней и дивишься. «Куда же она ведет? Какое у нее направление?» Идешь, идешь и вдруг выходишь на поляну, смотришь, вот здесь поле было. Дождь размыл, разровнял землю, но тропка показывает: было тут поле! Оглядишься — гумно заприметишь. Вот какие тропки бывают. Другая ведет, ведет и приводит к карьеру. Гранитчики, значит, камень выбирали. Третья петляет, кружит, горбится, пока в старые стены не упрется. Крепость!
— И что, — спрашивает начальник, — ты эти тропки поправляешь?
— Смотря какие. Иногда подумаешь: что прошло, то прошло. Вот, скажем, поле. Кому нужно мертвое поле? Или разрушенная крепость? Коли прок в том есть, тогда да, поправляю. Вот если и вода есть, и тень, и хворост на костер… И для глаза красота. Тогда дороги подновляю, выравниваю…
— Значит, главное для тебя, — говорит начальник, — красота, если я правильно тебя понял?
— Точно, — говорю, — товарищ начальник! Если нет красоты, кому нужен такой мир?
— Ну, раз ты за красоту, тогда мы с тобой поладим — дадим тебе красивую спецодежду.
Он сиял телефонную трубку и позвонил бухгалтеру.
— Алло! Дидов? Зайди ко мне, — говорит, — дело есть.
Пришел бухгалтер.
— Надо бы выдать спецодежду этому товарищу. Он бесплатно делает дороги в нашем районе. Вот он, — говорит, — товарищ Влашо. У тебя есть что-нибудь на меху? Сейчас, — говорит, — осень, сыро, а он воспалением легких болел, ему беречься нужно.
Бухгалтер не возражает.
— Безусловно, — говорит, — нужно!
— Зря беспокоитесь, — говорю. — Пустяки какие!
— Что значит пустяки? — раскричался начальник. — Ты, что ли, пустяки? О тебе весь город говорит! Как же можно оставить тебя раздетым? Вдруг завтра простудишься и отдашь богу душу?
«Ну, — думаю я, — и люди! Вот это люди!»
А начальник знай поет:
— Мы и пенсию попробуем тебе выхлопотать!.. Случится вдруг на работе несчастье какое, скажем, руку покалечишь или ногу. Глядишь — пенсия в кармане!
Шутят, значит, а я смеюсь.
— А если, — говорю, — не случится?
— Сам, — говорит, — покалечишься. Ты почему, — говорит, — смеешься? Не может такого быть, что ли?
— Почему не может, товарищ начальник? Почему, — говорю, — не может? Может! С человеком всякое может случиться.
Вскочил тут начальник и давай на меня орать:
— Жулик ты! Жулик и мошенник! Значит, — говорит, — согласен, а? И увечье себе нанести согласен, и пенсию заграбастать! Дидов, погляди только на этого святого, на этого бессребреника! За «спасибо» дороги строит! Благодетель! А от меня объяснения требуют, почему разные психи дороги в горах прокладывают, а управление баклуши бьет! Вон отсюда, — кричит, — чтоб глаза мои тебя не видели и чтоб ноги твоей в лесу не было! А покажешься, прокурору, — говорит, — передам! Пошел вон, мошенник!
Я и пошел. Что поделаешь? Говорю ведь, у каждого свое направление в жизни…
Плохо только, в лес не пускают. А ведь сколько дорожек нужно бы еще проложить!
Перевод О. Кутасовой.
ДЕРВИШЕВО СЕМЯ
Узелок этот, скажу я тебе, давно завязался. Мне тогда и четырнадцати не сровнялось, а не было у меня ни отца, ни матери. Отца моего забодала соседская корова, а мать померла от испанки. Рос я с дедом и бабкой, а у бабки правая рука отнялась, некому стало домашнюю работу делать, и дед начал прикидывать, как бы меня поскорей женить. Меня и не спросили. В ту пору тех, кто женился, не спрашивали, старики сами все улаживали. Услышал я только раз, как они говорили с бабкой.
— Молодой еще! — сказала бабка.
— Подрастет! — сказал ей дед. — Надо только девку приглядеть!
Что и как там дед глядел, не могу я тебе сказать, только как-то вечером вернулся я с выпаса и застал у нас дома громадного дядьку с большими ножницами за поясом.
— Рамаданчо, — сказал дед, — позвал я портного потури тебе сшить. Серые хочешь или какие другие?
Больше ничего не спросил. Сосватали меня, женили, только и было спросу: «Серые или какие другие?»
Портной пришел в среду, в четверг штаны были готовы — коричневые потури, карманы обшиты галунами, а в пятницу явились во двор барабанщики, и застучали свадебные барабаны. Барабаны бьют, котлы с мясом кипят, а, я все еще не знаю, кого мне в жены выбрали.
Насмелился я и спросил у бабки.
— С выселок, — говорит, — будет, не из села!
А чья? Какая? И бабка не сказала, и я дознаваться не посмел.
Чья да какая, вечером только узнал. Пропел мулла, отстучал барабан, пришло время одним нам остаться. Перед тем как мне в комнату войти, дед отозвал меня в сторонку и говорит:
— Что хошь делай, а чтоб кровь поутру была! Коли стал ты мужчиной, действуй по-мужски! А не можешь по-мужски, делай что хочешь, но чтоб кровь была, а то все село смеяться станет!
Втолкнул меня в комнату и запер.
Сидел я этак с полчасочка как истукан, не смел ни голоса подать, ни покрывало с лица у ней приподнять, пока она сама покрывало не сняла. Думал я, что дед сосватал мне здоровущую девку, а увидел девчушку — словно бабочка легкокрылая, лицо белое, как молоко, и глаза — вот с такими ресницами. Уставился я на нее, как дикий, а она на меня поглядела, поглядела, да как засмеется.
— Стыдно тебе? — спрашивает.
— Стыдно.
— Чего ж ты стыдишься? Смотри, какие у тебя потури красивые. И пояс какой! Хочешь, поиграем в волчок?
И не успел я ответить, как взяла она меня за пояс и стала его разматывать, поворачивать меня, волчком крутить. И так мы заигрались, что не услышали, когда первые петухи пропели. Только вспомнил я вдруг про кровь, и взяла меня забота. «Вот-вот рассветет и придут про кровь спрашивать. Что тогда?» Заметила она, что я приуныл, и спросила, про что я думаю.
— Про кровь! — отвечаю.
— Я, — говорит, — добуду!
Надулась она, аж лицо посинело, раз — и из носу у нее кровь потекла. Не буду тебе рассказывать, где и как мы эту кровь размазывали, — дело прошлое. И зажили мы с Сильвиной, как муж с женой. Была она еще совсем девчонка, но и женщина была. В девочке сызмальства женское-то заложено. В ресницах ли, в бровях ли, но таится, а парень — дело иное. Коли у парня щетины нет, чтобы девичью щеку уколоть, то он не мужчина. Хотя ежели сердце взыграет, ему не прикажешь, как и со мной случилось. Пока мы с Сильвиной крутились да раскручивались, пока смеялись да играли, сердечко-то обматывалось, обматывалось и, как потом потянули, чтоб его размотать, так напрочь из груди и вырвали.
Как это случилось, скажу я тебе, никто и не приметил. Все пошло, побежало, как вешняя вода. Никто и не думал не гадал, что под водой-то — скала, лодку нашу об нее ударит и в щепки разнесет. Сильвина все больше дома сидела, присматривала за бабкой, варила кашу и нас поджидала. Прибиралась, подметала, и старый наш дом засиял, как солнышко. Балки и те заулыбались — так украсила их Сильвина разными цветами да травами, а уж окошко в комнате мыла, протирала по три раза на день, и в него каждое утро смотрелась, волосы свои расчесывала. А волосы у нее были — вот по сих пор, и как глянешь — русые! Отойдешь маленько — рыжеватые, словно светятся. А еще отступишь — червонное золото, точно живое, заиграет по ним! Как начнет она их расчесывать, я стою и смотрю.
Смотрю, смотрю, пока дед меня не окликнет:
— Эй, Рамаданчо, козы твои с голоду подохнут!
Что за мученье было с этими козами! А летом солнце ленивое встанет посередь неба и стоит! Плевать ему, что у меня в селе молодая жена, так бы и подпрыгнул и сбил бы его палкой. И зарыл бы в землю, чтоб больше не всходило. Все-то бы ночь была, и лежал бы я с нею рядом или на ресницы бы ей дул. Была у нас с ней одна дразнилка, игра вроде: как проснусь я утром, дую ей на ресницы, пока ресничка к ресничке не ляжет. Обещался я Сильвине, как поеду с дедом на ярмарку в Филибе[4], куплю ей костяной гребешок для ресниц. Только так обещание обещанием и осталось. Раз ушли мы с дедом на покос, а вернулись вечером — застали пустой, темный дом без молодой жены. Бабка рассказала, что увезли Сильвину братья. Бабка не давала, а они ее отпихнули и уволокли Сильвину. Сказали, что, мол, не все приданое с собой забрала. Вскочили на коней и, пока люди прибежали, умчались к лесу.
Что со мной сталось, не могу тебе сказать, только дед увидел, что я к ножу тянусь, сгреб меня и кричит бабке:
— Неси веревку!
Принесла бабка веревку, привязал меня дед к столбу и сказал:
— Не вздумай сбежать, ты мне на семя нужен. Хочу я, чтоб в этом доме внук Асана Дервишева запищал, а уж тогда иди и бейся с кем хочешь.
Сел на мула и уехал, крикнул только бабке:
— Стереги Дервишево семя, а то шею сверну.
Бабка дедов нрав знала и не посмела меня отвязать. В сердце мне словно сто пиявок впилось, замерло оно, помертвело. Одна только крохотная надежда и билась в нем, что, может, Сильвинины-то братья и вправду из-за приданого приезжали. Братья ж они ей, не чужие!
Этой надеждой тешился я до зари, пока дед не вернулся. Мул был весь в мыле, а дед — весь оборванный, оттого что сквозь кусты продирался. Втолкнул он меня в горницу и запер, а сам с бабкой в ихней комнате закрылся. Разделяла нас одна стенка, посреди нее дымовая труба проходила. У трубы стенка была потоньше, и можно было услыхать, что говорилось по ту сторону. Припал я к стене и прислушался. Дед говорил тихо, но все ж мог я разобрать.
— Нет у нас больше снохи! — сказал он. — Братья ее, собаки, догадались, что она еще девка, и отдали Руфату за двух козлов.
— Где ж они теперь-то? — спросила бабка.
— Шатаются с ней по лесу, — сказал дед. — И когда вернутся, шут их знает. Да и вернутся, на что она мне с чужим семенем в утробе?
— Что же ты делать будешь? — спросила бабка.
— Что делать буду? Перебил бы я весь Руфатов род из двустволки, изничтожил бы, как вшей! И изничтожу. Но не сейчас. Женю Рамадана, дождусь внука, и тогда поплачет у меня Руфат!
Такие слова сказал дед, и эти его слова как притиснули меня к очагу, так и просидел я до утра в золе! Утром дед привел муллу, чтоб взял с меня клятву не вешаться и в реке не топиться… Ни с кем ссор и драки не заводить… Сперва внука деду оставить, а уж тогда делать с собой, что хочу…
А что потом было, то прошло вот тут, сквозь сердце! Как игла! Первая впилась в сердце, когда вернулась Сильвина в село. Были мы с Руфатом соседи, один забор нас разделял, но, когда они воротились, никто не видел. Больше месяца Сильвина не показывалась оттого, что этот поганец ее искусал, все щеки ей изжевал, и она не смела на люди показаться. Тогда и прослышали мы, как оно все вышло.
Приглянулась она Руфату с самого первого дня, как увидел он ее у нас во дворе, и, чтоб на нее смотреть, проделал дырку в заборе. Был он на семь лет старше меня и лодырь страшный. Ни по дрова не ходил, ни в поле, помогал только отцу скотину забивать. Попивал ракию, бахвалился и ко всем приставал.
Были у Руфата два козла, два бородатых козла с большими колокольцами на шее, и звенели эти колокольцы так, что слышно было по всей округе. Сильвинины братья Реджеп и Юмер — чабаны, люди жадные, особенно до козлов и колокольцев. И сторговались с Руфатом. Они запросили козлов, он — сестру. Догадались, что она еще девкой ходит. И отдали ему.
Очень мне хотелось увидеть Сильвину, но ничего не получалось — держал ее этот изверг под замком. И все ж таки додумался я: чуть стемнеет, залезал на крышу нашего дома и, притулясь за трубой, смотрел в Руфатово оконце. Вот такусенькое было это оконце, но как зажгут керосиновую лампу, все и видать. Ну, не все, но можно было разглядеть, как ужинать садятся… Как после ужина со стола убирают… Как постель стелют, как спать ложатся… Как разматывает пояс Руфат… И… глаз ее не мог я видеть, но голова у нее, бывало, все ниже и ниже клонилась, пока не падала, как надломленная… А он запрокидывал ей голову, подпирал подбородок пальцами и как остервенелый впивался…
И пока светила лампа, сердце мое таяло, словно свеча. Как оно совсем не растаяло! Как не сгорело, как хватило его и на второй вечер, и на третий! Бабка моя подглядела, что я прячусь за трубой, и сказала деду, а он ее оборвал:
— Пусть, — говорит, — мается! Злость копит! И учится кровь у жены не из носу пускать!
Прав или не прав был дед — не я тому судья, но про злость он верно сказал! Коли горе через край, одна злость тебя поддержит и спасет. Видел ты чучело соломенное? Ничего внутри нету! Ни сердца, ни костей, одной соломой держится. Так и я одной злостью держался, той злостью, которую думал на Руфата вылить, тем злом, что ему хотел учинить. Из ума оно у меня не шло. И в постели, и на поле, днем и ночью думал я про то, как его топором изрублю или ножом брюхо вспорю, чтобы не помер сразу, а помучился. Потом и этого мне стало мало: недолго ведь от ножа будет он мучиться, и выдумал я новую казнь — душить его медленно, с роздыхом, но понял, что уж если схвачу, то не выпущу, и решил, что и это не годится, и опять принялся придумывать ему все новые и новые муки. Триста раз я убивал его и оживлял. Тысячу раз его рубил на куски и кожу с него сдирал. Голова моя начинала гореть. Руки сжимались в кулаки, зубами я скрипел, пока солома в чучеле не вспыхнула, лихорадка на меня не напала и я не слег.
Тогда дед испугался. Не за меня, а за Дервишево семя. Подхватил меня, и в Триград — к толстой Айше. Поила она меня горьким зельем, мазала всякими снадобьями, в неделю лихорадку согнала и подняла меня на ноги. Дед, однако, в село меня не забрал, а оставил в Триграде пасти коз Дели Юмера и наказал Айше поить меня чем угодно, но чтоб без усов и бороды я в село не возвращался. Так оно и вышло: зелье ли помогло, время ли приспело, но и года не прошло, как потемнело мое лицо от усов и бороды. Не бог весть какая, но борода! Да и душа у меня пообмякла, должно, от той травы — живикой зовется, которую пьют, чтобы дух поднять. Вот тогда-то и приехал за мной дед.
— Хватит, — говорит, — пора тебя женить, а то мне не терпится отплатить Руфату.
— Хоть жени меня, — сказал я деду, — хоть в землю закопай, что хочешь со мной делай, но Руфата не тронь! Я сам с ним разделаюсь.
Заставил я его в том поклясться и там же в Триграде женился. На этот раз не понарошку: и с рубашкой все было как положено, и дитя у меня родилось не на девятый, а на седьмой месяц! Чуяло, видно, и оно, что не терпится его деду, и на два месяца раньше на свет запросилось.
Не помню уж, когда я видел, чтоб дед улыбнулся, а тут он заулыбался… И лег помирать! Тут же! На третий день после того, как внук родился, лег! Как шел улыбаясь, так и упал на постель, и левая бровь у него задергалась. Позвал он меня и сказал:
— Рамадан, внучек, увидел я Дервишево семя и иду отнести твоему отцу весточку. А Руфата на тебя оставляю!
С этими словами ушел от нас дед, а на меня оставил и дитя, и жену, и Руфата. Ну, Рамадан, посмотрим, каково носить на руках три ноши сразу! Три ноши: ворога, дитя и жену! А солома крепость чучелу дает. Чтоб на ногах держалось. Коз пасло, пахало, ело. А сердце — у мясника Руфата, он его кромсает как хочет!
Поначалу решил я, пусть дитя подрастет, пусть мать его от груди отнимет, а уж тогда вспорю я брюхо Руфату. Потом решил: пусть дитя ходить начнет! Как пошел он, и Сильвина стала выходить, тоже с младенцем на руках! Медленно ступала она по двору, словно долгий путь прошла. Лица ее под покрывалом я не видел, но глаза ее часто поднимались, меня искали.
Проделал я дыру в сарае и начал за ней подглядывать. Пока я на нее смотрю из сарая, Руфат за ней из окна следит, а за мной жена наблюдает. Хорошо, что кроткая баба была, не кричала, не бранилась. Тайком слезу роняла да помалкивала.
И покатились дни, что один, что другой: пашу ли, землю ли копаю или коз пасу, тороплюсь вернуться засветло. Прильну к дыре в сарае и жду, когда Сильвина покажется. Увижу — как рукой снимет и злость, и усталость, а не увижу — всю ночь скриплю зубами: убиваю Руфата, душу его, травлю ядом и сердце свое никак не натешу. Много раз хотел я его прикончить, но как подумаю, что за решеткой и в дырочку не увижу Сильвину, так руки и опустятся. И потекла так жизнь, день за днем, год за годом. Если бы не повырастали мои дети, не переженились бы и своих бы детей не народили, не знал бы я даже, и сколько лет минуло. Забор дубовый, что разделял нас с Руфатом, сгнил, а счеты наши мы не свели. И Руфату, видать, нелегко было каждый вечер на лед ложиться и со снегу вставать, и как был он пьяница и гуляка, так и совсем спился. Да и кончилось его царское житье — отобрали у него мясную лавку, и это его доконало. Ничем не мог он этот клин вышибить и стал его ракией вышибать. Ударила его ракия в спину, уложила в постель. Дочка его вышла замуж в другое село, и Сильвина осталась с Руфатом одна. С месяц назад толкнул я гнилой забор и шагнул во двор к Сильвине, как в свой. Со двора вошли мы в комнату Руфата. В первый раз втроем собрались, за сорок лет впервые с Руфатом друг другу в глаза поглядели, а Сильвина — меж нами. Грешен, мил человек, скажу тебе, захотелось мне Сильвину обнять на глазах у Руфата, пусть посмотрит на нее в моих руках, как я всю жизнь ее видел в его, но она не позволила.
— Хватит, — говорит, — того, что мы здесь! Если он был зверем, ты не будь!
А сейчас, спросишь ты, что?
А вот что: Руфат вечно мерзнет, осла у Сильвины нет, и вместо того, чтоб ей надрываться — дрова таскать да печку топить для Руфата, за дровами я хожу. Каждый день по поклаже дров привожу, и все не хватает. Акт составил на меня лесник, новый обещает составить, и потому по ночам хожу. Глаза, того гляди, выколю, руки все в кровь изодрал, а рублю, и после, как лесник заснет, тащу дрова через овраг домой, и тело свое корежу из-за того, кто душу мою жег! Ублажаю и согреваю того, по чьей милости всю жизнь то огнем меня жгло, то морозом морозило! А перестать нельзя. Перестану — Сильвине придется по дрова ходить. Да это что, иной раз доводится и по-другому помогать: тяжелый он, а нужно его приподнять, постель ему поменять, да, извини, и вынести за ним. Где слабой женщине с таким делом справиться, а не она, так кто? Опять Рамадан прислуживай Руфату? И прислуживаю, иначе все на Сильвину ляжет. Слышу, как по селу говорят: «Надо же, какой сосед, какой человек!» А того не видят, что у меня там, внутри… А внутри котлы со смолой, брат, кипят! Жду я смерти Руфатовой, чтобы на Сильвине жениться, а он, злодей, не помирает. Вот та смола, что меня жжет! Хочу я в постель с ной лечь, как муж с женой, а уж потом будь что будет… Через жену, детей, через целый выводок внуков перешагну и к ней уйду, но между нею и мной лежит колодой Руфат, лежит, не встает! А время, мил человек, летит, силы не те, и, как знать, может, мы с Сильвиной ляжем, как муж с женой, а проснемся, как брат с сестрой. Думаю я иногда: он мучается, мучаемся и мы, так не открыть ли ему адские врата, в которые он второй год стучится? Не буду я его ни душить, ни топить: оставлю на холоде две-три ночи, и готов он. Так я думаю, но, как дойдет до дела, видятся мне глаза Сильвины, на меня уставленные, и иду опять в лес сушняк для Руфата собирать…
На этом распутье топчусь я сейчас и не знаю, куда идти. Ты, коли можешь подсказать, подскажи, а коли нет, так помоги дрова на осла взвалить, и пойду я, а то он, лиходей, уже от холода дрожит.
Перевод М. Тарасовой.
КАЛИНКИНЫ КОЛОКОЛЬЦЫ
Отчего твоих сигарет не закуриваю, спрашиваешь… А мне слаще самокруточка — сам табачку насыплю, сам сверну, языком лизну, души чуточку в нее вложу… Потому во всяком деле оно так: не вложишь души — ни вкуса, ни сладости нету!
Возьми хоть седло, к примеру — простое, деревянное вьючное седло, ан как смастерят его, беспременно два-три завиточка по тому дереву вырежут, душе на радость, чтоб было оно живое, красивое. Вот и в колокольцах, что у моих баранов и козлов на шею повешены, в них тоже душа есть, хоть они из бронзы отлиты. Может, спросишь — какая еще там душа? Вот в этих двух — серебряных — матери моей покойной душа живет, оттого и зовут их люди Калинкиными колокольцами. Давнишняя это история, еще с той войны, русско-турецкой, когда правоверные Сулеймана-паши бежали от братушек в свой Адрианополь. Две недели проходили тогда турки по нашим местам — злые, голодные, грабили и насильничали, и потому весь народ подался выше в горы, попрятался на овечьих зимовьях. И как раз об ту самую пору несчастная наша матушка родила двух близнецов — меня да брата, так что пришлось и нас тащить на себе. Сунул нас отец в мешок с козьей шерстью, маму с собой повели — она всего четвертый день после родов, — и двинулись они сквозь вьюгу снежную искать убежища на Перелийце. Покуда добрались до кошары, прохватило матушку ветром и вьюгой, и только-только оказалась крыша над головой, как навалилась на нее лихоманка-погубительница. Три дня и три ночи металась она в жару, а к концу третьей ночи прибрал ее господь и оставил нас с братом сиротами. Перед тем, как испустить дух, очнулась матушка, вынула из-за пазухи свадебное монисто свое серебряное и сказала отцу: «Не зарывай его вместе со мной… Полюбил ты меня с монистом этим, и не хочу я, чтобы другая его надела, и оттого прошу тебя, Райо (Райо — так отца моего звали), переплавь ты мое монисто в колокольцы, пускай и поют тебе, и плачут, чтоб помнил про меня и про деточек наших».
Шибко они с отцом любили друг дружку, и как померла она, он за нею в могилу прыгнул, хотел, чтоб зарыли его живьем с нею рядышком.
А колокольцы серебряные отливать — рассказывал он мне спустя годы — пошел он аж в Неврокоп, чтоб сыскать мастера самого что ни на есть искусного. Овец своих оставил на время одному побратиму, к постолам еще одни подошвы подшил, а между подошвами женино монисто серебряное. Не простое это было дело по тем временам — все горы, можно сказать, на своих на двоих пройти до самого Неврокопа: жили мы тогда под турком и много всякого лихого народа по дорогам встречалось. Долгонько добирался отец до нужного города, да не зря. Свел его там случай с мастером Джико — годами молодой, но великий умелец, до ремесла своего охочий и до славы, так что все умение свое вложил он в колокольцы-то эти. А как были они отлиты, подвесил их, сам на шаг отступил и крикнул, словно напугать их хотел:
— Хо-о!
— Дзин-нь! — пропели в ответ колокольцы, а голос у них в точности, какой у матушки нашей был.
Обрадовался отец, полез за деньгами — расплачиваться, но мастер остановил:
— Денег, — говорит, — я с тебя не возьму, но когда запоют в горах твои колокольцы и спросят люди, кто отливал их, ты говори: «Отливал их мастер Джико». Этого с меня довольно.
Поцеловал ему отец на прощанье руку, колокольцы через плечо перекинул и двинулся в обратный путь, но не царской тропой, а напрямки через лес и глушь, подальше от недобрых встреч.
И едва лишь воротился к своим овцам, тут же подвязал новые колокольцы. И как закачались они, как зазвенели ясным голосом — ну просто диву даешься, колокольцы ли пастушьи звенят, колокола ли церковные бьют, или молодухи поют-тоскуют… Тогда-то их и прозвали Калинкиными колокольцами.
*
Поют, значит, серебряные колокольцы, слушает отец их песню, маму нашу вспоминает, но и про нас тоже думает. С утра до ночи работал-надрывался, чтоб росли сыновья, не зная холода-голода, стадо умножил до пятисот голов — наследство чтоб после себя оставить.
В те времена под осень, как задуют ветры, гнали чабаны свои отары зимовать к Эгейскому морю. А по весне, едва лишь Карлыкская вершина скинет с себя снежную шапку, пригоняли назад. Был у нашего отца обычай — перед тем, как ворочаться домой, посылал с кем-нибудь весточку, чтоб привезли ему заветные те колокольцы, и, вступив в родные горы, сразу привязывал вожакам стада на шею. С того дня, как схоронил он свою любовь, было это ему единственной утехой.
Помню, однажды поднялись мы на Калычборун, он нам тут же:
— Эй, чабаны, давайте сюда колокольцы!
А ведь солнышко едва-едва проглянуло.
Ну, повскакали чабаны, поймали козлов — а те козлы, которым колокольцы подвязывали, красавцы были — загляденье. Им, еще махоньким, туго стягивали веревкой рожки, чтобы выросли прямые, нежили, холили не хуже, чем детей родных, и с годами вымахивали они ростом с осла, горделивые и бородатые, что твой архиерей. А поступь — ну ровно богатей какой по базару вышагивает. Как им колокольцы подвесят, они тут же — морды кверху, друг за дружкой идут, а уж за ними и стадо. В тот день я в первый раз услыхал эти, мамины, колокольцы. Колокольцы-то пастушьи все разные — иные звякнут и замолчат, будто им горло перехватило, а эти — один разок язычок о стенку ударится, а звон десятью волнами прокатится. Покуда разносится окрест звяканье меньших колокольцев, большие басом выводят, как дьякон с амвона. Слушают чабаны, грудь распирает от радости, идут, гонят стадо, и, глядишь, кто-нибудь из них остановится да как гикнет что есть мочи:
— Эге-ге-ге-ге-е!
И не только гикнет, еще из ружья пальнет.
А горы того лишь и дожидаются: вмиг подхватят выстрел, передают с вершины на вершину, и разносится гул до тех пор, покуда не скатится куда в ущелье, а уж там и заглохнет.
*
Подросши, мы с братом не раз перегоняли овец на зимовье во Фракию к Эгейскому морю. Отец жил по-прежнему бобылем, так и не смог нашу маму забыть, сильно состарился. А вот любовь к колокольцам не состарилась в нем, и эта-то любовь и довела его до погибели.
За год с чем-то перед Балканской войной мы снова зимовали во Фракии, а ближе к Юрьеву дню собрались гнать стадо назад, в горы. Весна выдалась славная, трава по колено вымахала. Овцы у нас, как барабаны, тугие — от хорошего корма, так что молока было хоть залейся, и ягнятам хватало, и людям оставалось; кого ни встретим в дороге, угощаем — пей на здоровье.
Овечки наши, значит, травку щиплют, мы с братом едем за ними следом и вперед поглядываем, скоро ли уж наши края, и все нам мнится, что мы с места не двигаемся. Молодые оба были, горячие, лошади под нами ретивые — каракачанские серые кобылки, и решили мы прибавить ходу, поскакать вперед, приглядеть овцам удобную ночевку, себе на ужин мамалыги наварить, а там и отец со стадом нас нагонит.
Увидав подходящее место, отвязали мы переметные сумы, костер разложили, стали отца ждать. Ждем-пождем, солнышко вот-вот закатится, а стада все не видать. Сидим мы, ломаем голову, чего делать-то, и вдруг видим — по равнине шар черный катится, прямиком на нас. А как подкатился он ближе, узнали мы нашего пса, мчится во всю прыть, ровно медведь мохнатый, язык вывалил, одно ухо отрублено, кровь на шею стекает. Кинулся он нам под ноги, мордой тычется, нюхает, когтями землю дерет и скулит жалобно, будто сказать чего хочет. Меня точно огнем обожгло, а брат стоит белый как мел. Похватали мы ружья, вскочили на лошадей и поскакали назад. Прискакали на место и что же видим? Овцы сбились кучей, а за ними лежит навзничь отец, жестоко избитый, ятаганом пораненный. Однако живой. Приподнялся он, показал на тропу и еле слышно промолвил:
— Колокольцы… Серебряные… Похитили… Догоните!
Мы — опять по коням, поскакали, как бешеные. Кобылы наши за зиму отъелись, набрались силушки, так что морды вскинули, гривы буйные распустили — попробуй догони! Неслись так, будто по пятам за нами чума гналась. Побожились мы с братом — хоть на край света поскачем, но догоним разбойников, мамины колокольцы отымем.
Сколько мы так скакали, не скажу, не знаю. Не в себе был, плохо соображал насчет времени. Помню только, что проскочили мы через какую-то дубовую рощицу и опять перед нами открытое, ровное место. И тут увидал я впереди двух арнаутов, у каждого торба через плечо. Оба, видать, в тревоге, бегом да бегом, торбы прыгают, будто в них белки живые сидят. Заметив нас, арнауты хотели нырнуть в кустарник — дубнячок там рос низкорослый, но густой. «Коль нырнут туда, — думаю, — ищи их потом, свищи». Осадил лошадь на всем скаку, ружье вскинул, прицелился. Выстрел — и один арнаут покачнулся, упал. Второй швырнул торбу в кусты, сам за нею нырнул и точно сквозь землю провалился. Спешились мы с братом и — к убитому. Тронули его, а у него в торбе колокольцы звяк-звяк. Ну, забрали мы их, вскочили в седла и поскакали назад, отца спасать. Он еще живой был. Освежевали мы четырех ягнят, закутали старика в шкуры, на кусок рядна положили, два прута в рядно продели и на плечи. Овец собрали — и в путь-дорогу.
Двое суток шли мы без передыху, покуда не добрались до наших гор, в лес не вступили. Остановились дух перевести, лицо старику ополоснули, шкуры сменили, и только после того пришел он в сознание и с грехом пополам рассказал, что случилось-то.
Как, значит, ускакали мы тогда с братом вперед и остался он со стадом один, взбрело ему в голову вынуть из сумы серебряные колокольцы и привязать на шею козлам. И мало того, что привязал, так еще взялся на волынке играть. Долго ли играл, неизвестно, но вдруг собаки лай подняли. Обернулся он и видит: двое арнаутов поймали козлов, норовят серебряные колокольцы снять.
— Эй, эй, соседи, негоже так! — крикнул наш старик, но тут один арнаут наставил на него пистолет. Старик взмолился, двух баранов предлагал задаром отдать, только чтоб колокольцы не трогали, но у тех поганцев глаза, вишь, разгорелись, нипочем не отступаются. Один уже взялся за нож, ремни резать, на которых колокольцы подвешены. У отца в глазах темно стало, замахнулся он на арнаутов герлыгой, пес тоже на них кинулся, но арнауты выхватили ятаганы, ранили отца в плечо, наземь свалили и давай бить смертным боем. Так, погань грязная, отделали старика, что не довелось бедняге родного села увидеть. Три дня несли мы его через горы, три раза шкуры ягнячьи меняли, а на четвертый день поднялись на перевал Калычборун — чабанье убежище.
Только успели туда подняться, налетел ветер, повымел тучи и проглянуло небо, синее-синее, как бывает нанизь из бусинок, солнышко засветило, а лес загудел, застонал… старика нашего жалеючи. Понял отец, где мы, прислушался и рукой шевельнул:
— Привяжите колокольцы, сыны!
Привязали мы их, взвалили носилки на плечи, овец впереди себя погнали. Запели с поднебесной выси колокольцы серебряные, друг перед дружкой стараются, то вместе поют, то поврозь. Тут и ветер подхватил их песню да понес ее ввысь и вширь, потом обронил, рассыпал по ущельям и захлебнулась она, точно в слезах горючих.
Не знаю уж, сколько еще мы шли, вдруг чую, носилки подрагивают. Обернулся, гляжу: это у брата плечи трясутся… Помер наш батюшка… Глаза голубые, еще не помутненные, улыбается. От радости один ус вверх задрался, да, видать, недолгой была та радость, второй ус шевельнуть не успела — душа вперед нее упорхнула вдогонку песне заветных маминых колокольцев.
*
Там и схоронили мы отца — под стройной высокой пихтой, чтоб каждую весну приходили к нему чабаны и слышал он печальные звуки колокольцев и кавала.
Перевод М. Михелевич.
КОЗИЙ РОГ
Начало этим кровавым событиям положило насилие. Дели Мустафа, полевой сторож из Эркеча, проник в дом Караивана из Загорья и надругался над его красавицей женой. Караиван в ту пору был при овцах, в горах. Беззащитная женщина от горя и ужаса лишилась рассудка, такой и застал ее муж, когда вернулся домой. Посадил он ее на мула и отвез в монастырь святых Козьмы и Демьяна, что под Кукленом, в надежде, что излечит ее вода чудотворного источника. Однако бедняжка вскоре испустила дух и там же, возле Кукленского монастыря, была предана земле.
Схоронив жену, Караиван от злобы и отчаяния сам подпалил свой дом и вместе с десятилетней дочерью Марией ушел из села, поселился в овечьей кошаре высоко в горах. Девять лет одиноко прожили в той кошаре Мария и ожесточившийся ее отец. В родном селе Караиван не показывался, боясь разбередить воспоминаниями незажившую рану, встреч с людьми избегал, разнесся слух, что он повредился разумом, и уже никто не решался проходить вблизи его кошары. Все тропки-дорожки заросли там травой, глушь да безлюдье, лишь изредка доносился оттуда дикий гогот да козье блеянье, и только это напоминало о том, что где-то высоко, среди диких скал, в царстве медведей и орлов, еще живет Караиван.
Мало-помалу люди позабыли о Караиване, никто даже и не подумал о нем, когда Дели Мустафа был найден убитым, причем не ятаганом, не кинжалом — в груди у него торчал козий рог, забитый дьявольской чьей-то рукой.
Турки пришли в ярость. Кинулись искать убийцу Мустафы, но следов никаких не обнаружили. Выяснилось только, что за неделю или чуть больше перед тем, как ему погибнуть, он вместе еще с несколькими оголтелыми дружками силой затащил в лес одну молодуху; уксуснику Роксани из Станимаки, вымогая у него деньги, надел на голову раскаленный треножник, а у одного подрядчика угнал коня — словом, бед натворил достаточно, чтоб кому-то захотелось свести с ним счеты.
Не успела еще засохнуть земля на могиле Дели Мустафы, как кто-то выстрелом из ружья уложил спахию Кара Мемиш-Дервиш-агу, когда тот попивал кофеек у себя на балконе. Пуля прилетела из ближнего вязового леса, когда соловьи выводили свои вечерние трели и мирно журчала чешма, построенная агой «во славу аллаха». Забегали сыновья и конюхи Кара Мемиша, сторожа и работники, обшарили в лесу каждое дерево, но убийцу так и не нашли. Кара Мемиш держал у себя в гареме девять болгарок, многие матери из-за него слезы лили, многие крестьяне ходили в синяках и ссадинах, так что убийцей мог быть любой из трехсот его подданных.
На Успенье богородицы вновь пролилась кровь. Дело неслыханное и невиданное: на дороге в Узунджово, в местности «Орман боаз» убили турецкого начальника Хюсни и вместе с ним двух арнаутов, известных своей жестокостью. Арнауты были застрелены, а Хюсни проткнут козьим рогом. Рядом с убитыми спокойно щипал травку мул, переметные сумы на нем были набиты золотыми монетами. Ничья рука не прикоснулась к ним, не тронула. Погоня, поскакавшая искать разбойников, изумилась и заробела. Никаких следов не обнаружили, но одно уже знали: рука, что отсылает головорезов-турок к аллаху, вершит это не ради денег, а из мести.
Окрестности «Орман боаза» тщательно облазали. Погоня поднялась даже к Караивановым кошарам, но застала там только полоумного Караивана. Обросший, глаза кровью налиты, он сидел, просеивал просо. При виде турок полоумный захохотал, и они поспешили убраться подальше от этого зловещего места.
Миновала зима. Турки уже слегка позабыли об участи Дели Мустафы, Кара Мемиша и Хюсни. Но вот однажды козановские охотники — Алиш и Меко — набросились на одну крестьянку, работавшую у себя на поле. Не прошло и трех дней после этого «подвига» козановских насильников, как посреди ночи загорелся дом Алиша. Алиш в панике выдавил окно — дверь оказалась чем-то подпертой снаружи — и выскочил во двор, но тут обрушилась кровля, и его придавило пылающими бревнами. Прибежали соседи, отрыли его, он еще дышал, но кожа вся была обожженная. Его перенесли в чей-то сарай, но два дня спустя сарай загорелся тоже. Сторож, находившийся при Алише, удрал, а сам Алиш сгорел заживо. Сторож, правда, успел заметить поджигателя: рогатое чудище в звериной шкуре. Три дня сторожа трясло, зуб на зуб не попадал от страха.
Напуганный судьбой Алиша, второй насильник, Меко, заперся в доме, за каменной оградой, спустил с цепи свирепых псов и на всех четырех галерейках, выходивших во двор, поставил по работнику с заряженным ружьем. Месяц с лишком никто не переступал порога этого меченого дома. Меко сидел у себя, держа на коленях ружье, и пил, пытаясь заглушить голос страха. Он даже спать боялся. Чуть сморит дремота — тут же вскакивает и палит в потолок, где возились мыши. В селе поднималась тревога, сбегались соседи, собаки заливались лаем. Однажды ночью опять грянул выстрел, но никто на этот раз не всполошился, не прибежал. А утром работники нашли Меко распростертым на полу, ружейное дуло во рту, голова размозжена. Должно быть, одолел его страх, и он застрелился сам.
Разнеслась молва, будто шайтан сладился с крещеными и помогает им. Турки-охотники перестали ходить на охоту. Прежние удальцы теперь уже остерегались щеголять своей силой. Присмирели турки. Сидя в кофейне, рассказывали друг дружке фантастические истории о подозрительных шорохах, странных следах, таинственных предостережениях и предзнаменованиях. Турок уже не решался затемно оставаться в поле или же заходить в болгарский дом. Беднота вздохнула с облегченьем, повеселели запуганные стражниками да богатеями крестьяне: почувствовали руку невидимого заступника, не желавшего явить им себя, но не забывавшего отомстить за каждую обиду и неправду. Теперь если турок придирался к кому или косо взглядывал, ему советовали идти своей дорогой, а то как бы не увидать «козьего рога». Спахия из Кырджали не послушался совета, содрал с крестьян лишнюю подать зерном, а вскорости нашли его мертвым, голова в кадку с зерном засунута, в груди козий рог торчит. С той поры Козий рог, как нарекли в народе мстителя, стал кровавой угрозой для притеснителей-турок.
Опять зазвучали в селах Загорья волынки, девушки стали водить хороводы, молодухи украшать себя бусами и монистами, опять засверкали у них на поясах серебряные пряжки. В Караивановом селе плясали особенно весело, потому что среди тамошних жителей были самые искусные музыканты. Зачастили сюда женихи и невесты из окрестных сел — хотелось свадьбы играть под звуки кавала и волынки. А другие парни и девушки просто приходили поплясать на воле, ведь в тяжкие те времена не всюду и плясать можно было. И вот на одном таком гулянье появилась однажды статная девушка с пылающими очами. Плясала она так бойко, подпрыгивала так лихо, что заткнутый за ухо пион упал наземь. Девушка нагнулась за ним, и тут-то выпал у нее из-за пазухи и звякнул о булыжник козий рог. Смутилась она, сунула рог за пазуху и юркнула, скрылась в яркой праздничной толпе.
«Козий рог, Козий рог!» — ознобом пробежали эти слова. Смолкли волынки. Музыканты, вытянув шеи, искали глазами таинственную гостью, парни застыли, как громом пораженные. На беду кто-то из родных узнал в красавице девушке Марию, Караиванову дочку. Новость эта была великая, жгучая и безудержная. Такую не утаишь, не укроешь. Один цыган-мастеровой пересказал ее местному билюкбашии, и тот во главе большого отряда окружил Караиваново обиталище. Мария защищалась и пистолетом и кинжалом, а когда поняла, что спасения не будет, подбежала к краю скалы и — чем живой попасть туркам в руки — бросилась в пропасть. Размахивая толстой дубиной, «полоумный» Караиван раскидал всех, кто пытался связать его, пробил себе дорогу и скрылся в лесной чаще, увернувшись от турецких пуль, которые продырявили ему только штаны.
В хижине Караивана турки обнаружили мешок, полный заостренных козьих рогов, в яме для картошки нашли всякое платье — и цыганское, и колядников, и нищенские лохмотья, в которые бесстрашная мстительница и ее отец переодевались, отправляясь на свои ночные прогулки.
Вскоре после этих кровавых событий в кукленский монастырь святых Козьмы и Демьяна пришел оборванный человек с косой в руках и попросился в работники. Узнал ли кто из монахов в том косаре Караивана, неизвестно. Известно лишь, что летом свалила косаря лихорадка. В предсмертный час пожелал он причаститься и открыл исповеднику, кто он и как оказался в стенах монастыря. Из этой исповеди, пересказанной затем другим монахам и ставшей легендой, мы знаем, что после гибели жены владела Караиваном одна мысль — о мести, и что он долго готовился к тому, чтобы эта месть была страшной. Безумным он прикинулся для того, чтобы люди отступились от него, забыли. Из исповеди известно, что Дели Мустафа пал от руки Марии: однажды, когда сон сморил его на бахче, Мария накинула на него петлю, неделю водила по лесу с петлей на шее, точно собаку на поводке, а под конец воткнула ему в грудь козий рог и спихнула в реку. Для расправы с Кара Мемишем бесстрашная мстительница забралась на высокий вяз, росший возле его усадьбы, и три дня сидела без еды и питья, дожидаясь, пока старый сластолюбец выйдет на балкон. Там, на вязе, она сидела и все то время, что стражники обшаривали лес, можно сказать, у нее под ногами.
Дом Алиша Мария с отцом подожгли, швырнув за ограду вывалянный в дегте ком овечьей шерсти. В село они проникли, переодевшись продавцами уксуса. В общей суматохе их никто и не приметил. Пока напуганные турки суетились и наобум палили в ночь, Караиван с Марией подносили воду, гасили вместе со всеми пожар.
Все эти рассказы вселяли ужас, но особенно ужаснуло исповедника признание Караивана, что из желания отомстить за жену он восстал даже против божьего закона, задумав превратить нежную девушку в мужа-мстителя. Плохой стрелок, с изувеченной рукой, он на себя не рассчитывал, Мария была единственной его надеждой.
Девять лет, сдерживая ярость, тая в душе боль, дожидался он, покуда дочь подрастет, и все девять лет воспитывал ее, как парня. Одевал в мужское платье, коротко состригал волосы, научил стрелять и владеть ятаганом. Проворная, ловкая, Мария целыми днями карабкалась по скалам с отцовскими козами, в одиночку, не хуже старых, опытных пастухов, сражалась с волками, а стрелять выучилась так, что попадала в кабаний клык с трехсот шагов. Девять лет мял и выкручивал Караиван нежную девичью душу, призывая на подмогу бури и ветры, волков и медведей, употребил весь свой ум и хитрость, чтобы вытравить в дочери все женское.
Однажды он заметил, что дочь смотрится в медное блюдо — и тотчас переломал всю, какая была в хижине, медную посуду, переломал и в землю зарыл. Волосы Марии он не просто состригал, даже огнем опалил, чтоб и не росли вовсе. Прялки, ножницы, иголки — все, что бывает в женском обиходе, — выкинул, уничтожил, опасаясь, как бы не проснулась в дочери женщина. Зорко следил, чтоб не повстречала она мужчину — ни молодого, ни старого, и сумел воспитать дочь настоящим волкодавом, который, не зная пощады, вонзает когти в загривок врага.
Мария всегда шла впереди, отец, прихрамывая, плелся сзади, прикидываясь то нищим слепцом, то угольщиком, то продавцом уксуса. Она-то и придумывала всяческие хитрости, перепрыгивала, когда надо, через высоченные ограды, когда надо, стреляла и вонзала неприятелю в грудь козий рог. Долго все шло, как хотелось Караивану, но неожиданно произошло такое, что ввергло старика в смертный грех. Поджидая подходящего случая для расправы с Меко, Мария с отцом прожили больше недели под кровом одного чабана. Прятались там, ели, спали и вдруг все то, что целых девять лет Караиван безжалостно вытаптывал, проклюнулось, пробилось в девичьей душе: Мария-мстительница полюбила красавца чабана, и не подозревавшего о том, что под алой безрукавкой юного мстителя бьется пылкое сердце женщины. Блеск Марииных глаз, румянец, внезапно сменявшийся смертельной бледностью, открыли Караивану тайну дочери. Какая буря поднялась в душе этого сильного и страшного человека, какая сатанинская ревность затопила его сердце, можно судить по тому, что когда Меко покончил с собой и отец с дочерью покинули приютившую их пастушью хижину, Караиван — под предлогом, что забыл там огниво, — вернулся и убил чабана, чтоб Мария никогда больше не увидела его.
Не знал Караиван о том, что Мария уже уговорилась с тем чабаном встретиться в воскресенье на гулянье, а у Марии и мысли не было, что ее отец лишил жизни того, кого она полюбила всем сердцем. Узнала ли она после того гулянья про смерть любимого, или преступление отца осталось для нее тайной? Этого мы не знаем. Возможно, тут-то исповедь и оборвалась, а, может, исповеднику изменила память.
Кровавую эту историю я еще мальчишкой слышал от отца Аверкия, престарелого монаха из кукленского монастыря святых Козьмы и Демьяна. Жил он не в самом монастыре, а поблизости, в лачуге, которую построил своими руками. Говорили люди, что настоятель выгнал Аверкия из монастыря за то, что тот рассказывал про его воровство. Старый монах не знал о том, что настоятель пользуется расположением и поддержкой владыки и посему оказался на старости лет за воротами. Питался Аверкий плодами дикорастущих деревьев и подаяниями. Я не раз видел, как он толчет сухие кукурузные початки и, смешав с мукой, печет на камнях. Был он отчаянным табакуром, а курева купить было не на что. Проходя мимо его лачуги, мы, пастушата, слышали, как он выпрашивает у людей табачку и, бывало, подбирали на поле табачные листья и приносили ему, а он в благодарность рассказывал нам всякие страшные истории о временах туретчины. Одра из этих историй — о Караиване и его дочери Марии-мстительнице, прозванной также Козий рог. Монах, при котором началось его, Аверкия, монашество, был тот самый исповедник, от кого Караиван получил последнее причастие.
Отец Аверкий и сегодня будто стоит у меня перед глазами — на плечах выгоревшая ряса, ноги кусками кожи обмотаны, седые усы от табачного дыма точно в ржавчине. Каждый раз, когда он рассказывал о Марии, глаза его застилало слезами. Взволнованно сплевывая на пол крошки табаку, он заключал рассказ всегда одними и теми же словами:
— Неправд на свете много, а Мария одна! Потому-то и по сей день нету на земле справедливости!
Перевод М. Михелевич.
ГРЕХ
Привольная была жизнь, когда мы пасли овец Сейрекоолу в Сарышабанской долине. Старший пастух, Гочо, знал эти места, находил самые что ни на есть хорошие пастбища, и овцы у нас стали круглые, точно гайды. Когда они бежали, загривки у них так и тряслись. Бывало, Сейрекоолу как придет в кошару, глаз не может от них отвести. Да и не он один: тогда люди смотрели не на то, как ты языком работаешь, что болтаешь, а какие у тебя овцы и ягнята. По ним и судили, что ты за человек, чего стоишь.
А потому, куда бы мы с Гочо ни перегоняли отару, все старались пройти через соседнее село Алмали. Я овец гоню, а Гочо идет за мной немного поодаль — слушает, похвалит ли нас народ.
Я, правда, говорил ему, что уж слишком мы туда зачастили — село было наполовину турецкое, да и было это в прежние времена, при турках, но Гочо был упрям и слышать ничего не хотел: «У меня, говорит, револьверт за поясом есть, плевать я хотел хоть на турка, хоть на черкеса»…
И ровно сглазил. Смотрим как-то вечером: откуда ни возьмись — турки. Идет к кошаре Кантемир со своими головорезами. Здоровенные мужики. В сапогах, в расшитых кафтанах с галунами. Точно наши. Поверх кафтанов — патронташи, всякие висюльки да цепочки, а пояса оттопырились от заткнутых за них пистолетов и кинжалов. А у одного за поясом даже джезве — кофе варить. Спокойные. Никого и ничего не боятся. Что мы — райя! «Тащи барашка! Зажарь! Тащи ракию! Давай закуску!» И мы тащили. Нас двое, а их четверо. У нас один пистолет, а они оружием увешаны.
Ну да ладно. Съели они барашка, поправили чалмы и ушли. Один из них, который был в сапогах выше колен с отворотами, сказал, что послезавтра они опять придут и велел приготовить им двести лир… Мы говорим, что мы люди бедные, чужой скот пасем, а они знай свое: «Чтобы послезавтра деньги были!»
Ушли они, я Гочо говорю: «Видишь, что вышло из наших прогулок по Алмали… Ты все своим револьвертом хвалился, погляжу я теперь, что ты будешь делать с этими разбойниками!»
— Придут, убьем! — отвечает Гочо.
А они взяли и вправду пришли. Властей они не боялись. С каймакамом они, видно, сговорились, он наверняка с ними в доле был, а потому действовали без всякой опаски. Шагают себе вчетвером, не таятся. Смотрю, Гочо про револьверт и не вспоминает. Говорю ему: «Гочо, дай-ка мне револьверт, а то, как я погляжу, ты его вынимать не собираешься!» А револьверт был хороший, с пятью патронами. Черногорский, с барабаном. Сунул я его за пояс и жду, когда турки поближе подойдут, «Ну что, принесли деньги?» — крикнул тот, что в сапогах с отворотами. «Нету, отвечаю, денег! Ступайте подобру-поздорову и в кошару не входите…»
— Ах так! — Выхватил он из-за пояса кинжал и, матюкаясь, бросился к нам.
Заорали и остальные, но я вскинул пистолет, и когда прогремел выстрел, увидел, что один из них схватился за живот и упал. Выстрелил я и в того, который шел следом за ним — тот тоже грохнулся на землю, а два других смельчака пустились наутек.
— Что ж ты наделал? — запричитал Гочо. — Теперь эти двое, которых ты упустил, вернутся и нас прикончат.
— Они-то, может, и вернутся, только я их не стану дожидаться. Убегу в свободную Болгарию, прямо в комитет![5]
У комитета тогда было отделение в Чепеларе, а граница проходила через перевал на Рожене.
— Ты, — говорю, — не стрелял, тебе бояться нечего. В конце концов все знают, что они разбойники!
И зашагал я, да так прытко, что через два дня добрался до комитетского поста в Караманице. Он был у самой границы, чтобы комитам легче было ее туда и обратно переходить. Рассказал я им, что со мной приключилось, а они отвели меня к воеводе. Завязали мне глаза, чтобы я не мог дороги запомнить. А когда сняли повязку с глаз, то вижу, очутился я в комнате, посредине стол, на столе — лампа, за столом сидит воевода, на груди крест-накрест два патронташа, молодой, взгляд колючий. Смотрит хмуро, ни тебе «здравствуй», ни «добро пожаловать».
— Если ты, — говорит, — шпион, мы тебя живьем изжарим!
— Я от турок бежал, а ты — «шпион». Да ты понюхай, я весь козлом провонял.
— Я тебя, — говорит, — не нюхать собираюсь, а проверять. И говори мне не «ты», а «господин воевода». Все, ступай и жди указаний!
Отвели меня комиты в хижину, а я все про воеводу думал: как он на меня глядел и грозился живьем изжарить. Нехорошо стало у меня на душе, да деваться некуда, назад мне ходу не было. Комиты мне прямо сказали: «Ты в наших руках, по ту ли сторону границы или по эту. Хоть там, хоть тут, мы везде тебя найдем. Не вздумай бежать!»
Такая была моя первая встреча с моим будущим воеводой, прозвище его было Калыч[6]. Он и впрямь проверил, кто я, потом дали мне оружие, зачислили в отряд. Делалось все ради Болгарии, а потому я подчинялся. Говорили: «беги!» — бежал, «стреляй!» — стрелял… «Эти ружья туда перенеси!» — переносил…
Чтобы «окрестить» меня, чтоб не мог я от них уйти, посылали меня все на кровавые дела. Поймают старые комиты шпиона, а мы, новички, его сбрасываем в Каракуз… Это была страшная пропасть, бездонная, в самой чаще леса. Столкнем человека и хоть бы звук какой. Сбрасывали мы, как нам приказывали, не спрашивая, за что. Раз воевода приказал, значит, так надо.
Был в отряде один боец, Фертига его звали, я с ним подружился. Рослый он был, крепкий, усы густые, закрученные кверху. На теле у него старые раны были, незарастающие — на Шипке он сражался. Стрелял без промаха. Когда мы напали на конак Хаджи Салиха в селе Райково, он меня, раненного, за ноги вытащил. Трое турок в дом меня затаскивали, а он снаружи один тянул и спас-таки. С тех пор я от него ни на шаг не отходил. Вместе мы ели, вместе спали, чтоб теплое было.
Был он мастер на все руки. Очень любил, когда мясо сварится, раздробить кости и мозг высасывать. «Нет, говорит, слаще водицы ключевой и косточки мозговой». И не позволял мне кости выкидывать.
Все у него здорово получалось, но Калыч назначил своим помощником не его, а Даракчию, потому что Даракчия всегда отвечал «Слушаюсь!», а Фертига иной раз возражал. Когда мы проржавевшие ружья стали продавать крестьянам, в турецкой части Болгарии, один Фертига осмелился сказать воеводе, что так не годится. Ружья были из тех, что Россия завезла в русско-турецкую войну народ вооружать. Потом, чтоб они не достались англичанам, их закопали в землю, а мы этими ружьями решили воспользоваться. Отрыли их, свалили в кучу — почти тысяча ружей оказалась… Попробовали из них стрелять — не стреляют! Калыч говорит: «Продавать будем! Организации деньги нужны». И начали мы их продавать от имени организации по пять лир за штуку. Вот тут-то Фертига и воспротивился:
— Кому это мы ржавые ружья продаем? Тем, кто завтра восстание подымет? Мы же их на смерть обрекаем!
Калыч велел ему замолчать, это, мол, дело верховного комитета. Комитет называли «верховным», потому что он находился в Софии. Поэтому и нас прозвали «верховистами», чтобы не путать с «внутренними» — другой организацией, которая боролась за освобождение оставшихся под турками болгарских земель.
Пять тысяч лир собрали мы от продажи ружей, а все мало. Наверху требуют: «Еще… еще». Поговаривали, что хотят пушки закупить, а для этого большие деньги нужны. Опять же ради денег напали мы на конак Кочоолу, турка из Энуздера, который награбил немало добра. Фертига предлагал один план — нагрянуть в село, схватить Кочоолу, когда он будет молиться в мечети, и отнять золото. Но воевода этот план не одобрил и приказал напасть на Кочоолу, когда тот был в конаке. Взялся сам лично руководить нападением… Но не сообразил, что конак охраняется, что каждый из слуг Кочоолу, а их было человек десять, а то и больше, вооружен, и каменная ограда вокруг конака метра два с половиной. Настоящая крепость!
Воевода думал, что, как только мы на них нападем, они тут же попрячутся, а вышло по-другому. После первого же нашего выстрела они заперли ворота и открыли стрельбу. Мы палим, они палят… Наши было полезли на ограду, но их встретили пулями, пришлось им вернуться. Достали мы топоры, принялись ворота рубить, а воевода обнаженной саблей размахивает, воздух рубит и командует: «Вперед!» Но вдруг охнул и схватился за плечо. Ранили его, и сабля выпала у него из рук. Фертига в это время прорубил ворота и почти ворвался в конак. Вот-вот, — и он был бы у нас в руках, но тут воевода дал приказ трубачу трубить отступление. И слышим, труба трубит: ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру. Некоторые стали отходить, Фертига заорал: «Назад», — еще немного и мы взяли бы конак. Но люди привыкли слушаться трубу. Побежали от почти что выломанных ворот и скрылись в лесу за конаком, где уже был воевода, перевязанный и недовольный. Он сел на коня, и мы вернулись в лагерь, два человека наших было убито, один ранен.
Так закончился этот бой.
Воевода остался рану лечить, а отряд с его помощником отправился в засаду поджидать богача Хаджи Нурию из Смиляна, чтобы теперь у него деньги отнять. А там пастушонок нас выдал. Хаджи Нурия ускакал, троих, которые с ним ехали, мы положили — в общем только зря порох извели…
Засаду на Хаджи Нурию мы устраивали на турецкой стороне. Надо было возвращаться через границу, а она охранялась, и мы решили переходить ее, когда про нападение на Хаджи Нурию позабудут, а пока побродить еще в горах, зажарить одного-двух барашков, свести кое-какие счеты с тамошними богатеями.
Шесть дней отсиживались мы в лесу, на седьмой видим — идет по дороге мул, доски тащит. Погоняет его Буруштлия, связной нашего отряда. Ступает медленно, часто останавливается, озирается по сторонам. Догадались мы, что он нас ищет, вышли на дорогу. Он сказал, что привез письмо для помощника воеводы, и мы отвели его к Даракчии. Он отдал ему письмо, а мы оставили их одних, чтоб не мешать им по секрету поговорить. Поговорили они, Буруштлия стал спускаться, а Даракчия подошел к нам. Замечаем, что он не в духе. Ждем, когда он нам что-то скажет, он молчит. Будто онемел. Цигарку за цигаркой сворачивает, попыхивает ею и молчит. Какие новости, спрашиваем наконец.
— Все, — отвечает, — в порядке, но в любую минуту может нагрянуть карательный отряд, пускай Фертига пойдет покараулит!
Мы сидели как раз барашка доедали. Фертига встал и ушел караулить. Осталось нас восемнадцать человек. Даракчия собрал нас в кучку, вытащил из-за пазухи письмо и открыл нам, что это смертный приговор Фертиге. Следовало его убить этим же вечером… Приказ руководства.
Никто ни слова не произнес. Каждый уставился в землю и молчит. Если воевода вынес смертный приговор Фертиге, ополченцу, старому бойцу, то что же мы могли поделать?
Порешили, что трое, в том числе и я, выстрелят в него одновременно, но только когда он заснет.
Я, как услышал это, так прямо весь застыл, но не посмел отказаться или возразить, потому как знал: скажешь слово, сам вместе с ним, а то и раньше на том свете окажешься. Не знаешь ведь, кто за тобой следит. Кто тебя предать может. Страшно это быть в руках того, кому дано право чужой жизнью распоряжаться. Наклонят тебе, как теленку, голову, и зарежет тебя дед Петр, мало того, сначала нож наточит, а ты, склонив голову, будешь ждать, когда он тебя полоснет. Потому-то цепенеешь и подчиняешься. Скажут: «Режь!» — зарежешь. Скажут: «Коли!» — заколешь. Ничего на свете нет хуже страха. Думал я сказать побратиму, чтоб он спрятался в лесу, или даже вместе бежать из отряда, но страх до того меня сковал, что, по правде говоря, ничего я не сделал.
Приказано было лечь нам с Фертигой рядышком, как мы всегда ложились, а когда он заснет, выстрелить в него всем троим одновременно. Так оно и вышло. Вечерам наелись мы опять жареного мяса. Фертига ел за двоих и почему-то был очень веселый. Потом мы легли, обнялись, как обычно, и он уснул. А я притворился, что сплю, и все думал, шепнуть ли мне ему на ухо, какая ему грозит беда. Шепнуть или не шепнуть? Шепну, значит, надо тут же нам бежать, но не заговорят ли у нас за спиной маузеры? Не даром же и мне велели стрелять, хотели, выходит, меня испытать, потому что знали, как мы друг друга любим: выстрелю — хорошо, а не выстрелю, так и меня заодно с ним прихлопнут.
Мысли эти в голове у меня молотами стучат. А побратим уже спит, и другие двое толкают меня в бок, чтоб я вставал. Прицелились мы и выстрелили. Фертига вдруг приподнялся, вскочил на ноги — костер еще горел, и все вокруг было видно. Вскочил как был, с головой, закутанной башлыком, хотел его сбросить, но в эту минуту мы снова выстрелили. Он пошатнулся, замахал руками, заревел, точно вол, которому всадили нож в шею, но убить не убили. Мы в него выпускаем одну пулю за другой, а он не падает. Скала, а не человек. Кровь из него брызжет, а он мечется, тянет с себя башлык, пока не упал башлык у него с головы и глаза наши не встретились, и потянулся он за пистолетом. Хорошо, Лета выстрелил в него, и он упал, но падая, все в упор на меня смотрел. На одного меня! Сгреб сухие листья, да так и застыл с листьями в руке, а глазами уставясь в меня…
Так и стоят передо мной с тех пор эти глаза.
После этого я ни на кого взглянуть не смел. И все тошнота вроде к горлу подступает, а никак не стошнит. Решил я в конце концов уйти из отряда. Все, что было на мне, сжег, убежал, и опять в чабаны подался. Купил лампаду, повесил ее на самую толстую пихту и каждый вечер зажигал, но и молитвы мне не помогли. Свалила меня лихорадка, чуть богу душу не отдал. Однако помаленьку оправился, встал на ноги, но глаза Фертиги остались — смотрящие на меня в упор глаза моего побратима, когда душа его с телом прощалась.
Грех остался. Все со временем забывается и вроде меньше становится, а грех, чем ты старее, тем он тяжелее и страшнее… Ворочаешься с боку на бок, а он все давит, изводит, так что все больше ракии надо, чтобы боль эту валить, потушить.
Вот что значит грех совершить, вот что значит — совесть тебя гложет…
А теперь, Трифчо, налей-ка по одной!
Перевод М. Тарасовой.
ЗАВЕТ КАТЕПАНА[7] НИКОЛЫ
…О, Видул, Видул, пошто не послушал я тебя!
Не послушал, а теперь, закованный в кандалы, жду смертного своего часа. Надо бы мне было схватить царевых посланцев, как только они вошли в мою крепость, — предупреждал ты меня, а я тебя не послушал, Видул. Думал: смогу их убедить и царство спасти, ан не вышло. Обманула меня надежда остаться верным долгу в тяжкий для державы нашей час.
А посланец царев, Гульдар, ясно мне сказал: «Не послушаешь его светлости, пропадешь. Хочет он, чтобы ты на болярском совете в Тырнове одобрил раздел царства».
Я ему ответил: «Я против раздела и, пока я катепан крепости, никого я не боюсь». Но обманулся я и в начальнике моих стрелков, и вот сижу окованный. Бог свидетель, Видул, да и не один бог — все видели, что я сделал, когда накинулись на меня царевы прислужники — троим головы проломил, двоих мечом пропорол и не набрось изменник мне веревку на шею, все кончилось бы не так, как задумал Иван-Александр. Увы, слишком положился я на свой меч и тем себя погубил.
Прежде чем к главному перейти, дам тебе совет — бойся, Видул, обмана и не повторяй моей глупости, не бери на службу изменника, хотя он предал не меня, а моего врага. Кто одного предал, тот и другого предаст, коли ему выгодно окажется. Царь это знал и нашел, кого из моих слуг подкупить, чтобы меня одолеть…
Прости, Видул, начал я издалека, но многое мне надо еще сказать, а времени нету. Поутру придет в подземелье Гульдар и случится одно из двух: либо поеду я в Тырново и на, болярском совете отвечу «да» на предложение царя Александра поделить царство между двумя его сыновьями, либо здесь, да без промедления, смерть приму.
Попросил я прислать мне дьякона из церкви вроде бы для того, чтобы исповедаться, а по правде сказать, чтоб записал он то, что я ему велю, и передал тебе и сыну моему, коли он сумеет убежать из Тырнова прежде, чем туда дойдут худые вести про меня. (Дьякон мне верен — я его мать у турок выкупил.)
Но не буду терять времени. Думал я, Видул, долго думал, что мне делать. Скажу «да» и останусь катепаном Брандовея, буду приказывать моим людям — ты сам знаешь, как сладко приказывать. Знаешь, что значит ехать верхом во главе воинов и слышать за собой и вокруг себя «хрясь, хрясь» — треск костей, рассекаемых острым мечом.
А у моих воинов мечи острые и сердца горят ненавистью к басурманам, что три раза опустошали наше царство и уводили в плен и рабство всех, кто не успел попрятаться… Мы-то надеялись, что царь поведет нас против неверных, а вместо этого Александр замыслил поделить надвое наше царство! Враги сплачиваются и объединяются, а мы разобщаемся!
Не страшны нам, дескать, басурмане — убеждали меня царевы посланцы… Сила, мол, креста непобедима… Говорят это мне, — мне, кто всю жизнь в битвах провел и за крестом шел, но ни разу еще не видал, чтобы крест сам замахнулся, сам врага поразил или отбросил. Топтали басурманские кони знамя Христово на моих глазах и перед божьими очами, что смотрят с небес, но подал ли бог кому знак, что видит, прогневался ли на кого?
Не страшны, мол, басурмане — увещевают меня те, кто их и в глаза не видел… Говорят это тому, кто у басурман пленником был, на цепи у них три месяца сидел! Эти басурмане вроде бы дикие, да чуть кончится сражение, ставят мавзолеи над убитыми гази и провозглашают их святыми. Фракия полна этих мавзолеев. А видел ли ты, Видул, памятник над могилой нашего воина или болярина? Оглянясь, посмотри и, коли увидишь где — порадуй меня этим известием.
Чему нас учит Священное писание (да простит меня господь!)? Учит нас: «не убий, убийство — грех», а их вера, басурманская, говорит им, что за убийство во славу веры и пророка ждет их вечная жизнь за гробом, вечное райское блаженство. Их воины не боятся смерти, а с радостью умирают в бою!
А еще они знают, что коли уцелеют, то получат нашу землю и наши крестьяне будут работать на них.
Басурмане, мол, неопасны. И кто это твердит? Сам царь. Словоблудие — вот что такое его лживые слова… Да! Ложь перед лицом врага! Чтобы вооружиться, басурманину нужна палка да железный наконечник. Один кузнец за день делает двести наконечников, было бы железо, а оно у них есть — венецианцы им дали его целые горы, потому что ненавидят греков и хотят захватить всю торговлю в свои руки…
А что ест воин пророка? За весь день горсть проса и миску йогурта. Кислого молока, разведенного водой. И каждый из этих воинов может завтра стать пашой, если прославится в битвах. Султан не спрашивает, ни чей он сын, ни кто его отец с матерью, а назначает его пашой за его собственные дела. Оттого-то эти воины так и опасны, что это войско будущих пашей!
Понял, Видул?
А султаны эти, над которыми наш Александр потешается за то, что они не знают, что такое вилка и ложка, эти султаны, сев на престол, убивают всех своих братьев… Убивают их по закону божьему, с разрешения и согласия их пророка. Ибо поняли они: нет ничего опасней для государства, чем разделение его на маленькие царства. Нет ничего опаснее носящих корону братьев, которые готовы выколоть друг другу глаза.
Вон сербские цари, братья родные и двоюродные, перебили друг друга! Да и мадьярские и византийские… Разве не ослепил Андроник отца своего? Разве не зарубил своего брата Исаак Первовенчанный? Мы слепы, и смотрим, да не видим, а басурмане видят. Оглядываются назад и смотрят вперед. И далеко видят. Убивают наследников престола, чтобы иметь сильного правителя, сильное государство, единое и неделимое. А мы — наоборот.
О царь, слепец, неужто ты ничему не научился за эти тридцать девять лет, пока правил Болгарией? Неужто ты не опомнился? Неужто не содрогнулся от ужаса? Неужто ума не набрался?
Нет и нет! Нет, ибо не слышишь ты вокруг себя ничего, кроме осанны. А в Священном писании сказано: «Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его». Царь наш прогнал непокорных боляр, дабы никто не мог говорить ему правду в глаза, а оставил угодливых монахов, чтобы они льстили ему и славили его. Собрал их, чтобы они писали книги и восхваляли его за то, что он «христолюбив» и «светильник», что поступь у него величава и щеки румяны. И за это он роздал половину земель монастырям, чтобы было где жиреть монахам. На святую Богородицу Петричскую, Видул, царь Александр Тырновский отдал им все земли, что между рекой и Красной стеной, со всеми лесами, лугами, людьми, селами и стадами. С этих земель катепан крепости, бывало, собирал триста вооруженных всадников, а теперь они обрабатывают виноградники отца игумена, чтобы было чем заливать брюхо служителям божьим.
Говорю это не потому, что ненавижу Александра. Нет! Он из начальника стражи в Жабокреке сделал меня катепаном Брандовея, но те слова, Видул, что ты тогда мне сказал, я запомнил и никогда не забуду: «Царь назначает тебя катепаном не из благодарности — такого он не делает, а оттого, что он сообразителен и знает, что не найти ему лучшего катепана для пограничной крепости, чем ты, раз ты, имея всего восемьдесят человек, сумел отогнать триста всадников и принести ему седла двенадцати из них»…
Знаю: скажи я перед всеми болярами «да» — могу стать катепаном и Тырновграда и первым среди приближенных царя… И лесов, где я буду охотиться, будет у меня больше, чем у Драгшана… Будут у меня и кони, уступающие лишь царским, и меч с золотой рукоятью.
Знаю, что так будет, но знаю, Видул, и другое: недолгой будет моя радость, да и царева тоже, ибо царство, поделенное на два, все равно завтра или послезавтра растопчут копыта басурманских коней… Ежели мы не опомнимся и не объединимся. Ежели не сохраним царства в целости и не обережем сами себя.
Знаю, что ничтожно это «ежели», знаю, что надежда слаба, но коли сбудется она, то государство наше будет спасено. Коли то, что меня нет на совете, заставит других призадуматься — боляр и катепанов, у которых Александр собирается для вида просить согласия на раздел… Коли известие о моей смерти заставит Александра отказаться от раздела…
Я этого не увижу, меня завтра похоронят, не отпевая, и не на кладбище, а здесь, под полом этой кельи.
Мне уж и могилу выкопали, чтобы сильнее обуял меня страх перед смертью. Придумал это Гульдар, а может, и царь его подучил, чтоб меня запугать… Эх, не успел я ему, Гульдару, голову отрубить, когда меч был у меня в руке, а теперь поздно. Он вроде как ждал этого и отскочил к дверям, да и кольчуга была у него под одеждой. Но какой толк отрубать голову Гульдару, какой толк, коли пустая царская голова надумала делить царство, она-то все равно бы осталась, а она выше всех в царстве.
О чем только не передумает человек, когда он смотрит на свою могилу. Думаю и я. Не стану лгать, будто все мои мысли в этот миг лишь о разделе государства. И о басурманах, что идут на нас с Востока. Грешные мысли барабанами бьют мне в уши: «Пошто сам против себя меч обращаешь, человече? Пошто по доброй воле с белым светом расстаешься? И со всем, что есть на нем? Ты, Никола, катепан, что ведро вина выпиваешь и по три дня охотишься, что зубами кости жареного барашка, как соломинки, разгрызаешь? А сколько еще на свете барашков, которых можно зажарить! Сколько рыбы в реках… (Ох, до чего я люблю ушицу.) Скольких еще кабанов можешь ты убить, на скольких быстрых конях скакать… Скольких жен перелюбить. А ты расстаешься с этой землей и со всеми ее утехами…
Прощай, Видул…
Дьякон скажет тебе, где меня зароют, но ты не ищи этого места, кому нужны чьи-то кости? А письмо мое царю, прошу тебя, прочти и ему передай.
Письмо царю
От Николы царской милостью катепана Брандовея — поклон!
Царь, сказал я твоим посланцам «нет». Повторяю это и тебе.
Лучше умру, но не приду на твой царский совет и не соглашусь, чтобы ты делил царство между сыновьями.
Я, царь, не видал еще, чтоб глухой стал слышать, чтоб слепой прозрел, а глупец поумнел, но коли у тебя осталась хоть капля разума, положи в один мешок сына своего Страцимира, а в другой — Шишмана, брось жребий и кинь одного из них в Янтру. Пусть останется у тебя один сын и один царь у Болгарии в этот грозный для державы нашей час. Потом собери войско и двинь его на басурман. Эх, быть бы мне начальником этой конницы! У тебя попросил бы я лишь железа и корма для лошадей. Вихрем пронесся бы я от Филиппополиса до Одрина. И клянусь тебе, вихрь этот смел бы все на своем пути…
Пошто, о слепец, сооружаешь ты крепость за крепостью? Пошто переводишь камни и известь, чтобы прикрыть стенами грудь воинов? Взгляни на басурман — строят ли они крепости? Нет, они их разрушают: Димотику они сровняли с землей. От Галлиполи не оставили камня на камне. Они не строят крепости, потому что не обороняются, а нападают. Воины их уповают не на стены, а на свои мечи и свою силу. Взгляни, в какое войско они превратили наших сыновей! В каких янычар!
Забудь о крепостях! Это крепости, уже отданные врагу. Крепость воина — сердце. Воин тогда воин, когда он сражается и побеждает. Купи железа, хлеба и овса. Вели согнать коней! Отрежь языки твоим льстецам, что предают тебя своими елейными речами. Выбери мужей достойных, поставь их во главе войска и поведи его, а не то покорят нас прежде, чем мои кости истлеют в земле.
Долго ты был глух и слеп, Александр. Это говорит тебе тот, кто стоит одной ногой в могиле… Страх смерти не самое сильное на свете. Я, Никола, не испугался смерти и предпочел с жизнью расстаться, чем сказать «да» и одобрить твою царскую глупость.
Кланяюсь тебе из могилы.
Катепан Брандовея.Перевод М. Тарасовой.
ОДОЛЕЛ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК
Бук этот попался мне в октябре. Медно-ржавая листва его еще не облетела, и он походил на запахнувшегося в кожух старика, что боится скинуть свое лиственное одеяние раньше, чем весеннее солнце согреет крутое ущелье Татарицы. На стволе его были видны обломанные сучья с черными отверстиями в середине — странно подпухшие пьяные глаза, злобно уставившиеся в соседние пихты и сосны. Словом, старый засохший бук подлежал рубке, и я, лесничий, кивнул смотрителю участка Маринскому, чтоб тот его маркировал.
Но вместо того, чтоб двинуться к дереву с топором, смотритель остался стоять на месте, опустив руки.
— Товарищ лесничий, а п-правильно ли будет? — запинаясь, произнес он. — Место крутое, пусть себе стоит, склон держит!..
Наверное, надо было задуматься и над деревом, и над необычным поведением Маринского, но времени на это не было, и я резко приказал ему выполнять то, что велено. Последовала короткая пауза, и топор застучал по дереву.
В мае, снова обходя участок, я с удивлением обнаружил, что бук стоит себе прямехонек, даже горделивее прежнего. Осенние листья опали, открыв его худосочное тело. Смотрел он на меня своими подпухшими черными глазницами как-то насмешливо. Дерево помиловали. Номер был старательно стерт и замазан мокрой землей. Маринский был в отпуске, и гроза, которая должна была обрушиться на его голову, на этот раз рассеялась; я не сомневался, что это его работа. Маринский относился к лесу и деревьям, к высоким скалам и ветрам, как к живым существам, и вполне мог вымарать номер, чтобы спасти дерево, которое бог весть почему ему полюбилось.
Я приказал срубить дерево, не зная, что в нем таилась частица человеческой судьбы.
Не прошло и трех-четырех дней, как ко мне пришел лесник, замещавший Маринского, и доложил, что бук срублен и что в стволе его обнаружен ружейный патрон. Это меня заинтересовало, тем более, что патрон плотно врос в древесину. Я решил сходить на Татарицу.
На другой день, еще до восхода солнца, мы тронулись в путь. На этот раз дорога показалась мне долгой и утомительно петляющей. Только на лесосеке сердце успокоилось, и я быстро пошел туда, где недавно стоял старый бук. Сейчас от него остались лишь куча щепок, сучья и узловатый ствол. Ствол был плотный, совершенно здоровый. Только самая сердцевина, толщиной в кулак, прогнила, и в нее-то врос, на полтора сантиметра выйдя в здоровую часть, позеленевший патрон. Очевидно, он попал сюда давно, но каким образом? Будь это пуля, можно было бы предположить, что в дерево стреляли. Но чтоб патрон вместе с пулей попал в дерево и там засел — это показалось мне странным. И тогда в голове сложилась уже не догадка, а твердая уверенность, что патрон связан как-то с поведением Маринского и что только Маринский может распутать этот запутанный узел. Я велел отрубить от ствола кругляк вместе с патроном и с нетерпением принялся ждать, когда Маринский вернется из отпуска.
В первый же день, когда он вышел на работу, я вызвал его в кабинет, вытащил из стола кругляк с патроном и положил перед ним. Я думал, что он смутится, но он, видимо, уже знал о дереве. Маринский внимательно оглядел патрон, ковырнул его, проверяя, как крепко он врос, и после этого поднял на меня глаза.
— А где ствол?
Я сказал, что возчики увезли его и, наверное, уже спустили по Белой, по которой во время весеннего половодья мы сплавляли лес.
— Тогда хоть за патрон спасибо! — засмеялся лесник. — А кошель с лирами, видно, уж в Калисановом омуте! — махнул он рукой, словно посылая его ко всем чертям.
— Что за лиры?
— Лиры Тосун-бея…
В комнате стало тихо. Мы смотрели друг на друга и молчали. Маринскому словно нечего было добавить, а я не знал, с чего начать расспросы. Видел ли он кошель? Откуда ему известно, что он в дереве? А если он знал о нем, почему не достал?
Маринский понял, что меня волнует.
— Завтра, если хотите, я расскажу вам, — сказал он. — Только приходите на Татарицу… Угощу вас фасолью по-монастырски и все расскажу!
Сторожка лесника стояла на укромной солнечной полянке, откуда как на ладони были видны оба склона Татарицы. Здесь было всегда спокойно, даже когда вокруг с ревом и стоном раскачивался под ветром хвойный лес. Здесь, в этой дикой обители, Маринский, предварительно угостив меня, рассказал мне о тайне бука.
Все началось с одного доброго дела, которое я сделал помаку Исеину из Ляскова. Вместо того чтобы прогнать его с персенкских[8] пастбищ, как поступали все лесники до меня, я оставил его овец в покое. Обрадованный Исеин не знал, как и отблагодарить меня: подарил мне козью шкуру, потом белые обмотки, часто навещал меня в сторожке и развлекал разговорами. Однажды, отравившись грибами, бедняга умер на моей постели. Чувствуя, видно, что пришел ему конец, незадолго до смерти он и рассказал мне об одной странной встрече в «русские времена».
Произошло это на хребте Бари, где Исеин, тогда двенадцатилетний парнишка, пас овец. Стояла мглистая осень, и из тумана на него неожиданно выскочили двое турок с женами и лошадью, навьюченной двумя корзинами с поклажей. Турки были с оружием, но какие-то пришибленные. Старший — с черной бородой и белыми бровями, — увидев пастушонка, подошел и спросил, это ли дорога на Караколас. Оказалось, что они заблудились: вместо того, чтобы держаться дороги и идти через Чернатицу, они свернули направо на тропу. И как Исеин ни отказывался, белобровый заставил его вести их на нужную дорогу.
Пастушонок бросил овец и повел их через Татарицу. У родника они остановились напоить лошадь. Наверх шли медленно. Чернобородый все время оглядывался, словно чего-то опасался. Над родником он приказал Исеину идти вперед и ждать их наверху. Пастушонок послушался, но его разобрало любопытство, и, спрятавшись в кусты, он увидел, как старый турок вытащил из седла кожаный кошель, вернулся назад и ненадолго исчез в тумане. Когда он появился снова, руки его были пусты. Исеин показал им дорогу и вернулся к овцам. А спустя несколько дней смологоны из Муглы принесли весть, что виевские бандиты подстерегли Тосун-бея у Караколаса, на пути в Ксанти, и убили его, рассчитывая, что он везет с собой награбленное добро.
Исеин понял, что это тот самый белобровый турок, которому он показывал дорогу, и его обожгла догадка, что, когда бей возвращался к роднику, он спрятал где-то свое богатство. Весной, как только сошел снег, он начал его искать. Рылся в палой листве, лазал по кустам, шарил по водомоинам, но ничего не нашел. Потом его отдали в батраки в другое село, он женился, мыкался, а под старость снова вернулся чабаном на то же место. И опять взялся искать кошель бея. Перерыл землю на триста шагов вокруг родника, но снова ничего не нашел. Умирая, Исеин вздыхал, почему он не принес в жертву барана или не попросил ходжу поколдовать, а под конец завещал искать клад мне, авось я окажусь удачливее.
Похоронив Исеина, начал искать и я, только не под землей. Я подумал, что вряд ли турок голыми руками рыл в земле яму, и принялся переворачивать камни. В тех местах камней немного, и все, сколько их есть, я перевернул — и большие и маленькие. Но, кроме рыжих муравьев и сороконожек, ничего не нашел. И наконец, в один из июльских дней, когда я уже отчаялся что-либо найти, меня вдруг осенило. Я сидел в тени бука и отдыхал, когда неожиданно над моей головой раздался шорох: две белки гонялись друг за дружкой, потом одна шмыгнула в скрытое листвой дупло. Наскоро обшарив ствол, я увидел, что это не беличье гнездо, а начало какой-то глубокой полости. Сомнений быть не могло — я нашел тайник Тосун-бея. Дерево стояло неподалеку от источника, на приметном месте, это был единственный бук среди бесчисленных пихт — лучшего места для тайника не придумаешь.
Я побежал в сторожку, взял длинную веревку, привязал к ней огниво и спустил его в дупло, чтобы измерить глубину, как в свое время сделал Тосун-бей этим патроном. Огниво ушло примерно на два с половиной метра, звякнуло и во что-то уперлось. Не иначе как путь моему огниву преградил кошель бея. Что и говорить, я мог бы срубить дерево и забрать деньги, но поблизости работала бригада землемеров. Срубить такое дерево незаметно, тем более леснику, было нельзя. В ту минуту я и не подумал, что помеха придет не извне, а изнутри.
То, что я нашел тайник, страшно меня обрадовало. И я тут же сказал себе: «Наконец, Георгий, ты поставишь себе двухэтажный дом с выходом на две улицы. И с балконом! Городской дом!» А я, скажу тебе, намучился от тесноты. В двух комнатах ютилось нас шестнадцать душ. В одном углу лежат старики, в другом ползают дети, посредине на веревках висит белье после стирки, у очага сушатся обмотки. Привел я молодку, так деться некуда. Первые три дня жили в сарае вместе со скотиной. То были единственные дни, что мы провели с глазу на глаз с молодой женой. А после, пошлет ее отец со мной волов водить, побудем друг с дружкой, нет — держимся за руки под столом и томимся как черт в аду. С той поры и жила во мне мечта заиметь большой дом, чтоб было в нем много комнат, высокие потолки и балкон — широкий балкой с железной, выкрашенной в зеленый цвет решеткой из кованых веток и листьев, с железной головой серны посредине. На один конец балкона я хотел поставить низкую лавку и покрыть ее яркой кошмой, чтоб слепила глаза завистникам и чтоб спрашивали люди: «Чей же это дом?», а им отвечали бы: «Лесника, внука Гого Киндихала».
Втемяшились мне в голову эти мысли, и я уж только о доме и думал: и как я его оштукатурю, и какие наличники на окна закажу столярам, и какие самшиты посажу в палисаднике, как буду их подстригать ножницами, и как я в комнатах все расставлю. Одну комнату я решил отдать сыну, другую — дочке, в третьей мы со старухой будем, а четвертая, с узорчатым потолком, — гостиная. И днем и ночью одно у меня в голове, все вокруг этого вертится. Появились у меня и другие желания, помельче. Ну, скажем, купить сыну мотоцикл — у парня к машинам интерес был, с женой в Бургас прокатиться — море ей показать. Покутить раз в жизни на шальные деньги — баклавы наесться до отвала, попробовать всего, чего не довелось до сих пор отведать. Но как сернята кружат вокруг матери, убегают и снова возвращаются, чтоб ткнуться ей под брюхо, так и эти мои мелкие желания: покружат, покружат и снова возвращаются к дому. Хорошо бы, думаю, напротив дома была кофейня, чтоб хоть разок посидеть там, надвинуть кепку на глаза и взглянуть на балкон с нарядной кошмой — сердце потешить.
Так заполнили меня эти мечты, что я забыл обо всем другом. Черника переспела — ни ягоды не собрал. Малина осыпалась — я и ее не попробовал. Какая там малина, если человек на звезды замахнулся! Раньше, бывало, до восхода еще часа полтора, а я уж умылся росой, стою на Медвежьей поляне — жду солнца. Плечи расправлю, душу радость распирает, крикну на весь лес, а потом иду вместе с солнцем к Персенку здороваться с пихтами и соснами. А теперь? Надо прорывать сосенки, морить гусениц, разносить соль косулям, а у меня ноги не двигаются, точно луковицы вросли в землю. Глаза с пола не подымаю, а мысли вьются вокруг бука с кошельком и даже во сне меня не оставляют. Только засну, слышу — треск, уши у меня вытягиваются до потолка: топором ли кто орудует? Телега браконьеров тарахтит на дороге? Одеяло летит к потолку, и я босой мчусь во двор, а там ветром ожгет, мозги проветрятся, я и пойму, что тарахтит-то у меня в башке.
После одного такого случая решил я срубить дерево, а там будь что будет. Ждать, пока уйдут землемеры, невмоготу. Завтра чуть свет прокрадусь незаметно в лес и вырву золотую душу бука.
На заре, лишь только забелело окошко, я надел постолы, чтоб не хрустели сухие ветки под ногами, сунул в карман два кизиловых клина, провел топором по точилу, и еще не рассвело, как я уже был на дороге к Медвежьей поляне. Но только я сделал несколько шагов, как спохватился: на такое дело по большакам не ходят. И свернул на волчью тропу через хребет. А хребет этот, ну будто лезвие топора. Круто — и вершины не видать! Ползком, на карачках, кое-как выбрался наверх. Но сердце так ухало, что пришлось сесть и передохнуть.
«Орлиный камень» — так зовется эта вершина. Скал здесь нет, орлов нет, одна каменная россыпь, а назвали «Орлиной» оттого, что отсюда видно, как с облаков. Дохнул ветер, смел в долину темные пряди ночи, колыхнул холмы, точно сине-зеленые волны, открылось ущелье, выкупанное в росе, и увидел я, как разукрасила его осень, пока я дремал в своей сторожке. Точно огненный змей пролетел над долиной — все превратилось в жар и пламень. Внизу жар и пламень, а наверху, на опаленных ребрах, — первый иней белеет. Ели были, как всегда, зеленые, только гудели как-то басовитей и вздыхали печально так. Когда взошло солнце, я не заметил, увидел только, как вдруг засверкал вверху иней, внизу — роса, как запылали уши Синего холма и лес засмеялся. Я так загляделся, что выпустил из рук топор, и он брякнулся на землю. А меня словно кто по голове хватил, горькая мысль застучала в мозгу: «Зачем тебе этот стальной убийца? С лесом хочешь распрощаться? Ну что ж, бей, прощайся! Двадцать два года лес тебя на руках, как мать родная, качал, поил, кормил, баюкал. Ступай, пока не зазвенели на Перелице овечьи ботала».
Идти, но куда, когда ноги словно отнялись, когда мозги будто расплавились, когда глаза застлали слезы? Ставил я в уме дом, штукатурил, балконы пристраивал и покрывал их красными кошмами, но о том не подумал, что туда не втащишь опустевший буковый лес, опоясанный синими елями, не перенесешь туманы, росы и скалы, ветра и снега! Что не будет там места солнцу и звездам! И что мне делать на том балконе? Встать столбом, чтоб все видели, что это внук Гочо Киндихала поставил себе такой дом? Ну увидят, а дальше что? Веревки плести, на пяльцах вышивать или трещать на мотоцикле по площади? И тут во мне снова заговорил тот голос: «Гочо, Гочо, да неужто ослеп ты и совсем одурел, что меняешь царство целое с лесами и косулями на дом в городе! Небо отдаешь за расписной потолок, тысячи гектаров лугов за одну яркую кошму? Синее взгорье — за какой-то балкон? Не позволяй золотой лихорадке трясти себя! Береги свое богатство, красоту и цену которого только ты знаешь! Пошли ко всем чертям кошель Тосун-бея!»
Наподдал я тогда ногой топор и понесся, как на крыльях, по поляне. И лес вдруг дружно — в полное безветрие — зашумел. Закачались, закланялись сосенки, и я понял, что решил правильно.
Перевод О. Кутасовой.
К ВЕРШИНЕ
Высохшая старуха рыхлит фасоль у самой речки, а выше, на крутом берегу, ее старик вырубает орешник. Мотыга коротко и звучно тявкает «тча-а», «тча-а», а эхо на обоих берегах удваивает, утраивает эти звуки, и они мчатся наперегонки, словно по скалам цокают копыта. Старик отвечает своим «тча-а», но оно тоньше старухиного, потому что он рубит кусты не топором, а косарем, и лишь этот разноголосый диалог оживляет притихшие в пекло горные дебри.
Речка, обычно бурная и пенистая, еле слышно перебирает донные камни и кротко облизывает прибрежные скалы. Буковый лес молчит. Говорливые вершинные сосны стоят сейчас тихо, вслушиваясь в цоканье дьявольских копыт.
Мотыга замолкает. Женщина выпрямляется, вытирает разгоряченное лицо и кричит, глядя наверх:
— Э-э-эй, Сыботи-и-ин, слышишь, э-эй!
Косарь тоже смолкает, но ответа нет. Старуха что-то бормочет, наклоняется снова, и тявканье мотыги возобновляется.
Старик затыкает нож за пояс и оглядывает срубленный орешник. Старик — невысокого роста, небрит, впалая грудь обнажена и видны поседевшие курчавые космы. Он вырубил орешник, затенявший солнце коричневой гладкокорой груше.
Сыботин щурит глаза, смотрит на грушу, потом — на вершину горы, которую подпирают пепельно-серые скалы, и тяжело вздыхает. Сдвигает ногой обрезки сучьев, садится на землю. Расстегивает привязанный к поясу мешочек мягкой кожи, достает ножик для прививок и начинает медленно править его на оселке.
Сухой отрывистый лай мотыги продолжает биться о скалы, но старик его не слышит. Он глядит на стальное лезвие, а перед глазами снова — вершина. Шестьсот копралей от подножья до вершины — он считал и пересчитывал не раз. Сейчас он остановился на четырехсотой, но это даже не половина пути, потому что каждая копраля кверху стоит двух. Чем круче, тем копрали словно бы длиннее, а ноги будто все короче, и колени все слабее. Да и груша упрямится, боязно ей, не хочет в гору карабкаться… Какая это пытка — привитую, прижившуюся грушу тащить из теплого лога на холодный склон!.. Почитай сотню груш он высадил, а укоренилось всего лишь девять…
Вот и эта горемыка, девятая, едва не убежала обратно. Все грустит о своем саде, все на него поглядывает. К речке наклонилась, словно поплескаться хочет в теплых речных струях, не кверху, а книзу ее тянет.
И все же она его послушалась. Не стала раскидывать ветви, не распушила крону — нет, она навострила ветви, словно мечи, наставила их на ветер, проткнуть его готова, а листья у нее — металл, не листья!.. Эта груша была гордостью Сыботина, сладостной его надеждой, вместе с ней он хотел победить вершину. Перед этим ветер сломал две груши, три погибли в сугробах. Тогда Сыботин понял, что тут нужен крепкий подвой, упорный. Три недели бродил он по лесу, пока не попался ему на глаза грушевый карлик, маленький дикарь. Его и козы обгладывали, и коровы топтали, и ветры хлестали, и снега душили. Это было дерево, озлобленное, колючее, словно еж, закаленное невзгодами, злопамятное. И на новом месте оно не забыло трепки, которую задавал ему ветер. Оно отдало свою долго сдерживаемую первобытную силу черенкам, которые привил ему Сыботин. И от объятий культурного и дикого родились плоды — три груши, крупные и сочные. Одна упала, но две уцелели. Старик принес их в хибару, уложил на желтой сухой соломе и долго любовался ими, долго радовался. Правда, кожица у них была шероховатая, ножки — короткие, толстые, но сами плоды были крупные, сочные, и от них исходил дивный аромат.
Это был счастливый день, жаль, старуха испортила его своей руготней. Она вошла, когда две груши красовались на его ладони, как два маленьких солнца. Он поднес их ей, а она оттолкнула его руку и разоралась:
— Живьем закопал ты меня в этой глуши! Помешался на этих грушах, волочишь их в гору и плевать тебе на все остальное. На вурдалака стал похож… Не желаю больше жить под одной крышей с упырем! Или ты растопчешь эти проклятые груши, или я уйду на ту сторону, к сыну!
Растоптать груши! Да в них вся душа его!
Старуха ушла и с месяц не объявлялась. Некому было огонь развести, кастрюлей брякнуть, кашлянуть ночью. Тишина его угнетала, одиночество мучило. Даже брань готов он был сносить, лишь бы голос человеческий слышать, словцом хоть с кем-то перекинуться. Хорошо, что старуха все-таки возвратилась. Скрипнула однажды вечером дверь, и она вошла. Вернулась тихая, смирная. Ну и теперь, бывает, ворчит, не без этого, но не орет, не костит его, как прежде. В село ходит, с трудоднями улаживает, покупает, продает, а он — он только свой ножик и знает.
Постарел, похудел ножик… Погнулось лезвие, сдаваться стало — и оселку, и годам своим… Сменить бы оселок надо. Уж очень лютует — железо сгрызает. Точь-в-точь старуха — языком шевельнет, как ошпарит. Ревнует его к грушам. Седьмую это она ободрала, чтобы та усохла. Тишком ободрала, ногтями, а потом сказала, что слышала, будто косули там ревели… Чтоб он поверил, будто это косули кору обгрызли… Женщина, что тут скажешь! Как-то пожаловался он, что поясницу ломит, так она нет чтоб пожалеть — чуть не сожрала его со всеми потрохами:
— Будешь в небо карабкаться — не то что поясницу, всего тебя разломает! В кооперативе нашем во-он сады на ровном месте, коли у тебя так руки чешутся! По крайности, трудодни были бы!
— На ровном месте всякий сумеет! А мне, старая, наверх, наверх надо! Вон у тех елок чтоб груши росли! Сад на горе хочу развести! Вот это будет трудодень!
Так и сказал ей. А она глаза выпучила и язык прикусила. Потом только выговорить смогла:
— Да ты что?.. Ты и взаправду эти груши есть надеешься?
— Что до груш, так их и тут, в саду, полно.
— Чего же ты тогда убиваешься? Время впустую тратишь?
Ничего он ей не ответил. Замолчал. Да как ей объяснишь, что самых сладких груш слаще — на вершину подняться! Что вся сладость — в этом подъеме! Чего не перетерпел, чего не вынес он, пока тащил свои груши со ступеньки на ступеньку к вершине! Девять раз схватывались они с пронзительным осенним ветром и девять раз старик одерживал верх в этой схватке. А как ветер колошматил грушу, как стегал, как лупцевал ее! Ревели перепуганные пихты, стонали грабы, но его груша выстояла: перед приходом осени она, хитрюга, сбросила листья, и этот разбойник-ветер вместо того, чтобы сшибать листву, вынужден был биться о голые сучья! Научить дерево хитрости — какая в этом сладость! Ее не постичь тому, кто познал в жизни только сладость сахара.
Плохо только, что и ветер хитрить научился. Воо-он, притих в кустарнике, скулит жалостно, но Сыботин знает, что это всего лишь короткая передышка, уловка. Ветер еще подстроит им засаду там, наверху, на скалистом гребне, на подступах к вершине. Там-то он и обрушится на них. К тому дню и надо подготовить грушу. Заставить ее сбрасывать листву за две недели до того дня, силой заставить!
…Сухой треск мотыги прекратился. Сыботин глянул вниз. Его старуха спускается к реке, ополоснуться, видно, хочет. Воздух дрожит, кажется, будто жужжат пчелы. Два орла кружат в небе и тоскливо клекочут, словно сама земля жалуется, придавленная тяжелыми серыми скалами. Пора… Никто сейчас не увидит. Старик прячет оселок в кисет и легко поднимается на ноги. Выбирает среди срубленных веток прут покрепче, очищает его от листьев, обрезает верхушку и подходит к груше. Озирается по сторонам, замахивается и… наносит удар по дереву. Листья разлетаются во все концы, ветки вздрагивают, потрясенные внезапностью и жестокостью нападения, сыплются сбитые почки, тут и там повисают лохмотья коры, и в этих местах блестят капельки, подобные слезам. Сверху доносится гул, нахохлились пихты, орлиный клекот будит задремавшие было деревья: «Наших бьют!» Скалы отзываются эхом, и в спокойной недавно чаще вспыхивает настоящая тревога. Старика это не пугает, ему и скалы не страшны, и орел ему не помеха. Боится он только, как бы старуха его не увидела, и поспешно сбивает с груши последние листья…
Прут свистит, вьется вокруг сбитая листва… Лишь бы запомнило дерево эту трепку, лишь бы поняло, что это для его же пользы. Старик морщится, нелегко ему обдирать творение рук своих, но если он его пощадит, то не жди пощады от ветра.
Снизу снова доносится:
— Ты меня слышишь, э-э-эй!
Жена! Сыботин в сердцах бросает прут и сердито откликается:
— Да иду же!
Старуха пересекает огород и исчезает в доме. Вскоре над крышей появляется дымок. Старик опускается на землю, он почувствовал вдруг усталость и какую-то тяжесть в груди. Сердце бьется через силу, захлебываясь в напирающей крови. Волосы на груди подрагивают, в ушах что-то шумит. Теперь уже едва сердце забьется чуть сильнее — появляется шум, шум далекого паводка. Чуть напряжешься — и вода бурлит все громче… Приближается… отдаляется, возвращается снова, клокочет… Придет день — налетит и унесет с собой в огромное бездонное море!
Оно, наверно, холодное. Это чувствуется по леденящему дуновению, которое исходит от рокота волн. Старик натягивает одежду на обнаженную грудь, прикрывает сердце… Трепещет оно, хочется ему взлететь на самую вершину горы… И человеку хочется следовать за своим сердцем, но силы на исходе, крутизна мешает, тянет его книзу. Тяжелая, смешанная с камнями земля висит у него на ногах. Жена… Годы… Вот уж, кажется, отошли, отлетели, а чувствуешь, что впились они в сердце, как летучие мыши, — темная стая месяцев и лет, — и сжимают его, и тянут книзу. Пусть сжимают, пусть тянут, но ведь и небо тянет к себе… Тянет, до боли…
Хочется Сыботину встать, взбежать наверх, достичь вершины, прежде чем сорвется сердце, но груша не хочет… Не дано ей бегать… Да и время спешит, и все страшнее и круче становится откос. Ветер — все холодней, и снега — глубже… А нужно ведь ямки копать, новые деревца прививать, приручать их и закалять… Учить уму-разуму… Пока не свяжет цветущая грушевая дорожка лощину с гребнем горы.
Прекрасна эта цветущая дорожка, хотя и не доходит до самого верха! Этот бледно-розовый след прожитых им дней в серой, холодной, туманной череде диких деревьев, кустов и скал. Каждую весну появляется эта белая пышная пена, словно река взбирается наверх по круче — река, взбунтовавшаяся против закона, рванувшаяся к синеватому льду сугробов. Грушевый цвет, наступающий на льды! Сойдутся ли, соприкоснутся ли вершина и непокорная, бунтующая река?
Синяя струйка дыма поднимается над хибарой. Старуха развела огонь. Вечером они сядут вдвоем у очага, поедят, помолчат, потом старуха вздохнет и скажет:
— Ну и жарища была!
— Жарища! — согласится он.
Трещат головешки, пляшут на стене отблески огня, а старики молчат. И опять заговорит старуха:
— Сгорит ведь фасоль, а, старый?
— Сгорит…
— Так и полил бы ее, брось ты эти свои груши. Зимой они тебя не накормят! — начнет закипать старуха, а Сыботин снова добродушно согласится:
— Успеется!
Разозлится старуха, пойдет ляжет, а он останется у очага — будет греть свои ступни да слушать: к дождю ли, к зною ли свистит ветер в трубе. И думать — какую грушу завтра пересадить, какую и когда привить, сколько копралей осталось еще до вершины…
…Не оттуда ли, не с вершины ли идет этот приятный холодок? Он ласкает пальцы, обдувает лодыжки, забирается, подобно ветерку, под одежду и копошится там. Вот опять лизнул кисти рук, дунул за уши, зашевелился где-то возле шеи… Просунул свои крылья ему за спину, хочет поднять его кверху…
И вправду — уже несет его, и он поднимается все выше… Земля внизу — удивленная и притихшая… все мельче становятся скалы… Вот и дорожка — та самая, цветущая дорожка прожитых дней, вдруг удлинившаяся, поднявшаяся до вершины! Как чудесно весенний цвет целуется со льдом!
Но откуда доносится шум? Может быть, речка вышла из берегов? Но речка — внизу, она спокойна. А шумит — большая невидимая река, она бурлит, клокочет, разливается вширь… грохочет! Крылья ветра вдруг слабеют, ломаются, и старик летит вниз…
Это лишь его рука, шевельнувшись, опускается на раскаленную, перегретую землю.
Старуха выходит из хибары, вытирает перепачканные мукой руки, и кричит, обращаясь кверху:
— Сыботи-и-ин! Сыботи-и-ин!
Но на этот раз никто не отзывается.
Перевод В. Викторова.
РИМСКАЯ АМФОРА
По каменистому шоссе катит джип. Вихляясь и подскакивая, подъезжает к пересохшей чешме. Дверца распахивается, и оттуда вылетает сначала лопата, потом две кирки. Следом появляется тот, кто их выкинул, — человек с бычьей шеей и коротко подстриженными седеющими усиками; ноги его обмотаны полиэтиленовой пленкой, перехваченной вокруг щиколоток шпагатом. Человек оборачивается и, кивнув водителю, говорит:
— Поставь машину так, чтоб ее не было видно!
Водитель — молодой паренек с едва пробившимся золотистым пушком на подбородке — ставит джип под кряжистой грушей, а сам подходит к человеку с седеющими усами. Вскинув на плечи кирки и лопату, оба направляются к невысокому взгорку. Поле, по которому они шагают, глубоко вспахано и все усеяно обломками старинных кирпичей. Пониже поля тянется ровная котловина, а на юге холмы и холмики, покрытые кустарником и виноградниками, наперегонки взбираются по склону к недалекой горной цепи. В котловине торчат стебли неубранной кукурузы, а на виноградниках — пугала из целлофановых лент, которые трепыхаются при каждом дуновении ветерка и сверкают на осеннем солнце.
Ни одной живой души вокруг, только небольшое стадо ржаво-коричневых козлят и коз разбрелось между кустами, окаймляющими виноградники.
Приезжие, заметив козье стадо, пригибаются и торопливо шагают по краю поля, к высокой куче свеженакиданной земли. Удостоверившись, что она надежно укрывает их от чужих глаз, они распрямляют спины и начинают простукивать землю кирками.
— Да вот же, Гоче! — усатый приподымает каменную плиту и, пошарив рукой, открывает горло глиняного сосуда. — Счастье, что трактористы не углядели!.. — он сдвигает плиту в сторону и подает Гоче лопату. — Я буду подкапывать, а ты откидывай землю!
— А если нас увидят? — озирается Гоче.
— Если увидят, я сам с ними поговорю… Мы ж договорились — для музея, дескать, выкапываем… Действуй! — Иван впивается киркой в землю, выкапывание амфоры начинается.
Иван копает, Гоче отгребает и отбрасывает землю, и уже четко вырисовывается горло амфоры. Иван нагибается, стряхивает землю и показывает напарнику:
— Печати! Одна, вторая, третья…
— Небось римские! — Гоче нагибается тоже, и золотистый пушок на его подбородке касается лысой макушки Ивана.
— Знак качества! — авторитетно объясняет тот. — Вот мой архитектор обрадуется, как увидит ее да еще о печатями…
— Пускай бы сперва участок распланировал…
— Распланирует, не беспокойся… — говорит Иван и тут же добавляет, прислушиваясь к звяканью козьего колокольца. — Тихо, кто-то идет!
Оба умолкают.
— Ну и пускай себе идет! — внезапно осеняет водителя. — Ведь для музея выкапываем!.. Чего ради прятаться и помалкивать?
— И то верно! — соглашается Иван. — На меня, когда я молчу, тоска находит…
Он уже скинул пиджак, короткие рукава рубашки открывают мускулистые, обросшие черными космами руки. При каждом ударе киркой плечи играют, как живые.
— И где ж такие берутся! — восхищается Гоче мускулатурой Ивана.
— В отчем доме, в родном селе… Но только дал я в свое время маху… — вздыхает Иван. — Учиться надо было! С моей башкой мне б еще язык хорошо подвешенный, я бы сейчас знаешь кем был — ого-го! Весовщиком или даже еще кем повыше.
Гоче хмуро взглядывает на него.
— К рюмке больно часто прикладываешься. Не поставят тебя весовщиком…
— От рюмки тоже польза есть, — слегка уязвленный упреком, Иван выпрямляется. «Придешь на доклад, — бригадир мне говорит, — трезвый, как стеклышко». А того не понимает, что прок ему от меня только, когда я малость под мухой, иначе я высказываться не буду. Трезвый человек — он прикидывает, что к чему, и помалкивает. А после доклада полагается, чтобы были высказывания, для отчета — мол, высказалось столько-то… Не будь таких, как я, им потом и не отчитаться…
Гоче внимательно его выслушивает и, поплевав на руки, говорит:
— Иди шоферить, как я, никто тебе сроду словечка не скажет… Давай попробуем ее раскачать.
— Не рано? — Иван смотрит на сосуд, который еще почти целиком сидит в земле.
— Давай, давай! — настаивает Гоче и берется за горло амфоры. Иван берется тоже, считает:
— Раз, два… — Но еще до того, как он произносит «три», на вцепившихся в амфору людей внезапно наползает чья-то тень. Тень с палкой в руке…
Оба подымают глаза — на взгорке стоит загорелый парень, в руке пастушья герлыга, замшевая кепчонка на голове, и проницательным взглядом смотрит то на них, то на выкопанный до половины сосуд.
— Что, друг?.. Коз пасешь? — Иван догадался, что перед ними козопас.
— Чего их пасти… Сами управятся… — отвечает тот. По выражению его лица видно, что ему хочется спросить, что это за посудина и зачем ее выкапывают, но, кинув взгляд на джип, он удерживается от вопроса, молчит.
— Эта местность как называется? — пробует Гоче разговорить парня.
— Вроде бы Вигла…
— Почему вроде? Ты что — не здешний?
— Из-под Врацы я.
— Из-под Врацы? — удивляется Иван и прищелкивает языком. — Хотя чего там, — неожиданно добавляет он, вспомнив совсем о другом, — ничего удивительного: вон в селе Извор продавец в лавке из-под Михайловграда. А пастух — из Кюстенджика. Сколько получаешь-то?
— Двести шестьдесят.
— Хорошие деньги.
— Если хорошие, чего ж сам не пойдешь в козопасы? — паренек сдвигает замшевую кепчонку чуть набекрень и собирается уходить, но Иван останавливает его.
— Постой-ка! Помоги нам с этой штукой.
Паренек колеблется в нерешительности, взглядывает на амфору и решает остаться.
Ухватившись, кто за что смог, они втроем по команде Ивана пробуют раскачать амфору, но та не поддается. Дергают второй раз — результат тот же. Пастух выпрямляется, вытирает руки:
— Еще подкопать надо!
Гоче взмахивает киркой, а Иван продолжает беседу:
— Ты был тут, когда трактористы поле пахали?
— Был… Тут и другие посудины были… такие же в точности… Поразбивали их… — парень указывает палкой в конец поля, где видны ямы, заваленные глиняными черепками. — Спешили, чтобы не увидал кто, боялись — остановят пахоту… Там вон и могила чья-то была. А это что ж такое? — он постучал герлыгой по одной из печатей на горле амфоры.
— Клеймо! — авторитетно объявляет Иван о споем недавнем открытии. — Клеймо ОТК! Римского… Амфора то римская еще, — дополняет он свои пояснения. — Рим в прошлые времена был самой сильной державой!
Пастух вопросительно смотрит на него.
— И была она сильная до тех пор, пока римляне бедовали, а как завоевали соседние народы, забогатели, начали обжираться, а от этого стало у них кишки выворачивать. Да, да! — Иван горячится, уловив в его взгляде недоверие. — Жрут и блюют, жрут и блюют. Сытому человеку помирать неохота, и лет через тыщу пошла их империя прахом.
— Ты мне дай тыщу лет сытости, а потом я — пожалуйста, согласен прахом пойти! — подает голос Гоче, плюет на руки и, взглянув на заходящее солнце, принимается усердно отгребать землю.
Иван тоже умолкает, берется за работу.
Мало-помалу амфора открывается взгляду — все выше и пузатей. Земля вокруг нее перерыта, перемешана с обломками кирпича и глиняными черепками. На голом темени Ивана сверкают капельки пота. Кирка у него застревает и, сделав усилие, он извлекает на свет половинку римского кирпича, разглядывает его, пытается ударом кирки разбить, но это ему не удается.
— Ты гляди, гляди! — он замахивается что есть силы, однако кирпичина не поддается. — Видал, какие кирпичи делали эти проклятые римляне, не то что у нас в Горна Оряховице! — Он в третий раз ударяет по кирпичу, затем, уловив какой-то звук, опускает кирку и смотрит вдаль поверх головы пастуха.
Остальные тоже поворачивают туда головы: за полузасохшим грушевым деревом видна рука, лежащая на чем-то, похожем на ружейный ствол.
— Нагнись! — шепотом командует Иван.
Все нагибаются, не сводя с таинственной руки глаз… Так проходит минута, другая. Потом из-за груши показывается перед инвалидной коляски, а в ней парень с наголо обритой, серовато-коричневой головой и в очках.
— Инвалид это! Из интерната! Их туда понавезли после лечения, чтобы работали, — сообщает Гоче, с облегченьем вздохнув. — Видал я их в городе… Эй, шеф, сюда! — он машет рукой, приглашая того приблизиться.
Бритоголовый рукой приводит коляску в движение и тормозит возле них. Одного за другим обводит взглядом обступивших амфору людей, а потом и джип.
— Тебе чего тут надо? — спрашивает Иван.
Инвалид смотрит на него, но ничего не отвечает. В светло-серых, каких-то остекленелых глазах нет ни страха, ни смущения, одно лишь обманутое ожидание…
— Я знаю, чего ему надо, — говорит пастух, с угрозой мотнув в его сторону головой. — Взбучку ему хорошую надо! Парочки любовные подкарауливает, а потом подсматривает… Чуть приметит где легковушку — он тут как тут. Другие такие тоже иной раз прикатывают, но этот — что ни день…
— Неужели правда? — Иван с удвоенным любопытством смотрит на инвалида.
Тот, нисколько не обиженный неласковым приемом, снова оглядывает каждого в отдельности и утвердительно кивает:
— Правда…
— Да зачем? Какой прок только глаза пялить?
— А что ж еще? Разве я на другое способен, не видишь, что ли? Только смотреть и могу. И что тут такого? Я никому не мешаю… — он пожимает плечами.
— А если заметят? — не отступается пастух.
— Замечали… В «Волге» они были… «Я тебе башку проломлю», — грозился. А не проломил… Сперва вскидываются, грозятся, потом остывают. Да не только инвалиды подсматривают, и здоровые тоже, бывает… Смотрят, иногда вспугивают, а мы — только глядим… Никого не вспугиваем, не угрожаем…
Инвалид умолкает на миг, потом подымает руку и указывает пальцем на амфору:
— Да она битая! — восклицает он и, повернув свою коляску, подъезжает ближе, чтобы получше разглядеть, отбрасывает в сторону ком земли и открывает на месте отломанной ручки небольшую свежую дыру.
Все толпятся вокруг, а пастух даже просовывает в дыру руку.
— Это трактористы — монтировками тыкали, проверяли, есть в ней что или пустая, они и раскокали! — находит разгадку пастух. — А вон и черепок! — он показывает на отбитый от амфоры кусок в горке рыхлой земли.
Больше всех ошеломлен этим открытием Иван.
— Что же получается? Кому пироги да пышки, а кому синяки да шишки… — Он миг-другой морщит лоб, потом вдруг находит решение: — Ну и что особенного, архитектору в ней небось не масло держать… Она ему для уголка в народном стиле…
— Разве вы ее не для музея? — исподлобья бросает на него взгляд пастух, но Иван притворяется, будто не слышит.
— Давайте, братцы! — он берется за лопату.
— Да ведь она битая! — инвалид опять показывает на дыру, но никто не удостаивает его вниманием, Иван орудует киркой, Гоче лопатой, а пастух, заложив герлыгу на плечи и обеими руками повиснув на ней, пристально следит, не покажется ли что внутри амфоры. Козы уже подобрались к винограднику, но он и не замечает:
— Значит, глядишь… А потом что? — обращается Гоче к инвалиду, вытирая проступивший на лбу пот.
— Что потом? Потом — назад в интернат, и рассказываю там нашим. Они меня укрывают от переклички, а я, как вернусь, им рассказываю.
— А если ничего не увидал?
— Тогда выдумываю. Думаешь, между тем, что увидел и что выдумал, большая разница? Постой-ка! — инвалид вслушивается и застывает неподвижно, держа руку на рычаге коляски.
— Мотоцикл! Марка «Балкан»! — негромко сообщает он и резким толчком направляет коляску вверх по взгорку. Забравшись на вершину, он тут же съезжает на прежнее место. — Не парочка… Один он!
— Ну хорошо, а что ты им плетешь там, в интернате? — интересуется Гоче. — И почему между тем, что увидел и тем, что выдумал, нету разницы?
— А вот так — нету. Одни начинают с оплеух, а уж потом… Другие наоборот. Смотря какая машина…
— Во загнул! — Иван отрывается от работы. — При чем тут машина?
— Потому что по машине и хозяин! — убежденно произносит инвалид. — В больших машинах чаще начинают с мордобоя. Один тут просто засыпал ее оплеухами: р-раз — по левой скуле, р-раз, по правой. Застал ее вроде с кем-то. И теперь ее, значит, за это к ответу. Не закричи я, он бы ее зашиб. В кино, вишь, с кем-то ходила. А сам ведь и не муж ей вовсе. Малолитражки — они посмирнее. Но на прошлой неделе один «Запорожец» тут такое наворотил! — Инвалид внезапно оживляется, однако вынужден прервать свой рассказ, потому что из-за взгорка выскакивает мотоцикл «Балкан» и, выпустив очередь, останавливается как вкопанный. Мотоциклист слезает с седла и направляется к ним, заинтригованный тем, что вокруг глиняного сосуда толпится народ. На нем выгоревшая от долгой службы куртка и черная фетровая шляпа, через плечо висит на ремне плетеная корзинка.
— Что происходит? — решительно приближается он, впившись взглядом в амфору.
— Да вот, посудину тут одну выкапываем! — Иван разглядывает его, пытаясь понять, что за человек и что у него такое в затянутой куском белой материи корзине. — А ты по какому делу? Уж не кизил ли собираешь?
— Нет, — скупо отвечает мотоциклист. В ту же секунду раздается жужжание, а материя на корзинке слегка шевелится.
— Это что? — настораживается Гоче.
— Ничего, ничего, — мотоциклист прикрывает корзину сначала одной рукой, потом другой.
— Как это ничего? Ничего жужжать не будет! — настаивает Гоче, делая шаг к таинственной корзине.
— Жуки у меня там! Они не просто жужжат, а гудят. — Мотоциклист считает, себя вынужденным приподнять краешек материи. Инвалид привстает в своей коляске. И тоже, удостоверяется, что в корзине жуки.
— На кой они тебе? — дивится Иван и снова заглядывает в корзину, желая лишний раз убедиться, что не ошибся.
— На продажу… Если подвязать к лапке нитку и отпустить, они гудят громче истребителя…
Не прерывая рассказа, охотник на жуков достает из корзинки одного жука, завязывает ему лапки и подбрасывает в воздух, однако насекомое, не взлетев, повисает на нитке.
— Под вечер они не могут, зато днем, в жару, еще как кружат! Точно бурав! — он делает рукой вращательное движение и повторяет: — Точно бурав!
— Это, случайно, не колорадские, а? — Гоче опять нагибается к корзинке, чтобы получше разглядеть.
— Да ты что? Колорадские — они в полосочку. Нет, ты погляди, погляди, какие молодцы! — вынув следующего жука, охотник показывает его совсем вблизи.
— Сколько же ты в день продаешь?
— Штук сто. А то и двести. Езжу из села в село. Деревянные игрушки ничуть их не лучшее. Пять левов за какой-то несчастный пистолетик! Ребенок разок возьмет в руки и бросит… А тут — живое! И всего десять стотинок штука. А жужжит, как истребитель… Ребятишкам нравится. А вообще-то я в кооперативе рогожи плету для парников…
— Сейчас без десяти семь! — Гоче показывает Ивану на свои часы. — В полдевятого я должен быть в гараже.
— Ну-ка, навалимся все вместе. Давай, товарищ истребитель! — Иван засучивает рукава.
— Мерабаджиев моя фамилия, — представляется мотоциклист и берется за горло амфоры, но, спохватившись, опускает корзинку наземь, чтоб не мешала. По команде Ивана все берутся за высокую амфору, которая сначала медленно, а потом вдруг разом сдвигается с места и наклоняется вбок.
— Слышьте, если внутри чего есть, делим на всех! — заявляет пастух.
— Делим, делим, — шутливым тоном бросает Иван.
Пока все заняты амфорой, инвалид дотягивается до герлыги и ловким движением поддевает край материи, которой затянута корзина, а потом незаметно водворяет герлыгу на прежнее место. Из корзины с громким гулом вылетает жук. За ним второй, третий. Мерабаджиев поспешно оборачивается, затыкает отверстие рукой, кидается вдогонку за вылетевшими жуками, но другие жуки тоже вырываются на волю, и он бежит назад, выхватывает из кармана платок, затыкает отверстие и вновь кидается вдогонку за беглецами.
Инвалид, вне себя от радости, заливается хохотом. В эту минуту охотник на жуков возвращается.
— Кто проделал дыру? — показывает он на корзинку. — Ты? Чертова обезьяна! — Он замахивается, готовый обрушить на инвалида удар, но не обрушивает, потому что тот бесстрашно смотрит на него и не отстраняется.
— Зачем тебе такая уйма жуков? — неожиданно спрашивает он.
— Я ж объяснял, сукин ты сын! Продаю их!
— Ну хорош… С каланчу вымахал, а с букашками-таракашками возишься! — вмешивается Иван, раздосадованный тем, что бригада у него распалась.
— А что делать? — оправдывается Мерабаджиев, помогая вытаскивать амфору. — Жена спит и видит машину купить… «Завербуйся, говорит, в Ливию, на машину заработаешь. Во всем селе, почитай, одни мы безмашинные». А мне неохота в Ливню… Жару не переношу… Аппетита от нее лишаюсь… Некоторые оттуда с больным сердцем вернулись. Да и на кой мне это надо: она — при машине, а я таблетки от сердца глотай… «Куплю, говорю ей, тебе машину безо всякой без Ливии… В продавцы устроюсь или же поросят для «Родопы» возьмусь откармливать, но уж на «жигуленка» соберу».
— Она, баба твоя, для того тебя в Ливию спроваживает, чтоб дух перевести, — пытается Гоче поддеть Мерабаджиева, но тот спокойно отражает атаку.
— Может, и так! Но только я не поеду…
— А пока ты жуков ловишь, она чего делает?
— На «Волгах» катается! — Инвалид, весело осклабясь, хлопает в ладоши.
Охотник на жуков бросает на него хмурый взгляд, некоторое время молчит, потом, не проронив больше ни слова, вешает корзинку через плечо, садится на мотоцикл и с грохотом мчится по каменистому шоссе.
— Чего ты к нему привязался? — выговаривает Иван напарнику. — Он бы подсобил нам погрузить эту штуковину в машину… Теперь вот тащи за двоих…
— Погоди, сперва опорожним ее, она полегче будет… — предлагает Гоче и принимается рукой выгребать из амфоры землю.
— А это что такое? — Иван нагибается, подцепляет двумя пальцами какую-то ржавую железяку.
— Стрела! — объявляет пастух, — Наконечник!
— Тоже мне оружие! Только одного уложить может, да и то, если попадет. — Иван трет находку о щеку и кладет в карман. — Пригодится архитектору для уголка в народном стиле.
— Ну да! — недоверчиво морщится пастух. — Кабы ваша посудина целая была, в ней можно было бы хоть сливы держать. Для ракии. Дорожное управление по пяти стотинок сливы отдает, только собери, а никому неохота…
— Ты погляди, две тыщи лет в земле пролежала, а до чего ж блестит и звенит как! — восклицает Иван, не в силах отвести от амфоры глаз, и в восторге легонько постукивает по ней. — Колокол! Назовем ее Красавицей Тудорой, а? Очень она на красавицу девицу смахивает… Вот как лежит сейчас на боку… Гоче, да ты в нее весь залезть можешь!
Гоче сует в амфору голову и возражает:
— Узка.
— Узка? Когда у нас в сельхозкооператив записывали, Начо Макаков два дня вот в точности в такой же прятался. А на днях говорит мне: «И для чего, говорит, я прятался? Раньше-то я, бывало, с ног от работы валился, а теперь посиживаю на бороне для весу да табачком попыхиваю…» Давай-ка почистим ее снаружи, — предлагает Иван. Он начинает соскребать налипшую на стенки землю, и вскоре обнаруживается глазурованная поверхность амфоры с каким-то рисунком. — Постой! Да ведь тут картинка! Вон! Женщина!!! — он подбирает с земли щепочку и принимается осторожно его скоблить. — Гоче, неси тряпку какую-нибудь, мокрую!
Гоче бросается к джипу за куском замши, которым протирает стекла, а Иван тем временем растолковывает пастуху сделанное им цепное открытие:
— Гляди вот! Женщина! Что-то держит в руках! А это, может, муж ее или же царь… Ого-го!.. На голове венок… Да, это уже другое дело… — Иван берет из рук Гоче лоскут замши и начинает тереть амфору. С каждым взмахом руки кирпично-красные, золотистые фигуры проступают все отчетливей и сверкают так, будто их только что нарисовали.
В эту минуту с вершины холма доносится чей-то голос:
— Козы! Э-э-эй! Козы на винограднике!
Пастух слышит, но продолжает неотрывно смотреть на амфору.
— Уволят тебя! — ухмыляясь говорит ему инвалид.
— Не уволят. В пастухи не больно-то идут.
— А ты чего пошел?
— Да отдубасил тут одного…
Пока инвалид с пастухом беседуют, Иван уже успел отмыть рисунки и, отступив шага на два, с нескрываемым восторгом рассматривает их.
— Нет, это не для дачи! — решительно произносит он. — Только для музея… Чтоб народ смотрел. Любовался на нее.
— А как же архитектор? — спохватывается Гоче.
— Обойдется… Ты погляди только, какие краски… А женщина ступает на цыпочках… Хитро сделано… Точно живое! Пригоняй машину, будем грузить!
Гоче отправляется за машиной, Иван начинает приподымать амфору, но тут Гоче окликает его:
— Колесо спустило. Иди, подкачай!
Иван идет к нему, и пастух с инвалидом остаются наедине.
— Э-эй! Козы! — опять доносится голос с вершины холма, но пастух и на этот раз не оборачивается. Он подходит к амфоре, нагибается, чтобы рассмотреть рисунки вблизи, потом на шаг-другой отступает. В глазах пробегает затаенная искорка.
— Хороша!.. Интересно, как она громыхнет, если дать разок палкой?.. Такая, как она есть, вся из себя красивая и разрисованная? — обращается он к инвалиду. И прежде, чем тот успел открыть рот, изо всех сил замахивается палкой и бьет.
Раздается громкий треск. Амфора разлетается на куски. Пастух, довольный, вскидывает герлыгу на плечо и спокойно, неторопливо направляется к своим козам.
— Чао! — машет он инвалиду на прощанье рукой.
Иван и Гоче подбегают и, не веря своим глазам, неподвижно застывают над грудой осколков. Потом оба почти одновременно бросаются догонять пастуха, но тот, имея солидную фору, взбирается к виноградникам и злорадно хохочет.
Иван хватает камень, но, понимая, что это бесполезно, роняет на землю.
— Черт, как же я без ружья, так его и разэтак! — со стоном произносит он, а пастух, взобравшись на самый гребень холма, дразнит своих преследователей непристойным жестом.
— Накось выкуси! Вот вам ваша посудина!
Присевшее на горизонте багряное солнце ныряет за соседний холм.
Гоче с Иваном стоят перед разбитой амфорой. Иван опускается на корточки, подбирает с земли два осколка, пытается сложить голову женщины, понимает, что ничего не выйдет, отшвыривает их и, спрятав лицо в ладони, плачет.
Перевод М. Михелевич.
СТОРОЖ ОВСЯНОГО ПОЛЯ
Я тебе так скажу: без детей, конечно, плохо, но и с детьми немногим лучше. Куда ни кинь, все клин. Взять хоть моего: тридцать лет человеку, женат, сын растет, работает в городе, а приехал просить у меня двести левов — на море ему, видишь ли, приспичило. Я говорю: «А сам-то заработать не можешь?»
— Моей зарплаты, — говорит, — не хватает.
— Ну, а зарплата жены? Где она, эта зарплата? Ее отец еще на свадьбе хвалился, что на свою зарплату она может купить меня со всеми моими овцами. Ты же, говорю, потому и взял в жены артиллеристку. (Жена его работает с ракетами, которые будто бы разгоняют град.)
— Она, — говорит, — сто тридцать получает.
— Если получает сто тридцать, пусть и гонору у нее будет на сто тридцать, а не на двести. А то называет меня старым хрычом и толкует твоей матери, что будь она нормальной, то не вышла бы за мужчину старше себя на пятнадцать лет… Говорить говорит, а сколько из нашего, чабаньего, дома в город перетаскала! Ни салом, ни шерстью, ни картошкой не брезгует.
А в нашем доме всего хватает, не жалуемся. Я чабан, овец пасу, жена в ТКЗХ работает — все у нас есть, В прошлом году сдали «Родопе» тысячу килограммов живого веса. За это нам одного только зерна двадцать мешков отвалили!
Вот потому и сказал я сыну:
— Если тебе не хватает зарплаты, бросай свой город и будешь пасти со мной овец. Вот тебе дом, огород, и считай себе денежки. Хватит не только на море съездить, а и за море прокатиться.
— Не хочу, — говорит, — отец, возвращаться. Да и жена согласия не даст.
— Ну, коли так, пусть эти двести левов сама и заработает.
После, когда сын со снохой в гости приехали, гляжу — надулась она, злится, видно. Хотел ее развеселить, спрашиваю, что будет пить, авось оттает сердцем-то…
— Я, — говорит, — пью бренди.
Бренди так бренди. Пошел я в ресторанчик, к Душко, беру бутылку бренди, приношу домой, наливаю снохе, чтоб хоть улыбнулась, а она ни в какую. Сидит за столом, что твоя градоносная туча, глаз не подымает. Не действует, значит, бренди. «Ладно, — говорю себе, — попробуем тогда денежки в ход пустить. Дам им за квартиру внести, может, тогда хоть улыбнется». Отсчитал им три тысячи левов из моих пастушьих денег. Снял их с книжки, и точно — смягчилась сноха. Но только на месяц, не больше. А потом опять набычилась и снова меня старым хрычом величает. Все, значит, оказалось впустую… К тому же денег-то этих они за квартиру не внесли, а купили себе палатку у каких-то чехов, чтоб каждый год на море ездить. Потом только поняли, что палатка тяжелая, ее на машине надо возить. Тогда она ему и велела купить старую машину, развалюху. И пошли прахом все три тысячи, что я им дал.
Пожить им хочется! Работать — как-нибудь, а жить — в свое удовольствие. Сын мой в этом на дядьку своего похож: подавай ему машины, бренди, песни и море. А овцы ему ни к чему. Но я же не вечный, не всегда смогу ему доплачивать, если он тратит больше, чем зарабатывает. Не то чтоб лет мне так уж много — за семьдесят еще не перевалило, — но я ноги на войне поморозил, слабые они у меня, плохо держат. Доктор сказал, что у меня развинтились коленные чашечки, вот и не держат. В войну отморозил, а сейчас сказывается. Говорит, надо бы новые чашечки ввинтить, нет другого средства, только таких искусственных чашечек еще не придумали. Искусственные суставы придумали, а вот чашечки — нет.
Ну ладно бы с коленями да с ногами — и с желудком погано. Что ни съешь — тяжесть внутри, словно камень проглотил. Положили меня в больницу — ничего не находят. Врачи только переглядываются. «Дай кровь!», «Дай мочу!» И то им дай, и это. А у меня все болит и болит. За той болью и другая пожаловала: приехали однажды сын и сноха — будто бы меня проведать. Обрадовался я им, пригласил сесть, сели они у меня на кровати, а сноха так и лебезит: и как я себя чувствую, и не подложить ли мне подушку поудобнее, а сын все в пол смотрит. Наконец решился и говорит, что хотят, мол, они купить новую машину, да не хватает трех тысяч левов. Как сказал «три», жена его перебила и говорит, что тремя вряд ли обойдутся — машины сейчас подорожали. И начала после этого мне объяснять, что нет смысла держать деньги на книжке — придется потом платить большой налог на наследство.
Понял я, зачем они ко мне пришли, прогнал их, но скоро жена моя появилась, и уже с адвокатом — надо, мол, наш дом на другой поменять, тогда, мол, она получит законное право на свою долю… Если со мной что случится…
Сколько лет мы прожили с женой вместе… Никогда б не поверил, что ей такое в голову придет, когда я при смерти.
Опустошили эти люди мое сердце, и сказал я себе: «Ну и пускай помру! Для кого жить-то?» — и перестал принимать лекарства. Тогда врачи меня выписали и отправили домой доживать свой срок. Дали мне с собой прорву порошков и снадобий всяких… Отдал я их ветеринару, а он собаке укол сделал, вроде как против бешенства, чтоб сторожа не подстрелили.
И начал я помирать. Пока однажды вдруг не спохватился: «Да зачем же мне загодя сдаваться? Да лучше я встану и сам пропью и проем свои деньги, чем дарить их разным дармоедам». И вот научила меня одна соседка ягоды терновника сосать. Они кислые, терпкие, но — хочешь верь, хочешь нет — подняли они меня на ноги. Встал я — и опять к своим овцам. Сызнова пасу их, не смотрю даже, где можно, где нельзя. А лесничий считал, что я от рака вот-вот помру, и не трогал, хотя и был строг по этой части. «Паси, говорит, дядя Янаки, где хочешь. И тебе жить недолго осталось, да и мне вот-вот на пенсию…» На хороших пастбищах овцы откормились, порезвели, еле поспевал за ними. Пробовал найти подпаска, да кто из молодых согласится нынче овец пасти? Задразнят… Хорошо, что парнишка Морчева с бригадиром подрался, прогнали его, вот и пришел ко мне… Восемьдесят левов я ему положил за одну только дойку, руки мои одеревенели от ревматизма, не могу уже сам доить. Я бы ему еще тридцать левов добавил, но только понял, что из него овчара не выйдет. Как хватит овцу — в руках половина ее шерсти остается. Привык железо ворочать и не понимает, что у овцы тоже душа есть. Ну, с этим бы еще ладно. Но однажды почувствовал я, когда ел, что молоко чем-то пахнет, да не пойму чем. На другой день — то же самое. Говорю себе: «Трава, что ли, от химических удобрений испортилась или еще что случилось?» И лишь на четвертый день понял я, что дело не в траве, а в подпаске моем. Застал я его, когда он цедил надоенное молоко через какую-то тряпку, глянул, а это — майка. Снял свою майку и цедит.
— Зачем ты, — говорю, — так делаешь? Цедишь молоко через майку?
— А что, — отвечает, — ничего ей не станется, майке.
— Майке — ничего, молоку — станется. Овечье молоко душистое своей майкой прованиваешь! И не стыдно тебе?
Сказал я ему это, да как об стенку горох, ему все трын-трава, прогнал я его тогда и сыну передал, чтобы вернулся, иначе конец отаре, но сын не явился. Так и пропали мои овцы. Пришел я домой вроде бы на заслуженный отдых, а такой получился отдых, что не приведи господь: ходишь по двору как неприкаянный — ляжешь, полежишь, ошалеешь от лежанья, опять встанешь, подвернешься жене под ноги — выругает тебя. Опять же и по овцам скучаешь. Собака в доме воет, и она по овцам тоскует, жена гонит ее со двора, а она — обратно. Я на защиту ее встаю, и до того переругались мы с женой, что я однажды Минчо-фельдшеру и говорю: «Дай мне яду, не хочу больше жить на свете». А он говорит:
— Постыдился бы! Рак тебя испугался, а ты яду просишь. Ты работать привык, потому тебе и тошно. Возьмись за какое-нибудь дело и оклемаешься.
Засеял я тогда овсом ноле на Медвежьем доле. Вырос овес по пояс, любо-дорого смотреть, да пронюхали об этом кабаны. Что тут будешь делать?! Из ружья стрелять нельзя: участок наш входит в охотничий заповедник, какая уж тут стрельба. А эти бесстыжие кабаны чувствуют, что они под защитой государства, и не уходят… Отойдут только чуть-чуть и глядят, ощерившись.
Придумал я тогда сделать что-то вроде пугала. Взял два пустых железных бочонка и повесил на обоих концах своего поля, да так, чтоб они качались. Изнутри я нацепил на них звоночки и колокольцы и так их приладил, что едва дернешь за веревку, они ударяются о стенку бочонка, и такой идет трезвон, что все мыши с поля разбегаются, не только кабаны. И собаку еще привязал на краю поля — пусть и она поддает жару.
Кабаны сначала убегали, а потом привыкли, проклятые, и не только перестали бояться звона и лая, но еще и на собаку нападать начали. Два раза бросались на нее, и оба раза я отгонял их дубиной, а на третий — это когда я спустился в овраг за водой — накинулись на нее и разорвали в клочья.
Остался я один: днем отсыпаюсь, а ночью гляжу и слушаю, и как начнут потрескивать сухие веточки в кустарнике, раскачиваю бочки, чтобы свиней напугать. Но тут в дело вмешался егерь. Является он однажды и давай меня ругать.
— Убирай, — говорит, — свои чертовы бочки отсюда, — они дичь пугают, а то составлю акт! Позавчера, — говорит, — медведица своего медвежонка заела на нервной почве. И все из-за твоих бочек.
— Составляй, — говорю, — акт, но бочонков я не уберу. Я сам сеял этот овес и имею право его стеречь, а медведицам своим давай валерьянку.
Больше егерь не заглядывал, да пришла другая беда: дернул я как-то за веревку, и чувствую, что она не натянута. Отрезали, значит. Подхожу к бочонку и что я вижу? Ни одного звоночка — все сняты. Сперва я подумал, что тут поработал егерь, но потом догадался, что это туристы. Проходили мимо, услышали перезвон, дождались, когда я в овраг за водой пойду, — и готово дело! Челебиева сноха видела, как один звонком моим похвалялся. Сейчас мода пошла делать в домах уголки под старину и увешивать стены звоночками. Я попросил старосту сообщить в милицию, но он меня отшил.
— Чего вздумал, — говорит, — из-за двух ржавых погремушек шум подымать. Наше село, — говорит, — развивается как курортный поселок, нельзя отпугивать туристов таким отношением.
Понял я тогда, что на мой овес всем наплевать.
Словом, колочу теперь по своим бочкам палкой, отбиваюсь от кабанов, но все это ненадолго. Кто знает, сколько времени они будут бояться палки. Третьего дня три кабана сунулись в овес, пробежали через все поле, остановились внизу, а потом обернулись и давай на меня пялиться, а глаза кровью налиты.
Теперь я перенес один бочонок под дуб, и, когда стучу, стою к дубу спиной, чтоб они не напали на меня сзади, — я ведь чувствую, что они хотят меня прикончить, как и моего пса.
А из дому жена прислала весть: «Приходи. Молодые у нас». Явились, значит, в гости.
Но я-то догадываюсь, зачем я им понадобился. Им нужны деньги с книжки. Сноха сказала моей жене: «Дед болен, и неизвестно, что с ним дальше будет, пусть возьмет деньги из сберкассы, не то потом государству налог платить за наследство». Налог, мол, больно высокий…
«Высокий ли, низкий, — сказал я жене, — денег не дам. Кто хочет жить, пускай сам наживает».
Да разве им втолкуешь? Тот, кто родился чабаном, в городе торчит, а городские сюда приезжают, учат нас, как пахать и сеять. Заставляем пчел давать уксус, а муравьев — мед, потому и мед подчас кислый, а уксус — сладкий.
Это я тебе говорю, жене я в тот раз ничего такого не сказал. Ей я сказал, что не могу оставить овес свиньям и что вернусь только после жатвы, если жив буду. Потому что кто знает, что мне подстроят кабаны. Сидят они сейчас наверху в роще и просят своего свинячьего бога: «Сделай, боже, так, чтобы этот старый хрыч убрался отсюда. Возьми его, боже, к себе, а мы овсом попользуемся». Им и в голову не приходит, что коли не будет меня, не будет и овса. Свинья — она и есть свинья: не думает, что посеять, а думает, что слопать. Поэтому в один прекрасный день они накинутся на меня, и загремлю я в овраг со своим бочонком. Услышишь, как что-то катится и гремит, — так и знай, что это отошел в лучший мир твой дядя Янаки, последний чабан и сеятель овса.
Перевод В. Викторова.
ГРАБЕЖИ И ПОДЖОГИ
Думайте, что хотите, а я скажу: «Да здравствует кино!» Ну, пока была кавалерия и у нас покупали овес, село наше было из всех сел наипервейшее. Каждую осень приезжал к нам ротмистр, забирал овес и оставлял полный ушат банкнот. Потом мы погружали овес на мулов, и караван трогался вниз, к городу, со знаменем впереди. В цене был тогда овес, потому что овес — душа лошадиного корма. Я сам служил в кавалерии и знаю, что только от овса шерсть у коней гладкая, только овес делает их ретивыми, они тогда ржут и кусаются, разве что стрелять из карабинов не могут и «ура» не кричат. К сожалению, кавалерию сменили мотомеханизированные части, и овес сгинул. Пытались мы еще его удержать, но из района дали команду: «Никакого овса! И так у вас тут ручной труд с высокой себестоимостью. Ваше дело — картофель и табак».
Взялись мы за картофель, но тут откуда ни возьмись колорадский жук. Как он нас в нашей дыре отыскал, не могу тебе сказать, но с той поры кто чем занимается, а мы все с жуком этим воюем. Жгли его, давили, врукопашную на него ходили, какой только отравой его не посыпали — перед всем устоял, проклятый, и еще больше размножился. Каждое лето с ним возимся, а в конце то ли соберем, сколько посадили, то ли нет.
К тому же и людей у нас все меньше становится, молодежь в селе не остается, редеют наши ряды, нас уже по пальцам пересчитать можно. Новых домов, как в других селах, мы не строим, электричество вот только провели да резервуар для воды сделали. На наше счастье, все прочее осталось у нас как было, поэтому киношники устроили в нашем селе съемочную площадку для картин о Болгарии до Девятого сентября[9]. Искали они и там и сям, да где еще найдешь другое такое село! Крыши у нас крыты каменными плитами, улицы кривые, мощенные булыжником, и корчма как корчма, и мужчины носят потури. И как пошли нас снимать — остановиться не могут… Каких только картин не было. Почитай все картины, где что-то происходит до Девятого или в турецкие времена, снимают в нашем селе.
И поскольку снимают у нас, им сподручно оказалось и здешних жителей в массовках использовать. Это им, конечно, выгодней, чем возить сюда людей из других мест, зря деньги расходовать. И другой интерес тут есть (это мне сказал один режиссер, вернее, не мне сказал, а оператору). «У этих, говорит, лица аутентичные». Сначала я не понял, что означает это слово, плохо это или хорошо, и спросил учителя из Добралыка (нашу школу перевели туда еще в прошлом году, и своего учителя у нас нет), и он объяснил мне, что «аутентичное» — это деревенское, местное, какое было в свое время… Истинное, значит.
«Вы были, говорит, большей частью углежоги, потому ходите пригнувшись, чтобы вас лесник не заметил, а у городских — походка другая. Из городского деревенский не получится — ни статью, ни лицом не выйдет. Чтоб его кожа, говорит, стала, как твоя, надо, чтобы ее триста лет ваш лясковский ветер дубил. Потому, говорит, вы и аутентичные».
Потом я слышал еще, как режиссер советовал артистам: «Смотрите, как крестьяне держат руки. Они у них не в карманах, а за поясом — вот так», — и он заставлял меня показывать, куда совать руки, как водить мула, держа повод всей пятерней, а не тремя пальцами, как делал один из артистов, как сморкаться, как кашлять, как скручивать цигарку, чтобы было аутентично… Ну, если лицо не слишком аутентичное, парикмахерши его живо приведут в порядок — намажут чем надо, бороду прилепят, усы, разве только глаза, налитые кровью, не получаются. А какой же ты, к примеру, жандарм или башибузук, если глаза твои кровью не налиты и в них огонь не сверкает! Как только не мытарил нас режиссер с этим огнем! Кричит в трубу: «Огонь должен быть в глазах! Огонь!» Огонь — а где его взять, этот огонь? Мы уже люди в возрасте, поутихли, поослабли, присмирели. «Гляди, — кричит, — зверем!» Старается режиссер, а дело не идет. То, что в глазах сверкать должно, само по себе не получится. Надо, чтоб оно изнутри шло. И тогда мы нашли способ — опрокинешь рюмку анисовой, такой взгляд делается зверский — куда там! Иной раз так глаза кровью зальешь, что они уж и не открываются. А веки должны быть чуть приподняты, — режиссер объяснил, что башибузуки именно так смотрели.
Но и тут мы в конце концов наловчились.
Платят тебе пять левов за массовку, и живешь себе остальное время в свое удовольствие. Хотя это, конечно, не одно только удовольствие. И крутиться приходится — будь здоров. Здесь столпитесь, туда идите, стань тут, стань там, а теперь ругайтесь, глотку дерите… И слезы лить прикажут, и чего только еще не заставят.
То турки на нас нападают, то народ играем — партизанам встречу устраиваем, потом вдруг жандармами назначат, только на жандармов наши редко соглашаются, так им стали не по пять, а по семь левов платить. Ну, а я тощий и в кавалерии служил, поэтому мне три раза играть жандармов приходилось, но на четвертый — дудки. В последней картине — не помню: «Рак против рыбы» или «Рыба против рака», чудно́е такое название — я играл старшего жандарма, а потом, когда в город пошел налог платить, этот, в окошечке, меня и спрашивает: «А ты случайно не был полицаем до Девятого? Я тебя видел».
С тех пор я жандармов больше не играю…
Вот башибузуки — другое дело. Давние это времена.
Наши привыкли к такой жизни, во вкус вошли. Ученые люди вокруг, бородатые. И бабенки приезжают — юбки короткие, одно название, что юбки — а им хоть бы хны. Это тебе не колорадского жука травить.
Процветает наш промысел, хотя были у нас и неприятности с режиссерами. Захотели они привезти для массовки людей из города, чтоб не все одних и тех же снимать, но мы сказали: «Нет!» Перекрыли воду в резервуаре, ну и с электричеством тоже… Есть у нас неисправный обогреватель, а трансформатор и без того слабоват, — как включим — враз перегорает. Пока аварийка явится, день и прошел. Поняли режиссеры, что нет смысла с нами ссориться, и больше нас не обходят.
Да и привыкли они к нам. Сначала, когда друг с другом ругались, все в сторонку старались отойти, чтобы мы их не слышали, а сейчас прямо при нас ругаются. Большинство у них бородатые, тут не поймешь, кто кого главнее, но как схватятся спорить — полдня не разойдутся. Я заметил: когда оба бородатые, — больше ругаются. А когда один с бородой, а другой без бороды — споров почти не бывает.
Спрашиваю я одного безбородого, почему, дескать, так (выпивали мы вместе). «А это потому, говорит, что бородатые нас ослами считают. А с ослами — какой спор!»
Заметил я еще, что режиссеры с усами потише, а безусые и бритые погорячей и посноровистей. У них и деньгами особо не разживешься, и прохлаждаться не очень тебе дадут. Они больше на пожары да на грабежи налегают — мол, на картины с пожарами и грабежами народ валом валит.
Поначалу подожгли у нас одну сторожку. Потом — овчарню. А потом поправилось — и дома пошли палить. На экране-то страх — огонь, дым. И чем больше дыма, тем лучше, поэтому кидают в горящий дом резиновые постолы, старые, конечно.
Первое время нас в дрожь бросало, как скажут: «Пали!» — но потом оказалось, что и тут для нас есть своя выгода. Отвалят тебе две тысячи за дом, свои манатки заберешь, — только корзины да рваные мешки оставишь, а после соберешь и плиты и балки, что уцелеют, и камень, и строй себе на том месте новый дом. Или опять же кто из города явится, продашь ему участок, да с материалом, да с плитами — и цена уже будет худо-бедно двойная. Стало быть, есть в них, в пожарах этих, выгода, и люди идут на это дело.
Ну и потеха тоже! Если снимают поджог, который до Девятого был, тогда только жгут, никто в дом не врывается, и жандармы со штыками стоят, караулят. Если же палят в турецкое гремя, тогда еще и грабеж добавляется. Сабли сверкают, женщины мечутся и вопят, мужчины с дубинами и топорами бьют башибузуков, любо-дорого смотреть…
А интересней всего бывает, когда дом поджигают как следует. Такое тогда начинается — треск, скрежет, гром, грохот, лучше близко не подходи! Огонь страшенный, ни живого, ни мертвого не щадит. Мыши, крысы — все бегут, пищат, стропила трещат, изгибаются, словно живые. А старые постолы, которых на чердаке всегда навалом, — ох и здорово корчатся в пламени. Марчов дом когда рухнул, как вылетели эти постолы полусгоревшие, как начали по двору прыгать и плясать — загляденье! Горят и скачут, горят и скачут, как живые, жаль, что оператор прозевал. Он стропила снимал, как они друг на друга валились, а постолы не снял, так потом ему режиссер задал перцу: «Такого, говорит, второго случая не дождешься!»
С той поры и начали искать старые дома с постолами, да их уж и нет больше…
И еще раз скажу — по тем картинам, что у нас снимали, нас и в городе узнаю́т. Стою я как-то в очереди за желтым кафелем, а продавец заметил меня и подзывает:
«Эй, говорит, усатый! Это не ты был там-то и там-то башибузуком? Иди, говорит, сюда и бери, чего тебе надо».
И дает мне кафель без очереди. Остальные только собрались рты раскрыть, а продавец как цыкнет на них: «Он, говорит, из кино, не может он ждать».
Сейчас я и арбузы так же беру. Узна́ют тебя — и уважат. Да и деньги опять же зарабатываем. С овсом и рожью у нас заело, и с картошкой в тупике оказались, а с пожарами да грабежами нам здорово повезло. Вот и сейчас наши все расспрашивают да выпытывают, будут ли еще съемки… И ждут. Ходят слухи, такой сценарий сочиняют, где все село поджигать будут. Киношники подарили нам машинку для кофе, и попиваем мы теперь кофе с бренди. Сейчас в нашем селе виноградную водку никто и в рот не берет. Глушим бренди и ждем новых пожаров и грабежей. Приедут снова парикмахерши с нежными ручками, и снова будем анисовку пить, чтоб глаза кровью наливались. Сын меня все в город зовет, но там уж больно дымно теперь, а у меня бронхит еще с фронта остался, так что я для городской жизни не пригоден.
И Шингалов Мите того же мнения. Он с девятнадцатого года, акцизным был, знает что к чему. Он говорят мне: «Тут, браток, будем сидеть, нечего нам с тобой шебаршиться. Наше, говорит, дело с этими фильмами идет нормально, и дальше не хуже будет». Он, Шингал, башибузуков играет, а я его с топором у дверей поджидаю. Столковались мы с ним и делаем это лучше каскадеров — молодых ребят, которые с лошадей на всем скаку прыгают и кувырком катятся, да и лица их режиссеру не нравятся. А вот Мите здорово аутентичный — оспой весь продырявлен и губы обвислые, как у турка, так что нет ему замены.
И он аутентичный, и я аутентичный, и мы рассчитываем, что пока будет кино да поджоги, без нас никак не обойдутся. Кто бы поверил, что из углежога я стану киноартистом! Что из двух тысяч декаров в наших горах будут обрабатывать лишь сто двадцать! Что из тысячи шестисот жителей нас останется семьдесят! И вот — дожили до всего этого. И колорадского жука видели, и кавалерия у нас на глазах на нет сошла, и поджоги стали у нас промыслом, и кто его знает, до чего мы еще доживем. Было бы только здоровье!
Перевод В. Викторова.
ВЕРХОМ НА КАБАНЕ
На скамейке перед церковью расположилась инвалидная команда, хотя нет еще половины десятого — времени, когда она обычно собирается в этом тихом и тенистом уголке. Солнце уже припекает, козы давно проследовали на пастбище, звено отправилось копать картошку, и деревенская площадь опустела. Слышно только, как в чешме булькает вода, капая в полное доверху цементное корыто. В инвалидной или, как в шутку величает ее Гочо Поряз, «несолидной» команде, он сам, Гочо Порязов, недавно вышедший на пенсию старший лесник, страдающий одышкой, Александр Гаваноз — девяноста двух лет, с гвардейской выправкой, мужчина еще бравый, Гого Рунтив — чуть помоложе Гаваноза, но с черными как вороново крыло волосами, Трифон Хромой — церковный певчий, и Пендив Личо, овчар в ТКЗХ, который в прошлом году лишился ноги и до сих пор еще с этим не свыкся.
Время от времени на скамейку к ним подсаживается и Калинин из сельсовета, инвалид войны, совершенно седой, хотя ему всего пятьдесят пять; сейчас, правда, он занят с каким-то приезжим, который полтора часа назад прикатил из города на такси.
— А что, дядя Гого, выходишь ты ночью на улицу? — первым нарушает молчание Пендив Личо.
— На улицу? Зачем? — с недоумением взирает на него Гого Рунтив.
— Ну… во двор… Для чего во двор выходят…
— Он хочет сказать, по малой нужде не встаешь ли, — объясняет Поряз, наклонившись к самому уху дядюшки Гого.
— Зачем же выходить, у меня бутылка есть…
Личо не удовлетворен ответом. Что-то его беспокоит, но он не решается спросить напрямик.
— А сам-то ты часто выходишь? — пробует прийти ему на помощь Поряз. — Главное в этом деле — на ночь много не пить… И кислого не потреблять. Кислое — оно, как бурав… Все внутри переворачивает…
Поряз собирается сообщить еще нечто по этому, безусловно важному для всех вопросу, но тут мимо проходит Начо, причетник, он следует прямехонько к колокольне. И вскоре уже слышится двойное «дан-дан». Так звонят по покойникам.
Гаваноз оборачивается к Гого и спрашивает без особого интереса:
— Уж не Лазар ли Танушов дуба дал?
Гого пристально смотрит на колокол, словно ожидая от него ответа, и не отзывается.
— Лазар, кто же еще! — отвечает за него Поряз. — Минчо-фельдшер вечером к ним ходил, стало быть, Лазар… Вечная ему память.
— Значит, опять отпевать! — отзывается Трифон.
Из конторы выходят Калинин с городским и направляются к скамейке.
— Здравствуйте! — делает приветственный знак рукой приезжий, он без шапки, в кожаной куртке и в джинсах, руки — в карманах. — Можно к вам подсесть?
«Несолидные» сдвигаются потеснее.
— Присаживайся! — показывает на место рядом с собой Гаваноз и с любопытством разглядывает городского.
— Ты часом не ветеринар? — тоже сверлит его глазами Гого Рунтив, которому надо холостить поросенка.
— Он — режиссер, — объясняет Калинин. — Будет снимать у нас фильм. Ему нужно тридцать человек для массовки набрать, но только чтоб не старше тридцати пяти.
— Таких у нас нет. А старые понадобятся — вот они мы! — отвечает Гаваноз.
Звонит телефон, и Калинин уходит в сельсовет. Режиссер ерзает на скамейке, поглядывает на свои электронные часы, наконец решается объяснить, в чем дело.
— Товарищей жду. Должны на микроавтобусе подъехать, но что-то запаздывают.
— Приедут, куда им деваться! — успокаивает его Гаваноз.
Причетник спускается с колокольни и переходит улицу, направляясь к церковной мельнице, весь в муке, как всегда, степенный, неторопливый.
— Кто умер, а, Начо? — спрашивает Личо, хотя ему уже все известно.
— Лазар Танушов, — на ходу отвечает Начо.
— Таем помаленьку… — вздыхает Гого Рунтив. — Еще одного артиллерия эта, склерозная, на тот свет отправила.
— И тебя отправит, будь спокоен, — невозмутимо отзывается Гаваноз. — И тебя, и меня! А покамест погрейся еще малость на солнышке, неизвестно ведь, кого раньше.
— Да бросьте вы про эту безносую! — вмешивается в разговор Хромой. — А охотников вам не надо для массовки? — обращается он к режиссеру. — Знатные у нас есть тут охотники! — добавляет он, не дожидаясь ответа. — Порязова взять. Такого второго не сыщешь… Высший класс!.. По радио о нем говорили не то два, не то три раза… Да вот, познакомьтесь…
Поряз поворачивается к режиссеру и протягивает руку.
— И много тут у вас охотников? — спрашивает режиссер, скорее для поддержания разговора — его смущает наступившее молчание.
— Есть, конечно, но чтобы как Порязов — оседлать дикого кабана, — таких ни в селе, ни в районе больше нет!
— Раз кабан, значит, дикий! — неожиданно замечает дядюшка Гого Рунтив. — А то какой же он тогда кабан?
— Все равно, важно, что на нем верхом ехали, — снова встревает Хромой.
— Верхом? Но каким образом? На спине? — недоумевает режиссер.
— На спине, конечно… Но это еще не все… Ну-ка, Гого, расскажи товарищу режиссеру, это ему будет интересно…
Все поворачиваются к Порязу, но он не спешит с рассказом:
— Ну да, на спине… Кабан бежал-бежал, а я — хоп! — Поряз делает движение рукой, показывая, как он вскочил на кабана.
Режиссер ждет подробностей, но Поряз тянет, ожидая, чтобы его попросили. И его действительно начинают просить:
— Давай, давай, Гого, расскажи!
Поряз, словно нехотя, приступает к рассказу:
— Ну, все дело началось с моего ружья. Фузеи моей. Попалась она на глаза директору Винного подвала — его к нам поохотиться привезли, — увидел он, значит, мое ружье и говорит: «Из этой железяки стрелять собираетесь?» «А что, — говорю, — я всегда из нее стреляю». Ну, винцо попиваем, козлятину жарим — дома у меня сидим, команду на завтрашнюю охоту сколачиваем. «Вот ружье, видишь»? — сует мне директор под нос свое ружье, ну, правильное ружье, что-то вроде берета или балета[10], и сейчас не скажу тебе, какая у него марка. Красивое ружье, блестит, штуковинами разными отделано. Экстра, словом… «Из твоего ружья, — говорит, — и кошку не убьешь, а ты — кабана…»
С этого и заварилась вся каша.
«Товарищ дорогой, — говорю я директору, — если мое ружье не убьет кабана, я руками его поймаю!» — «На словах-то и я поймаю», — смеется директоришка. «Не на словах, а на деле! Сяду верхом, — говорю, — на кабана и недоуздок на него накину. Давай, говорю, биться об заклад. Проиграю, говорю, бери этот дом, вместо дачи тебе будет, а выиграю — прощайся со своей пушкой!» — «Ладно, говорит, идет! Только, говорит, не жалуйся потом, что это мы по пьянке…»
Побились мы, значит, об заклад, переночевали и утром — на охоту. Десять человек и три собаки. Ну, началось, как положено — стукотня, крики, и слышу я вдруг — трещит в зарослях. Говорю своим: «Выйдет кабан — не стреляйте, мне он живой нужен!.. И ранить не вздумайте!..»
— Триста ок, мамочки милые! — восклицает Трифон Хромой. — Только в кино снимать! — он поглядывает на режиссера, но тот смотрит в рот Порязу и ничего не слышит.
— Триста без головы, — уточняет Поряз.
— Это невероятно! — режиссер приходит в себя. — Это невероятно!.. И вы убили его?
— Зачем же мне его убивать, — продолжает Поряз. — На спор-то я должен верхом на нем проехаться. Оседлать! Убить-то легче легкого… А тут — или верхом сяду или дома своего лишаюсь… Я, когда об заклад бился, не подумал сгоряча, что́ там еще подвернуться может во время охоты — поросенок нормальный, или свинка, или кабанище какой-нибудь клыкастый… Так оно, кстати, и вышло… А пока что, значит, думаю, хоть бы повезло на какого поменьше, а уж другой раз буду держать язык за зубами…
— Покороче давай, дело говори! — замечает с каким-то раздражением Гаваноз, который знает уже все наизусть.
Поряз смотрит на него искоса и, не торопясь, продолжает:
— Собака крутится около можжевельника: «Тяв, тяв!» — но в сторонке держится. Ближе подойти не рискует. Лаять лает, но видно, что самой боязно. «Ах, мать твою, — говорю себе, — уж не медведь ли там, медведя еще не хватало на мою голову». Хотя кабан не менее опасный, если на тебя кинется. Стал я на тропинке эдак чуть сбоку, — чтобы и кабану было где пройти, и я мог на него с ходу прыгнуть. Ружье у меня за спиной, жду зверя и ухо востро держу — дикая свинья, она как снаряд летит! Надо быстрее молнии быть, если вскочить на нее хочешь… Ну, я — кавалерист, на коня одним махом взлетал, но тогда-то мне двадцать три было, да и кабан, как-никак, все-таки не лошадь…
— Но вы действительно… — режиссер колеблется, спросить или не спрашивать.
— Да как же иначе — ведь я об заклад побился! Хочешь не хочешь, надо на кабана прыгать, а не то уплывет мой домишко в чужие руки. А сын мой на этот дом давно заглядывается, дача ему, вишь, нужна. В банке он служит, в городе… Да он меня в порошок сотрет, если, значит, отцово наследство у него из-под носа уведут.
— Значит, это правда, — волнуется режиссер.
— Ну не стану ж я вам в глаза врать! — распаляется Поряз. — Я ж говорю, как залаяла собака на можжевельник, гляжу, выходит снизу Мите, он из Брезова, — и давай лупить в жестяную банку, — мы его на это дело взяли. Испугался кабан, слышу: «ррр-уххх!» — и тут он выскакивает из можжевельника и по тропке прямо на меня чешет — косматый, черный, как из пушки выстреленный. Три метра, наверно, между нами было, когда я подпрыгнул, а он мне под ноги ринулся, и оказался я у него на загривке. Хорошо, что щетина на спине у него дыбом стояла, она вроде как смягчила удар… Чувствую я, что на спине кабаньей сижу, за уши схватился… Держусь за уши, ноги под животом сцепил и тогда уже подумал: «Ну а дальше? Дальше-то что?! Кабан вперед несется, с такой силой летит, что ничегошеньки вокруг не видно, чувствую, пихты так и свистят: «шш-шш!» А позади крик слышу: «Ого-го! Верхом скачет! Глядите!»
— Значит, оседлали кабана? — все так же серьезно спрашивает режиссер.
— Оседлать-то оседлал. Я же говорю вам — все видели, что оседлал, но оседлать — полдела… Что еще впереди было…
— Я, Гого, на твоем месте всадил бы ему нож в голову, — задвигался на скамейке Хромой.
— Нож, — с презрением отмахнулся Поряз. — Пробовал я ножом, Трифчо, сколько раз тебе говорил… Достал я перво-наперво нож, вот этой самой рукой, правой… Вытащил нож и всадил кабану в лоб, а нож — в куски, одна ручка в руках у меня осталась. Знаешь небось какая голова у кабана? Не кость, а сталь! Пуля от нее отскакивает, не то что нож! Ну вот, значит, летит зверюга, а впереди — Караджов камень. Двести метров обрыв… Будет из меня крошево, если туда сверзимся.
— И что же вы тогда сделали? — не выдерживает режиссер — серьезные лица слушателей говорят ему о том, что все это — сущая правда.
— А вот вы скажите мне, что вы бы сделали! — парирует Поряз. — Вы же режиссер, не кто-нибудь. Скажите, что бы вы сделали на моем месте?.. Ножа — нет, одна ручка. Ружье — за спиной, так что и захочешь — не выстрелишь. Да и времени нет — секунды на счету. Будто ветром на меня этот Караджов камень несет, и словно не скала это, а былка сухая…
— Да, положеньице… — задумался режиссер, глядя на Поряза с неподдельным восхищением. — И однако что же вы все-таки сделали?
— Пояс размотал — вот что я сделал!.. Этой самой рукой, левой. — Поряз демонстрирует свою руку, держит ее в воздухе, потом опускает. — Этой рукой разматываю пояс, связываю петлю, накидываю на шею кабану и затягиваю. Кабан вертит головой, укусить меня норовит, но шея толстая, не поворачивается. И слава богу, а то не было бы сейчас у нас этого разговору. Мама родная, чего я не передумал, пока связывал этот пояс… Чего только не пережил…
— Так и бывает, когда сдуру об заклад бьешься… — нетерпеливо постукивает палкой Гаваноз.
— А ты этот пояс хранишь? — ляпает вдруг Пендив Личо ни к селу ни к городу.
— Зачем мне его хранить? Сам же видел, что от него осталось. Одни ошметки! Ну ладно, дай доскажу товарищу, чтоб не томить его. Накинул я, значит, пояс на шею кабану, соскочил с него, ногами в землю уперся, остановить его хочу, чтобы привести потом на узде директоришке моему, предоставить, значит, тепленького. Но такое чудовище разве удержишь?! Слышу только: «ззип» — и в руках у меня — половинка пояса… А другая половинка — на кабане… Уносится… С шумом, с треском… «Эээх, — думаю, — все дело насмарку!» Снимаю с плеча ружье, и в последний момент: «Тр-р-рах!» Как громыхнет моя фузея, кабан — рылом в землю и кувырком. На триста ок кабанчик!.. Потом, когда мы его свежевали…
— Убили его, значит! — восклицает режиссер с горящими от восторга глазами.
— Убить — проще простого, а вот пока свежевали да домой волокли — вот когда наломались. Крови одной — река… Зато и ружье директорское — хорошее ружьишко оказалось… Беретом или балетом его называют, так и не упомнил… Продал я его за триста левов одному тут из Куклена. Он в Ливии работал, денег привез. «Хочу, — говорит, — дядя Гочо, приобрести ценную вещь». Ну и взял ружье за пятьсот левов.
Поряз поспешно заканчивает рассказ, потому что со стороны магазина появляется мерно рокочущий автомобиль-фургон. Автомобиль останавливается на площади, и из него высыпают длинноволосые ребята и девушки в джинсах, с аппаратурой…
Режиссер поначалу их не замечает, потом встает, как в полусне, словно забыл, где находится, и направляется к ним.
— Товарищ Петров! — подбегает к нему блондиночка с пестрой сумкой через плечо. — Есть телекс насчет метража…
— Сколько? — спрашивает режиссер, все еще под впечатлением рассказа.
— Сколько просили.
— Прекрасно! — машинально отвечает он.
— Будем начинать? — подходит и оператор, бритоголовый, с черной бородой, глаза — заспанные, под глазами — мешочки.
— Давайте!
Киношники во главе с режиссером удаляются в направлении школьного двора.
«Несолидные» остаются одни. Некоторое время все пятеро молчат… Молчат долго, наконец Гого Рунтив поднимает голову и произносит осуждающе:
— Очень уж заливаешь ты, тезка… Для чего… наплел ему с три короба…
Поряз смотрит на него неприязненно и ничего не отвечает. Зато вступается Хромой:
— Ладно, ладно… И ты туда же… Наплел… С три короба… А что он такого наплел? Кабана травили? Травили. Таскал его кабан? Таскал!.. Ну и что он наплел?
— Что оседлал… Ну и это… про пояс…
— Опять ты со своим поясом, — не выдерживает и Личо Пендив. — Был пояс — не был, — какая разница? Важно, что кабана оседлали.
— А откуда ты знаешь, сам или не сам я на него вскочил? — обращается Поряз к дядюшке Гого. — То, что я на нем сидел и скакал верхом, десять человек собственными глазами видели. И это не вранье. И не выдумки!
— А ты забыл, что рассказывал? — упрямится Гого. — Сам же говорил, что кабан, когда ты в засаде стоял, бросился на тебя и на себя вскинул… Разве не так?
— Ну и что, коли так? А прибавил я малость — опять же в интересах села, — меряет его Поряз негодующим взглядом. — Понятно тебе?
— При чем тут село? Наворотил черт-те чего, а село впутываешь. Селу-то это зачем нужно?
— Еще как нужно! До зарезу! — вскипает вдруг Трифчо. — Да разве мы теперь село? Ну сам посуди, какое же мы село! Вот Добралык — село, там по крайней мере община есть, и окружному совету они подчиняются. Пока ты в городе был, у нас и воду чуть не отобрали… Один настоящий ятак у них есть в Ляскове, еще трех из пальца высосали, и, пожалуйста — пекарню нашу к себе перетащили. И никто им про этих трех ни звука не сказал. А что наш на кабане сидел — это факт. Этого ни один человек отрицать не станет.
— Ну ладно, пусть будет факт, но нам-то какая от этого выгода? — не сдается Гого Рунтив.
Причетник, который возвращается с мельницы, чувствует, что страсти накаляются, и останавливается послушать.
— Селу — выгода, что оно прославилось, — наседает Поряз. — Скажи ты, Гаваноз, что было в окружном совете, когда мы пришли насчет воды? Не скажи я, что я тот самый, который на кабане ездил, — принял бы нас председатель?.. Уладил бы он это дело с водой или нет?
Гого Рунтив смотрит на Поряза и, сраженный его доводами, не решается спорить, но бывший лесник не дает ему прийти в себя:
— Видели вы когда-нибудь в нашей дыре генерала? Не видели. И никогда б ему тут не бывать, если бы не я — а вот явился же расспросить, как я на кабане скакал… А было такое, чтобы о нашем селе по радио передавали? — продолжает победоносное наступление Поряз. — Никто и слыхом о нем не слыхал, а теперь — услышали, благодаря тем, кто «наворотил черт-те чего»… А когда для Копривштицы[11] искали рассказчиков из народа, кого отобрали? Меня отобрали, не кого-нибудь, а Георгия Поряза! И потом по радио меня передавали, а по моей милости и о селе нашем все услышали. В жизни самое главное — чтоб о тебе услышали. Не знают о тебе, неизвестен ты никому — пиши пропало! — Поряз замолкает, но тут же, вспомнив о чем-то, распаляется снова:
— Не я на кабана залез, видишь ли, а он сам меня посадил… Большое дело… Люди о чем только не говорят и по радио, и по телевизору, и мы слушаем, и верим, а ему, видишь, надо, чтоб не в лоб, а по лбу. Сейчас каждый другого переговорить хочет… Мир на говорильне этой держится! Верно, Трифко? — ищет Поряз поддержки у церковного певчего, но вместо Хромого в разговор вступает Гаваноз:
— Ладно, Поряз, это все понятно, ты скажи лучше — туго тебе пришлось с кабаном-то? Только по совести говори, — требует он, — тут все свои.
— Десять человек нас было, это все верно, — подтверждает Поряз. — Пустили мы собак — и кабан выскакивает. Ну, один бабахнул в него: «Бу-ум!» А я его не вижу, но слышу. Выбежал я наверх и кричу: «Что там, ребята, убили кого?» — «Ушел, говорит, мать его… Ушел… Ранил я его, говорит, но — ушел… Смотри, говорит, следы какие… Копыта, как у теленка! Туда побежал, к оврагу…»
Собака моя рванула вниз, я за ней, в овраг. Там у ямины одной и давай она лаять, аж на дыбки встает. «Ну, говорю себе, тут он, значит, кабанчик». Они, когда раненые, к воде тянутся. Я на тропке стою, в ружье у меня — два патрона. А как залаяла собака «тяв-тяв», что-то хрюкнуло и из ямины, между берез, выскакивает косматый кабанище! И — прямо на меня! Не успел я посторониться, он меня и поддел. Хотел в живот пырнуть, я подпрыгнул, а кабан мне под ноги, ну я и шмякнулся ему на спину, да еще лицом к хвосту, так его растак… И понесся он со мной как бешеный. Прет на гору и меня на себе тащит… Что, думаю, делать? Спрыгнуть — задавит меня своей тушей. На спине держаться — вытряхнет в каком-нибудь овраге, костей не соберешь. Наконец кинулся он к лесу, я назад гляжу, а он вперед шпарит, ворвался в лес, тут меня ветками смахнуло, и очутился я на земле.
Ружья, правда, не выронил — в руках держу. Перекувырнулся я, только подыматься стал — кабан возвращается. Раненный, разъяренный, все рыло в пене, ему бы бежать, шкуру свою спасать, а он мне отомстить, видно, хочет — прямо на меня летит… Ружье хоть и при мне, да гильзу заклинило, не могу выстрелить.
— Ты когда же это понял, что заклинило? — угрожающе поднимается со скамейки Пендив Личо и подходит к Гочо Порязу, глядя на него в упор. — Ты же сейчас вроде правду говоришь?
— Ну ладно, если хочешь знать, не до ружья мне тут было, — поправляется, смутившись, Поряз. — В трех метрах это чудовище косматое, на губах пена, а я тебе буду о ружье думать… Ружье, если хочешь знать, я выронил, когда меня кабан поддел. Какое уж там ружье… Хорошо, моя собака на кабана бросилась, отвлекла его, он — за ней, и про меня забыл.
Тогда я как заору: «Санде, где ты там, меня кабан сожрет!» Кричу, сам прикидываю, на какую сосну залезть, а сердце мое «тук-тук», стучит, что твой молоток. Вдруг вижу — сверху Харизанов бежит, вскинул двустволку и давай палить: «бах», еще раз «бах-бах»!! Палит в кабана, у того щетина клочьями летит, а на ногах еще держится. Лишь с четвертого выстрела упал…
— А когда тебя кабан на себе таскал, страшно было? — интересуется Трифчо.
— Ничего я не чувствовал, Трифчо, когда свалился только — тогда в груди захолонуло.
— Вот это уже по-божески. — Гого Рунтив ерзает по скрипучей скамейке.
— Тихо, режиссер идет… — предупреждает Трифчо. — Ты, дядя Гого, смотри не проболтайся. Мы тут договорились — все, что Поряз наговорил, завсегда подтверждаем. А не то возьму у тебя челюсть вставную, чтобы тебя обезвредить.
Трифчо смеется своей шутке, но все остаются серьезными. Прошло то время, когда они смеялись, где надо и где не надо. Да и не до смеха тут, потому что режиссер уже рядом, и с ним — бритоголовый оператор.
— Вот этот! — показывает ему режиссер на Порязова. — Сделайте несколько проб. Пойдет в дело, не могу сейчас сказать, где, но пойдет… Это не просто человек. Это — открытие, абориген с ярчайшим колоритом. Я тебе расскажу потом, а может, и он сам…
— Сейчас — не могу! — поднимается Поряз. — Завтра! — машет он рукой, но режиссер его останавливает:
— Минутку, минутку!
Две блондиночки подбегают к Порязу.
— Гримировать его, товарищ Петров?
— Да, пожалуй… Гримируйте, Цецка! — распоряжается режиссер. — Приведите его в порядок, пожалуйста.
Надка и Цецка достают коробку с гримом и принимаются пудрить Поряза. Затем берут его голову, причесывают, протирают лицо мокрым платком, а фотограф пока что настраивает аппарат.
Дядюшка Гого Рунтив с завистью следит за этой операцией, потом поправляет съехавшую челюсть и наклоняется к самому уху Гаваноза:
— Вот, побратим, что значит оседлать кабана!
Перевод В. Викторова.
ЛИСТЬЯ ГРАБА Эссе
ЧУДО
Все сколько-нибудь стоящее в этом лесу пало под топором дровосеков, и остался от него только реденький подлесок — худенькие, юные деревца, и среди них одна-единственная толстокорая и видавшая виды ель. Пощадили ее отнюдь не из почтения к возрасту, а потому что она вся сгнила, и теперь эта уцелевшая ель напоминала исполина в кругу тоненьких стволиков.
Исполином ель выглядела издали. С точки зрения человека. Но дятлы безошибочно определяют состояние деревьев, узнают, какие из них крепкие, здоровые, а какие уже гниют. Определяют это даже через толстенную кору и безжалостно ее продырявливают. Так продолбили они и ель. Превратили ее в решето, и в проделанных ими дырах нашли приют все бездомные звери и птицы, дупла которых были уничтожены, когда рубили лес.
Так старая исполинская ель стала удивительным общежитием птиц и насекомых, вместилищем всевозможных судеб. Белки заняли самые верхние этажи этого общежития — несколько семей, молодых и старых, набились в тесные дупла и ожидали, что дятел расширит их жилплощадь, даст им новые квартиры. А дятел и так трудится без устали, себя не щадит, но каждого дупла ожидают дюжины бездомных. Прошлым летом семья куниц-белодушек сильно увеличилась, а места не хватало, и маленькие и большие пользовались дуплом посменно. Одни забирались внутрь, другие ждали своей очереди у входа.
Две семьи лесных куниц жили на самом нижнем этаже, две почтенные пары, которые, наблюдая за трагедией своих двоюродных родичей белодушек, не решились размножаться.
Птицы были в лучшем положении — ветвей для них хватало, но это касалось птиц, которые вьют гнезда. Птицам же, которые живут в дуплах, приходилось еще хуже, чем четвероногим. Целой стаей прилетели гонимые отовсюду совы. Большинство филинов при рубке леса оказались на земле и погибли под палками дровосеков, но несколько еле-еле спасшихся устроились на старой ели, захватив три самых больших дупла. Три филина расположились внутри, два же — к ужасу беззащитных мелких птах — остались снаружи.
Можно было думать, что между обитателями вековой ели разгорится борьба не на жизнь, а на смерть — за жилье, за дупла, но вместо этого произошло некое чудо: сплоченные общей бедой, сильные и слабые примирились друг с другом. Филины не покушались на маленьких соседей, а отправлялись на охоту в другие места. Семья сычей и семья певчего дрозда жили в одном дупле. Белки несколько раз ошибались «дверью», но обычно агрессивные белодушки даже не показывали зубов.
Настоящей загадкой было поведение орла. После долгих бездомных скитаний в горах он спустился на старую ель и, подавив свою общеизвестную гордость, остался жить рядом с дроздами и иволгами… Представьте себе только: высокомерный орел, который не знал иных друзей, кроме крылатых облаков, довольствуется обществом ветреных совушек.
Следовало ожидать, что свирепые соколы воспользуются тем, что в одном месте скопилось столько пернатых, и нападут на них, но, к всеобщему изумлению, они делали круг над старым перенаселенным деревом и, хотя были голодны, летели в поисках добычи дальше.
Даже свирепые соколы понимали, что это не обычное дерево, битком набитое дичью, что для лесных тварей это ноев ковчег.
Перевод В. Викторова.
ЛИСТЬЯ ГРАБА
Ветер — один, но лесная песня звучит по-разному. А это потому, что листья в лесу разные. Листья горной осины начинают покачиваться на своих тонких и высоких каблучках от малейшего дуновения ветерка, они танцуют, кружатся, изгибаются и так и сяк, и туда и сюда, а их нежное трепетание порождает звуки, подобные убаюкивающему шороху осенних дождей. Звуки эти монотонны, невыразительны, как глухой говор, в них не чувствуешь сердечного волнения, они бесстрастны, безмятежны и… они не задевают душу.
Сосновые иглы — нечто совсем иное: ножка, стан — все у них — в одном острие, в одной вонзившейся в дерево струне, которая рассекает ветер, и тогда вместо нее, струны, содрогается раненый ветер. Это и порождает тот печальный и недужный стон, который издают сосны в ветреную погоду — он напоминает завывание волчьей стаи.
Между словоохотливой балаболкой осиной и суровой величественной сосной располагается целый оркестр из деревьев с самой разнообразной листвой (свирели, свистульки и струны). У явора, хотя он могуч и ветвист, своей мелодии нет, но зато металлическое звяканье его крупного листа совершенно незаменимо, когда нужно припугнуть лесную шушеру резкими и полными напряжения звуками. В таких случаях явор просто бесподобен: он колотит в свои тарелки до хрипоты — листья его в самом деле напоминают оркестровые тарелки — и, послушный всем ветрам, не угомонится до тех пор, пока ветер не скажет ему: «Довольно!»
Громогласен, как и явор, но не так запальчив дуб. Он не станет шуметь и колыхаться при первом же дуновении ветра. Дубу нужно подготовиться, воодушевиться, убедиться, наконец, в том, что это настоящий ветер, а не какой-нибудь там капризный зефир. Тяжелая, словно подбитая мхом и кожей дубовая листва медленно раскачивается, но уж если ее растормошить — дубрава может перекрыть голос океана.
Дубу пытается подражать «бук зеленый», и он тоже шумит, гремит и грохочет, и он, как и дуб, словно бы волнуется, но вслушайтесь в его песню, и вы поймете, что нет в ней истинного душевного волнения, а одни только свары из-за места повиднее, подобные праздной и бесплодной стукотне пустых бочонков.
Среди этих звезд лесного оркестра для шелудивого граба, который ни статью, ни голосом не вышел, вроде бы и нет в лесу места. Его листья — кожистые, мохнатые, жесткие, заскорузлые и скрюченные — не могут ни рассекать воздух подобно струнам, ни звенеть, как тарелки. Они и с ветром-то поладить как следует не способны. Стеганет их ветер: «Валяйте, ребята!», а они либо вздохнут, либо вообще промолчат. Еще раз хлестнет: «Запевайте эту песню!», а они знай свое тянут. Да и музыка у них не всегда одна и та же: вначале подумаешь: «окарина!», потом покажется, что это пикколо, а еще через мгновение готов будешь поклясться, что слышал свистульку из пшеничного колоса.
С такой пищалкой на люди не выйдешь, но представьте себе, что было бы без нее: оркестр из одних «асов»! Из тарелок, например! Ну, можно еще контрабасы добавить! И что же получится, а? Оглушительный гром и то вынести легче. Или, скажем, раскачает ветер буки, и начнут они бахвалиться, аж до свиста в ушах! Гудение сосен и то легче вынести, но из одного гудения, даже рева самого страшного, разве получится песня? Как вы думаете?!
Вот на этот случай предусмотрительная природа и создала грабы: много в песне тоски-кручины — граб своим смехом ее развеет; слишком гневная песня — умерит гнев своей беззаботностью; слишком мрачная — смягчит ее нежным своим шепотом.
Гремит лесной оркестр — горы дрожат. Вопят во всю мочь буки, гудят сосны и пихты — поневоле о втором пришествии подумаешь, так и ждешь, что сейчас разверзнутся хляби небесные и раздастся громоподобный голос судии:
«Грешники и простые смертные, землю населяющие, трепещите, ибо пришел ваш последний час!»
И вот тогда-то и вступают окаринки грабовой листвы, и ты начинаешь вдруг понимать, что грохот лесных труб, барабанов и контрабасов вовсе не предвещает никакой опасности, что это обычный фон для лирической исповеди леса, прелюдия к философскому откровению, и что свистульки грабовой листвы только что совершили маленькое, но полезное чудо, преобразив мятежный шум леса в п е с н ю!
Перевод В. Викторова.
СВЯТЫЕ
Есть над селом гора, на горе — часовня, а рядом с часовней — дуб. Ежегодно в Ильин день[12] здесь собирались люди, закалывали жертвенных животных, давали обеты, а потом шла гульба с плясками и звонкими песнями. Обеты давали святому Илье, но барашка закалывали под дубом, и горячая кровь овна омывала корни Дуба — старого языческого бога этой горы. Под Дубом же и варили барашка в двух больших казанах. И сейчас еще сохранились старые кострища, выдолбленные в земле, полные пепла и сажи — здесь готовилась некогда жирная баранья похлебка. Вековой пепел! Сажа столетий! Память о буйных языческих кострах, пылавших здесь еще до того, как началось соперничество между крестом и Дубом, между пророком Ильей и языческим богом.
Барашка варили и ели на лужайке под Дубом. В часовню же относили лишь один котелок — для освящения. Женщины зажигали по свечке перед иконой Пророка, дьячок дымил возле нее кадилом, священник отделывался двумя-тремя «аллилуйя», и все возвращались на лужайку под Дубом, где и начиналось настоящее празднество с угощением и плясками.
Каждый год, с тех пор, как под горой появилось село, и почтение и угощение делили между собой Святой и Дуб. Седобородый Святой восседал наверху, в часовне, тощий, насупившийся, неприступный и раздраженный, с угрожающе поднятой рукой. Взгляд его пригвождал к месту того, кто входил в часовню. Каждый невольно останавливался и терялся, читая в немом укоре этих холодных, пронизывающих глаз свой обвинительный приговор.
Может быть, поэтому люди не очень любили заходить в часовню и предпочитали зеленую лужайку под гордым и величественным Дубом. Это было дерево, исполосованное шрамами от молний, дерево, которое защищало землю от оглушительной кары небесного пророка. Люди приходили к Дубу как к близкому существу, а не как к богу. Они доверяли ему, делились с ним своими надеждами на здоровье и урожай.
Вот почему, когда священник проходил мимо Дуба в часовню, крестьяне предпочитали оставаться возле дерева. Когда священник наверху молился святому, они пели свои песни внизу, под Дубом. Когда священник ублажал барашком святого Илью, люди угощали Дуб.
Так и шли годы и столетия. Дуб и Святой оспаривали первенство: оружием Ильи-пророка были предупреждения и угрозы, оружием Дуба — заступничество и ласка. Один устрашал людей, другой — приносил им радость. Святой непрестанно напоминал о грехах, о долге человека перед Небесами, Дуб — о долге Жизни перед человеком. Один потрясал небо, другой — утихомиривал. Пророк грохотал громами, Дуб — отражал их…
Так два святых жили и соперничали испокон веков, с тех пор, как существует гора и часовня на ее вершине, Илья-пророк — наверху, на своей скале, Дуб — внизу, на своей лужайке. Пока наконец не разрешился однажды этот спор.
Прошлым летом отправились люди на Ильин день к Святому Илье, но… дальше Дуба так и не пошли. Там и барашка закололи, там и напировались да наплясались в свое удовольствие.
Отступил Святой перед деревом, радость людская одолела страх.
Перевод В. Викторова.
РОДОПСКАЯ КОШМА
Сколько я их перевидал за свою жизнь, сколько раз, бывало, укрывался ими, но приглядеться по-настоящему к этим плотным одеялам и коврам, сотканным из козьей шерсти умелыми руками родопчанки, заставила меня одна загадка.
Собственно, мне давно уже бросилось в глаза, что в Родопских горах у болгар-христиан никогда не увидишь пестрой кошмы — или халишта, как называют их в этих краях. И наоборот — болгарки мусульманского вероисповедания никогда не соткут одноцветного халишта из суровой шерсти. А ведь и мусульманка и православная — веточки одного родословного древа, на одном языке говорят, рядом, дом к дому, живут, на одном плетне свои халишта развешивают, а вот халишта эти такие несхожие. Почему? В чем тут причина? Присмотритесь, как «православная» расцвечивает передники и торбы, с каким вкусом и изяществом вышивает свою одежду, и вы сразу поймете, что дело тут не в отсутствии художественного чутья… Тем не менее, в какое бы родопское село я ни приехал, я видел в домах болгар-христиан все те же халишта из некрашеной, суровой шерсти, тогда как у болгар-магометан ни разу не встретил двух одинаковых — и по расцветке, и по узору. Каждая такая кошма — плод неистощимой творческой фантазии, которая сочетает краски свободно, смело, иногда даже дерзко!
Я долго ломал голову, пытаясь определить, где же находится в этом искусстве водораздел, где пролегает невидимая грань между каноном и удивительным многообразием, между безграничной свободой и диктатом традиции. Разгадку неожиданно принес разговор со Славчо Дичевым из села Манастир, что недалеко от Смоляна. Славчо рассказывал мне о временах туретчины, о разбоях и насилиях, которые чинили тогда в их краях головорезы-мусульмане.
«Только, бывало, и ждут, чтоб мелькнуло где что-нибудь яркое, пестрое — галерейку ли кто побелит или одеяло полосатое на плетень вывесит, тут же налетят, разнесут в пух и прах».
Попонку поярче соткать и думать не смей! Лошадь, оружие и яркие цвета были привилегией господ. Специальными фирманами турецкие султаны запрещали своим подданным-христианам носить яркую одежду. Отвар из листьев грецкого ореха — вот единственный краситель, на который не было запрета. Никаких других красок, никаких узоров! Серый цвет смирения должен был прикрывать и глупость и ум, и величие и ничтожество, и богатство духа и скудость. Вот, оказывается, в чем дело-то! Вот в чем секрет! Наши мусульманские братья по крови просто-напросто имели право пользоваться красителями, украшать — иной раз даже чрезмерно — свои кошмы, как им угодно!
Итак, «загадка» раскрыта. Но пока я расспрашивал и допытывался, по мере того как все пристальней всматривался в кошмы, я стал различать в их расцветке особые сочетания, которые действовали на меня как музыка, что-то нашептывали, точно в сказке, что-то внушали, навевали радость или грусть. Я как бы сроднился с ними, мы начали друг друга понимать.
У меня и сейчас перед глазами «огненная» кошма из села Забырдо. Первая, которую я по-настоящему узнал. Она принадлежала к типу «полосатых», где черный, малиновый и оливковый цвета перемежаются с колдовским оранжевым — зрелым, богатым и жарким цветом, исходно желтым, но основательно «приперченным», благодаря чему он и стал огнем, который светит, не ослепляя, и греет, не обжигая; огнем укрощенным, ручным, сверкающим во всю свою силу рядом с оливковым и черным. Чернота придает ему блеск и возвышенность, оливковый цвет — глубину, а вишневый — точно заря на рубеже между ночью и оранжевой полосой рассвета!
«Огненная» кошма выглядит всегда по-разному — чуть изменится освещение, меняется и она. Под лучами закатного солнца сверкают оранжевые полосы. А когда солнце встает, они как бы сникают, укрощаются, и вместо них оживают, отливая маслянистым блеском, оливковые, дневной свет по-вечернему меркнет, и так продолжается до полудня. А вот в полдень приходит черед заиграть вишневому цвету. Черный цвет уж на что неподвижный, но и он меняется: днем как бы растет и суровеет, а к вечеру смиренно съеживается и снова превращается в рамку для оранжевого.
Так «живет» кошма, постоянно меняясь, полосы на ней попеременно вспыхивают и гаснут, властвуют и услужают, и никогда не понять, какого же она в сущности цвета, какой расцветки. Соткала эту кошму Сайфина Рулева. Год напролет ткацкий стан у нее стоял заправленный, но она не бралась за уток. Год напролет она «спаривала» нити, подбирала цвет к цвету, набрасывала, так сказать, эскизы прежде, чем перейти к созданию картины, прежде, чем четыре цвета не превратились под ее руками в сорок четыре.
Дочь Сайфины попыталась соткать в точности такую же кошму, но за неимением оранжевой краски взяла желтую. Так родилась «неистовая» кошма — желтый цвет в обрамлении черного буйно взметнулся выше Забырдовских скал. Эта кричащая, самовластная кошма ничего возле себя не терпит, ни с чем не может ужиться — необузданная, надменная, она похожа на шкуру сказочного змея. Я спросил умудренную опытом и годами Сайфину, отчего кошма дочери так отличается от ее кошмы, и Сайфина ответила мне так:
— Позабыла она, что желтый цвет взнуздать надо, к вишневому пристегнуть.
В желтом цвете и нечистая сила и дух святой, нельзя его соединять с чем попало!
Спросил я в том же селе Забырдо у другой мастерицы-искусницы, чьи руки расцветили узором не одну кошму, как она «спаривает» цвета, как подбирает их.
— Да просто кладу рядышком и гляжу: одни, сразу видать, ладят промеж себя, другие отпихиваются. Ну, раз отпихиваются, я их разделю еще каким цветом, пущай издали друг с дружкой перебраниваются.
Она объяснила, что желтый цвет в ладу с ярко-красным, оранжевый хорошо ложится рядом с алым, лиловый в дружбе с желтым, а потом показала мне одну свою кошму — кайма лиловая, а посередине зеленый квадрат в белую крапинку. Мне случалось видеть нечто схожее на здешних лугах: трава, пятна снега, а по краям — лиловые крокусы… Кошма повторяла природу… Именно различие картин природы в разных селах Родопских гор и определяет те различия в красочной гамме, которая используется в том или ином селе.
В Лыките, например, в поднебесном царстве голубых скал, господствующий тон — зеленовато-серый цвет известняка, в Забырдовских «темноглазых» кошмах господствуют фиалки, пихта и сосна. Если хоть самая малость красного цвета и проберется в эти кошмы, то лишь затем, чтобы воспеть хвалу зеленому. Желтая спелая рожь и маки — вот пейзаж более южных селений — таких, как Беден, Брезе и Могилица. Желтая спелая рожь и маки — такова и расцветка их «солнечных» халишт. Чем дальше на юг, тем ярче желтизна ржи и алее маки, придающие халиштам тепло Юга и великолепие Востока.
Помимо «пейзажных» особенностей, кошмы отличаются и рисунком. Большой, устойчивый квадрат, например, вы встретите только на забырдовской кошме, тогда как ромб и маленькие квадратики, называемые еще «просфорками» или «глазками» — это эмблема села Могилица. В отличие от могилицких в Бедене кошмы, как правило, полосатые. По расцветке и рисунку можно безошибочно определить, где какая кошма создана, причем не только в каком селе, но и в какой части села, на каких выселках.
В Смиляне нам бросилась в глаза яркая, веселая, смеющаяся кошма, лежавшая среди десятка темноглазых смилянских своих сестер, высившихся горкой на расписном сундуке. Мы удивились — откуда она такая взялась? Но, порасспросив, поняли, что смеющаяся кошма попала в Смилян с приданым одной молодицы родом из Могилицы. Так, со времени свадьбы, этой кошмой и не пользовались — отвергнутая, пришлая, вызывая и ревность и презрение, лежит она в углу на сундуке, в комнаты ее не впускают, ни один посторонний глаз никогда не видел и не увидит ее… Бедная светлокудрая Золушка, за которой никогда не прискачет юный царевич!
А в Могилице поджидал нас другой сюрприз: среди ярких, солнечных халишт вдруг вынырнуло оливковое, поблескивавшее темными «глазками», задумчивое и печальное. Что искала эта темноокая красавица в густой толпе ярких подруг? И кто та необычная, смелая женщина, что переступила через традицию и отвернулась от солнца, погрузив взгляд в глубины моря? Вот что нам удалось узнать:
В пору греческого восстания 1821 года нашлись в Могилице жители, вставшие под башибузукские знамена, чтобы принять участие в сражениях и грабежах. Вернувшись из похода, они помимо всякой прочей добычи привели в Могилицу молодых гречанок-рабынь. Смолянский воевода Салих-ага, болгарин мусульманской веры, человек строгих правил, послал вооруженный отряд отнять у могилицких удальцов этих рабынь, и те впрямь были отняты, а затем обвенчаны с болгарами-христианами из ближних к Смоляну сел Райково и Устово. Однако две или три рабыни остались в Могилице. Их успели спрятать, вовремя укутать чадрой, и посланцы Салих-аги так их и не обнаружили. Одна из этих рабынь и соткала темноокую кошму. Обращенная в мусульманство, она вложила в нее воспоминания и о море, и о родных оливковых рощах. Вложила в кошму свои мечты, свою тоску, передавшуюся и нам благодаря дивному сочетанию красок. Какие это краски! Стоит солнечному лучу коснуться их, и вся кошма оживает, превращаясь в зеленые морские волны или колышимые ветерком леса. Потому что все цвета взвешены на таких чувствительных весах, что каждый луч способен привести их в движение, изменить оттенки, совершить на наших глазах чудо. И глядя на эту «Рабынью» кошму, ты отдаешься чувству смиренной, глубокой печали. Ни одного яркого пятна на ней! Никакой надежды. «Просфорки» и «глазки» — их много, целая решетка, но эти глаза всматриваются в собственную боль, в себя, в прошлое, молча созерцая то, что минуло и уже никогда, никогда не вернется.
Однако не всегда печаль порождает печаль. Иной раз по законам контраста она создает вещи радостные, веселые, даже разудалые. Тому пример «Красавица» из села Беден, на которую мы однажды случайно наткнулись. Целый день ходили из дома в дом, разглядывали кошму за кошмой, но ни одна не западала в душу. Мы видели халишта одно ярче другого, пестрые, перегруженные пурпуром. Скромные и тихие с виду Беденские крестьянки оказались страстными любительницами пышности и блеска. Ни одной краски не позабыли, щедро, целыми ведрами выплескивали ярко-розовое, один цвет на другой, да так ненасытно, что испытываешь пресыщение. Мы уж, было, потеряли надежду обнаружить среди этого разгула красок что-либо особенно интересное, когда перед нами вдруг предстала сотканная из шерсти красавица, единодушно вслед за тем провозглашенная лучшей кошмой во всем Бедене.
Какой она была? Размер — обычный, сшита по традиции из пяти полотнищ. Каждое в поперечных полосах разной ширины — белые, черные, вишневые, желтые, зеленые, розовые. Но сшивала мастерица полотнища так, чтобы полосы одинакового цвета не состыковывались, вытягиваясь в одну борозду, как в тех кошмах, что ткут в селе Забырдо. Беденская умелица отказалась от этого обычая и «разняла» полосы, «развела» цвета. Если обычно зеленая полоса смыкается с зеленой, то у нее зеленая сомкнулась с белой, а белая, в свою очередь, ухватилась за черную или розовую или же вишневую, вишневая соединилась с желтой, желтая приладилась к зеленой. Случайные соседства, импровизированные союзы, создавшие обаятельный хаос, художественную пестроту, картину, полную размаха и удали.
В этой кошме краски не проложены бороздами, не выстроены квадратами, никто ими не командовал. Сметена деспотическая скука геометрических форм, позабыты шаблоны. Краски, цвета ликуют и веселятся в каждом уголочке кошмы, пляшут, взявшись за руки, свободные, сияющие… Республика красок без «главных» и «неглавных», без вождей и царей!
«Беденская красавица» легка и воздушна, это празднество яркости, света, но рождено это празднество не яркими тонами, а темными. И в этом заключается ее «тайна». Искусница, создавшая ее, скупилась на яркие тона, ужимала их, оттесняла, давая простор черному, темно-зеленому, вишневому, оливковому. Так появился тот «ночной» небосвод, на котором каждая капля ярко-розового сверкает, как звездочка, каждое оранжевое пятнышко превращается в светило, каждый белый квадратик блестит оконцем, олицетворяя собой легкость и мечту.
Мы попросили мастерицу рассказать, как сотворила она такую красоту, на что получили лаконичный сухой ответ:
— Как все, так и я. Шерсти настригла… Промыла… Спряла, потом соткала…
И больше ни слова. Зато от других узнал я о том, что эта немолодая, рыхлая, прячущаяся под чадрой женщина была в молодости дивно хороша собой. Полюбила она одного парня, пыталась убежать с ним, но отец догнал, привез назад и отдал какому-то аге, на тридцать лет старше ее, нрава крутого и ревнивого, — даже воду провел к себе во двор, чтобы молодая жена за калитку не выходила, чтоб ее никто не видал и она чтоб никого не видела…
Так и потянулись дни и ночи, так и ушли годы за мрачной оградой мужнего дома… Краса лица ее и стана увядала, воскресая в красоте кошмы. Придавленная камнем воля обрела размах в узоре и цвете. Горе обращалось в радость, угасшие чувства расцветали вновь, клубки шерсти задышали, заулыбались, и на ткацком стане родилось… живое существо. Имя ему — халиште.
Халиште вступило в жизнь.
Само собой, создать такую красоту непросто. Чтобы вдохнуть в кошму жизнь, опалить вдохновением, необходимо глубокое переживание, взволнованное чувство. Необходимо страдание, ищущее возмездия, спасения в красоте. Нужно, чтобы радость заговорила языком красок. А вообще-то халишт в Родопах много. В иных домах их по десятку, в селах — сотни штук, но мы ведем речь не просто о коврах и одеялах, а о произведениях искусства, о сотканных из козьей шерсти картинах, говорящих не столько об искусных руках крестьянки, сколько о душе ее.
Живут в селе Забырдо две сестры: Кадрие Селихова Перунева и Айрие Атемова Сюлейманова. Одна тихая, добрая, покладистая, вторая — задиристая, бойкая, с норовом. В халиштах старшей сестры — созерцание окружающего мира, в халиштах младшей — движение, порыв. У старшей — негромкий напев, у младшей — песня, которую поют, во все горло. Потому что в настоящей кошме каждый цвет — это звук и символ, который о чем-то говорит нам. Вот язык красок, которыми пользуется Айрие:
— Зелененькое — это бодрость, оно придает силы; ярко-розовое — радость, праздник; лиловый цвет безответный, послушный; голубой твердит: «Ладно уж, ладно» — обещает, значит; белый — и себе не берет и тебе не дает; красный — это ласка сердечная, желтый цвет — самохвал, если же он «приперченный», оранжевый — тогда слава, и т. д.
Чтобы создать халиште, надо чувствовать цвета и оттенки, знать, какой цвет поместить рядом с красным, чтобы красный выглядел не кровавым, а царственно-багряным, торжественным; сколько «перчику» подсыпать к желтому, чтобы бахвальство превратилось в хвалу; рядом с каким цветом поместить бесстрастный серый, чтобы в нем проснулась душа; как исторгнуть из белой скуки белый цвет, чтобы он уподобился глотку чистого воздуха; как с помощью черного цвета сотворить день, лиловый превратить в злодея и заставить ярко-розовый бросить вызов преисподней.
Подобно тому, как сочетание звуков делает музыку, так сочетание красок рождает картину. Звук рядом со звуком — это уже не два звука, а созвучие; цвет рядом с цветом — это не два цвета, а цветовая мелодия, рассказ о человеке, его душе. Иногда — лишь беглое известие, намек, иногда — философское откровение.
Для родопчанки, не знавшей в жизни иных праздников, праздник — это халиште. Ее гордость. Ее торжество. Халиште разносило повсюду славу ее рук, говорило о богатстве ее души… Восторг, томление, боль — все вкладывалось ею в халиште, претворяясь в красоту, в укор дикой религиозной догме, сделавшей женщину рабыней своего мужа. С помощью красок родопчанка доказала, что кроме Родопы рамазанов, курбанов и мамалыги, существует и другая Родопа — Р о д о п а ж е н щ и н!
Перевод М. Михелевич.
ПАЛОЧНИК
Звали его Пелинго, но был он известен и по прозвищу Палочник, потому что всю свою жизнь мастерил на продажу палки, посохи, трости. Худой, длинный, сутуловатый, он и сам фигурой, выражением лица был схож со своими изделиями. Да, да, лица, потому что у его палок всегда было «лицо» — чаще всего это был пучеглазый змей с яростно разверстой пастью, рогами, как у барана, и козлиными ушами. Змеи бывали разные: иногда он прилаживал к ним воловьи рога, иногда драконья морда превращалась в кабанью, неизменным оставалось одно: несмотря на застывшие глаза и свирепые клыки, змеи всегда улыбались так же чудно, как и сам мастер — одним лишь уголком рта, горько, покорно и чуть презрительно.
Мы, деревенская ребятня, нетерпеливо ожидали воскресенья, когда Пелинго приносил свои новые палки, раскладывая их на каменных плитах перед церковью и, усевшись рядом, открывал торговлю. Стар и мал сбегался взглянуть, что еще смастерил старик-палочник, какие драконьи морды вырезал на этот раз, старались угадать, на кого они смахивают, и весело смеялись.
— Глянь, глянь, — говорил кто-нибудь. — Вон та голова, никак на старостину смахивает? Ишь, зубища, ровно кинжалы!
— А вон та, вон та, — подхватывал другой. — Вылитый Хаджи Янчо! Ты на уши погляди!
— Он этими ушами на хлеб зарабатывает, — вполголоса ронял третий, намекая на доносничество старого Янчо.
— Дай-ка мне этот посох, — объявился и покупатель. — Уж больно охота за уши его чертовы подергать.
Так, с шутками, пререканиями и начинался торг, заканчивавшийся лишь тогда, когда покупатель уносил последнюю палку. Одни и вправду опирались на палки, другие брали их потехи ради. Ведь посохи и палки деда Пелинго и впрямь имели сходство кое с кем из местных жителей, причем сходство невероятно комичное, что давало деревенским шутникам пищу на целую неделю, вплоть до следующей распродажи.
Спросили однажды деда Пелинго, почему он так любит драконьи головы, а тот ответил: «Не драконьи это головы, человечьи. Каждый человек перво-наперво змей, дракон, а уж потом лиса, баран, свинья там или заяц».
— А сам-то ты кто? — спросили шутники.
— Да такой же, как все!
Часть своих изделий старик называл «конференцией» — понимай «конфекцией». Другие же мастерил на заказ. Местному священнику, например, изготовил черный посох с двумя рогатинами, как у архиепископа, и на каждой рогатине — морда баранья (так уж захотел заказчик). Когда поп шел деревенской улицей, посох стучал по булыжнику и звенел, будто церковное било, — динь-дон, динь-дон… Сделан он был из выросшего на доброй земле явора, прямой, с полосками коры, высушенный на «ласковом солнышке». Пелинго не делал секрета из своего мастерства. Охотно объяснял, какое дерево на что идет, как его ошкуривать, как сушить, в какой воде вымачивать, чтобы в нем «голос пробился», и не лишь бы какой, а в точности, какой тебе требуется. Только одно таил старый мастер: где он свои кривулины берет, где они растут. Один старец попросил сделать ему палку вроде пастушьей герлыги, да подлинней, чтобы ловить малых своих внучат, не подымаясь с лавки. (Внучат у него была пропасть, а он уж одряхлел, вставать стало трудно.) Если доводилось вам видеть герлыги, то вы знаете, какие у них на верхнем конце замысловатые загогулины, но палка, которую смастерил Пелинго, превзошла все, какие есть на свете, так что немощный дед ловил ею своих расползавшихся по горнице малышей-внучат, как рукою.
Еще поразительней была палка главного учителя. Верхний, гнутый конец у нее был еще заковыристее. Он напоминал левую руку Спасителя, как ее пишут на иконах: два пальца прямые, а два согнутые. Учитель страдал плоскостопием, галоши у него постоянно спадали с ног, а благодаря палке он, не нагибаясь, подцеплял галошу двумя «пальцами», что было для него истинным спасением: главный учитель отрастил здоровенное брюхо и нагибался с большим трудом.
Где срубил Пелинго палку такой сложной формы и необычного назначения? Обо всем другом люди догадывались, так или иначе объясняли себе, но это оставалось неразгаданной тайной.
Деревенский староста, у которого, когда он кого-то дубасил, сдвинулась на руке какая-то косточка, велел однажды Пелинго сделать ему палку-пружину: чтобы верхний конец загибался один раз, второй и третий, и вышло бы подобие спирали, на которой рука бы пружинила. Сложная была просьба, прямо скажем, невыполнимая. Видано ли, слыхано ли — дерево не с одним, а с тремя витками? А все же через несколько месяцев палка была готова. Звенела она громче, чем поповский посох, вернее даже сказать — громыхала, и благодаря этому громыханью все загодя узнавали, где в данную минуту находится староста. Впрочем, не только старостина или поповская, любая палка, которая вышла из рук деда Пелинго, имела свой собственный голос. Были у него толстые дубины, ухавшие, точно филин, одни палки кричали по-свиному, другие верещали, как сверчки. Подаст палка голос — все одно, что человек заговорит, до того он, голос этот, ему соответствует. Но зато и непросто было заказать себе палку. Придет, скажем, к Пелинго старуха:
— Пора мне подошла с подпиралкой ходить. Дай палочку какую-нибудь.
Пелинго бросит на нее взгляд и сердито этак промолвит:
— Ежели какую-нибудь, на, мою бери!
— Э-э нет, тяжеленька для меня будет, — возразит старушка. — Не по руке.
— Видала? Значит, нельзя «какую-нибудь», — выговорит ей Пелинго, — а такую, чтоб по тебе была… Ну-ка, походи малость, погляжу я, на какую сторону тебя клонит! Вот так! Одышка донимает?
— Нет…
— Ребятишек бьешь? — продолжает расспрашивать Пелинго.
— Еще чего! Пусть тебя лихоманкой разобьет! — обозлится старуха. — С чего это я их бить буду, родные, чай, внуки…
— Да я только спрашиваю, надо же по тебе палку скроить, — оправдывается Пелинго, а под конец снова спрашивает:
— А сверху-то какую хочешь? Какую голову вырезать?
— Ягненочка бы, а ежели можно — с рожками.
— С одним или двумя? Ну да ладно, три сделаю… — решает он. — Три, чтоб людям помнилось! С двумя-то каждый дурак может. А будет три — ты свою палку ни с какой не спутаешь! — весело бросает он и в наилучшем расположении духа отсылает заказчицу. — Мерка снята, ступай себе!
И вслед затем мастерит клюку в точности, какую обещал: легкую, старухе под силу, упругую, на верхнем конце — голова барашка с тремя крохотными, едва проклюнувшимися рожками!
Смотрят люди на новую палку, щупают ее, переглядываются, и в глазах у них всегда одно и то же удивление, один и тот же вопрос: «Где только отыскал? Почему никому из нас такие рогатые ветки не попадались?»
Много лет задавали себе люди этот вопрос, и никто не находил ответа, но пришел в конце концов день, когда дед Пелинго раскрыл свой секрет. От неустанных хождений по горам нажил старик грыжу и по совету фельдшера решился на операцию. Было у него, должно быть, предчувствие, что не суждено ему вернуться в родное село, и потому на последнюю свою воскресную распродажу принес он все палки и посохи, какие имел, и роздал их людям без денег.
— Бери да вспоминай деда Пелинго! Бери да помни! — приговаривал он, пока не отдал последнюю. Потом поднялся с дерюжки, на которой сидел, вытряс ее и сказал толпившемуся вокруг народу:
— Много раз вы допытывались у меня, где я нахожу свои палки. Никому я этого не открывал, потому был это мой хлеб, а теперь открою: не находил я их, сам делал. — Старик минутку помолчал под взглядами ошеломленных людей и подтвердил: — Да, сам. Формы у меня для них есть. Молодых деревцев в лесу — сколько душе угодно. И гнутся они, куда захочешь. Надеваю я на них форму, какую мне нужно, лыком обвязываю, а через месяц или через год они аккурат такие, как я задумал… Была бы форма, а уж я смастерю такую палочку, что сама зашагает, сама постукивать будет…
Этой речью закончилась последняя распродажа — дед Пелинго так и не возвратился из города. Нашлись любители, захотели без труда овладеть дедовым мастерством, весь дом его перерыли, формы найти надеялись, а нашли только свежую золу в очаге и по углям поняли, что палочник свои формы сжег.
Перевод М. Михелевич.
«РАДИВА» И ДВЕ СТАРУШКИ
Крыстю Ламбрев, бригадир и партийный секретарь Добралыкского кооператива, завел у себя в доме радиоточку. Украшенный вышитой салфеточкой с кружевами, пластмассовый репродуктор стоит на полочке, прибитой чуть не под самым потолком, подальше от старушек — бабушки Дели и бабушки Марики. Первой стукнуло уже девяносто шесть и доводится она бригадиру тещей, вторая — родная его мать, и от роду ей девяносто четыре. Какая же опасность грозит «Радиве», как называют ее старухи, почему надо ее от них оберегать?
Да нет же, Крыстю прячет репродуктор не от гнева старушек, а от их любви. Обе чистосердечно верят, что в пластмассовом ящичке сидит человек, и проявляют о нем заботу. Как-то раз «Радива» слегка осипла, и обе старушки пристали к бригадировой жене: «Петра, доченька, налей Радиве молочка, а то она чегой-то осипла!» Петра оставила просьбу без внимания и ушла на работу, а вернувшись, увидала, что мать забралась на стул и собирается поить «Радиву» теплым молоком.
Вечером Крыстю попробовал втолковать старушкам, что в ящичке никого нету, что голос человеческий доходит к ним в дом по проволоке.
— Ишь ты! — вскинулась бабушка Деля. — Кабы проволока могла петь да сказывать, как наша Радива, чего ж тогда та проволока, на которой мы во дворе белье вешаем, не поет? А ну, скажи!
— Сама-то проволока не поет и не говорит, — уточнил Крыстю. — Говорят люди, а их голоса передаются по проводам.
— А ты возьми, возьми кусок провода, да и потолкуй с ним, то-то он тебя послушает!.. — не на шутку рассердилась теща.
— Если так, то объясни ты мне, — прибегнул Крыстю к последнему доводу, — как может человек уместиться в таком ящичке?
— А очень просто! — вступилась за сватью бабушка Марика. — Сидит там колдунья, а колдунья — она что оборотень, во что хошь обернется и не то что в ящичек, в наперсток уместиться может! Не оборотень разве увязался за твоим отцом, еще когда он в Касымове в сторожах служил? К вечеру дело было, а он полем шел, что-то махонькое возьми за ним и увяжись, потом оно в зайца оборотилося, а как отец в село вступил — турком прикинулось, а там и турок сгинул, а уж дома смотрит отец — на поясе таракан висит. Перекрестился он, и тогда уж оно вовсе сгинуло…
Крыстю понял, что битва проиграна, но чтоб разговор окончился не совсем впустую, взмолился:
— Если это колдунья, не наливайте вы ей молока! Голос у нее от погоды сел, выглянет солнышко — опять поправится. — И на всякий случай прибил полочку еще выше, чтобы старушки даже со стула не могли дотянуться.
Случилось и мне познакомиться с обеими этими старушками, и вышел у нас памятный разговор.
Когда я вошел в комнату, служившую семье бригадира и кухней, старушки уже легли. Однако при виде незнакомого человека поднялись обе: бабушка Деля из-за печки, бабушка Марика — с топчана, что стоял возле очага. Вонзив в меня взгляд темных, еще не утративших живости глаз, бабушка Деля спросила:
— Ты чей же будешь? Не грековский?
— Нет, бабушка, явровский я, из села Яврова, — думая, что старушка глуховата, я старался говорить погромче.
— Да не ори ты… Штукатурка с потолка посыпется, — обрезала она и, присев к печке, стала поправлять на голове платок. — Приглашай к столу, Петра, — обратилась она к дочери, — попотчуй гостя!
Петра принесла кринку молока, хлеб, сало, яйца, предложила поужинать. Старушки, любопытствуя, сели напротив — обе приземистые, но крепенькие, с тонюсенькими косицами, перевязанными ленточкой: у бабушки Дели — лиловая, у бабушки Марики — светло-желтая.
— Рассказывай, чуж-чуженин, что нового слыхать на белом свете? — завела разговор бабушка Деля.
— Да нынче ведь новости до всех из одной точки доходят, — сказал я, кивнув в сторону репродуктора.
Бабушка Деля покачала головой:
— Ох, уж и не знаю, как только не уморится наша Радива, как у нее язык не отымется с утра до вечера смеяться да рассказывать! И все-то она рада-радехонька, все-то твердит: «Новой жизнью зажили, и будет эта жизнь с каждым днем все краше». Как она у нас поселилася, мы со сватьей скуки не знаем: и медведем-то она рычит, и петухом кукарекает, и кукушкой кукует… То мужиком прикинется, то младенчиком… Да кем хочешь!.. И про Гагарина рассказывала, как он в небо вознесся… Не слыхал?
— Как не слыхать? Слышал, конечно.
— Скрозь облака промчался и оттуда землю нашу видел, — продолжала бабушка Деля. — Навроде она ореха, говорит.
— Много он там чего повидал, одного лишь господа бога не увидал! Нету бога на небе, — заявил Крыстю. — Так и знайте!
— Ну и ты, сынок, знай, что небо — не одно, а семь их, небес-то, одно над одним! И господь восседает на самом верхнем, вот и не увидали его. Верно, сватья? — обратилась опа за теологической поддержкой к бабушке Марике, которая, прислушиваясь к нашей беседе, спокойно грела у печки руки.
— Гагарин, слыхать, в новый полет собирается, уж на этот раз и до седьмого неба долетит, — с угрозой в голосе произнес Крыстю. — Вот увидите!
— То ль увидим, то ли нет, — вступила в разговор бабушка Марика. — Коль не успеет нас прибрать безносая с косой, то увидим, а успеет — пусть вам кутья сладкой покажется!
— Авось еще поскрипим, милая, — не согласилась бабушка Деля. — Ворота на засов запрем, не пустим безносую… И Радиву запустим погромче. Как заслышит, что нас тут много, ан и отступится… Небось не станет на земле просторней без двух глухих старух… А мы еще вполне в силе и бобы рыхлить, и огород засадить, и курям корму насыпать… Скажи, зятек, только громко, чтоб разлюбезная эта, с косой, услыхала…
— Все верно, и бобы вы рыхлите, и за огородом ходите, и меня уму-разуму учите, — подтвердил Крыстю. — Не слыхала, что вчера про погоду говорили?
— Во второй половине дня осадки, — ответила бабушка Марика. — Смотри, пораньше встань, заставь мужиков поскорей с картошкой управиться. Когда она в земле, картошка-то, ей уж и дождь нипочем, пущай льет!.. Ай да Радива, ай да умница, и как она только навострилась погоду наперед узнавать! Открути ее побольше, Петра, пущай гостю споет! — попросила она сноху. Глаза ее светились гордостью и восхищением.
— Думаю я, сынок, не принесет ли нам Радива весточку про Петра, про внука? — спросила бабушка Марика.
Крыстю засмеялся.
— Расскажи, мать, расскажи, как нашего Петра в Россию послали! — лукаво подмигнул он и повторил настойчиво: — Расскажи, расскажи!
— Да мне про это сноха сказывала, — начала бабушка Марика. — Привели его, дескать, в русскую консуляцию. В клетку какую-то посадили, а клетку эту р-раз, подцепило чем-то и вверх тащит… Потом подходит к ним человек, консулем звать, и говорит Петру: «Так, мол, и так, поедешь в Россию. Одёжу, какая на тебе, дома оставишь, нафталином пересыпь, чтоб в целости найти, когда вернешься…» На том, значит, порешили и увезли внученька нашего…
Пока бабушка Марика пересказывала мне фантастическую историю про своего внука Петра, который учился в то время в Советском Союзе, жена Крыстю повернула рычажок Волшебного ящичка, и из репродуктора полилась народная песня:
…Пришел воевода Делю в Дымбовицу, в Караджовицу, облились матери слезами горючими, слезами плачут молодки-красавицы…Бабушка Деля вздохнула:
— Вы-то, молодые, слава богу, не жили в туретчину, а мы бывалоча за два медяка от зорьки до зорьки спину гнули у Ходжоолу на поле. Мы жнем, а прислужник его сзади дулом ружейным тычет: «Чабук, чабук!» — быстрее, мол. А нынче наши мужики к сохе вот уже третий год и не притрагиваются.
Печальная песня про воеводу-разбойника смолкла, и «Радива» завела развеселую рученицу.
Бабушка Деля оживилась:
— А ну, сватья! Давай в пляс!.. Эх, жаль, не было этой Радивы в молодые наши годы… — от души подосадовала она, и беседа старушек потекла по другому руслу: про-пляски и волынки, посиделки при лучине и полуночные происшествия с участием «дракусов» и прочей нечистой силы, принимающей самые разные обличья…
Слушая их, я понял, что в душах этих замечательных старушек — символе целого поколения — причудливо сплавились воедино два разных мира. Новый, могучий мир «Радивы» властно проникал в их сознание, вытесняя мир подневольного труда, леших и вурдалаков. И я видел, как они счастливы тем, что успели вступить в этот новый мир, полный чудес — одно другого диковинней, по которому они — простодушные дочери века минувшего — бродят с восторгом детей, попавших в волшебное царство.
Перевод М. Михелевич.
ТИШИНА
Полуденное солнце припекало. Преследуемые его палящими лучами, тени жались к самым стволам деревьев. Обессилевший ветер забрался под развесистую ель и там притаился. От наступившей суши примолк и ручей в овраге. Угомонились даже листья на осине, а от разомлевшего чабреца волнами поплыли волшебные ароматы.
Но чу! Сухие листья раздвинулись, и огромный лубоед вышел на лесную стежку, за ним следовали несколько муравьев. Вернее, не следовали за ним, а преследовали его: загораживали ему дорогу, отставали, догоняли, залезали ему на спину и пытались укусить, но их челюсти отскакивали от щитков лубоеда. Жук невозмутимо шел вперед — величественный, бесстрашный, неуязвимый; две антенны на его голове ощупывали дорогу и управляли движением бронированного тела. Наконец одному муравью удалось вцепиться в ус броненосца. Жук остановился, чтоб стряхнуть его, но в тот же миг другой муравей опрокинулся на спину и, изогнув свое заостренное брюшко, выстрелил в глаза лубоеда муравьиной кислотой…
Антенны черного великана затрепетали и поникли, пораженные коварным наркозом. Огромные челюсти запахали землю. Прыткие муравьи сейчас же ухватились за одну ногу великана и, разом поднатужившись, перевернули броненосца на спину волосатыми лапами кверху. Муравьи — кто за что — вцепились в свою парализованную жертву и поволокли ее к муравейнику вместе с ее устаревшим защитным механизмом.
— Ква, ква! — подала голос какая-то сердобольная лягушка, потрясенная зловещей процессией, но быстро умолкла, сообразив, видимо, что криком ход истории не остановишь.
Пока внизу бушевало сражение между жуком и муравьями, две черно-желтые бабочки, опустившись на лист осины, приникли друг к другу, отдавшись и телом и душой любовной страсти. На несколько мгновений они замерли, слившись воедино, после чего самец затрепетал, выполнив свое предназначение и, обессилев от пережитого счастья, распростерся на осиновом листе. Один миг лист держал его на себе, но, ощутив, что бабочка мертва, без всяких церемоний стряхнул ее на землю.
— Ква! Ква! — снова безответно подает голос древесная лягушка.
Дрозды коротко чокают в буках — знак, что быстро и бесшумно сведены чьи-то небескорыстные счеты.
По траве пробегает трепет, и кто-то исчезает со зловещим шуршаньем.
Хрустит сухая ветка, а может быть, и чей-то хребет, и над лесом опять воцаряется тишина.
Прилежно светит солнце.
Мгновенные схватки не на жизнь, а на смерть ничего не меняют в мире.
Природа месит в коварной тишине тесто жизни то нежными пальцами, то кулаками, а с ее лба одна за другой срываются на раскаленную землю кровавые, жаркие капли.
Перевод О. Кутасовой.
КУКУШКА КУКУЕТ
У весны много вестонош, однако кукушка не знает себе равных, хотя голос ее и не так звучен, как соловьиный, и не так трепетен, как у жаворонка. Кукованье ее, вроде бы простое и однообразное, исполнено такой страсти и нежности, что едва ли найдется другой звук, который выражал бы радость встречи с весной так сильно и проникновенно.
Чуть раздастся ее «ку-ку», как повеет вдруг и фиалкой, и чемерицей, и примулой. Прозвучит ее призыв, и на сонных деревьях пробуждаются почки, выпуская нежные зеленые листики. Под то же «ку-ку» побеги пойдут в рост и вся земля заколышется в неудержимом ритме весны.
Что в кукованье кукушки заключено нечто волшебное, нечто магическое, подтверждается и народными поверьями: «Как тебя кукушка застанет, так целый год и жить будешь!» Закукует, когда карман полон денег, не оставит тебя прибыток. Настигнет влюбленным, так и будешь любить. Нагонит в дороге, весь год в пути проведешь. Нет в народе страшнее проклятия: «Чтоб не слышать тебе кукушки!» Есть и такая примета — услышит больной человек кукушку, в том году не помрет. Потому раньше и старались почаще вытаскивать больного на воздух, чтобы до него вовремя донесся спасительный голос кукушки.
Первое «ку-ку» было настоящим праздником и для чабанов, и для гайдуков. «Ну вот, ребята, и закуковала кукушка. Теперь не страшно!» — так, бывало, как вспоминает воевода Панайот Хитов, он подбадривал своих приунывших молодцов. И чабаны ждут первую кукушку, и пахари — чтоб сеять фасоль и пшеницу.
Крик кукушки не только предвестие и призыв, но и предсказание и заклинание, поворотная точка в смене времен года.
И однако кукушка не пользуется любовью: видите ли, она подкладывает яйца в чужие гнезда и предоставляет другим птицам растить своих детенышей. А кто-нибудь задумался о причине этого? Перед чем отступил материнский инстинкт? Во имя чего такая жертва? Почему Природа лишила кукушку радости заботиться о своих детях, приглаживать клювом их взъерошенные перышки, чувствовать под грудью их трепетные сердечки? Случайность ли это, прихоть? Или же кара? Ради чего такая невероятная жертва?
А может быть, Природа лишила кукушку материнства, чтобы она полностью посвятила себя своему призванию вестницы Весны?
Ради этого кукушка терпит любые невзгоды. Она прилетает к нам в начале апреля, и нередко так называемый «кукушкин снег» засыпает ее. Несчастная птица дрожит от холода. И все же никогда не опаздывает, никогда не поворачивает назад. Как будто знает, что и больные, и здоровые ждут не дождутся, когда она своим выстраданным, ликующим и магическим «ку-ку» провозгласит весну.
А мы негодуем: обманщица, лентяйка и невесть что еще. Меряем нашими грубыми человеческими мерками одну из самых прекрасных причуд такой всегда суровой Природы — взять и слить все ароматы, стоны, трепет, упованья и восторги колдовской весны в один-единственный всепроникающий звук — всего лишь в одно «ку-ку»!
Перевод О. Кутасовой.
ГИБЕЛЬ СЛЕПНЕЙ
Не меньше сотни воробьев живет под крышей моего деревенского дома. Затыкал я щели под черепицей, прогонял воробьев, но они упорствовали и в конце концов так и остались тут жить.
И хорошо, что остались. В жаркие дни, когда палит солнце, слышится вдруг: тук! — это слепень, ударившийся о стену и оглушенный, кувырком летит на мостовую. Если он падает на спину, то прежде, чем успеет перевернуться, воробьи уже тут как тут и немедля его склевывают. Если же слепень успеет подняться с земли, они начинают его преследовать и обычно настигают. Почему слепни в жаркий день бьются о стену как слепые, когда у них не какие-нибудь там глаза, а глазища? Ослепляет их что-нибудь? Или они перестают соображать? Не знаю, но факт, что они бьются о стены и становятся добычей воробьев.
А может быть, у них темнеет в глазах от голода? Слепни, как известно, сосут кровь. Они не вегетарианцы. Слепни нападают на скот — лошадей, мулов и ослов — и вкалывают в голову животного свои хоботки. Коровы и другая скотина так их боятся, что, задрав хвосты, удирают, забиваются в лесные заросли и только этим спасаются. Но беда слепней, вероятно, в том, что скотина сейчас — редкость. В селе у нас три коровы, двенадцать мулов и три дюжины ослов — слишком мало, чтобы обеспечить кровью тысячи кровопийц, которые колотятся в мои стены в отчаянии от отсутствия какой-либо перспективы.
А у воробьев невероятный слух, хотя они и прикидываются рассеянными. Сидит себе воробей на стрехе, вроде бы и ухом не ведет, а услышит знакомый звук, шасть вниз, скок-подскок — и слепень уже в воробьином зобу. Гибнут слепни, а загадка остается загадкой — стену они не видят, что ли?
Ну, в конце концов, пускай себе расшибаются, коли нет больше скотины, а значит, и крови для питья. А подумать, так ведь сейчас только и наступает для скотины райская жизнь: ни волков нет, ни медведей, разве что в зверинцах, — нечего бояться скотине. Ходи себе, броди, пасись на здоровье, никто тебя не ужалит, никто за горло не схватит, не укусит, не сожрет. А трава, завладевшая нашими брошенными на произвол судьбы холмами, плачет по коровам и овцам. Но вот ирония судьбы — именно сейчас, в эти благодатнейшие времена, когда волки все до единого уничтожены, медведи стали ручными, а слепни, считай, кончаются, именно сейчас и скотине приходит конец…
…Очередной слепень врезался в стену, и его сграбастал дежурный воробей. Потом распушил на радостях хвост и взлетел вместе с поживой. Слепнева беда стала воробьиной радостью. Беда одного в радость другому. А может быть, это и есть разменная монета природы: горе за радость, радость — за горе.
Перевод В. Викторова.
СОБАКИ
Не помню, чтобы я когда-нибудь еще видел собаку, у которой бы хвост стоял трубой. Она бежала по улице легкой трусцой, веселая, шустрая, на минутку задерживалась у какой-нибудь стенки, поднимала лапу и, вскинув голову, трусила дальше.
Другая собака сидела на улице — грязная, рыжая, без хвоста и с висячими ушами. Увидев собаку с задранным хвостом, она шмыгнула под ворота и вернулась вместе с головастым, мрачного вида псом с плешью на шее.
Оба пса — куцый и плешивый — замерли на середине улицы, где должна была пройти собака с хвостом трубой, и когда та приблизилась, разом на нее набросились. Все трое на мгновенье зависли в воздухе, сшиблись, и на земле закружился яростно рычащий клубок. Несколько раз перевернувшись, клубок «размотался». Первым вылетел куцый, отброшенный мощным ударом веселого, за ним последовал мрачный с кровоточащим ухом. Оскалив пасть и вздыбив шерсть, агрессоры отошли на исходные рубежи, видимо, изрядно покусанные.
Веселый встряхнулся, намереваясь продолжить свой путь. Но тут из соседней подворотни, заслышав шум, появился новый противник — матерый пес с налитыми кровью глазами, без век. Он с таким неистовством кинулся на хвост с трубой, что они мигом оказались на земле, веселый, правда, сразу вскочил на ноги и рванулся на обидчика. Кровавый глаз зашатался от его сокрушительного нокаута, и ему наверняка пришлось бы туго, если бы куцый и мрачный не предприняли новой атаки. Тут образовался такой собачий смерч, что в клубах пыли уже ничего нельзя было разобрать. Слышалось только лязганье зубов и хриплое рычание. Наконец пыль рассеялась — веселый стоял в окружении трех агрессоров, поджав хвост, побежденный. Те утихли и даже расступились, освобождая ему дорогу, и он поплелся, понурый, взъерошенный, опустив хвост между ног.
Перевод О. Кутасовой.
АЛИЕНАЦИЯ
Среди грубоватых сосен и буков, среди неуклюжих кизиловых деревьев и приземистых можжевельников неизвестно как очутилась чужестранка-лиственница, веселая хвойная красавица. Правда, веселой она выглядит, пока не подойдешь поближе и не заметишь на ее иглах синие прожилки, которые наводят на мысль о какой-то затаенной боли и грусти. А беда ее в том и состоит, что среди многочисленных здешних кустов и деревьев она — иностранка. Вот уж кажется — и хвойная она, а хвойные смотрят на нее как-то подозрительно, как на изменницу, потому что иголки у нее меняют свой цвет подобно листьям бука и падают вместе с ними. Соседки сосны вообще считают ее незаконнорожденной, предполагая кровосмешение между матерью-сосной и отцом-буком.
Да и лиственные относятся к ней не лучше. Этих злит то, что ветви и ствол у нее напоминают сосновые. Мелкие лиственные — кизил и орешник — во всем подражают букам, и хотя они куда ниже ростом и видом неказисты, поглядывают на одинокую красавицу свысока.
Так и существует лиственница между двумя самыми крупными лесными фамилиями и сама не знает, хвойная ли она среди хвойных, или лиственная среди лиственных. Это, конечно, очень скверно для юной лиственницы. Недоверие окружающих тяготит ее, огорчает, так же, как и то, что не знает она своих предков, не может похвастать ни представительным дедом, ни знаменитой бабкой. Но хуже всего, что не с кем ей обменяться пыльцой, что нет рядом другой лиственницы, которая одарила бы ее своей нежностью и лаской. Разумеется, есть в старом лесу деревья, которым нравится стройная, гибкая чужестранка в коротенькой светло-зеленой юбке — например, могучие ели с Кривого гребня. Но на их пути к проявлению чувств лежат серьезные препятствия. Во-первых, деревья в лесу женаты на местных. Во-вторых, лиственница и здешние деревья не понимают друг друга, у них разный язык, они не могут шепнуть друг другу «люблю», а без этого ветер отказывается помогать им обмениваться пыльцой и вообще запрещает межродовые браки. Так и остается лиственница в стороне от всеобщего свадебного веселья на исходе лета, хотя вся она — в девичьих прыщиках, хотя дважды в год перекрашивает юбку и в конце концов даже совсем ее сбрасывает.
А как хороша она, когда красится, переодевается и раздевается! Первый ее весенний наряд — нежно-зеленый с розоватым румянцем. Этот бледно-зеленый цвет летом сгущается, темнеет, а осенью превращается в лимонно-желтое пламя, которое пылает весь октябрь. Потом она надевает оранжевую юбку, чтобы еще раз блеснуть в обществе своих темно-зеленых кузенов перед тем, как полностью разоблачиться — где-то в начале зимы. Листья других лиственных прежде, чем опасть, ржавеют и темнеют, у некоторых, например, у бука, синеют и делаются неприглядными, а иголки лиственницы становятся все светлее и нежнее — вплоть до последнего дня.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что пока лиственница так меняет свою внешность, могучие ели на Кривом гребне покручивают свои усы и тяжко вздыхают. Скромные можжевельники встают на цыпочки и с завистью оглядывают стройную фигуру обольстительной иностранки. Сосны ревниво шипят, а лиственные просто сникают перед великолепием одинокой красавицы.
Искупают ли эти мгновения торжества страдания юной несчастливицы — не знаю, но в последнее время в лесу заметно странное оживление: деревья на низеньком холмике год от года одеваются все наряднее; молодые распустехи-сосны стали укорачивать свои юбки, на порывы ветра отвечают теперь не своим обычным грубым «фу-фу-у», а мягким «фи-фи-и» и пытаются вздыхать так же мечтательно, как лиственница. Присмирели и буки, во время бури они уже больше не ревут так ужасно, как прежде.
К сожалению, лиственнице от всего этого лучше не становится. Хвойные, хоть и подражают ей кое в чем, но когда хотят что-либо сказать друг другу, делают это тихо, чтоб она не услышала и не выдала их враждебным букам. Буки тоже шушукаются тайком, а лиственница стоит между своими враждующими соседями и сгорает от желания сказать кому-нибудь словечко, жаждет, чтоб хоть кто-то склонился к ней, выслушал ее боль и ее печаль…
А в том, что происходит вокруг нее, и в самом деле нет ничего хорошего. Влюбился в лиственницу ее сосед — юный бук и стремится теперь ею овладеть. Кто-нибудь может подумать — ну и что? Но для хвойных нет ничего губительнее объятий бука. Буки опасны для них своей влажностью, своей мрачностью, своими твердокожими листьями. Тень от этих листьев холодна и смертоносна для других деревьев. Этой тенью буки подавляют все вокруг и особенно — светолюбивые сосны.
И вот — бук стремится обнять лиственницу, прижать ее к себе. Охваченный страстью, он протянул к ней все свои ветви, так что вот-вот ее коснется. Лиственница бежит от него, если можно назвать бегством ее попытки наклониться в противоположную сторону. Она поглядывает на ели, которые предпочла бы назвать своими сужеными, но те не подают ей никакого знака. И некому остановить насильника, помешать ему овладеть в конце концов предметом своей страсти. Он овладеет ею, и она погибнет в его объятиях на глазах у всего леса.
Конечно, по мнению буков, это не убийство, а венчание. (На свете столько красивых слов, что с их помощью всякое насилие можно выдать за благородный поступок, всякое преступление — за доброе деяние.)
Однако остальные деревья молчат. И никто не крикнет взлохмаченному юнцу: «Остановись!» Сосны прикидываются слепыми и глухими, чтобы не гневить всемогущие буки. Ели шепчутся с ветром и делают вид, что ничего не замечают. Кизил, упорно глядя в землю, будто бы разыскивает свои прошлогодние листья, орешник, поощряемый общим молчанием, старается не привлекать к себе внимания и сосредоточенно занимается весенним самоопылением.
И лишь какая-нибудь сойка, пролетая время от времени над лесом, пронзительно вскрикнет: «Алиенация! Алиенация!» Но так как звук этот для всех в лесу новый, никто не понимает, что речь идет об отчуждении, и не слышно никаких откликов, и тишина, целительная тишина, тучей повисает над старым примолкшим лесом.
Перевод В. Викторова.
ПЕРЕД ЗАКАТОМ
Тени деревьев вдруг удлиняются, и в лесу наступает тот прощальный предвечерний час, когда солнце клонится к закату.
Невидимый дятел постукивает по невидимой двери. А может быть, это ночь стучится в двери дня. Скрытая за сосновыми ветвями белка сыплет на землю чешуйки от шишки и причмокивает. Скрипят кусты можжевельника, раскачиваемые ветром, словно враждующие братья, вцепившиеся друг другу в волосы, скрежещут зубами.
Но что это? Воздух дрожит? Нет! Это мошкара. Мельчайшие мошки свиваются в облачка и катятся по воздуху с тонюсеньким-претонюсеньким неуловимым звеньканьем, которое делает тишину еще более тихой.
Куда они катятся? Кто привел их в движение? И как получается, что этот клубок несется, как одно целое, и ни одна мошка не остановится, чтобы подумать, какую дорогу ей выбрать, когда и куда свернуть.
Летит клубок, словно им движет тончайший звенящий звук с помощью электронно-вычислительной машинки, заложенной в каждую из этих микроскопических мошек.
Пролетит облачко, а звеньканье еще слышится. И вообще, что это за беспокойное облачко? Может быть, в нем ведутся любовные игры? Может быть, оно защищается от кого-то? Или само нападает? Или это экспедиция, ощупывающая воздух в поисках своей Колхиды?
…А может быть, это просто созвездие, летящее по необъятным просторам Вселенной? Вырвавшаяся на свободу молекула, сбросившая цепи земного притяжения, чтобы доказать неистощимую силу одухотворенной материи?
…Пролетит облачко, а звеньканье остается и носится в воздухе, как звучащая загадка, как мелодичный вопросительный знак.
Перевод В. Викторова.
ВАНЮ КЛАДЕТ СТЕНКУ
Каменную стенку клали двое — Мите и Ваню. Оба примерно одного возраста. У Мите — густая, поседевшая шевелюра, у Ваню — редкие рыжеватые пряди. Ваню мастер, а Мите подносит раствор и учится класть камень.
— Камень должен лечь, он не может сидеть на корточках. Сто лет на корточках — попробуй посиди, — говорит Ваню.
— Скажешь тоже… сто лет! — удивляется Мите.
— На хорошем растворе и больше может выдержать. Стены Асеновой крепости видел? Знаешь, сколько им лет? Несколько сотен. Раствор говорит камню: «Ты продержись десять лет, остальная тысяча — мое дело!» Поэтому раствор нечего жалеть! — Ваню выливает на стенку ведро раствора, разравнивает его, прилаживает и наклоняется, чтобы выбрать очередной «угловой» камень. Ищет долго, взвешивает, наконец, выбирает один и кладет на место. Потом без всякой надобности ударяет по нему три-четыре раза молотком, как бы приколачивая его.
— Земле за стеной спокойно. В том и вся польза от стены, — говорит Ваню, пристраивая следующий камень. — Потому и называют ее «подпорная стенка». Она землю подпирает. Укрепляет ее. Потому и надо стенку чуть под наклоном ставить. Давай раствор! — обрывает мастер свои наставления и берет один, словно заранее подобранный камень.
— Этот как будто сам тебе в руки пошел, — восхищается Мите и подает раствор лопатой.
— Так и надо, чтобы они сами в руки шли… Тогда только и можешь мастером зваться, — продолжает свои наставления Ваню. — Мой мастер, когда учил меня, не давал мне молотка. «Понимать, говорит, камни надо.. Нечего по ним стучать и ломать их. Каждый камень на что-нибудь годится, вся хитрость в том, чтоб ему место найти…» Так говорил мне мастер. И молотка не давал. А когда в руках нет молотка, что будешь делать? Стараешься получше смотреть и прикидываешь, какой камень куда класть. Без молотка глаз работать привыкает. С молотком каждый дурак сумеет: бах-трах, слева-направо, и никогда не знаешь, подправишь камень или расколешь… К тому же, когда колотишь, силу тратишь… Вот так… Три года мне мой мастер молотка не давал. Потому и я тебе говорю: обходись без молотка!.. А сейчас давай за раствором! — приказал Ваню глазевшему на него Мите.
Мите двинулся своей медвежьей походкой. Ваню достал отвес из разбухшего от всякой всячины кармана брюк, проверил только что положенный камень и сунул отвес обратно в карман.
— Глаз глазом, а вот эта штука вернее глаза служит, — говорит Ваню, больше для самого себя, и вдруг, заметив мое присутствие, обращается ко мне: — Так я говорю, шеф?
— Так, — соглашаюсь я и поглядываю на спадающие Ванювы брюки, — чего себе подтяжки не купишь?
— А где ты видал каменщика в подтяжках? — смотрит на меня Ваню. Один его глаз прикрыт, другой смеется, и сам он готов фыркнуть. — Для чего же мне эти ляжки, — похлопывает он себя по бедрам, — если они пару штанов удержать не могут? Раствор! — вдруг кричит он, заметив, что Мите собирается закурить.
— Работаешь, так нечего курить! — сердится Ваню, когда Мите подходит с полными ведрами.
— Почему это нечего? — возражает Мите.
— Стену мне закоптишь! Почему! Лей раствор! — прекращает Ваню спор и продолжает укладывать камни.
Пока он работает, я задумываюсь над его словами. Где ни копнешь вокруг нашего села, всюду натыкаешься на стенки. Поля наши — на крутых склонах, слой почвы тонкий, дожди легко смывают ее, по этой причине наш горный житель и подпирает да подгораживает свои поля, чтобы почва держалась. Поэтому склонность к ремеслу каменщика — в крови каждого ребенка, родившегося в горах. Вот и Ваню — крепкий, здоровый мужичище — может получить куда более выгодную работу в бригаде бетонщиков, но он предпочитает класть стенки и радоваться им. А радуется он, как дитя: отойдет немного от стенки, полюбуется ею, вернется, постучит по какому-нибудь упрямо торчащему камешку и снова отойдет. Лицо его сияет, морщинки разглаживаются, и он выглядит удивительно помолодевшим. Потом наберет новых камней, уложит их в ряд, посмотрит издали, как они друг за дружку держатся, и снова подойдет, подправит.
— Чего ты их щупаешь? И так хорошо лежат! — вмешивается Мите, ему хочется немного позлить мастера, но Ваню продолжает работать спокойно, сосредоточенно.
— У каждого камня, друг любезный, есть лицо и задница, — обращается он снова к Мите, уложив очередной камень и по привычке пристукнув его молотком. — А ты, коли не можешь различить, где лицо, где задница, лучше помолчал бы! Камень всегда надо класть так, чтоб он лицом на тебя смотрел. Если ты, конечно, мастер. А если нет — можешь класть как тебе заблагорассудится, — добавляет ласково Ваню, вынимает отвес и начинает тщательно проверять, хорошо ли лег камень.
Мите гасит цигарку и начинает таскать камни, стараясь брать те, что получше. Он молчит — это означает, что он сердится. А Ваню укладывает камень за камнем, замазывает щели раствором, заполняет дыры мелкими осколками, и взъерошенная деревенская стена все выше поднимается на крепком своем фундаменте, слегка наклоняясь к яру, который ей нужно будет подпирать ближайшие сто лет.
Проверив отвесом, как лежит последний камень, Ваню отходит на два шага назад, чтобы оценить свою работу. Опустив широкие, потрескавшиеся руки, забыв о спадающих штанах, он стоит, словно выросший из земли, плотный и грубый, как она сама. Минуту-другую он любуется своей постройкой, но, вспомнив, что он не один, снова кричит Мите:
— Давай раствор!
Перевод В. Викторова.
ПРОЩАЙ, ЧЕЧЕВИЦА
Славная штука, эта чечевица! Не случайно библейский Исав в свое время продал право первородства брату своему Иакову за чечевичную похлебку. Из чечевицы делается знаменитая похлебка — одно из любимейших и вкуснейших блюд болгарского стола. Плохо только, что это драгоценное растение, известное еще с библейских времен, начинает исчезать. Не растет чечевица на наших полях.
Отчего бы? Почему она исчезает?
Одни говорят, что поля сильно загрязнены минеральными удобрениями. Другие считают, что в последнее время расплодилось очень много сорняков. По мнению третьих, климат сейчас для чечевицы неподходящий. Оказывается, в ее мелких простодушных зернышках кроется особая нежность, не свойственная другим семенам, и в этой повышенной чувствительности, по-видимому, причина их слабости. А может быть, чечевице вредны минеральные удобрения? Может быть, это космические силы объединились, чтобы ее уничтожить? Или в борьбе с сорняками нежная, домашнего воспитания чечевица отступает, подобно тому, как сосна отступает перед буком?
Возможно также, что повышенное содержание углекислого газа в воздухе убивает не приспособленную к загрязненной атмосфере чечевицу. Не исключено, что проницаемость озонной оболочки в стратосфере после атомных взрывов изменилась не в пользу чечевицы. Или на нее неблагоприятно влияют солнечные пятна.
Да и технический прогресс обесценивает чечевицу: освобожденные от физического труда люди перестают двигаться, полнеют. Впервые в истории нашего поджарого народа возникла проблема похудания, и в связи с этим бобовые растения стали, как говорится, непопулярными. Можно еще добавить, что наши растревоженные стрессами желудки уже не переносят ни чечевицы, ни фасоли. И сверх того, чечевица стала невыгодной экономически: к ней пока что нельзя применить механизацию (не изобретены еще чечевичные комбайны), а для ручной обработки ее на селе уже нет людей.
Проигрывает чечевица и в соревновании с вермишелью, из которой делают современные супы.
И наконец, питаться чечевицей в наше время просто не модно. На вопрос: «Что ты ел?» человек предпочитает ответить: «шницель натуральный», «котлету по-киевски» или «медальон с грибами», а не «чечевичную похлебку». Короче говоря, чечевица морально устарела. А это означает, что, будь на ее стороне даже все космические силы, включая и солнечные пятна, она исчезнет с лица земли, как исчезли, например, белоголовые орлы.
Так или иначе, но ты, о нежная, кроткая чечевица, покидаешь наш чересчур спешащий мир, поэтому давай простимся, пока еще можно где-нибудь встретить последние твои зернышки.
Прощай же, чечевица! Мы, кто тебя помнит, никогда не забудем, сколько ты сделала для процветания человечества, и будем вечно славить дивные твои ароматы! Долго в душе у нас будут оживать сладостные мгновения, пережитые вместе с тобой, пока люди не научились чистить, лущить тебя и тем самым уродовать. Те, кто тебя не пробовал, не понимают, что они потеряли, потому что им не знаком твой чечевичный вкус, твой сладостный дух. Только мы, кто с тобой и благодаря тебе выросли, только мы знаем, как обеднел мир, лишившись чечевицы.
Ученые будущего, вероятно, подробно опишут в своих книгах, сколько весили и какую форму имели твои зерна, какой толщины была твоя шелуха, какие ферменты и витамины ты содержала, но это не поможет людям завтрашнего дня понять, каким волшебным растением ты была… Потому что твоя магия — в твоем вкусе, а его не опишешь ни цифрами, ни словами.
Прощай же, чечевица! И не кори слепое время, которое само не знает, кого спасает, а кого губит.
Перевод В. Викторова.
ОПОРА НАШЕГО СТАРОГО ДОМА
Он подпирает старый отцовский дом. Почти прямой дубовый столб, кое-как обтесанный топором. На нем лежит поперечная балка, называемая «матерью», которая несет на себе второй этаж дома и крышу из каменных плит.
Двести с лишним лет этот столб без устали держит материнскую балку и покоящиеся на ней переплеты из камня и дерева. И он не покривился, не треснул. С честью выдержал и знаменитое землетрясение в тысяча девятьсот двадцать восьмом, и тяжелую зиму тридцать второго года, когда на крышу навалило снега высотой в рост человека и «мать» порядком прогнулась.
Черви пробовали проверить надежность опорного столба, но их зубы, встретив стальную древесину, лишь слегка ее поцарапали. И туман делал свое дело — осень за осенью он пропитывал дерево сыростью, а потом солнце его высушивало, и земная пыль въедалась в него, пока не сделала его поверхность серой и волокнистой, как шерсть. Похолодает — и эта шерсть встает на столбе дыбом. Увлажнит ее туман — у каждой волосинки собирается жемчужная капелька, и столб светится, словно посеребренный… Засверкает солнце — серебро исчезает, и уже видно, что столб стар, утомлен, умудрен, много выстрадал и много пережил.
К этому столбу отец мой привязывал мула. Мул — беспокойный, вечно голодный и нравом зловредный — все дергался, вертел головой, терся о дерево, и сейчас еще заметны следы его неугомонного недоуздка. Торчит еще и крюк, прибитый к столбу цыганским гвоздем, на этот крюк отец мой вешал мясо, взятое в долг у мясника Юрдана. Под крюком продольными черточками отмечалось, сколько мер пшеницы занимали мы у моего дяди Рангела, а поперечными — сколько отец ему отдал…
Есть на нашем столбе и зарубка от удара топором. Во время Апрельского восстания[13] дед мой хотел, чтобы дом, полный дряновских[14] башибузуков, рухнул, но братья остановили его, потому что в подвале у нас прятались соседские девушки.
В летнее время отец, придя с работы домой, подолгу сидел, прислонясь спиной к столбу, отдавая ему свой пот. Так он отдыхал до самых сумерек. Тогда две опоры нашего дома — живая и деревянная — сливались в одно целое, поровну принимая на себя его тяжесть.
Вздохнет отец — столб воспримет этот вздох и передаст его «матери», а «мать» — позеленевшим каменным плитам крыши, которые возвратят этот вздох отцу, потому что на камень, в противоположность дереву, вздохи не действуют.
Очень похожи были друг на друга мой отец и наш домашний столб — оба чуть сгорбленные, седые, безропотно молчаливые, с тем различием, что от моего отца осталась горстка костей, а столб — грустный и одряхлевший — все еще продолжает нести на себе тяжесть каменной крыши. А грустный он потому, что под крышей уже нет людей. Братья мои уехали, а в доме наши соседи хранят дубовые ветки, которыми зимой кормят коз. И вместо того, чтобы беречь людей и людские судьбы, наш столб бережет теперь лишь сухую листву. Ему легко: на крюке для мяса сейчас висит лишь корзинка со старыми подковами. Нет больше шалого мула, который дергал за столб и вытрясал из него пыль. Некому после заговенья хоро сплясать, чтоб проверил столб свою силу, чтоб возгордился тем, что «мать» согнулась, а он вот не дрогнул. Хоть бы какая-нибудь телка почесала об него спину, но нет ни телки, ни хозяина, который мог бы поделиться с ним вздохом.
Седеет столб и молчит, погруженный в свои невеселые думы, на одном из его сучьев пророс пырей, другой сучок смотрит, словно ослепший глаз, на притихшую сельскую улочку и прислушивается, не идет ли отцовский мул, не раздастся ли отцовское покашливание.
Но нет ни мула, ни покашливания. Лишь изредка простучит по булыжнику стариковская палка, чтобы напомнить, что вода из речки вытекла, а русло высохло.
Перевод В. Викторова.
ГОЛУБИ В НЕБЕ
Земляки мои по целым неделям не бреются, а про стрижку и говорить нечего. За это время их волосы отрастают, сваливаются, грубеют, превращаясь в дикие заросли, способные устрашить любого парикмахера. К счастью, наш деревенский брадобрей, дядя Иван, — человек, которого ничем не напугаешь. Сначала он осмотрит голову со всех сторон и только тогда начинает работать. Интересно наблюдать, как из-под щетины, не ведавшей бритвы месяц-другой, начинают вырисовываться скулы, подбородок, лоб, щеки, пока не откроется, наконец, и все лицо, на удивление главным образом самому клиенту. В заключение дядя Иван побрызгает его одеколоном и отпустит обновленным и помолодевшим.
Что касается плешивых, то с ними у дяди Ивана вдвое, а то и втрое больше забот. Сколько у них волос ни осталось — все используются до последнего. Ни единого волоса дядя Иван у такого никогда не срежет. Он перекинет его через темя и один, и два, и три раза, пока не скроет плешь. Чтобы прическа подольше держалась, он спрыскивает приведенные в порядок волосы оливковым маслом, смешанным с какой-то травкой, и они твердеют, и клиент может спокойно ходить с прикрытым теменем день, а то и больше.
Бритье у дяди Ивана происходит в абсолютной тишине. Обычно парикмахеры, пока бреют, про ход целого матча тебе расскажут — с нашим такого не случается. О себе он никогда ни слова не проронит — только и знаем, что он по собственному желанию покинул город, чтобы поселиться в деревне. А была ли у него семья, жена, дети — никому неведомо. Прошел как-то слух, будто он влюбился в одну молоденькую парикмахершу и потому уехал из города. Утверждали также, что он решил сменить город на деревню, чтобы поправить здоровье. Но сам дядя Иван ничего об этом не рассказывал. Говорил он охотно только об одном — о петухах.
Он первый обратил наше внимание на то, что нынешние петухи не только не кукарекают, но и ведут себя вовсе не как петухи. И верно, толстые, какие-то вялые, они сторонятся кур, сидят с опущенными головами, а найдут зернышко — не созывают кур, а подло съедают его сами. Залезет такой на курицу в кои-то веки, да и то безо всякой охоты. А в былые времена петухи дрались, не сидели смирно. Как сцепятся — такое побоище тут начнется: и клюют друг друга, и перья выдирают, и пух вокруг носится, пока более слабый не отступит и поле битвы не останется за победителем.
А кукареканье на заре?! Первые, вторые, третьи петухи! Один как прокукарекает — все село греметь начнет. И каждый отзовется своим, особым голосом, подсказывая хозяину, что пора браться за работу. Петух тогда был фигурой, он украшал жизнь, озвучивал ее. А нынешние не кукарекают. Вот дядя Иван и поставил вопрос: нельзя ли раздобыть кукарекающих петухов? А когда Гочо Поряз спросил: «А зачем» — дядя Иван ответил, что он тишины не переносит, угнетает она его.
И действительно, в селе ночью невыносимо тихо. Ни коров, ни телят, ни овец. Ни замычать, ни в стенку сарая ткнуться некому. Ни почесаться, чтобы колокольчик звякнул. А когда еще и петухи не кукарекают, тишина становится поистине зловещей.
В результате всех разговоров была принята идея дяди Ивана доставить в село настоящего кукарекающего петуха. Принесли такого из Писаницы. Несколько ночей он оглашал село и в час «первых», и в час «вторых», и в час «третьих» петухов, потом начал подавать голос только в час «вторых», потом в час «третьих», и, наконец, совсем умолк. Наши отказались его поддерживать.
Однажды, вскоре после неудачного опыта с петухами, дядя Иван в полдень закрыл парикмахерскую и исчез. Под вечер видели, как он возвращается из Руенского леса. Он тащил три жерди, связанные веревкой.
Утром он начал копать яму посреди деревенской площади — напротив парикмахерской, а через три дня, никому ничего не объясняя, воздвиг на этом месте трехногую пирамиду, а наверху водрузил пять деревянных клеток. И тогда только сказал, что это голубятня. Принес он и голубей. Сначала их было два, потом стало четыре. Они снесли яйца, а он кормил их и защищал от кошек. В конце лета была уже целая стая, голуби летали над селом, садились на крышу церкви и там чистили свои перышки. А весной как загукали голуби — все село зазвенело! Самцы ухаживали за самками: причесывали их клювами, чистили им ожерелья на шейках, щекотали их под крылышками и ненасытно ворковали.
Дядя Иван и другие крестьяне, постоянно проводившие время на скамье возле церкви, смотрели на влюбленных и внимательно следили за их ухаживанием. Окрестили голубей: Чурка, Вида, Бабулка, Косю и говорили о них, как о людях. Обсуждали и гадали, «приобщатся» ли Чурка и Вида (дядя Иван говорил не «спаривание», а «приобщение»), два или три яйца снесла Бабулка, и чего не поделили вчера вечером Косю и Венец, и помирятся ли опять Митра и Ходжа. А едва птенцы подросли и родители начали учить их летать, старики не вставали со скамейки и глаз не сводили с голубей.
Однажды Поряз сказал:
— Честь и хвала дяде Ивану. Из-за этих голубей мы теперь глядим не вниз, а вверх… Когда смотришь вверх, в небо, и мысли другие в голову приходят… Не то что копаться глазами в земле и прикидывать, когда и ты там окажешься.
Вскоре после того дядя Иван умер. Сказав Порязу, что у него болит низ живота, сел на попутный грузовик — мимо нас возят бревна из леса — и уехал в город. Через некоторое время его привезли обратно — после операции он вроде бы поправился.
Это было в апреле, голуби уже летали и ворковали вовсю. Дядя Иван вернулся в пятницу, а в воскресенье его не стало.
Поряз зашел к нему и увидел, что он стоит на коленях у окна — он умер, глядя на летающих голубей.
И теперь, когда я вижу в свое окно, как голуби дяди Ивана взмывают вверх и ныряют в посеревшем осеннем небе, я думаю о том, что мир и правда стал бы красивее и лучше, если б каждый из нас оставлял в нем что-нибудь после себя, подобно тому, как наш сельский брадобрей оставил в нашем пустынном деревенском небе своих голубей.
Перевод В. Викторова.
ГОСТИ НА ДАЧЕ
Они явились нежданно-негаданно: послышались голоса, и сразу же хлопнула калитка во дворе. Она жестяная, угол слегка отогнут и при каждом движении громко докладывает, что кто-то входит или выходит. Я поднялся из-за своего стола и увидел в окно, что по двору тянется пестрая вереница, человек десять — мужчины, женщины, дети… Они были с рюкзаками — шли по дороге с турбазы…
— Это дача писателя? — спросил один из мужчин, оглядываясь по сторонам. — Маловата вроде.
Он шел впереди и, по-видимому, был руководителем группы. В руках он держал только что срезанную сосновую ветку и показывал ею на крышу:
— И громоотвод есть!
— Какая лужайка! — восхищалась женщина в пестрой косынке. — Тут просто восхитительно!
Еще пять-шесть ступенек — и они окажутся на верхнем дворе. На мне были домашние брюки, тапочки на босу ногу, старая клетчатая рубашка, которую я очень люблю. Таким расхристанным мне не хотелось показываться на людях, но времени на переодевание не было, и хочешь не хочешь я вышел навстречу гостям в чем был.
Мы столкнулись у верхней калитки: я собрался ее отворить, но они вошли и без моей помощи.
— Это дача писателя? — спросила женщина в косынке. — А он сейчас дома?
По бесхитростному выражению ее лица я понял, что ей и в голову не приходит, что это я — хозяин, то есть писатель, которого они хотели видеть, и я решил не разочаровывать ее. Я сказал, что писатель только что вышел прогуляться. Жребий, как говорится, был брошен.
— Скажите, можно осмотреть двор? — спросил руководитель со свежесрезанной сосновой палкой.
— Пожалуйста! Заходите!
Группа вошла: трое мужчин, шесть женщин, трое детей. Кроме палки у руководителя был фотоаппарат. Выглядел руководитель лет на тридцать пять, но животик его уже округлился, шорты выставляли напоказ пухлые белые ноги с рыжими волосами. Он заглянул через окно в дом и сказал:
— Писатель работает в этой комнате?
В окно был виден мой стол с пишущей машинкой и вставленным в нее недописанным листом. Все подошли к окну и с любопытством заглянули в писательскую «святая святых».
— Этот дом реставрирован? — поинтересовалась женщина в клетчатой косынке, взглянув на кровлю.
Я почувствовал, что нанесу ей удар, если скажу, что дом не реставрировался, и что вообще это совсем не тот дом, где родился писатель, поэтому ответил утвердительно и даже повторил:
— Да, да! Дом реставрирован.
— А он тут и родился?
— Конечно, конечно!.. — продолжал я в том же духе, все больше входя в роль экскурсовода.
— А можно нам взглянуть на его письменный стол? — спросила белокурая девочка, как выяснилось потом — гимназистка.
Я пригласил их в комнату, и они, вероятно, очень удивились, увидев, что письменным столом служила доска, прикрепленная к подоконнику. Белокурая девочка подошла к машинке и стала читать про себя недописанную страницу…
— Какое слово интересное: «Хряпать»! — подозвала она женщину в клетчатой косынке.
— Совсем недавно кто-то стучал на машинке, — сообразил руководитель группы. — Это вы печатали?
— Да, я перепечатывал то, что он написал.
Все обернулись ко мне, оглядели меня повнимательнее и уже с бо́льшим уважением.
— Я запомню все это! — сказала белокурая девочка, дотрагиваясь сначала до машинки, а потом до лежащей рядом коробки для сигар.
— Он курит сигары? — спросил руководитель, взял коробку и стал ее изучать.
В коробке были скрепки, но он, слава богу, ее не открыл, а осторожно поставил на место. На лице его отразилось дополнительное уважение к владельцу сигар. Да и всю компанию привела, по-видимому, в восторг металлическая коробка с вензелем фирмы. Молчаливая молодая женщина с «конским хвостом» и в холщовой блузке подошла поближе, но не взяла коробку, а только наклонилась и шепнула женщине в клетчатой косынке:
— Голландские!
Женщина в клетчатой косынке разглядывала в это время икону Святого Георгия, стоявшую на этажерке с книгами. Столпились вокруг нее и остальные, несколько смущенные, стараясь не смотреть друг на друга.
— Он что, верующий? — спросил руководитель, явно озадаченный.
— Эта икона — произведение искусства! — сказала вдруг смуглая женщина с «конским хвостом».
— Да, это произведение искусства! — поддержали ее остальные.
Осмотр комнаты был закончен. Мы прошли в другую…
— Мама, мама, козий рог! — один из мальчиков заметил на камине козий рог и показал его молодой женщине в спортивной куртке (у женщины был такой же, как у мальчика, курносый и веснушчатый носик).
Вся группа собралась около камина посмотреть на козий рог.
— Можно его потрогать? — спросил мальчик и дотронулся до рога так осторожно, словно мог обжечься.
— Это им убивали турок? — подошел другой мальчик с круглой, как черешня, рыжеволосой головой.
— Ну конечно, — ответила мать. — Писатель же не выдумал это… Помните кинофильм «Козий рог»?
— Помним, помним! — закричали дети в один голос.
— Вот он, уголок народного быта! — воскликнула женщина в клетчатой косынке, осматривая камин. — Он настоящий? — спросила она, и не дожидаясь ответа, наклонилась, чтобы выяснить, есть ли у камина дымоход. — И мы тоже сделаем так у себя дома, только в подвале. Будет очень эффектно… И покроем его целлофаном. Будет очень эффектно! — повторила она, очевидно, разочарованная моим самым обыкновенным, к тому же действующим, камином в золе и саже.
— А тут у вас есть какие-нибудь старинные вещи? — задала вопрос белокурая гимназистка.
— Ну вот, например, — я показал на деревянную табуретку. — И вот! — Я взял деревянную ступку, в которой толкут чеснок. — Этой ступке триста лет! — Я уже почти вжился в роль экскурсовода.
— А откуда вы знаете, что триста лет? — усомнилась смуглая женщина с «конским хвостом».
— Ее исследовали с помощью радия.
Удивление гостей нарастало.
— Трехсотлетняя ступка! — стала ее ощупывать женщина с «конским хвостом», взволнованная тем, что касается такого древнего, можно сказать, исторического предмета. Интерес к писателю возрастал с каждым новым пояснением…
— А он скоро вернется домой, — спросила меня курносая мамаша, — писатель ваш?
— Он возвращается обычно к половине второго, — я глянул на свои часы, сообразив, что сейчас полдвенадцатого и группа вряд ли станет ждать целых два часа.
— Жалко! — вздохнул «конский хвост», выражая общие чувства.
— А кто ему готовит? — неожиданно спросила женщина, которая собиралась делать себе целлофановый камин.
— Я! Я готовлю ему и печатаю на машинке! — Я держался все более храбро и лихо.
— А охрана тут есть? — вдруг спросил руководитель.
— Есть, — соврал я тоже с ходу. — Только с восьми часов вечера.
Если бы я сообщил, что писатель только что получил Нобелевскую премию, это произвело бы на моих гостей меньшее впечатление, чем то, что дача охраняется. Минуту-другую все смотрели на меня с острейшим интересом, перерастающим в нескрываемое уважение и восхищение. Дачи, подобные моей, они, конечно, видели, но охраняемая дача — это уж нечто совсем иное…
Даже сам я, незаметно для себя, ощутил гордость от того, что моя дача охраняется.
После довольно долгой паузы мужчина со свежесрезанной сосновой палкой сказал, но уже с другой ноткой в голосе (мне показалось — ноткой зависти):
— Значит… он тут один?!
Я подтвердил, что один. Осуждающий взгляд блеснул за очками руководителя:
— Так он не женат?
— Женат.
Руководитель помолчал, посмотрел на меня с недоверием и проговорил:
— Но как же жена оставляет его одного? Этого я не могу понять.
— Так от кого же его стеречь? Тут нет женщин, — попытался я рассеять возникшие подозрения.
— А туристки разве сюда не заглядывают? — спросила клетчатая косынка, и глаза под платком лукаво блеснули.
— Они заглядывают, но именно — только заглядывают.
— А сколько ему лет? — вступила в разговор женщина с прямыми волосами и строгим лицом учительницы.
— Около пятидесяти, — скинул я лет пять с истинного возраста писателя.
— Так он же совсем еще молодой! — воскликнула женщина, которая раньше заступилась за писателя, заявив, что икона — это произведение искусства.
— Ну да! Конечно, молодой! — произнес самый старший мужчина в группе, до сих пор молчавший, и пригладил свои поседевшие, но все еще вьющиеся волосы.
— Красивое место! — вздохнул руководитель, поглядев вниз, на лужайку. (Мы уже вышли во двор, и группа осматривала окрестность.) — А почему бы нам не сняться здесь? Становитесь, товарищи! — помахал он рукой, влез на каменную ограду и еще раз помахал: — Поплотнее, товарищи, и побыстрей!
Группа выстроилась во дворе, как обычно выстраиваются люди, чтобы сфотографироваться: передние спокойно смотрят в аппарат, а задние вытягивают шеи, чтобы на снимке вышли хотя бы головы.
— Товарищ сторож! Войдите, пожалуйста, в кадр… Да, да, вы тоже, — пригласил меня руководитель.
— А можно мне взять фуражку? — попросил я, подумав, что солнце будет бить мне в глаза и лицо сморщится.
Я надел свою морскую фуражку и встал на правом фланге.
— Присядьте, пожалуйста, на корточки, — попросил фотограф.
Я присел на корточки перед двумя мальчуганами.
— Это ваша форма? — спросила меня белокурая девочка, заинтересовавшись моей морской фуражкой.
— Да, это моя форма.
— А китель где?
— Китель я отдал погладить.
Команда «Внимание». Аппарат щелкнул. Люди зашевелились.
— Ну, теперь пошли! — скомандовал руководитель.
— А он по какой дороге возвращается? — подошел ко мне «конский хвост».
— Вот по этой… — объяснил я, показывая на дорогу к турбазе.
— А мы можем его встретить?
— Навряд ли, — попытался я сказать правду, но, заметив разочарование на лице молодой женщины, поправился: — Впрочем, это вполне возможно, если не будете сворачивать с дороги…
— Вот с этой? — захотела увериться женщина.
— Да, с этой самой!
Экскурсанты тронулись в путь. Белокурая девочка оглянулась:
— А как же мы его узнаем?
— Он голый до пояса… В соломенной шляпе…
— Вот бы встретить его! — оживилась учительница со строгим лицом, что заставило самого старшего в группе посмотреть на нее чуть ли не с ревностью.
— Это будет блеск, — сказала гимназистка из Ямбола («Ямбол» было написано на ее нарукавной нашивке).
— Я его сфотографирую, — заявил руководитель с аппаратом. — Да, а у вас тут нет книги для посетителей, чтобы мы расписались? — вдруг вспомнил он.
— Книги нет. Но я ему скажу, чтобы он завел…
— А он женат? — спросила женщина в клетчатой косынке, когда была уже посередине наружной лестницы.
— Я же вам говорил — женат.
— А жена его — артистка? — спросила гимназистка из Ямбола, убежденная, что писатель должен быть женат только на артистке.
Я не решился возражать. Сказал просто, что не знаю точно, кто его жена.
— Но артистки здесь бывают? — тихо спросил меня руководитель.
Я кивнул утвердительно, взглядом давая ему понять, что мне не очень удобно касаться этого вопроса.
Руководитель кивнул в ответ, — дескать, понял, — и подмигнул, очень довольный тем, что получил ожидаемую информацию.
Смуглая молодая женщина, которая стала невольной свидетельницей нашего молчаливого разговора, покраснела.
— Извините, — обратилась она ко мне, немножко отстав от остальных, — вы не уточните все же, как он выглядит?
— Приблизительно как я… Нет, нет, намного выше… — поправился я, прочтя в ее глазах легкое разочарование.
— А глаза какие?
— Голубые, — решительно заявил я, уверенный, что это придется ей по вкусу, и не ошибся: она так покраснела, как будто голубоглазый писатель уже стоял перед ней…
— Благодарю вас… Спасибо…
— До свидания, товарищ сторож! — воскликнули несколько человек, когда были уже за калиткой. — Скажите писателю, что приходила группа его читателей…
— Хорошо, скажу… А вы мне пришлете фотографию? — спросил я.
— Обязательно. И когда пришлем, покажите ее писателю, — прокричал руководитель группы и повел свою пеструю команду по дороге к турбазе.
На повороте они помахали мне и скрылись из виду. Какое счастье, что писатель оказался на прогулке!.. Ах, какое счастье — и для него, и для них!
Перевод В. Викторова.
КОЛЮЧАЯ РОЗА
Перевод Л. Лерер-Баша.
ИДЕТ ВРЕМЯ — НЕСЕТ БРЕМЯ
В юные годы заплаты на штанах были одной из причин моих страданий. Я весь цепенел, когда учительница вызывала меня к доске или даже когда мне надо было идти к чешме за водой. А теперь мой сын нарочно скребет свои новые джинсы куском черепицы, нашивает на них латки, замачивает в хлорке — чтобы слиняли — и прежде, чем надеть самому, дает их поносить младшему брату.
И в те же времена, когда заплаты были не в моде, если за трапезой невзначай падал со стола кусочек хлеба, тот, кто его уронил, должен был, подняв, поцеловать его и попросить о прощении. В селах люди присягали и клялись хлебом. Говорили: «Хлебушко, ты — наш кормилец, отец наш родной!», «Если не скажу правду, хлеб зрения меня лишит!» «Уж не считаешь ли ты себя важнее хлеба?» — говорили, когда кого-то приглашали к столу, а тот не садился. «Хлеб поцелую, ежели ты мне не веришь» — и так далее. У нас теперь это извечное для вчерашнего и для всех предыдущих поколений божество, называемое хлебом, горожане выбрасывают в мусорные ведра, и никому из них даже не придет в голову, что хлеб — это человеческий труд и муки. А в селах его скармливают скотине.
Да и вообще наш нынешний горожанин даже как-то враждебно смотрит на хлеб, потому что он, мол, одна из основных причин его ожирения.
«Хлеба и зрелищ!», «Хлеб и народовластие!», «Мир, хлеб и свобода!» — эти призывы звучали на протяжении всей тысячелетней истории человечества. Сейчас в цивилизованных странах о хлебе говорят мало или вообще его не поминают — теперь вызывают тревогу… в о з д у х и в о д а.
Когда-то людей больше всего волновало — уродится ли хлеб, не будет ли засухи или затяжного ненастья, теперь же — будет или не будет атомная война.
Такая смена тревог произошла лишь за два-три последних десятилетия — молниеносно, на наших глазах. Говорю «молниеносно», потому что никогда еще мир не менялся так быстро, как ныне. В доисторические времена люди выделывали из кости крохотных — с палец — божков-идолов. По форме они почти все одинаковы, с той лишь разницей, что одни из них украшены на груди точками, а другие — черточками. Установлено, что мода на «точечных» идолов, например, держалась около двух тысяч лет. Две тысячи лет были в моде одни и те же идолы, пока не назрела — бог его ведает отчего и почему — необходимость заменить точки черточками.
Примерно в таком же бесконечно медленном для нас, современных людей, ритме происходили и перемены в орудиях труда и вообще в экономике и быте. Медные посудины, называемые у нас «бакырами»[15], в которых, можно сказать, до вчерашнего дня носили из чешмы домой воду мои односельчане, существуют уже более чем двадцать веков, и ничего, или почти ничего, в их форме с тех пор не изменилось. Минуло несколько тысячелетий, пока человек придумал взамен мотыги соху. Около пяти тысяч лет длилась эпоха деревянной сохи, пока на смену ей не пришел в начале нынешнего века железный плуг, который в наши дни, на наших глазах был вытеснен трактором и его оснащением.
Когда-то целым поколениям доводилось прожить свой век, не видя существенных перемен ни в духовной, ни в материальной сфере жизни, а сейчас мы от всех этих перемен не можем просто перевести дух: в наше время на наших глазах примитивные стенные шкафчики были сменены полированными гардеробами, железные печки — электрическими, деревянные балки — бетонными плитами, серпы — комбайнами, сохи — тракторами, полоски нив — неоглядными кооперативными полями, фаэтоны — автомобилями. Не говоря уже о технических чудесах, которые, вторгшись в нашу жизнь, изменили ее коренным образом, так что от прежней, можно сказать, ничего и не осталось.
Телефон, патефон, радио, магнитофон, телевизор, о которых мы еще не так давно и слыхом не слыхали, стали в нашем домашнем быту предметами первой необходимости. А в сферу труда машины вошли так стремительно, что мы, все еще ошеломленные и привыкшие к ручному труду, недоумеваем, куда нам девать свои руки. Возможности быстрого передвижения увеличиваются столь неограниченно, что расстояния, вчера еще нас поражавшие, мы считаем сегодня за ничто.
Не стоит и гадать, кто счастливее: человек ли, не видевший на своем веку никаких перемен, или же мы — дети современной, каждый миг меняющейся технической цивилизации. Что касается меня, то я готов отвесить земной поклон этой цивилизации, которая дает нам возможность и летать куда быстрее орла; и видеть, что происходит на всех континентах; гонять мяч, пока машина пашет и жнет вместо нас; и возвращать к жизни людей, уже ступивших одной ногой на тот свет.
Да, я готов сделать это! Но вместе с тем я не могу забыть, что жить в наш атомный век — это не только привилегия, что «Роза», называемая цивилизацией, имеет и шипы, что если одной рукой она нам дает, то другой она же у нас и отбирает; что если одной рукой она нас ласково гладит, то другой хватает за горло; что вместе со всеми теми благами, которые она нам предлагает, она порой угрожает нашей жизни физически, в прямом смысле слова, и угроза эта стала уже фактом «постоянного присутствия» в нашем духовном мире. Я заметил — в самые светлые, даже счастливые мгновенья вдруг ни с того ни с сего оборвется что-то внутри от леденящей мысли: а не ослепит ли тебя нежданно-негаданно ядерная молния, не уничтожит ли, не сметет ли тебя однажды с лика этого чудесного «божьего» мира ядерный вихрь в тот самый момент, когда ты будешь лежать на полянке и любоваться голубым небом…
Эта присущая нашему времени неуверенность не только унижает тебя сознанием зависимости от какого-то изобретения, от чьей-то чужой воли или даже прихоти; она не только тебя пугает и возмущает — неуверенность незаметно меняет весь твой внутренний мир. Правда, на свете всегда было полно всяких страхов. Наш далекий предок, живший в каменном веке, наверняка испытывал ужас перед пещерным медведем, но он все же знал, что может уцелеть, если выследит медведя, если сумеет загородить вход в его логово, чтобы сжечь его там или убить. Этого блага — надежды на самозащиту — большой или малой — современного человека практически лишает ядерная бомба. Гибель грозит ему вместе с его близкими, его потомством, со всем человечеством. И не на день и не на два поселилась в нем эта тревога, а навсегда, или по крайней мере до тех пор, пока атомные, водородные, кобальтовые или кто знает какие еще ядерные бомбы существуют хоть в какой-то точке земного шара.
Верно, всему миру известно, что на свете есть силы, противодействующие применению атомной бомбы, — прежде всего Советский Союз, который ведет упорную борьбу за запрещение ядерного оружия, но можем ли мы быть уверены в том, что при фатальном стечении обстоятельств ядерная война все же не вспыхнет? Такой уверенности еще нет. Вопрос о «гарантиях» начал обсуждаться еще в январе 1946 года (спустя всего лишь несколько месяцев после взрыва первой атомной бомбы над Хиросимой) в только что созданной тогда Организации Объединенных Наций, но столь желанное для миролюбивых сил абсолютное запрещение ядерного оружия все еще не достигнуто. А готовые для взрыва сотни, может быть, и тысячи ядерных бомб продолжают нависать над человечеством как дамоклов меч. Известно, что их вполне достаточно для того, чтобы многократно уничтожить жизнь на нашей планете, так что мы можем с умилением вспоминать меч изобретательного Дамокла, способный отсечь лишь одну голову и опустошить силой ужаса лишь одну человеческую душу, тогда как ядерный меч нависает одинаковой угрозой над каждым из трех миллиардов человеческих существ.
Некогда в нашем старом болгарском журнале «Природа» один из авторов, обсуждая проблемы будущей «воздушной войны», выражал сожаление, что человеку придется тогда умирать не под звуки полкового оркестра, а под гул аэропланного пропеллера и грохот авиабомб. В другой книге — «Война двухтысячного года» — другой автор изобразил кульминацию этой войны в картине смерти главного героя (японца), который с криком «Банзай!» выбрасывался из кабины аэромобиля, чтобы дать возможность своему товарищу набрать необходимую для схватки с противником высоту.
Эти представления о «войне будущего» выглядят в наши дни не просто наивными, но смешными, ибо теперь перед глазами всегда встает тот зловещий огненный вихрь, который за несколько секунд смел с лица земли Хиросиму, расплавив с одинаковой легкостью людей и железобетон.
По сравнению с таким способом уничтожения средневековые ужасы Столетней и Тридцатилетней войн кажутся идиллией. Потому что в те времена даже самые жестокие наемники выбирали, кому стать жертвой их копья, и могли проявить милосердие хотя бы по отношению к детям или беременным женщинам, тогда как во власти слепой ядерной молнии уничтожить всех подряд и сверх того еще отравить землю радиоактивными осадками чуть ли не на вечные времена.
Атомный страх уже проникает и в наши сны. Мне часто снится, как земля — испепеленная, опустошенная, испускает последний дух, а я весь трепещу от ужасной мысли, что оказался столь беспощадно одинок и что со всем навсегда покончено.
Проникнув в наше сознание и подсознание, ядерная угроза уже покрывает своей коварной тенью наш душевный мир. Мешая нам верить времени, полагаться на время, она незаметно подтачивает нас, заставляя нетерпеливо, поспешно, порой даже грубо пользоваться дарами жизни и нарушать «естественный порядок естественных вещей».
Но кроме наносимой людям психологической травмы, ядерная угроза травмирует нас и физически — в самом прямом смысле этого слова — радиоактивной губительной отравой — последствием произведенных до сих пор боевых и опытных ядерных взрывов. Известно, что при этих взрывах возникает огромное количество продуктов радиоактивного распада, которые, распыляясь в атмосфере, выпадают затем в виде «осадков» во всех частях земного шара. Один из самых опасных элементов этих «осадков» — радиоактивный изотоп стронций-90. Попав на траву, буйный стронций-90 через коровье молоко проникает в человеческий организм, накапливается в костях и начинает поражать своими бета-частицами костномозговые клетки, которые воспроизводят красные кровяные тельца.
После атомного взрыва в Хиросиме дождь из стронция-90 оросил даже землю самих американцев, сбросивших первую атомную бомбу, и, проникнув в молоко, стал причиной резкого роста заболеваний злокачественной анемией в США. Уже установлено: с наращиванием испытаний атомного оружия увеличивается накопление стронция-90 в корме для скота, в его молоке, а затем и в человеческом организме.
Вследствие воздушных течений радиоактивным стронцием-90 «награждаются» все народы мира, независимо от того, испытывают ли они сами атомные заряды. В этом отношении особенно несправедливо страдают народы Скандинавского полуострова, которые неизвестно по каким причинам обременены особенно большими осадками стронция. Если бы дело было только в осадках, мы попивали бы их с молоком и не так уж шибко переживали, но ведь наносимый нам ущерб не ограничивается распылением радиоактивных веществ. Точно установлено, что ядерные взрывы в атмосфере разрушают одну из самых ценных подкладок атмосферной «шапки» Земли — озонную оболочку, которая заслоняет нас от смертоносных космических излучений. Каждый атомный взрыв в атмосфере разрывает то тут, то там эту и без того тонкую озонную броню, и, таким образом, наша земная «голова» становится все более открытой, незащищенной.
«Да! Все это так, — возражают оптимисты, — ядерная техника в самом деле несет человечеству серьезные неприятности, но ведь атом неразрывно связан с нашим будущим, потому что это самый перспективный источник энергии, притом в драматический для нашей цивилизации момент, когда традиционные источники — уголь и нефть — уже находятся на грани истощения».
Это, разумеется, верно: овладение ядерными процессами даст действительно отличную возможность получать необходимую и к тому же дешевую энергию на атомных электростанциях, которые усиленно строятся во всем мире. Строятся настолько усиленно, что если энергия, выработанная ими в 1970 году, составляла лишь 2 % мирового производства электроэнергии, то лет через 25 она уже составит 50 %. Ядерная энергия, несомненно, будет играть важную, более того — незаменимую роль для человека, во всяком случае до тех пор, пока наука не найдет способов использования других видов энергии — солнечной, океанической, вулканической, энергии ветра или же, наконец, энергии, которую, как предполагается, можно будет выделять и использовать при синтезе водорода.
Все это так. Но светлая атомная перспектива омрачается обстоятельством, которое ставит нас перед новыми тревогами и новыми трудностями. Дело в том, что работа современной атомной электростанции связана с производством нового, не существующего в природе элемента, названного плутонием, который распадается подобно урану-235 и может быть использован не только как горючее для атомных электростанций, но и как «материал» для изготовления атомных бомб.
Значение плутония с этой точки зрения становится еще очевиднее, если принять во внимание, что одна АЭС мощностью в 500 мегаватт электроэнергии обеспечивает производство 120 килограммов плутония — количества, вполне достаточного для изготовления 12 атомных бомб, по своей мощности равных той, которая смела с лица земли несчастную Хиросиму.
Согласно авторитетным прогнозам, в 2000 году, когда, как предполагается, число АЭС достигнет двух-трех тысяч, количество производимого в них плутония составит около тысячи тонн ежегодно и может обеспечить изготовление уже многих тысяч атомных бомб.
На практике это означает, что все страны, которые имеют АЭС, смогут вооружиться атомными бомбами, потому что секрет атомной бомбы уже давно стал секретом полишинеля. А число стран, которые будут иметь АЭС или даже только атомные реакторы для научных целей, составит несколько десятков… Более того — по мнению известного атомного физика Теодора Тейлора, изготовление атомных бомб станет тогда по силам «каждому толковому студенту-физику, если он будет располагать 10—12 килограммами плутония и заброшенным гаражом для конструкторской работы». При том способе хранения ядерных веществ, который существует в Америке, как утверждает Тейлор, раздобыть плутоний — дело куда более легкое, чем ограбить банк, а одной самодельной бомбой размером с апельсин можно преспокойно уничтожить сто тысяч человек. И вот она, беда: когда ядерная бомба станет доступной для многих стран, если не для всех, ограничить ее использование будет чрезвычайно трудно, чтобы не сказать — невозможно. Ведь достаточно такому оружию попасть в руки диктатору-психопату вроде Гитлера. Теперь никто не сомневается, что Гитлер обрушил бы на людей не одну атомную бомбу, успей только он их изготовить. Исключена ли возможность появления завтра какого-нибудь нового его собрата, который, обзаведясь необходимым количеством плутония, не сделает первого рокового шага ко всеобщей ядерной войне?
А не может ли случиться и так, что атомная бомба попадет в руки самого обыкновенного гангстера и мы услышим однажды, что над Парижем, к примеру, кружит самолет с тремя вымогателями, которые предупреждают, что через несколько минут город будет уничтожен, если Национальный банк не предоставит свои сокровища уполномоченному ими лицу.
И еще одно обстоятельство, значение которого не вызывает сомнения: ведь только одна (единственная!) микроскопическая частица плутония может вызвать рак легких, если попадет в них, а 14 граммов плутония-239 составляют сто миллионов доз, каждая из которых способна вызвать заболевание раком. В общем, плутоний, как возбудитель рака, не имеет пока себе равных, так что смерть не знала еще никогда более полного своего олицетворения, чем это безобидное на вид вещество, чье все более возрастающее присутствие в атмосфере не обещает человечеству ничего светлого.
Чтобы закончить разговор о тревогах, вызываемых у нас «атомной кухней», коротко отметим ее не совсем безобидное свойство оставлять очень большие количества радиоактивных и, следовательно, весьма опасных для жизни — в самом прямом смысле слова — отходов. Некоторые из этих отходов почти «вечны», если иметь в виду, что углерод-14, например, распадается за 5000 лет, йод-120 — за 20 миллионов лет, а уран-238 — за 2 миллиарда лет, притом только наполовину. Одни прячут эти вечные яды глубоко под землей в заброшенных штреках рудников и шахт. Но есть ли гарантия, что эти подземные галереи при каком-то перемещении пластов земной коры не окажутся вдруг на поверхности и не вынесут туда снова то, что так старательно пряталось? Другие делают бетонные капсулы и опускают их в океан. Но кто может гарантировать, что они выдержат необходимые двадцать миллионов лет, пока бессмертный йод-120 не станет безопасным?
И все же не ненадежность могил для ядерных отходов — самая большая наша беда; изобретательная наука, вероятно, сможет что-то придумать, чтобы обезопасить их. Сложнее обстоит дело с зараженной водой после ее прохождения через «атомную кухню». Эта вода, содержащая в себе порой только «следы» атомного ядра, уходит в реки, из рек в моря. И тут происходит нечто весьма неприятное; как установлено, рыбы, водоросли и планктон словно магнит притягивают и накапливают в себе радиоактивные вещества. Так, радиоактивность водорослей в реке Колумбия (США) оказалась в 5000 раз выше, чем радиоактивность воды, в которой они живут. В реке Клинч (США), зараженной атомным заводом, планктон в 10 тысяч раз более радиоактивен, чем ее вода, а рыбы — в 20—30 тысяч раз. Вот так пресноводные и морские животные и растения становятся действительно опасными для человека, а надежды на использование планктона как белкового резерва и вообще как «пищи будущего» внезапно омрачаются все возрастающим загрязнением океана промышленными отходами и радиоактивными веществами. Попадая через посредство морских продуктов в человеческий организм, радиоактивная «отрава» накапливается в нем и вызывает генетические изменения, которые ведут к вырождению, к раковым и другим заболеваниям.
И вообще зловещий огненный «дух Хиросимы», который как будто был уже загнан в бутылку, стал проявлять способность к различным перевоплощениям. Некоторые из них в самом деле привлекательны своей «кротостью» и полезностью, другие — ужасны. Но все, в конечном счете, зависит от нашего, от человеческого духа, от того, сколь высоким, окажется разум (и мораль) людей, которые держат в своих руках атом, — на уровне ли каменного века или же на высоте современной технической цивилизации. От того — и это отнюдь не в последнюю очередь, — будут ли люди перед лицом страшной угрозы сложа руки наблюдать за «атомными процессами».
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БЕЗДНА
Одним из первых, кто заглянул в эту бездну, чтобы не сказать первым, был Джеймс Д. Уотсон — ученый, который в 1953 году впервые установил, каково строение молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты, кратко называемой ДНК. До 1953 года было известно, что наследственная «аппаратура» находится в маленьких неотесанных палочках длиной в одну тысячную миллиметра, называемых хромосомами, которые являются неотъемлемой составной частью каждой живой клетки, но внутрь хромосомы никто еще не заглядывал. Джеймс Д. Уотсон сумел это сделать и обнаружил внутри ее молекулу — носительницу наследственных признаков и уточнил ее строение.
А оно оказалось довольно странным. Увеличенная в 8 200 000 раз эта молекула (ДНК), похожа на кусок скрученной веревки толщиной с сигарету. Оказалось, что эта «скрученная» молекула, зажатая внутри хромосомы, достигает, если ее растянуть, около метра в длину и представляет собой нечто смахивающее на винтовую лестницу — деревянную, с двумя опорными балками, к которым прикреплены ее многочисленные ступеньки. И как раз в эти ступеньки вложена в форме химических соединений вся информация ДНК, все то, что делает нас живыми, программа развития клетки и всего организма, начиная с цвета ресниц вплоть до унаследованных особенностей темперамента.
Клетки узнают «волю» своей верховной повелительницы Дезоксирибонуклеиновой кислоты посредством особых «связующих» веществ и передают ее клеточным строительным органам для выполнения. От этой верховной воли зависит, какими будут наши глаза — синими или серыми, изгиб большого пальца, тембр голоса, аромат тела, глубина извилин мозга и т. д. И что особенно интересно, — каждая клетка содержит всю информацию, всю программу развития организма. Целиком всю наследственность! Когда клетка размножается, то есть делится, тогда ДНК раскалывается на две симметричные половины, при этом «ступеньки» лестницы раскрываются, как зубцы застежки «молния». Механизм «верховного командования», осуществляемый ДНК, действует безошибочно. Если же когда-нибудь ДНК скомандует «неправильно», то происходит это по причине «внушения», воздействия или скорее насилия, пришедших извне, таких, как, например, радиоактивное облучение или атака клетки определенными химическими веществами, которые взрывают целые ступеньки лестницы ДНК и вызывают генетические изменения.
Я позволил себе остановиться на этом вопросе, потому что в наш атомный век, в эпоху высокой современной технической цивилизации, все больше увеличивается концентрация веществ, которые деформируют генетическую «аппаратуру» и угрожают нам генетическими изменениями, а следовательно — уродованием, в той или иной степени, человеческой натуры.
Я начал с открытия Джеймса Уотсона потому, что оно лежит в основе «генохирургии», или так называемой «генной» либо «молекулярной» инженерии, которая в последнее время вызвала столько толков, поразив нас невероятными перспективами, обрадовав своими фантастическими посулами и потрясая своими неожиданными возможностями.
Речь идет о том, что после того, как был открыт «основной строительный блок в генетике», — молекула ДНК, — биологи соблазнились возможностью «выреза́ть» ее отдельные участки, в которых содержатся одни задатки, и пересаживать на их место другие участки, с другими индивидуальными характеристиками (например, сменить рыжий цвет бороды на черный).
Это все не шутка, потому что, возмечтав о такого рода генетических пересадках, биологи имели в виду характеристики куда более важные, чем цвет бороды. Основное свойство мечты, — то, что она крылата. Поэтому полет мечты биоинженеров достиг таких пределов, что некоторые, более нетерпеливые, уже задумываются над целостным программированием человеческой натуры, над генетическим улучшением характера человека, по крайней мере в тех пунктах, которые они считают «ошибками природы». Другими словами, они решили стать корректорами близорукой, по их мнению, природы.
Готовясь к решению этой ошеломляющей задачи, ученые сумели достигнуть поразительного результата — они создали химическим путем искусственный ген. Ген, который обусловливает красный цвет человеческой крови, например, синтезирован в пробирке в начале 1972 года. Путь от этого первого шага до следующего в том же направлении, — скажем, до синтеза генов агрессивности, великодушия или ненависти, либо какого бы то ни было другого из многочисленных генов, — это только вопрос времени, так же как вопросом времени является их пересадка в клинической обстановке для осуществления того или иного преображения человека… Вопрос времени и, разумеется, опыта. Вот почему генохирурги приступили прежде всего к экспериментам с простейшими организмами — вирусами и бактериями, у которых генов меньше и, следовательно, они легче поддаются генной инженерии (вирус SV-40 имеет 6—10 генов, бактерия — более 3000, а млекопитающие более 40 000 генов).
Вирусы — эти организмы, находящиеся на грани жизни, — оказались самым подходящим объектом для таких поистине решающих судьбу человечества опытов. Вирусы, как известно, сами не могут развиваться, они не обладают и собственным обменом веществ, не могут сами размножаться, зато наделены весьма агрессивной, деспотичной и опасной, как это будет видно далее, собственной ДНК. Вирусы — пожиратели бактерий — бактериофаги получают, например, возможность размножаться только если они проникнут в какую-нибудь бактерию. Для этого проникновения вирус использует свой хвостик, снабженный на конце зубцами, и свои ножки, напоминающие ножки паука. С помощью «ног» он цепляется как репейник за бактерию, продырявливает своим хвостом ее оболочку и впрыскивает в нее свою дезоксирибонуклеиновую кислоту. После этого вторжения голова и хвост вируса исчезают, оставляя (внутри бактерии) только его ДНК, которая принимает на себя главное командование, и по ее «приказу» бактериальная клетка начинает производить из собственного материала новые сотни вирусов — агрессоров и убийц. И это продолжается до тех пор, пока бактерия полностью не исчерпает себя, после чего новоявленные вирусы покидают опустошенную клетку и разлетаются, готовые к новым подобным подвигам. Это и есть вирус-бактериофаг — «ДНК в агрессивной упаковке» — как удачно назвал его один ученый. Живая торпеда, маленькая, но беспощадная боевая машина, которая проникает в крепость бактерии, и хотя соотношение между бактерией и вирусом такое же, как и соотношение кит — человек, «кит-бактерия» кончает жизнь самоубийством по приказу пылинки-вируса, или, точнее, по распоряжению его ДНК.
Узнав свойства вируса-бактериофага, ученые решили начать при его посредстве свои генетические опыты и делать это следующим образом: при помощи энзимов словно хирургическим ножом они срезают молекулу ДНК у вируса, удаляют из нее некоторые части, добавляют ей новые и «монтируют» таким образом вирус с новыми способностями и свойствами. Затем заставляют этот искусственно созданный вирус проникать в некоторые бактерии, размножаться там и создавать новое поколение вирусов-бактериофагов с новыми, желательными для человека свойствами.
Создавать такие новые вирусы можно не только путем срезания их ДНК при помощи энзимов, но и путем химического воздействия на гены бактериофага. Ученые при этом способе разрушают вирусную ДНК и превращают ее в кучку безжизненных руин — материал. Затем генохирурги отбирают из этого материала нужные им «части», соединяют их с помощью специальной техники и создают новые, агрессивные, способные к нападению и размножению бактериофаги.
Это было открытием столь же огромного значения, как и открытие распада атома. Что же это означает?
Это означает, что агрессивная молекула ДНК вируса-бактериофага может быть разрушена, «умерщвлена», а затем снова воскрешена. Это означает, что человек уже прикоснулся кончиками пальцев к тайне, называемой «Жизнью», что он может создавать н о в ы е с у щ е с т в а, каких нет в природе. Итак, человек становится чем-то вроде бога, который, дунув в горсточку глины, может сотворить из нее пока вирус, а завтра — еще черт знает что.
Следующий шаг — взятие при помощи описанных выше методов наследственной крепости бактерий (при этом в качестве троянского коня используется вирус-бактериофаг) и создание бактерий с желательными для человека свойствами. Шаг этот уже сделан.
Соединение генов различных родственных бактерий в одной молекуле, которая, будучи пересаженной в третью бактерию, начинает развиваться уже как новая, стало ныне научным фактом. Уже известно такое достижение науки, как пересадка генов стафилококков другому виду бактерий, именуемых кишечными палочками, и получение гибрида, который сочетает характеристики обоих видов. Успешно ведутся опыты с генными гибридами посредством так называемых молекул — «химер», которые представляют собой дееспособные размножающиеся «соединения» бактерий с животными генами (химеры, согласно греческой мифологии, — чудовища, соединяющие в себе части различных существ). Эти микрочудовища действуют и обогащают разнообразие природы новыми, неизвестными еще экземплярами, чье значение — к добру или не к добру они — теперь лишь предстоит выяснить и оценить.
Все эти успехи генной инженерии дают основания надеяться, что если она поставит перед собой цели производственные, то человечество обретет ту сказочную скатерть-самобранку, которая наконец-то накормит его целиком и досыта. Одна из возможностей в этом направлении — это скрещивание (прививка) бактерий, которые синтезируют атмосферный азот, с бактериями, которые живут в корнях пшеницы и кукурузы. Полагают, что с помощью этого нового вида бактерий можно будет решить поистине сказочным образом вопросы обогащения почв без минеральных удобрений.
Видоизменение производственных качеств микробов открывает перед нами широкие возможности для развития промышленной микробиологии, потому что с их (микробов) помощью можно будет увеличить производство белка для питания непрестанно размножающегося человечества. С помощью «прирученных» микробов можно будет производить и топливо, притом не из невесть каких материалов, а, например, из городских сточных вод. (Такой метод уже разработан специалистами Калифорнийского университета.)
Ученые Института биологии развития Академии наук СССР, Среднеазиатского института шелка и Ташкентского университета с помощью генохирургии создали шелковичного червя только мужского пола, который дает шелка-сырца на одну треть больше, чем женские особи. Сообщалось также, что это достижение советских ученых уже применяется на практике.
Надежды на генохирургию возлагают и фармацевты в связи с производством антибиотиков, а также и врачи. Обсуждается вопрос о лечении диабета путем заселения кишечника человека специально выращенными молочнокислыми бактериями или же бактериями, которые будут вырабатывать инсулин в тех случаях, когда выходит из строя предназначенная для этого железа.
Но пока это только еще обещания и надежды. Правда, недавно пришло поразительное сообщение: американским ученым из Института Карнеги удалось ввести гены лягушки в кишечную палочку.
Поразительное тут состоит в том, что было совершено как бы бракосочетание между лягушкой и бактерией, но что нельзя было предсказать, каково будет поведение новой генетически преобразованной бактерии в кишечнике человека, где она обретается. Разве может быть кто-нибудь уверен в том, что это не окажется причиной прободения кишок? И наконец, не приведут ли дальнейшие опыты с новыми, преобразованными молекулами ДНК в клетках животных и бактерий к созданию какого-нибудь нового типа инфекционной бактерии, не вызовут ли они новую, еще неведомую эпидемию, которая расправится со всем человечеством? Поскольку известно, что эта бактерия будет новой и что в человеческом организме не будет еще выработанных против нее защитных средств, опасность подобной «химеры» для человека отнюдь нельзя считать лишь теоретической и «химеричной».
Эта действительно серьезная опасность, вовремя понятая прежде всего самими биоинженерами, стала причиной того, что группа их во главе с самим открывателем ДНК Джеймсом Уотсоном обратилась с предложением ко всем ученым добровольно отказаться от опытов, связанных с пересадкой генетического материала в различные организмы. Национальная академия наук США присоединилась к этому обращению и призвала ученых всего мира отказаться от генетических «прививок», которые могли бы привести к «созданию новых типов инфекционных элементов, чьи биологические свойства н е в о з м о ж н о предсказать».
* * *
На фотографии, датированной 1953 годом, Д. Уотсон и его коллега Френсис Крик — это еще совсем молодые люди, почти юноши; они застенчиво улыбаются, стоя перед макетом открытой ими структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты. Подозревали ли молодые ученые в эту счастливую для них минуту, каковы будут последствия их открытия, — не знаю, но то обстоятельство, что сам Джеймс Уотсон теперь выступает против опытов генетической гибридизации, достаточно ясно свидетельствует, насколько он встревожен скрытым «острием» генохирургии. Мы не знаем, каков будет практический эффект их призыва отказаться от опытов генетической гибридизации, но в одном можем быть вполне уверены: молекулярная инженерия поставила человека перед новыми серьезными искушениями и испытаниями.
Одних будет соблазнять — если уже не соблазнила — возможность изобрести новое бактериологическое оружие; другие воодушевятся желанием наживать на этом прибыли; третьи захотят действительно помогать человечеству; четвертые захотят его изменить, обновить и улучшить. Уже слышатся, правда еще робкие, голоса: «Незачем задаваться вопросом, каков человек есть, надо думать, каким его следует сделать». (Если, конечно, он после всех опытов останется жив и невредим.)
Так что вопрос этот уже затрагивает не только бактерии и животных — будем ли мы скрещивать лягушку с кишечной палочкой, либо соловья с лягушкой, или же соловья с ужом; наступит ли такое время, когда уж запоет и полетит, а соловей станет глотать лягушек и греться на грудах камней. Речь идет уже о человеке — венце природы. Хорош ли он такой, какой он есть сейчас, или же его надо подправить? И если надо что-то в нем поправить — то что именно? Что обкорнаем у него и что оставим? Это касается уже не только молекулярных инженеров, а всех нас, и касается всерьез.
Некоторые предлагают уничтожить отныне то отвратительное качество человека, которое называется агрессивностью — причину бесчисленных бед и в личной и в общественной жизни. Но опыты с животными показывают, что подавление агрессивности видоизменяет весь «характер» животного, что в его душевном равновесии агрессивность играет определенную и притом незаменимую роль; что «игнорирование биологической ценности агрессивно-оборонительных реакций и тем более устранение этих реакций может иметь роковые последствия для нормального развития как животных, так и человека»; установлено, например, во время опытов по подавлению некоторых эмоциональных центров мозга, что это вызывает «резкий спад энергии, исчезновение всякой логики в поступках и интереса к окружающему, как и почти полное исчезновение некоторых биологических функций, необходимых для сохранения индивидуума». Кроме того, «обуздание» эмоциональных центров сопровождалось почти во всех случаях исчезновением радости жизни и своего рода оглуплением.
И потом, прежде чем приступить к «исправлению» человека (позволю себе немного забежать вперед в рассмотрении этого вопроса), нам следовало бы уяснить основной момент: убеждены ли мы в том, будто все, что природа сделала с нами, людьми, на протяжении двух миллионов лет естественного отбора, есть оптимальный вариант того, что можно было с нами сделать? Если допустить, что она плохо справилась со своей работой, создав нас одновременно и плохими и хорошими, и агрессивными и кроткими, трусливыми и отважными, веселыми и мрачными, милосердными и бездушными, глупыми и умными, порой жадными до безобразия, в других случаях готовыми на самопожертвование, — тогда, быть может, действительно следует начать эту «операцию»… Если мы уверены в том, что, вмешавшись в сложный мир человеческих эмоций, мы достигнем большей радости и гармонии, большего счастья.
Интересно, что идея оперативного вмешательства в человеческую природу приходила на ум людям и до изобретения генохирургии. В одной из сказок Максима Горького я читал о человеке, который хотел достигнуть совершенства и заключил с дьяволом сделку, чтобы тот избавил его от претящих ему страстей. И начал дьявол их у него изымать. Изъял одну, другую, третью: избавил от страха, зависти, жадности, избавил и от склонности к «первородному греху», — и тогда стремившийся к совершенству увидел, что он уже не человек, что из него выпотрошили все, что в нем было.
Я читал эту сказку Горького давно и передаю ее в общих чертах, но основная мысль ее вполне ясна и, я бы сказал, назидательна.
Едва ли стоит сомневаться в том, что придет время, когда, не вступая ни в какие сделки с дьяволом, мы сможем с помощью генохирургии производить такие операции с человеком, которые избавят его от того или иного качества, от одной или другой его страсти, от той или иной его склонности; когда мы сможем произвести генетическое преобразование даже целых поколений людей, после которого они, допустим, никогда не вспылят, не возразят, не разозлятся, не расстроятся, не увлекутся и не ошибутся. Вполне возможно, что удастся получить такую удобную во многих отношениях породу людей. Но будет ли такая человекоподобная пластмассовая конструкция иметь что-либо общее с тем, кого сейчас мы называем Человеком, с традиционным, скажем так, понятием «Человек»?
Может быть, кто-то и верит, что этот новый вид человека будет более высокой ступенью лестницы нашего развития. Все равно — это будет совершенно другое существо, подчиненное другим закономерностям, другим волям, а не воле природы. Разве только что мы свои человеческие вольности и дерзости припишем опять-таки матери-природе, с которой не впервые вступаем в спор, не впервые сталкиваемся и схватываемся в единоборстве.
ПЕПЕЛИЩЕ ПАЛЕОЛИТА
Одно из первых столкновений Человека с Природой началось в эпоху палеолита, «эпоху неотесанного камня», может быть, сразу же после открытия огня. Обнаруженные в Северной Германии и Бельгии огромные палеолитные пласты золы не оставляют никакого сомнения в том, что наши далекие предки не очень-то церемонились с лесом и жгли его, если им нужно было гнать диких животных с места на место или создать пастбище, или, наконец, освободить землю для обработки. Позже, уже научившись мастерить металлические топоры, наш поднаторевший прапрадед вырубал леса, оставляя поваленные деревья сохнуть в течение лета, осенью он сжигал их, а весной засевал это пепелище окультуренными злаками. Это так называемое «огневое» или «подсечное» земледелие. С помощью огня сводили свои леса, чтобы добыть новые площади земли для ее возделывания, племена майя в Южной Америке. Таким же способом расправлялись со своими лесами в Междуречье месопотамцы, с лесами Эллады — древние греки, древние испанцы — с испанскими лесами, и т. д. По такой же «огневой» системе создавались до недавнего времени новые поля и у нас в Родопах.
Многие из полей, созданных таким способом две тысячи лет назад в равнинных местах, используются и по сей день, но совсем иная судьба у пожогов в горах. После первого обильного урожая хорошо удобренная золой почва горных полей-пепелищ быстро промывается дождями, оскудевает, утрачивает свое плодородие. А затем при первом же сильном ливне медленно или быстро, — в зависимости от крутизны склона, — смывается и уносится в ближайшую же реку и вместе с ее водами устремляется в море. А то, что остается от этих бывших полей, представляет собой голые подпочвенные скалы, или, в лучшем случае, лишенные почвенного перегноя пласты щебня, куда возвращение леса уже невозможно.
С помощью «огневого» способа получения пахотных земель почвы, созданные Природой на крутых склонах гор в течение тысячелетий, могут быть уничтожены во время проливных дождей, при этом практически навсегда, всего лишь за несколько минут.
Наряду с земледельцами «огневым» способом уничтожения лесов (и земли) непрерывно занимались многие поколения чабанов и пастухов козьих стад. Они тоже сжигали леса, чтобы обзавестись пастбищами для своих стад. Свой «вклад» в уничтожение лесов внесли и животные, особенно козы, которые питаются преимущественно молодыми побегами деревьев и кустарников. На что способны эти попрыгуньи, видно на примере острова Святой Елены. В 1513 году испанские моряки поселили там первых двух-трех коз, которые быстро размножились и стали представлять настолько серьезную угрозу для кустарников и лесов, что один из губернаторов пытался в 1709 году запретить их разведение на острове. Пытался, но безуспешно. А сто лет спустя — в 1800 году — зеленый остров Святой Елены был потравлен ими, как говорится, «с головы до пят».
Примерно таким же образом расправились козы с кустарником и лесами в Греции и Испании. Аттика, например, лишилась лесов еще в пятом веке до нашей эры, разумеется, не только из-за коз, но и из-за людей, которые безжалостно вырубали их и жгли. Так было и в Греции, Италии, Финикии, Вавилоне, и на земле племени майя, да и вообще всюду, где развивалась цивилизация.
Наряду с уничтожением лесов все ощутимее сказывалась на плодородии земли ее эрозия, отрывавшая кусок за куском от созданных столь большими усилиями полей. Со временем количество таких обеспложенных, опустошенных земель достигло тех двадцати миллионов квадратных километров, которые существуют и ныне, как наследие недальновидного обращения с природным благом, именуемым «лес» (это на пять миллионов квадратных километров превосходит нынешнюю пахотную сельскохозяйственную площадь на поверхности нашей планеты!). Имеются целые районы, изрядно пораженные, порой даже окончательно погубленные почвенной эрозией, разразившейся вслед за вырубкой лесов. Некоторые исследователи цивилизации племени майя определенно утверждают, что она погибла в результате ущерба, нанесенного земле «огневым» хозяйствованием. Когда-то более половины территории Греции было покрыто лесами (около 65 процентов), а теперь продуктивные леса покрывают лишь 4 процента ее площади. Остальное — это либо голый камень, либо, в лучшем случае, обглоданные козами кустарники. Недаром подобные пейзажи вынудили Ламартина написать в 1835 году в своих путевых заметках, что земля Греции превратилась для ее народа в саван и похожа на древнюю гробницу, из которой извлечены кости, а камни разбросаны и потемнели за минувшие с тех пор века. Подобные пейзажи заставили Райфенберга воскликнуть: «Кочевник не столько сын пустыни, сколько ее отец».
Обширный край, расположенный между реками Тигр и Евфрат, который слыл когда-то райской землей благодаря своему изобилию, ныне большей частью представляет собой полупустыню, и главная причина этого — уничтожение лесов.
Тот, кому случалось видеть «с птичьего полета» горы в Иране, знает, что представляет собой, как говорится, до костей ободранная гора, лишенная даже самой ничтожной растительности. Нечто подобное видел я и в Сирии, на пути в город Пальмира. Чтобы добраться до него, надо пересечь котловину длиной около двухсот километров и шириной, наверное, километров 150 — ровную и голую, как противень, обросшую лишь колючими растениями и травой. Пока мы ехали в автомобиле по шоссе, мы видели и горы, ограждавшие котловину — голые, как будто выбритые, без единого деревца, кустика или листочка. Они были словно выскоблены наждачной бумагой, чтобы не осталось ни горстки землицы, ни чего-нибудь зеленого на ней. А в древних летописях говорилось (как мне потом объяснили), что путь от Дамаска до Багдада проходил когда-то через такие леса, что водители караванов целыми днями не видели солнца и неба. И верно — тут действительно должны были быть леса; в этом можно было убедиться по сухим руслам протекавших тут когда-то рек — их часто пересекала дорога, по которой мы ехали.
Глядя на эти мрачные суходолы, мы спрашивали себя: «Неужели тут действительно были реки? Неужели эта земля обрабатывалась и плодоносила? Неужели на соседних возвышенностях действительно были леса?» Потому-то и было столь велико наше удивление, вызванное Пальмирой: остатки этого античного города были разбросаны на обширном пространстве, — а это явно свидетельствовало о том, что город этот был благоденствующий, огромный и блистательный. Об этом лучше всего говорила одна полусохранившаяся улица, шириной около 12 метров, окаймленная уже частично разрушенными, но все еще великолепными мраморными колоннами. Такой большой и блистательный город не мог бы возникнуть посреди пустыни. Город ведь рождается в результате благоденствия и накопления богатства.
Самое поразительное зрелище, однако, ожидало нас в музее, где мы увидели на центральном месте искусно изготовленную мозаику, взятую, вероятно из дворца Зенобии — последней королевы свободной Пальмиры. На мозаике была изображена в центре ее сама Зенобия во время охоты на вепрей. Сидя верхом на лошади, она неслась галопом с луком в руке через густой лес вслед за несколькими вепрями. Не может и быть речи о том, чтобы это был вымышленный лес и вымышленные вепри. Художник просто копировал действительность, и не могло быть никакого сомнения в том, что соседние с Пальмирой, ныне совершенно голые горы, были когда-то покрыты девственными лесами и населены крупной дичью; что оттуда брали начало полноводные реки и обильно поили плодородные поля, с которых жители этих мест получали по три и больше урожая в год.
Осадки наверное и тогда, как и теперь, были здесь скудными. Но река давала достаточно влаги для орошения, а великолепные оросительные системы действовали безотказно. Мы видели одну из них, сохранившуюся еще с римских времен, в городе Хам — огромное, диаметром около 25 метров, колесо, оснащенное ведрами, которые зачерпывали в реке воду, а затем, приводимые в движение ее течением, поднимали ее и выливали в канал, по которому благодатная влага направлялась к виноградникам и садам. С помощью подобной оросительной системы спекшаяся сухая почва вокруг Пальмиры, заросшая теперь колючими травами, когда-то давала обильные урожаи различных зерновых культур и овощей. Имелись тут и пастбища, луга, скот и благоденствие, по крайней мере до тех пор, пока римляне не победили в страшном бою войска Зенобии и не захватили ее королевство.
Именно в это ли время, или позже были вырублены и потравлены леса Пальмиры — не знаю, но нет сомнения в том, что тихая катастрофа в этом райском уголке Земли началась именно с этого момента. Краткие, но проливные дожди смыли с гор плодородную почву, а некогда полноводные горные потоки и реки пересохли. А пересохли они потому, что лесная почва удерживает почти в семнадцать раз больше воды, чем «голая». Лесная почва просто поглощает воду и переправляет ее в земные недра, откуда она после этого струится снова в виде родника или реки. На голой же почве этого не происходит. Дожди как упадут на землю, так сразу же и стекают по склону вниз — быстро, порой стремительно, не имея времени пропитать ее, и проносятся как мутный, иногда даже страшный поток, уносящий с собой все, что встретится ему на пути.
Вот с этого и начались беды и кончилось благоденствие Пальмиры — с уничтожения лесов и пересыхания рек. И не только в Пальмире. Нынешние раскопки на землях Халдеи и Ханаана обнаруживают следы их удивительной цивилизации глубоко под толстым пластом песка, нагромоздившегося здесь в результате страшной эрозии.
Собственными глазами видел я ипподром для состязаний конных колесниц в финикийском городе Тире, весь покрытый наносами вплоть до последнего — девятого — ряда каменных лож (пять метров высоты!). Остроумные реставраторы этого, может быть, лучше всего сохранившегося на Земле древнего ипподрома умышленно оставили часть окаменевших песчаников, чтобы показать посетителям, наряду со всем прочим, что означает эрозия! И это в городе, расположенном совсем близко от знаменитых в древние времена, а теперь исчезнувших кедровых лесов. Сохранилось письмо царя Соломона к Хираму — правителю Тира, в котором знаменитый иудейский самодержец приказывал доставить ему кедровые бревна для строительства дворцов. Дошло до нас и многое из торговой переписки относительно вывоза ливанского кедра в Египет. Эти документы позволяют понять, как в свое время стали исчезать (пошли на вывоз) обширные кедровые леса в горах Ливана, довырубленные затем завоевателями этой страны, из-за чего в наше время здесь осталась лишь небольшая рощица — из сотни деревьев.
Проезжая по Ливанским горам из Дамаска в Бейрут, мы видели, как грузовики доставляют туда землю и высыпают ее на специально подготовленные на оголенных возвышенностях террасы для того, чтобы восстановить почву, а вслед за тем и зелень древних, славных и красивых в античные времена гор. Так современные ливанцы искупают вину своих предков, увлекавшихся торговыми сделками.
Расплачиваются за провинности предков перед лесом и испанцы, которые пытаются засадить соснами и пихтами свои горы, ставшие, как говорится, сплошной голью. Расплачиваются и греки: их водохранилище «Керкени» на реке Струма утратило за девятнадцать лет треть своего объема из-за обрушивающихся в него бурных потоков жидкой грязи и песка. Особенно дорого вынуждены расплачиваться американцы, потому что эрозия почвы вследствие обезлесивания северной части США сказывается весьма драматично. За тридцать лет некоторые водохранилища утратили там 80 % своей вместимости, а в штате Техас водохранилище на Колорадо всего лишь за шесть лет и девять месяцев было до половины занесено илом и песком.
И это ведь только малая частица той огромной расплаты, на которую обречено современное человечество, поскольку прямые потери обрабатываемой земли, являющиеся последствием уничтожения лесов, — н е и с ч и с л и м ы, не говоря уж о косвенных, таких, например, как кислородное оскудение атмосферы. Каково значение лесов для «очистки» воздуха, видно из того, что в процессе роста одно буковое дерево высотой в 25 метров и шириной кроны в 15 метров перерабатывает 40 миллионов кубических метров воздуха, очищая его от углекислого газа, чтобы накопить необходимые ему для наращивания древесины 6000 килограммов углерода.
Один гектар зеленой площади, заросшей наполовину деревьями и наполовину травой, поглощает в процессе фотосинтеза за 12 часов 900 килограммов углекислого газа и выделяет 650 килограммов кислорода. А одно только зеленое дерево производит за день кислорода в пятнадцать раз больше своего объема. Кроме того, продолжительные и систематические наблюдения показали, что леса влияют и на увеличение осадков. Доказано, что во Франции в лесных районах осадков на 3—19 процентов больше, чем в обезлесенных. То есть это означает, что если в обезлесенных районах выпадает на квадратный метр 500 литров осадков, то в лесных местностях осадки могут достигнуть 600 литров на квадратный метр.
У нас, в Болгарии, предупреждение метеорологов о том, что «во второй половине дня в горных районах пройдет кратковременный дождь», стало чуть ли не постоянным в прогнозах погоды. Установлено кроме всего прочего, что насыщенный кислородом и смолистыми испарениями лесной воздух убийственно действует на бактерии. (Если, например, в одном кубическом метре воздуха на Елисейских полях в Париже имеется 88 тысяч микробов, а в большом парижском магазине их 4 миллиона… то в лесистых Вогезах один кубический метр воздуха содержит всего лишь… 12 микробов.) До сих пор речь еще не заходила о лесе, как источнике столь необходимой нам древесины, о том, что более 12 тысяч видов предметов и различных приспособлений (некоторые утверждают даже, что их насчитывается 25 тысяч) изготовляется из древесины — от ящиков для черешни до пропеллера самолета, не говоря уж о значении древесины для строительства и производства бумаги.
При расцвете современной синтетической химии, которая создала уже сотни, чтобы не сказать тысячи, видов новых материалов, она все еще не изобрела такого вещества, которое обладало бы техническими качествами древесины; вот потому-то древесина во многих отношениях остается пока незаменимой. Короче говоря, лес — это и воздух, и почва, и вода, и здоровье, и незаменимый материал; лес является и защитником водоемов, чье существование определяется исключительно степенью эрозии в их водосборных бассейнах, либо — что то же самое — степенью загрязненности рек, которые вливаются в них и медленно или быстро их засоряют.
Болгарский лес тоже многое видел и многое выстрадал, особенно после установления османского владычества, когда леса сплошь вырубались в целых районах страны; так были, например, уничтожены вековые дубравы в Восточных Родопах. В исторических хрониках упоминается, что личное стадо свиней византийского императора Иоанна Кантакузина, которое паслось в этом лесу, насчитывало 50 тысяч голов, а это говорит, кроме всего прочего, об изобилии желудей и, разумеется, самих дубов. Позже — отчасти для получения древесного угля, отчасти для устройства новых пастбищ и полей, — эти знаменитые в прошлом дубравы были постепенно истреблены, а почву с оголившихся крутых склонов смыли дожди, и потому теперь по берегам реки Арда, да и во многих других местах Восточных Родоп — повсюду голые камни.
Хотя это и выглядит странно, но именно в теплых Восточных Родопах были прежде не только дубовые, но и сосновые леса. Там и по сей день есть местности (хотя и без хвойных деревьев), которые называются «Чамдере» (Сосновая долина), «Бориката» (Сосна), «Чамлыка» (Хвойная излучина), «Элата» (Пихта) и так далее, наряду с такими местностями, как «Бучето», «Буково», «Буката» (от «бук»), «Лесковина» (от «леска» — орешник), «Габровица» (от «габыр» — граб), «Дряныт» (от «дрян» — кизил) и так далее. Эти голые теперь места были до недавних времен покрыты лесами — источником свежести и прохлады, полноводных рек и бурливых родников.
Неподалеку от села Забырдо (Смолянский округ) до 1907 года прямо над ним в местности, именуемой «Камень», рос многовековой густой сосновый лес. В 1907 году забырдовцам вдруг взбрело в голову сжечь его, вспахать освободившуюся землю и засеять ее ячменем. В первое лето, а затем и во второе уродился прекрасный ячмень. Но когда наступило третье — прошли ливневые дожди и, смыв всю почву, буквально до песчинки оголили «Камень». И торчит этот «Камень» по сей день голый, безжизненный, и нет на земле такой силы, которая снова покрыла бы его лесом, потому что для восстановления леса требуется почва, а для восстановления только одного сантиметра почвы необходимо сто лет.
Примеров подобного наследства так много, что, где бы мы ни находились, достаточно лишь оглядеться по сторонам: если мы в Софии — взглянуть на обглоданные ливневыми потоками красноватые скалы на южных склонах Стара-Планины; если мы в Ограждене, то даже нет необходимости приглядываться: там все — гора целиком от подножья до вершины — словно гигантскими когтями процарапана топорами древних рудокопов и копытами коз.
Если вы отправитесь когда-нибудь на турбазу «Явор» или «Бындерица» в Пирин по шоссе, врезающемуся в горы, обратите внимание на то, что вся величественная громада, именуемая Пирин-гора, состоит из камня, а слой земли, прикрывающей ее — не больше пяди — слой той драгоценной, ничем не заменимой, болезненно тонкой, благородной почвы, которой питается и на которой держится так называемый Пиринский лес. Я просто цепенею при мысли, как легко и быстро осыпалась бы ко всем чертям эта нежная пиринская почва, если бы кто-нибудь решил снять с нее зеленую броню.
Возле села Лыките (Смолянский округ) можно увидеть голые, словно выбритые, каменистые местности, именуемые «Бориката» («Сосна»), «Тымничиште» («Темнотища»), «Элока» (от «эла» — пихта) и т. д., — их постигла та же судьба, что Забырдовский «Камень». Сотни подобных названий в Родопах — словно надгробные кресты над погубленными лесами.
9 сентября 1944 года застало нас с миллионом гектаров обезлесенной и в той или другой степени опустошенной ливневыми потоками земли. Вину за это несут не только завоеватели, не только пастухи-турки и каракачане, не только козопасы, чабаны и углежоги. Большая часть этих погубленных лесов была вырублена после освобождения Болгарии от османского ига лесоторговцами и концессионерами, вступившими в сговор с власть имущими, которые наживались на гибели лесов-мучеников…
Как бы там ни было — вырубленный лес уже вырублен. Унесенная почва — уже унесена, и пусть земля ей будет пухом! Исчезнувшие леса больше не существуют — царство им небесное! Но о гибели этих лесов нам надо всегда помнить! Она ведь не только служит обвинением прошлым поколениям, но она также и предупреждает нынешние, что вырубка деревьев не проходит безнаказанно.
А теперь давайте-ка спросим себя: хорошо ли поняли это предупреждение и хорошо ли запомнили мы, болгары, уроки бездумной вырубки лесов?
Прежде чем дать ответ на этот вопрос, мне хочется отметить, что болгарский крестьянин в общем-то понимал значение леса для плодородия почвы. Например, жители моего родного села Яврово называли огромные старые дубы «плодородниками» и не только не вырубали их, но оказывали им чуть ли не религиозные почести. Каждый год в восьмой четверг после пасхи, когда весна становится такой свежезеленой и неуемной, все крестьяне моего родного села, облачившись в свои самые нарядные одежды, отправлялись с песнями и музыкой к «плодородникам», закалывали для них жертвенных животных, преподносили им подарки и плясали хоро под сенью многовековых хранителей плодородия, завершая так этот веселый и приятный день традиционных даров и почестей. Дубы получали свои подарки, а люди — надежды на хороший урожай…
Когда в 1854 году для постройки сельской церкви понадобились дубовые стволы, крестьяне, посланные срубить их, прежде чем замахнуться топором, зажигали на деревьях свечи, а затем, сняв перед ними шапки, просили у них прощения. В таком почете были эти большие, могучие деревья в лесу.
Вспоминаю, что когда мы с отцом ходили в лес, он, прежде чем замахнуться топором, чтобы срубить какое-нибудь дерево, снимал шапку и кланялся ему. А вот как возник у села большой сосновый лес в местности, именуемой Руен. Это произошло во времена османского ига. Собрались все жители села, запрягли в соху двух молоденьких, еще не ходивших в упряжке волов и очертили бороздой будущий лесной заповедник. Время от времени процессия останавливалась, люди клали на землю почерневшее медное ведро, перевернутое вверх дном, на него взбирался заклинатель и произносил грозные проклятия, обращенные к каждому, кто когда-нибудь переступит эту борозду о топором в руках. Традиция чтить лес и большие деревья присуща не только болгарам; иудеи и арабы с религиозным почитанием относились к пальме и верили, что она сотворена в земном раю из того же, из чего были созданы Адам и Ева. Индусы же считают священным деревом смоковницу, а Брахма назвал ее царем деревьев. Будда освятил это верованье, и сам просидел целых семь лет под таким деревом, названным «обиталище мудрости». У персов тоже есть священные деревья, называемые ими «превосходными». В них забивают гвозди для обетов, оставляемых больными, которые просят у них выздоровления. Кроме того, персы зажигали у их корней восковые свечи и окуривали фимиамом, чтобы привлечь к себе их благоволение и милость. Римлянин Катон пишет, что почитание древних лесов в его время было священным обрядом большого значения и что срубить хоть одно дерево считалось святотатством, которое можно искупить только жертвоприношением.
Галлы, бритты и древние германцы тоже обожествляли большие дубы, считая их жилищем духов; и самым большим предсмертным желанием у них было, чтобы их похоронили под высокими деревьями в обществе этих духов.
Чему обязан этот культ лесов и деревьев? Только лишь невежеству? Но в таком случае почему наши крестьяне не совершали свои жертвоприношения перед каким-нибудь гигантским камнем и не называли «плодородицей» какую-нибудь скалу? Ясно — связанные с землей люди интуитивно, если не разумом, улавливали тесную взаимосвязь между лесом и плодородием своих полей. Этот языческий религиозный пережиток исчез бы, вытесненный христианством, если бы жизнь не напоминала каждому новому поколению столь важную, вечную истину, что лес, человек и плодородие земли действительно неразрывно связаны между собой.
Итак, болгарский крестьянин понимал или по крайней мере ч у в с т в о в а л значение леса, но не всегда все зависело от него, особенно в рабские времена, когда завоеватели распоряжались природными богатствами страны, и позже, в царские времена, когда торговый капитал своевольничал с родными лесами. Отнюдь не случаен тот факт, что за три неполных десятилетия после Девятого сентября 1944 года в Болгарии были засажены лесами более 1,2 миллиона гектаров пустующих земель и оголившихся горных местностей, и тем самым наша страна заняла одно из первых, если не первое место в мире по лесонасаждению. Это не могло бы произойти, если бы у нас не существовало традиционное почитание леса и деревьев, если бы болгарин не понимал значения дерева.
Однако одновременно с насаждением лесов у нас имели и имеют место случаи, которые вызывают тревогу. Речь идет не о том, что леса наши были подвергнуты в один довольно долгий период усиленной вырубке, объектом которой становился не только прирост, но и часть основных запасов. Нам нужна была древесина, и как тут не рассуждай, мы рубили лес и будем скорей всего продолжать его рубить. В таких случаях говорится: «ничего не поделаешь»… Но даже когда можно что-то «поделать» и можно обойтись без этой горькой для леса чаши — то и в этом случае не всегда без нее обходятся.
Приведу в качестве примера добычу смолы в сосновых лесах. Конечно, разумно и полезно прежде чем срубить сосну, «выдоить» из нее драгоценную смолу, которую она в себе содержит. Но тут есть и такая немаловажная деталь: массовая добыча смолы из деревьев означает и массовую их вырубку, и второе: такую вырубку согласно лесоводческой науке можно производить только в таких местах, где почве не угрожает эрозия, или — что равнозначно — смывание дождями. Ну, а как тогда объяснить повсеместную смолодобычу, например, в сосновых насаждениях на крутых скалистых и сухих склонах Родоп возле села Соколовцы? Или сплошную вырубку «каменных» сосновых лесов в ущелье Кастракли, на склонах-долины реки Буйновской или, наконец, на скалистых берегах девинской реки Дамлы-дере (опять-таки в Родопах)?
Как естественное историческое явление эти «каменные» леса (в Кастракли) являются чем-то поистине исключительным не только потому, что находятся на крутых и даже отвесных склонах, но потому что выросли не на какой-то почве, а прямо-таки чуть ли не на голых скалах. Там же, где почва есть, слой ее настолько тонок, чуть ли не прозрачен, что и самое малое посягательство на деревья, которые сейчас ее оберегают, станет роковым для существования этого с таким трудом созданного и с еще большим трудом закрепленного на скалах почвенного перегноя.
Просто трудно поверить, что лесоустроительные планы для этих мест разрабатывал лесовод, что лесовод мог обречь на смолодобычу и сплошную вырубку эти «каменные» леса, когда именно лесоводу должно было бы быть ясно, что однажды вырубленные, они не могут быть восстановлены никакой земной силой ни теперь, ни даже в какие-то грядущие времена… Не будем уж говорить и о том, что леса эти к тому же находятся в водосборном бассейне энергетического каскада «Выча», на который мы возлагаем столько надежд. Если эти «каменные» леса превратить в заповедник и сделать их доступными для туристов, тем более, что они находятся неподалеку от курорта «Пампорово», то только от платы за их осмотр Болгария будет получать ежегодно в десять раз больше, чем за смолу, которую они нам смогут дать, прежде чем их повалят (если их уже не повалили).
В Калифорнии, например, национальные заповедники принесли штату 320 миллионов долларов — в них побывали 40 миллионов посетителей, тогда как устройство этих заповедников стоило, притом на протяжении десяти лет, 277 миллионов долларов. Если сегодня люди жаждут соприкосновения с «естественной», живой природой и на жалеют денег, чтобы ее видеть, то завтра они будут готовы отдать последнее, чтобы предоставить отдых своим глазам в каком-нибудь девственном уголке природы. Ведь 80 % туристов, которые посещают Восточную Африку, делают это ради ее дикой, первозданной природы. Значит, основные валютные поступления там вызваны именно «первозданностью» саванн — не так ли?
В Родопах нет саванн, но зато есть такие живописные ущелья, обросшие «каменными» сосновыми лесами, изобилующие подземными пещерами, ручьями и реками, такими, например, как Хырлога, которые могли бы взять верх над многими другими хвалеными уголками Земли… Если мы сохраним, разумеется, их естественность и первозданность.
Одним из примеров нашего, мягко говоря, недальновидного отношения к родной природе является и случай с горной низкорослой сосной в Риле и Пирине. С тех пор, пожалуй, как зародилось наше родное болгарское лесоводство, и до самого недавнего времени одной из постоянных задач в планах лесных хозяйств Рилы и Пирина было планомерное, беспощадное вырубание низкорослой горной сосны, которую считали (как знать, может, и еще считают) с о р н я к о м. Цель этой вырубки — дать возможность более ценным древесным породам занять освободившиеся от стелющейся низкорослой сосны места, чтобы передвинуть верхнюю границу леса как можно выше.
Ну, а как в действительности обстоит дело? В действительности лес взбирается вверх лучше всего с помощью и под прикрытием, под защитой низкорослых сосен, которые не страдают ни от ранней изморози, ни от ветра и снега и обладают исключительной способностью развиваться на самой тощей каменистой почве и быстро ее облагораживать, создавая за короткое время почву, необходимую для заселения более ценными древесными породами. Попавшие на эту почву еловые, пихтовые, сосновые и другие семена гораздо легче, чем на открытых местах, пускают корни; затем ростки, под прикрытием низкорослых сосенок, которые защищают их от изморози, ветров и снега, быстро развиваются, и, окрепнув, постепенно захватывают их территории. Позже низкорослые сосенки погибают в тени выросших под их защитой, у них за пазухой, высоких деревьев, сыграв свою благородную пионерскую роль.
Я видел в окрестностях Ибыра и на Риле, как умирают такие низкорослые, стелющиеся леса в густой тени выросшего под их прикрытием высокого елового леса. Агонизирующие сосенки пытались догнать еловые деревья, но поскольку они в сущности представляют собой куст, то им удавалось лишь слегка выпрямиться и их так и заставала смерть — с ветками высохшими и побелевшими, словно извлеченные из могилы кости. А что происходит при вырубке горной сосны? Земля оголяется, проросшие под открытым небом молоденькие ели и другие юные деревья не имеют столь необходимого им заслона, и, если их не погубит глубокий снег еще в начале роста, их затем уничтожит изморозь.
Примерно таким же было отношение старой лесной администрации и к можжевеловым кустарникам. Они считались сорняком и от них усердно очищали землю. Недавно в окрестностях Асеновграда их вырубили одновременно с редким можжевеловым лесом, чтобы посадить на их место сосны. Да вот только сосны не пожелали поселиться там… И теперь каждый год там возобновляют попытки заменить чем-то уничтоженный можжевеловый лес.
Можжевеловый лес! Это ведь нечто такое, чего не встретишь на каждом шагу, а мы списывали его в расход в силу того, что, по недоразумению, можжевельник считается сорняком и не принимаются во внимание его качества пионера для культивации одичавшей каменистой почвы, где он единственный может закрепиться, развиваться и улучшать почву. А что происходит там, где сосна якобы заменяет можжевельник? В большинстве случаев, поскольку она оказывается не на месте, сосна сохнет, болеет, искривляется, чахнет и, несмотря на то, что каждый год ее опыляют, рыхлят вокруг нее землю и даже поливают — она не растет…
Зашла речь о сосне — и мы скажем несколько слов и о другом явлении в лесоводстве, которое наш защитник природы Николай Боев назвал «соснофилия». Сосна — ценное дерево, его саженцы легко выращиваются и принимаются — это никем не оспаривается. Но массовые или скорее неосмотрительные посадки сосны, где надо и не надо, грозят нам тем, что, во-первых, нарушится соотношение между лиственными и хвойными лесами и, во-вторых, мы создадим тысячи однообразных, подверженных вырождению культур сосны. Вырубим какой-нибудь лиственный лес и — давай на его место сажать сосны! Вырубим под предлогом реконструкции какое-нибудь якобы чахнущее буковое насаждение — и посадим на его месте опять-таки сосны! Или в лучшем случае — ели. Таким образом и была заменена значительная часть лиственных лесов Стара-Планины хвойными — притом в большинстве случаев вполне успешно. Но сосновое однообразие начинает не только раздражать зрение, оно доходит до крайности, над которой пришло время задуматься.
Мы явно увлеклись и вырубкой старых деревьев. Вне всякого сомнения, они должны были пасть первыми при проведении в лесах вырубки, но кое-где хоть сколько-нибудь из древних лесных патриархов можно было бы оставить. Старые деревья, помимо того, что полезны как осеменители, придают лесу еще и неповторимый колорит именно своей старостью, своими узловатыми стволами, своей горбатостью и кривизной, следами бурь и молний, шрамами от борьбы со стихиями. И еще они необходимы птицам и животным, живущим в дуплах. Уже лет двадцать я почти не слышал голоса филина в наших лесах. Дикие кошки исчезли на наших глазах главным образом из-за отсутствия дупел, исчезают лесные и каменные куницы. Да бог с ними, с куницами, но вот и белкам теперь негде укрыться, так же как и сычам, совам, мелким и крупным дятлам, вертишейкам, а главное полезным мелким птицам: поползням, скворцам и синицам, которые выводят птенцов только в дуплах деревьев и являются лучшими санитарами леса. Одно семейство скворцов уничтожает 50 тысяч вредных насекомых — растениеядных клопов, бабочек и других. Любимая еда поползней — долгоносики-короеды, которых они разыскивают и истребляют с таким усердием, что на двух с половиной квадратных сантиметрах отмечается до 70 следов их крючковатых клювов.
Не отстают от них и синицы, которые истребляют гусениц-златогузок и различных вредоносных бабочек. Одна пара синиц уничтожает за год 120 миллионов яиц насекомых или 150 тысяч гусениц!
Когда мы вырубали старые деревья — жилища этих бесценных птичек и птиц — мы совершенно забывали об их полезности, и это дошло до нас только тогда, когда насекомые-вредители размножились в таком количестве, что сожрали всю листву в наших дубовых лесах и пришлось травить их (а из-за них и самих себя) ДДТ. Не говоря уже о том, что при массовом опрыскивании ДДТ мы истребляли уйму полезных птиц и животных и нанесли серьезный ущерб полезной лесной фауне, в еще большей степени расшатав ее биологическое равновесие.
В Родопах, у дороги, связывающей Белицу и Энихан, росла группа старых, даже не столетних, а многовековых буков. Сохранились они там видимо из-за чешмы, на которую эти древние гигантские буки бросали свою плотную тень. Весной, когда птицы высиживали на ветках этих буков своих птенцов, по всей округе разносилось их пенье. Было истинным счастьем, утолив жажду холодной водой из чешмы, послушать птичье веселье, поглядеть и порадоваться этим, каким-то чудом уцелевшим, все еще пышным буковым патриархам. Стволы их были такими толстыми, израненными и узловатыми, что не могли служить пиломатериалом. Но несмотря на это, года два назад сюда привезли моторные пилы и повалили их. Затем распилили, но поскольку расколоть кряжи так и не удалось, под них положили взрывчатку и разнесли их в щепки. Несколько дней возле старой, осиротевшей чешмы раздавался грохот и треск, как на войне. Обломанные ветви, щепки и корни разлетались при каждом взрыве, пока, наконец, эти чудесные деревья не были стерты в порошок. И никому не было жаль этих пятисотлетних патриархов! Никому не пришло в голову сохранить это маленькое птичье царство, ну хотя бы для того, чтобы оно просто радовало человеческий глаз.
Таким же образом были уничтожены старые ели возле проходящей по гребню Мазар — Гидик — Персенк римской дороги. На этом месте сохранился древний участок искусно вымощенной булыжником дороги (то ли римлянами, то ли турками — это не имеет значения), окруженный великолепными елями, которые так сливались с этой вымощенной дорогой, что просто невозможно было понять, что к чему здесь подлаживалось — то ли эти ели к булыжнику, то ли булыжник к елям. Не знаю, есть ли еще где в горах Болгарии подобное сказочное место, образец такого чудесного слияния природы и старины. Сделаешь шаг по этой древней мощеной дороге — и слышишь, как он отдается в зеленой стене елей по крайней мере раз пятнадцать, словно всамделишная кавалерия проходит по дороге. Чирикнет дрозд — и ему ответят сто с помощью эха.
…Так вот эти деревья были вырублены.
Лесовод, что обрек их на рубку, был, разумеется, вправе их убрать. С точки зрения закона мы не можем ни в чем его упрекнуть. Но где были его глаза, почему он не увидел, какое черное дело он делает, почему не сказал лесорубам: «Остановитесь! Пускай останутся эти трехсотлетние деревья. Сто кубических метров древесины всегда найдутся, но вторых таких старцев-патриархов нашим глазам уже никогда не увидеть!» Ему такое просто не пришло в голову. Не приходит это в голову и нам, потому что мы не всегда видим то, что имеем… И не щадим его!
Рискну уподобиться Хаджи Смиону, который все переводил разговор на Молдову[16], но не могу не упомянуть об одном старом дубе в Финляндии, в деревушке Мокули, вблизи города Лахти. Ничего особенного в том дубе не было, кроме того, что он был старый, дуплистый и кривой. Особым же было только то, что финны сделали серебряный «протез» на поврежденном месте его ствола. Они объяснили нам, что серебро окисляется слабо и потому не вредит древесине. Мы — болгары — сначала не поверили, но когда поколупали перочинным ножиком этот «протез», то убедились, что он действительно серебряный, притом так тщательно сделанный, словно над ним трудился зубной врач, и, вероятно, довольно дорогой, потому что серебра на «пломбу» ушло килограмма три-четыре.
Отношению к паркам и лесам мы можем поучиться у Дании, где существует закон — строительная организация должна посадить столько деревьев, сколько людей вселится в новый дом. Сажают там деревья и при поступлении каждого ребенка в школу.
Что тут еще сказать… Охнешь только еще раз, сожалея о зря загубленных старых болгарских деревьях и досадуя, сколь часто проявляет наш брат отвратительную слепоту. Как увидим редкостный цветок — эдельвейс ли, пион ли — и сразу бросаемся делать букет. Увидим цветущую сирень — рвем, ломаем ее, и — на стол! Войдем в лес — давай сразу же делать себе трость! И ради нее срезаем, не моргнув глазом, молодую сосенку! Понадобится нам камень — останавливаемся возле ближайшей скалы и начинаем откалывать и отламывать от нее куски, и в голову нам не приходит, что пробиваем дырку в пейзаже, что обезображиваем землю.
Все определеннее вырисовывается эта, своего рода «туристская эрозия». Она развилась или, точнее, разгулялась в последнее время вместе с увеличением количества автомобилей, которые дают возможность тысячам людей каждую субботу и воскресенье проникать глубоко в горы и радоваться их красоте. У людей есть автомобили, есть больше свободного времени — естественно, что они проводят его на чистом воздухе в горах. Худо становится тогда, когда их автомобили расползаются по полянам, а там автомобилисты расстилают одеяла, жгут костры и давай жарить перцы, разбрасывать очистки, газеты, пустые консервные банки. А некоторые считают, что теперь самое время произвести заодно еще осмотр машины, заменить в ней масло или помыть ее тут же у источника (уж не станем упоминать о том, как мнут они траву).
27 июля нынешнего года, в воскресенье, лишь вдоль дороги Проглед — Пампорово — Ардашлы мы насчитали 412 машин и десятки костров, от которых исходил, разливаясь волнами, запах жареного мяса и перца, так что от аромата сосен не осталось и следа. Когда мы вечером возвращались по той же дороге (после того, как автомашины уже уехали), поляны вдоль шоссе смахивали на лагерь башибузуков: среди травы зияли темные пепелища с еще недогоревшими дымящимися головнями, а разбросанный повсюду мусор поражал своим невероятным количеством.
Разумеется, не все автомобили совершают на лоне зеленой природы такие опустошения, но большая часть их (чтобы не сказать бо́льшая) так безобразно уродуют природу, что каждое их посещение превращается для нее в своеобразную катастрофу.
Конечно, есть люди, которые возразят нам: «Да это же мелочи! О более важном заботьтесь, о более важном!» Дело, однако, в том, что когда мы не жалеем малого, мы и более важное транжирим. Когда не видим малого, то и по отношению к большому мы слепы. Вслед за малыми убийствами, происходящими в природе, следуют и крупные. Поэтому я никогда не забуду трех вещей, увиденных в Финляндии: первое — это «пломбированный» дуб возле Лахти, о котором я уже говорил. Второе, что меня поразило, был квартал «Тапиола», где возле новых строек я видел деревья, сплошь обшитые досками, чтобы кто-нибудь из строителей не повредил их молотком или, не дай бог, не забрызгал известью! И третье, что мне случилось увидеть по дороге в Лахти — скрытый под землей каменный карьер — чтобы не обезображивать пейзаж. Удивительные люди эти финны — мало им их лесов, так они даже перед отелями понасадили в бочках сосенки, как будто весь Хельсинки да и вся Финляндия буквально не утопают в лесах. Об этих людях вполне можно сказать, что они сроднились с лесом и испытывают к нему чуть ли не религиозное чувство. И я уверен, что эта необыкновенная любовь к лесу и деревьям проистекает не только из того, что леса — это главное богатство финнов. Это вопрос традиции и прежде всего — культуры.
Жители Дубровника в свое время тоже имели подобные традиции. В Дубровнике существовал закон, обязывавший сажать в честь каждого новорожденного оливковое дерево, а молодожены должны были сажать по два кипариса и два оливковых дерева. Не знаю, жива ли еще эта средневековая традиция, но каждый человек, проезжающий через Дубровник, может видеть в его окрестностях оливковые и кипарисовые леса, буквально втиснутые в скалы, где каждая трещина известняка использована для посадки деревца.
Да, щадили люди природу…
Недавно я имел случай убедиться, что не только финны и дубровничане щадили и щадят ее. Во время одной из поездок в Монголию нас повезли охотиться на диких баранов в горы Южной Гоби. Закончив охоту, мы отправились в обратный путь, и, пока шли, над нашими головами время от времени стремительно проносились бородачи, надеясь, вероятно, что смогут клюнуть что-нибудь из нашей добычи. Пролетели эти орлы над нами раз, другой, пока наконец генерал Христо Русков не утерпел и не попросил сопровождавшего нас сотрудника монгольского лесного министерства, чтобы ему разрешили пристрелить одного из них для будущего охотничьего музея в Софии, потому что мы в Болгарии уже забыли, что такое бородач. Сотрудник этот был не рядовым, а начальником управления, то есть человеком, обладавшим правом разрешить нам уложить не одного, а сотню орлов. Но он, приятно удивив меня, отказал генералу. Не согласился ни на первую, ни на последующие его просьбы. Он питал к нам самые добрые чувства, в чем мы вполне убедились во время пребывания у монгольских охотников, но об охоте на орла не дал и слова сказать, несмотря на то, что в небе Монголии разных орлов летает столько, сколько у нас в Болгарии порхает воробышков. Да, люди здесь берегут своих орлов. Жалеют их. Не хотят нарушать целостности своей природы.
Снова скажу — вопрос это не только эстетический. Вопрос о целостности природной среды — это и вопрос о целостности человека. Я это очень хорошо почувствовал во время своей краткой поездки в Данию.
После того как прогуляешься несколько дней из конца в конец по этой, тщательно ухоженной, словно гребенкой расчесанной, обильно политой, подравненной, прирученной земле, после того как побываешь среди этой «закультивированной» природы, ты начинаешь ощущать скуку, тебе чего-то недостает, что-то тебя мучит, но ты не знаешь что. Ты не испытываешь ни голода, ни жажды, но тебя все же что-то мучит… Пока наконец ты не поймешь, что тебе хочется увидеть дерево, самое обыкновенное, дикое, естественный луг, каменистый склон, овраги и вообще природный «хаос», который все еще есть, слава богу, на твоей милой родине.
Тебе хочется видеть землю нетронутую, некультивированную, неубранную, непричесанную. Тебе хочется видеть живую, девственную природу!
Почему? Да потому, что человек формировался в окружении дикой, естественной природы, которая бесконечно разнообразна. Один камень торчит в ту сторону, другой в эту, — кто как хочет. Это разнообразие освежает глаз, ласкает душу, и, когда этого тебе недостает, ты понимаешь, что ты утратил, цивилизовав природу. Ты ее упростил, ты ее схематизировал и свел ее полезное для здоровья разнообразие к нескольким геометрическим парковым схемам. Ты отнял у деревьев естественный вид, свободу, своеволие ветвей, капризные изгибы стволов, чтобы превратить их в стройные, бездушные и скучные, тщательно отделанные ненужные украшения.
Это действительно так, потому что повторение форм порождает скуку, которая тяготит и убивает нормального здорового человека со здоровыми первичными и естественными потребностями. Но дело, кажется, не только в повторении форм… Есть
СИЛОВЫЕ ПОЛЯ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ,
которые на нас воздействуют и обновляют и о которых мне хочется сказать несколько слов. Начну с одного моего личного наблюдения в те годы, когда я был инженером-лесоводом в Лесичевском лесном хозяйстве в Родопах. Там лес большей частью сосновый. У здешних лесорубов вошло в привычку, отправляясь в свои села, приносить в подарок женам сосновые лучины для растопки печей. Чтобы лучина была хорошей, они обычно срезали ее с толстых сосен, растущих на солнцепеке.
Эти деревья привлекли мое внимание не только тем, что с них срезают лучины, но главным образом обильными урожаями шишек, тем более, что в то время мы имели план сбора шишек. Явление это не было особенно загадочным: каждое дерево — будь оно плодовым или диким, — при ранении начинает давать больше обычного плодов и семян, потому что всякая рана «вспугивает» его, пробуждает в нем инстинкт самосохранения, и оно бросает всю свою энергию на размножение. Действуют ли в данном случае биотоки, приводя в состояние тревоги находящееся под угрозой дерево, или же какие-то энзимные либо гормонные вихри, которые разыгрываются опять-таки с той же целью — чтобы мобилизовать его силы, пусть это выясняют другие, но факт остается фактом: с момента ранения деревья начинают рожать как бешеные.
Внимательно вглядываясь в эти деревья, замечаешь, однако, и кое-что весьма необычное, загадочное: я установил, что и соседние, н е р а н е н н ы е деревья, рожают столь же обильно, как и раненые, так что образуются целые «гуменца», усыпанные сосновыми шишками. Как будто раненые сосенки «сговорились» со своими ближайшими здоровыми соседками одновременно цвести и рожать. Меня очень заинтересовало это необыкновенное явление, но вскоре мне пришлось покинуть лесичевские леса, и загадка столь обильно «разрожавшихся» сосен так и осталась неразгаданной.
Недавно мой интерес к этим уже отчасти забытым вещам возродился снова, после того как я прочитал в журнале «Наука и техника» об открытии американца Клифа Бакстера, который известен в США как один из лучших специалистов по допросам правонарушителей посредством специальных электроустройств, называемых «детектор лжи». В самых общих чертах, это — электроды, которые прикладывают к преступнику, и в то время как он отвечает на вопросы, самозаписывающее устройство отмечает степень его, отраженного в биотоках, волнения.
В 1966 году Бакстеру пришло в голову произвести один действительно странный опыт с «детекторами лжи», — но уже не на людях, а на растениях. Он поставил в одной комнате два растения — филодендроны. Из шести человек, участвовавших в опыте, одному было поручено уничтожить один из двух филодендронов, но так, чтобы никто, кроме уцелевшего филодендрона, не знал, кто «палач». Затем к этому немому свидетелю были прикреплены электроды детектора, и начался «допрос». К растению подводили одного за другим шестерых, среди которых был и неизвестный «убийца». «Свидетель» филодендрон держался спокойно, пока являлись незамешанные в «убийстве», но он буквально «обезумел», когда перед ним остановился тот, кто уничтожил растение (это было отмечено самозаписывающим устройством резко вздымающейся кривой).
Бакстер произвел много подобных опытов, чтобы доказать, что у растения есть «память», что оно «пугается», «теряет сознание», впадает в «кому» и так далее. На основе этих опытов он опубликовал статью «Доказательство существования первичного сознания у растений», вызвавшую в свое время большое оживление в научном мире. В одном из комментариев по поводу этой статьи советский ученый проф. И. Гунар оспорил научную ценность открытий Бакстера и назвал шумиху, поднятую вокруг них прессой, «пустой сенсацией».
Споры, однако, не прекращались: Бакстер повторил свои опыты перед комиссией научных работников и сумел доказать, что растение может отличить убийцу от невиновных. Кроме того, судя по прессе, был произведен и новый, все такой же сенсационный опыт. На покачивающуюся плоскость были положены живые креветки, а под нею помещена кастрюля с кипящей водой. Механическое устройство время от времени переворачивало «качели» с креветками, и они падали в кипяток. В соседней закрытой комнате к одному из растений были прикреплены электроды для того, чтобы увидеть, взволнует ли его гибель креветок, и было установлено, что при их падении в кипящую воду самозаписывающее устройство фиксировало резкие взлеты кривой — растение «подскакивало от ужаса». Эти опыты определенно обнаруживали, что смерть группы клеток может быть уловлена другой соседней группой, то есть что существует «межклеточная информация».
Опыты советского ученого доктора Щурина воспроизвели даже «разговор» между двумя группами человеческих клеток и подтвердили существование межклеточной информации. В две полностью герметизированные кварцевые коробочки Щурин поместил две группы клеток, и когда одну из них заражали каким-то вирусом, вторая, не зараженная, проявляла абсолютно те же признаки, что и зараженная, а когда первую группу умерщвляли введением яда — вторая, «здоровая», словно из солидарности с нею тоже умирала.
Подобная «таинственная» связь была установлена и англичанином доктором Бейли, который в герметически закрытом парнике поместил два растения, изолированных друг от друга и лишенных воды. Когда одно растение поливали, электрокатоды, соединенные с неполитым растением, тотчас же отмечали его реакцию на поливку соседа, при том, что между обоими не было (отмечаю этот факт еще раз) никакой физической связи.
Несколько советских ученых из Алма-Аты пошли еще дальше, сумев вызвать у филодендрона условные рефлексы: они подносили к растению кусок скалы, одновременно укалывая, обжигая или «ударяя» его электрическим током, пока не достигли наконец поразительного результата — филодендрон стал «волноваться» и «пугаться» уже только при появлении кусочка скалы.
К этому же времени относятся и опыты московского психолога В. Пушкина. Вместе с В. Мятисовым он проверил эксперимент Бакстера и во многих отношениях подтвердил его, но пошел еще дальше, установив, что на растения влияет психологическое состояние человека. Этот сенсационный эксперимент, многократно проверенный в двух московских лабораториях, был произведен следующим образом: человеку, впавшему в гипнотический сон, внушали разнообразные переживания, и оказалось, что помещенное на расстоянии трех метров от этого своеобразного «передатчика» растение безошибочно реагировало на внушенные усыпленному человеку волнения, что было соответствующим образом зафиксировано прикрепленной к растению электрической аппаратурой.
После этих опытов, в чьей достоверности не может быть никаких сомнений (как выразился сам Пушкин), способность живой клетки излучать и принимать информацию нельзя оспаривать. Другое дело — вопрос о том, какова природа этого, во всяком случае, невидимого излучения.
В сущности, выражение «невидимое» уже не является достаточно точным после открытия высокочастотной фотографии, названной «кирлианова фотография», которая может улавливать биоэнергетические колебания живой материи. С помощью этой фотографии профессор Калифорнийского университета Телма Мос проделала следующий опыт. Она поместила на соответствующую электроаппаратуру только что сорванный лист растения, и при включении тока на листе появилось синеватое свечение. С увяданием листа «увядало» и свечение, а когда лист совсем засох, оно исчезло. Если же к увядающему листу приближалась человеческая рука, лист как будто оживал, и его синеватое свечение усиливалось — вот еще одно доказательство биоэнергетического взаимодействия между живыми клетками. Когда Мос укалывала свежесорванный лист иголкой, поврежденное место испускало уже не зеленый, а красный свет.
Советский ученый В. Адаменко обнаружил кроме того, что если у зафиксированного «кирлиановой фотографией» листа отрезать несколько миллиметров и снова сфотографировать, то кирлианов снимок этого листа не изменится — и на втором снимке свечение, или лучше — сияние — сохранится, даже на срезанных листах, как будто лист остался цел. Мос повторила опыты Адаменко и подтвердила таким образом тот факт, что у живого организма есть свой «энергетический скелет, который исчезает лишь после его окончательной гибели как целого». Какова природа этого фантома, этого призрака, который продолжает светиться на месте отрезанной части, мы пока еще не знаем, но и то, что уже установлено опытами — немало, а именно: что всякая живая клетка представляет собой постоянно «трепещущую» динамичную систему, что всякое химическое явление в протоплазме имеет свой «электрический отблеск», что живая клетка и вообще живая природа имеют свой «электрический ландшафт», свои силовые поля, с помощью которых они сообщаются, обмениваются информацией и воздействуют друг на друга. Сигнальные волны при умирании одной клетки сразу же передаются соседним клеткам независимо от преград.
Если это так, тогда совсем нетрудно объяснить случай с ранеными соснами в Лесичеве и их близкими соседями и соседками. Приведенные в состояние тревоги раненые деревья, которые мобилизовали свои силы, чтобы произвести как можно больше семян и подстраховать свое оказавшееся под угрозой существование новым потомством, сообщили и соседним соснам о своей тревоге, внушили им тот же страх, и те, не раненные, были вынуждены действовать таким же образом, как и раненые, — то есть рожать как можно больше.
Сообщаю обо всем этом не как об открытии, а только как о догадке и перехожу к другому, гораздо более важному факту, а именно: растения могут не только обмениваться «чувствами», «опасениями», «настроениями» или просто информацией, но они находятся под влиянием психологического состояния человека, на которого, вероятно, они тоже воздействуют посредством своих таинственных биоэлектрических или каких-то других видов энергии. Вот почему теперь уже никто не мог бы упрекнуть писателя в том, что он говорит глупости, если тот напишет, что «при виде вооруженного топором крестьянина деревья задрожали, сердца их забились, а листья побледнели от страха».
Но дело, конечно, не в том, что могут или чего не могут писать писатели о лесах и деревьях: важно другое — то, что зеленая природа не является чем-то нейтральным по отношению к человеку, что он, человек, находясь в ее лоне или вблизи нее, постоянно погружен в ее — назовем это силовым полем, либо излучением, — и плещется в волнах этого до недавнего времени невидимого излучения, которое лишь «кирлианова фотография» смогла уловить. Пока не установлено, как оно воздействует на нас, но тысячелетний опыт человека доказал, что оно не просто благотворно и полезно для здоровья, но абсолютно необходимо для нормального развития человека и его самочувствия. (А самочувствие, в конце концов, это импульсивный итог состояния здоровья.)
Видимо следует допустить, что зеленая природа не только обновляет нас чистотой воздуха, не только освежает своим зеленым цветом, который действует на зрение как бальзам, но что она омывает и обновляет нас, может быть, главным образом своим неразгаданным до сих пор излучением, чью ценность для человека еще только предстоит измерить и оценить.
По крайней мере о себе могу сказать, что воздействие зеленой природы на меня едва ли не волшебно. Я бы не мог разграничить, какой части этого воздействия я обязан эстетическим восприятиям и какой — биоконтакту с травами, цветами и зелеными деревьями, — но результаты его неоспоримы. А может оказаться, что эстетическое воздействие зеленой природы на нас — это только один из эффектов, один из многих приятных эффектов силового воздействия или силового взаимодействия между нею и человеком.
Как бы там ни было, но целебное воздействие зелени и вообще природы на человека доказано тысячелетним опытом и не подлежит сомнению. Этой целебности природы вы обязаны тем, что, оказавшись в поле или в лесу, среди трав и цветов, вы не ощущали себя одиноким. Ваше сознание, может быть, не понимало этого, но ваши клетки почувствовали присутствие своих зеленых собратьев; они сказали друг другу: «Привет!» и «Доброе утро!», обменялись информацией о погоде и о других природных новостях и поняли друг друга, хотя и помимо вашего сознания, потому что контакт был осуществлен, как это говорится, на «клеточном уровне». И несмотря на то, что вы не осознавали этого контакта, душа ваша была полна радостного чувства, каким-то странным образом ощущая себя частицей окружающей вас красочной панорамы; вам не было скучно, вам не хотелось возвращаться к себе в село или в город, вы не испытывали потребности в компании, и вообще — вам было хорошо. А было это так потому, что вы находились среди своих молчаливых, деликатных друзей — трав и цветов, упивались их ароматом и погружались, не зная этого, в клеточный бальзам их «души». Вы просто ощущали благотворное излучение мира живых клеток, купались в биоэнергетических струях и потому, пока вы находились там, вам было и приятно и спокойно.
Любите ли вы растения? Забавляют ли вас букашки? Волнуетесь ли вы, когда две бабочки начинают обниматься? Нравится ли вам запах дикого чебреца? Умиляют ли вас краски и их разнообразие?
Если на эти вопросы вы можете ответить: «Да!» — вы счастливый человек.
Приводит ли вас в восхищение закат солнца, трогает ли вас игра ветра, когда он строит из облаков воздушные замки и тут же одним махом их разрушает, чтобы воздвигнуть еще более величественные? Любите ли вы иногда послушать ветер и поговорить с ним? Успокаивает ли вас шелест листвы?
Если вам присуще и это — вы очень счастливый человек, так как это означает, что живете вы не в пустыне и даже если вас оставит любимая или покинут дети, вы никогда не будете одиноким, потому что кроме них у вас есть еще целая В с е л е н н а я из зеленых деревьев, цветов и бабочек, из букашек и муравьев, из восходов и закатов, из звуков и ароматов. И наконец потому, что Природа для вас —
НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ
Все другие источники наслаждения для человека — и с ч е р п а е м ы и в той или иной степени — коварны. Переешь — удовольствие от еды придется оплатить; слишком увлечешься любовными утехами — счастье может превратиться в угрозу. Будешь много пить — тебя ждет в тайниках будущего либо цирроз печени, либо какая другая беда. Охладишься — можешь простыть, перегреешься на солнце — можешь получить ожоги, переборщишь с сидением у телевизора — можешь поглупеть… Только наслаждение от общения с природой неисчерпаемо, только оно безобидно и безвредно! Можно умирать от счастья, наслаждаясь тем, что даром даст тебе Природа, но это никогда тебе не повредит, никогда не будет тебе ничем грозить. И никогда не наступит пресыщения. Для этого нужно, разумеется, чтобы у тебя были необходимые для восприятия Природы органы чувств — уши, которые умеют слушать, глаза, которые умеют видеть, и главное — сердце, которое умеет радоваться всему услышанному и увиденному.
Короче говоря, надо обладать развитым эстетическим чувством, и не просто развитым, а устремленным к Природе. Можно великолепно воспринимать театральное представление, красоту балета, пленительность хорошей книги, но к природе быть равнодушным и бесстрастным. Такие люди заслуживают сожаления, потому что только тот, кто испытал, что может дать нам природа, какими переживаниями она может нас обогатить и обновить, только тот знает, что теряют те, кто ее не ощущает и не понимает.
Природа облагораживает подобно искусству своими созвучиями, своей удивительной гармонией, которая воздействует подобно хорошей музыке, если только вы умеете видеть, умеете слушать (я снова возвращаюсь к этому требованию); если только вы умеете читать ее «книгу».
Ну, хорошо, — а как же усвоят это те, кто не живет среди природы, например, городские дети, которые могут написать тебе замысловатую формулу аспирина, но не всегда могут отличить ель от сосны, можжевельник от соснового кустарника и овцу от барана?
Это можно осуществить очень просто: если приучать и внушать им сызмала потребность общения с Природой, а для этого легче всего начать с воскресных экскурсий в горы. Для начала этого вполне достаточно, но разве их — этих детей — уведешь в горы, когда именно в субботу и воскресенье они пишут и «зубрят» свои уроки, как и в остальные дни недели? Они пишут домашние работы и заучивают заданное, потому что школьные программы (с этим все мы согласны) действительно перегружены, и овладеть всем учебным материалом, или, точнее, запомнить его — действительно трудно. Дети почти не играют — у них просто нет времени для игр, а игры ребенку необходимы так же, как необходимы ему еда, дыхание и сон. Потребность в игре — это инстинкт с весьма глубоким, физиологическим смыслом; играя, ребенок и двигается, и не только расходует, но и накапливает энергию, развивает и заряжает свои жизненные аккумуляторы и таким образом сам заводит часы своей будущей жизни…
Чтобы стать полноценной личностью, ребенку необходимо «отыграть» положенное, но у наших современных ребят, как я уже сказал и повторю снова, — школьные занятия и приготовление домашних заданий забирают столько времени, что на игры его не остается. И несмотря на то, что о чрезмерной перегрузке учебных программ с давних пор говорят, спорят и пишут, их не только не разгружают, но балласт в них год от года скорее возрастает, и дело дошло уже до того, что ныне семиклассники учат почти в два раза больше уроков, чем учили семиклассники в 1947 году, не говоря уж о куда большей сложности учебного материала. (Дети теперь уже в третьем классе занимаются алгебраическими упражнениями, которые когда-то преподавались в восьмых классах.)
И что же получается? А получается то, что нынешняя гимназическая программа оказывается слишком трудной для большинства учеников — для 72 % девочек и 67 % мальчиков, что математика создает серьезные трудности для 54 % девочек, языки для 50 % мальчиков и т. д. (согласно данным обследования, проведенного доцентом д-ром Ташевым из Пловдива).
Последствия?
«Если школа предъявляет сверхтребования к умственным способностям и памяти учеников или к их одаренности (пишет в одной из своих статей наш известный психиатр профессор Шипковенский), если она постоянно обременяет их чувства и исчерпывает их волевую устойчивость, ясно, что многие из них впадут в невротическое состояние».
Медицинская статистика показывает, что именно так и произошло: невроз вследствие переутомления, именуемый «дидактогения», все чаще вписывается в медицинские карточки студентов и гимназистов, как результат столкновения их с перегруженными учебными программами.
Я не буду сейчас заниматься вопросом, отчего распухли учебники, но скажу только, что сколько бы еще толстых учебников ни было написано и выучено, они все равно не исчерпают всех знаний в соответствующей области науки. Наука в наше время развивается столь активно, что едва успеет ученик выучить написанное в учебниках, как в последующие два-три года эти его знания в той или иной степени окажутся уже «устаревшими». В конце прошлого века врач, например, мог поддерживать свой научный уровень путем ежедневного одночасового чтения, потому что в то время в мире издавалось около 850 медицинских журналов с примерно 20 000 научных публикаций. Теперь число медицинских изданий достигло 10—20 тысяч, с полутора миллионами публикаций, так что современный врач не мог бы даже просто прочитать их заглавия — если бы решился на такой бессмысленный поступок. То же самое происходит с инженерами, химиками и особенно с физиками и биологами, которые просто задыхаются под дождем новых открытий. Можем ли мы уследить за потоками новых знаний? Можем ли мы угнаться за ними? Нет, это невозможно. Искусство образования состоит в том, что для учебников следует отбирать из всех имеющихся знаний их эссенцию, сливки — то есть самое необходимое и самое существенное. Но это отнюдь не легко, потому-то и не находится людей, которые бы это сделали.
Молодой человек должен выйти из школы не с зазубренными знаниями, а с развитой способностью самостоятельно мыслить и ориентироваться в дебрях информации. Не с изувеченной заучиванием наизусть памятью, а со свежей и гибкой мозговой «мускулатурой», с развитым воображением и чувством любви к природе, которое придет к нему в процессе ее познания. Иначе (если он будет рассчитывать только на заученное) грош ему цена.
Наступило время изучать в школе взаимосвязь «человек — природа», все равно, будет ли этот предмет называться «природоведение» или «охрана природы» (экология), и я уверен, что это даст нашим детям не меньше, чем заучивание наизусть формул, чем знакомство с винтами и гайками…
Что и говорить, найдутся специалисты, которые будут оспаривать то, что я говорю, но одно все же останется почти неоспоримым: то, что у наших детей — школьников и студентов — около десяти часов в день уходит на занятия, причем все дни недели, так что у них не остается времени ни для игр, ни для экскурсий, ни для домашних дел, ни для чтения художественной литературы и посещения театра.
Известно (позволю себе новое отклонение от темы), что если с самого раннего возраста ребенок не читает художественной литературы, сказок и даже разных детских развлекательных книжек, его духовная жизнь не будет развиваться полноценно, потому что в основе ее лежит воображение и вообще чувствительность, которая лучше всего развивается под влиянием художественной литературы. Ребенку необходимо читать, пока оформляется его костная система, чтобы прочитанное стало для него как бы строительным материалом, вошло в его плоть и кровь. Прочитанное в зрелые годы уже не входит в полной мере ни в кости, ни в кровь, ни в плоть, ни в голову, а торчит — в большей или меньшей степени — как механический придаток памяти.
Все попытки стать культурным, которые предпринимаются позже — после двадцати пяти лет, так или иначе несут на себе следы импровизации, если не считать исключительно одаренных натур.
Что же касается работы детей дома, то тут дело обстоит примерно так же, как и с чтением. Для нормального развития психомоторных качеств организма труд в детском возрасте столь же необходим, сколь необходимо материнское молоко. Труд, который способствует развитию всех мускульных, мозговых, нервных, двигательных и прочих механизмов в человеке. Если есть что-то увечащее и уродующее человека, — так это лень, безделье в детском и юношеском возрасте — все равно добровольное ли это безделье или вынужденное, вызванное чрезмерной занятостью учащихся или же, наконец, чрезмерными амбициями родителей, которые не дают своему чаду вынести мусорное ведро, чтобы не навредить его успеваемости в школе.
И после этого мы удивляемся, почему иногда из школы выходят люди с недостаточной трудовой настроенностью (прибегаю к этому выражению, чтобы не употребить более точное, но неблагозвучное слово «тунеядцы!»), то есть люди с нарушенными творческими импульсами, с нарушенными творческими свойствами человеческой природы.
А ведь человеческая природа — это часть, и притом наиболее ценная для нас часть всей Природы, и потому, как мне кажется, будет небезынтересно продолжить рассмотрение проблемы «человек — природа» и «человек — цивилизация» в свете так называемой
УРБАНИЗАЦИИ
Слово это не так уж ново для нашего языка, но в последнее время оно употребляется все чаще и чаще, по мере того как развивается явление, которое оно обозначает, да еще и по мере того как усиливается наша болгарская склонность к употреблению иностранных слов. Но вернемся к теме: что же это за явление, обозначаемое словом «урбанизация»? Это быстрое развитие современного города, а также сопутствующее этому развитию и вызванное им превращение в горожан большой части сельского населения.
Мы могли бы заменить «урбанизацию» — «огорожаниванием», как заменяем «эталон» — «образцом», но знаем по опыту, что нашего брата, если он уцепится за какое-то звучное иностранное словцо, уже нелегко от него оторвать, поэтому скажем, как бай Ганю[17] — «Ладно! Наплевать!» — и вернемся к нашему слову об урбанизации — то есть огорожанивании.
Кажется, это Сенека писал в одном из своих трудов:
«Хвали в человеке то, чего никто не может у него отнять. А что же это? Душа и разум. Чего требует от человека разум? Самого легкого — ж и т ь с о о б р а з н о п р и р о д е…»
«Самого легкого», — сказал мудрец, а мы, хоть и никакие не мудрецы, позволим себе добавить: «И с а м о г о т я ж е л о г о» или, вернее: «с а м о г о т р у д н о г о». Почему?.. Потому что пусть мудрец встанет из могилы и скажет мне: как могу я не дышать загрязненным городским воздухом, если я живу в городе? Как я могу не слышать скрежета трамваев, трескотни мотоциклов, грохота автомобилей, гула самолетов? Как могу я укрыться от обрушивающегося на меня ливня тихих и оглушающих звуков, которые составляют нормальный городской шум, не говоря уж о ненормальном — о грохоте, когда продувают, например, печи теплоцентралей или когда над головой пролетают сверхзвуковые лайнеры?
Как же мне жить сообразно природе?
Разве в моих силах не попасть на улице в клубы смрадного и ядовитого сизого дыма, которые выпускают на ходу прямо мне в нос бесчисленные автомашины? А городская аэрозольная мгла, которая не позволяет хоть когда-нибудь увидеть, какое над тобой небо и звезды на нем, не говоря уж о том, что эта пыльная мгла начинает всерьез заслонять от нас солнце?
Могу ли я изгнать из города автомобили, которые заставляют меня вздрагивать на каждом перекрестке, которые вынуждают меня перебегать улицу, уподобляясь преследуемому животному, когда они, построившись по обеим сторонам пешеходной «зебры» в колонны, нетерпеливо «ерзают» на месте, прежде чем стремительно броситься вперед?
Можно ли, спрашиваю я знаменитого философа, жить сообразно природе, если я — горожанин и должен существовать в городской атмосфере, под городским небом, в компании сотен тысяч хищников, называемых автомашинами, с которыми вынужден делить тишину, воздух и даже тротуары (о проезжей части улиц уже никто из пешеходов и не заикается)?
Да и кто не знает, что из труб теплоцентралей, металлургических и других заводов в Софии и ее окрестностях, которые все еще недостаточно оснащены необходимыми очистными установками, над нашими жилищами — в данном случае над столицей — ежегодно выпадает двести тысяч тонн (не килограммов, нет!) пепла и семь тысяч тонн серного ангидрида? (Пишу эти числа прописью, чтобы не произошло недоразумения.) Выпадает вопреки установленным правительственными документами защитным нормам и обязательному сооружению очистных установок на промышленных предприятиях.
Загрязнению воздуха в Софии и вообще в городах в последнее время особенно способствует размножившийся до несметного числа легковой автомобиль, называемый некоторыми
«ЖЕСТЯНАЯ ПРОКАЗА»
Двигатель его выбрасывает более ста различных, главным образом ядовитых, веществ. В Софии уже более ста тысяч автомобилей. За пятилетку их количество увеличится в Стране еще на 600 тысяч штук; можете себе представить то колоссальное скопище чада, в который мы будем погружены и который будем вдыхать, хотим мы того или не хотим, — вопреки советам Сенеки, — вместе с канцерогенными бензопиренами и распыленным в отработанных газах свинцом? Вместе с ядовитыми альдегидами и еще более ядовитой окисью углерода, выделяемыми двигателями внутреннего сгорания.
Установлено, что в Лос-Анджелесе 80 % ядовитых веществ, имеющихся в воздухе, поступают из выхлопных труб легковых автомашин. Сколько ядовитых веществ попадает в воздух из выхлопных труб ста тысяч легковых машин в Софии, еще не подсчитано, но бесспорно то, что присутствие этих ядов начинает все сильнее давать себя знать в участившихся за последние годы сердечно-сосудистых, легочных, онкологических и других заболеваниях…
В Америке число заболеваний эмфиземой легких удваивается каждые пять лет, а жертв рака легких становится больше, чем жертв всех остальных раковых заболеваний. И все это из-за растущего загрязнения городского воздуха. (В США только 3 % населения — «сельское», остальное составляют жители городов!)
Особенно вредно загрязнение городского воздуха свинцом. Попадая в человеческий организм с автомобильными газами, он накапливается там, нанося непоправимый вред кроветворным центрам в костном мозгу, главным образом у маленьких детей, а также нервной системе и детей и взрослых. Некоторые ученые считают свинец самым сильным невротоксином. Шотландские ученые произвели обследование 154 детей и установили, что только половина их развивается нормально, а у остальных развитие заторможено и что причиной слабоумия у этих детей является повышенная концентрация свинца в крови (25,4 миллиграмма на 100 кубических сантиметров).
Из-за сильного загрязнения воздуха отработанными автомобильными газами в Париже собаки живут не более пяти лет, если они обитают ниже третьего этажа. Загрязненный воздух губит и растения — они начинают чахнуть, у них распадается хлорофилл, и они быстро засыхают. По данным Стенфордского исследовательского института, в США ущерб, причиняемый гибелью растений от загрязнения воздуха, достигает суммы в 132 миллиона долларов ежегодно.
В Токио регулировщики движения на главных улицах вынуждены каждые полчаса освежаться, вернее приводить себя в чувство с помощью кислородного аппарата. Там же на улицах установлены автоматы, которые продают глотки чистого воздуха, словно стакан оранжада…
В таких городах, как Нью-Йорк и Токио, только три четверти солнечных лучей проникает сквозь аэрозольную завесу. В Кельне однажды после сильного дождя, насыщенного парами соляной кислоты, содержащейся в воздухе, у прохожих начали расползаться зонтики и чулки. Особенно показательна судьба Луксорского обелиска времен Рамзеса II, перевезенного из Египта в Париж в 1836 году. Оказалось, что насыщенный ядовитыми веществами и аэрозолями влажный парижский воздух разъедает гранитный обелиск с устрашающей быстротой, так что примерно за сто лет своего пребывания в Париже обелиск оказался поврежденным в десять раз больше, чем за два тысячелетия в Египте.
Такая же угроза нависла и над афинским Акрополем, мраморные колонны которого начали в последнее время крошиться, словно брынза, и наши соседи греки ломают себе голову над тем, как обезопасить Акрополь от разрушительного действия ядов, содержащихся в воздухе.
Если загрязненный воздух так действует на мрамор и гранит, то что можно сказать о куда более хрупких и нежных тканях человеческих легких, где оседающие химические пылинки, называемые аэрозолями, вершат свое зловещее дело?.. И вообще аэрозоли подтверждают правило, что
МАЛОЕ НЕ ВСЕГДА НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
Аэрозоли — это взвешенные в воздухе жидкие и твердые частицы: бензиновые пары, капли серной, соляной и азотной кислот, альдегиды, хлорид свинца, мельчайшие частицы сажи, свинца и других того же рода и вида ядовитых и полуядовитых продуктов механических и химических процессов. Они поступают из труб промышленных предприятий и главным образом из выхлопных труб автомобилей, собираются над городами и промышленными зонами и, если нет ветра, который рассеивает их, застаиваются над ними на целые дни, недели, а часто и месяцы в виде серо-желтой пелены.
Аэрозолинки эти очень малы, микроскопичны, невидимы, но зато коварны и опасны. С одной стороны, они заслоняют солнце и ухудшают освещение Земли, а вместе с тем и зависимый от солнечного света фотосинтез; как естественное последствие этого уменьшается и количество кислорода, выделяемого растениями в процессе фотосинтеза. Это означает, что уменьшается на Земле количество энергии и живой массы, зависящей от энергии.
Другое зло пылинок, называемых аэрозолями, в том, что они притягивают к себе водяные пары и образуют капли, которые обрушиваются дождем тогда, когда ему вовсе не время быть. Поэтому над промышленными зонами и особенно над городами вместе с подъемом технической цивилизации увеличились и выпадения осадков. Примером может служить наша София, которая вся пропиталась сыростью от дождей, поливающих ее слишком часто в последние годы. (Установлено, что в местности Ла-Порт, штат Индиана, расположенной в 30 милях от сталелитейных заводов «Гери», за последние 14 лет выпало осадков на 31 % больше, чем прежде, и на 38 % больше было гроз, а облачные дни случались намного чаще по сравнению с соседними областями.) Аэрозольная завеса над Нью-Йорком, например, пропускает лишь половину солнечных лучей, получаемых областями, находящимися в непосредственном соседстве с этим городом-гигантом или скорее даже городом-чудовищем.
Аэрозолей стало настолько много, что они начинают мешать естественному движению воздушных масс в атмосфере и влияют на воздушные течения, потому что они постепенно разносятся по всей земной атмосфере и увеличивают облачность. Только от работы реактивных двигателей облачность над Атлантическим океаном увеличилась с 10 до 15 процентов.
Некоторые ученые высказывают мнение, что если аэрозоли будут продолжать накапливаться, то это может вызвать всеобщее охлаждение Земли, потому что, как отмечалось выше, они превращаются во все более плотную преграду для проникновения солнечных лучей — света и тепла — на земную поверхность, а значит, теоретически возможно и новое оледенение планеты, искусственно вызванный ледниковый период. (Последний ледниковый период наступил при снижении температуры на 7—9 градусов!) Другие же ученые, напротив, полагают, что накопление аэрозолей может вызвать потепление, и это будет такое потепление, что растают ледники и уровень воды в океанах повысится настолько, что произойдет, так сказать, новый всемирный потоп…
Если добавить к уже установленным и вероятным бедствиям, причиняемым аэрозолями, еще и тот вред, который они наносят здоровью людей, становится ясно, что это действительно серьезная и коварная для человечества напасть.
А что уж говорить об устрашающе возросших примесях окиси углерода в воздухе?!
С начала индустриальной эры содержание углекислого газа увеличилось в нем на 10 %. И это, несомненно, оказывает влияние на химическое равновесие планеты. Сколь всеобъемлюща эта опасность, говорит то обстоятельство, что даже в атмосфере южного полюса обнаружены все вредные отходы и «продукты» индустриализации. А содержание в ней углекислого газа непрерывно возрастает… И будет возрастать, потому что ежегодно в атмосферу выбрасывается шесть миллиардов тонн углекислого газа, — в десять раз больше, чем сто лет назад. Теперь углекислый газ достиг концентрации 320 единиц на миллион, тогда как в прошлом веке она составляла лишь 290. И что еще неприятнее — доля этой составной части воздуха непрерывно увеличивается, так что в конце нашего XX века содержание углекислого газа в воздухе возрастет по меньшей мере на 20 %.
Увеличивается и содержание в нем не менее опасного собрата углекислого газа — окиси углерода. Некоторые исследователи утверждают, что двадцать семь миллионов страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями в США обязаны своим болезненным состоянием прежде всего переизбытку окиси углерода. Не случайно также и Англия — одна из самых индустриальных (и самых задымленных) стран Европы — занимает первое место по заболеваниям легочными опухолями.
При таком положении вещей тревогу о состоянии воздуха вполне закономерно можно назвать тревогой «всемирной». Когда отца кибернетики — Норберта Винера — спросили, что он может сказать о тех огромных переменах, которые наступили в природной среде в результате бесцеремонного вмешательства человека, он ответил:
«На этот вопрос мы узнаем ответ скоро или вообще его не узнаем, потому что нас уже не будет».
Известно, что в Рурском промышленном бассейне из-за загрязнения воздуха и почвы самым трудным делом стало вырастить дерево. А люди там живут и растят детей (как растят — это уж другой вопрос). Угрожающее загрязнение воздуха в ФРГ заставило некоторых людей прибегнуть к довольно своеобразному способу уменьшения дыма — они используют судно с особыми печами для сожжения отходов химической промышленности. Судно выпускается в Северное море, отдаляется на солидное расстояние от берега, дожидается, когда задует благоприятный ветер (не к берегам ФРГ, а в обратном направлении — к Скандинавским странам) и приступает к сожжению отходов.
Согласно одному недавнему сообщению в печати, Швеция намеревается жаловаться на идущие к ней с территории ФРГ дымовые облака. Как развернется этот еще не вспыхнувший «дымовой» конфликт в результате новой «рационализации» западногерманцев, пока еще неизвестно, но одно можно утверждать с уверенностью: количество промышленного дыма становится невыносимым. Поэтому в декларации, недавно подготовленной Швецией в связи с загрязнением воздуха, где говорится, что «впервые в истории человечества будущая жизнь на Земле находится под страшнейшей угрозой…», нет никаких преувеличений.
ДЫХАНИЕ — ПРОБЛЕМА?
Именно так и есть! Уже не хлеб, а дыхание, особенно для городов, стало проблемой. Воздержимся пока от определения степени ее значимости — проблема номер один это или номер два — важно то, что она уже вынуждает нас искать выход.
Один из первых камней преткновения на пути ее решения — а в т о м о б и л ь. Одна-единственная автомашина расходует на пробег 900 километров столько кислорода, сколько человек за целый год жизни. Согласно статистике, автомобили в США выбрасывают ежегодно в воздух более миллиона тонн свинца, а ведь, как известно, автомобили есть не только в США. И неудивительно поэтому, что в снегах Гренландии содержание свинца с начала автомобильной эры (1870 год) до наших дней увеличилось в 500 раз.
Академик ВАСХНИЛ В. Виноградов недавно сообщил, что 100 миллионов автомобилей в США ежегодно поглощают кислорода в два раза больше того количества, которое успевает выработать американская природа.
«Став массовым явлением, автомобиль пожирает наше жизненное пространство и заражает его жестяной проказой. Современный город — этот транспортный ад — просто самоуничтожается в результате автомобильной газовой смерти, адского шума и духоты», —
пишет Ницон, один из самых ярых противников легковых автомобилей, и, надо сказать, не без оснований. Эксперты установили, что 35 процентами загрязнения атмосферы городов и почти 85 процентами содержащихся в ней окислов мы обязаны автомобилям, а окись углерода, как известно, разрушает гемоглобин в крови. Так что рычащая колымага, именуемая автомобилем, пугает нас не только тем, что может нас сбить или раздавить (это еще не самое зловредное ее свойство) и не только шумовой бомбардировкой, которая обрушивается на несчастных городских жителей, не только вонью и пожиранием кислорода, а прежде всего ядами, которые автомобиль изливает на нас, можно сказать, в неограниченных количествах.
«Но автомобиль и полезен и необходим!» — возразят нам его приверженцы. Верно, но только за чертой города. Потому что, например, в таком большом, буквально набитом машинами городе, как Париж, средняя скорость в час «пик» составляет всего лишь 6 километров в час, и легковая машина, утрачивая свое основное преимущество — скорость, становится бессмысленной, а городское движение превращается в настоящий бедлам. Между тем усовершенствованная электровозная (трамвайная и троллейбусная) сеть может превосходно справиться с проблемой внутригородского транспортного сообщения.
Шведское правительство уже приняло решение усилить требования, обязывающие автостроительные фирмы снизить выхлоп отработанных газов у машин, которые будут производиться в стране. Но это лишь полумера, которая никак не скажется на автомобильном нашествии. Выход скорее можно было бы найти в электроавтомобиле, но, хотя о нем говорят уже давно, он все еще не появился и, вероятно, не появится до тех пор, пока традиционная, работающая на бензине машина будет иметь полную свободу неограниченно размножаться и совершенствоваться.
Сейчас в мире насчитывается свыше 250 миллионов автомашин. Сколько их будет завтра — не знаю, но с уверенностью можно предсказать одно:
«Либо люди сделают так, что в воздухе станет меньше бензиновой гари, либо бензиновая гарь сделает так, что на земле станет меньше людей»
(слова эти принадлежат Луи Батэну).Разумеется, кислородная проблема связана не только с автомобилем и зависит не только от него. Недавно в одном из своих выступлений президент Академии наук Болгарии А. Балевский сказал:
«Если промышленность до конца нашего тысячелетия будет развиваться все так же, она будет поглощать за год 132 миллиона тонн кислорода, а природа за год производит его 140 миллионов тонн, или же, другими словами, весь он уйдет на нужды индустрии».
Такова перспектива двухтысячного года.
Но к двухтысячному году по прогнозам некоторых ученых уже можно будет излечивать рак (называют даже дату — 1997 г.).
К тому же двухтысячному году предполагается создать эффективные препараты для лечения диабета, можно будет полностью избавиться от болевых ощущений, пересадка человеческого сердца или замена его сердцем животного будет производиться в каждой районной поликлинике, будет вырабатываться искусственная кровь… Предвидится, что даже не в 2000-м, а в 1992 году слепые смогут видеть на расстоянии пяти метров, а глухие еще в 1991 году смогут разговаривать по телефону.
И лишь одно-единственное добавление превращает эти блестящие перспективы в бессмыслицу: если в атмосфере еще будет воздух для дыхания!
А будет ли воздух в 2000 году (и в дальнейшем) — зависит не только от исхода борьбы с автомобильным нашествием, но и от того, справится ли человек с промышленным загрязнением воздуха, идущим из заводских труб.
Вопрос — по силам ли человеку и в возможностях ли современной науки обезопасить себя от вредоносных последствий индустрии? — совершенно излишен. Человек способен, может сделать это. Если он заставил атом трепетать в своей руке, если он навесил на вирусы звонки и может командовать луноходом — какую ногу в какую секунду тот должен поднять, — для этого человека изобрести очистные установки было бы просто игрушкой. Кстати сказать, он их уже изобрел. Недавно в печати появилось сообщение, что в Харькове создана аппаратура для очистки выбрасываемых через заводские трубы вредных газов, которая уже смонтирована на заводе «Азовсталь» (город Жданов, Украина), и что эта аппаратура имеет возможность с помощью воды и нагретых до 2000 градусов воздушных вихрей «устранять из загрязненного воздушного потока самые малые частицы металлических окисей, а также и окись углерода». Более того, эта очистная аппаратура будет ежегодно приносить заводу около полутора миллионов рублей экономии.
Вот это и есть в высшей степени гуманное и в то же время замечательное техническое и научное достижение!
Когда очистной аппаратурой подобного рода будут оснащены все заводы, мы сможем ходить по городским улицам, не прикрывая рта платками и не загрязняя воду в ванне проникшей в наши поры сажей. И нас не будет приводить в ужас темный цвет того, что выходит у нас из груди, когда мы откашливаемся по утрам. Тогда и Земля наша отдохнет от таких заводов, как цементный завод в Златна Панеге, который засыпает пылью окрестные села и их поля.
Тогда нам останется мечтать об одном — о том, чтоб победить в борьбе с
ТИРАНОМ ДВАДЦАТОГО ВЕКА — ШУМОМ
Шумовая напасть обрушилась на нас не вчера и не позавчера: известно, что еще римский философ Сенека посвятил свои лучшие эссе бичеванию «невыносимого» городского шума; Шопенгауэр пользовался специальными приспособлениями, чтобы изолировать себя от гама, учиняемого на улице извозчиками; Марсель Пруст работал в звукоизолированном кабинете, а Йордан Йовков непрерывно писал записки и записочки соседям, чтобы они не так шумели…
Теперь мы посмеиваемся над этими, почти что забавными анекдотами, и это вполне правомерно, потому что современные шумовые водопады с такой силой обрушиваются на нас каждый миг и каждый час, что жалобы философов прошлого на возниц и извозчиков действительно кажутся нам смешными. Но дело это не шуточное. Вот что сказал много лет назад Роберт Кох, когда тишину в городах нарушал лишь стук колес экипажей:
«Наступит день, когда человеку придется вступить в беспощадную борьбу с шумом — злейшим врагом его здоровья, — точно так же, как в прежние времена он боролся против холеры и чумы».
А Томас Эдисон пророчествовал:
«Человек, испытывающий в городах постоянное воздействие шумов, стоит перед неизбежностью рождаться глухим».
В том же духе писал и академик П. Анохин:
«Когда сверхзвуковой транспорт войдет в наш быт, я опасаюсь, что он будет перевозить полуглухое население нашей планеты».
Пока же сверхзвуковые самолеты губят только оконные стекла: при освящении новой Академии авиации в Колорадо «загремели» стекла более двухсот окон, когда над зданием пролетали эти самолеты. Окна, конечно, — это малая беда: дело же в том, что сильные шумы тоже убивают человека, хотя и не сразу, а постепенно. Воздушные вибрации поражают, подобно взрыву, нервные клетки, разрывая молекулы, разрушая энзимы, от которых зависят важнейшие внутриклеточные процессы. Под воздействием шумовой бомбардировки, связанной также и с уменьшением внутриклеточного содержания калия, дело доходит до глухоты и до разных других, главным образом психических расстройств. Вибрирующая шумовая энергия поражает и плазму крови, уничтожая в ней аскорбиновую кислоту, что тормозит деятельность надпочечников, которые… и так далее, и тому подобное. Можно до бесконечности пополнять список связанных с шумом опасностей, на каждом шагу подстерегающих человека…
И не только человека!
Установлено, что сверхзвук умертвляет и планктон, и личинки пчел; парализует белые кровяные тельца, а хлоропласты погибают после пятиминутного воздействия на них сильным звуком.
Не случайно в одной из самых шумных стран мира — США — зарегистрировано наибольшее количество психических заболеваний, вызванных шумом (50 % всех больничных коек в психолечебницах занято здесь теми, кто подвергся психическому заболеванию из-за шума).
А вот и некоторые цифры, которые объясняют нам эту «психоэпидемию» в США: на аэродромах в Чикаго в 1967 году приземлилось и взлетело 573 506 самолетов, а в Нью-Йорке — 609 413 самолетов. Ныне число посадок и взлетов самолетов приближается там к миллиону. На практике это означает, что каждую секунду несколько самолетов с громыханием проносятся над Нью-Йорком, что шумовой ураган, вызываемый грохотом авиамоторов, вообще не утихает!
«Нельзя, чтобы культ машины погубил человека!» — говорил Фолкнер, и, вероятно, он имел в виду именно машины, производящие шум. А машины эти самые разные: начиная с электрической бритвы и тикающих часов и кончая самолетом. Все вокруг нас производит шум: лифт, вентилятор, телефон, телевизор, транзистор, миксер, кофемолка, холодильник, не говоря уж о моторах автомобилей, о бешеной трескотне стремительных мопедов и мотоциклов, об издающем звуки оборудовании парового отопления — о тысячах разного рода приборов и приспособлений, рассеивающих вокруг нас повсюду суперзвуковую энергию.
Куда бы ты не удалился — шумы настигают тебя. В какую бы ты нору не забился, туда все равно проникает высокочастотная вибрация, большей частью недоступная нашим ушам, которая стреляет по нашим клеткам, взрывает молекулы, «испаряет» калий, уничтожает гормоны, калечит энзимы, оглушает, вызывает различные заболевания, сводит с ума.
Видно, именно поэтому еще в третьем веке до нашей эры по законам Минг-Ти осужденных на смерть казнили посредством непрерывного колокольного звона.
«Преступника нельзя вешать, — гласил этот кошмарный закон, — от непрерывного звона тимпанов, флейт, колоколов он должен обезуметь, а затем умереть».
В одной из дискотек Теннесси поставили ящик с морскими свинками, вынудив их таким образом беспрерывно слышать музыку, которую слушали посетители дискотеки. Через 88 часов 25 % клеток внутреннего уха свинок были убиты… звуками рок-н-рола силой в 120 децибелов.
Я не знаю, сколько клеток, пораженных шумом, гибнет в наших ушах каждый день, каждый час, но установлен тот факт, что сильные постоянные шумы повышают кровяное давление, вызывают нарушения сердечной деятельности и пищеварения, а также, что большая часть «нервных переутомлений», на которые мы часто жалуемся, вызвана опять-таки шумом, проникающим «со взломом» в наши клетки во время работы, или прогулки, или… во время сна. Одна-единственная автомашина может разбудить в Париже 300 тысяч человек! Лишь однажды пронесясь с необходимой скоростью и неизбежным воем.
Четырнадцать миллионов англичан подвергаются в своих домах воздействию шума, громкость которого превышает 65—70 децибелов, то есть границу безопасности для восприятия шума. В ГДР — одной из «тихих» стран Европы — число людей, подвергающихся воздействию вредных шумов, доходит до 300 000… И все же это «ничто» по сравнению с одиннадцатью миллионами взрослых и тремя миллионами детей в США, которые страдают в той или иной форме от повреждения слуха. А что говорить о нарушении кровяного давления, которое в последнее время стало эпидемией, в чем повинны не только холестерин и стрессы вообще, а именно шумовые стрессы?
Американский ученый д-р Роузен, который исследовал состояние здоровья 541 человека из полудикого племени маабанков в Судане, установил, что там кровяное давление у 90-летних стариков такое же, как и у десятилетних мальчиков, и что основной причиной этого является тишина. И что особенно неприятно: болезненные последствия воздействия шума, хотя проявляются иногда и не скоро, но проявляются в с е г д а. Они могут запоздать, но никогда не дадут о себе забыть — в чем и заключается коварство этого тирана и инквизитора, ставшего уже постоянным спутником и угрозой для современного жителя нашей планеты.
Шум представляет опасность уже и для нас, болгар, как это показывают измерения, произведенные на перекрестках некоторых софийских улиц… Эти измерения говорят о том, что уровень уличного шума в Софии, главным образом из-за автомобилей, уже превышает границу безопасности и превращается в угрозу.
Особую категорию шумов составляют высокочастотные вибрации, которые наносят нам травмы, хотя мы их даже не ощущаем. Такие инфразвуки производят и обычные легковые машины, когда они движутся со скоростью ста и больше километров в час. И как раз именно эти неуловимые ухом звуки являются причиной того, что некоторые водители, сидя за рулем, ощущают порой головокружение, помутнение зрения, нарушение равновесия и то состояние, похожее на опьянение, которое не раз становилось причиной тяжелых и непоправимых катастроф…
Все более нетерпимыми становятся в последнее время и музыкальные шумовые канонады. Они все больше окружают и осаждают нас — каждый день и каждую ночь, вопреки запрету играть и петь после 22 часов. Подростки включают на балконах магнитофоны, и всю улицу в неурочное время заливают волны «механической» музыки. И ты начинаешь метаться в постели (если ты все же решился лечь спать), обматываешь себе голову словно чалмой или же затыкаешь уши воском.
До сих пор еще ни один человек не был наказан за шумовое истязание соседей. Магнитофоны продолжают греметь, и конца этому не видно, потому что новые любители громкой музыки приходят на смену прежним. Если вы думаете, что хотя бы в горах еще можно отдохнуть от навязываемых вам старых и новых шлягеров, то вы глубоко ошибаетесь, потому что в горах каждый второй экскурсант вооружен транзистором.
Как же человечеству отвести от себя эту угрозу?
Прежде всего надо, видимо, сделать наши машины менее шумными. Уже испытываются глушители шума для реактивных самолетов. Но только этим проблемы не решить, пока по городским улицам будут свободно мчаться, обгоняя друг друга, автомобили, а на балконах будут состязаться в громкости магнитофоны.
Не знаю, имели ли вы случай побывать в последние годы в Пловдиве и прогуляться по его старой главной улице, где теперь запрещен проезд автомобилей. Пройдитесь по ней, если вы не ходили, прогуляйтесь, если не прогуливались, и вы почувствуете, какое невыразимое счастье испытывает пешеход от одного лишь сознания, что он не должен на каждом шагу вздрагивать и озираться по сторонам, что они с приятелем слышат друг друга, что никто и ничто не трещит и не гремит у него над ухом…
Установлено, что после того, как одна из улиц города Манхэттэн (США) была закрыта для автомобилей, количество углекислого газа в воздухе сразу же уменьшилось на 90 %, а шум резко снизился. После запрещения моторного транспорта на некоторых улицах в центре Нью-Йорка сразу же было замечено, что люди становятся более общительными. Музеи отметили рекордное число посещений, велосипедисты стали настолько любезны, что начали извиняться, если задевали кого-нибудь из прохожих, а служба уборки улиц установила, что количество отбросов и мусора резко уменьшилось…
Короче говоря, после того как улицы «очеловечились», люди начали приходить в себя…
ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ГОРОДА
— это вообще серьезная и сложная проблема, которая занимает умы и политиков, и архитекторов, и социологов, и паркостроителей, а также и тесно связанных с городом и городской жизнью рядовых горожан.
Согласно мнению многих авторитетных урбанистов, один из способов «очеловечить» город, как я уже говорил, это устранить из него легковые машины и мотоциклы (разумеется, после того, как будет усовершенствован общественный транспорт).
Следующей — если не на первом, то во всяком случае на втором месте — должна быть решена проблема снабжения промышленных предприятий очистными сооружениями, которые приостановили бы возрастающее загрязнение воздуха аэрозолями и ядовитыми веществами.
Усиленно обсуждается вопрос об отдалении промышленных предприятий от жилых районов города, о создании особых «индустриальных зон». В центре внимания специалистов — проблема облика будущего города. Большинство урбанистов придерживается мнения, что чрезмерно высокие кубические здания, симметричные структуры, прямые улицы, уныло серые бетонные поверхности и стальные конструкции угнетающе действуют на человека, поэтому среди архитекторов все более уверенно пробивает себе дорогу идея преодоления скучного, угнетающего линейного «совершенства».
В архитектуре уже есть направление, которое ратует за новый — «несовершенный» — город, исходя из предпосылки, что «идеально выполненные архитектурные объекты не отвечают эмоциональным потребностям человека», что человеку, как правило, больше нравится удивительное, необычное, непредвиденное, случайное или якобы случайное, вообще «хаос», откуда могут явиться желанные сюрпризы. (Вспомним, какое воздействие оказывает цивилизованная и хаотичная природа.)
Во имя этого планируемого «хаоса» некоторые архитекторы предусматривают наряду с прямыми также и кривые улочки, наряду с высокими зданиями и низкие, неожиданные по форме — угловатые или округлые — и создают таким образом «хаотические» селения, наподобие рыбацких поселков и средиземноморских городков, которые они сознательно берут за образец и воспроизводят.
Будущее покажет, в какой степени это «хаотичное» и вместе с тем более дорогое строительство сумеет превозмочь деспотический экономический фактор, всесилие которого испытала на себе уже не одна архитектурная идея, но то, что город подлежит «реформированию», — в этом никто уже не сомневается.
«Если мы не примем меры (предупреждает французский архитектор Поль Маймон), наша западная цивилизация погибнет не от внешних войн, а от удушья и паралича в городах, в которых скоро сосредоточится 90 % населения».
Для наших социалистических стран, где город пока еще не выродился в такой степени, как на Западе и в Америке, это предсказание звучит слишком сильно, но проблема «город» в той или иной степени стала и для нас не только «зарубежной», но и нашей, близкой нам проблемой.
Решению этой проблемы, по крайней мере в Софии, где нежелательные последствия урбанизации проявились в наибольшей степени, может очень способствовать наш старый испытанный друг — дерево. Не говоря уж о том, что зелень дает возможность отдохнуть глазу, уставшему от каменного однообразия города, что деревья подобно пылесосу вбирают в себя уличную пыль и очищают воздух, они обладают еще и свойством значительно «гасить» городской шум и тем самым также способствуют очеловечиванию города.
Однако в Софии мы еще не относимся должным образом ни к деревьям, ни к паркам. Мы вырубили деревья, оголив более трети Парка Свободы, чтобы построить на их месте здания, стадионы, спортивные площадки. Мы продолжаем их строить — и, естественно, продолжаем вырубать деревья.
Перед Агрономическим факультетом был прекрасный сквер, но и его тоже отдали под застройку, хотя возведенные тут здания могли быть с равным успехом сооружены по крайней мере еще в десяти других местах Софии и чудесные старые деревья на зеленой лужайке не были бы погублены… В проектах застройки новых районов города были предусмотрены парки, но отведенные для них площади тоже были пущены под строительство. В итоге будущие зеленые острова исчезли, даже не родившись. И никто так и не понял — почему, как?..
Одни задумывались над тем, что произошло, другие допытывались, как это могло произойти, третьи вздыхали — этим все и кончилось. Хотя, в сущности, не кончилось, потому что недавно по радио состоялся новый разговор о Парке Свободы в связи с предложениями о его реконструкции. И представьте себе — один из проектов предусматривает превратить нынешнюю западную (наиболее цивилизованную) половину парка во что-то вроде большой спортивной площадки Софии, где будут построены новые стадионы и прочие спортивные сооружения.
В этом проекте (если он действительно существует) есть много такого, что удивляет и даже изумляет: изумляет, например, то, что тогда как во всем мире спортивные стадионы и площадки выносят за пределы города, мы собираемся устраивать их в самом центре… И не принимаем в расчет ни возгласов спортивных болельщиков, которые во время матчей сотрясают соседние жилые кварталы, ни транспортные помехи и заторы, когда улицы вокруг стадионов закрываются и движение в городе путается и нарушается. Хотя в данном случае это еще не самая большая беда. Гораздо бо́льшая беда заключается в том, что, удовлетворяя примерно 40 000 активных любителей спорта, мы намереваемся отнять единственное место отдыха и возможности освежиться у тех 300 000 молодых и пожилых софийцев, которые живут в центре города… Но даже и это не самое важное — куда важнее то, что в результате «реконструкции», означающей вырубку большого количества деревьев, плотную застройку и мощение камнем, Парк Свободы утратит свое благотворное свойство очищать и освежать воздух Софии, и это в то время, когда чистота воздуха в нашей столице становится проблемой номер одни… А шумовые водопады, которые обрушиваются на нас с каждым днем все больше и больше? Где им разбиваться, если не в зеленых кронах деревьев? Где нам найти поблизости хоть минутное убежище от шумового бедствия, если парк будет предоставлен велосипедистам и футболистам? Куда денутся сотни колясок с грудными младенцами, которые ежедневно проводят там по несколько часов в тишине и на свежем воздухе?
Чем закончится дискуссия относительно Парка Свободы — не знаю, но одно в этой дискуссии привело меня в отчаянье — это высказывание некоего профессора — и не вообще профессора, а лесовода. На вопрос, что он думает о подобной реконструкции парка, он ответил: «А почему бы и нет?» А когда репортер спросил его, не пострадает ли парк от вырубки новых деревьев, он ответил, что парк нуждается в вырубке, что топор бывает и «золотым» и восславил топор именно в связи с реконструкцией Парка Свободы.
В лесоводстве топор может быть действительно «золотым», если он находится в руках настоящего лесовода, который знает, что и зачем он вырубает, но парк — это не лесопромышленный участок, где деревья определенного возраста подлежат вырубке. Одна из красот Парка Свободы — это старые и престарелые, именно престарелые и даже одряхлевшие деревья, благодаря которым возникает ощущение его девственности, романтическая атмосфера. Вот почему эти деревья, как правило, не вырубаются. А если эти деревья не должны вырубаться, тогда какие же? Молодые? Для молодых, разумеется, топор иногда бывает неизбежен, но чтобы ученый лесовод назвал как раз этот разбойничий топор «золотым», да еще в момент, когда речь идет о том — «быть или не быть Парку Свободы» — это, по меньшей мере, мягко выражаясь, недоразумение.
Как бы то ни было… Придет время (1992 год), когда и слепые прозреют… Будем надеяться, что тогда наши возможности видеть увеличатся настолько, что некоторые люди осознают наконец роль деревьев — этих источников кислорода, — в очеловечении «чудовища» города.
Уж такой-сякой он, этот город, но мы — свидетели того, как все живое устремляется, спешит к нему. Кстати, одна из причин этого — то, что в нашей стране города все еще не дошли до такого состояния, в каком оказались, скажем, Париж, Мадрид или даже Дамаск. И машин в Софии до недавнего времени (1960 г.) было всего лишь 21 тысяча и их присутствие было едва заметно. И трубы «Кремиковцев»[18] еще не работали тогда на полную мощность. Что уж говорить тогда о городах поменьше и городках куда более «девственных», чем наша столица? Поэтому, наверное, люди, которые переселялись в город, не думали ни о городском воздухе, ни о городском шуме, и получилось так, что если два с половиной десятилетия назад 80 % болгар были крестьянами, то теперь на селе живет уже менее 50 % населения. Сельская Болгария стала на наших глазах Болгарией городской. Между прочим, это должно было произойти вполне закономерно, потому что для бурно развивающейся промышленности и строительства необходимы были рабочие, а они не могли упасть с неба. Селу это тоже пришлось кстати, потому что механизация сельского хозяйства высвободила там большую часть людей. Итак,
ПОЛНОВОДНАЯ РЕКА, НАЗЫВАЕМАЯ МИГРАЦИЕЙ,
потекла из села в город…
И продолжает течь в равной степени и из горных и из равнинных сел — молодые люди задерживаются там лишь в порядке исключения. Не стоит далеко ходить за примерами: в моем родном селе Яврово, в Родопах, 25 лет назад было 1242 жителя, которые обрабатывали 242 гектара земли, стригли шерсть с 6060 овец и 1084 коз, доили 300 коров. Теперь же там живет всего 241 человек, обрабатывают они 26,4 гектара земли; овец у них 200, коров — одна! А на окрестных полях и лугах могли бы пастись по меньшей мере десять тысяч овец и 500 коров! Трава там по колено! Она просто плачет по косьбе и выпасу…
Так же примерно обстоит дело и в других горных селах. Остаются на насиженных местах главным образом там, где создана какая-нибудь промышленность (как в Смолянском округе). Но вот недавно читал я в статье о развитии сел в Родопах, что в Кырджалийском округе из общего числа 588 населенных пунктов «перспективными» объявлены 167, а остальные причислены к категории «населенных пунктов с изменяющимся предназначением», или же, если называть вещи своими именами, это селения, которые к 1990 году должны влиться в другие, более крупные, перспективные.
В Смолянском округе из общего числе 278 населенных пунктов перспективными объявлены только 98… А ведь почти во всех родопских селах и выселках — новые добротные дома; они большей частью электрифицированы, обеспечены современным водоснабжением и развиваются в экономическом отношении, по мнению автора статьи, хорошо. Да и рождаемость в них на 50 % выше, чем рождаемость в крупных населенных пунктах, а жители их вовсе в не проявляют желания переселяться.
Тогда зачем же понадобилось причислять их к категории «с изменяющимся предназначением», то есть дожидаться их сселения, если не способствовать ему? Для того чтобы улучшить их торговое, коммунальное и культурное обслуживание (читаем в статье). Как будто нет в каждом таком селе магазина, хлебопекарни, кино и телевизоров, клуба и книг!
В той или иной степени мы стараемся и этих крестьян сделать горожанами, а это означает — и их оторвать от земли, которую они сейчас обрабатывают, от табака и картофеля, которые они возделывают, от овец, которых они до сих пор стригут и доят, от леса, где они работают как лесорубы и возчики… Потому что известно: пока еще ни один переселенец не возвращался из города, чтобы снова выращивать картофель или пасти овец на селе.
Это экономическая сторона вопроса, но есть еще и другая — биологическая, и она, в сущности, окажется в будущем не менее вантой, чем экономическая. Что я имею в виду? То, что в городе — это ни для кого не является тайной — в условиях повышенного нервного напряжения каждое новое поколение «изнашивается» все быстрее, и тогда возникает необходимость освежить городскую кровь. Эта, столь необходимая и желанная, здоровая кровь течет в жилах прежде всего у жителей гор — этого стратегического резерва, где мы можем черпать, когда и сколько нам нужно для поддержания биологической устойчивости нации, природной жизнестойкости, которая в долгой гонке по пути человеческого прогресса понадобится нам не раз. Давайте-ка вспомним: больше всего долгожителей среди населения Украины встречается в ее сельских районах. Наибольшее число столетних в СССР имеется в горных областях Кавказа и Азербайджана. Больше всего столетних в Болгарии — в Родопах и вообще в горных районах. Долголетие, как правило, связано с горами, с горным воздухом и горной природой.
Урбанизация и связанная с нею миграция населения — в разумных границах — были неизбежны и необходимы. Но мы уже почти на самой границе, где следует остановиться, оглядеться, хорошо подсчитать, какие села и в каком направлении будут изменяться, подумать о том, надо ли подталкивать миграцию дальше вперед или же пора ее задержать. Пока еще есть кого задерживать.
Урбанизация, помимо экономической и биологической, имеет еще одну, главным образом, психологическую, даже чисто психологическую сторону, которая связана с соотношением: «человек — машина» или, точнее, с избавлением человека от физического труда благодаря машине.
Избавление человека от тяжелого, именно тяжелого, физического труда — это, конечно, достижение прогресса и цивилизации. Благодаря тому, что человеку стала служить машина, у него остается больше времени, когда он может принадлежать самому себе, отдыхать и совершенствоваться. Значит ли это, что, полностью освободившись от физического труда, человек будет счастлив, если он будет тратить себя на одни лишь туристические прогулки, гимнастику, посещение матчей, сидение у телевизора? Скажу прямо: не верю я в то, что полное освобождение человека от физического труда может стать нашим идеалом, что гимнастические упражнения смогут возместить ему отсутствие физического труда и что нормальный человек сможет обойтись без творческой, ничем не заменимой радости, доставляемой ему тем, что он создал своими собственными руками. Труд не проходит для человека просто так, муки труда облагораживают его в самом широком смысле этого слова, и прежде всего тем, что они дают ему самосознание творца. Сам процесс изготовления чего-то, созидания чего-то — это высшее удовольствие для человека, особенно, когда у него есть склонность к определенному виду творчества.
Каждое изделие рук человеческих доставляет этим рукам, вернее — сердцу человека, истинное наслаждение, озаряет радостью его душу. Человек чувствует себя значительным, нужным, полезным, только когда он что-то создает. Удовлетворяя творческий импульс, который являет собой благородную, неудержимую порой потребность человека, труд уравновешивает, обогащает человека, созидает его, делает его действительно человеком. Не только умственный труд, а именно физический. Да ведь труд и превратил обезьяну в человека!
Если не удовлетворен творческий импульс — один из самых могущественных импульсов, — в душе человека остается не заполненная ничем полость. Остается пустота, и эта пустота нарушает естественное внутреннее равновесие, приводит к комплексам… Комплексы — это те клинья и клинышки, которые человек забивает в самого себя, чтобы укрепить нарушенное каким бы то ни было образом внутреннее равновесие. Комплексы — это душевная недостаточность, а иногда и душевное страдание!
Верно, люди и сейчас трудятся — но больше умственно, а они испытывают потребность, естественную потребность в ручном труде! Работать руками — это же одновременно и умственный труд. Человек эволюционировал — в этом нет никакого сомнения — благодаря труду, и это не случайно. Во всяком, даже самом простом движении во время физического труда участвует едва ли не вся мускульная и нервная система, совершенствуется не только психомоторная часть организма, но и ум, и куда более неуловимые его душевные элементы — человеческая нравственность, человеческий характер. Поэтому в физическом труде — речь идет не о тяжелом, монотонном и разрушительном для здоровья физическом труде, а об умеренном, творческом, здоровом — есть нечто с воспитательной точки зрения н е з а м е н и м о е.
Какие адекватные ценности мы будем искать, чтобы уравновесить недостаток физического труда, — будем ли обращаться к надлежащим образом поставленному трудовому воспитанию или же предоставим широкие возможности человеческому пристрастию «рыться» в земле, — не знаю. В одном, однако, я уверен, глядя на то, как наша молодежь бежит от физического труда, как бурно разгораются у нее потребительские склонности за счет склонностей духовных, творческих (назовем это «плотоугодием»), — я уверен в том, что человеческая природа стоит перед новым, серьезным испытанием…
Я упомянул о потребительских склонностях, и мне захотелось сказать
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТАК НАЗЫВАЕМОМ «ПЛОТОУГОДИИ»
Каждый человек испытывает потребность в удовольствиях. Для одного удовольствием будет, придя домой после работы, прилечь на диван и почитать. Для другого — завернуть после работы в питейное заведение, тяпнуть рюмку, а то и больше, ракии и прийти к себе домой навеселе… Для третьего удовольствием будет поиграть в карты; для четвертого — нажраться без меры; для пятого — послушать хорошую музыку; шестой предпочтет хорошую прогулку перед закатом и т. д. и т. п. Каждый, как говорится, в соответствии со своими склонностями, вкусами и способностями…
Несомненно одно — то, что духовно развитый человек, который может испытывать высшие эстетические наслаждения, реже злоупотребляет грубо-чувственными удовольствиями. Глубокие корни того, что мы, не слишком в это вдумываясь, определяем как мещанство, кроются, в сущности, в ограниченных возможностях испытать духовные радости. В этих случаях и разгорается инстинктивное стремление к чувственным удовольствиям и материальным «пиршествам» (запасаться, иметь, копить и радоваться, любоваться накопленным). Я отнюдь не проповедую аскетизм; чувственные удовольствия — и естественны, и необходимы, и желанны, и таят в себе незаменимые прелести при условии, что ими не злоупотребляют, что они не превращаются в фокус существования, в самоцель и смысл жизни… Не призываю я и плевать на вещи, которые нам служат, но ведь не мы же должны служить им, а они нам… Я не говорю, что молодежи не надо пить коньяк, но когда это становится стилем жизни, повседневностью — кофе, коньяк, праздность, пустословие, — этот вид «плотоугодия» мне не нравится (и не знаю, кому он может понравиться, кроме тех, кто его проповедует и практикует).
Плотоугодие присуще не только молодежи, но и взрослым и более всего преуспевшим взрослым, которые, под напором завоеванного или нажитого изобилия, в духовном отношении заплывают жиром, грубеют, омещаниваются и предаются безудержному потребительству…
Жизнь предлагает людям много сокровищ — среди них есть предметные (видимые), вещественные, и духовные, невидимые, которые в отличие от вещественных не «токсичны» и злоупотребление ими невозможно. Как правило, гораздо большие шансы испытать счастье (при прочих равных условиях) имеет духовно развитый, эстетически развитый человек. В этом и заключается смысл эстетического воспитания, которому мы в последнее время придаем такое значение, хотя его не съешь и не выпьешь.
Смысл эстетического воспитания состоит в том, чтобы вырастить людей с эстетическим вкусом, которые могли бы и радоваться красоте, и сами ее создавать. Однако эстетическое воспитание не может осуществляться, скажем, лишь путем изучения эстетики. Оно требует, чтобы мы с малых лет развивали у детей воображение, вкус, впечатлительность, требует также и всесторонней гуманитарной подготовки… Не может ребенок, учившийся лишь тому, чтобы стать, например, кузнецом, прочитав учебник по эстетике, приобрести эстетическое образование. Нельзя, вбив в технический чурбан один эстетический гвоздь, считать, что дело сделано. Способность ценить красоту, создавать красоту и наслаждаться красотой требует всестороннего развития личности, и в этом смысле все упирается в общее образование.
И тут возникает вопрос: сможет ли техническое направление, которое мы придали образованию, привести нас прямо и быстро к желаемой цели?
Безусловно наше желание идти в ногу с мировым техническим прогрессом нельзя не иметь в виду, когда строится система народного образования. Но вполне закономерен также и вопрос: соблюдаем ли мы тут чувство меры? Не слишком ли мы ужимаем гуманитарные предметы — рисование, пение, историю, литературу, которые более всего остального развивают и обогащают чувствительность человеческой натуры, в пользу технических наук или, вернее, в пользу балласта в этих науках?
Не чрезмерно ли перевешивают в нашей образовательной системе производственные, «рациональные» соображения? Взять хотя бы экзаменационные работы по болгарскому языку и литературе абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения. Уверяю вас, тут будет над чем задуматься…
Цель нашего общественного строя — сделать человека счастливым, а счастье заключается не только в материальном производстве — конечной цели технического прогресса. Жизнь доказывает и доказала уже многократно, что понятия изобилия и счастья, богатства и счастья не всегда совпадают. Отнюдь не все владельцы машин «Пежо» счастливее владельцев «Запорожца». Прошлой осенью парижские газеты сообщили, что покончила жизнь самоубийством молодая супруга одного из самых богатых людей на свете — Нэарха. Фантастическое богатство мужа, значит, не сделало ее счастливой.
Если не ошибаюсь, больше всего в мире самоубийств происходит сейчас в Швеции — стране с самым высоким (как утверждают) жизненным уровнем, а ведь известно, что самоубийства являются барометром. И вот этот барометр говорит, что шведы — не самые счастливые люди на свете, хотя у них больше всего электрических приборов на душу населения, и они потребляют наибольшее количество масла…
Если бы счастье действительно так сильно зависело от техники, от вещей и продуктов, которые она производит, тогда десятикратное развитие техники (и производства) в последние годы уже сделало бы людей в десять раз счастливее, — но каждый понимает, что утверждать это смешно. Вероятнее, пожалуй, обратное: перенапряжение, связанное с бурным развитием техники и с ухудшением «окружающей среды», приводит к нервному истощению, а ведь именно нервы — главный инструмент для переживания человеческих радостей и удовольствий, для ощущения человеческого счастья… Если нервы у тебя не в порядке — на что ты годен? Гроша ломаного не стоят тогда ни капиталы Нэарха, ни богатство Онасиса или Креза… Не случайно существует сказка про царя, который никак не мог почувствовать себя счастливым и в конце концов позвал одного мудреца. Тот сказал ему, что он может стать счастливым, если наденет рубаху человека, который всем доволен. Царь послал своих телохранителей отыскать такого человека, однако они, обойдя все царство, так и не нашли никого, кто был бы полностью доволен жизнью, и отправились обратно. В лесу их застигла темнота, затем хлынул дождь. Деваться им было некуда, и они нашли себе убежище в хижине какого-то пастуха. Там они обсушились, поели что бог послал, отдохнули и остались очень довольны, а потом перед уходом признались пастуху, что они царедворцы, и спросили его, что бы ему хотелось получить от них в подарок.
— Ничего мне не надо, — ответил им пастух. — Вы же видите, что у меня все есть.
Поняв, что перед ними тот самый человек, которого они искали, царедворцы кинулись раздевать пастуха, чтобы взять его рубаху и отнести ее своему несчастному царю, но когда они сняли с него зипун, то к своему большому огорчению обнаружили, что рубахи-то у бедняка пастуха вовсе и не было…
Я отнюдь не намерен заниматься апологией бедности, но если верно то, что она препятствует развитию человека, так же верно и то, что неконтролируемое человеческим духом самоцельное изобилие или, точнее, стремление к излишествам может привести к еще более плачевным последствиям. (Всякие чрезмерности и крайности вообще вредны. Даже «Отче наш», если слишком часто его повторять, будет во вред.)
Дело в том, что не от рубашки или рубашек, не только от того, есть ли у тебя какие-то вещи или их нет, зависит твое счастье. Счастье человека зарождается где-то у него в голове и осуществляется в конечном счете Большой химией в его нервах… Были бы крепкие нервы — а повод для счастья я найду, хотя и не буду ни подхлестывать себя алкоголем, ни травить себя наркотиками; не буду и перегружать свой гардероб галстуками, а холодильник — деликатесами. Человеку с здоровыми нервами сухой ломоть хлеба (как это показала практика) может быть слаще меда. Человека с хорошими нервами уже само только ощущение, что он живет на белом свете, может сделать счастливым. Наполеон сказал: «Деньги, деньги и еще раз деньги». А я бы сказал: «Нервы, нервы и еще раз нервы»…
Потому-то нервы требуют заботливого к себе отношения. Каждый, кто захочет, может за год-два с помощью наркотиков или алкоголя разделаться со своей нервной системой, довести ее, как говорится, «до ручки». Вопрос в «тактике». Если я перебарщиваю с грубочувственными наслаждениями, то не могу рассчитывать на светлое будущее, потому что эти сами по себе великолепные источники удовольствия при злоупотреблении ими преждевременно истощают нас и разрушают.
Мы уже говорили и повторим еще раз (это заслуживает повторения на каждой странице!): значительно больше шансов быть счастливыми имеют те, кто может испытывать духовные, эстетические и творческие наслаждения, потому что они не только самые сильнодействующие, но самые безопасные и «здоровые».
Я знаю, что общественные взаимосвязи очень важны, порой не менее важны, чем нервы; знаю, что социальный механизм также имеет исключительное значение — от него зависит, будут ли нервы иметь физическую возможность воспринимать жизнь. Все это я знаю, но в данном случае не ставлю себе целью исчерпать тему «счастье», а хочу обратить внимание лишь на некоторые частные, но все же весьма существенные обстоятельства, которые касаются здоровья, сохранности человеческой природы, а вместо с тем и «природы» человеческого счастья…
Здоровье человеческой натуры — это прежде всего здоровье нервной системы. Когда мы ее портим, разрушаем, — все равно под какими лозунгами и с какой — близкой или отдаленной целью — мы идем против самих себя. Отравляем ли мы ее углекислым газом, свинцом или ртутью, взрываем ли ее шумом или химикатами; перенапрягаем ли ее, — все равно, с добрыми или худыми намерениями, — мы — так или иначе — разрушаем наш единственный инструмент удовольствия и счастья…
Как верно то, что с испорченными нервами невозможно полноценно испытывать радости жизни, так же верно и то, что одни только здоровые нервы не помогут получить от жизни много радостей, если ждать, что радость падет сверху, как манна небесная, а самому ничего для этого не делать, не находить применения своим способностям. Нормальный человек рожден для действия, приспособлен для действия, предназначен для действия, и бездействие его губит. По-настоящему развитый, богатый человеческий дух ни в коем случае не может быть только созерцательным; он по природе своей производителей и деятелей в самом широком смысле этого слова. Противоестественно для силы, даже духовной (и духовная сила имеет свои материальные предпосылки), сидеть смирно и ни во что не вмешиваться. В каждую силу, как ее неотъемлемая составная часть, входит инстинкт проявления, действия, так называемый «творческий инстинкт», который тем активнее, чем выше духовная структура человека. Вот почему мы можем быть вполне уверены, что культивируемая у людей посредством образования высшая энергия рано или поздно превратится в творческую, то есть производительную как в предметном, так и в более широком смысле этого слова…
Вообще техническая цивилизация едва ли сможет осуществить мечты людей о большей радости и счастье, если наряду с техникой, одновременно с нею, не будет развиваться и человек — духовно богатый, деятельный, способный испытывать творческое и духовное (эстетическое) наслаждение человек.
Техника может быть ценной или не особенно ценной, вредной или безвредной лишь в сопоставлении с человеком, со своими возможностями сделать его более счастливым или же несчастным… Если она делает его более зависимым, более ограниченным, огрубляет его, тиранит, угнетает — то это уже не техника, а лжетехника. Не прогресс, а псевдопрогресс. Не цивилизация, а видимость цивилизации. Потому что подлинная цивилизация — это цивилизация человеческого духа. Все прочее, как говорится, — от лукавого. Прочее — это вроде бы высокий стандарт и одновременно с этим — самоубийства. Вроде бы изобилие, а одновременно с этим — насилие, преступления, наркотики и алкоголь. Вроде бы блеск и треск, а за ними — серость и душевная пустота…
Если ты не способен на эстетические переживания и высшие духовные радости — не находишь удовольствия и смысла в своей работе, не волнует тебя природа, не затрагивает тебя искусство — тебе не остается ничего другого, кроме как драить свою легковую машину и ждать, когда подойдет пора уходить на пенсию, чтобы тогда на свободе вдоволь наиграться в нарды и в карты. Такова альтернатива.
Вероятно, то, что я наговорил на эту деликатную и спорную тему о человеческом счастье, бесконечно уязвимо. Но одно мне кажется бесспорным: то, что отдаляясь от своей и от окружающей его природы в погоне за новыми, более сильными ощущениями и бо́льшими радостями, человек не получает того, к чему он стремится, и он должен наладить свои нарушившиеся отношения с Природой, если больше не хочет подвергать риску свое биологическое и духовное здоровье. Эта первостепенная для человека проблема теснейшим образом связана с природной средой, точнее с охраной этой среды, а связи эти так многочисленны и порой так неожиданно сложны, важны и даже фатальны, что становится досадно: неужели мы, люди, настолько зависимы от тех или иных внешних факторов? Таков, например, случай с
ВОЗВЫШЕНИЕМ И ПАДЕНИЕМ ДДТ
Два с половиной десятилетия мы истребляем клопов, и не только их, порошком ДДТ. С его помощью мы расправляемся с разными вредителями сельского хозяйства и не нарадуемся этому как будто невинному белому порошку, не подозревая, что вместе с полезным делом, которое выполняло для нас это средство, оно незаметно наносило нам самим удар в спину.
Сам изобретатель этого «волшебного» для своего времени порошка — швейцарский химик доктор Пауль Мюллер — утверждал, что ДДТ совершенно безвреден для человека, тогда как для мух, комаров, вшей, блох и клопов он смертелен, даже когда в воздухе лишь ощущается его запах.
И тогда мы начали щедро посыпать все и вся этим кротким, симпатичным порошковым препаратом, который освобождал нас от тирании самых неприятных и вредных насекомых. Мы сыпали его под кроватями, под подушками, сыпали на полях и в садах, под столами и под окнами. Сыпали с удовольствием и радовались, как дети, его чудодейственным свойствам… Так препарат этот заполонил весь мир, или, лучше сказать, завладел всем миром, куда быстрее и с более громкой славой, чем Александр Македонский. И продолжалось так до поры до времени, когда вдруг люди стали замечать, что вокруг происходит что-то необычное. Начали гибнуть птицы, а также рыбы в реках, озерах, морях. Однажды озеро Мичиган все побелело от брюшек всплывшей на поверхность мертвой молоди семги — около полутора миллионов рыбин. В Европе как-то вдруг исчезли хищные птицы…
Принялись доискиваться причин этого явления и обнаружили их в ДДТ. Стало ясно, что этот чудесный химикат отнюдь не безобиден, а напротив — он достаточно сильный яд не только для вредных насекомых. Британские ученые обнаружили этот яд в яблоках и картофеле, американские — в табаке, а также в 75 % птиц и млекопитающих в самых разных уголках света, даже у пингвинов в Антарктиде. Количество ДДТ, которое шведские ученые обнаружили в рыбе, выловленной в Балтийском море, оказалось просто угрожающим для любителей рыбных блюд. Коллеги этих ученых установили присутствие ДДТ в материнском молоке молодых шведок, причем в концентрации, которая на 70 % превышала безопасную для человека дозу. Оказалось, что даже тюлени, выловленные подо льдом Антарктиды, содержат в своем жире ДДТ. Более того, вместе с водой, рыбой, зеленью и молоком, сыром и плодами ДДТ незаметно проник и накопился в человеческом организме: у жителей Израиля была обнаружена самая высокая концентрация ДДТ — 19,2 ppm[19], столько же обнаружилось затем и у американцев, тогда как счастливые западногерманские жители могут похвастать количеством всего в 2,2 ppm.
Исследования доказали, что попавший в человеческий организм ДДТ нарушает происходящие в нем окислительные процессы, задевает нервную систему, приводит к вырождению некоторых клеток, поражает память, нарушает мозговую деятельность в целом, а накапливаясь в больших количествах, воздействует и на гены, вызывая так называемые мутации, которые включаются в наследственную программу и передаются потомству.
На обычном языке это называется «в ы р о ж д е н и е».
Люди вынуждены были всерьез задуматься над этой страшной опасностью. Академик Виноградов недавно сообщил, что из полутора миллионов тонн ДДТ, рассыпанного по всей планете, две трети по сей день продолжают представлять угрозу для «всех организмов». В Швеции употребление ДДТ запрещено законом, в ФРГ рекомендуется ограничить его употребление, но в других местах нашей планеты ДДТ продолжают применять по-прежнему, и таким образом количество его в человеческих организмах продолжает нарастать… и у тех, кто продолжает пользоваться этим препаратом, и у тех, кто уже отказался от него, потому что нет таких барьеров, которые могли бы остановить проникновение этого яда на обеденный стол человечества.
Но во имя чего мы подвергаем себя такому риску? Оправдались ли надежды, которые возлагались на ДДТ? Сыграл ли этот ядохимикат свою роль в истреблении вредоносных насекомых?
В том-то и дело, что нет. Вот один из множества примеров для иллюстрации: в 1956 году лесохозяйственная служба в США опылила 350 тысяч гектаров хвойных лесов, чтобы уничтожить елового почкоеда, но уже летом следующего года опыленные ДДТ еловые леса подверглись новой, еще большей опасности — на них напала в фантастических количествах сосущая тля и буквально начисто уничтожила хвою елей и пихт… Оказалось, что ДДТ вместе с еловым почкоедом уничтожил врагов тли — божьих коровок и других хищных насекомых, — создав тем самым условия для бурного размножения этих вредителей.
Бывает же так: метил в ворону, а попал в корову. В созданном природой равновесии божья коровка занимала такое ключевое место в экологической цепи, что наступил момент, когда судьба еловых лесов оказалась в полной зависимости от этой ничтожной букашки…
Нечто подобное произошло в Конго и в Уганде. Там из-за опрыскивания ДДТ был уничтожен тот вид клопа, который питался клопами, паразитирующими на листьях кофейного дерева, и как последствие этого более устойчивый перед действием ДДТ клоп, питающийся соком растения, размножился в таких размерах, что превратился в настоящее бедствие для кофейных плантаций.
И тут, как говорится, метили в ворону, а попали в корову.
Да разве и у нас в Болгарии не произошло почти то же самое при борьбе с непарным шелкопрядом в дубовых лесах? Мы сбросили на них с самолетов тонны ДДТ и вызвали таким образом массовую гибель полезных птиц, которые питаются гусеницами непарного шелкопряда. А также и хищных птиц, которые питаются полезными… Непарный же шелкопряд нашел какую-то щелку, уцелел и теперь, когда ему вздумается, снова размножается и снова угрожает нашим дубравам своим нашествием, даже еще сильнее, чем прежде, потому что синицы и поползни, которые обычно справлялись с этими гусеницами, не успели в те же сроки размножиться настолько, чтобы восстановить свое прежнее количество.
Нам пришлось прибегать к все новым и новым бомбардировкам ДДТ, а тем временем в наше столкновение с вредителями вмешалась сама Природа, которая произвела устойчивые к ДДТ «племена» (популяции) блох, клопов, комаров, клещей и т. п. с иммунитетом к этому виду ядов (иммунитет их создается особыми энзимами, которые разрушают яд). Оказалось, что Природа из десяти, скажем, тысяч комаров наделяет иммунитетом двух. Эти два уцелевших после опрыскивания ДДТ комара размножаются и дают начало целым популяциям, устойчивым к ДДТ. Так же обстоит дело почти со всеми насекомыми, да и с клещами тоже. И не только с насекомыми, а и с микроорганизмами, как мы уже в этом убедились на примере применения антибиотиков.
И получилось так, что мы опрыскиваем клопа ДДТ, а он ползает себе как ни в чем не бывало по стене и даже предпочитает ползать там, где опрыскивали (наподобие микробов, которые прежде погибали от пенициллина, а теперь некоторые из них даже питаются им). На картофельные поля возле моего родного села высыпаны с целью уничтожения колорадского жука огромные количества ДДТ, но, несмотря на это, можно и сегодня увидеть, как этот нахальный диверсант с прежней неколебимой самоуверенностью разгуливает по нашим картофельным полям…
Всего лишь через три года после первого опрыскивания ДДТ в Греции были уже «произведены» устойчивые к ядам популяции комаров. В 1945 году только 12 видов насекомых проявили иммунитет к ядохимикатам, но уже в 1960 году количество их возросло до 137, в том числе были малярийные комары, некоторые виды мух, а также вшей и клещей. Дело дошло до того, что специалисты из Всемирной федерации защиты растений объявили, что нет никакого смысла спорить о пользе и вреде ДДТ, потому что этот препарат теперь уже безвреден для большей части вредителей растений.
Так наступил закат прославленного ДДТ, и он вынужден был сойти с арены, уступив свое место другим, новейшим ядохимикатам… И вот начался долгий ряд наших встреч с
МНОГОЛИКИМ БОГОМ ХИМИИ
Речь идет о многочисленных, можно сказать прямо-таки бесчисленных, химических препаратах, которые сменили посрамленный ДДТ, — всякие инсектициды (против насекомых), фунгициды (против грибков), гербициды (против сорняков) и так далее. Говорю «и так далее», потому что только в США и только в 1958 году были выданы патенты на 58 831 химический препарат (пестициды).
Международный рынок буквально наводнен химическими препаратами для борьбы с вредителями растений, которые согласно их паспортным данным не представляют опасности для человека. Я не берусь перечислять здесь названия химикалиев, употребляемых одним только земледельческим кооперативным хозяйством в моем маленьком родопском селе, — все эти «гексахлораны», «деделины», «эспоры», «манебы», «фербаны», «линданы», «экатаны», «тиофениты», «димикроны», «Бл-58», «фофатоксы», «Агрии-1050», «Агрии-1060», «фекаматрибофоны», «вотекситы» и так далее. (Я даже не уверен, что вышеупомянутые химикаты действительно называются именно так. Я лишь передаю, как они звучат в устах моих односельчан.)
Одни из них оказались не столь стойкими и опасными для человека, как ДДТ, другие — еще того менее, а относительно третьих утверждают, что они просто безвредны. Но все равно — они обладают одним общим качеством: убивать наряду с вредителями-«вегетарианцами», которые паразитируют на сельскохозяйственных растениях, и их врагов — хищников, которые питаются «вегетарианцами». С той существенной разницей, что племена наших врагов — насекомых-«вегетарианцев» — восстанавливаются намного быстрее, чем популяции хищников, потому что хищники волей-неволей должны дожидаться размножения «вегетарианцев», чтобы иметь чем питаться. Таким образом естественное равновесие между одними и другими все более видоизменяется в пользу наших врагов.
Это одно, и второе: нарушенное равновесие на одном участке вызывает цепную реакцию, затрагивающую всю биосистему, и последствия этого порой бывают такими, что вредители, против которых направлен химический удар, численно увеличиваются, вместо того чтобы исчезнуть.
В Онтарио, например, после опрыскивания инсектицидами мошки число ее увеличилось в 17 раз. Другой случай из американской практики: после опрыскивания ядохимикатами вредителей вяза частицы химикалиев попадают в дождевых червей, на которых этот яд не действует, но зато гибнут дрозды, которые питаются этими червями. В США погублены таким и подобными способами 88 % дроздов.
У нас, в Болгарии, опрыскивание ДДТ дубовых лесов в целях борьбы с гусеницами непарного шелкопряда гибельно отразилось на синицах, которые питаются его личинками, и количество их катастрофически уменьшилось.
Одним из последствий этого было неимоверное, бедственное размножение некоторых видов гусениц, зависимых от синиц. Цепочка протянулась еще дальше. Поедая отравленных химикатами насекомоядных птиц — синиц, дроздов и других — гибли и хищные птицы. Исчезла (конечно, и с помощью охотников, которые планомерно убивали их) большая часть наших ястребов, орлов и так далее. И получился удивительный результат: вместо того, чтобы о повсеместным истреблением, например, ястребов — куропаток становилось больше, численность их, и особенно кекликов (каменная куропатка) все сокращалась; без ястребов у кекликов не происходит нормального развития. Ведь ястреб может настичь прежде всего старых и больных кекликов, выполняя тем самым роль необходимых санитаров.
Миллионы лет живут совместно кеклики и ястребы, львы и антилопы, зайцы и лисы, волки и косули и т. д. и т. п., но никогда конфликты между хищниками и их жертвами не приводили к исчезновению слабых видов, потому что Природа позаботилась наделить их такими преимуществами, чтобы равновесие между ними и хищниками было прочным. (Нормальная антилопа, например, обгоняет нормального льва обычно на пять километров в час.)
Именно вот это природное равновесие было грубо нарушено с помощью пестицидов: агрономы атаковали, например, моль, которая терроризировала виноградники, расположенные в пловдивском «воротнике» у подножия Родоп, и действительно справились с нею. Но вслед за тем здесь размножились в невероятном количестве клещи, чьи враги были, видимо, уничтожены одновременно с молью, и теперь здешние виноградари пребывают в полной растерянности, не зная, как справиться с клещами.
Вообще наши победы в борьбе с вредными насекомыми оказываются в известных случаях «пирровыми победами». Теперь уже ясно, что всякое резкое нарушение установившегося равновесия может привести порой к бурным взрывам с неожиданными последствиями на том или ином участке биосистемы. Некоторые ученые даже выступили с утверждением, что «полное уничтожение вредителей (даже если это можно практически осуществить) принесет больше вреда, чем пользы».
Приведенные уже примеры говорят, что мы все еще никак не можем определить с уверенностью конечные результаты ни одной химической победы над вредителями. При таком положении вещей лично мне кажутся не слишком убедительными утверждения некоторых специалистов, будто благодаря химической борьбе мы спасем столько-то и столько-то процентов производимой растениями продукции. Лишь в очень редких случаях мы можем быть уверены в конечном результате той или иной «химической операции», потому что их последствия, как мы уже убедились, отнюдь не единовременны; они многосторонни, сложны и порой совершенно неожиданны… Каждое опрыскивание химикалиями, начиная собой цепь причин и следствий сейчас, раскрывает иногда свои побочные действия много лет спустя.
Нет нужды рассматривать тут ставший уже банальным вопрос о том, как пестициды отравляют почву, воды, травы, молоко и людей, в какой степени и с какими последствиями. Скажу только, что после того, как наша контрольно-санитарная служба начала обнаруживать в сельскохозяйственных продуктах хлороорганические соединения, появившиеся в результате обильных опрыскиваний гексахлораном, употребление этого химиката было запрещено. Опыт подсказывает нам, что химия — многолика, и что мы не всегда успеваем сразу распознать, каким ликом она к нам обернулась или обернется в следующий миг.
В нашей борьбе с вредителями растений (мне хочется еще раз отклониться в сторону) мы упускаем одну возможность, которая могла бы сделать нас гораздо более независимыми от химических препаратов и от необходимости сыпать их куда попало. Я имею в виду разразившуюся в последнее время «генетическую эрозию» (слишком уж часто употребляем мы слово «эрозия», но ничего не поделаешь). Генетическая эрозия — это наблюдаемое в последнее время жалкое состояние (вследствие пренебрежительного к ним отношения) местных, отечественных сортов плодовых деревьев и других культур, не боящихся вредителей, приспособившихся в результате многовекового отбора к нашим условиям.
Мы отлично понимаем, откуда примчался вихрь, который смел, например, с гор и полей наши домашние сорта яблонь — всякие «тетовки», «шекерки», «ранеты», «айвании» и др. При значительном переустройстве земледелия, осуществленном за последние три десятилетия, и приспособлении нашего плодоводства к механизированной обработке, маленькие садики должны были поневоле исчезнуть, а крупные сорта плодов — уступить место мелким, пальметтным, которые легко обрабатывать и собирать, не говоря уж о требованиях международного рынка, где «сестры» — «красная» и «желтая превосходная» вытеснили с прилавков все остальное и свели все разнообразие яблок к трем-четырем основным сортам…
Примерно то же произошло с персиками и грушами: пальметтные плодовые насаждения раскинулись на огромных пространствах… И тогда выявились их недостатки, а именно: они более подвержены заболеваниям, быстро сохнут, легко «изнашиваются»; их надо часто опрыскивать; содержание их обходится нам гораздо дороже, чем содержание привычных к нашим условиям, закаленных нашим болгарским климатом и болгарской почвой «традиционных» плодовых деревьев. Да, но оглядевшись, мы увидели, что даже в горных лощинах и котловинках мы уже успели разделаться с местными сортами плодовых деревьев — яблонь, черешен, слив, персиков и груш. (Точно так же, как поторопились разделаться с грубошерстной каракачанской овцой и полностью заменить ее мериносом, так что теперь даже для мастерской, изготовляющей домотканые кошмы в Смоляне, не знаем, где раздобыть несколько тонн грубошерстного волокна!)
Я пишу эти строки и время от времени поглядываю через окошко моего сельского дома на две посаженные 150 лет назад яблони «шекерки» — единственные сохранившиеся в нашем селе, некогда полном «шекерок». Высота их достигает 25 метров, а ширина кроны — 15 метров, и им (повторяю) по сто пятьдесят лет! И хотя никто никогда их не поливал и не опрыскивал, эти яблони-гиганты каждый год приносят две тонны плодов и знать не знают ни о болезнях, ни о вредителях, которые сокращают жизнь пальметтных насаждений. (Между прочим, эти чудесные на вкус «шекерки», хоть и не могут завоевать себе место на международном рынке, являются отличным продуктом для изготовления яблочного сока и повидла, так что этот сорт нельзя считать морально и технически устаревшим.)
Я не против пальметтных садов, но разве нельзя было бы использовать генетическое богатство, которое нам предлагают местные сорта плодов, чтобы влить больше силы и стойкости (а если хотите, то и вкуса!) в пальметтные сорта? Не только можно было бы, но это просто необходимо для успешного развития нашего отечественного плодоводства… Дело только в одном: не успели мы спохватиться, а местные сорта уже исчезли.
И кукуруза местная, горная, исчезла — та самая, которую сеяли в подветренных лощинах в горах или возле теплых поречий. Та самая ароматная кукуруза, которая шла на самую лучшую муку для мамалыги и кукурузных лепешек.
Ну, а о пшенице «загария» или «червенка», приспособленной благодаря большому опыту и труду земледельцев к горным условиям, — что сказать? Зерна ее были увесистыми, крупными, округлыми; а о хлебе, выпеченном из муки этой пшеницы, можно только мечтать. А семена ее утрачены… И еще много других семян. Так обеднела наша природа, а вместе с тем и наши возможности использовать достижения отечественного земледелия для генетического обновления современных импортных сортов и культур, что́ в значительной степени могло бы нас избавить и от меда и от жала химикалиев.
Разумеется, каждый знает, что химия применяется с добрыми намерениями и по необходимости, а не ради удовольствия агрономов и химиков, что возросшее население нашей планеты требует все больше продуктов питания и что мы не можем позволить себе роскошь транжирить эти продукты. Сие известно всем. И если у нас возникает тревога, то она вызвана тем, что мы не всегда умело пользуемся химическими средствами, да еще с преувеличенным порой оптимизмом (чтобы не сказать легкомыслием), проявляемым приверженцами химической борьбы. Вот что писал недавно один из таких специалистов в журнальной статье:
«Несколько талантливых полемистов, склонных к эмоциям, романтике и мистике, сумели убедить многих людей, в том числе и лиц, занимающих различные высокие посты, что пестициды и особенно ДДТ опасны и что их необходимо запретить… И дело дошло до того, что были приняты необоснованные меры против ДДТ и других пестицидов».
Выходит, что вся беда в нескольких талантливых полемистах, «склонных к эмоциям, романтике и мистике», что не существует доказательств опасности ДДТ и того, что он накапливается в организме человека. Что хлорорганические препараты не вредны, что их присутствие не обнаружено ни в яблоках, ни в картофеле, ни в брынзе, ни в молоке.
Значит, на ветер бросал слова известный советский ученый, академик ВАСХНИЛ Виноградов, когда в своем недавнем выступлении сказал, что:
«из высыпанных на Землю полутора миллионов тонн ДДТ две трети сохранились по сей день и продолжают угрожать всем организмам».
Оказывается, и Виноградов принадлежит к числу «полемистов, склонных к эмоциям, романтике и мистике».
А вот именно такие «специалисты», сказал бы я, и делают химическую борьбу и химикалии опасными…
Выход? Ученые уже его указывают. Латвийские ученые успешно произвели лабораторные опыты по половой стерилизации гамма-лучами некоторых вредных для сельского хозяйства насекомых. Эти опыты уже подтверждены и в производственной обстановке (в поле). Биологи Танзании сумели вывести особый вид комаров, которые питаются личинками комаров-кровопийц и таким образом уничтожают носителей малярии по принципу «разделяй и властвуй!»
«В Учкурганском колхозе «Москва» (читаем мы в одном журнале) создана биолаборатория для культивирования энтомофагов (насекомоядных). В ней выращивают полезных насекомых — трихограмм — которые используются в борьбе с сельскохозяйственными вредителями».
И далее сообщается, что во время опытов на гектар поля было выпущено по 100 тысяч маленьких наездников трихограмм и они полностью истребили вредителей хлопчатника. При этом обработка каждого гектара полей хищными насекомыми (энтомофагами) обошлась всего в семь копеек, тогда как обработка химикатами стоила бы 7—8 рублей.
Конечно, никто не думает, что опыт колхоза «Москва», использовавшего насекомых в качестве биологического оружия, решает все проблемы защиты растений, но безусловно верно одно: будущее — за биологической борьбой. Она и только она избавит нас от необходимости иметь дело с многоликим Янусом, чьи добрые дела не всегда уравновешивают причиняемые им бедствия, когда мы пытаемся сделать его своим союзником в борьбе за изобилие. Нашу Сельскохозяйственную академию, ее Институт защиты растений можно приветствовать за то, что она организовала несколько лабораторий по биологической борьбе, в которых выращиваются и трихограммы, и другие насекомые — наши союзники по борьбе с вредителями растений. Начало, как говорится, положено, и мы надеемся, что это будет счастливое начало, которое приведет нас к избавлению от пестицидов.
Вот на это-то и надеемся мы, «романтики», потому что, как сказал однажды биолог профессор Коммонер, «мы располагаем всего лишь одним десятилетием для открытия спасительного инструментария». И чем скорее это произойдет, тем лучше. Ведь пестициды истощают почву, уничтожая в той или другой мере в ее микромире полезные микроорганизмы, главным образом бактерии, которые связывают азот, снижая тем самым ее плодородие, а иногда и полностью стерилизуя ее.
Недавно известный советский почвовед В. А. Ковда сообщил в одном докладе, что 500 тысяч тонн различных токсических веществ, употребляемых ежегодно для защиты растений, попадают после этого в почву, «живут» в ней иногда до 12 лет и оказывают в это время «резко отрицательное воздействие» на почвенную фауну и микроорганизмы. Его коллега профессор Н. Г. Зорин обратил внимание на так называемое «нарушение баланса» почвенного состава в результате загрязнения почвы промышленными отходами, которые ее окисляют или засоляют и в конечном счете насыщают ее ядовитыми для растений (фитотоксичными) веществами. Кроме того, он сделал очень серьезное предупреждение о том, что «почву, в отличие от воздуха, очистить невозможно».
До сих пор речь у нас еще не заходила об «истреблении» почвы строительством. В какой степени угрожает нам эта опасность, можно сделать заключение из того факта, что в ФРГ каждый год застраивается 15 квадратных километров, по большей части обрабатываемых земель. А в Чехословакии только за последние 25 лет площадь обрабатываемых земель уменьшилась на 52 тысячи гектаров.
А разве и у нас, в Болгарии, не застраивают непрерывно иной раз самые плодородные участки наших полей? У нас есть земли непродуктивные, где можно и где следовало бы строить, хотя и ценой бо́льших расходов, но мы все еще предпочитаем соорудить завод где-нибудь на ухоженной равнине, не задумываясь над тем, что мы утрачиваем на вечные времена ренту (и в денежном и в продовольственном плане) с этих застроенных площадей.
Некоторые справедливо называют почву «ареной жизни», потому что жизнь действительно базируется главным образом на ней. Сейчас на этой арене возникла борьба, от исхода которой зависит быть или не быть самой почве, потому что она подвергается страшной опасности, порождаемой и неправильным использованием химических удобрений, и неправильным орошением, и отравлением промышленными отходами, и — не в последнюю очередь — ее застройкой.
Что будет дальше — не знаю.
Ясно одно — пришло время нам, людям, задуматься над судьбой Земли, которую мы заставляем терпеливо выдерживать не только тяжесть наших тел, но и наше удивительное порой легковерие и легкомыслие…
АХ ТЫ, ЧЕРНОЕ МОРЕ, ПОЧЕМУ ТЫ ТАК ГРОМКО СТЕНАЕШЬ?
Участь почвы и участь воды тесно связаны, зависят друг от друга, потому что рано или поздно то, что находится в почве, уносится реками и подпочвенными водами в моря.
На этот раз начнем не с дальних краев, а с мест более близких — с Черного моря. Из статьи Л. Неменовой, опубликованной в популярном журнале «Вокруг света», мы узнаем, что комплексная экспедиция Одесского отделения Института биологии южных морей СССР обнаружила в Черном море «обширный район, где мидии и другие обитающие на морском дне организмы вымерли за последние годы».
Почти одновременно с сообщением Л. Неменовой были обнародованы сведения о том, что Г. Г. Поликарпов из украинской академии наук обнаружил очень высокую концентрацию ртути и других радиоактивных веществ и нижнем течении некогда голубого, а теперь мутно-желтого Дуная. Так что не трудно понять, почему именно погибли в Черном море два с половиной миллиона центнеров мидий. Почему сотни тысяч рыб и раков сами выскакивают на поверхность воды и на берег, словно за ними кто-то гонится. Почему чахнут и умирают водоросли. И почему, наконец, бесценные микроорганизмы, называемые бактериями, которые разлагали до сих пор попавшие в море органические отходы и таким образом очищали его, уже не успевают справляться со своей важной задачей.
Главная причина всего этого (повторяю!) — «перегрузка» моря неимоверным количеством вредоносных органических веществ, вливающихся в него вместе с промышленными отходами, которые разлагаются с помощью кислорода. Таким образом содержание кислорода в морской воде значительно уменьшается и «задыхающиеся» раки и рыбы сами, как уже было сказано, выскакивают на поверхность — чтобы глотнуть кислорода, прежде чем погибнуть.
Этому бедствию способствует, разумеется, и огромное количество отходов, которые попадают в море из зон, облюбованных курортниками. Они также вносят свой «вклад», и, надо сказать, немалый, в «заболевание» нашего моря.
Прошлым летом в Созополе, когда однажды море сильно разбушевалось, я собственными глазами убедился в этом. Волнение подняло со дна отбросы, которых было столько, что вода не просто потемнела, а почернела от них. Консервные банки, бутылки, арбузные корки, персиковые косточки, обрывки бинтов, корки хлеба, помидорные очистки, куски пластика, пластмассовые ложки — все это перемешалось во взбаламученной морской воде, выплескивалось волнами на берег, обдавая людей, словно море хотело утопить их в их собственных нечистотах.
Море стенало, пенилось, билось о берег, пока так не облепило шелковистый песок помидорными объедками, полиэтиленовыми пакетами и мазутом, что на берегу не осталось даже крохотного местечка, не оскверненного этой липкой, все чернящей массой. Когда я возвратился с пляжа, ноги мои были сплошь покрыты мазутом. Я пытался смыть его мылом — тщетно. Соскребал его кухонным ножом, но пятна все же остались. Мне посоветовали купить растворитель лака, потому что, мол, только им можно до конца смыть мазут, но этой спасительной жидкости достать не удалось — ее всю расхватали, и мне пришлось скрести куском черепицы зловонные черные пятна.
Я не прибавил ничего к тому, что видел и пережил. Если загрязнение моря мазутом будет продолжаться в прежних масштабах, то через год-другой нам придется купаться в море в чулках, со скафандром на голове и загорать на пляже в противогазе.
…Так вот почему так грозно стенало прошлым летом Черное море… Потому что мы превратили его в мусорную яму.
При этом наше Черное море — не самое отравленное на свете. С Балтийским дело обстоит куда хуже, потому что в него сливают еще больше ядовитых отходов.
Действие отравляющих веществ все сильнее начинает сказываться и в океанах, которые всегда считались чем-то необъятным. Коралловые рифы у пляжей Майами (США) поражены тяжким недугом, рыбы, обитающие вокруг, тоже болеют и меняются, подобно тому как изменилась вся жизнь кораллового рифа. Концентрация ртути и радиоактивных веществ в океанах и реках, в озерах и морях возрастает, постепенно умерщвляя живые организмы и планктон. Видимо, у известного исследователя морских глубин Жака Кусто было достаточно оснований заявить, что в мировых морях и океанах можно наблюдать уже первые признаки приближающейся экологической катастрофы…
«А когда нет жизни в океане, — продолжил он, — не может быть жизни и на суше».
Что хотел сказать Кусто, произнося эти зловещие слова? Он имел в виду то обстоятельство, что 60 % кислорода на земном шаре производит в океане планктон и только 40 % его — зеленая растительность суши. Морской кислород получается при фотосинтезе растительного планктона, следовательно, все, что загрязняет воду, отнимает свет и умерщвляет планктон, — уменьшает и количество кислорода.
Тридцать пять миллионов тонн рыбы дают ежегодно человечеству моря и океаны, и, кроме того, обещают давать в будущем огромные количества белка из планктонных рачков, чтобы можно было накормить сильно возросшее население нашей планеты.
Другими словами, океан — это надежда человечества, если, конечно, надежда эта не будет отравлена…
Но раз уж над океаном нависла такая угроза, то что тогда говорить о реках? Ведь 80 % воды в реках США уже не пригодны для питья из-за сильного загрязнения и отравления промышленными отходами!
Реку Рейн уже называют не иначе, как «клоака Европы». При выходе за пределы ФРГ эта «клоака» каждый год уносит в море 29 миллионов тонн различных загрязнителей, в том числе — 1100 тонн знаменитого яда, именуемого «мышьяк», и 165 тонн ртути. Каково будет количество «ядовитого экспорта» Рейна завтра, когда запроектированные на его берегах пять атомных электростанций будут построены, может представить себе каждый, даже если он не одарен особым воображением… В то же время 19 миллионов людей используют воду реки для питья, несмотря на то, что она «клоака», несмотря на то, что калийные заводы каждый день сбрасывают в нее 40 тысяч тонн солей, которые затем вливаются в несчастное Северное море.
Тем или иным способом река Рейн непрерывно сигнализирует, что конец ее близок, — но кто ее слушает? 24 июня 1970 года в ней разом погибли миллионы рыб от вещества «эндосульфан», производимого химическими заводами, расположенными возле Франкфурта, но это никак не отразилось на виновных в отравлении заводах…
Изобильные промышленные отходы, которые сбрасываются ежедневно в реку, загубили еще многих сестер реки Рейн. Величественная Миссисипи в США уже получила новое название: «Толстая кишка США». По количеству несомых ядов весьма серьезно соперничает с этими реками Темза, хотя и Одер и Эльба в последнее время почти не отстают от нее…
Загрязняются речные воды все больше и больше, а, с другой стороны, потребность в воде в результате технического прогресса все возрастает… Только за 75 лет, начиная с 1900 года, потребление воды для бытовых нужд населения Земли возросло в 22 раза, для нужд сельского хозяйства — в 10 раз и в 60 раз для нужд промышленности. И эти нужды продолжают расти, притом даже не постепенно, а скачкообразно. Так, производство одной только тонны бумаги требует (при современной технологии) 200 кубических метров воды, тонны ткани — 600 кубических метров, а тонны капронового волокна — около 6 тонн! А атомные электростанции? Да ведь только одна АЭС мощностью в 1 миллион киловатт требует около 1 миллиона кубических метров воды только за одни сутки! Так представьте себе, сколько воды потребуется в 2000 году, когда количество атомных электростанций достигнет двух-трех тысяч!
Останется ли тогда вода для питья?
Этот вопрос нешуточный, в нем заключена весьма серьезная, я бы даже сказал — драматичная истина. Во многих странах уже сегодня вода стала одним из самых дефицитных предметов, а недостаток пресной воды будет продолжать обостряться, потому что если сегодня человечество потребляет ежегодно 2600 кубических километров воды, то к 2000 году ему потребуется 6000 кубических километров, а источники воды не только не увеличиваются, а в нарастающем темпе уменьшаются.
Прогноз таков: если загрязнение речных вод не прекратится, то через 40 лет пресноводный кризис станет всеобщим, а питьевая вода превратится, что называется, в «артикул № 1». Для некоторых стран она уже ныне является артикулом № 1: сто миллионов американцев пьют не родниковую, а речную, при этом изрядно загрязненную воду; Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония рассчитывают на шведскую питьевую воду, которую намереваются получать по водопроводу длиной в несколько тысяч километров. США каждый год платят Канаде миллионы долларов за импорт чистой ключевой воды. Нынешний водопровод в Лос-Анджелесе протянулся на тысячу километров, но доставляемой им воды не хватает, и теперь проектируется его удлинение до реки Колумбия-Ривер. И у нас в Болгарии водоснабжение городов встречает уже серьезные трудности.
Таким образом вода начинает становиться «золотой» уже не только в переносном, но и в буквальном смысле слова… И будет становиться все в большей степени, когда мы начнем добывать ее из арктических льдов, как это уже планируют и проектируют некоторые хитроумные изобретатели…
И дело, вероятно, действительно дойдет до этого, если человечество не перестанет загрязнять речные воды и не излечит уже зараженные.
Но именно это происходит слишком медленно: в ФРГ сейчас удовлетворительно очищают лишь треть сточных вод. Так же обстоит дело и в Париже. Французы заколебались, когда поняли, что «приемлемая» очистка речных вод обойдется им от 200 до 400 миллионов франков, но колебания их по всей вероятности прекратятся, потому что через каких-нибудь 15 лет Парижу нужно будет в два раза больше воды.
Гораздо чувствительнее оказались к загрязнению окружающей среды жители Японии, особенно после случая в Минимата. Минимата — это тот залив, где в 1953—1960 годах 83 японца впали сперва в состояние идиотизма и, утратив человеческий облик, затем умерли странной и страшной смертью. Эта таинственная эпидемия заставила японских врачей изрядно потрудиться, пока наконец не было установлено, что мидии в заливе Минимата содержат в себе ртуть, причем в весьма опасном для человека количестве. Ртуть проникла в залив с жидкими промышленными отходами, сбрасываемыми химическим заводом. Жители прибрежного поселка ели эти отравленные мидии и стали таким образом жертвами неконтролируемой химии…
Зато теперь в Японии химия (и не только химия) контролируется очень неплохо. Расходы на исследования, связанные с загрязнением окружающей среды, которые в 1970 году составляли 55 миллионов долларов, возросли в 1971 году до 106 миллионов, почти вдвое.
Наиболее планомерно и с самым большим размахом происходит очистка пресноводных источников в Советском Союзе. Только за минувшую пятилетку в Кузбассе на реке Томь и ее притоках было построено 114 крупных очистных станций общей мощностью в 1 400 000 кубических метров воды в сутки. Только за четыре года (с 1965 по 1969) израсходованные на очистку рек средства возросли в СССР более чем в два раза, так что, несмотря на усиленное развитие промышленности в последние годы, «рост загрязнения водоемов во всей стране приостановлен». Запрещено, кроме того, пускать в ход новые промышленные предприятия или реконструировать существующие (как уже говорилось), если не обеспечена полная очистка и обеззараживание жидких промышленных отходов.
Мы как будто бы следуем советскому опыту, но в отношении очистки рек делаем это медленно: предусмотренные, например, при проектировании металлургического завода имени Ленина в Пернике очистные сооружения не завершены и завод по сей день обходится без них. Свинцово-цинковый завод в Кырджали ежесекундно сбрасывает в водохранилище «Студен кладенец» 400 литров отравленной воды. Но что-то незаметно, чтобы руководство завода испытывало от этого какие-либо угрызения совести. Обогатительная фабрика в Рудоземе превратила воды реки Арда в отвратительную серовато-пепельную кашу, потому что сооружения для очистки сточных вод вообще не были построены. И никого из руководства завода этот вопрос все еще не беспокоит… (Беспокоятся граждане, а не руководители этих, во всех прочих отношениях полезных предприятий…)
Научные работники Харькова уже создали усовершенствованные фильтры для очистки вод, загрязненных отходами деревоперерабатывающих предприятий. Эти фильтры способны задерживать даже самые мелкие древесные волоконца. Если бы этими фильтрами был снабжен целлюлозный завод, например, у нас в Разлоге, воды реки Элидере могли бы и сейчас быть прозрачными, какими они были когда-то (до сооружения завода).
Некоторые могут возразить мне: «Мы не настолько богаты, чтобы строить такие дорогие очистные сооружения». Только верно как раз обратное: мы не настолько богаты, чтобы позволить нашей промышленности работать без очистных сооружений и портить нашу дорогую воду, нашу дорогую землю, наше дорогое здоровье. Это бесспорно. Так, для очистки реки Вислы сейчас проектируется специальная плавающая фабрика, которая будет производить по 600 килограммов кислорода в час и впрыскивать его вместе с соответствующим количеством воздуха в воды полумертвой реки, чтобы поддержать в ней развитие речной микрофлоры.
Эти кислородные инъекции, вероятно, будут отнюдь не дешевыми, но настала пора — будь они дорогие или дешевые — ими заняться. Настанет такая пора и у нас (если уже не настала).
Советский ученый академик Виноградов заявил в одном из своих выступлений, что «кардинальное решение вопроса о загрязнении вод промышленными отходами» можно искать только в одном направлении: в переходе промышленных предприятий к «замкнутому циклу работ, без каких-либо вредных для окружающей среды отходов».
И это — в той или иной степени — уже делается: в СССР и в ГДР ни одно новое промышленное предприятие не вступает в строй, если оно не оснащено очистными установками. В Японии издан закон — первый подобный закон в капиталистической стране, — который определяет загрязнение окружающей среды как п р е с т у п л е н и е…
Наш Закон об охране природы — один из самых взыскательных, государство наше отпускает значительные средства для сооружения очистных установок, но общественная ответственность за охрану окружающей среды у нас еще не на высоте, и некоторые руководители предприятий предпочитают платить штрафы, вместо того, чтобы «выбрасывать средства» на строительство очистных сооружений. Суды все еще слишком благоволят к этому роду преступников, и проблема очистки рек остается открытой.
А бывают и такие случаи: на директора предприятия Х. в Асеновграде составили акт за то, что отходами своей фабрики он отравил в реке рыбу, и направили в суд. Однако при разборе дела в суде выяснилось, что те, кто проектировал фабрику, не предусмотрели очистной установки, так что предприятие это надо либо закрыть, либо перестроить почти заново, чтобы оно было безопасно для окружающей среды.
Тут мы уже сталкиваемся не с техникой, а с п о л у т е х н и к о й (некачественной, несовершенной техникой), которая одно производит, а другое разрушает. Производит, скажем, бумагу, а губит целые реки…
Во всем этом, конечно, повинна не наука, а п о л у н а у к а. Большая вина ложится на полунауку во всех областях нашей жизни: здесь и неправильное внесение удобрений, которое становится причиной минерализации почвы и ее физического разрушения; и употребление пестицидов, и неумелое орошение земли, которое ее засаливает или выщелачивает, и многое другое! Сейчас говорят, что в Девине — городе, расположенном у самой реки Выча, будет строиться фабрика электрических кастрюль, — производство, которое будет работать, между прочим, с теми же цианистыми соединениями, которыми была отравлена рыба в Чепеларе. Может быть, это предприятие будет снабжено очистным оборудованием. Дай боже, чтобы это было так, ибо в противном случае живая и здоровая в настоящее время река Выча, которая наполняет целую систему водохранилищ, будет умерщвлена… И вот возникает необходимость, чтобы кто-нибудь подсчитал, что принесет нам больше выгоды — производство кастрюль или лов рыбы в четырех водохранилищах каскада «Выча», если воды реки останутся чистыми и все водоемы ее будут зарыблены.
И еще один подсчет: каковы будут потери от орошения Кричимской и Пловдивской котловины загрязненными, чтобы не сказать, отравленными водами Вычи?
Я не производил проверки и не вполне уверен, действительно ли будет строиться эта фабрика в Девине и какой она будет, но просто привел ее в пример, чтобы проиллюстрировать, какие могут быть последствия, если такого рода вопросы решаются одними только узковедомственными специалистами с помощью полунауки и полутехники…
ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД?
В результате именно неполного овладения наукой и техникой и неполного же применения их, мы, люди, нарушили природное равновесие в биосфере, в растительном и животном мире. Уничтожили, или почти уничтожили хищных птиц, но возникшие в последнее время эпидемии среди некоторых полезных пернатых подсказывают нам, что нет абсолютных вредителей, что «наука» в этом отношении малость подвела.
Мы — по выражению академика Балевского — «уничтожили или, по меньшей мере, помогли уничтожить черноморских дельфинов», перетопили их на жир, а теперь прикидываем, как бы их развести, потому что в морской биосфере наступили такие перемены, которые заставили нас более внимательно отнестись к оценке значения дельфинов.
В Лондоне уже нет воробьев. Стали исчезать они и в Софии. Под угрозой исчезновения находятся многие млекопитающие и птицы. Трудно предвидеть все последствия этих бурных перемен в животном мире, если иметь в виду, что не только отдельные животные связаны между собой гармоническим равновесием, но весь животный мир связан с миром растений в общей замкнутой биосистеме. Эта биосистема образует огромный организм, богатый обратными связями, которые поддерживают ее равновесие и предохраняют от катаклизмов.
До какой степени точен и «дальновиден» кибернетический механизм природы, видно из общеизвестного факта, что во время войны, когда мужчины находятся под угрозой смерти, рождается значительно больше мальчиков, чем девочек…
Установлено также при одном специальном исследовании, что дети, рожденные в гаремах, — по большей части мальчики, а в палатках военачальников во время походов, в условиях наибольшей концентрации мужчин, рождались преимущественно девочки — очевидно для уравновешивания мужского и женского «начал».
Все тем же автоматическим биологическим регулятором, существующим в природе, мы можем объяснить себе то обстоятельство, что во время блокады Ленинграда, при крайне плохих гигиенических условиях и страшном голоде, не было отмечено ни одного заболевания инфарктом, язвой, раком. Природа проявила в этом случае преднамеренное милосердие, убрав свое оружие подальше от находящихся под угрозой гибели ленинградцев, и увеличила их шансы уцелеть.
Наоборот поступает Природа с чрезмерно размножившимися северными оленями. Замечено, что после усиленного размножения на оленей обычно нападает какая-нибудь эпидемия, которая нормализует их количество.
Еще любопытнее случай о леммингом — грызуном, похожим на суслика, который обитает главным образом в Скандинавии. Установлено, что когда этот вид грызуна при благоприятных условиях бурно размножается, под хвостом у него набухает железа и целые стаи этих зверьков, утратив чувство самосохранения, направляются к морю, сами бросаются в воду и тонут. Неизвестно — то ли их жжет железа и они ищут в воде спасения, то ли они просто безумеют, перед тем как покончить жизнь самоубийством, но этот характерный факт говорит о том, до какой степени и как ревностно контролирует Природа установленное ею равновесие…
(Будем надеяться, что Природа не станет обходиться с нами так же строго, как с оленями, и что она никогда не погонит нас, как тех скандинавских леммингов, к морю…)
Мы, люди, — всего лишь одна из составных частей так называемой биосферы. Одна из действительно важных составных ее частей, но все же частей. Миллионы лет мы развивались в полной взаимосвязи и гармонии с окружающим миром, в том числе с космосом… До какой степени мы «дети Природы», Земли, Вселенной, свидетельствует то обстоятельство, что каждый миг мы находимся под воздействием космических сил, которые прямо или косвенно сказываются не только на нашем здоровье, но и на нашем настроении. В последнее время я встречал в прессе сообщения, что когда, например, в Вене дует так называемый «фён», хирурги воздерживаются от операций, что во время усиления солнечной активности увеличивается количество инфарктов. Установлен и факт биосвязи «Луна — человек». Недавно были опубликованы результаты исследования годичных колец нескольких тысячелетних деревьев из высокогорных районов; они с полной достоверностью показали, что три вспышки «новых» звезд в истории человечества были «зарегистрированы» упомянутыми деревьями резким замедлением роста годичных колец.
Если космическая энергия, которая изливается на нас каждый миг, таким образом воздействует на деревья — организмы куда более примитивные, чем мы, — то каково же ее воздействие на несравнимо более гибкую человеческую «плазму»?
Я позволил себе это небольшое отступление, чтобы сделать очевиднее то, что «жизнь — это нечто целостное, а человек только одна из ее частей», что нарушение гармонии в природе ставит человека перед множеством мрачных неизвестных.
В сущности, человечеству угрожают отнюдь не техника и цивилизация вообще, а недостаточное овладение техникой и неправильно понятая цивилизация. Если бы промышленная технология была совершеннее, не было бы ни отравляющих дымов в небе, ни автомобильных газов в атмосфере, ни ядов на земле и в воде, ни безжизненных рек и агонизирующих морей.
Мы охотно, с гордостью заявляем при случае о своей победе над Природой, и при этом все еще не сумели справиться с промышленными отходами и заводскими мглистыми дымами. Подобные широко оповещаемые «победы» над Природой приводят к тому, что в Токио едва можно дышать, а окружающая среда меняется столь быстро, что человек не успевает приспособиться к этим чуть ли не молниеносным переменам, и отношения между ним и окружающей средой становятся все более напряженными.
Чтобы человек уцелел, необходимо, чтобы в последующие 50 лот он привык дышать вместо кислорода окисью углерода или углекислым газом и чтобы эта обретенная им способность стала наследственной… Или же с неба должны исчезнуть дымы. Иного выхода, очевидно, нет!
«Надо спасти нашу планету!» — заявил знаменитый японский кинорежиссер Акира Куросава, когда журналисты спросили его, какие проблемы киноискусства он считает самыми важными.
«Необходимо выработать генеральную стратегию для поведения индустриального общества в природе, — заявил в свое время советский академик С. С. Шварц. — Эта стратегия должна опираться на ясное понимание законов, которые управляют развитием живой оболочки Земли».
Предупреждение Маркса о том, что «культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя пустыню», — приобретает особую ценность в наше время, когда «окультуривание» мира идет такими быстрыми и опасными шагами.
Президент Болгарской академии наук академик Балевский назвал вопрос охраны окружающей среды «жизненно важным и даже фатальным, если он не будет своевременно решен».
Иначе говоря, главное — уцелеть. А это означает — сохранить нашу биосферу, пока единственную, в которой человек может существовать, потому что мы запрограммированы жить, пользуясь такими благами, как чистый воздух, природный свет, чистая вода, тишина, простор, зелень.
Эйнштейн в свое время предупреждал:
«Забота о человеке и его судьбе должна быть главной задачей технической цивилизации».
Слова Эйнштейна — это позднее эхо предупреждения, сделанного человеку еще Аристотелем, — остерегаться машин, которые угрожают ему порабощением.
Около двадцати трех веков прошло с тех пор, а предупреждение афинского философа звучит так, словно оно относится не к древним грекам, а к нам, — нынешним жителям планеты Земля. И мне хочется снова повторить: никто не строит себе иллюзий, будто цивилизация и прогресс — благодатная для человека цивилизация и благоприятный для здоровья прогресс — могут обойтись без помощи машины.
Машина умножает наши силы, создает удобства, она дала нам современное производство, от которого зависит наше существование. Это ясно. Речь идет (повторяю уже в третий раз) о колючих шипах благоухающей розы — цивилизации, о технике — еще несовершенной, которой мы не овладели до конца и которая нам угрожает, тиранит и отравляет нас… И еще — о науке; если она выскользнет из рук человека и превратится в неконтролируемую силу…
Вот почему советские ученые и предлагают разработать «генеральную стратегию поведения индустриального общества в Природе». Речь идет о человечестве как о целом, а не о том или другом государстве, потому что, если Рурский бассейн будет продолжать выбрасывать в атмосферу угольный дым, воздушные вихри разнесут его по планете и отравят легкие всего человечества. Потому что, если одна страна решит взорвать ядерную бомбу, весь мир будет глотать стронций-90. Если американцы будут увеличивать число своих автомобилей, они будут высасывать кислород из мирового кислородного баллона за счет остальных жителей Земли.
Не говоря уж о том, сколь всеобща опасность ядерной войны. Или роковой ошибки в генетической хирургии, в результате которой может быть произведен вирус-химера или чудовище-колибактерия, которые даже без участия чьей-то злой воли раз и навсегда отправят к праотцам все человечество.
Без генеральной стратегии, без всемирного соглашения о контроле над ядерным, генетическим и химическим оружием невозможно ни сохранить природу в масштабе всей Земли, ни дать человеку уверенность в его завтрашнем существовании… Правда, выработать и принять такую единую генеральную программу развития мирового индустриального общества — дело сложное, связанное с серьезными объективными и субъективными трудностями, которые проистекают прежде всего из стихии наживы, присущей капиталистическому миру.
Чтобы стало яснее, о чем идет речь, приведу высказывание Рэчел Карсон, автора известной книги «Безмолвная весна», в связи с химической борьбой. Рэчел Карсон задает вопрос:
«Почему, если преимущества биологической защиты растений перед химической так убедительны, биологическая защита развивается совершенно недостаточно?»
«Почему же так происходит?» — спрашивает автор «Безмолвной весны» и отвечает:
«Крупнейшие химические компании дают бешеные деньги университетам для ведения исследовательских работ над инсектицидами. Это создает привлекательную перспективу аспирантуры для молодых людей, завершивших высшее образование, и доходные должности для преподавателей. Исследования в области биологической борьбы никогда не получают такой помощи по той простой причине, ч т о о н и н и к о м у н е о б е щ а ю т м а т е р и а л ь н о г о б л а г о п о л у ч и я, к о т о р о е о б е с п е ч и в а е т и м р а б о т а н а х и м и ч е с к у ю п р о м ы ш л е н н о с т ь. Биологическими исследованиями занимаются лишь институты штатов и федеральные, где зарплата очень мала. Только тем и объясняется озадачивающий нас фактор, — продолжает Карсон, — что некоторые известные энтомологи находятся среди тех, кто возглавляет сторонников химической войны. Установлено, что научно-исследовательская программа многих из них финансируется также химической промышленностью. Их профессиональный престиж, а порой и сама их служба зависят от увековечивания химических методов. Можно ли ожидать, что они укусят руку, которая в буквальном смысле слова их кормит?»
Выводы ясны: интересы кучки бизнесменов, производителей ядохимикатов, тормозят развитие целой отрасли науки — науки о биологической защите растений, — потому что она попросту угрожает их предприятиям и прибылям.
Те же прибыли, те же торгашеские интересы — причина сознательного сокрытия информации, связанной с наболевшими проблемами охраны окружающей среды в капиталистическом мире.
Вот что пишет по этому вопросу один известный американский биолог в бюллетене общества «За социальную ответственность науки»:
«Необратимые и далеко проникающие последствия разрушительного влияния техники на природу необходимо видеть, чтобы поверить в них. Правда об этом безжалостно процеживается и контролируется теми, кому это выгодно. На истинные знания они смотрят как на грех, а вместо них распространяют невежество».
Это гневное обвинение тех темных сил, которые, заботясь о своих прибылях, пытаются приуменьшить в глазах общества последствия разрушения природной среды…
В условиях капитализма, — системы, все беспощадно подчиняющей интересам наживы и прибыли, — есть и будут люди могущественные благодаря своим миллионам, которым невыгодно запрещение ядерного оружия; есть и будут люди, могущественные благодаря своим миллиардам, которым нет расчета оборудовать свои заводы и фабрики дорогостоящими очистными сооружениями. А для производителей легковых машин каждый намек на несовершенство их продукции звучит как оскорбление…
«В Японии горстка людей, которые ожесточенно гонятся за прибылями, отравила всю страну», — заявил в интервью режиссер Акира Куросава. Именно эта горстка людей, обладающих политическим влиянием в Америке, Японии, Англии, Франции, ФРГ и других странах, своей ожесточенной погоней за прибылью препятствует и будет препятствовать созданию каких бы то ни было норм, ограничивающих их образ действий, способных затронуть их личные интересы и доходы…
Их не пугают предупреждения таких ученых, как Жак Пикар, заявивший, что «ныне человечеству угрожает тотальная гибель…»
Они не интересуются (если судить по их поведению до настоящего времени) ничем другим, кроме… денег, под гипнозом которых они бодро шагают вместе со всем человечеством к волчьим ямам, вырытым для нас полутехникой, полунаукой и не в последнюю очередь — их безмерной жадностью…
Хорошо еще, что эти силы регресса сейчас не так уж всемогущи, как когда-то. Радостен и тот факт, что между Советским Союзом и США установлено сотрудничество в области борьбы с загрязнением атмосферы и вод, охраны флоры и фауны и вообще охраны окружающей среды. В 1973 году была заключена международная конвенция о предотвращении загрязнения морей судами, а в марте 1975 года — договор о защите морской среды в районе Балтийского моря. И несмотря на это мы скажем:
Хорошо, что есть на свете социализм! Хорошо потому, что при социализме накопление денег и вообще прибыли не имеет того решающего и рокового, я бы сказал, влияния на общественную и государственную жизнь, как при капитализме. Потому что при социализме самая главная государственная цель — это благополучие и счастье людей. И что особенно важно — во имя их благополучия государство может направить все необходимые (технические, финансовые и прочие) средства для осуществления того или иного начинания, цель которого — предотвращение надвигающейся экологической угрозы.
Эти преимущества социалистической системы дают нам надежду, что рано или поздно (лучше рано!) техносфера будет усовершенствована и использована не для того, чтобы рыть пропасть между Человеком и Природой, а для их полного и — будем верить в это — вечного примирения!
Есть, кажется, у арабов такая поговорка: «Если яйцо ударит камень — жаль яйцо. Если камень ударит яйцо — жаль яйцо».
Пусть только кто-нибудь не вообразит, что мы, люди, — «камень», а Природа — «яйцо»!
1975
СЛОВАРЬ БОЛГАРСКИХ И ТУРЕЦКИХ СЛОВ И РЕАЛИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ
Арнаут — албанец.
Башибузук — солдат нерегулярных частей турецкой армии.
Билюкбашия — глава, начальник отряда.
Гази — победитель неверных, почетный титул героев-победителей.
Гайда — волынка (музыкальный инструмент).
Гайдук — лесной разбойник; впоследствии — повстанец, борец против османского ига.
Декар — десятая часть гектара.
Джупкен — мужская верхняя одежда.
Долама — мужская верхняя одежда старинного покроя из грубой шерстяной ткани.
Кавал — народный музыкальный инструмент типа свирели.
Каймакам — правитель околии.
Каракачанин — представитель грекоязычной национальной группы, кочующей в Балканских горах со стадами овец и коз.
Качамак — крутая каша из кукурузной муки.
Комита — член тайного революционного комитета.
Конак — резиденция правителя округа; турецкое полицейское управление.
Копраля — палка в рост человека с наконечником; одним концом погоняют волов, другим — очищают лемех плуга во время пахоты.
Община — административная единица в Болгарии до 1949 г., объединявшая жителей одного или нескольких сел, во главе которой стояли общинный совет и староста.
Ока — старинная мера веса, 1225 г.
Околия — административно-территориальная единица, район.
Помак — болгарин, исповедующий магометанство.
Потури — штаны из домотканой шерстяной материи с широким верхом и узкими внизу штанинами.
Райя — буквально: стадо; презрительное название подневольного христианского населения в Османской империи.
Ракия — водка из сливы или других плодов.
Рученица — болгарский народный танец.
Спахия — турецкий феодал.
Чешма — источник, заключенный в трубу, с каменной или деревянной облицовкой.
Ятак — помощник партизан.
Примечания
1
В 1923 г. в Болгарии произошел фашистский переворот.
(обратно)2
1931—1934 гг., когда в Болгарии у власти находилось правительство «Народного блока» — группировки буржуазных партий — «демократической», «Земледельческого союза» и др., в котором главную роль играла демократическая партия.
(обратно)3
Государственный переворот, упразднивший власть «Народного блока».
(обратно)4
Старое название города Пловдива.
(обратно)5
После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. часть Болгарии, в которую входила Фракия и Македония, осталась в составе Османской империи. В конце XIX века развернулось широкое национально-освободительное движение как на самих этих территориях, так и в Болгарии. Была создана Внутренняя македонская революционная организация (ВМРО), а затем Македонский верховный комитет в Софии, который претендовал на руководство этим движением и вел борьбу с ВМРО.
(обратно)6
Калыч — кривая сабля (тур.).
(обратно)7
Катепан — правитель крепости или административной единицы. Действие рассказа относится к XIV веку, когда царь Иван-Александр разделил болгарские земли между своими сыновьями Страцимиром и Шишманом, несмотря на угрозу нашествия турок.
(обратно)8
Персенк — одна из вершин Родопских гор.
(обратно)9
Девятое сентября — день победы народного вооруженного восстания 1944 г.
(обратно)10
Рассказчик подразумевает ружье марки «Баретта».
(обратно)11
В городе Копривштице проводятся смотры народного творчества.
(обратно)12
Ильин день — 20 июля.
(обратно)13
Восстание 1876 г. против османского ига.
(обратно)14
Дряновский — от названия города Дряново.
(обратно)15
Бакыр — медь (болг.).
(обратно)16
Персонаж повести Ивана Вазова «Наша родня».
(обратно)17
Герой одноименного сатирического произведения болгарского писателя Алеко Константинова.
(обратно)18
Кремиковцы — металлургический комбинат неподалеку от Софии.
(обратно)19
Ppm — единица измерения концентрации.
(обратно)
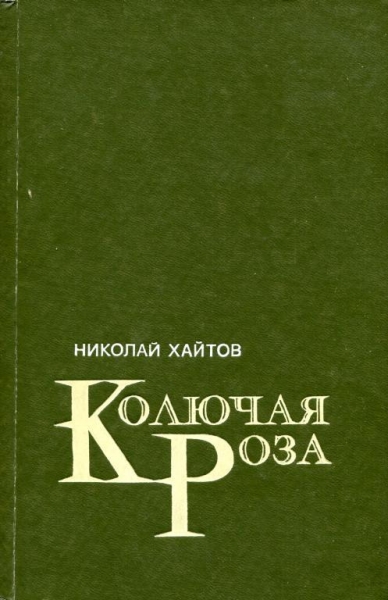







Комментарии к книге «Колючая роза», Николай Хайтов
Всего 0 комментариев