Я. А. Соколов Вызов принят: невероятные истории спасения, рассказанные российскими врачами
© Соколов Я., текст, 2017
© Щепин С., иллюстрации, 2017
© ООО «Издательство «Э», 2018
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.
***
«Мы привыкли думать, что лучшие врачи и уникальные победы происходят только за рубежом. Но это ошибка. Наша медицина и наши врачи не просто способны на подвиг. Они совершают их каждый день, в режиме рядовых будней. Книга «Вызов принят» – красивые и очень трогательные истории, рассказанные от первого лица».
«Такие книги нужны, особенно сейчас! Они учат добру, уважению. Как глоток воздуха в суете повседневных забот. Спасибо автору».
А. Ш. Салиджанов, пластический хирург
***
Выражаю свою благодарность моей маме,
семье Бельяниновых,
Андрею Ивановичу Кожушкову,
всем сотрудникам сети медицинских центров,
где я работал,
и Василию Кузнецову
за помощь в создании этой книги
***
Нам иногда кажется, что врачи и пациенты стоят по разную сторону баррикад. На самом деле, рядовые врачи действительно стоят на переднем краю борьбы за наше здоровье и порой – жизни, но стоят они с нами плечом к плечу.
Сегодня в России огромное количество талантливых, увлеченных, искренне любящих свою профессию и своих пациентов врачей. Мы не всегда помним об этом. Кто-то из них молод, другие – пенсионного возраста. У нас, к сожалению, не все благополучно с системой постоянно реорганизуемого здравоохранения, но люди в белых халатах и в голубых хирургических костюмах каждый день отдают свои силы и свое время, чтобы кому-то стало лучше.
В книге реальные истории из врачебной практики: с колес скорой помощи, из родильного отделения, из травматологии, реанимации и терапии. А также рассказы врачей, побывавших на месте катастроф и спасавших там жизни, рискуя своей собственной. Зная об этом не понаслышке, расскажу лишь один эпизод.
Когда в 1986 году произошла чернобыльская трагедия, я работала научным сотрудником в Институте гематологии и переливания крови. Многие наши врачи были тогда командированы в чернобыльскую зону для обследования пострадавших и забора анализов. Никто из них не отказался. Вместе с ними в той же группе были и сотрудники министерств, организаторы здравоохранения и других ведомств. По приезде наши коллеги с горечью рассказывали о малоприглядных фактах.
В Киеве в условиях замалчивания высокого уровня радиации прошла первомайская демонстрация. Пожарные чуть ли не руками разгребали завалы. В это же время облеченные властью сотрудники, бывшие с нашими врачами в одной группе, с жаром убеждали население, что ничего страшного не произошло, можно пить воду из-под крана и есть, как обычно. Что двигало ими при этом – медицинское невежество или сознательный обман – сейчас трудно сказать. Но сами рассказчики ели отдельно и только привезенную с собой пищу; даже руки мыли только водой из бутылей, привезенных опять же с собой. Врачи же садились за общий стол. В книге есть отдельная глава о Чернобыле, и там все правда.
В тексте много смешного, забавного, невероятно позитивного. Но много и болезненного, напряженного, устрашающе притягательного. Правда же заключается в том, что каждый день рядовые медицинские работники принимают тяжелые решения, а, бывает, спасают чью-то жизнь, рискуя собственной. Одни принимают непростые роды в машине скорой помощи и вынуждены выбирать, кого спасти – мать или ребенка. Другие не в кино, а в реальности уговаривают влюбленного подростка не прыгать с моста и не завершать свою жизнь так трагично и пошло. Третьи, накладывая повязки буйным потерпевшим, оказываются в зоне заражения ВИЧ-инфекцией. Четвертые, прибыв на место происшествия, сами становятся заложниками маньяка.
Реальные истории о реальных врачах рассказывает талантливый медицинский журналист Ярослав Соколов, который слышал их лично. Многие врачи просили не указывать их имена. Правда, которой они делятся, иногда слишком болезненна. Ярослав долгое время работал пресс-секретарем крупного медицинского центра, где в разное время для получения психологической разгрузки находились работники «невидимого» фронта – врачи.
Эти истории помогут вам не только достоверно увидеть, насколько ответственна и непроста работа врача, но и дадут реальное представление об уровне и возможностях современной медицины, помогут лучше понять происходящее и научат вовремя распознавать, когда что-то «идет» не так. Читая, вы без сомнения получите заряд гордости и вдохновения, которые неизменно возникают, когда слышишь истории, рассказанные самими докторами от первого лица.
Главный редактор
медицинского направления
канд. биол. наук
Ваша
Ольга Шестова
1. ОСТРАЯ ГРАНЬ Эта глава о том, как хирурги борются за человеческую жизнь, и о том, как сами порой становятся жертвами чужого непрофессионализма
Двойная ошибка
Хирургам более, чем врачам другого профиля, приходится работать в жёстких, стрессовых условиях, принимать в ходе операции моментальные, порой нестандартные решения, основываясь не только на знаниях и опыте, но и полагаясь на свою профессиональную интуицию.
«Я ещё учился в выпускном классе школы и только начинал задумываться о своей будущей профессии, – вспоминает хирург Андрей Мельников. – В сторону медицины поглядывал уже довольно давно – мой дед проработал всю жизнь врачом в небольшой сельской больнице, где прослыл местной легендой. Когда до выпускных экзаменов оставалось чуть более полутора месяцев, у меня случился острейший приступ – боли в правой нижней части живота, сопровождавшиеся тошнотой и повышенной температурой. Некоторое время я стоически пытался терпеть, полагая, что это банальное несварение. Однако, когда температура поднялась до 39-ти, пришлось вызывать «скорую».
Доктор задал мне несколько вопросов, провёл пальпацию живота, чередующуюся с лёгким постукиванием, после чего констатировал острый аппендицит.
Так я попал на первую в жизни хирургическую операцию. Хорошо всё помню, поскольку мне почему-то не стали давать общий наркоз, а ограничились местной анестезией, что, как я узнал впоследствии, очень странно при перитоните, когда рекомендован именно общий наркоз. Какими соображениями тогда руководствовались врачи – неизвестно. Сам процесс обезболивания тоже был проведён не вполне корректно: в течение всей операции я отчётливо ощущал манипуляции хирурга. Но то ли из юношеского максимализма, то ли по дурости старался не показывать этого ни врачам, ни молоденьким медсестричкам, терпел боль. Мало того, я даже пытался с ними шутить и поддерживать «светскую» беседу, несмотря на холодные капли пота, сползавшие по лбу.
После операции мне поставили укол морфина и на некоторое время я выпал из достаточно болезненной для меня реальности. На другой день лечащий врач рассказал, что у меня уже начинался перитонит и операцию провели весьма и весьма вовремя. Учитывая сложный случай, мне даже поставили специальную дренажную трубку для оттока воспалительного экссудата и для дополнительного введения антибиотиков.
Предполагалось, что я пролежу в клинике десять дней, но по причине тотального дефицита койко-мест меня выписали уже на четвёртые сутки после операции. Врач дал мне направление к хирургу в районную поликлинику и велел прийти туда на приём через две недели. За сим мы и расстались довольные друг другом – я был рад наконец-то отправиться домой готовиться, а он – освободить койку для ожидавшего своей очереди нового пациента.
По прошествии недели кожа под повязкой начала сильно чесаться, но я счёл, что именно так проходит процесс заживления и не стал беспокоиться по этому поводу. А еще через неделю явился в свою поликлинику на приём к хирургу.
Когда сняли повязку, по реакции врача я понял, что случилось нечто из ряда вон. Его благодушие сначала сменилось растерянностью, он развернулся к письменному столу, вновь разглядывая мою выписку и направление. Затем по его лицу пронеслась целая буря эмоций. Из потока слов мне запомнились лишь наиболее понятные – сепсис, тюрьма, коновалы, рукосуи и снова сепсис.
Как выяснилось, швы и дренажную трубку мне должны были снять ещё перед выпиской из больницы, но, видимо, в суматохе выписки об этом забыли, из-за чего у меня вполне мог развиться сепсис и тогда всё обернулось бы крайне печально. Врач замерил мне температуру, поставил укол антибиотика и принялся удалять швы, бурча под нос нелестные эпитеты в адрес коллег. Тут в кабинет вошла медсестра и сообщила, что его срочно вызывают к главврачу. Перед уходом он быстро заполнил мои бумаги, велев медсестре закончить начатое и наложить повязку. Я был счастлив, что легко отделался.
КОГДА В ДЕЛО ВМЕШИВАЮТСЯ ЛИЧНОСТНЫЕ СИМПАТИИ,
ВСЕ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ВЕСЬМА ПЛАЧЕВНО.
В МЕДИЦИНЕ НЕТ МЕСТА ЧУВСТВАМ,
ТОЛЬКО ХОЛОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Однако радовался я рано. Примерно через неделю я вновь почувствовал тот же неприятный зуд под повязкой. Устроившись в ванной перед большим зеркалом, я осторожно снял повязку, протёр рану спиртом и внимательно осмотрел послеоперационный рубец. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил там почти половину от первоначального количества наложенных швов! Они всё ещё были на месте! Но и это еще не все – там же торчала так и не снятая дренажная трубка!
В памяти всплыло лицо юной симпатичной медсестры, которая обрабатывала мою рану. Смущение помешало мне заметить очевидное – в тот момент мне хотелось лишь побыстрее одеться и покинуть кабинет.
«Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам», – вспомнил я старую поговорку. Достав оставшуюся от деда кювету для стерилизации медицинских инструментов, скальпель, пинцет, шприц, бинты, мазь и лейкопластырь, я приступил к делу. Аккуратно перерезав оставшиеся стежки швов, я принялся по одному вытягивать их пинцетом. Ощущения были достаточно своеобразные, но вполне терпимые. Самым критичным оказался момент удаления дренажной трубки. Когда это наконец получилось, меня слегка повело от внезапного головокружения и я был вынужден на пару минут прервать освоение хирургических навыков, прислонившись к стене. В итоге всё закончилось хорошо – я наложил новую повязку, закрепив её лейкопластырем, и мужественно поставил в левую руку укол с антибиотиком. Конечно, я никому не посоветую заниматься подобного рода самолечением, по крайней мере, без надлежащего образования и практического опыта.
Все мы люди со своими заморочками, у всех бывают проблемы, трудные периоды, запарка, плохое настроение, срывы. Но подобное хирург обязан оставлять за порогом операционной, да и вообще за дверями больницы. Хирургия подразумевает чрезвычайную ответственность. Этому меня научил первый опыт хирургической операции».
Лечить не только делом, но и словом
«Если говорить о сущности нашей работы, будет важным упомянуть, что с древнегреческого слово «хирургия» переводится как «работа руками», – рассказывает хирург Антон Валеев, практикующий в настоящее время в столичном частном медицинском центре, а ранее 5 лет проработавший в областной клинической больнице в Алтайском крае. – Да, в ходе развития медицины мы обретали новые знания и создавали новые технологии и инструменты, но главный принцип оставался неизменным – когда другие способы лечения оказываются неэффективными или попросту бессильными, надежда остаётся только на скальпель в руках хирурга.
Среди моих коллег я иногда встречаю тех, для кого хирургия становится обычной рутинной работой: есть проблема, есть инструменты и есть последовательность стандартных манипуляций для решения задачи – бери и делай. Однако большинство хирургов всё же видят свою миссию несколько иначе. Когда ты собственными руками правишь творение Божие, каковым является человек, созданный по Его образу и подобию, невозможно совсем абстрагироваться от философского аспекта этого действа, а точнее говоря, от его метафизической составляющей. Конечно же, любые другие методы лечения, я имею в виду консервативного лечения, терапии и прочих, тоже суть вмешательство в работу организма человека, но вмешательство хирургическое самое непосредственное и его результат радикальный, к тому же видимый и осязаемый.
Приведу показательный пример. Была у меня пациентка шестидесяти лет, которая обратилась по поводу удаления липом на обоих бёдрах. Липома – это доброкачественное образование, происходящее из жировой ткани. У этой женщины они были настолько большими, что она уже практически не могла ходить, запущенный случай. Мы провели операцию по удалению опухолей, всё прошло без осложнений. Эти две удалённые липомы вместе весили 12 килограммов, представляете, сколько она их растила?! Ведь это не за день и даже не за год так разрастается жировая ткань. Почему она не обратилась раньше, трудно сказать. Возможно, из-за каких-то своих страхов или из-за недоверия к врачам, но факт остаётся фактом – пациентка довела свой организм до такого состояния, что стала с трудом передвигаться. И вот простая операция – и решена многолетняя проблема, человек снова в форме, нормально ходит.
Кстати, хирурги всегда ставят диагноз до операции и после, по факту, в подтверждение или уточнение первоначального. А нередко бывает и так, что мы идём на одно, а находим совершенно другое, порой весьма неожиданное, И хотя алгоритм предстоящих манипуляций, будь то плановая или экстренная операция, известен, организм каждого человека сугубо индивидуален и случиться может всякое. Поэтому всегда нужно быть готовым к различным непредсказуемым поворотам в ходе операции. Такое происходит примерно в 10-ти процентах всех операций, что довольно много.
Пациентка, женщина 29 лет. Проводим плановую операцию по удалению послеоперационной вентральной грыжи брюшной полости. После вскрытия и иссечения грыжевого мешка на правом яичнике обнаруживаю кисту, довольно существенного размера, порядка 5 сантиметров. Как ни странно, но при обследовании на УЗИ она никак не просматривалась. Признаков перерождения новообразования в злокачественную опухоль или других осложнений не наблюдается, судя по всему, киста дермоидная, что позже и подтвердилось. То есть содержимое тератомы – это, в основном, жировая ткань, волосы, клетки дермы, как правило, её формирование обусловлено особенностями эмбрионального развития. После проведения тщательной ревизии брюшной полости, визуального обследования яичников, состояния матки и маточных труб принимаю решение об удалении кисты, поскольку её наличие чревато разного рода неприятностями – существует опасность перекрута ножки кисты и, конечно, всегда остаётся риск перерождения в злокачественное образование. Так, уже после благополучного удаления кисты приступаем к пластике брюшной стенки, первоначальной цели операции.
Всё прошло успешно, более того – примерно через год моя бывшая пациентка пришла ко мне на консультацию по поводу вынашивания беременности, а ведь прежде, до операции, она довольно долгое время безуспешно пыталась забеременеть. Вряд ли причиной бесплодия была сама киста, скорее всего, какой-то гормональный сбой, который и привёл к её формированию. Тем не менее в результате оперативного вмешательства решилась и эта проблема.
К сожалению, не всегда всё проходит так радужно, порой приходится отступать, когда в ходе операции ты сталкиваешься с непреодолимыми препятствиями. Здесь вспоминается другая моя пациентка. Женщине 76-ти лет диагностировали камни в почке, консервативное лечение эффекта не давало, наблюдались признаки острого пиелонефрита, возникали также подозрения на почечное кровотечение. Было принято решение об оперативном вмешательстве: если возможно – удаляем камень, если же почка сильно повреждена острыми краями камней, отчего и могли быть кровотечения, – удаляем почку. С пациенткой и её родными все эти варианты, естественно, оговаривались, и решение зависело от того, что мы увидим по факту. Однако то, с чем мы столкнулись, вскрыв брюшную полость, полностью перечеркнуло все наши планы и заставило опустить руки. У пациентки обнаружилась опухоль в брюшной полости 4-й степени, которую, казалось, ничто не предвещало – она не диагностировалась ни при одном из проведённых исследований. Случай был совершенно неоперабельным, метастазы были настолько обширные, что захватили уже и печень, и лимфоузлы, и даже лёгкие.
КОГДА ВРАЧ СТАЛКИВАЕТСЯ С ПОЛНОЙ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОМОЧЬ ПАЦИЕНТУ, У НЕГО «ОПУСКАЮТСЯ РУКИ».
НО ЖИЗНЬ КУДА ЗАГАДОЧНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ.
ИНОГДА ОНА ПРЕПОДНОСИТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НЕВЕРОЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ.
В подобных ситуациях главное не паниковать. При любом развитии событий ты должен быть собран и сосредоточен, ведь от тебя зависит вообще всё – и ритм операции, и состояние пациента, и состояние твоих коллег, медсестер, анестезиолога. Ты всё должен видеть и контролировать. Но в той ситуации я не ощущал ни намёка на панику, лишь глубокое опустошение и горькое разочарование – ведь я ничем не мог помочь пациентке.
Мы не стали ничего делать – зашили и всё. Оперировать не было смысла, наше вмешательство лишь существенно ухудшило бы общее состояние больной. Я не стал сообщать ей столь жестокий диагноз, сказал, что всё сделали и месяца через два будет полегче. Однако её дочери всё рассказал – родным лучше знать истинное положение дел и быть готовыми к неизбежному.
Но история на этом не закончилась! Через полгода бабушка снова появилась в нашей клинике, пришла ко мне на приём. Тогда, после операции, она уехала в Абхазию, где у неё были многочисленные родственники, которые могли обеспечить хороший уход и всяческую заботу, и, по словам самой пациентки, там она всегда лучше себя чувствовала. И вот приходит ко мне – и ничего у неё нет: ни камней в почках, ни раковой опухоли. Чудо, да и только! А как иначе это воспринимать? Помню, мы все тогда были в шоке, даже представить не могли, что когда-нибудь увидим её снова, а тем более излечившейся. Случай уникальный, безусловно, и интерпретировать его можно по-разному, но это уж точно не про хирургию.
Если любишь свою работу, то всегда будешь выполнять её добросовестно, с полной самоотдачей. У меня даже, знаете, как иногда бывает – вот не было пациентов сегодня, я с работы ухожу и осознаю, что никому не помог, ничего не сделал. Чувствую, день зря прожит. Очень не люблю такие смены, гнетущее ощущение после них. А когда работы полно – понимаешь, что всё было не зря, учёба, лекции, книжки, весь твой предыдущий опыт. Всё это было, чтобы кому-то помочь.
Раньше, когда работал в стационаре, бывало, что из операционной не выходил вообще весь день. В 8 утра захожу, в 16 выхожу, а то и гораздо позже. А медсестры привозят и привозят новых пациентов, прямо как на конвейере. И всё равно была радость и удовлетворение. Вообще говоря, я мог ровно в 16:00 скальпель бросить и уйти – и никто бы слова не сказал. Только это совсем не про меня. Так что, когда надо, я всегда оставался, хоть до ночи.
Безусловно, работа хирурга – это не только операции, но и установление контакта с пациентами, помимо осмотра. Прямое общение обязательно. Нужно собрать анамнез максимально подробный. Попытаться выяснить, в чём главная причина заболевания. Опять же, нет ни одной операции, при которой стопроцентно исключены какие-либо осложнения, и я обязан рассказать пациенту о перспективах лечения.
Кроме того, не все операции проходят под общим наркозом, многие под местным. Даже ампутации некоторые делаются при спинальной анестезии, когда блокируется только нижняя часть тела. Общий наркоз – это ведь не есть хорошо, не все больные его нормально переносят. Это и на сердце большая нагрузка, и многие болезни могут из-за него обостряться, лёгочные и неврологические, например. А региональная анестезия, то есть обезболивание конкретного участка тела, не так вредна. Чтобы морально подготовить пациента к ампутации, тоже необходимо большое искусство хирурга, о котором мало кто говорит. Ампутируешь больному ногу и разговариваешь с ним. Ты должен очень тонко чувствовать человека, знать, что и как ему говорить, как отвлечь, исключить лишнее волнение.
Любая хирургическая манипуляция – серьёзный стресс для организма, вмешательство в его работу. Больной отдаёт своё тело и свою жизнь в твои руки и он должен полностью тебе доверять. Если он идёт на операцию, позитивно настроенный на лечение, на улучшение своего состояния, шансов на успех гораздо больше. Повторюсь, очень важно общение с пациентом. Врач должен лечить не только делом, но и словом.
Очень счастливый человек
«Стать хирургом я решил ещё со школьной скамьи, – говорит Александр Харитонов, хирург с 15-летним стажем. – В колледже, где я учился, существовали медицинские классы, их как раз проходили для того, чтобы можно было понять – твоё или нет. Понял – мое. Поступил в мединститут. Там разделения на специализации не было очень долго – учишься просто на врача. Только на старших курсах выбираешь конкретную область медицины, в которой будешь в дальнейшем работать.
Сосредоточившись на обучении в клинической ординатуре Института хирургии им. Вишневского и развитии практических врачебных навыков, я скоро отметил для себя, насколько втянулся в работу, стал находить в ней истинное удовольствие. Мне фантастически повезло с руководителем обучения, им был Игорь Петрович Иволгин, которому я благодарен и по сей день.
Хорошо помню свои первые самостоятельные операции. Куратор мне говорит: «Приходи и рассказывай от и до, пошагово, что и как будешь делать, полностью анатомию органа, который будешь оперировать, какие нервы есть вокруг, какие возможны осложнения». Первая операция – удаление вросшего ногтя. Я ночь не спал – изучал, читал книги, статьи. Это была не зубрежка, а чёткое понимание всего процесса. После того как я всё это подробнейшим образом изложил, Игорь Петрович разрешил мне оперировать. Руки дрожали немного, но всё прошло хорошо. Наставник ничего не говорил, стоял рядом со мной и смотрел. Потом только сказал: «Молодец!»
Вторая операция – удаление инородного тела из пальца. Пациент работал столяром, поранил палец, туда попала стружка. Наружная рана вскоре закрылась, а сама стружка так и осталась внутри, началось воспаление. Это только кажется совершенной ерундой – подумаешь, поранил пальчик. Но нет, от такой маленькой занозы могут быть большие проблемы, причём чреватые и ампутацией – когда гнойное воспаление распространяется глубже, переходит на костную ткань и развивается уже остеомиелит. Прооперировал я работягу. Фрагмент стружки, действительно, оказался мизерным, малюсенькая крошка, её вообще не видно было, но я нашёл. По-другому нельзя.
МАЛЕНЬКАЯ ЗАНОЗА
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ БОЛЬШОЙ БЕДЫ.
ВСЕГДА НАДО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ И ОСТОРОЖНЫМ.
ЕСЛИ ЖЕ РАНА НАЧАЛА ВОСПАЛЯТЬСЯ —
ЭТО ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ КО ВРАЧУ.
Первым опытом абдоминальной хирургии, то есть полостной операции, для меня стала аппендэктомия – удаление аппендикса. Ассистентом был мой наставник, Игорь Петрович, которому прежде долгое время ассистировал я сам. Я стоял и всю операцию говорил, проговаривал вслух каждое своё движение, вплоть до инструментов, которые использую. И хотя методика операции отработана годами, и я, конечно, отлично знал её, к тому же сам не раз ассистировал коллегам, тем не менее определённое волнение перед операцией присутствовало. Но всё прошло без каких-либо эксцессов.
Если говорить о самой сложной части моей последующей практики, то это, пожалуй, работа с ожогами и обморожениями. Много раз с этим приходилось сталкиваться. Поступали больные, у которых до 90–95 % тела обгорело, и шансы спасти человека при этом минимальные. Тут целый комплекс факторов действует, реагирует весь организм, не только поверхность тела – это и сильнейший болевой шок, и обезвоживание, и нарушение кровообращения, и интоксикация. Через раневую поверхность происходит огромная потеря жидкости и белка, истекает много плазмы крови, лимфы, потом возможно и присоединение гнойной инфекции.
Я работал на севере, и пациенты с обморожениями разной степени тяжести там постоянно поступают. Вплоть до последней, когда развивается тотальный некроз всех тканей и начинается гангрена. А это уже ампутация.
Ампутация для меня вообще одна из самых трудных операций с психологической точки зрения. Подобное вмешательство очень опасно и для самого хирурга, оно сильно влияет на психику, может либо совсем тебя сломать, либо сделать чёрствым. Но если ты способен удержаться на этой грани, становишься не столько чёрствым, сколько жёстким. Ты не имеешь права поддаваться эмоциям, когда нужно спасать жизнь человека. Не будешь охать и жалеть пациента, тебе надо отрезать ровно столько, чтобы инфекция или гангрена не пошла дальше. Нужно быть очень жёстким и уверенным в себе. К этому не сразу приходишь. Скажу откровенно, меня однажды, ещё в ординатуре, даже стошнило в самой операционной. Правда, я тогда только ассистентом был, и операция очень долго продолжалась, несколько часов. Потом научился справляться с эмоциями и отстраняться от них.
Тяжелее всего бывает объяснить пациенту необходимость ампутации. Говорить об этом непросто, но выбора в этом случае нет, ты должен поставить пациента в известность. Вот и думаешь, как грамотно это сделать, как донести нужную информацию, обосновать, рассказать, чем чревато его состояние, какие перспективы после операции и так далее. Иногда приходится обращаться к помощи родственников, предварительно с ними обсуждать ситуацию. По телефону о таких вещах нельзя разговаривать, только с глазу на глаз. Я часто сначала рассказывал всё родственникам, убеждал, почему это единственный выход, и отправлял их разговаривать с больным, а потом уже сам шел. Считаю, что такие новости лучше узнавать от своих, от близких.
Хирургу тоже не всегда легко даётся подобное решение. По сотне раз продумываешь и передумываешь всё – ты должен на триста процентов быть уверен, что других вариантов, нет, что все возможности терапии исчерпаны.
Я, кстати, всегда в первую очередь стараюсь лечить консервативно, если это возможно. Скальпель в руки всегда успеем взять. Был у меня случай: мужчина получил травму на работе, рука попала в вальцы – это станок для гибки металлического листа, там вращаются два или три вала навстречу друг другу. И вот у этого работяги по неосторожности правую руку между ними затянуло. Кисть вся как пережёванная, кости переломаны, сильное сдавление мягких тканей. Такое сдавление чем опасно – в повреждённых тканях начинаются дистрофические изменения, возникают участки некроза, которые становятся источником токсинов. Может развиться травматический токсикоз, сепсис, со всеми вытекающими – нарушением функции почек, печени, повреждением нервной системы, лёгких, словом, последствия нарастают как снежный ком. Не говоря уже о повреждении нервов, параличе и прочем. И вот этого пациента направили ко мне, сразу поставили вопрос об ампутации кисти. Я посмотрел, можно ли что-то сделать. Провёл две операции по иссечению нежизнеспособных тканей и восстановлению кровоснабжения, обработку антисептическими растворами и так далее. В итоге кисть пациенту удалось спасти и даже сохранить подвижность пальцев. Несколько ограниченно, правда, но тем не менее.
Еще история. Мужчина, возраста немного за 30, что-то дома ремонтировал и неудачно у него сорвался тонкий надфиль и проткнул палец. Он вроде бы всё промыл как следует, продезинфицировал рану, но, видимо, какие-то микроскопические частицы, то ли металла, то ли ржавчины там остались, началось воспаление. Пока он мазал рану йодом и ждал, что всё само рассосётся, воспаление распространялось всё глубже, и когда он ко мне поступил, оно уже дошло до кости. Этому пациенту также пришлось делать несколько операций, чтобы по возможности минимизировать потери. Сначала я попытался ограничиться ампутацией первой и второй фаланг, но через некоторое время обнаружил, что инфекция всё же зацепила и оставшуюся кость, третью фалангу. Пришлось отнять и её.
Мужчина очень тяжело всё это переживал, для него это была трагедия – человек привык всё делать своими руками, а тут такая напасть, рука-то правая, да и указательный палец к тому же. Но потом понемногу успокоился, стал привыкать. Говорил мне: «Я, конечно, сам виноват, что так затянул. Спасибо вам, доктор, что я совсем без руки не остался, хотя бы кисть смогли сохранить. Придётся как-то приспосабливаться и отвёртку держать, и другие инструменты. А куда деваться?»
Это два таких, можно сказать, банальных примера, коим несть числа в обычной практике. Что-то удаётся спасти, а чем-то порой приходится пожертвовать. По крайней мере ты знаешь, что сделал всё возможное, всё, что от тебя зависит. И всегда стремишься именно к этому.
От летальных исходов, конечно, ни один хирург не застрахован, но я могу сказать, что лично у меня на столе никто, слава Богу, не умирал. Были онкологические пациенты, которым проводились паллиативные операции, а потом они умирали. Такое вмешательство не радикальное, оно лишь позволяет немного облегчить состояние больного, снять некоторые симптомы, уменьшить его страдания. Но в подобных случаях ты заранее знаешь, что человек неизлечим и итог, увы, неизбежен.
К огромному сожалению, и мне приходилось терять пациентов, осознавая и глубоко переживая свою беспомощность в определённых, пусть даже не зависящих от меня обстоятельствах.
Одна из самых горестных страниц в моей практике связана с девочкой Машей, было ей всего 4 годика. Малышка попала к нам в больницу с обширным ожогом, обгорело около 65 % тела. Семья неблагополучная, мать алкоголичка с двумя детьми. И вот однажды мать велела детям пойти самим затопить печку. Они и пошли. Старшая девочка, которая всего-то на два года старше Машеньки, взялась растапливать печь – плеснула туда бензина да и подожгла. Пламя моментально занялось и тут же выпорхнуло наружу. Сразу загорелся дом. Мать и старшая дочка смогли выскочить, а Машенька не смогла, не успела. Привезли её потом с ожогами, несопоставимыми с жизнью. Она была в сознании, чувствовала всю эту боль… Постоянно просила пить, мы смачивали ей губки… Старались делать всё, что могли, и врачи, и медсёстры, но организм был и без того сильно ослабленный, не справлялся. Мы её потеряли. А мать так и не пришла ни разу, пока мы боролись за жизнь её ребёнка…
САМОЕ ТРУДНОЕ ДЛЯ ВРАЧА —
БОРОТЬСЯ ЗА ЖИЗНЬ РЕБЕНКА.
И ТУТ ГЛАВНОЕ – НЕ ОЧЕРСТВЕТЬ,
НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ХОЛОДНОГО СКЕПТИКА.
Очень тяжёл такой опыт для любого медика, но приходится порой и через это проходить. Главное не растерять при этом самообладания и уверенности в своих силах, ведь ты нужен и другим пациентам. Чтобы закончить мой рассказ на позитиве – а он жизненно необходим в работе любого врача! – поделюсь историей, которой я очень горжусь.
У меня был пациент – Руслан Валерьевич, военный лётчик. В стационар он поступил с диагнозом атеросклероз сосудов нижних конечностей – сосуды не кровоснабжаются, конечности холодные. При этом заболевании поражаются артерии, из-за нарушения циркуляции крови развиваются трофические изменения в тканях, потом происходит сужение и закупорка вен, возникают отёки, может начаться гангрена. И вот Руслан был к нам направлен уже на ампутацию конечностей. Мы взяли его на стол. Я внимательно осмотрел в очередной раз – а конечность-то тёплая! Жалко было отнимать эту ногу, и я отменил операцию уже на самом столе. Решил, что стоит попытаться полечить консервативно. Не буду углубляться в специфику лечения, скажу лишь, что Руслан ходит на своих двоих. Да, он постоянно на таблетках и раз в три месяца проходит терапию в стационаре, но у него свои ноги! Так что спасти можно, не просто отняв конечность… Я сам порой не верю, честно говоря, что у меня всё получилось. Это как раз то, что укрепляет уверенность и придаёт силы. И это делает меня очень счастливым человеком!»
Есть только я и операционное поле
«Каждый врач, если говорить о специализации, по-своему уникален, – считает Владимир Орлов, хирург с опытом работы в стационаре более 25 лет, – но, думаю, хирурги во многих смыслах отличаются от других врачей. В первую очередь, у них более устойчивый психоэмоциональный фон, потому что в этой профессии огромная нервная нагрузка. Здесь больше, чем где-либо надо быть устойчивым и жёстким. Это, пожалуй, главное отличие.
Вот, смотрите, возьмём, например, терапевта и хирурга. Хотя это, конечно, не очень корректно, сравнивать хирурга и терапевта – у них разные задачи, разные подходы, разные сложности. Но, тем не менее. Терапевты работают с болезнью, с микробами, если хотите; над ними меньше довлеет ответственность при проведении каких-либо процедур или манипуляций. Назначил лечение – смотришь на реакцию организма, следишь за динамикой, корректируешь, назначаешь обследования и анализы. Согласитесь, это всё же не операции, где можно навредить малейшим неточным движением. Те, кто занимается хирургией, видят плоть человека и работают именно с ней. Тут нет болезни в общем виде, ты видишь конкретную проблему и устраняешь её. Видишь метастазы – удаляешь их, видишь кровотечение – лигируешь сосуды и так далее.
Это, конечно, дано не каждому. Я думаю, некая предрасположенность к этой профессии у человека должна присутствовать изначально. Впрочем, как и во многих других областях, здесь точно так же нужно обладать какими-то определёнными врождёнными способностями, по большому счёту, талантом, чтобы быть успешным профессионально и стабильно добиваться положительных результатов. Отчасти это касается и области философии, мировоззренческих принципов человека, но сейчас речь не об этом.
Многие качества, конечно, приобретаются – в процессе учёбы, а затем работы, накапливается не просто опыт, а вполне конкретные навыки, развиваются и оттачиваются не только сами движения, но и поведение вообще. Даже после первой операции начинаешь уже иначе себя вести – думаешь иначе, больше фокусируешься на каких-то моментах, стараешься минимизировать риски.
Я, кстати, заметил, что после того, как начал работать в хирургии, вообще не могу смеяться над анекдотами. Не знаю, почему. Наверно, стал смотреть на многие вещи иначе. Ещё, когда сам операции стал делать, понял, что очень сложно менять лицо, переставать быть хирургом со своими близкими, с друзьями. И очень сложно, выходя с работы, выходить с нее и психологически. То есть меняются внешние проявления эмоций, выражение лица, хотя внутренне всё остаётся прежним. И дело не в закрытости или холодности человека, совсем нет.
Вот был у меня на прежнем месте работы коллега, Иван Семёнович, исключительно серьёзный товарищ и строгий, все медсёстры перед ним трепетали, хотя он ни разу ни на кого не повысил голоса, словом, гроза отделения. За глаза его так и называли Иван Грозный. Так вот однажды он пригласил нас к себе домой на юбилей – и мы вдруг узнали, что он давно и методично собирает динозавриков из киндер-сюрпризов! Огромная коллекция у него была.
Я часто замечал, что у всех хирургов присутствует повышенное стремление делать что-то руками: в детстве, как правило, они увлекались конструкторами, разными поделками, любили модели собирать. То есть у них априори более развито конкретное, предметно-действенное мышление, нежели абстрактное. Ну, а потом в работе уже усиливаются эти навыки. Но они должны быть изначально заложены в тебе, надо уметь делать что-то руками, иметь развитую тактильную чувствительность.
В каждой профессии есть свои нюансы, требующие каких-то особых свойств мышления или темперамента человека. Кому-то, например, не дано автомобиль водить, кому-то – лампочку вкрутить – руки под это не заточены. А бывает с точностью до наоборот – всё дано, но человек не работает в этой области. И медицина тут не исключение.
У меня в институте в группе было 12 человек, так сейчас семеро уже не работают в медицине, ушли в другие сферы. Один понял, что сидеть в Волгограде и получать 6 тысяч рублей – это нищенство, перешёл в фармацевтическую компанию медпредставителем и ему только на старте дали 40 тысяч оклада. Купил машину, семью завёл, обустраивает квартиру. Другая сокурсница отработала два месяца в больнице, поняла, что не хватает денег на нормальное питание и тоже ушла, работает в косметическом бутике. А у обоих красные дипломы! В реальной жизни, к великому сожалению, способности человека и возможности для их реализации не всегда находят консенсус.
А на тему особой тактильно-кинестетической чувствительности хирургов расскажу забавный случай из собственной жизни. У меня брат работает в автосервисе, и я как-то раз договорился с ним, что заеду стеклоподъемники починить. Приезжаю, он мне говорит: «Слушай, я сейчас там закончу с клиентом, освобожусь и подойду к тебе. А ты пока разбирай панель, вот возьми инструменты». Ну, я открутил колонку, рукой залез, нащупал тросики, поменял моторчик стеклоподъемника, закрутил всё обратно. Подходит брат: «Ну ты чего не снимаешь панель-то?» – Отвечаю: «Да я всё поменял уже» – «Как ты поменял?!» Рассказываю. Он обалдел: как это можно было сделать, никогда прежде не видя ни одной детальки своими глазами, ты ведь делаешь всё руками и даже не представляешь себе, как это выглядит?!. Автомеханикам ведь сначала всё показывают, учат наглядно, на ощупь они только потом начинают делать, это уже со временем, с опытом приходит. Так что да, это такая очень характерная черта хирургов: ты «видишь» руками, распознаёшь предметы, внутренние органы на ощупь, понимаешь их объёмы, формы и так далее. Твои руки как аппарат УЗИ работают – сканируют.
Одно из ключевых качеств хирурга – стрессоустойчивость. Она уже в ходе обучения проверяется. Если не будешь справляться, ты просто не дотянешь даже до первой сессии. Всё от тебя зависит. Помню, на первом курсе института чуть ли не первая пара прошла в анатомичке – нас сразу повели показывать, как вскрывают тело. Ведь анатомию нам предстояло не по атласам учить, а по телам. На этом этапе, кстати, многие как раз и отсеиваются. И вот заходим мы, зелёные и глупые, а там запах формалина и тела лежат. Кто-то в обморок сразу хлопается, кто-то выскакивает. Кто-то держится, потом привыкает.
САМОЕ СТРАШНОЕ В РАБОТЕ ПАТОЛОГОАНАТОМА —
ТАТУИРОВКИ. ДВИГАЕШЬСЯ ПО ТЕЛУ И ВДРУГ ПОНИМАЕШЬ,
ЧТО ЗДЕСЬ ТАТУИРОВКА, КАКОЙ-ТО РИСУНОК,
ЧТО-ТО, ИМЕЮЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ,
К ЖИЗНИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА.
В анатомичке труп – это просто труп, предмет исследования. То же самое, что для химика колба, в которой он смешивает вещества. Ты работаешь – и всё. Это словно нечто, не имеющее отношения к людям. Самое страшное в такой работе – татуировки. Двигаешься по телу и вдруг понимаешь, что здесь татуировка, какой-то рисунок, что-то имеющее отношение к жизни, к жизни этого человека. И вот тут становится жутко. Татуировки это самое страшное в работе с мёртвым телом. Запах, конечно, тоже действует, запах смерти, да. Он особенный. Не знаю, как объяснить, но его потом всегда узнаешь точно.
В мединституте вся учёба построена так, что постепенно привыкаешь ко всему – к виду плоти и крови, к запахам разным. Медики ведь обычные люди, нас точно так же пугает кровь и отвращает запах гноя и фекалий, но мы просто этого больше видели. У студентов довольно рано (со второго семестра) начинается практика в больницах – они выполняют обязанности младшего персонала, говоря простым языком, работают «утконосами», ухаживают за больными. Потом присутствуют на операциях, смотрят, опрашивают пациентов. А на старших курсах есть судебная медицина, где ты на трупном материале ставишь диагноз, отчего умер человек. Всё это тоже составляет процесс обучения, не только лекции и книги, ты должен смотреть, касаться этого всего и привыкать.
Однако стрессоустойчивость врача определяется не столько привычкой работать с человеческой плотью как с любым другим органическим материалом. Хотя этот навык, безусловно, необходим в работе. Во время операции тоже ведь присутствуют и запахи плоти, но здесь они, в основном, смешиваются с другими, с запахами всяких медицинских препаратов, поэтому их уже особо не ощущаешь и не отвлекаешься на всё это. Разве что когда коагулируются ткани или сосуды, тогда да, чувствуется запах жареного мяса, он более резкий. Есть даже такая шутка юмора, что маска хирургам нужна, чтобы слюна не капала на рану.
Так вот, про стресс. Основные его причины для хирурга – постоянное нервное и психическое напряжение, ответственность, ментальное и эмоциональное переутомление. Это то, с чем ты должен уметь эффективно справляться, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Ты не можешь дать слабину и позволить себе такую роскошь как паника, нервы, сопли, слёзы. Увы, этого не понимает никто, и это не ценят. Но, поверьте, для хирурга подобные вещи – непозволительная роскошь!
Эмоции никак нельзя допускать, не место им в операционной. Именно поэтому, например, ни один хирург не возьмет на стол своего родственника или близкого человека. С незнакомыми пациентами отключаешься вообще от посторонних мыслей. Меня вот иногда родители спрашивают: «А не жалко? Это ведь живой человек». Но когда ты работаешь скальпелем, ты не видишь человека, не думаешь о его жизненных обстоятельствах, переживаниях, чувствах. От всего этого абстрагируешься. Перед тобой операционное поле и проблема, и есть задача провести определённые манипуляции в этом поле для достижения нужного результата. Ты сконцентрирован на решении задачи, увлечён процессом и просто чётко делаешь какие-то вещи. Поэтому, образно говоря, если я провожу операцию, и рядом со мной вдруг снаряд упадёт или пушка выстрелит – я не замечу. Просто не имею права на это как-либо отреагировать, если у меня пациент на столе. Я делаю операцию – значит, я максимально сосредоточен только на ней, отключён от всего остального мира. Есть только я и операционное поле».
Прикоснуться к сердцу
«Говоря о проблемах и общем уровне современного российского здравоохранения, нужно отдавать себе отчёт, что медицина ровно такая же часть системы, как и любая другая область деятельности, – считает Владимир Алексеев, заведующий отделением хирургии городской клинической больницы, – и все процессы, происходящие в жизни общества, не могут не отражаться на её состоянии. Скажу больше – все врождённые и приобретённые пороки общества, болезни его развития и гангренозные язвы, поражающие систему, медицину затрагивают в первую голову и здесь протекают в самой острой клинической форме. Думаю, оттого, что в медицине человеческий фактор как нельзя более значим.
Можно часами говорить о недостатке финансирования медицины и отсутствии должного обеспечения медучреждений современным оборудованием, о бестолковых реформах и закрытии уникальных институтов и больниц, о позорно низких зарплатах врачей, о коррупции, дипломах на продажу и так далее. Да, всё это имеет место и у нас, об этом часто говорят и пишут. Но мало кто обращает внимание на то, что из нашего обихода и нашей жизни постепенно исчезают такие понятия, как призвание, служение, смысл жизни. А ведь настоящая медицина без них немыслима! Без наполнения этих понятий живой энергией человеческой личности, без их постоянной подпитки, вся наша работа из оказания медицинской помощи превращается в «предоставление услуг», то есть становится предметом товарно-денежных отношений, объектом продажи.
НАСТОЯЩАЯ МЕДИЦИНА – ЭТО СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ.
БЕЗ ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ,
БЕЗ ОЩУЩЕНИЯ ПРИЗВАНИЯ
НЕВОЗМОЖНО СТАТЬ ХОРОШИМ ВРАЧОМ.
На мой взгляд, это принципиально важная разница! Услуга по умолчанию предполагает оплату и бюрократию, помощь – бескорыстие и участие. И многие перекосы, как в организации здравоохранения, так и в менталитете тех, кто так или иначе с ним связан, на мой взгляд, не что иное как последствия этой тонкой и незаметной, но столь фатальной подмены понятий – мы стали оказывать услуги, а не помощь. Вот материалисты говорят: бытие определяет сознание, а ведь эта формула не так проста, как кажется, по терминологии лингвистов это амфиболия, то есть двойственность. И её смысл зависит от того, какое слово здесь понимается в именительном падеже, а какое – в винительном, в роли дополнения. Лично для меня оба варианта прочтения равнозначны и равноценны, поскольку то, как мы мыслим, непосредственно влияет и на то, как мы существуем.
Безусловно, хорошая материальная база и нормальное финансирование медицины крайне важны для нашей работы. Согласитесь, невозможно быть высококлассным врачом, если не владеешь современными технологиями и не можешь оказать квалифицированную помощь больному из-за отсутствия необходимого оборудования и оснащения. Невозможно работать с полной отдачей сил, проявляя чудеса выдержки и профессионального мастерства, когда твоя семья еле сводит концы с концами и после полутора суток дежурства в стационаре дома тебя ждет пустой холодильник. А ведь профессия врача вообще, и хирурга в частности, сегодня не очень ценится, прежде всего, в финансовом выражении. Хирург – очень низкооплачиваемая профессия, несмотря на высочайший уровень ответственности за жизни пациентов. И меня крайне огорчает, когда из-за зарплаты оставляют медицину классные специалисты, а это, к сожалению, встречается на каждом шагу. Но есть и альтруисты, кто работает за идею.
Говоря о том, что наша профессия сегодня не ценится обществом и государством, я подразумеваю, конечно же, не только финансовую сторону вопроса. В наши дни статус врача резко упал, и мы давно уже не видим того уважения к работе медиков, которым всегда славилась эта профессия и которого она бесспорно заслуживает. В этом отношении у меня лично очень большие претензии к СМИ – в столь удручающую трансформацию общественного мнения они вносят весьма ощутимую лепту.
Понимаю, что журналисты и телевизионщики всегда предпочтут информационный повод, заведомо обречённый на широкий резонанс, но при этом не стоило бы забывать, сколько негатива подобные публикации и сюжеты возбуждают в людях. Я убеждаю себя в том, что нездоровый аппетит журналистов к жареным фактам и скандальным разоблачениям – родом из «голодных» лет советской цензуры, когда запрещалось писать о каких-либо катастрофах и их жертвах, разного рода неприглядных моментах жизни общества.
Хорошо бы они поднимали волну общественного возмущения там, где действительно необходимо активное участие граждан: например, когда из-за ведомственной неразберихи ликвидируется единственная в России клиника, в которой проводятся уникальные операции; или когда ради владения ценным земельным участком власти выселяют на какие-то задворки старейший медицинский вуз страны; или когда игрища бюрократов приводят к расформированию коллектива высококлассных специалистов, аналогов которому не существует в мире.
Но нет, обсуждение этих тем, по-настоящему актуальных и в буквальном смысле жизненно важных для многих людей, чаще встретишь на страницах блогеров и в соцсетях, чем в периодических изданиях. Вместо этого официальные СМИ предпочитают гоняться за дичью и муссировать обескураживающие новости, как, например, «пациенту по ошибке удалили почку вместо раковой опухоли», не удосужившись разобраться в сути вопроса, проверить достоверность истории.
Или вот тоже излюбленная тема публикаций: врачи забыли в брюшной полости пациента…
Далее на выбор: тампон/салфетку/перчатку/ зажим/ретрактор/очки. Но это же нонсенс! Невозможно что-то оставить внутри пациента, инструменты все считает медсестра, их нельзя забыть. Лично я за тридцать с лишним лет в медицине ни одного такого носителя забытых вещей не встречал. Но раз СМИ пишут, причём постоянно, люди верят, думают: да, это вообще для хирургов обычное дело.
Что тут скажешь? На любом колбасном или хлебопекарном заводе можно при желании отыскать крысу, а в любом, даже самом элитном ресторане найти таракана, на худой конец, принести его с собой для создания желаемого эффекта. Но, извините, зачем приводить частные случаи, отклонения от нормы, к общему знаменателю, зачем навешивать ярлыки на всех медиков и лепить собирательный образ врача как некомпетентного хама, разгильдяя и мошенника, которому плевать на пациента и для которого имеют значение лишь левые гонорары? Для чего нужно формировать такое общественное мнение, qui prodest? Думаю, в большей степени здесь замешаны всё же глупость и безответственность, когда, увлёкшись своей «утиной охотой», творцы сенсаций просто не ведают, что творят.
Безусловно, гнойные абсцессы на теле общества нужно вскрывать, но нельзя забывать при этом об асептике и антисептике, чтобы инфекция не распространялась по всему организму. А ведь как раз именно это и происходит благодаря таким «разоблачениям». Откуда же в обществе взяться уважению и доверию к докторам? Вот и начинают больные или их родственники сомневаться в действиях врачей по каждому поводу, а если что-то не так пошло в лечении – подавать иски и требовать компенсаций.
В силу своей должности заведующего отделением, мне много и плотно приходится контактировать с родственниками больных, недовольных результатами лечения, изучать претензии к врачам, вникать в конфликтные ситуации. Такие разбирательства, конечно же, особенно болезненны, заметьте – для обеих сторон, в случае летального исхода. Я прекрасно понимаю горе родных и человеческое желание выяснить причины произошедшего. Тем не менее не приемлю стремление некоторых обязательно назначить кого-то ответственным за потерю близкого, найти и наказать виновника. Бесконечное выискивание врачебных ошибок, фактов халатности, доказательств некомпетентности медперсонала и неправильного лечения, и тому подобного – сейчас явно в тренде. Только мне всё это очень напоминает поиски в тёмной комнате чёрной кошки.
Поймите меня правильно – я никогда не стану покрывать коллегу, если действительно обнаруживаются нарушения, и не снимаю ответственности с врачей, она заложена в самом фундаменте нашей профессии. Но посудите сами: если кто-то сломал какую-то вещь, то по логике, виноват, прежде всего, именно он, а не тот, кто не смог починить. А в медицине у нас почему-то считается наоборот, виноват врач, то есть тот, кто не смог починить. Почему – непонятно. Но я вам так скажу: на 50 % виноват сам пациент, на 40 % – окружающая среда и только на 10 % – доктор.
Два примера. Больная, 49 лет, диагностирован рак молочной железы 3-й степени. По всем показаниям после предварительной терапии рекомендована радикальная мастэктомия – полное удаление молочной железы. На операцию женщина не согласилась, подписала отказ, что уведомлена о последствиях. Через три года пациентка умерла, и её дочь стала обвинять во всём врачей – жаловалась в министерство, писала в прокуратуру, в газеты. Причём главная её претензия была в том, что доктора не убедили больную сделать операцию.
ЗАДАЧА ВРАЧА
НЕ ТОЛЬКО ПРЕДЛОЖИТЬ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТУ,
НО И ОБЪЯСНИТЬ ЕМУ ВО ВСЕХ ПОДРОБНОСТЯХ РИСКИ,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ОТКАЗ ОТ НЕГО.
ОДНАКО ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ЗА БОЛЬНЫМ.
Больной, 55 лет. Банальная рана, примерно в три сантиметра – пациент случайно порезал ногу острой железкой, началось нагноение. Поступил в хирургию, где ему всё обработали, прочистили рану, наложили мазь с антибиотиком. Всё сделали и хотели уже выписывать на амбулаторное лечение по месту жительства, ему нужно было лишь на перевязки ходить. Но тут жена больного в крик: оставьте в стационаре! Пошли навстречу, оставили. Нужно при этом понимать, что, во-первых, в больнице всегда гуляет инфекция, как бы с ней ни боролись и что бы ни делали. Во-вторых, люди там намного меньше ходят, возможности для двигательной активности минимальны, а значит, и кровь нормально не циркулирует. Умер человек в результате, от тромбоза. Его жена обвинила врачей. Судились.
Такие инциденты – довольно тяжёлое испытание для врача, они могут здорово выбивать человека из колеи, да и просто мешать работе – непрошенными мыслями невпопад, чрезмерной осторожностью и сомнениями там, где для них нет никакого повода. Не говоря о том, что многократно умножают психологическую нагрузку, и без того неслабую. А главное – губительно сказываются на мотивации врачей. Хирурги вообще-то очень уверенные в себе люди, другие в этой профессии просто не приживаются, но были и ситуации, когда люди увольнялись и даже совсем оставляли медицину из-за давления родственников больных и моральной усталости от долгих судебных разбирательств.
Однако большинство остаются и после такого стресса, продолжают оперировать. Наверно, потому что любят свою работу, в этом их долг, их жизнь и по-другому они её себе просто не представляют.
Вообще, надо признать, хирургия обладает какой-то непостижимой магией, своим особым магнетизмом, в ней есть нечто, что тебя притягивает с великой силой, и если ты подошёл к этому вплотную – уже никогда не отпустит. Помню, я раз повредил руку, катаясь на велосипеде, и потом почти полгода не мог оперировать. Это было самое драматичное время в моей жизни! Я не знал, как это выдержать, даже на уровне физиологии ощущаешь, будто в организме не хватает каких-то элементов. Очень тяжело. Хирурга лишить возможности оперировать – всё равно как птице обрезать крылья. Или пилоту сказать: «Ты больше никогда не будешь летать».
Скажу больше, многие явления и события в работе хирурга исполнены воистину мистических смыслов. Иногда мне даже кажется, что хирургия это в большей степени область метафизики, чем медицины. Может быть, именно благодаря этому для хирургов всё ещё имеют смысл и значение те понятия, о которых я упоминал в самом начале – призвание и служение.
Поделюсь личным опытом, в определённом смысле вполне метафизическом. Начинал я карьеру военным хирургом. Окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, прошёл интернатуру, потом служил в обычной войсковой части военврачом. В 1994 году, когда началась первая Чеченская война, как и многие другие специалисты, был назначен в состав медицинского отряда специального назначения, оказывал первую врачебную помощь раненым в боевых действиях. Работали мы тогда в военно-полевом госпитале по 15–18 часов в сутки, операции шли непрерывно, одна за другой, потом раненных готовили к эвакуации и отправке на «большую землю». Полевой госпиталь ведь предназначен не для лечения, в первую очередь – для экстренной помощи, первичной хирургической обработки огнестрельных ран и медицинской сортировки больных. Дальше ребят уже вывозили «вертушками» и направляли в армейские лазареты, окружные и центральные госпитали.
Честно сказать, я не часто вспоминаю вслух тот период своей службы, рассказывать о том, что пришлось пережить и увидеть тогда в Чечне, бывает очень тяжело. Так что дверь в этот личный архив памяти я стараюсь держать закрытой. Но коль скоро зашла речь о метафизике, один эпизод всё же раскрою. Поступает на рассвете очередная партия раненых – ночью боевики атаковали нашу часть. Приносят одного пацана, очень тяжёлого: проникающее ранение в грудь, из горла кровь хлещет, задыхается, скорее всего, задето лёгкое. Мы с коллегой приступили к операции.
Интубировали через трахею, дали наркоз, вскрыли грудную клетку, работаем. В какой-то момент у парня останавливается сердце, и я начинаю делать открытый массаж сердца, прямой – то есть беру сердце в свою руку и начинаю его сжимать-отпускать, сжимать-отпускать. И вот я стою и держу в руках сердце человека, а в голове вертится навязчивая мысль: «Вот я сжимаю сердце – он живёт, я остановлюсь – и он умер».
Никогда ещё я не чувствовал так остро ту самую ответственность за чужую жизнь, о которой мы всё время говорим. Сейчас это были не просто слова, незримая и прямая связь – я в самом буквальном смысле держал в своей руке жизнь человека. Не могу сказать, сколько продолжался этот миг в реальном времени, я будто находился в состоянии глубокого транса, где время не существует. Я ощущал неразрывную связь с этим мальчишкой, словно мы были звеньями одной электрической цепи или единым организмом: я чувствовал движение его крови, ритм которого совпадал с пульсацией моего собственного сердца – неудивительно, ведь я был его источником, его создателем; а в какой-то момент меня пронзила мысль, что наше влияние друг на друга взаимное, а связь – двусторонняя, и если его сердце остановится – моё остановится тоже… В общем, словами очень трудно передать всю гамму ощущений, которые я испытал в тот момент…
Наконец мы смогли запустить сердце раненного бойца и продолжить заниматься лёгким. Дальше всё прошло штатно, и на следующий день его вместе с другими ребятами отправили на «большую землю». В последующие годы мне не раз приходилось делать пациенту открытый массаж сердца, но подобный «транс», к счастью, больше не повторялся. Наверное, я просто научился лучше управлять своими эмоциями во время операций. Однако, признаюсь, и по сей день отчётливо помню то состояние и свои ощущения, и они дают многое для осмысления. Почему говорю: «к счастью»? Ну, как сказать, всё ведь хорошо в меру, а то, если бы в систему вошло – так ведь и до комплекса бога недалеко, а оттуда и до психушки. Хотя, с другой стороны, какие у Бога могут быть комплексы…»
2. СИЛЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ Эта глава и смешная, и героическая Она раскрывает самые неприглядные стороны работы врачей скорой помощи и помогает понять, насколько опасным может быть простой на первый взгляд вызов
Медицинский спецназ
Врачи «скорой помощи» – те, кто первыми сталкиваются с чрезвычайными ситуациями, внезапными кризисами, неожиданными приступами, резкими обострениями заболеваний, – часто становятся для человека единственной надеждой на спасение. Можно сказать, это медицинский спецназ.
И здесь, как на передовой, люди проявляются достаточно быстро – кто-то ломается, кто-то выгорает, увольняется. Иные же находят силы для борьбы и тот особый душевный отклик, который однажды и заставил их выбрать профессию медика.
Каким должен быть настоящий врач
«Случай этот произошёл давно, мне тогда только исполнилось четырнадцать, – вспоминает врач «скорой помощи» Алексей Осипов. – Было солнечное воскресное утро ранней осени. Сквозь полудрёму я слышал голоса – в прихожей прощались вчерашние гости, приехавшие из другого города и остановившиеся у нас на ночь. Затем вновь наступила тишина, и я уже почти погрузился в прерванный сон, нежась в тёплой постели.
Вдруг из соседней комнаты донеслись странные хрипящие звуки и сдавленный вскрик мамы. Меня толчком выбросило из кровати – не знаю откуда, но внутри себя я уже знал, что случилось. Распахнув дверь, я увидел на кровати тело отца, распростёртое на спине, глаза его были закрыты, он хрипел. Мама, бледная, с дрожащими руками, суетилась вокруг него.
В голове возник сюжет из телепрограммы «Здоровье» о непрямом массаже сердца. Именно его я сразу же постарался сделать. Помню, действовал достаточно чётко, но так, словно всё происходило не со мной, и эти осмысленные действия проделывал совершенно другой человек.
Это не помогло, мама отправила меня вызвать «скорую помощь». Поскольку наша многоэтажка была ведомственной, от железной дороги, то телефоны там были не общегородские, а внутренние, выходившие в обычную телефонную сеть через добавочный номер. И даже такие телефоны были установлены далеко не у всех жильцов. На нашей лестничной площадке телефон оказался лишь в одной из квартир. Сбивчиво объяснив ситуацию соседям, я принялся спешно набирать «03».
На том конце провода скучающая девушка вяло выспрашивала возраст, место работы, сопутствующие заболевания и тому подобное. Когда я попытался объяснить, что вызов экстренный – у человека случился сердечный приступ и он умирает, – она положила трубку. На вызов больше не отвечали. Заскочив в квартиру за монетами, я бросился на улицу к ближайшему телефону-автомату. До сих пор помню, как я тогда бежал в незашнурованных ботинках по гулкому, пустынному утреннему двору.
На этот раз мне повезло, мой вызов приняли, сказав, что «скорая» в ближайшее время подъедет, и я побежал встречать бригаду медиков у подъезда. Время тянулось, казалось, ожиданию не будет конца. Наконец, сверкая синими огоньками, неспешно подкатила машина «скорой помощи». С того момента, как я сделал вызов, прошло три четверти часа, футбольный тайм! Город был небольшой, о пробках тогда ещё не знали, и за это время можно было проехать его вдоль и поперек!
Лифт не работал, пошли по лестнице. Врач и парочка медсестричек особенно не торопились, то и дело останавливались и весело обсуждали свои личные дела. У них было отличное настроение, а до меня и моей беды им не было никакого дела. Я забегал на один-два пролёта вперёд и возвращался к ним, пытаясь их поторопить, но они словно не замечали меня. Когда мы, наконец, вошли в квартиру, там плакала мать. Отец был накрыт простынёй. Мама взглянула тогда на меня и сказала: «Нет у тебя больше отца, Алёша». В этот день кончилось моё детство.
НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
БЕЗРАЗЛИЧИЕ К ЧУЖОМУ ГОРЮ
И НЕЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ МОГУТ СТОИТЬ ПАЦИЕНТУ ЖИЗНИ.
Повлиял ли этот случай на мой выбор профессии? Возможно, в чём-то да. Вообще медицина меня интересовала ещё с раннего возраста, а в старших классах этот интерес лишь усилился. На что этот пережитый мною трагический случай точно повлиял, так это на представление о том, каким должен быть настоящий врач.
Наверное, пока человек, ставший доктором, подсознательно не научится примерять на себя чужую боль – хотя бы чуть-чуть, самую малость – он никогда не поймёт своих пациентов и не сумеет стать врачом в подлинном смысле этого слова. Когда я сам оказываюсь на сложном вызове и от меня требуется быстрое принятие непростого решения, я невольно вспоминаю то далёкое воскресное утро, собственную боль и растерянность. Зачастую именно эта боль помогает собраться, сконцентрироваться и сделать правильный выбор.
Думаю, самое страшное для врача – равнодушие, неспособность воспринимать страдания своих пациентов. И что бы ни говорили о необходимости отключать эмоции и абстрагироваться, какие бы ни рассказывали анекдоты о медиках и об их профессиональном цинизме, я считаю, что врач без чуткого, открытого для людей сердца – не врач, а обычный ремесленник».
Один в поле воин
«Работать в «скорую» я пришёл 17 лет назад, – рассказывает врач Максим Гришин. – Для нашей семьи тогда было сложное время – предприятие, на котором отец четверть века оттрубил ведущим инженером, перешло к новому владельцу, который его и обанкротил. Отец с трудом находил временный заработок, и этих денег даже вместе с маминой зарплатой бухгалтера нам едва хватало на существование. Так что однажды мне пришлось забыть о дневном обучении в мединституте, перевестись на вечернее отделение и идти работать. Благо, к тому времени я отучился уже 4 курса, поэтому меня сразу взяли фельдшером на городскую подстанцию «скорой помощи».
К работе я приступил с энтузиазмом, мне было интересно увидеть проявления всех тех болезней и симптомов, о которых я прежде слушал на лекциях и читал в учебниках. Однако первые месяцы работы принесли одно разочарование. На вызовы я ездил в составе врачебной бригады – врач, я и медсестра или санитар. Ни одного сколько-нибудь интересного случая, где я мог действительно чему-то научиться и как-то себя проявить, никак не представлялось, попадались совсем не «скоропомощные» пациенты – либо одинокие бабульки, которым больше не с кем поговорить и пожаловаться на жизнь, либо бомжи и алкоголики, с лёгкой руки сердобольных прохожих. Увидят – лежит себе такой красавец в подворотне или на скамейке, сразу кидаются скорую вызывать, мол, сердечный приступ у человека. Ну, подойди, поднеси зеркальце, пульс пощупай, прежде чем вызывать. Видно, брезгуют, проще «03» набрать.
Единственное, что тогда радовало – это редкие выезды с реанимационной бригадой Петра Аркадиевича Сомова, весьма своеобразного товарища. Огромный, брутальной, если не сказать бандитской, внешности, с мощными бицепсами и кучей наколок на них, доктор Сомов, по-простому Аркадич, одним своим появлением оказывал на пациентов оздоровительное воздействие, был настоящим профи и всеобщим любимцем подстанции.
Редкие выезды в составе бригады Сомова тоже не показались мне чем-то экстраординарным, и с точки зрения моей медицинской практики были довольно банальны. Помню вызов на инсульт, на месте оказавшийся компрессионно-ишемической невропатией лицевого нерва, пару таких же невнятных подозрений на инфаркт миокарда, по факту диагностированных как межрёберная невралгия с иррадиацией болей под лопатку, да три или четыре ДТП, к счастью для пострадавших, обошедшихся без моря крови и летальных исходов.
Однако само общение с доктором Сомовым, будь то по пути на вызовы или между ними, давало много пищи уму алчущего знаний неофита. Как рассказчику Аркадичу не было равных среди коллег, а его десятилетний опыт работы в кардиореанимации и почти такой же на «скорой» был неиссякаемым источником медицинских тем и прецедентов. Эти истории порой казались настолько абсурдными, а то и просто анекдотичными, что я никогда не мог чётко разделить правду и вымысел. Но как бы там ни было, они всегда оставляли глубокие зарубки на моей памяти, поскольку будоражили воображение и не позволяли закисать извилинам.
А моё отношение к работе на подстанции и понимание ее сути вскоре претерпели кардинальное изменение, как и понимание самой её сути. Поводом послужил очередной вызов, поначалу не предвещавший ничего нового и необычного.
Мужчина, 69 лет, жалобы на тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. На дворе стоял холодный сентябрь, вовсю свирепствовал вирус гриппа, так что в тот день штат подстанции держал оборону половинным составом.
– Макс, тебе придётся ехать одному, – передавая мне вызов, сказал старший врач смены. – Да не пугайся ты – там, скорее всего, банальное пищевое отравление. Дядька, небось, грибков домашних поел с поганками. Сделаешь промывание желудка, клизму поставишь. Если что подозрительное – отвезёшь в больничку. Уразумел?
– Но я же один ещё ни разу не ездил…
– Вот будет тебе заодно и боевое крещение. Сам видишь, врачи сегодня наперечёт. Кого я отправлю на вызов, если что серьёзное?
На месте я сразу понял, что ни о какой пищевой интоксикации говорить не приходится – больной был весьма тучным мужчиной и после перенесённого четыре года назад инфаркта соблюдал строгую диету, о грибочках, а тем более о консервах или об острой и жирной пище речи быть не могло. К моменту прибытия скорой позывы на рвоту у больного прекратились, его беспокоили только тошнота, изжога и интенсивные боли с правой стороны живота и в правом подреберье. Больной был на вид бледен, температура тела в норме, артериальное давление – слегка пониженное, 110/50. При пальпации ощущалось некоторое вздутие живота и напряжение брюшной стенки, однако точнее локализовать боль не удавалось. Аппендэктомия была сделана ещё в юном возрасте, так что вариант с аппендицитом сразу отпадал.
Пока я мысленно перебирал все известные мне и подходящие под симптомы диагнозы – от острого приступа панкреатита или гастрита, до прободения язвы и ишемии кишечника, вплоть до мезентериального тромбоза – жена пациента охала и хлопотала рядом. Из её причитаний я узнал, что больной буквально месяц назад вернулся из санатория, а для получения путёвки и курортной карты проходил ряд обследований в своей ведомственной поликлинике – и УЗИ, и гастроскопию, и колоноскопию. Эта информация отодвигала на второй план заболевания ЖКТ, прободение язвы или ишемия кишечника становились менее вероятными. Что же тогда на первом плане? – понемногу я начал впадать в ступор.
– А что за санаторий? – спросил я ее, просто чтобы что-то спросить.
– Кардиологический, в Переделкино.
В моей голове что-то щёлкнуло и заклинившие было шарики и ролики закрутились с удвоенной скоростью. «Так, ИБС в анамнезе… Что ещё?» Память услужливо подбрасывала истории, услышанные в разное время от доктора Сомова об атипичных формах инфаркта миокарда. «Абдоминальный инфаркт! – с неожиданной для самого себя уверенностью констатировал я. – Сейчас бы снять ЭКГ, всё сразу стало бы на место».
Однако кардиографа у меня в машине не было – в те времена далеко не каждая бригада ими оснащалась, что уж говорить о фельдшерской, да по вызову на «пищевое отравление». Я решил ещё раз, более тщательно, послушать сердце пациента. Аускультация, скорее, подтверждала мой диагноз – сердечные тоны приглушены, с периодическим нарушением ритма.
ОТ БЫСТРОЙ И ТОЧНОЙ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА
ВРАЧОМ СКОРОЙ ПОМОЩИ
ЗАВИСЯТ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА.
ВСЕГДА.
Решив не пугать раньше времени больного и его жену, я не стал говорить вслух о своих предположениях, переведя разговор на лекарства, которые он принимал с момента появления болей. Ответ – но-шпа и альмагель. Дал ему разжевать полтаблетки аспирина в качестве антиагреганта, чуть позже – нитроглицерин под язык. Больного в любом случае нужно было срочно госпитализировать, и мы с Володей – мой водитель, он же санитар – стали думать, как транспортировать его до машины: носилки в лифт не помещались, стало быть, нам предстояло нести пациента на руках по лестнице с 6-го этажа. Дядечка, как я уже говорил, был довольно грузным, и Володя пошёл по квартирам искать подмогу, пока супруга пациента собирала того в больницу.
У одного соседа оказалось в наличии инвалидное кресло.
– Можете сидеть? – спросил я больного. – Боль не усиливается при изменении позы?
– Могу, – подтвердил тот и, приподнявшись, сел на кровати. – Так, вроде, даже чуть легче.
Дав ещё таблетку нитроглицерина, мы довезли мужчину до машины, переложили на каталку. Водителю я велел связаться по радио с диспетчером и вызвать реанимационную бригаду, а сам ещё раз измерил давление. Результат подтверждал мои худшие опасения – давление падало, особенно сердечное, 90/40. Заметив, что больному стало тяжело дышать, подключил кислород. На некоторое время это помогло, но затем он ещё сильнее побледнел, можно сказать, посерел, а на его лице выступил холодный пот.
– Кардиогенный шок, – сообщил я на подстанцию через водителя. – Где там бригада Сомова, едут?
Рассчитав дозировку и собрав капельницу с допамином, я уже готовился ввести иглу в вену пациента, но в этот момент он потерял сознание. Пульс на сонной артерии не прощупывался.
– Передай Аркадичу, у нас остановка сердца, – крикнул я водителю. – И давай живо ко мне, будем качать.
Дефибриллятора у нас тоже не было, поэтому надежда оставалась только на собственные руки. Выполнив, как учили, прекардиальный удар, увы, безрезультатно, я начал непрямой массаж сердца, а Володя, запрыгнув в кузов, стал вручную, через мешок Амбу, проводить искусственную вентиляцию лёгких. Минут через десять вера в успех наших реанимационных мероприятий начала стремительно таять, а в голове застучало пошлое «мы его теряем», но на моё и дядькино счастье, где-то уже совсем близко завыла сирена. Вскоре бригада Аркадича была на месте. Не переставая качать, мы быстро перегрузили каталку с пациентом в машину реанимации.
– Всё, дальше мы сами, – отчеканил Сомов, запрыгивая в кузов, – поезжай домой.
А я всё никак не мог переключиться – так и продолжал вышагивать между нашими машинами, напряжённо ловя чёткие команды доктора: «От тела. Разряд. Заряжаемся. Руки от тела». После второго импульса дефибриллятора пациент «завёлся», и «скорая» Сомова понеслась в больницу. Я, наконец, смог немного прийти в себя и оглядеться.
Жена больного стояла в прострации, прислонившись к нашей машине. Объяснил ей ситуацию, как мог успокоил, заодно измерил давление. Расспросив о самочувствии и убедившись, что нам не придётся возвращаться и откачивать уже её саму, проводил до квартиры и на всякий случай сделал инъекцию реланиума. Посоветовал ей пока оставаться дома, пообещав отзвониться, как только узнаю, в какую больницу госпитализировали мужа.
На обратном пути я всё прокручивал в голове ситуацию, пытался понять, всё ли я сделал или что-то упустил. Узнав у диспетчера, куда повезли моего пациента, сообщил его жене. Потом снова и снова вспоминал все детали, заполняя карту вызова уже в служебке подстанции.
– Ну, где наш герой дня? – зашёл старший врач, пожал мне руку. – Молодец, отлично сработал.
Медсестра Тамара протянула мне чашку горячего кофе, и я вдруг заметил, что в комнате понемногу собрался почти весь наличный состав смены. Откуда-то появилась бутылка коньяка – в принципе, наши сутки уже заканчивались, можно было себе позволить. Кофе с коньяком растопили ледяной ком в горле, и я снова смог разговаривать.
– Да уж, вот это я съездил на «промывание желудка», – усмехнулся я.
И тут, что называется, Остапа понесло. Я всё говорил и говорил, словно внутри меня прорвало плотину.
– А парень-то, похоже, крепко подсел на наш адреналиновый коктейль, – рассмеялся кто-то из врачей.
– Наш человек! – резюмировал старший смены.
– Да с потрошками! – голосом Глеба Жеглова рявкнул появившийся на пороге Сомов.
– Как там мой больной? – встрепенулся я.
– Довезли в лучшем виде. Выкарабкается, – успокоил коллега. – Правильный диагноз, Макс, это половина успеха. Так что ты действительно молодец, факт. Абдоминальный инфаркт и в стационаре-то не всегда дифференцируется вовремя, а по скорой так вообще везут обычно с острым животом в хирургию. И пока там до кардиограммы дойдёт – время-то уходит. А тут – без всякой ЭКГ, только по клинике да на слух…
– Ваши байки вспомнились… – попытался я как-то поблагодарить Аркадича.
– Байки-то байками, да только без знания матчасти и развитой интуиции на них далеко не уедешь. И без хорошего слуха. Так что с такими «тонкими ушами» тебе, парень, прямая дорога – в кардиологи.
Потом я долго обдумывал этот совет Сомова, но выбрал всё же другую специализацию. Окончив институт и пройдя положенное послевузовское обучение, я вернулся на ту же подстанцию, в качестве врача «скорой медицинской помощи».
Особая каста
«Работа на «скорой помощи» – это нечто совершенно особенное, даже не знаю, с чем её можно сравнить, – рассказывает старший врач подстанции Сергей Нестеров. – Случайные люди здесь надолго не задерживаются, а те, кто остался и проработал не один год, вряд ли захотят на что-либо променять своё беспокойное и нелёгкое дело.
БЫТЬ ВРАЧОМ СКОРОЙ ПОМОЩИ – ОСОБАЯ РАБОТА.
ОНА ПРЕДПОЛАГАЕТ УМЕНИЕ БЫСТРО СТАВИТЬ ДИАГНОЗ,
ОТМЕТАЯ В ГОЛОВЕ ВСЕ НЕНУЖНЫЕ И НЕУМЕСТНЫЕ.
И ПРИНИМАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ТОЖЕ В СЖАТЫЕ СРОКИ.
У врачей «скорой» со временем складывается свой уникальный строй сознания. Это особая каста среди медиков. Такие люди всегда находятся на острие событий, они ведут свою невидимую войну, с которой сроднились, и без неё не представляют своей жизни. Здесь никогда не знаешь, какой сюрприз преподнесёт следующий вызов, ты должен быть готов ко всему, готов сделать невозможное, вовремя найдя спасительное решение.
Бывает и множество ложных вызовов, когда звонит, скажем, чересчур озабоченная мамаша и просит перебинтовать порезанный пальчик её чаду, или приходится ставить магнезию вполне здоровой тётке, решившей, что у неё запредельно подскочило давление. Это также неотъемлемая часть наших будней.
Разные курьёзы случались, от смешных до совершенно абсурдных. Вызывают бригаду как-то ночью на суицид. Из объяснений звонившего ничего толком понять невозможно, молодой парень вроде бы как повесился под окнами многоэтажки. А на дворе – самая что ни на есть середина лета, теплынь, благодать, ветерок шелестит листвой, в воздухе разлит аромат цветов, звёзды сияют… Живи и радуйся.
Подъезжаем. Встречают нас парень и девушка.
– Где ваш повешенный? Где тело?
– А вон оно, тело – за гаражи побежало.
Смотрим в указанном направлении и видим, как бежит сломя голову неизвестный.
– Шустрый у вас покойник, однако.
– А то… Сами не ожидали такой живости, никогда бы не подумал, что он на такое способен…
Дальнейшие подробности мы узнали со слов очевидцев. В квартире на втором этаже гуляла весьма темпераментная компания молодых людей. Всё шло замечательно, но кому-то показалось, что как-то слишком однообразно, вот и решили они добавить остроты ощущений. Выпито было предостаточно и, наверное, только в этом свете можно рассматривать ту «шутку», которая неожиданно пришла в головы двум великовозрастным юмористам.
Решили они разыграть небольшой спектакль. Один из них должен был забраться на дерево напротив окон квартиры, где шла тусовка, привлечь к себе внимание и изобразить повешение. После чего, по задумке, компания в едином порыве выскакивает на улицу, розыгрыш раскрывается, все высоко оценивают искромётную шутку, и гуляние плавно перетекает на пленэр.
И поначалу всё шло у них по плану – парень забрался на дерево, сделал из собственного ремня петлю, прицепил его к ветке, привлёк к себе внимание, с трагической патетикой надел петлю на шею, помахал на прощанье рукой и сделал вид, что ринулся в бездну. Фатальная ошибка шутника состояла в том, что он второпях промахнулся и соскользнул ногами с пирамиды выстроенных внизу ящиков, повиснув на ремне уже совсем по-настоящему. Так что, когда его товарищи выбежали на улицу, он уже, надо думать, был где-то на пути к загробному царству.
Дальше начался настоящий трэш, в ходе которого все присутствующие окончательно протрезвели. Тоненькая хрупкая девушка подскочила к телу и пыталась удержать висельника за ноги, чтобы ослабить петлю, пока её приятель бегал за ножом, чтобы перерезать ремень. Чудо же состояло в том, что бедолага вообще пришёл в себя, так как провисел он в такой позиции довольно продолжительное время.
– Как раз перед самым вашим приездом он и очнулся, – продолжил рассказ соавтор незадавшегося перформанса. – Мы уже всякую надежду потеряли. А когда сирену вашу услышал, и до него дошло, что это скорая, подскочил и бежать. Только мы его и видели. Испугался, видать, что в психушку повезут. Так в одних носках и убежал, ботинки он, надо думать, снял, чтобы на дерево удобнее залезать было.
Воистину, вот что красный крест животворящий делает! Мёртвые воскресают, больные исцеляются! Ещё бы ума хоть немного некоторым добавлял, но это чудо, видимо, уже не в его власти.
К сожалению, по пьяному делу очень много и тяжёлых случаев бывает, не только анекдотичных.
«Скорую» набрала соседка: «Приезжайте срочно! Мужчина весь в крови, что случилось, не знаю, помирает». Прибыли на место: дверь квартиры не заперта. Постучали для приличия, не дождавшись ответа, вошли внутрь. Мама дорогая! Все стены, вещи и одежда в прихожей в крови, под ногами хлюпает – словом, море крови. Мебель перевёрнута и порушена, всё раскидано, а посредине этого бардака сидит на диване здоровенный мужик в семейных трусах и в полном ступоре, с ног до головы измазанный кровью.
ОСТАНОВИТЬ КРОВЬ – ПЕРВОЕ И САМОЕ ВАЖНОЕ,
ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ВРАЧ, ПРИБЫВ НА ВЫЗОВ.
В СРЕДНЕМ, ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ 5 ЛИТРОВ КРОВИ.
ПРИ ПОТЕРЕ 1,5 ЛИТРОВ ОН ЧУВСТВУЕТ ЖАЖДУ, СЛАБОСТЬ,
ОДЫШКУ. ПОСЛЕ ПОТЕРИ ДВУХ ЛИТРОВ —
ТЕРЯЕТ СОЗНАНИЕ И УМИРАЕТ.
Мы сразу же к нему, пытаемся определить, откуда кровь идёт. Осмотрели с ног до головы – никаких видимых порезов и ран. Сам он ни бе ни ме, еле языком ворочает и никакой ясности в дело не вносит. Я попросил фельдшера измерить давление, а сам пробежался по квартире в надежде обнаружить, чем он поранился, тогда будет понятнее, где искать порезы. Ванная в хлам: раковина разбита, шкафы сорваны, всё, как и в прихожей, в крови, словно на поле боя. Не найдя никаких улик, возвращаюсь в комнату с болезным.
– Что с давлением? – спрашиваю фельдшера.
– 90 на 60, – отвечает, – пульс 120, нитевидный.
Состояние пациента по всем признакам критическое, сам бледный, руки-ноги холодные, вот-вот отключится. Сколько он уже потерял крови, определить сложно, но литра полтора как минимум, так что если сейчас же не обнаружить рану и не прекратить кровопотерю, то живым больного до больницы мы можем не довезти.
Снова безрезультатно пытаясь пообщаться с мужиком, смахнул с его лица тампоном кровь, и тут на мою удачу на носу вдруг проявилась струйка крови, до этого совершенно незаметно стекавшая по лицу. После тщательного омовения и осмотра обнаружилась небольшая ранка в заднем отделе полости носа, которую я сразу же обработал и тампонировал. А ведь такая банальная вещь, как эпистаксис – носовое кровотечение – могла стать причиной летального исхода для такого здорового и крепкого мужчины.
Позже, осмотрев валявшийся рядом перевёрнутый стол вкупе с тем, что на нём перед этим стояло, я обнаружил стеклянную миску. Её острые края были заляпаны кровью. Судя по всему, эта ёмкость, в которой ещё недавно находилось что-то вроде оливье, и послужила источником неприятностей.
Моя реконструкция событий выглядела так: наш пациент после изнурительного трудового дня решил расслабиться дома в одиночестве. Выставил на стол бутылочку водки, салат и прочие любимые закуски. Вначале жизнь налаживалась – поднялось настроение, отошли в сторону проблемы и напасти. Вот только, к сожалению, продолжалось это не слишком долго, ровно до тех пор, когда изрядно захмелевший герой отключился, как и положено, в аккурат над миской с салатом.
Напоровшись со всего размаха носом на острый край стеклянной салатницы, мужчина повредил один из сосудов в полости носа. Поскольку товарищ, как выяснилось, был гипертоником, а сверх того обострил ситуацию обильным употреблением горячительного, всё это, естественно, усугубило общую картину, а еще благодаря чувствительному удару головой, возможно, он получил и лёгкое сотрясение.
И вот, впав в ступор, абсолютно дезориентированный мужчина весом с центнер, с глазами, заливаемыми кровью, принялся яростно сражаться с собственной квартирой. В результате физической активности давление подскочило ещё выше, и кровь из сравнительно небольшой ранки забила уже фонтаном. С потерей крови в организме пропорционально снижалось артериальное давление, пока не дошло до критических значений, а вместе с тем упала и общая активность индивидуума. Хорошо ещё, он успел постучаться к соседке за помощью.
В конце концов, остановив кровь и дав страдальцу таблетку валокордина для нормализации пульса, мы доставили его на носилках до машины. По пустынным утренним улочкам минут за пятнадцать довезли нашего героя до приёмного отделения больницы, где ему сразу же поставили капельницу с глюкозой. «Жить будет», – сказал принимавший его доктор.
Так что, дорогие товарищи, будьте бдительны – даже мизерная ранка может привести к серьёзным последствиям, особенно, если анамнез отягощён неумеренными дозами алкоголя.
Вот ещё случай, это уже, наверно, из серии анекдотических. Вызов ночью к больной с гипертоническим кризом.
В моей бригаде тогда работали совсем молоденькая фельдшер Оленька, длинноногая блондинка, мечта поэта и знаменитый на всю подстанцию и не только санитар Ваня Быков. Надо сказать, его внешность вполне соответствовала фамилии – этакий огроменный «славянский шкаф». Встретив такого ночью в тёмном переулке, можно от одного вида нервное расстройство схлопотать, при этом добрейшей души человек и чрезвычайно надёжный. Он в своё время прошёл практически все горячие точки, не получив ни единого серьёзного ранения. Наш водитель Василий во многом был под стать Ивану – здоровенный, накачанный, ему тоже довелось повоевать в первую чеченскую. На этой почве они и подружились: две горы мускулов, похожие друг на друга словно близнецы-братья. У нас их называли «двое из ларца».
У Вани тот вызов как раз пришёлся на день рождения. Мы его уже слегка поздравили, чисто символически, договорившись немного задержаться утром, после окончания смены, и отметить по-нашему, по-медицински, это событие. Однако кто-то из ребят успел и более серьёзно чествовать именинника, и пару капель спирта он-таки принял на грудь, правда, при его комплекции это было практически незаметно.
Приехали мы на адрес, поднялись на этаж, позвонили в дверь. И тут неожиданно выяснилось, что хозяином квартиры оказался мой одноклассник, с которым мы не виделись тысячу лет. Пациентом, ради которого мы приехали, была его жена. Измерили давление: 180 на 90. Собрав анамнез и уточнив, что она принимает, я сделал ей инъекцию магнезии. Сказал им вызвать утром участкового врача. Ситуация была ясна, оставалось лишь провести контроль давления и убедиться, что оно действительно снижается. Отправляя Оленьку и Ваню в машину связываться с диспетчером, я сказал, что буду минут через десять.
Я проконсультировал его по поводу болезни жены, убедился, что давление у неё стало снижаться, мы обменялись телефонами и договорились в ближайшее время снова встретиться. Спускаюсь, выхожу из подъезда, и тут моим глазам открывается просто-таки сюрреалистическая картина.
Вокруг нашей машины, стоящей невдалеке от ночного киоска, марширует группа молодых людей лет 20-ти, время от времени они останавливаются напротив сидящих тут же на бордюре Вани и Васи и хором рапортуют:
– Товарищ санитар городской подстанции «скорой медицинской помощи» номер три, двадцатый круг торжественного марша в честь Дня медика успешно завершён. Разрешите приступить к терапевтическим отжиманиям?
– Разрешаю, – отвечает наш Ваня, потягивая пивко из банки. – Продолжайте выполнение назначенных процедур.
Рядом сидит широко улыбающийся Василий и пьёт свою колу.
Как потом рассказали ребята, произошло следующее. Пока я беседовал со своим товарищем, Ваня и Вася забрались в кузов, где, как я полагаю, у именинника была припасена ещё не одна доза живительной влаги. Василий, поскольку за рулём, просто поддерживал кампанию. Оленька в это время оставалась в кабине, заполняла карту вызова. И тут у круглосуточного ларька нарисовалась пьяная местная гопота. Приобретя пиво, молодые люди огляделись по сторонам в поисках новых приключений. И, конечно же, они не смогли пройти мимо красавицы блондинки, скучающей в кабине «скорой» – завели с предметом своих вожделений непринуждённый разговор, лексику и стилистику которого не хочу приводить. Сначала они предлагали Оленьке пойти с ними потусить и потанцевать. Когда же она категорически отказала, решили применить грубую физическую силу и принялись вытаскивать сестричку из кабины. Это стало для них роковой ошибкой…
Задние дверцы скорой распахнулись и оттуда появились два огроменных детины, известные как «двое из ларца»: мол, чего изволите, хозяйка? Боюсь представить, в каком тридевятом царстве неожиданно довелось побывать этим королям подворотни, и какие страсти-мордасти познать в избытке, но маршировали они в ногу.
«На войне, как на войне, – сказал мне тогда Ваня. – Надо ведь не только тела людские лечить, но хотя бы иногда и мозги вправлять, а там, глядишь, и душа у кого-то проявится».
Я с ним согласен».
«Расширить диагноз»
«Люди, не связанные с медициной, не представляют себе всей сложности нашей работы, – говорит фельдшер «скорой помощи» Антонина Тимонина. – Мне даже приходилось слышать от знакомых, что задача «скорой» – просто отвезти человека в больницу, а там уж разберутся. Ну, может, ещё какой укольчик сделать, чтобы давление снизить, или успокоительное дать. Это, конечно, не так.
В РОССИИ ПРИНЯТО ДУМАТЬ,
ЧТО СКОРАЯ – «ТАКСИ» ДО БОЛЬНИЦЫ.
НО ЭТО НЕ ТАК. ВРАЧИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНЫ
УСТАНОВИТЬ ДИАГНОЗ И ПРИНЯТЬ, МОЖЕТ БЫТЬ,
САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА РЕШЕНИЕ —
НУЖНА ЛИ ЕМУ СРОЧНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
ИЛИ ВСЕ «САМО ПРОЙДЕТ».
Любая ситуация, требующая неотложной помощи, заставляет в считанные секунды мобилизоваться и направить все свои знания и опыт, в первую очередь, на оперативную постановку чёткого диагноза, а затем на принятие соответствующих экстренных мер. А представьте себе, что вы мчитесь на всех парах с «цветомузыкой» на место аварии или пожара – вы не можете заранее предположить, сколько там пострадавших, какой тяжести ранения они получили и что от вас потребуется. Всё это даёт огромную нагрузку на психику. Но это не самое страшное.
Гораздо хуже, когда ты пытаешься оказать первую помощь раненому, например, в драке, а он в благодарность набрасывается на тебя с матюками и кулаками. А то и с ножом.
Работала у нас года три назад врач Елена Павловна, молодой специалист, но руки золотые. Час ночи, поступает вызов на резаные раны и ушибы, приезжаем – в квартире кавардак после потасовки, стулья – в щепки, на полу – битое стекло. Полицейские уводят в свой «бобик» двух драчунов с синяками, оставляя нам третьего, потерпевшего и сержанта. Наш раненый в явном неадеквате, погуляли перед дракой, видно, неслабо. По словам сержанта, в этой компании в ходу и кокаин, эта троица – давние клиенты отделения. Судя по поведению и внешнему виду парня – уже употребил.
Из телесных повреждений наиболее критична – резаная рана на правом бедре, из неё хлестало, очевидно, была задета артерия. Перебитый нос тоже сильно кровоточил, остальное по мелочи – скальпированные раны на голове и руках, ссадины. Леночка, прижав кулаком артерию к кости – а делается это в паховой области, велит мне быстренько тампонировать носовое кровотечение, чтобы не заливало всё вокруг, и помочь ей с наложением жгута на бедро.
Тут парня заклинивает, и он начинает цепляться к врачу: ты куда, мать-перемать, руки тянешь, на святое покушаешься?! чего маску-то на морду нацепила, брезгливая такая что ли? А Леночка в тот день работала в медицинской маске, поскольку подхватила перед этим где-то в дороге насморк. Видимо, не успев ещё остыть от разборок со своими дружками, клиент наш заводится всё сильнее – начинает ручками махать, плеваться во все стороны и маску с Леночки срывать, бормоча: Гюльчатай, покажи личико. Сержант пару раз приложил его дубинкой по спине, но процедура не очень помогла, руками, правда, размахивать тот перестал, но всё время норовил укусить Леночку за руку.
Что делать? Вколоть ему аминазина с димедролом? Но тогда клиническая картина будет смазана, что затруднит дальнейшую диагностику, если там ЧМТ – тоже чревато, плюс токсикология поплывёт. После такой инъекции врачам в больнице будет сложно дифференцировать. Самым лёгким вариантом было бы просто пустить на самотёк – подождать, пока из бедра литр крови вытечет, тогда минут через десять парниша сам утомится и утихнет, можно будет спокойно бинтовать. Решили всё же не ждать. Витя, наш санитар, притащил носилки, вдвоём с сержантом добрым словом и резиновыми дубинками они чуток «расширили диагноз» клиенту и зафиксировали его, наконец, на носилках.
Наложив тугую повязку на бедро и перевязав дурную башку, мы сдали наркошу в стационар, и Витя покатил нас до дому, по пути делясь со знакомой диспетчершей нашими приключениями. Не успели зайти, подбегает заведующая подстанции: быстро мыться и осматриваться! Говорит, ей только что позвонили из больницы, куда мы доставили клиента, оказывается, его там уже давно знают – пациент вич-инфицированный.
Тут наша Елена с тихим «ох» начинает сползать по стеночке.
– Лена, что?
– У меня же ребёнок…
Выяснилось, что этот засранец всё же умудрился тяпнуть Лену за палец. Долго не могли её успокоить, только когда в три пары глаз осмотрели укушенный палец и все использованные перчатки проверили, наполняя водой, она немного пришла в себя. Я потащила её в душ, тщательно осмотрела и руки её, и лицо, и себя саму. Никаких ранок или царапин, слава Богу, не обнаружилось, а ведь гадёныш брызгал слюной во все стороны, если бы попала на свежую ранку – могли и заразиться.
К концу смены Лену слегка отпустило, но на следующий день она подала заявление об уходе. Да и понятно – девчонка совсем молодая, муж, маленький ребёнок, а тут неизвестно в какие ещё передряги можешь угодить, сколько таких неадекватных пациентов придётся вытаскивать с того света.
Заявление на того наркомана за преднамеренную попытку заражения писать она не стала, не захотела связываться да и вообще вариться во всём этом. Знаю, что примерно через полгода она устроилась в стационар, в хирургию, там всё же поспокойнее. А до этого чуть ли не каждую неделю бегала анализы на ВИЧ сдавать. Финал этой истории вполне благополучный, надеюсь, что и с психологической травмой Леночка справилась.
Вы скажете, что работа любого врача связана с подобным риском заражения – ВИЧ, гепатитом или какой другой инфекцией, особенно, например, хирурга. Это, конечно, так, но хирург в большинстве случаев всё же знает заранее, кого оперирует, и он на своей территории. А в наших полевых условиях этот риск на пару порядков повыше будет. Что уж говорить о нападениях на врачей и нанесении телесных повреждений! Это вообще сплошь и рядом, причём не только на вызовах к алкашам, бывает, что трезвый и по виду нормальный пациент неожиданно начинает проявлять агрессию.
КЛЯТВА ВРАЧА ГЛАСИТ,
ЧТО ПОМОГАТЬ НУЖНО ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ,
НУЖДАЮЩЕМУСЯ ВО ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ.
ДАЖЕ ЕСЛИ ПАЦИЕНТ САМ ОПАСЕН ДЛЯ ОБЩЕСТВА.
Вот случай: врачебная бригада приезжает к мужчине, который жалуется на боли в сердце и требует, чтобы его срочно отвезли в ту больницу, в которую ему хочется. Доктор популярно растолковал товарищу, что «скорая помощь» не медицинское такси, и начал проводить осмотр. Мужику не понравился ответ. Он вдруг резко подскочил с кровати и набросился на медика с кулаками, повалил его на пол и начал избивать ногами. Фельдшер тут же среагировал, бросился оттаскивать скандалиста, но это ему удалось не сразу, «больной» оказался здоровым бугаём. Вызвали полицию и сдали им на руки уже зафиксированного клиента. У врача же в результате констатировали множественные ушибы и сотрясение мозга. И это он ещё легко отделался, иных медиков самих прямиком в реанимацию приходилось доставлять после подобных инцидентов.
Конечно, с годами вырабатываются определённые правила поведения на вызове, техника безопасности в агрессивной среде, можно так сказать. Например, не вставать прямо напротив входной двери квартиры, лучше отойти чуть в сторону, ведь ты не можешь предугадать, как тебя там встретят. Не поворачиваться спиной к пьяным клиентам, да и вообще посматривать, чтобы сзади никто не маячил. Если вызов поступает от полиции или просто на «пьяную травму», на линию стараются отправлять самых крепких ребят. Если такая бригада свободна, само собой. Это в идеале, а по ситуации ездить на потенциально опасные адреса часто приходится и женщинам, в этом случае водитель или санитар прикрывает тылы.
С голыми руками мало кто рискнёт идти к клиентам, не внушающим доверия, к алкашам, наркоманам или буянам, и у каждой бригады обязательно имеются какие-то свои средства самозащиты. Самое простое – монтировка, но ей можно сильно покалечить хулигана, это уж на самый крайний случай. Обычно же наши народные умельцы делали подобие резиновой дубинки – из обрезка силового кабеля или обмотки, из куска садового шланга, набитого песком и так далее. И если на месте вдруг возникает угрожающая ситуация, крикнешь водителю или санитару: срочно релаксатор! и он сразу понимает, что дело швах, пора клиенту хорошенько «расширить диагноз».
Конечно, это форменное безобразие, что у нас до сих пор нет даже закона, приравнивающего в этом плане медиков к полицейским или ДПС-никам, нет такой статьи в УК за нападение на сотрудников «скорой». Пока одни только разговоры и проекты, а ведь число таких нападений растёт в катастрофической прогрессии, нужно уже что-то реальное делать, на практике, для защиты медиков «скорой»! Понятно, что каждой машине не выделишь сопровождение полиции и для каждой линейной бригады не наймёшь охранника, но можно же, например, водителю скорой придать статус охранника, с разрешением на травматическое оружие, это не так уж сложно. Ну, а до тех пор снаряжаемся кто во что горазд.
Нашей фельдшерской бригаде, в которой я работаю, в этом плане повезло. Расскажу как, чтобы хоть немного позитива добавить. Бригада наша – я да медсестра Таня, плюс водитель Сергей. И вот, помню, самое начало смены, только собрались, укладку проверили, как передают нам вызов на роды, у женщины начались схватки. С Танюхой перекинулись по дороге парой слов: в принципе, схватки только начались, спокойно довезём до роддома. Хорошо, машин мало, никаких пробок, и минут через 10 мы на месте.
Заходим, смотрим, а там не то чтобы воды отошли, там уже потуги в самом разгаре. Быстренько расспрашиваю женщину, что и как. Схватки начались часа полтора назад, но были достаточно терпимыми, поэтому она и не торопилась нас вызывать, к тому же оказалось, что у неё это третьи роды – стало понятно, почему всё так быстро. Осмотрела родовые пути, и моё сердце моментально ушло в пятки – ребёночек уже начал появляться, причём не головкой, а ягодичками. О наружном повороте плода на головку и думать не приходилось, поскольку воды отошли.
Вообще, конечно, при тазовом предлежании существует много рисков и самое правильное решение здесь – это кесарево, но мы уже никак не успевали довезти мамочку до операционной. Так что выбирать нам приходилось из двух вариантов – рожать на месте или в машине по дороге в роддом. Коротко обсудив с мамочкой плюсы и минусы обоих вариантов, решили остаться дома. Сергей по рации доложил ситуацию и запросил роддом, где нас будут ждать.
Между тем ребёночек начал выходить и довольно активно, вот уже и попа показалась. Как сказала чуть раньше роженица, это был мальчик, и я, не раздумывая, провела ей эпизиотомию – рассечение промежности. Дальше дело пошло веселее, вот он вышел уже до пупка, а минут через десять – родился весь. Танюша приняла малыша и мы перерезали пуповину. На всякий случай, чтобы избежать послеродового кровотечения, я ввела метилэргометрин с окситоцином и стала думать, как нам переносить роженицу в машину.
ДОМАШНИЕ РОДЫ – ВЕЩЬ ОЧЕНЬ НЕОДНОЗНАЧНАЯ.
ИНОГДА БЫВАЮТ СИТУАЦИИ,
КОГДА ПО-ДРУГОМУ ПОСТУПИТЬ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО.
НО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ИДТИ НА ТАКОЙ ШАГ,
КОНЕЧНО, НЕ СТОИТ.
И тут в квартиру врывается торнадо – взволнованный отец новорожденного в форме полковника полиции. Мы с Таней быстренько пресекли его попытки внести уличную инфекцию в комнату и озадачили поиском трёх «носильщиков» для переноски роженицы. Задача была моментально решена, поскольку полковник прилетел с нарядом на патрульной машине. Так, с полицейским эскортом за 15 минут мы доставили роженицу с малюткой в роддом, где всё было готово к нашему приезду. Как мы узнали позже, доставили как нельзя вовремя – через пять минут после того, как женщину подняли в родильное отделение, у неё открылось сильное кровотечение, возникли проблемы с отделением плаценты. Хорошо, мы не стали мешкать, сразу поехали, как только вышел ребёнок.
Дальше весь день был вполне спокойный, поступали довольно обычные вызовы – бабушки с давлением, перелом ноги на ровном месте, болевой синдром при радикулите и тому подобное. А закончился он очень необычно, а главное, неожиданно приятно. Но об этом лучше расскажет Таня».
Бригада ТТ
«Да, тот вызов я очень хорошо помню, – продолжает рассказ подруги Татьяна Рудакова, медицинская сестра выездной бригады. – До сих пор не перестаю удивляться, как Антонина смогла так быстро сориентироваться. И по сути, её решения спасли две жизни – и мамочке специалисты смогли вовремя помощь оказать, и ребёночек родился здоровеньким и без каких-либо родовых травм. Но всё хорошо, что хорошо кончается. И та смена для нас закончилась совершенно неординарно.
Вечер был спокойным, вызовов стало меньше, и мы с Антониной устроились прикорнуть на часок в комнате отдыха. Вдруг влетает слегка очумевший Серёга, наш водитель:
– Тоня, Таня! Вас там ищут!
– Кто? Что? На вызов? – подскакиваем, «на автомате» начинаем собираться.
– Не, там этот, полковник.
И тут в комнату вваливается наш давешний знакомец, счастливый и уже изрядно во хмелю папаша, с двумя огромными букетами:
– Девчоночки вы мои родные! Дайте я вас обеих расцелую!
Мы с Антониной так и сели: виданое ли дело – нас, работников скорой пришли благодарить, да ещё с цветами! За пять лет моей работы здесь это было впервые. Больные и родственники обычно приходят сказать спасибо лечащему врачу в стационаре или хирургу после удачной операции, или сестричкам шоколадку презентовать. Нас же мало кто вспоминает. Разве что жалобу накатать в случае безуспешного лечения, тогда сразу же находится и подстанция, которая приняла вызов, и крайний. Но чтобы специально искать бригаду, спасшую близкого человека, хотя бы просто ради тёплых слов, это очень редко, единичные случаи.
И вот наш полковник бросился нас обнимать, вручил каждой по букету, потом откуда-то достал две бутылки шампанского, тоже подарил нам. Не забыл и Серёгу – презентовал какую-то красивую бутылку, потом рассмотрели, оказалось, виски.
– Вы не представляете, какой сегодня праздник у меня благодаря вам! – слегка заплетаясь, делился радостью сияющий папаша. – Я десять лет ждал этого момента, ждал сына! А у нас всё девчонки получались. И вот оно, счастье! Вы его принесли в наш дом! Давайте обмоем! Серёга, брат, двигай за мной, – скомандовал он.
Тот пожал плечами, подмигнул нам и последовал за командиром. Через пять минут они вернулись с ворохом пакетов. Апельсины-мандарины-лимончики-бананы-киви и ананас составляли скромную компанию огромному торту, всяким прочим вкусняшкам и полдюжине бутылок коньяка.
– Ничего себе! – ошалели мы и тут же рассмеялись. – Вот что значит настоящий полковник! А как же друзья и родные? Вам, наверно, правильнее было бы сейчас с ними обмывать…
– Девчонки! Я и жену-красавицу уже поздравил, и со всей роднёй отметил, и вас не отблагодарить не мог! Народ, давайте все сюда! – в приказном порядке полковник привёл всех наших.
Накрыли стол, пошли тосты. Сначала за ручки, за ножки, за здоровье мамы-папы. После закуски не могли пройти мимо темы содружества, так сказать, родов войск – выпили за взаимопомощь и взаимовыручку медиков и полиции. Тема зацепила за живое всех, у каждого была своя история по этому поводу. У полковника как раз на тот момент два опера лежали в реанимации с тяжёлыми огнестрелами, обоих чудом вытащили с того света, а одну из наших бригад патруль на днях отбивал от хулиганов – прицепилась пьяная компания к молодой девчонке-врачу, кинувшегося к ней водителя вырубили сзади, потом и фельдшеру досталось, он отделался переломом лучевой кости. Как понимаете, это бесконечная история, потому что мы, действительно, очень плотно связаны – и полицейские всегда на линии огня, в зоне риска, и медики порой как на передовой.
Антонина тоже не осталась в стороне, припомнила одну из наших с ней эпопей, когда нам пришлось спасаться бегством через окно, спасибо, первый этаж. Получаем вызов – женщина 45 лет, жалобы на боли в животе и диарею, вызвал муж, судя по всему, сильно пьяный. Приезжаем – на кровати лежит хладный уже труп, по виду – смерть наступила часа 3–4 назад. За столом сидит мужик, пьёт в горьком одиночестве какую-то муть из стоящей тут же литровой канистры. Попытались расспросить: говорит, жена стала мучиться животом, её поносило, «для дезинфекции» выпила всё того же пойла, потом слегла. Когда ему объяснили, что собутыльница его уже своё отпила, впал в буйство: «Да я вас с утра жду! Вам на людей плевать, три часа едете! Это вы, сволочи, виноваты, вы её отравили!»
Потом словесные оскорбления он счёл недостаточными, решил перейти к активным действиям, отбил горлышко у одной из бутылок и на нас двинулся. Наш водила, стоявший тут же у дверей, оттолкнул алкаша, но тот быстро поднялся и кинулся на «обидчика». Серёга увернулся, монтировкой, которую взял, как чувствовал, отразил руку буяна с «розочкой», крикнул нам: бегите! и попытался прижать его к стене.
А куда бежать? – дверь как раз перекрывает этот хмырь, вырывается и шарит по полу в поисках нового орудия. Ну, мы в окно и сиганули, и бегом к машине. Серёга за нами выскочил, сел за руль, вызывает полицию. Тут видим – безутешный вдовец пустился за нами вдогонку, в руке кусок какой-то трубы. Серёга сразу по газам и ходу. Поехали в отделение, заявление написать, по пути вызвали наряд, а заодно и психиатричку. Весёлая поездочка получилась, да.
И вот мы так сидим, Антонина излагает всю эту леденящую душу историю, а я вижу – полковника не на шутку проняло, близко к сердцу воспринял наши передряги, как-то даже протрезвел, по-моему. Кулаком как стукнет по столу, за телефон схватился и вышел. Через несколько минут возвращается с каким-то сержантом, у того в руках коробка.
– Вот, девочки, это вам! – протягивает полковник нам с Антониной подарки: две настоящие полицейские дубинки! Серёге вручил третью, а в придачу электрошокер.
– Смотри, Серёга, за девчонок отвечаешь! Не подведи, брат! – поднял рюмку. – За прекрасных дам с добрым сердцем, золотыми руками и железными нервами!
На этом распрощался и уехал. Заглянули мы в коробку – а там целая куча баллончиков «черёмухи»! Взяли на свою бригаду три штуки, остальные девчонкам раздали, всем хватило. Так вот и получилось, что наша бригада стала самой крутой в смысле оружия самообороны, и на подстанции нас с Тоней стали именовать не иначе, как «бригада ТТ». И не один раз потом мы с теплом вспоминали благодарность настоящего полковника, многим его подарки впоследствии помогли избежать неприятностей, а то и увечий».
3. МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ Эта глава о том, как реаниматолог отключает своё сердце, чтобы включить сердце другого человек
Отделение реанимации – то место, где жизнь человека висит на волоске, и именно врач-реаниматолог может помочь человеку в буквальном смысле родиться заново.
Скверный случай
«История, которую я часто вспоминаю, произошла, когда мне едва исполнилось шестнадцать лет, – рассказывает реаниматолог Андрей Берестов. – В ней нет ничего экстраординарного, но она хорошо показывает специфику нашей каждодневной работы.
Дело происходило в уютном скверике, утопающем в июльской зелени. Люди отдыхали на расставленных по кругу лавочках. Свободных мест практически не было. И вот посреди этого умиротворения случилось непредвиденное – средних лет мужчина внезапно упал с лавочки на асфальт, все его мышцы напряглись, тело начали сотрясать сильные судороги, изо рта пошла пена. Вы не поверите, как быстро опустели скамейки в сквере! Люди убегали прочь, словно желая спрятаться от чужого несчастья и зрелища возможной смерти. И это вовсе не оттого, что все они такие бессердечные – подобное событие радикально нарушает устоявшийся ритм привычной жизни и требует совершения некоего поступка, причём прямо сейчас. А они к этому не готовы.
Уж не знаю, как так получилось, но меня, тогда ещё мальчишку, буквально бросило на помощь. Будто щёлкнул какой-то переключатель, и я стал совершенно другим, с головой окунувшись в решение внезапной проблемы. Вспомнилась информация из когда-то читаных книг и мельком просмотренных телепередач. Сразу пришло понимание, что это эпилептический приступ и что необходимо делать.
Когда позже я прокручивал в памяти этот случай, больше всего меня поразило, как быстро и чётко мне удалось организовать разбегавшихся прохожих. Один по моей команде побежал вызывать и встречать «скорую», другой снял брючный ремень, и мы его вложили в рот больному, чтобы он не откусил себе язык, третий подложил ему под голову свою ветровку. Остальные помогли аккуратно положить человека так, чтобы голова была наклонена набок, и слюна, свободно стекая, не давала бы ему захлебнуться. Всеми этими взрослыми людьми управлял старшеклассник, и они беспрекословно его слушались!
Ситуация для профессионала рядовая, но показательна она другим – в ней проявились те качества, которые необходимы реаниматологу. Умение брать на себя ответственность, быстро анализировать ситуацию и принимать решения, грамотно организовывать окружающих и привлекать все имеющиеся на данный момент ресурсы так, чтобы всё это служило главной цели – сохранению жизни пациента».
На пределе скорости
Говорят, в некоторых ситуациях промедление смерти подобно. Так вот, в реанимации нередко промедление и есть смерть. Темп там зачастую просто бешеный – нет возможности поразмышлять, полистать литературу, поискать информацию в интернете, посоветоваться с коллегами. Скорость решает если не всё, то очень многое – значительное число поступающих больных находится в состоянии клинической смерти, и не важно, из-за чего она наступила – падения с пятого этажа, автомобильной травмы, инфаркта или огнестрельного ранения – механизм умирания во всех случаях одинаков. Реанимация – это не лечение, и реаниматологу не нужно быть специалистом по инфарктам или ножевым ранениям. Он должен немедленно вернуть человека к жизни – завести сердце, запустить дыхание, наладить кровоснабжение.
Если терапевт назначил неправильное лечение от бронхита, человек вряд ли от этого умрёт, а когда реаниматолог за несколько секунд не нашёл единственно верного решения, больному это может стоить жизни. Этим реанимация и отличается от остальной медицины. Хотя иногда, в особо сложных случаях, врачи-реаниматологи могут приглашать к себе специалистов другого профиля. Тогда буквально за несколько минут приходится организовывать консилиум, чтобы выработать общее мнение, которое поможет спасти пациента.
Это просто работа
Борьба за жизнь больного, к сожалению, не всегда заканчивается в его пользу. По статистике средний показатель смертности в реанимационных отделениях в мире составляет около 20 %. Причины могут быть разными, как объективного, так и субъективного характера. В каких-то случаях реанимационные мероприятия бывают изначально обречены на провал, в каких-то играет свою роль жёсткий лимит времени. «Да, смерти в нашей работе много, – говорит Андрей Берестов. – С этим приходится смириться. У каждого реаниматолога, как и у хирурга, есть своё маленькое кладбище. Я помню тех своих пациентов, которых сейчас, уже с высоты многолетней работы и полученного опыта, я бы, наверное, мог спасти. А тогда у меня, вероятно, просто не хватило этого опыта, или, может быть, времени. Свою первую умершую пациентку я очень хорошо помню. Помню фамилию, сколько ей было лет, как она к нам поступила, как мы её реанимировали. Даже помню, какие препараты вводили. Я её очень, очень хорошо помню, эту свою пациентку.
КОГДА ОГЛЯДЫВАЕШЬСЯ НА СВОЮ ПРАКТИКУ
СПУСТЯ МНОГИЕ ГОДЫ ПОСЛЕ НАЧАЛА РАБОТЫ,
ПОНИМАЕШЬ, ЧТО СЕГОДНЯ МНОГИХ ПАЦИЕНТОВ ИЗ ТЕХ,
КТО УМЕР НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ,
МОЖНО БЫЛО СПАСТИ. И ЭТО УЖАСНО.
Потом уже, если не было каких-то особо выдающихся случаев – казуистических или редких, которые интересны именно с профессиональной точки зрения – не запоминаются ни люди, ни смерти. Так что это «маленькое кладбище» по ночам не снится, в ужас и трепет не приводит. Это просто работа, поэтому отношение к смерти совершенно спокойное, ничто не пугает.
При мне столько раз умирали, чуть ли не ежедневно и по нескольку раз за смену, что перестаёшь видеть в этом особый сакральный смысл, смерть становится чисто техническим вопросом. И организм человека представляется просто машиной. Вот она ездила-ездила – и сломалась. Ну, не может же она вечно ездить. Сломалась, масло вытекло. И грубо говоря, твоя задача – как можно быстрее найти причину поломки и устранить течь. Годы работы не дают избавиться от ощущения какого-то технического механизма смерти. Не воспринимаю я это как некий философский аспект.
Опять же, смерть в полном сознании очень редка. В основном когнитивная функция постепенно угасает, и человек просто не осознает, что с ним происходит. Вот едет он в больницу с какой-то сердечной проблемой, ещё не до конца понятной. Думает ли он о смерти? Ну, наверняка, но это не главные его мысли. И когда лежит в реанимации под капельницей, не всегда понимает всю тяжесть своего состояния. А затем, когда развивается сердечная недостаточность, нарушения кровообращения, когда инфаркт растет или появляются какие-то осложнения, там уже понемногу угнетается сознание, человек перестает о чём-то думать. Кроме того, половина наших пациентов находится под наркотиками или сильными обезболивающими, под седативными препаратами, то есть в полусне. Спят, а потом или умирают резко, или постепенно впадают в кому.
Иногда я думаю, хорошо, что человек редко умирает в полном сознании, для него тогда нет ужаса. Многие умирают достаточно безмятежно, во сне. Может, это лучшее. Умереть и не заметить.
Тяжелее всего, в такой ситуации, конечно, родным. Они вытерпели мучительные часы ожидания в приёмном покое, вскакивали с надеждой, завидев врача. И вдруг потеря близкого, похороны. Большая беда. Врачам отчасти легче ещё и потому, что спасённых намного больше. В сотни раз больше! И они живы только благодаря нашей работе.
Всё как у всех
Хотя, знаете, я не считаю, что мы, реаниматологи, такие герои с большой буквы – восхищайтесь нами, чествуйте и носите на руках, потому что мы спасаем людей. Иногда да, можно поделиться с коллегой каким-то интересным случаем, когда, казалось бы, человек должен был умереть, а ты справился с критической ситуацией. Это хорошо сделанная работа, которой можно гордиться. И это правильно. Работа, которая не приносит гордости за себя, – отвратительная вещь. Я не помню точно, но, кажется, Черчилль сказал: «Счастье – это когда на работу идешь с удовольствием, а с работы с радостью».
К сожалению, бывает, врачи ходят на работу как на каторгу, потому что эмоционально выгорели. Но многие доктора с огромным удовольствием работают, так как знают, что делают нужное и важное дело. И ты видишь плоды своего труда: вот пациента, которого ты спас, переводят из реанимации в другое отделение.
Что касается благодарности пациентов – конечно, не это движет врачом. Некоторые, действительно, говорят поначалу: «Доктор, я вас озолочу», а потом забывают. И в этом нет ничего плохого или непонятного. Очень даже закономерно: когда человек лежит в реанимации, находится между жизнью и смертью, он готов пообещать всё, что угодно.
В реанимации к тому же многие пациенты, как я уже говорил, находятся в бессознательном состоянии и только когда переводятся в отделение, впервые видят там врачей, медсестер. У кого-то позитивные моменты вытесняют всё: «Слава Богу, теперь всё хорошо». У кого-то, напротив, преобладают негативные, поскольку им всё равно продолжают уколы ставить, нужно на неприятные процедуры ходить, медсестры покрикивают, и мысли только о том, как бы поскорее выписаться. Очень редко люди возвращаются, чтобы поблагодарить.
Весь «героизм» лишь в том, чтобы хорошо делать свою работу. Да, ты можешь за смену с десяток тяжёлых больных стабилизировать или из клинической смерти вывести, а после этого спускаешься в метро, где тебя могут и обхамить, и ноги отдавить в вагоне. И ты просто едешь после работы домой, где тебя ждёт семья, другие заботы и проблемы. Словом, всё как у всех».
Воля к жизни
Игорь Мельников, водитель с 25-летним стажем, ехал в центральный офис компании из пригородного терминала. Водитель фуры, двигавшейся ему навстречу, потерял управление на оледеневшем участке эстакады, и прицеп начало заносить. Игорь попытался уйти от лобового столкновения, в результате его легковушка вылетела с моста и, пробив ограждение, рухнула в реку.
В реанимационное отделение мужчину доставили с большим количеством переломов, массивной кровопотерей и разрывом лёгкого. Но самой большой проблемой для врачей стало переохлаждение, вызвавшее рецидивирующую остановку сердца по типу фибрилляции. Были предприняты все действия по ликвидации последствий гипотермии и мероприятия сердечно-лёгочной реанимации. Более двух суток пациент был в критическом состоянии, трижды перенёс клиническую смерть.
Вот как впоследствии вспоминал сам Игорь об этом происшествии и своём спасении: «Аварию я совсем не помню. Помню только, как вынырнул и практически сразу стал задыхаться, дышать было невыносимо больно. Говорили, что мне невероятно повезло: при ударе и падении с моста я не потерял сознания, а смог открыть дверцу и выбраться из машины.
Первое время в реанимации я периодически терял сознание, а когда приходил в себя, мало что понимал, был в полубредовом, замутнённом состоянии. Невыносимо болело в груди, не вздохнуть, постоянно бил озноб. Потом периоды прояснения стали чуть длиннее, я мог более-менее различать окружающую обстановку.
Я понял, что лежу в большом зале, укрытый термоодеялом, обложенный грелками, подключённый к аппарату искусственного дыхания. Кроме меня, в зале ещё человек пять или шесть. Рядом со мной лежит изрешечённый пулями оперативник, чуть дальше девушка с черепно-мозговой травмой после попытки суицида, у стены – алкоголик с острым отравлением, инфарктник, кто-то ещё. Кто бредит, кто плачет, кто кричит, кто молится. Все тяжёлые, к каждому периодически слетается бригада врачей и сестёр, начинается суета. Потом кого-то увозят вперёд ногами. А ты лежишь и наблюдаешь за игрой между двумя извечными соперницами – жизнью и смертью. И думаешь только об одном: скорей бы всё это закончилось. Уже неважно как. Лишь бы только всё это прекратилось, потому что сил никаких нет терпеть эти муки. А потом опять отключаешься. И так день за днём.
Второй раз тогда фортуна мне улыбнулась, обретя облик сердитой медсестры, которая ставила очередную капельницу со словами: «Ну и загоняли же вы нас вчера, третий раз вас из «клиники» вытаскиваем! Жена вон всех врачей уже запытала, а вы всё телепаетесь – то туда, то сюда. Совесть-то есть? Себя и врачей не жалеете, так хоть жену бедную пожалейте».
Так я невольно стал исполнять полученный приказ – жалеть жену. Думаю: «Она молодая, сможет ещё устроить свою жизнь. Вот, с похоронами справится, утешится, и всё у неё будет хорошо». Потом начал представлять свои похороны, кого она пригласит, что нужно будет купить, во сколько обойдётся.
И тут меня пробило – страховки, оформленной лишь полгода назад, и всех наших накоплений ей едва хватит, чтобы оплатить похороны и первый взнос по кредиту. А что дальше? Как она будет кредит выплачивать со своей копеечной зарплаты? Короче, совесть проснулась. Появился смысл и цель. Как ни удивительно, но сознания я после этого ни разу не терял, да и остановки сердца больше не было. Короче говоря, выкарабкался».
Кино и реальность
В большинстве люди имеют о реанимации киношное представление: «скорая» на всех парах с мигалками и сиреной, беготня медиков по коридорам больницы с каталкой и капельницами, реанимация, интубация, зажим-тампон, давление падает, остановка сердца, разряд, ещё разряд!.. Так ли это на самом деле?
Рассказывает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, к.м.н. Павел Николаев: «Вокруг медицины целое море мифов благодаря сериалам. Они порой такие клише рождают, что хоть стой, хоть падай. Я не поклонник «Доктора Хауса», «Клиники» и тому подобного. Посмотрел несколько серий, не понравилось. Многие из штампов, которые кочуют из сериала в сериал, не имеют совершенно никакого отношения к реальности.
СУДИТЬ О МЕДИЦИНЕ
ПО МЕДИЦИНСКИМ СЕРИАЛАМ ТАК ЖЕ НЕЛЕПО,
КАК УЧИТЬСЯ ВОДИТЬ ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИГРАМ.
Например, когда мы видим на экране, что пошла прямая линия на мониторе, в ста случаях из ста доктор хватается за дефибриллятор и начинает пациента бить разрядами. Дефибриллятор – прибор для купирования фибрилляций, а фибрилляция – это когда сердце начинает хаотично сокращаться, нескоординированно, то есть, теряет способность нормально функционировать. На мониторе это выглядит таким заборчиком, а когда идёт прямая линия, фибрилляций уже нет.
В реальной жизни, если бы при остановке сердца врач схватился за дефибриллятор, его бы сразу уволили за профнепригодность, из реанимации уж точно.
Остановка сердца может быть только в двух положениях: это либо систола – когда сердце сокращено, либо диастола – когда расслаблено. Когда сердце расслаблено, оно представляет собой большой мышечный мешок, наполненный кровью. В этой ситуации можно человека спасти непрямым массажем сердца: просто качая этот мешок и разгоняя таким способом кровь по всему организму. Качать до тех пор, пока не поставить там водитель ритма, интубационную трубку, начать вентиляцию легких, другие процедуры выполнить и завести сердце.
Когда же сердце сжато в систолу, то реанимационные мероприятия бессмысленны с самого начала. Сердце уже вытолкнуло из себя всю кровь, это просто кусок мышцы, ничем не наполненный, и мы здесь ничего не сможем сделать. Одно дело, понятно, мешок с кровью качать – туда-сюда, туда-сюда, когда он ходит ходуном, а другое – вот такое сжатое сердце, в котором нет крови, тут сколько ни качай, получится просто мышцу пожать, помять и всё, толку никакого.
Так вот, о сериалах. Разряд дефибриллятора в ста процентах сердце из диастолы переводит в систолу, то есть заставляет его сжаться. Это приводит к тому, что реанимационные мероприятия становятся абсолютно бесполезными. И получается, что команда врачей, увидев прямую линию на мониторе, подбегает к пациенту и давай его стучать разрядами. То есть, человека, которого можно было спасти, разрядом дефибриллятора они лишают всяких шансов!
В реальности при остановке сердца что делается? В первую очередь, наносится прекардиальный удар – ребром кулака изо всей силы по нижней трети грудины. Заводится так сердце, кстати, очень часто, это действительно хороший, работающий способ. Потом уже, если не помогает, применяют другие реанимационные методы – непрямой массаж сердца, в исключительных случаях прямой массаж сердца, установку кардиостимулятора, который запускал бы сердечные сокращения, препараты медикаментозные, которые позволяют восстановить проводимость, пункция, когда мы убираем кровь из сердечной сумки, если это гемотампонады, и так далее.
Поэтому, конечно, от таких сериалов больше вреда, чем пользы, особенно в плане отношений с родственниками больных. У нас ведь все разбираются в медицине, как и в футболе. Особенно, если человек насмотрелся таких вот медицинских сериалов. И вот начинаются советы и рекомендации, долгие обсуждения – что врачи делают правильно, что неправильно и как надо. Я машину ремонтировал в сервисе, так там при входе объявление висело: «Ремонт машины: 300 руб./час, ремонт в присутствии заказчика: 500 руб./час, ремонт с советами заказчика: 1000 руб./час».
И чем дальше человек от медицины, тем более он «информирован», тем более красочные советы от него можно услышать, как нужно правильно лечить. Из разряда самых фантастических зачастую. Причём родственники, в девяноста процентах, не могут критично отнестись к состоянию своего родного человека. Не выслушать их ты не можешь, это означает сразу же нарваться на негатив, на конфликт, на последующие претензии типа «доктор даже не слушает».
О том, как многие воспринимают действия медиков и как их интерпретируют, я много случаев могу рассказать довольно забавных. И это не анекдоты, а реальные истории из моей практики.
Поступила к нам однажды бабушка, у которой были рецидивирующие фибрилляции желудочков, это такое опасное для жизни нарушение сердечного ритма. Пока она была у нас в реанимации, мы ей или дефибриллятором, или иначе заводили сердце, всё было нормально. Назначили терапию, ей стало получше, нарушений ритма вроде как не повторялось, перевели её в отделение.
И вот едет она на какое-то исследование на лифте. Тьма людей там в лифте с ней, и заходит доктор, который у нас её вёл. И вдруг эта бабулечка теряет сознание и начинает сползать по стенке. То есть у неё опять пошла фибрилляция. Доктор сгребает пальцы в кучу и по грудине ей – хрясь! Один, другой раз, начинает её тормошить. Кто-то останавливает лифт на этаже, народ в ужасе разбегается. Через пять минут в мой кабинет врывается взбудораженная тётенька с квадратными глазами и, задыхаясь, выпаливает: «Там!.. В лифте!.. Врач напал на бабушку! Накинулся ни с того ни с сего и начал её избивать!»
Вот так непосвященные порой воспринимают врачебные действия. А когда они пытаются давать советы, уши в трубочку сворачиваются».
И вот о чем я ещё сейчас подумал. С первых минут своего появления на экране доктор Хаус заявляет: «Мы стали врачами не для того, чтобы лечить пациентов. Мы стали врачами, чтобы лечить болезни». И больные его действительно мало волнуют, он вообще с трудом находит силы общаться с ними, строя свою диагностику на одних исследованиях, КТ, МРТ, анализах, не гнушаясь рискованными экспериментами в подтверждение своих версий.
Заботу о людях он не считает своей задачей, он нашёл себе другой мотиватор – решение сложных запутанных случаев, разгадку медицинских головоломок. В этом он силён. Но если задуматься, при таком подходе врач – не более, чем компьютер, чья эффективность зависит лишь от объёма базы данных.
Конечно, надо различать кино и реальность. «Все лгут» – утверждение, положенное в основу работы Хауса. Настоящий же доктор исходит ровно из другого – люди не лгут. И это порой гораздо страшнее. Человек, находящийся за гранью отчаяния, вполне может сказать «у меня всё нормально», потому что хочет в это верить. Безусловно, он обманывает и себя, и других. Парадокс в том, что это-то и есть его правда. И задача врача разобраться, понять, что значит «всё нормально», а сделать это можно, только поверив в человека, заглянув ему в душу, чтобы после помочь телу. На том уровне, где работают настоящие врачи, понятия лжи вообще не существует.
Пусть доктор Хаус процветает на Западе, а мы будем слушать больных, сопереживать им, помогать и – врачевать. Будем оставаться человеками.
Реаниматологи никогда не сдаются
В задачи реанимационного отделения входит не только оказание экстренной помощи, но и наблюдение за больными с относительно стабильным состоянием жизненно важных органов и систем.
Говорит врач-ординатор отделения реаниматологии и интенсивной терапии Дмитрий Бессонов: «К нам поступают самые разные пациенты. Инфаркты, инсульты, опасные нарушения сердечного ритма, острые отравления, попытки суицида. Любые состояния, угрожающие жизни – всё это наш профиль. Привозят с разнообразными расстройствами: дыхания, системы кровообращения, с печёночно-почечной недостаточностью.
И дежурства складываются по-разному. Случается, привезут двоих, которые всю ночь пытаются умереть, и это жуткая ночь. А бывает, привезут 12 человек, и у всех какая-то ерунда, купированные приступы.
Да, в реанимацию доставляют и с ерундой тоже, например, с остеохондрозом. Человек неудачно повернулся, у него ущемился позвонок или грыжа. Возникают жуткие боли, он начинает орать, паниковать, вызывает «скорую». Та приезжает, снять кардиограмму не может, потому что он весь ворочается, диагностируют инфаркт и привозят к нам.
Или вот пациент поступает с нарушением ритма – пароксизм, мерцание или трепетание, не жизнеугрожающее нарушение, но всё равно подлежащее госпитализации в реанимацию для наблюдения. Прокапали – ритм восстановился. Перевести его в терапию мы сразу не можем, так как должны понаблюдать несколько часов, поэтому он все равно занимает койку. И вот таких больных за ночь могут привезти с десяток.
РЕАНИМАЦИЯ – МЕСТО ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ.
НАХОДИТЬСЯ ТАМ ДОЛЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО СРОКА
ПОПРОСТУ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
Мелкие инфаркты тоже госпитализируются только в реанимацию. Мелкие – это когда человек чуть ли не своими ногами пришёл. Ну, поставим капельницу, понаблюдаем. В принципе с таким не очень опасным случаем человек может и отказаться от лечения, может уйти домой. У нас ведь не тюрьма, никто людей насильно не хватает и не привязывает. Вот если человек говорит: «Я не хочу лежать здесь у вас с инфарктом, я сейчас встану и пойду по небу в Магадан» – то тогда да, приезжает психиатрическая помощь и помогает ему успокоиться.
Привозят порой и алкоголиков с «белочкой». Были случаи, когда один человек мог и здоровую охрану раскидать, и психиатров, но у них свои методы. Они никогда не думают и не обсуждают пациентов. У нас как-то пациент с алкогольным делирием засел в палате со скальпелем, то ли зомби ему померещились, то ли инопланетяне. Мы стояли, мялись, примерялись, как бы так столик закатить, чтобы его сбить с ног. Приехали психиатры, послушали наши рассказы разгоряченные: «Он вон там стоит! Со скальпелем!», сказали спокойненько «Ща!», дверь ногой открыли, вытащили его уже связанного в смирительной рубашечке и увезли в Потешный переулок.
Или ещё такой был у нас пациент, тоже мне запомнился. Он лежал-лежал на кровати, подзывает меня и шепчет: «Доктор, надо срочно в милицию звонить!» Я ему: «Зачем, что случилось?» А он отвечает: «У вас вон там на подоконнике таблетки лежали, они упали за окно, они прорастут потом, эти таблетки, и захватят больницу! Надо вызвать милицию, чтобы они их забрали, они упали прямо в землю!» Тут понятно, что надо психиатрическую бригаду вызывать. Такого пациента мы, конечно, не отпустим, даже если он напишет сто отказов от лечения.
А вообще, если человек хочет уйти, мы не можем его насильно держать, в каком бы он ни был состоянии. Были прецеденты, когда человек говорил: «Я уйду в любом случае». Говорим: «Хорошо, пишите расписку, что вы не имеете претензий к врачам, вас предупредили, что вы можете умереть». Но сначала ты садишься с пациентом и объясняешь: «У вас – инфаркт, у вас в сердце, грубо говоря, дырка. Это может осложниться. Скорее всего, вы умрете, если уйдете». То есть, мы это делаем не из равнодушия: «Ну, уходишь, да и черт с тобой». Но нельзя же держать.
Иногда уходят, потому что у некоторых какие-то дела важные, у некоторых просто недоверие к врачам. Многие из пациентов, которые приезжают даже с очень тяжелым инфарктом, часто не могут перестать беспокоиться о каких-то своих делах неотложных. Кто-то кошку оставил, надо срочно соседке звонить. Одна женщина переживала, что её в больницу увезли, и муж сейчас же к любовнице побежит. Хотела уже сорваться и поехать, чтобы застать его на месте преступления. Большинство людей, конечно, остается в реанимации, если это действительно нужно, но в случаях отказа от лечения адекватного человека мы с этим ничего не можем поделать. Если человек психически здоров, решать за него мы не имеем права.
Так что, в реанимации, конечно, всякого можно насмотреться, ситуации здесь возникают и трагичные, анекдотичные, а иногда и по-настоящему уникальные. Бывали такие случаи, когда человек должен был умереть по всем законам медицины, и вдруг он возвращается и выздоравливает. Например, он впадает в кому, у него обширное поражение, инфаркт гигантский, остановка сердца, фибрилляции, тяжелейшая гипоксия, нарушается электролитный баланс, сатурация падает фактически до уровня трупа. Думаешь, ну, всё, этот уже не жилец, спасти невозможно. День-два проходит, ничего не меняется, всё так же плохо, он лежит в коме, ждёшь, что с минуты на минуту это случится.
И вдруг этот пациент, который по всем статьям уже фактически мертвец, выходит из комы, у него поднимается насыщение кислородом, поднимается давление, сердце начинает само биться, и мы можем извлечь кардиостимулятор. И он не только приходит в себя, но и абсолютно адекватен, он не в овощном, растительном состоянии, когда больной только глазами хлопает, рот открывает и изредка что-то мычит. Нет, у него совершенно нормально работает голова, он общается, чуть ли не всех врачей помнит по именам.
Такие варианты крайне редко, но всё же бывают, поэтому реаниматологи никогда не сдаются. Если есть хоть какой-то шанс, мы продолжаем – кто знает, может быть, именно этот случай окажется из числа таких фантастических возвращений».
Миллионер из трущоб
Истории о реанимации дополняют наблюдения старшей медсестры реанимационного отделения Тамары Скворцовой: «Работать в реанимации, конечно, нелегко. Многие не выдерживают напряжённого темпа, да и эмоциональная нагрузка здесь зашкаливает, ведь часто приходится констатировать смерть. Но когда коллектив в отделении слаженный, все уже сработались и притёрлись друг к другу, работать интересно, и опыт получаешь самый разноплановый. А с таким опытом, если захочется работы поспокойнее, в любое отделение охотно возьмут, потому что реанимация – это очень хорошая школа.
Расскажу один случай, необычный даже для нашей специфики. По нему сценарий для индийской мелодрамы можно писать. Работал у нас очень хороший доктор, Денис Владимирович, что называется, врач от Бога. Он в любом состоянии, хоть уставший, хоть полусонный, с лёгкостью творил такое, что многим врачам не удавалось. С закрытыми глазами мог поставить катетер подключичный, доктора копаются по полчаса, а он приходит, раз – и всё!
Так вот, поступает к нам бомж, весь грязный, в рвотных массах, запойный, разит за километр. Без документов, непонятно кто, даже имени своего вспомнить не может. Словом, тихий ужас. Привезли его с какими-то нарушениями сердечного ритма, видимо, на фоне алкогольной интоксикации. Врачи стоят, решают, кто будет его принимать. Это ж с ним возиться с таким… В общем, все осторожно молчат. Денис Владимирович осмотрелся обреченно и протягивает: «Ну, я тогда».
Взяли его, отмыли, восстановили ритм, покапали, всё как надо. Через какое-то время стало ему лучше, из реанимации его выписали, перевели в отделение. И вот через некоторое время заходит мужчина и с ним два здоровенных охранника в чёрных костюмах. Оглядел всех и спрашивает стальным голосом: «Кто лечил Иван Иваныча? Бомжа, которого к вам привезли, лечил кто?!» Все в замешательстве. Выходит Денис Владимирович. Мужчина обращается к нему: «Вы лечили?!» – «Ну да». – «Большое спасибо! У него алкоголизм хронический, он периодически, когда выходит на улицу, теряется».
Тут бугаи-охранники начинают вносить коробки – первую, вторую, десятую, с коньяком, фруктами, конфетами, деликатесами. В общем, этот бомж оказался совсем не бомжом, а чуть ли не нефтяным магнатом, и решил нас так отблагодарить.
Эта история, конечно, исключение, из серии нарочно не придумаешь. Часто бывает, что пациенты в качестве благодарности дарят шоколадку надкусанную: «Сестричка, это вам! Я тут только чуть-чуть отломила…» И это вовсе не издёвка или шутка. Может, это вообще их последняя шоколадка, нет возможности купить другое на свою пенсию.
Была ещё пациентка, хотя тут, скорее, отклонение уже психическое, которая за обедом не ела хлеб, складывала его по кусочкам, а потом при выписке пакетик хлеба подарила. Он уже где-то подгнил, потемнел. Многие пациенты у нас очень пожилые люди, с какими-то отклонениями, старческой деменцией. Или люди, очень долго жившие в бедности. Такое тоже бывает, и мы это воспринимаем совершенно спокойно, ведь какая бы ни была благодарность, это не самое главное. Главное – жизнь».
От первого лица
Довольно многочисленную группу пациентов реанимации, особенно в тех лечебных учреждениях, где нет отдельных восстановительных палат при операционных блоках, составляют посленаркозные больные, которые здесь наблюдаются до нормализации угнетённых ранее жизненных функций.
САМОЕ МУЧИТЕЛЬНОЕ,
КОГДА ЛЕЖИШЬ В РЕАНИМАЦИИ, ЧУВСТВОВАТЬ,
КАК МЕДЛЕННО ТЕЧЕТ ВРЕМЯ!
«Ничего особо страшного, никаких, слава Богу, автокатастроф и прочих катаклизмов, – говорит частный предприниматель и тренер бизнес-школы Анна Сосновская, – я лежала в реанимации после кесарева сечения. Но этот опыт оказал значительное влияние на мою дальнейшую жизнь.
Не знаю, насколько сложной была сама операция, о предшествующем ей периоде, честно говоря, и вспоминать не хочется. Дело в том, что у ребёнка в ходе родов возникла острая гипоксия, и по ряду показаний врач приняла такое решение. Прошло всё удачно, приходить в себя я начала ещё на операционном столе и отчётливо помню, как меня перевозили в реанимацию. Там я пробыла трое суток.
Если говорить о наиболее сильном впечатлении, то это было даже не ощущение боли. Боль, конечно, была, но воспоминание о ней почему-то не такое уж острое, она не была всепоглощающей. Думаю, мне кололи довольно сильные болеутоляющие. Какого-то страха тоже не испытывала, по крайней мере, за себя, за свою жизнь или здоровье.
Самым сильным ощущением тогда было чувство полной и абсолютной беспомощности и до бесконечности медленного течения времени. Ты лежишь пластом и максимум, что способен делать – смотреть, слушать и спать. Ты не можешь выполнить самых простых действий – ни пошевелиться, потому что больно, ни хоть чуточку повернуться, ни поправить простынку или подушку, ни попить, ни, извините, пописать – ты ничего не можешь сделать самостоятельно. Ужасно угнетающее состояние.
Сперва в реанимационном зале я лежала одна, и моим единственным союзником в борьбе с невыносимо долго тянущимся, густым и гнетущим временем был сон. Жаль, целые сутки напролёт проспать не получалось – ночью долго не удавалось заснуть, приходилось просить медсестру дать снотворное. А днём, когда не было сна, оставалось только смотреть и слушать, слушать и смотреть, и усиленно гипнотизировать стрелки часов, висевших на стене напротив, над сестринским постом.
Течение мыслей было таким же тягучим и вязким, как изматывающее перетекание времени из пустого в порожнее. Из этой вялотекущей сомнамбулической прострации в лёгкой галлюцинаторной дымке выводили лишь манипуляции медсестёр или обход врача, и это было единственным, что на короткие периоды поддерживало связь с окружающей реальностью.
Из сестёр мне запомнились две – одна помоложе, симпатичная, очень приветливая и разговорчивая, всегда с улыбкой и заботливым выражением лица. Другая чуть постарше, не старавшаяся особо что-либо изображать на лице, молчаливая, но при этом делавшая всё исключительно аккуратно и профессионально, всегда с первого раза попадала в вену, причём абсолютно не чувствительно, несмотря на то, что на руках уже живого места не было, вен не видно, всё исколото.
Что характерно – не помню ни разу, чтобы мне пришлось кого-то из сестёр подзывать, просить воды попить или катетер поставить. В нужный момент они всегда оказывались рядом. Может, именно благодаря этому мне удавалось сохранять выдержку. Единственный серьёзный повод для беспокойства – мне никто ничего толком не мог сказать о состоянии моего малыша, хотя я несколько раз просила сестёр это выяснить. То ли, действительно, проблема была в том, что на выходных не было детского врача, то ли им просто с лихвой хватало своей работы, не могу сказать.
Ночью привезли ещё одну девочку после кесарева, и я смогла увидеть со стороны насколько беспомощен и уязвим человек. Несмотря на то, что состояние её было тяжёлым, она держалась молодцом, наутро мы уже могли по мере сил общаться, и это было большой поддержкой для нас обеих. Когда ты можешь рассказать о своих переживаниях, помочь сориентироваться в ситуации, поделиться своим, пусть даже малым опытом и наблюдениями, ощущение потерянности и одиночества понемногу отступает, ты постепенно начинаешь снова чувствовать себя человеком, а не беспомощным и бесполезным телом.
Днём приходила врач-физиотерапевт, проводила с нами какие-то простейшие, доступные в нашем состоянии упражнения, и это тоже помогало оклематься и быстрее восстановиться.
На третий день появилась педиатр, рассказала нам о наших детках, с ними всё было в порядке.
Так потихоньку мы приходили в себя, иногда получалось даже вставать с кровати, и на 4-й день меня перевели в обычное отделение.
Дальше были новые проблемы и переживания, в общей сложности я провела в больнице полтора месяца – разошлись швы. Но отчего-то именно пребывание в реанимации мне всегда вспоминается как весьма важный этап того периода жизни. Может быть, благодаря тому опыту собственной беспомощности и её преодоления».
Отключить сердце, чтобы подарить жизнь
Анестезия переводится с греческого как бесчувствие. В медицине этот термин означает уменьшение чувствительности тела на фоне потери или сохранения сознания, состояние, при котором человек частично или полностью утрачивает ощущения, вплоть до полного разрыва контакта с окружающей средой, чтобы перестать чувствовать боль.
Но речь здесь пойдет не об анестезиологии.
Бытует весьма нелестное суждение о врачах, что большинству из них свойственны равнодушие и бессердечность, что с приобретением опыта они, как правило, утрачивают чувство сострадания к своим пациентам. Является ли такая трансформация личности необходимым условием эффективности и профессионализма и критерием естественного отбора в медицинской среде?
Своими размышлениями делится врач-анестезиолог Виталий Григорьев: «Бороться со стереотипами в общественном сознании – затея бесперспективная. Конечно, есть в таких представлениях и объективные моменты, но больше, мне кажется, всё же субъективных. Объективные причины в том, что профессия врача, действительно, предполагает некоторый отбор, и первый отсев происходит уже на первом курсе мединститута.
Когда студенты, можно сказать, еще дети, приходят в медицинский институт, первое, что они видят – это анатомичка, комната с огромным количеством трупов для учебного процесса. И когда студенты первый раз туда заходят, это, конечно, бурю чувств вызывает, от отвращения до любопытства. Так что начинается знакомство с медициной с эмоционального шока.
Через два-три месяца студенты в той же анатомичке и разговаривают спокойно, и обедают, и целуются… Они перестают воспринимать мертвых людей как какой-то морально-этический компонент, начинают относиться к смерти как к части своей профессии, данности. Не зря говорят, человек ко всему привыкает. Ну, а тот, кто не привыкает, уходит.
Это не значит, что остаются только самые чёрствые и бессердечные, морально ущербные. Остаются те, кто способен управлять своими эмоциями, отключать их в нужный момент. А как иначе принимать решение в критической ситуации, когда от твоего выбора и твоего самоконтроля может зависеть чья-то жизнь? Ты просто перестаешь оценивать работу сердцем, чтобы анализировать ее разумом, а разум всегда намного циничнее сердца. Да и что такое цинизм, как не броня, которую выстраивает разум для защиты души?
Говоря образно, реаниматолог отключает своё сердце, чтобы включить сердце другого человека, подарить ему жизнь».
Ремесло, наука или искусство?
В российском здравоохранении существует тенденция к активному внедрению стандартизации. Хорошо это или плохо? На сегодняшний день единодушия в этом вопросе нет. С одной стороны, казалось бы, такой подход имеет определённые резоны. Внедрение стандартов должно позволить контролировать качество и эффективность медицинской помощи. Контроль необходим и для общего управления здравоохранением, особенно его финансирования, формирования бюджета лечебных учреждений, учитывая интенсивное развитие негосударственного сектора и коммерциализации медицины.
Однако, с другой стороны, различия между стандартами и реальной врачебной практикой нередко ставят медиков перед необходимостью решения этической и правовой дилеммы: допустим, необходимо лечить в соответствии с принятыми протоколами, но как быть с больными, у которых одно и то же заболевание может протекать с целым рядом индивидуальных особенностей? Ведь ни один, даже самым тщательным образом разработанный регламент не может предусмотреть всего многообразия возможных действий врачей в каждом отдельном случае.
В реаниматологии актуальность этой проблемы ощущается особенно остро, поскольку здесь во всей полноте проявляются те самые индивидуальные особенности течения патологического процесса, которые выводят на передовую линию борьбы за жизнь пациента уровень личного профессионализма, знаний и опыта конкретного врача, а не обобщённый, типовой алгоритм лечения заболевания.
О том, как эти проблемы видятся изнутри и как решаются на практике, комментирует реаниматолог Андрей Берестов: «Главное отличие западной медицины от российской – именно в наличии стандартов. Мы к этому идём, хотя мне кажется, не совсем хорошо, что мы бездумно следуем западному образцу, пытаемся слепо копировать чужие традиции. У нас доктор может лечить по стандартам, а может – исходя из собственного опыта, иногда даже интуитивно. На Западе врач всегда обязан придерживаться чётких стандартов, потому что основной принцип и смысл их применения – оплата по конечному результату. У них другая система.
Для того чтобы понять, нужна ли нам стандартизация, прежде всего следует ответить на ключевой вопрос: медицина – это ремесло, наука или искусство?
Если ремесло, как за рубежом, стандарты – замечательная, полезная основа, на которую всегда можно опереться, которая нас защищает. Ни судебные преследования, ни конфликты тогда в принципе не могут случиться, потому что есть протоколы ведения больных, спущенные сверху, и нам остаётся только выполнять их.
Если медицина – наука, здесь какие-то определённые стандарты, наверное, должны быть, но любой регламент в науке есть её ограничение.
Если же медицина – искусство, то какие стандарты вообще могут быть в искусстве? Взять, скажем, «Чёрный квадрат» Малевича и «Данаю» Рембрандта – могут ли для них существовать какие-то единые стандарты? И в чём они будут выражаться – в размере полотна или в количестве используемых цветов? Это просто абсурд. Точно так же в медицине не может быть какого-то стандартного, унифицированного подхода к больному. Есть общий алгоритм лечения болезни, но варианты его применения к каждому пациенту подбираются индивидуально.
Сейчас у нас, особенно в крупных городах, медицина дала очень сильный крен в сторону дополнительных методов обследования. Но ведь ни рентгена, ни ЭКГ, ни МРТ, ни КТ – всего этого ещё сто лет назад не существовало, а медицина была, и на хорошем уровне. Вот, например, Пирогов. У него не было ничего из сегодняшних средств, он не мог на рентгене посмотреть – кость раздроблена или цела. Всё руками. А людей спасали, спасали тысячами, и всё благодаря профессионализму врачей.
В таких городах как Санкт-Петербург или Москва медицина сегодня, безусловно, наука, а во многих других – ремесло. И уровень ничем не хуже зарубежного. Но в основной массе – это всё же искусство, в том числе по банальным причинам материально-технического обеспечения.
Не нужно быть гением, когда тебе специалист приносит бумажку с результатами обследования на КТ, где чётко прописано: в почке – киста, в печени – гемангиома. А как выкручиваться врачам в небольших городах и деревнях без современного медицинского оборудования? Им приходится полагаться исключительно на свой опыт, наблюдательность и знания, приходится изгаляться, чтобы пациентов излечивать, и никакой стандарт им в этом не помощник.
И потом, ведь в практической медицине наряду с новейшими методами вполне могут применяться и относительно старые, но хорошо апробированные. Пусть они не столь совершенны, но при высоком уровне профессионализма врача оказываются эффективными.
Конечно, сейчас медицина далеко шагнула, и это хорошо. Но врачи часто забывают, что медицина это, прежде всего, клиника – нужно пообщаться с пациентом, расспросить, правильно всё рассмотреть, и только тогда назначить дополнительные методы обследования при необходимости. И если врач действительно профессионал, а не клерк от медицины, то даже при отсутствии всех этих технических средств он сможет и реанимацию провести, и диагноз поставить, и лечение правильное назначить. Поэтому я и говорю, что в России медицина – это, по большей части, не утраченное ещё искусство».
4. ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Эта глава о том, что в родильной самое страшное – не невыносимая боль, а жестокость и черствость врачей
Не только организм, но и личность человека формируется ещё задолго до рождения. Находясь в утробе, ребёнок чутко реагирует на образ жизни, мысли и настроение матери. От таких нюансов зависит будущий психотип ребенка, качество его дальнейшей жизни.
Рождение – серьёзнейший стресс: внезапно крохотный человечек попадает из одной среды, к которой он уже привык, где ему комфортно, в совершенно иной мир, воспринимаемый как враждебный и агрессивный.
Человек не помнит своего рождения, но память о рождении запечатлена в каждой клеточке организма. Будет ли эта память благотворна, зависит от врача-акушера. Оттого, насколько он окажется профессионален, внутренне светел, способен нести позитивный настрой, во многом определяется судьба крохотного человечка.
Особый случай
«Эту историю я услышала ещё в детстве. – рассказывает врач-акушер Надежда Беляева. – Уже много позже мне её пересказали с подробностями, которые ранее были недоступны моему детскому пониманию. Представьте картину: у молодой женщины начинаются преждевременные предродовые схватки, и муж, не дождавшись «скорой», везёт её на своих стареньких жигулях из отдалённой деревни, где нет даже медпункта, в райцентр.
Дорога после дождей ещё не просохла, машина наглухо застряла в грязи и никакими силами сдвинуть её с места не удаётся.
К счастью, дорога только одна, и через некоторое время на ней замаячила «скорая помощь». Врач оказался пожилым мужчиной с большим профессиональным опытом, в том числе акушерским. Ему уже приходилось принимать роды в сложных условиях. Но вскоре выяснилось, что тут особый случай.
После осмотра врач констатировал, что роды практически начались. Самое неприятное заключалось в том, что ребёнок шёл неправильно, более того, по всем признакам пуповина обмоталась вокруг него и могла его задушить. Выбор был небольшой – либо сразу везти роженицу в больницу, но в этом случае ребёнку с большой долей вероятности помочь уже не успеют; либо прямо здесь проводить кесарево сечение, что означало огромный риск для матери. Получалось, что или мать, или ребёнок так или иначе находились в смертельной опасности.
Обо всем этом доктор рассказал женщине. Она ни минуты не раздумывала и попросила, чтобы врач принимал роды на месте. Муж сопротивлялся поначалу ее решению, но потом согласился – уж слишком долго они мечтали о ребёнке.
Ребёнка удалось спасти, хотя, когда его извлекли на свет, он был уже совсем синюшным и практически не дышал. Ещё немного – задохнулся бы. Врач сумел привести его в чувство, и через пару минут округу огласил громкий крик, извещающий мир о рождении нового человека. Это была вполне здоровая, судя по внешнему виду, девочка, о чём тут же сообщили родителям.
С мамой всё обстояло гораздо сложнее – у неё началось сильное кровотечение. В конце концов доктору всё же удалось с ним справиться. Он провёл необходимую обработку, наложил швы, после чего маму с новорожденной доставили в больницу. Женщина хоть и потеряла много крови, но держалась молодцом.
Страшное случилось позже, на следующую ночь, ближе к утру. У неё вновь открылось сильнейшее кровотечение, и на этот раз врачи спасти её не смогли.
Вот так сложилось, что моё рождение состоялось менее чем за сутки до смерти мамы, которая отдала свою жизнь для того, чтобы я смогла появиться на свет. Говорят, я очень на неё похожа и внешне, и по характеру. Мне всегда очень ее не хватало. И до сих пор не хватает. В детстве и юности я постоянно мысленно с ней советовалась. А ещё, сколько себя помню, всегда хотела быть врачом. Можно сказать, что к своей специальности я шла с первого дня своей жизни. Думаю, по-другому и быть не могло».
Прикосновение к тайне
«Рождение ребёнка – не просто важное событие в жизни женщины, а беременность и роды – не только особое физиологическое состояние женщины и физиологический акт – считает Алевтина Андреева, финансовый аналитик крупного производственного холдинга. Женщина, вынашивающая ребёнка, прикасается к великой тайне сотворения жизни, она несёт в себе саму эту тайну, пусть даже порой и не осознаёт этого.
Беременность кардинально меняет тебя. И я говорю сейчас не о каких-либо временных биологических процессах и химических реакциях, свойственных этому состоянию, я имею в виду глубинную перестройку восприятия мира внешнего и своего внутреннего, самого образа мышления и чувствования, да и всей системы ценностей. Ты начинаешь по-другому видеть и ощущать эти миры, словно перед тобой и в тебе открываются какие-то секретные дверки.
Знаю, что многие женщины, уловив в себе эти изменения, пытаются не обращать на них внимания или не придавать им особого значения. Или даже стараются противиться им, желая сохранить свой привычный статус, образ жизни и восприятие себя – мол, после родов всё пройдёт и я снова буду такой, как прежде. Но всё равно ты не можешь не прислушиваться к своим новым ощущениям, не можешь не погружаться в них, особенно, когда ребёнок для тебя желанный и долгожданный.
РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА
НАВСЕГДА МЕНЯЕТ ЖЕНЩИНУ —
И СНОВА СТАТЬ ПРЕЖНЕЙ
УЖЕ ПОПРОСТУ НЕВОЗМОЖНО.
И это время ожидания ребёнка, я и сейчас вспоминаю как один из самых счастливых периодов своей жизни, пусть он и не был таким уж простым и безмятежным – впереди меня ждала полная неопределённость, поскольку я не была замужем и растить ребёнка мне предстояло одной.
Но в моей памяти беременность осталась ни с чем не сравнимым переживанием, думаю, оно во многом сродни перманентной медитации: с одной стороны, это глубокое погружение в себя, а с другой – обострённое ощущение и восприятие мира вокруг. Совершенно удивительное состояние, и в нём много мистического.
С медицинской точки зрения, моя беременность протекала, в целом, нормально. Каким-то чудом меня даже миновал обычный токсикоз первого триместра, правда, на поздних сроках сильно мучила изжога, было повышенное давление и часто не хватало воздуха.
Если же говорить о родах, то тут у каждой женщины своя, абсолютно уникальная история, хотя со стороны многие из них могут казаться однотипными. И это одна из самых ярких и отчётливых картин в памяти женщины. Каждая из моих рожавших подруг могла часами рассказывать, как она рожала, даже спустя годы вспоминая этот день в мельчайших подробностях. Своя история и у меня самой.
Рожала я в самом обычном московском роддоме, без каких-либо предварительных договорённостей с врачами или контракта. Особого страха перед родами я не испытывала. Изучив от корки до корки учебник по акушерству и гинекологии, я считала себя неплохо подкованной по части теории, знала в деталях и весь процесс, и возможные осложнения. Боли я тоже не боялась, ведь у меня довольно высокий болевой порог. Словом, была уверена, что всё пройдёт нормально. Но жизнь, как водится, внесла свои коррективы.
Когда меня отвели в предродовой блок, где уже лежали две девочки, врач, сделав УЗИ и оценив степень раскрытия шейки матки, поначалу хотела мне ввести снотворное: «Вы не хотите поспать? – спросила она. – Вы поспите, а маточка будет пока открываться».
Но потом почему-то передумала, подключила кардиотокограф (КТГ), велев следить за ритмом на мониторе. Пару раз ещё подошла проверить раскрытие, оно было очень слабое. Потом одну из стонавших рядом девочек перевели в родовую, и всё внимание дежурной бригады переключилось на неё. У меня же схватки тем временем становились всё сильнее, не прошло и получаса, как всё моё существо оказалось во власти чудовищной, просто невыносимой боли.
Боль была такой невозможной силы, какой я раньше даже представить себе не могла. И не могла вытерпеть. Какое там следить за частотой и интенсивностью схваток, как советовали учебники, или за пиками на мониторе! От потери сознания тогда, мне кажется, спасало только одно – собственный истошный крик. Я орала так, что меня запомнили даже рожавшие рядом женщины. «Я и в родблоке слышала твои крики, они заглушали мои собственные», – говорила потом одна из них. Другая, лежавшая рядом, пыталась со мной разговаривать, что-то советовала.
Снова подошла врач, осмотрела. Шейка никак не раскрывалась, и она решила проколоть плодный пузырь. «Сейчас схваточки станут посильнее», – обрадовала она меня. И тут я поняла, что то – была ещё не боль.
Не знаю, как это можно вытерпеть, сил хватает лишь на то, чтобы между схватками судорожно глотнуть воздуха. Для нового крика. Никто не научил меня тогда правильно дышать во время схваток, а ведь это довольно эффективная техника и она реально снижает интенсивность боли.
Осмотрев меня в очередной раз и взглянув на КТГ, врач кивнула проходившей мимо акушерке: «Посмотри, с чем тебе придётся иметь дело». Проследив за её взглядом, я увидела стоявшее рядом судно с отошедшими околоплодными водами, они были какого-то жуткого чёрно-зелёного цвета. Я знала, что это означает – острую гипоксию плода. «Ты живого не родишь», – бросила мне врач и опять куда-то ушла.
И тогда я сломалась. Я была совсем одна, наедине с чудовищной болью и кинутыми мимоходом жестокими словами.
Через некоторое время она снова подошла ко мне, помнится, с какими-то бумагами: «Женщина, вы согласны на операцию?». – «Делайте уже что хотите, только бы побыстрее всё это закончилось», – хотелось мне ответить, но сил хватило лишь на то, чтобы прорыдать «да».
Помню, как меня готовили к операции, каким невыносимо долгим казалось это ожидание – я успела до хрипоты сорвать голос своими воплями и, наверное, настроить против себя всю бригаду. И только анестезиолог, молодой совсем врач, пытался со мной разговаривать по-человечески, задавал отвлекающие вопросы, типа «кого рожаем, мальчика или девочку?», что-то про мужа и тому подобное. Помню, потом, когда я уже начала приходить в себя после наркоза, он же мне и сообщил: «Ты родила сына».
Увидела своего малыша я лишь спустя три дня, когда меня перевели из интенсивной терапии в послеродовое отделение. Роддом, как я уже говорила, был старой системы – роженицы лежали отдельно в палатах, новорожденные – в двух детских отделениях. Когда меня перевели в послеродовую палату, как раз наступило время кормления, и медсёстры начали развозить кулёчки с детками по палатам. Можно представить, с каким нетерпением я ждала встречи со своим сыночком, но вот всем мамочкам уже принесли малышей, а до меня очередь так и не дошла. Не на шутку разволновавшись, придерживая распоротый живот обеими руками, я побрела в детские отделения.
В первом его не оказалось, и медсестра ничего не смогла сказать. Зато другая сразу развеяла все мои опасения: «Нам просто не сообщили, что вас уже перевели. Не волнуйтесь, на вечернее кормление принесу». – «А где он? Можно мне хоть посмотреть на него?» – я знала, что не успокоюсь, пока не увижу сына своими глазами.
Медсестра указала мне на кроватку за стеклянной стеной детской, и я сразу узнала своего малыша. Всё пережитое захлестнуло меня горячей волной, и я не могла сдержать слёз.
В РОДИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНА АБСОЛЮТНО БЕЗЗАЩИТНА.
ЗАДАЧА ХОРОШИХ ВРАЧЕЙ – ПОДДЕРЖАТЬ ЕЕ
И ПОМОЧЬ СПРАВИТЬСЯ С ТОЙ УЖАСНОЙ БОЛЬЮ,
КОТОРАЯ ВСЕГДА СОПРОВОЖДАЕТ РОДЫ.
«Ну, что вы, мамочка, – кинулась меня успокаивать сестричка, – нельзя вам так волноваться! Ребёночек ведь чувствует ваше состояние, тоже будет нервничать. Не плачьте, всё будет хорошо». Её слова подействовали, я взяла себя в руки и тут же успокоилась, взглянув ещё раз на сына. И через три часа я смогла, наконец, обнять своё сокровище.
Это произошло больше двадцати лет назад, и долгие годы события тех дней вспоминались с болью и обидой, как одно из самых тяжёлых испытаний, выпавших мне. Сейчас я понимаю, что мне, в общем-то, не в чем упрекнуть врачей, наверное, они всё сделали профессионально – контролировали моё состояние, вовремя приняли решение об операции, и ребёночек в конце концов родился живым и здоровым. Наверное, так. Но рубец на душе заживал куда дольше и больнее, чем разрез на животе.
Сегодня многое изменилось. Всё больше появляется родильных домов со статусом «больница, доброжелательная к ребёнку», ориентированных на грудное вскармливание, и мамочки там с первого дня лежат в одной палате с новорожденным. Роддома переоборудуются так, чтобы женщина могла рожать в той позе, в какой ей комфортнее – хоть лёжа, хоть стоя, хоть сидя, и персонал проходит для этого специальную подготовку. А если рожаешь по контракту, то и в отдельном родблоке, и в присутствии мужа, и с возможностью посещений родных 24 часа в сутки. Всё это очень здорово, ведь такие условия позволяют избежать множества стрессовых ситуаций при рождении, сделать его настоящим праздником, каким оно и должно быть по самой сокровенной своей сути.
Но все же самое главное зависит от того, что за врач рядом с тобой и какие слова ты услышишь от него в этот значимый момент – «ты живого не родишь» или «не бойся, всё будет хорошо, ты молодец, я рядом, ты справишься». Когда ты приводишь в мир нового человечка, нельзя оказаться одной, растерянной, беспомощной, испуганной, никому не нужной. Ведь становясь матерью, ты заново рождаешься сама, как женщина и как личность».
Будущее зависит от нас
«То, что я пойду в медицину, было ясно с детства, так как все члены моей семьи медики, – рассказывает акушер-гинеколог Вера Ананьева. – Акушерство выбрала потому, что ты помогаешь появиться новой жизни – и это ни с чем невозможно сравнить.
В шестнадцать лет у меня был опыт, после которого я точно определилась, что буду именно гинекологом. Я проходила медицинскую практику и стала свидетелем трагического случая. Женщина пришла на аборт, у неё случился анафилактический шок, как реакция на парацервикальную анестезию. В то время при абортах в основном использовались препараты для местного обезболивания. Женщину спасти не смогли. Так у меня с юных лет осталась стойкая антипатия к абортам. Если работаешь в акушерстве, то это, на мой взгляд, по определению должно означать, что ты против абортов. Мне с самого начала довелось увидеть оборотную сторону медали – чем это может быть чревато для женщины.
Сейчас я с ужасом наблюдаю, насколько всё упростилось: делают фармакологические аборты, выпила таблетку – и порядок. Вопрос заключается ещё и в том, какую дозировку этого препарата получает женщина и как на него реагирует. Была у меня пациентка, молодая девушка, которая после приёма первой таблетки (она приводит к гибели эмбриона) вдруг передумала, у неё внезапно появился безотчётный страх. Но, к сожалению, что-то менять было уже поздно, потому что уже никто не даст гарантии, что плод после этого может выжить и нормально развиться. Вторая таблетка просто выводит мёртвый эмбрион из матки. А она решила остановиться, когда практически уже всё сделала, и страх, правильно ли она поступает, просто запоздал, и ей с этим жить дальше.
Гинеколог должен всё заранее и подробно объяснить, прежде чем женщина примет окончательное решение. По своему опыту могу сказать, что процентов семьдесят женщин, если им всё правильно растолковать, готовы отказаться от аборта. Особенно, когда они при этом сами услышат сердцебиение плода.
Моя же позиция такова: аборт надо делать лишь в том случае, если у плода выявлено какое-то уродство или отклонение, или состояние матери не позволяет ей рожать. Мы отвечаем за двух людей – за мать и за её ребёнка, вплоть до окончания послеродового периода, так как за это время многое может случиться.
ПЛОД – ЭТО РЕБЕНОК.
НИ БОЛЬШЕ И НИ МЕНЬШЕ.
ПУСТЬ МЕДИЦИНСКИ ЗВУЧИТ БЕЗГРАМОТНО,
НО В ЖИЗНИ ЭТО ИМЕННО ТАК.
В моей практике встречались пациентки, которые состояли на учете по основному заболеванию. Например, бронхиальная астма с частыми приступами или обширный порок сердца. Этим женщинам настоятельно рекомендовали не беременеть, но некоторые, несмотря на предупреждение, всё же шли на риск.
Мария, 28 лет, первая беременность протекала нормально, она родила здорового мальчика. После этого ей поставили диагноз гипертоническая болезнь, и вторую беременность пришлось прервать по медицинским показаниям, так как давление у неё в это время зашкаливало. Через некоторое время Мария снова забеременела и во что бы то ни стало хотела родить второго ребёнка – мечтала о девочке.
При постановке на учет у пациентки давление было 150/90. Понимая, что случай не совсем в моей компетенции, отправила её к специалисту за профессиональным заключением. Мария поехала к профессору, тот после УЗИ предложил ей лечь на обследование, чтобы обстоятельно оценить её состояние и решить вопрос с дальнейшим протеканием беременности.
Она прошла все стандартные процедуры для плановой госпитализации, собрала результаты анализов и прочее. Муж отвёз Марию в больницу, но уже через полчаса она в панике звонит мне, и сообщает, что её отказываются принимать, так как давление сейчас в норме. Я говорю: «Не волнуйтесь, ничего страшного в этом нет, приезжайте сразу ко мне».
Подъезжает, меряем давление – 170/110, понятно, что на нервной почве подскочило. По «скорой» отправляю её в профильный стационар, где она потом наблюдалась в течение беременности по поводу гипертонии.
Однако дальше не всё протекало так радужно. На 32-й неделе на фоне гипертонической болезни у Марии началась преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Слава Богу, всё в итоге закончилось хорошо – она родила прекрасную дочку, как и мечтала. И несмотря на то что девочка родилась раньше срока, это не повлияло критически на её здоровье.
Я так подробно описала историю Марии, потому что она в своё время заставила задуматься вот о чём: у этой женщины был шанс, хотя и небольшой, и она его в полной мере использовала. У неё была высокая мотивация, и она строго выполняла все назначения врача. Но, к сожалению, далеко не всегда мы получаем то, чего хотим.
Как я говорила, есть такие заболевания, которые ведут к акушерским осложнениям, и гипертоническая болезнь – одно из них. Повышенное давление – это, кроме всего прочего, плацентарная недостаточность, а значит, и нарушение питания плода, и задержка развития ребёнка. Ни один доктор в подобных случаях не может дать стопроцентной гарантии, что с ребёнком всё будет нормально, не говоря о том, что это сопряжено с риском и для самой женщины.
В любом случае врач всегда заботится о здоровье и матери, и ребёнка, но порой всё же приходится решать непростую дилемму – жизнь ребёнка или мамы. Многое зависит, конечно, от срока беременности. Если срок небольшой, и при этом существует прямая угроза жизни матери, то все усилия бросаются на сохранение жизни матери. Хотя сейчас медицина в нашей стране развита настолько, что спасти жизнь младенца возможно уже начиная с 500 грамм его веса, то есть на очень раннем сроке, начиная с 22-х недель беременности.
Доктор должен приложить все усилия, использовать весь свой опыт, чтобы оказать квалифицированную помощь маме и ребёнку. Ведь именно так, незаметно, с появлением каждого нового жителя планеты к нам постепенно приходит наше будущее. Приходит с первым криком новорожденного младенца. И каким это будущее станет, зависит, в том числе, от нас – тех, кто первыми принимает его в свои руки».
Правильный первый шаг
«Всегда нужно иметь в виду, что психика женщины в период ожидания ребёнка во многом определяется физиологией её состояния, – рассказывает врач-акушер Нина Ильина. – У неё в это время меняется и сама психология мышления, и весь эмоциональный фон. Тормозит кора головного мозга, охраняя беременную женщину от запредельных для неё переживаний. Доказано, что и информацию она по-другому воспринимают.
Всё это говорит и о том, насколько важна правильная психосоматическая подготовка к родам. Мы же ведём беременных не только для того, чтобы у них были хорошие анализы, а УЗИ и КТГ соответствовали норме. Наша забота – чтобы с мамой и ребенком всё было во всех отношениях в порядке и роды прошли успешно. А для этого нам нужно добиться, чтобы женщина понимала, что существуют три стадии родов и что будет происходить в каждом из этих периодов. Это должно быть выучено как азбука.
Первый период родов самый длительный и связан с достаточно болезненными ощущениями. Но когда женщина знает точки обезболивания, способы массажа, необходимые зоны массажа, то, как нужно дышать, – всё проходит значительно легче.
Если на родах присутствует муж, он не должен быть пассивным свидетелем, важно, чтобы он следил за дыханием роженицы. Ведь когда женщина во время родов задерживает дыхание, то в её организме накапливается углекислый газ и болевые ощущения сразу же усиливаются, а к плоду не поступает достаточно кислорода и может начаться гипоксия тканей. Когда идут схватки, у ребёнка усиливается сердцебиение, потому что в это время пережимается ряд кровеносных сосудов. Естественно, малыш тоже испытывает стресс, а если мама ещё и дышит неправильно, то это создаёт дополнительную нагрузку на его организм.
Словом, будущей маме надо всё заранее и подробно объяснить – какую позу лучше принять, на каком боку, в каком случае схватки будут замедляться и почему.
Нужно представлять, как проходит второй этап, потужной период, почему надо слушать доктора, как правильно тужиться. Вот доктор сказал три раза потужиться за одну потугу – необходимо всё выполнять, иначе будут кровоподтёки.
Третий этап, рождение последа, в этот период возможно сильное кровотечение, и опять же необходимо все делать так, как говорит доктор.
Я это проговариваю заранее, чтобы роженица понимала потом, что происходит. Это поможет ей и ребёнку максимально безопасно и безболезненно пройти предстоящий путь. И оттого, насколько хорошо удаётся предварительно настроить женщину и подготовить её к прохождению родов, во многом будет зависеть её поведение и состояние уже непосредственно в процессе. Как бы то ни было, а у любой женщины все неприятные ощущения от родов нивелируются, как только этот малюсенький беззащитный комочек с крохотными ручками и ножками оказывается у неё на груди.
НИКАКИЕ СМЕСИ НЕ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ.
ВЕДЬ МОЛОКО МАТЕРИ – ЭТО И ИММУНИТЕТ,
И ПРАВИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ,
И ВАЖНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ.
Исключительно важным моментом является и подготовка к грудному вскармливанию, особенно это относится к первородящим женщинам. Далеко не каждая понимает его значение. Материнское молоко – это самое лучшее питание, которое младенец может получить, ничем и никогда его не смогут заменить никакие лучшие смеси. И самое главное, что должно произойти в первые полчаса после родов, это прикладывание ребёнка к груди матери.
Если это не сделано, то у женщины в дальнейшем может так и не наладиться нормальное кормление грудью. А ведь во время кормления происходит особое общение матери и ребёнка, между ними устанавливается тонкий контакт, который жизненно необходим обоим. Я сама мама, и я кормила грудью своего ребёнка практически до девяти месяцев, поэтому знаю по личному опыту, какое это несказанное наслаждение – ощущать, как перетекает к нему твоё молоко, твоя любовь, твоя нежность и как его ответная любовь наполняет тебя.
Своих рожениц я всегда убеждаю, что не стоит лишать себя такого непередаваемого удовольствия, а ребёнка – полноценного питания. Не говоря уже о том, что это и самая лучшая профилактика заболеваний молочных желез, и онкологии, в частности.
Многие трудности и повышенные болевые ощущения в процессе родов часто зависят от настроя самой роженицы и от её осведомленности в данном вопросе. Мне доводилось видеть женщин, которые рожали буквально с улыбкой Джоконды на губах. Естественно, у каждого человека свои индивидуальные ощущения и болевой порог у всех разный. Но первые роды – это всегда страх. И даже если женщина подготовлена теоретически, тем не менее она всё равно будет подспудно бояться, ведь то, что с ней происходит, ещё совершенно не знакомо на уровне ощущений.
Первородящие женщины зачастую также боятся, что про них забыли или бросили, но на самом деле это не так. Каждый член бригады за годы практики уже прекрасно знает, как, что и когда ему необходимо делать, да и роженица может быть в этот момент не единственная. Но у страха всегда глаза велики. Поэтому я всегда в этот момент проговариваю, что нужно не бояться надуманных глупостей, а непременно настраивать себя на положительный лад.
Сейчас в России многие родильные дома ориентируются на то, чтобы проводить роды в атмосфере, приближенной к домашней. И это правильно, поскольку снижает именно психоэмоциональную нагрузку роженицы. Прежде всего они фокусируются на создании условий, благоприятных для грудного вскармливания, но не только. Это и роды в любом положении – сидя, на спине, на боку и много чего другого, что было поначалу достаточно необычно. В нашем роддоме, например, имелось такое кресло, стоимостью с мерседес, которое собиралось для любой удобной роженице позы. У меня была одна женщина, которой удобно было рожать на боку, причём на правом. Чисто физиологически считается правильней рожать на левом боку, потому что в этом случае не передавливается нижняя полая вена, в противном случае можно потерять сознание. А вот этой женщине было именно так комфортно. У неё к тому же оказалась великолепная растяжка, а это очень сильно помогает. Теперь многие женщины занимаются спортом, фитнесом, и в частности, делают акцент на нижний пресс. И это тоже правильно, так как брюшной пресс непосредственно участвует в потугах при родах.
Но, говоря о домашней атмосфере и эмоциональной разгрузке, я хотела здесь ещё обратить внимание на одну модную, но очень настораживающую тенденцию. Меня всегда сильно удручает, когда женщина принимает решение рожать дома, пригласив к себе акушерку. Я считаю это достаточно спорным решением. Многие просто не понимают, что такое акушерское кровотечение и что в этот момент происходит. Была у меня одна беременная, у которой должен был родиться уже четвертый ребёнок. К тому времени у нее развилось варикозное расширение вен, и в какой-то момент она решила рожать на дому с акушеркой. Так как она была многорожавшая, то существовал серьёзный риск кровотечения. Она прекрасно понимала, чем всё это для неё чревато, и тем не менее всё же предпочла такой вариант. Когда я ей рассказала о возможных последствиях, если что-то пойдёт не так, единственное, что она смогла мне ответить, что рядом будут наготове дежурить две реанимационные машины.
На самом деле это очень большая проблема. Если бы женщина хоть раз своими глазами увидела, что такое акушерское кровотечение, она никогда в жизни не пошла бы на подобный риск. Представьте себе до конца открытый кран с водой, хлещущей из него с предельным напором. Вот так и из человека за пять минут может вытечь вся кровь. И никакие реанимационные машины попросту не успеют. Если такое случится в домашних условиях, где присутствует лишь акушерка, ей просто не хватит рук, чтобы подключить сразу две капельницы и остановить кровотечение. В подобных ситуациях обычно начинается суматоха и пяти минут бывает достаточно для летального исхода. Я считаю, что об этом необходимо подробно и обстоятельно рассказывать, чтобы избежать непоправимой трагедии.
Конечно же, на ощущения и поведение женщины при родах влияет внутреннее состояние и профессионализм врача. Нужно грести с ней в одной лодке, опираясь при этом на взаимопонимание и полное доверие. А оно зарабатывается буквально с первых слов при встрече с роженицей. Её сразу же необходимо к себе расположить, быть искренней, только тогда она тебе станет доверять. Ведь пациенты, а женщины в особенности, всегда на подсознательном уровне чувствуют любую фальшь. И независимо от того, выспалась ты или нет, устала или в плохом настроении – всё это остается за дверью больницы. Нужно уметь включать «второе дыхание», потому что от твоего позитивного настроя зависит и настрой самой роженицы. И это тоже твоя ответственность. Если она видит в твоих глазах спокойствие и уверенность, то сама заряжается твоим оптимизмом, ведь позитив всегда притягивает позитив, а добро непременно оборачивается добром.
Вспоминая, как я рожала сама, могу сказать, что на меня самое благотворное влияние в этот ответственный момент оказало присутствие рядом со мною моего мужа. И именно он был тем первым человеком, который взял на руки нашего сына. Думаю, что в конечном итоге это дало силы и мне, и ребёнку. Его мысли, эмоциональный настрой помогали и оберегали нас, и, надеюсь, эта энергетика смогла тогда запечатлеться в самом внутреннем существе нашего малыша. Ведь момент рождения необычайно значим, так как с этого первого маленького шага начинается дорога всей человеческой жизни. И очень важно, чтобы этот шаг был сделан правильно».
Синдром отказа
«Для психолога в роддоме работы всегда непочатый край, – говорит психолог Светлана Сорокина. Независимо от того, как протекает беременность, нормально или с какими-либо патологиями – в таком состоянии женщина всегда нуждается в особой поддержке. Здесь моя основная задача – просвещение и психопрофилактика. Мы беседуем с женщинами о физиологии, правильном поведении при родах и прочих аспектах, это помогает им в самый ответственный момент чувствовать себя увереннее, справляться с болью, быть активной участницей процесса, а не несчастной мученицей.
Много работы и в отделении патологии, здесь наиболее типовые ситуации – это глубокие переживания женщины, связанные с угрозой потери ребёнка, особенно, если у неё уже был горький опыт невынашивания или неудачного родоразрешения. Нет ничего странного в том, что беременность сильно влияет на психику женщины, ведь в это время идёт перестройка не только её физиологии. И это влияние может проявляться по-разному, порой весьма негативно, от повышенного уровня тревожности и нарушений сна вплоть до острых неврозов и затяжной депрессии.
БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА МОЖЕТ ИСПЫТЫВАТЬ
СТРЕССЫ, НЕВРОЗЫ И ДЕПРЕССИЮ.
ЗАДАЧА БЛИЗКИХ –
СВОЕВРЕМЕННО УВИДЕТЬ
ПРОИЗОШЕДШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОСТАРАТЬСЯ ПОМОЧЬ.
Когда я только начинала работать в роддоме, эта часть моих обязанностей не была для меня в новинку – здесь вполне успешно действуют методы краткосрочной терапии, которые я применяла в предыдущей своей практике в Центре реабилитации и социальной адаптации. Самой же сложной и по сей день для меня остаётся работа с отказницами, и прежде всего я говорю об отказах от здоровых младенцев.
Если ребёнок родился с каким-либо тяжёлым заболеванием, с уродством или генетическими нарушениями, как синдром Дауна, например, я не стану убеждать женщину, что она не должна от него отказываться. В этой ситуации я постараюсь помочь матери преодолеть вызванный этим сильнейший стресс, да и комплекс вины. Она не должна ставить на себе крест, если случилась такая трагедия, не должна отказываться от материнства в будущем из опасения, что история может повториться, ведь это не факт. Но, надо признать, и от таких детишек не всегда отказываются. И в моей практике были пациентки, которые не делали скрининг, но всё равно для себя решали, что в любом случае, какие бы ни были у ребёнка отклонения, они это примут.
Уверена, что во множестве таких ситуаций на решение мамы могут оказывать положительное влияние сами медработники, если, конечно, эта работа в роддоме поставлена на должный уровень. Очень многое здесь зависит от того, насколько удалось выстроить с женщиной доверительные отношения и внушить ей позитивный настрой. Каждая ситуация индивидуальна, и когда мама вдруг узнаёт о серьёзных проблемах малыша, в этот момент она очень подвержена мнению тех, кто её окружает – врачей, акушерок, медсестёр. Это всегда надо учитывать, чтобы не навредить неосторожным словом, а, напротив, создать благоприятную атмосферу для принятия правильного решения, дать подробную информацию о диагнозе и возможных перспективах.
Тот же синдром Дауна, например, – его не всегда можно определить во время беременности, точную диагностику дают только инвазивные методы, которые довольно рискованны для плода. И когда женщина узнаёт о подобном диагнозе своего ребёнка уже во время родов, это всегда шок, и ей предстоит мучительный выбор.
Некоторые отказываются, некоторые забирают, по-всякому бывает. Здесь нужно понимать, что он потому и называется «синдром» – это не всегда такой уровень, при котором ребёнок будет абсолютно беспомощным и отсталым. При правильном подходе у таких детей может быть совершенно полноценная жизнь, и, вырастая, они нередко добиваются значительных успехов в жизни, демонстрируя такие способности, которые не всегда доступны людям со стандартным количеством хромосом.
Опять же, существуют, скажем, генетические заболевания, а есть такое понятие, как мозаицизм, когда часть клеток имеет обычный набор хромосом, а часть – дефектную хромосому. И даже генетики в такой ситуации далеко не всегда могут дать однозначный ответ, что будет в том или ином конкретном случае.
Как я уже говорила, каждая женщина, на чью долю выпадает подобное испытание, справляется с ним по-своему. Расскажу историю, которая произошла в самом начале моей работы в роддоме и произвела неизгладимое впечатление.
Надежда М. рожала у нас своего второго ребёнка, её первой девочке было на тот момент около двенадцати лет. Надежда была замужем вторым браком, супруг был хорошим отцом для её дочки, но мечтал о собственном ребёнке, так как своих детей у него не было. Несмотря на возраст, а ей было тогда уже 37, женщина всё же решилась родить.
Беременность протекала нормально, никаких патологий не выявляли ни УЗИ, ни биохимия крови. Наблюдавшая Надежду гинеколог рекомендовала ей всё же пройти генетический скрининг в пренатальном центре, чтобы исключить возможность отклонений. Кроме возраста, оснований для подобных подозрений не было, с наследственностью тоже всё было в порядке, да и первый ребёнок родился совершенно здоровым, поэтому женщина отказалась от биопсии, опасаясь навредить этими исследованиями плоду. Она не хотела рисковать беременностью, говорила, что вряд ли потом снова сможет собраться с духом для новой попытки в случае потери ребёнка. К несчастью, мальчик родился с синдромом Дауна.
ПОЗДНОРОДЯЩИЕ РОДИТЕЛИ (ЗА 30)
ИМЕЮТ ПОВЫШЕННЫЙ РИСК РАЗВИТИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЙ ПЛОДА.
И С КАЖДЫМ ГОДОМ ОПАСНОСТЬ
ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
Мать мужественно выслушала поставленный врачами диагноз, почти не плакала. Когда мы с ней беседовали, Надежда рассказывала, что они с мужем не раз обсуждали возможные риски, поскольку полностью исключить их на этапе беременности не удалось, в конце концов решив довериться воле Господа. Но одно дело чисто теоретически представлять себе событие вероятностью в 1 процент, а совсем другое – увидеть это в реальности.
Для мужа Надежды это известие стало непосильной ношей, он никак не мог с этим смириться и стал настаивать на том, чтобы она подписала отказ от ребёнка. Она же ни в какую не соглашалась, была решительно настроена на то, чтобы сделать для сына всё, что только возможно, подолгу разговаривала с педиатром, выясняя особенности его состояния и перспективы развития.
Я неоднократно пыталась пообщаться с отцом мальчика, но он категорически отвергал все мои попытки установить с ним контакт и обсуждать столь болезненную тему. Ни главврач, ни педиатр тоже в этом не преуспели. В итоге практически сразу после выписки Надежды с сыном уже из детской больницы он ушёл из семьи.
О том, как сложилась потом жизнь этой женщины и её мальчика, я узнала спустя почти десять лет, случайно встретив её во дворе нашего роддома. Она вместе с зятем ожидала выписки своей дочери и новорожденной внучки. Я, конечно, не смогла удержаться от расспросов о её сыне, хотя и не без некоторых колебаний. Однако мои опасения оказались напрасными – Надежда много и с заметным удовольствием рассказывала о нём и его достижениях, и мне сразу же стало понятно, что она целиком посвятила ему всю свою дальнейшую жизнь.
У Илюши ещё в роддоме определили врождённый порок сердца, и это было одной из главных проблем, требовавших скорейшего разрешения, и на первом году жизни мальчика успешно прооперировали в Филатовской больнице.
«Поначалу было очень трудно, – призналась мне Надежда. – Особенно тяжело было морально, давило ощущение собственной вины и одиночество, я не знала, как за ним ухаживать, что делать, к чему вообще нужно быть готовой. Но потом познакомилась с другими родителями даунят, постоянно общалась с ними – и многое стало проще и понятнее. А главное, мне помогли понять, что мой Илюша не больной ребёнок, а просто особенный. Конечно, с ним хлопотнее, чем с обычным мальчиком, он требует больше внимания, терпения и любви, но зато каждый, даже самый маленький его успех – это огромная радость и наша общая победа».
Надежда рассказала и о том, что спустя три года к ним вернулся отец мальчика, который поначалу хоть и самоустранился от воспитания сына, но всегда поддерживал материально. Теперь же полностью включился в заботы о нём, находил различные программы реабилитации для таких детишек, методики развивающей терапии, постоянно занимался с ним. Особой же гордостью Надежды стало то, что в результате их усилий Илюша поступил в обычную школу.
«Я очень боялась, что в школе над ним будут смеяться, – продолжала она, – ведь дети порой бывают очень жестокими, особенно с теми, кто не такой, как все. Но нет, наоборот, его там все очень любят. Он настолько светлый, общительный и дружелюбный, что, мне кажется, его просто нельзя не любить, он воистину «солнечный ребёнок», недаром ведь так обычно называют даунят».
Я поспешила поделиться этими новостями с коллегами, многие из которых знали эту историю, ведь им тоже порой как воздух нужен подобный позитив.
«Вот и пойми после этого, – резюмировала одна из акушерок, – синдром Дауна это наказание Господне или дар».
А я подумала о молодой женщине, которую тоже в тот день выписывали, одну, без ребёнка. Она подписала отказ от совершенно здоровой малышки – муж хотел мальчика, а родилась девочка, и он заставил маму отказаться от дочки. Муж и материальное благополучие оказались ей дороже собственной кровиночки. Бывает и так.
Отказ от здорового ребёнка – это вообще отдельная история, для меня очень трудная с профессиональной точки зрения. Я никогда никого не осуждаю за такое решение, да и не имею на то права, но со своей стороны всегда стараюсь сделать максимум возможного, чтобы уберечь женщину от роковой ошибки. Конечно, у каждой из них своя ситуация, которая со стороны кажется простой, а ей представляется безысходной. И моя задача – понять проблему, увидеть её истинные причины и найти способ позитивного разрешения.
Самые частые причины таких отказов – это неустроенность и материальное неблагополучие матери, когда её негде и не на что содержать ребёнка, нередко это бывают приезжие или совсем юные девушки. И основная моя боль – молодые мамочки, прежде всего, несовершеннолетние. Зачастую такие девочки оставляют своих деток скрепя сердце, всего лишь потому, что просто не представляют себе, как выкрутиться в сложной ситуации, какие могут быть варианты и перспективы. Особенно, если не на кого опереться – нет ни мужа, ни родителей, ни кого-то из родственников рядом.
Вот я вижу, например, что мама вроде бы и не хочет отказываться от малыша, но у неё нет денег. Просто нет денег. И мы вместе пытаемся найти выход. Конечно, здесь работают не только психологические приёмы и методики психокоррекции. Я объясняю, например, что она может не отказываться от ребёнка совсем, а оставить его на время в доме малютки. Его никто не имеет права забрать, она его мать, будет навещать малыша, это, кстати, обязательное условие, ухаживать за ним и кормить. А за то время постарается решить какую-то часть своих жизненных проблем, создать условия для содержания ребёнка – найти работу, жильё и так далее. Рассказываю и про пособия, социальные льготы, если нужно – прошу юриста подключиться, проконсультировать подробнее.
Порой случается, что рожает несовершеннолетняя, а её родители против, уговаривают отказаться. А врач не имеет права выписывать несовершеннолетнюю маму с ребёнком из роддома, если нет подписанного родителями согласия на опекунство. В такой ситуации, если мать не хочет отказываться от своего дитя, она также отдаёт его в дом малютки, до своего совершеннолетия.
Был у нас очень непростой случай с девочкой пятнадцати лет. Катя родила хорошего здорового мальчика, но её родители были категорически против ребёнка. Они и прежде настаивали, чтобы дочка сделала аборт, однако Кате долго удавалось скрывать от родителей беременность, и когда они об этом узнали, было уже поздно что-либо предпринимать. Теперь же она ни за что не соглашалась на выписку без малыша, отказалась от дома малютки, собиралась оставаться жить у нас, в роддоме.
Я много беседовала с матерью Кати, объясняла, какую глубокую психологическую травму они могут нанести дочери в самом начале её взрослой жизни, что, подчинившись их решению и бросив своего ребёнка на произвол судьбы, она может потом попросту не оправиться от этого стресса. Но все мои доводы разбивались вдребезги, словно о ледяную глыбу – собственное положение и имидж для родителей Кати оказались важнее жизни их дочери, не говоря уже о внуке.
Из-за этих разбирательств Катя пролежала у нас две недели, и за это время мне удалось расспросить её об отце ребёнка и связаться с ним. Оказалось, что парню как раз недавно исполнилось восемнадцать, и, узнав о Катиных неурядицах с родителями, он решил взять опекунство на себя. В результате молодую маму с ребёнком из роддома забрала к себе домой будущая свекровь, а не родная мать. Вот такие истории со счастливым концом тоже происходят.
Конечно, когда я вижу, что моя работа помогает женщине избежать трагической ошибки, из-за которой её жизнь может разрушиться, что новорожденный малыш выходит из роддома в семью, а не в детский дом – это придаёт сил и энергии бороться дальше, за судьбы и других деток.
Но сейчас я всё отчётливее понимаю, что слишком сильно включаюсь эмоционально, как психолог я вижу, что мне становится всё сложнее дистанцироваться от проблем моих пациенток. Это не удивительно, ведь я сама женщина, сама мама, но с другой стороны, не хочется перегореть раньше времени и потерять профессиональный уровень. Поэтому в последнее время я всё чаще подумываю о том, чтобы несколько сменить профиль, попробовать себя в качестве психолога непосредственно в родах.
В РОССИИ НЕКОТОРЫЕ РОДИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ПРЕДЛАГАЮТ СВОИМ ПАЦИЕНТКАМ УСЛУГИ ДОУЛЫ —
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОМОЩНИКА В РОДАХ.
КАК БЫ ЗАБАВНО ЭТО НИ ЗВУЧАЛО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД,
НА САМОМ ДЕЛЕ ПОМОЩЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ
ПРОСТО НЕОЦЕНИМА.
В последние годы и у нас в России, в наиболее продвинутых роддомах, стала востребованной такая специальность как доула – помощница в родах, человек, который не только поддерживает женщину психологически и эмоционально, но оказывает ощутимое содействие тому, чтобы роды прошли максимально естественным и благоприятным для неё и ребёнка образом. И всё это благодаря немедикаментозным способам. Доула не просто держит роженицу за ручку и утешает, она учит, какую позу лучше принять, чтобы снять напряжение и боль во время схватки, подсказывает дыхательные упражнения и техники релаксации, делает точечный массаж и много чего ещё. Это, кстати, и медикам позволяет спокойно выполнять свою работу, без лишней нервотрёпки.
Меня невероятно впечатлили рассказы женщин, рожавших с доулой, это просто небо и земля по сравнению с тем, что мы знаем о родах. И я подумала о том, что, возможно, «в муках рожать детей своих» – всего лишь навязанный нам миф, и естественные роды могут протекать легко и комфортно, позволяя матери целиком погрузиться в этот уникальный и воистину трансцендентальный опыт, а младенцу – быстрее и свободнее адаптироваться в незнакомом мире.
А ещё я уверена, что женщина, которой удаётся избежать травмирующего стресса самих родов, и с прочими сопутствующими им проблемами сможет справляться гораздо легче».
Подарки судьбы
«Недавно я была на курсах по ультразвуковой диагностике у профессора, которого буквально можно назвать ассом во всём, что касается перинатальной диагностики, особенно в области УЗИ сердца, – рассказывает неонатолог Лидия Векшина. – В Москве на сегодняшний день специалиста лучше него нет. Так он говорит о том, что сейчас уже достаточно часто можно с большой долей вероятности предвидеть те или иные отклонения у ребёнка, а, соответственно, и самого процесса родов. И именно от этого зависит, где женщине следует рожать, где ей смогут оказать специализированную помощь. В его центр приезжают женщины не только из Москвы, но и со всей России, чтобы определиться с этим вопросом. Ведь если вовремя будут приняты необходимые меры, то, конечно же, шансов у ребёнка и у матери на положительный исход значительно больше.
На мой взгляд, такие центры перинатальной диагностики должны стать нормой во всех уголках нашей страны, чтобы любая женщина ещё на ранней стадии беременности могла проходить там исследования и при обнаружении отклонений решать вопрос о родах. В этом случае значительное число проблем может быть легко снято на самой ранней стадии.
В 2015 году я участвовала в международном симпозиуме в Петербурге. Там выступал один доктор из Швейцарии, который показывал фильм, как они делают женщинам на 25 неделе беременности операцию по поводу врождённой патологии «спина бифида», это расщепление позвоночника. У нас такое заболевание является одним из показаний для прерывания беременности. В качестве примера в фильме рассказывали историю женщины, которой было уже за сорок. Ей проводили экстракорпоральное оплодотворение, и для неё это была одна из большого числа попыток, когда она смогла, наконец, забеременеть, а тут выявили такую патологию. Диагноз был поставлен после нескольких видов исследований, учитывали и данные скрининга, и показатели биохимического анализа крови. Вот эту женщину как раз и прооперировали. После операции медики зафиксировали, что у ребёнка в динамике наблюдаются хорошие результаты.
А уже в этом году в клинике Лапино «Мать и дитя» российские специалисты провели аналогичную внутриутробную операцию. И это просто фантастика! Я была приятно удивлена и испытала законную гордость, что и у нас в стране настолько продвинулась медицина.
В конечном же счёте всё от людей зависит. Бывают, конечно, ситуации, когда руки опускаются, но если врач понимает, что существует хоть единственный шанс, человеку необходимо подробно всё рассказать, чтобы он смог по возможности этот шанс использовать.
Я считаю, когда диагностирована какая-либо патология, родители должны иметь максимум информации, чтобы трезво взвесить все «за» и «против». Если это генетическое отклонение, то необходима консультации генетика, нужно понимать, каков процент неблагоприятного развития событий, а потом уже в этот процент либо попадешь, либо нет. В других случаях есть вероятность того, что ребёнку может быть оказана специализированная помощь.
КАКОВ БЫ НИ БЫЛ ПРОЦЕНТ ВОЗМОЖНОГО ИСХОДА,
СТОИТ ПОНИМАТЬ, ЧТО ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
ШАНСЫ РОДИТЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 50 НА 50.
Однако часто дело сводится к тому, согласны ли родители, что у них будет проблемный ребёнок и с ним придётся много работать, или нет. Понятно, что это и финансово, и морально тяжело, но они должны заранее понимать, с чем имеют дело. Понимать, а не впадать в уныние, решив, что уже нет никакой надежды.
Жизнь, конечно, сложная штука, и всё предусмотреть невозможно. Но если есть цель – надо к ней стремиться. Бывает, что кому-то никак не удаётся родить ребёнка, а кто-то отказывается от своего малыша, даже полностью здорового.
Расскажу историю, которая мне особенно дорога. Так сложилось, что у моей коллеги, прекрасного гинеколога и просто замечательного человека, не было детей. Первая беременность у неё закончилась выкидышем, а после этого, что бы она ни пробовала, зачать ребёнка уже не получалось. И вот в наш роддом поступила женщина, которая специально приехала рожать из другого района, чтобы дома никто об этом не узнал. Поступила и заранее написала отказную на будущего ребёнка. Через пару дней она родила прекрасную девочку, в которую буквально все наши медики просто влюбились. Женщина после родов тут же уехала, даже не взглянув на дочку.
Весь персонал тогда принялся уговаривать нашу бездетную коллегу, чтобы она удочерила девочку. Так она и поступила. Девочка давно выросла, вышла замуж, у неё всё в жизни сложилось хорошо. Но самое интересное, что она стала необычайно сильно похожа на свою приёмную мать, словно родная дочь!
На мой взгляд, эта история служит прекрасной иллюстрацией того, как действительно стоит поступать в подобных случаях. Ребёнок получил родительскую любовь и счастливое детство, а приёмным родителям достался настоящий подарок судьбы – замечательная дочка. Вот так им всем повезло найти друг друга.
Иногда говорят, что итог человеческой жизни заключается в воспитании ребёнка. Но порою люди не спешат заводить детей под предлогом устройства собственной жизни, достижения высот в карьере или обретения финансового благополучия. Потом оказывается, что драгоценное время упущено, и они слишком поздно это понимают.
У нас детородным считается возраст от 18 до 49 лет, однако все гинекологи знают, что после 45 лет уже может наступить менопауза. Помимо того, у женщин есть такой внутренний потенциал, называемый овариальный резерв – это запас имеющихся в яичниках фолликулов, которые могут быть использованы для оплодотворения. Так вот этот показатель резко снижается уже после 37 лет. Хотя некоторые женщины могут рожать и в 45 лет, и позже.
Заговорила о возрасте, и сразу вспомнилась другая история. Родила у нас женщина, которой на тот момент было 49 лет. У неё прекратились месячные, по этому поводу она, собственно, и обратилась к гинекологу. У женщины оказался мужской тип ожирения, и пропальпировать её толком не удалось, это бывает крайне сложно с такой формой ожирения. Врач решил, что у неё наступил климакс. Только когда ребёнок начал уже шевелиться, стало понятно, что она беременна. Женщина родила здорового мальчика.
Незадолго до этого у неё трагический погиб взрослый сын, который был единственным ребёнком в семье. И вот судьба вновь подарила ей сына. Случаются порою в жизни и такие удивительные истории».
Мир входящему
«Детской медсестрой в роддоме я проработала почти тридцать лет, – рассказывает Ирина Арефьева. – Сложно сказать, сколько детишек прошло через мои руки, никогда не считала, но, должно быть, не одна тысяча. Конечно, работа эта довольно тяжёлая, многие не выдерживают подолгу, увольняются. И эмоциональная нагрузка иногда очень сильная, и физически бывает тяжело. Порой по сорок детей приходится на одну медсестру. Запеленать, покормить, убираться три раза в день, а если ещё назначения лекарственные есть – всё надо выполнить и четко в срок.
Но со временем ко всему привыкаешь. Коллектив у нас дружный, всегда друг другу помогаем, и педиатры всегда хорошие были. Мамаши тоже порой облегчают задачу – прибегают, сами своих малышей кормят, не ждут, пока мы принесём. Раньше каталок не было, так по два ребёночка приходилось разносить на руках из одного крыла в другое. Пока последних принесли, уже пора первых обратно относить, вот и бегали туда-сюда. В среднем, чтобы всех детишек перепеленать, уходит часа полтора, а промежуток от кормления до кормления – три часа, успевай, как хочешь.
И всё равно мне здесь нравится работать, к деткам я быстро привыкаю. Они абсолютно разные, это только со стороны кажется, что все новорожденные одинаковые. Я, конечно, различаю, их никак нельзя перепутать друг с другом. И мне всегда было очень интересно наблюдать за ними, как они изменяются даже за то короткое время, пока у нас в отделении находятся.
Маму с ребёнком, если всё хорошо, обычно выписывают через пять дней. И вот за эти несколько дней ребёнок становится совершенно другим по сравнению с тем, каким был первые сутки. Например, когда малыш только появляется на свет, у него нет зрачков, глазки мутные, просто тёмные шарики такие. Только на пятый-седьмой день проявляются нормальные глаза. Так постепенно всё встаёт на свои места, всё развивается, и ребёночек меняется не по дням, а по часам!
Со временем их начинаешь понимать без слов, но к каждому нужно найти подход. Вообще же весь настрой идёт от мамы, и если мама возбуждена, то ребёнок тоже будет беспокойным. Несмотря на то, что они лежат в разных отделениях, на разных концах одного этажа, эта связь всё равно неразрывна. Например, если мама очень трясётся за малыша, если ей всё время кажется, что с ним что-то не так, то всегда у этого ребёнка что-то и начинается. Самое главное маме оставаться спокойной. Если мы видим, что ребёнок не успокаивается, первым делом идём узнавать, что происходит с мамой.
В последние годы я работаю в физиологии, в этом отделении лежат здоровые детишки и мамы. А раньше работала в обсервации, туда попадают роженицы с ОРЗ и вообще с любыми воспалительными заболеваниями, с температурой, мамочки с инфекционными осложнениями после родов. Если у женщины нет обменной карты или не хватает результатов каких-то обследований, её тоже сразу кладут в обсервацию, как и деток, которых родили дома. Ещё в «обсервацию» попадают отказные дети либо с какими-то патологиями.
Сразу после родов малыш вместе с мамой лежит ещё два часа в родблоке, где их наблюдают. Потом ребёнка осматривает педиатр и решает, в какое отделение его отправлять. Однако я всё же перед тем, как забрать новорожденного из родблока в своё отделение, всегда послушаю, как дышит малыш. Просто на слух, наклоняюсь ухом над ребёночком – слушаю, как он дышит. Этому меня врачи научили. Если мне вдруг что-то не нравится, я его не беру, вызываю педиатра. Взять в здоровое отделение ребёнка с плохим дыханием – очень большой риск, могут возникнуть проблемы при кормлении, асфиксия может начаться. В реанимации таким деткам дают кислород, и в течение суток дыхание восстанавливается. После родов бывает, что лёгкие младенца до конца не раскрываются.
Почему дети кричат первые сутки? Мамы думают, что они голодные, но на самом деле первые сутки дети не бывают голодными. Во-первых, они внутриутробно насыщены, а во-вторых, маме сразу после родов кладут ребёночка на грудь не только для того, чтобы им обоим было спокойнее, но и для того, чтобы состоялось первое кормление. И буквально пяти капель молозива хватает, чтобы малыш получил колоссальное количество витаминов от мамы. Так что они вовсе не голодные, но кричать должны. Внутри мамы они лежали в воде, в невесомости, а тут вышли на воздух. Чтобы лёгкие хорошо раскрылись и разработались, детки должны кричать. Когда же у малыша лёгкие приходят в нормальное состояние, он перестаёт кричать и засыпает. Может проспать так целые сутки, это нормально.
КРИК МЛАДЕНЦА В ПЕРВЫЕ ДНИ – ПРАВИЛЬНОЕ
С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЯВЛЕНИЕ.
В ЭТОТ МОМЕНТ У РЕБЕНКА
МАКСИМАЛЬНО РАСКРЫВАЮТСЯ ЛЕГКИЕ.
Довелось мне поработать и в детской реанимации, где лежат проблемные дети – родившиеся в тяжёлом состоянии и недоношенные, которым нужен специальный уход.
Помню, самый маленький ребёнок за мою практику был весом всего в 850 грамм, это сначала даже считается не ребёнок, а плод, но даже таких маленьких удаётся выхаживать. Такое случается, когда у женщины есть медицинские противопоказания к беременности. В принципе, сейчас уже с 22-й недели можно вызывать преждевременные роды, хотя при этом всё же крайне мало шансов, что ребёнок выживет. После 30 недель беременности ему выходить можно, а раньше очень большой риск.
И вот в реанимации их кладут в инкубатор, выхаживают, кормят через катетер, обогревают. Крошечные такие, ручки, как у меня палец, синенькие рождаются, потому что быстрые роды. Даём им кислород, и потихонечку они начинают розоветь. Мне нравилось за ними ухаживать, они как куколки. У нас их до выписки не оставляют, только на несколько дней, а потом они переходят в детский корпус, там до выписки и остаются.
Насмотрелась за эти годы, конечно, всякого, разные патологии новорожденных повидала. В 80-е годы их почему-то особенно много было и в 90-х был всплеск. Сейчас гораздо меньше. С возрастом такие вещи тяжелее переживаешь, мы же не роботы. Казалось бы, какое тебе дело, ведь это не твоя беда, совершенно чужие люди, которых ты в жизни больше не увидишь, а всё равно трудно не принимать близко к сердцу такие трагедии.
Вот я и перевелась в конце концов в физиологию, здесь, как ни говори, всё же больше положительных эмоций. Да и с мамами чаще общаешься, а помогаешь им – значит, и ребёнку больше помощи.
Для мамы, если у неё роды прошли нормально, самое главное в первые дни – наладить кормление, вот мы и учим, как и что. Вообще, конечно, это всё акушеры-гинекологи женщине рассказывают, но они, по большому счёту, дают теорию, а мы уже показываем, как это делать на практике. Как правильно пеленать, как разбудить. Ведь пока запеленаешь, бывает, ребёнок засыпает, ты его пеленаешь для того, чтобы к маме на кормление принести, а он спит, маме его разбудить надо.
Но и в физиологии, и в обсервации переживаний тоже хватает, особенно за отказных деток, а они постоянно у нас появляются. Одного забирают в дом малютки – другого уже приносят. По 10–15 детей таких постоянно лежит. Бывает спад, это два-три малыша, а потом опять. Со своей стороны мы, медсёстры, мало что можем предпринять, мы редко контактируем с такими мамами. Уговаривают акушеры, педиатры, главврач может подойти поговорить, юрист. Мы всё-таки общаемся только с теми, кто детей не бросает, а к другим не имеем прямого отношения.
Однако порой всё же допускаем маленькие хитрости. Сделаешь вид, что не в курсе намерений женщины отказаться, приносишь ей ребёнка на кормление, как и всем. Бывает, мамаша растеряется да и покормит малыша. А то стараешься пройти перед ней с ребёночком, чтобы на глаза попасться, или просишь покормить грудью, под предлогом, что молоко у нас закончилось. Иногда это срабатывает, после такого контакта с ребёнком труднее оторвать его от себя и бросить, вот некоторые и меняют своё решение. Но если родильница отказ уже подписала, то мы не имеем права к ней подходить, и спрашивать никто ничего не имеет права. Бывает, только родила женщина, а заявление готовое уже лежит.
Такие детки, от которых отказались, некоторое время остаются у нас. Через три недели приходит доктор и пишет заключение. Потом ребенка записывают в очередь на распределение в дом малютки, и как только освобождается место, переводим его туда. Бывает, месяца полтора у нас лежат.
Больше внимания идёт отказным детям с патологиями, поскольку уход за ними медицинский необходим в гораздо большем объёме. Если по показаниям не запрещено, то я с ними и гулять выходила, ведь свежий воздух всем полезен. Жалко, что они лежат всё время в палате. Их же всех очень жалко, вот из нас, медсестёр, кто свободен, выходит и гуляет с детишками.
У нас даже был мальчик Сашенька, который три месяца в роддоме жил. Мы ему и яблочки таскали, и одежду – распашонки, ползунки, ведь малышу надо развиваться, он же растёт. И гулять с ним тоже ходили. Сашенька здоровый мальчик был, а мама отказалась. Раньше было сложно с местами в детдомах, вот он три месяца у нас и жил. Конечно, по возможности таким деткам и игрушки приносим, и даём им побыть без пеленания, чтобы ручки и ножки развивались. Государство не предоставляет в роддом одежду для тех, кто подрос, вот мы от своих детишек и приносили, кто что может. Но этого, конечно, всё равно недостаточно.
ЕСЛИ РОДИТЕЛИ НЕ ХОТЯТ АФИШИРОВАТЬ,
ЧТО МАЛЫШ БУДЕТ ПРИЕМНЫМ,
ОНИ МОГУТ ВСТАТЬ НА ОЧЕРЕДЬ НА НОВОРОЖДЕННОГО,
И ДО ВРЕМЕНИ УСЫНОВЛЕНИЯ
МАМА БУДЕТ НОСИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ НА ЖИВОТ.
Были на моей памяти и счастливые случаи усыновления детишек прямо из роддома. Когда семейная пара хочет взять именно новорожденного, они проходят все юридические процедуры и встают на очередь в органах опеки. Если для них важно сохранить усыновление в тайне, то женщина имитирует беременность – носит специальные накладки на животе, соответствующие сроку. Не все пары готовы сказать, что у них будет чужой ребёнок, а таким образом всё остается в секрете.
Когда подходит срок «рожать» и есть отказной малыш, женщина приезжает на «роды». Юридически заранее все бумаги подготавливают, больничные, обменную карту, где указывают, что она родила такого-то числа. Таких мам довольно много. Кто-то готов взять из детдома ребёнка постарше, а кто-то хочет воспитывать малыша с первых дней. В любом случае у детишек появляется семья и любящие родители.
Помню женщину, которая в первый раз мальчика усыновила, а через четыре года опять пришла к нам и взяла девочку. Приехал забирать маму с ребёнком муж, а я провожала их на выписку, и они вспомнили меня. Это, конечно, очень приятно было. И женщина показывает мне фото сына и говорит: «Посмотрите, вылитый муж!». Я смотрю – и правда, светлые волосы, голубые глаза. Так действительно бывает, усыновлённые дети часто получаются похожими на приёмных родителей, вот и в этой семье подобная приятная закономерность произошла.
Всякое бывает – и радости, и переживания. Идёшь на работу и думаешь: сколько-то сегодня детишек родится. Дай Бог, чтобы все здоровенькие и у любящих мамочек, и чтобы у них всё хорошо прошло. Ну, а там уже, как Господь распорядится. Кому какую судьбу он уготавливает, нам неведомо. Но всё, что от нас зависит, мы сделаем».
5. ХОСПИС. МЕСТО, ГДЕ НЕТ ЧУЖИХ
Эта глава об удивительных людях, которые поддерживают тех, у кого уже нет надежды на выздоровление
Голос на другом берегу
«Когда-то в далёкой молодости вместе с друзьями летом я отправился в поход на Алтай, – рассказывает психотерапевт Николай Фомин. – Мы добрались до одного из красивейших горных озёр и разбили на берегу лагерь. Места там восхитительные, и когда мои товарищи засобирались в обратный путь, я решил задержаться ещё на недельку. Маршрут был мне хорошо известен, поэтому моё решение не вызвало ни у кого удивления или беспокойства. Оставшись один, я повстречался со своим будущим спутником.
Славик был совсем молодым парнем, лет шестнадцати, студентом Ленинградского художественного училища. Как он умудрился отбиться от своей группы, я уже толком не помню, но в итоге Славик оказался на берегу озера, где я в одиночестве наслаждался красотами природы. Однажды днём он возник у входа в мою палатку – щуплый белобрысый мальчишка с внушительного размера рюкзаком и притороченным к нему сбоку этюдником.
Он сразу расположил меня к себе: то ли своей наивностью и хрупкостью, то ли некоей врождённой интеллигентностью, которая редко встречается. Мы решили возвращаться вместе и через пару дней после нашего знакомства отправились в путь.
В том году весной и в начале лета выпало аномальное количество осадков: горные речки, и без того достаточно бурные, превратились в неукротимые потоки. Старожилы и бывалые туристы говорили, что столь полноводного разлива рек в этих краях ещё не случалось.
Река, вдоль которой пролегал наш путь, местами полностью размыла тропу, а где-то тропа представляла собой лишь узкую каменистую полоску, вплотную примыкавшую к отвесной скале с одной стороны, а с другой – нависавшую над кипящим, несущимся водным потоком. Проходя такие участки, особенно опасные после дождя, приходилось балансировать с тяжёлыми рюкзаками за спиной, прижимаясь к скалам. На одном из коварных поворотов я поскользнулся и, не удержав равновесие, рухнул в воду.
Как сейчас помню глупейшую мысль, которая первой пришла в голову: «Вот, теперь ещё и сушиться придётся». В следующую секунду меня накрыл с головой поток и помчал вместе с тяжеленным рюкзаком, вращая с такою лёгкостью, словно я был крохотной щепкой. Меня прокатило как на горках по нескольким порогам, чудом не разбив голову о здоровенные валуны, острыми краями торчащие из воды.
С огромным трудом мне удалось отстегнуть под водой застёжку рюкзака, но даже после этого снять его оказалось непросто – каждое движение в мощном потоке давалось с трудом, и рюкзак цеплялся лямками то за плечи, то за локти. Тем не менее я сумел от него освободиться – с ним у меня совсем не было бы шансов выбраться.
Я пытался ухватиться за торчащие из воды камни, но лишь разбил руки в кровь. После ряда таких бесплодных попыток, вдоволь наглотавшись воды, я совсем обессилил. Течение времени словно бы замедлилось, и мне даже стало казаться, что я наблюдаю себя и всю эту ситуацию откуда-то сверху – одновременно оставаясь и в воде, и метрах в трёх над бушевавшей рекой. Вместе с этим пришло и некоторое странное спокойствие, почти безразличие. В этот момент я проплывал под поваленным деревом, нависшим над водой. Я инстинктивно обхватил ладонями скользкий мокрый ствол, и поток распластал моё тело по поверхности воды.
Когда силы начали покидать меня, и я уже смирился с тем, что пора разжимать пальцы и плыть дальше, за грохотом воды я различил едва слышный голос. На противоположном берегу стоял Славик – он что-то кричал и отчаянно жестикулировал. Помочь он, конечно, ничем не мог – нас разделяло не менее десяти метров ревущего потока, однако то, что он, сбросив рюкзак, умудрился по таёжному бездорожью так быстро пробежать расстояние, на которое меня унесла стремнина, уже говорило о многом.
В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
ВАЖНО НЕ ОСТАВАТЬСЯ ОДНОМУ.
ПОДДЕРЖКА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА В ЭТОТ МОМЕНТ
МОЖЕТ СОТВОРИТЬ НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА.
Славик продолжал что-то настойчиво кричать, и я попытался разобрать его слова. Как я понял, он убеждал меня перебирать руками вдоль ствола дерева и выбираться на берег. Поскольку я сам находился в потоке, который играл мною как соломинкой, такая наивная мысль даже не могла прийти мне в голову, поскольку была попросту неосуществимой – попробуйте перебирать руками, когда сила, тянущая вас за ноги, сравнима с порывами норовистой лошади.
Но в том состоянии, когда я уже наполовину расстался с жизнью, слова моего попутчика стали прямым руководством к действию – говорит, значит, знает. И я буквально палец за пальцем начал перемещать руки вдоль дерева. На моё счастье нога зацепилась за подводный камень, оттолкнувшись от которого, ценой неимоверных усилий я всё-таки смог выбраться на отмель.
Человек, не испытавший приближения смерти, никогда не поймёт, насколько прекрасным представляется наш мир после её ледяного касания. Ты словно пробуждаешься от серого скучного сна и слышишь удивительную музыку собственного сердца.
В экстренной ситуации, когда речь идёт о спасении жизни, человеку как никогда необходим человек – тот, кто поможет успокоиться, сконцентрироваться и заставить действовать. Таким человеком в моём случае оказался Славик – только благодаря его вмешательству и словам, которые смогли пробиться к моему сознанию, я сумел изменить, казалось бы, неизбежный ход событий.
Именно этот случай впоследствии сыграл свою роль в моём решении работать в хосписе. Здесь я не только практикующий врач – каждый раз я стараюсь достучаться до охваченного паникой или впавшего в депрессию человека, помочь ему услышать собственное сердце и, насколько возможно, привести мысли в порядок. По себе знаю, насколько важен уверенный голос человека, находящегося на другом берегу».
Уйти по-человечески
Свой пятидесятилетний юбилей Григорий собирался отметить в кругу семьи и близких друзей, однако этим планам не суждено было исполниться. Помешало серьёзное недомогание, которое он испытывал в последние дни. Усилившуюся тошноту и постоянную рвоту усугубляли непрекращающиеся сильные боли в спине. Диагноз, поставленный в результате обследований, стал для мужчины шоком – врачи констатировали рак поджелудочной железы 3-й стадии.
Историю борьбы со страшной болезнью рассказывает Антонина, супруга Григория.
«Гриша всегда был человеком с сильным характером, о таких говорят, что у него крепкий стержень внутри. Он бывший военный, прошёл Афган и ряд других горячих точек, привык стойко переносить тяжёлые удары судьбы, которых на его жизнь выпало немало. Были у него и серьёзные ранения, порой дававшие о себе знать спустя многие годы. Но он всегда старался сам справляться со всеми болячками, лечь в госпиталь или поехать в санаторий его было не заставить. Сейчас я думаю, может быть, это тоже сыграло свою роль в том, что рак у него обнаружили уже в неоперабельной форме.
Известие о том, что у него смертельная болезнь, Гриша воспринял исключительно мужественно, в отличие от меня. Психолог потом мне рассказывала о типичных ступенях принятия таких известий: паника, отрицание, депрессия и так далее. У Гриши ничего подобного не было, в панику и депрессию впадала только я. А он, наоборот, поддерживал меня и говорил: «Ну что ты, ничего, мы ещё повоюем». И мы воевали.
Четыре года, собрав всю волю в кулак, муж сопротивлялся болезни, бился за жизнь с противником, который с самого начала был сильнее его. Но Гриша всё равно не сдавался, хотя ему и пришлось испытать мучения всех кругов ада. Он прошёл и хирургию, и лучевую терапию, и химию. Всё, что только было возможно, мы испробовали, даже принимали участие в клинических испытаниях экспериментальных препаратов.
Четыре года жизни Гриша отвоевал у болезни, карабкаясь от отчаяния к надежде и падая обратно, на самое дно безнадёжности. Для такого диагноза, как говорили врачи, это очень большой срок, изначально они давали ему год, от силы полтора. Думаю, так долго он смог продержаться только благодаря силе воли и решимости.
И лишь в последние полгода, после того, как лечащий врач сказал, что никакие методы уже не дадут ощутимого результата и Гришу отправили умирать домой, мужество постепенно стало покидать его. Для него пропали смысл и цель борьбы, не осталось ничего, кроме изнуряющей, высасывающей последние силы и перемалывающей психику боли.
А для меня началась ещё и безумная эпопея с выпиской рецептов и получением обезболивающих. Лекарства, которые можно было купить в аптеке за деньги, уже практически не помогали, а наркотиков, что мужу выписывали на десять дней, хватало, в лучшем случае, на неделю. Он пытался терпеть, чтобы хоть немного растянуть полученные препараты, но тогда начинались приступы невыносимой прорывной боли.
Самыми тяжёлыми для него были дни моих походов за рецептом и в аптеку. На это уходил обычно целый день, и всё время до моего возвращения Грише приходилось держаться на простых таблетках, ведь для того, чтобы врач мог выписать новый спецрецепт, я должна была сдать все использованные ампулы. Получение лекарств – вообще отдельная история, полная бюрократических проволочек, перестраховок и прочего абсурда. Ни вспоминать, ни говорить об этом сейчас не хочется. Мой рассказ о другом.
Первые два месяца после выписки из больницы Гриша ещё вставал, иногда, в паузах между приступами рвоты и боли, просил вывезти его на балкон погреться на солнышке и подышать тёплым весенним воздухом. Потом прорывы боли стали проявляться постоянно, и вся жизнь свелась к одному – мучительному ожиданию смерти.
Я видела, насколько муж изменился внутренне, он казался совершенно сломленным этими непрекращающимися пытками. Но однажды я вдруг заметила явную перемену в его настроении, которую не сразу смогла понять. Он стал более собранным что ли, как в те годы, когда ещё боролся с болезнью. В глазах появилась надежда, словно он обрёл новую цель. Поначалу я обрадовалась этой перемене, но потом поняла её причину.
Когда мне нужно было ненадолго отлучаться из дома за продуктами, я обычно оставляла включённым телевизор, чтобы мужу не было совсем одиноко в моё отсутствие. Он смотрел какой-нибудь старый советский фильм, это помогало на время отвлечься, вспомнить прежние времена.
И вот как-то раз, вернувшись из магазина, я услышала, что он смотрит не кино, а выпуск новостей. Сперва я не придала этому особого значения, но в одном из следующих сюжетов зашла речь о том, что покончил с собой какой-то генерал, и причиной его самоубийства называли тяжёлую форму онкологии. Зайдя в комнату, чтобы переключить телевизор на другой канал, я посмотрела на мужа и увидела на его лице то самое выражение. Вот тогда я сразу всё поняла.
Гриша, конечно, ни словом не обмолвился, но по его глазам я поняла, что эта идея крепко засела в его сознании. Не скажу, чтобы муж был очень религиозным человеком, но тогда в Афганистане он принял не только боевое крещение, но и православное, и все последующие годы жил по вере. И вот теперь болезнь испытывала его, искушая быстрым избавлением от мучений и от тягостного ожидания неотвратимого конца.
НА ВОПРОС О ПРАВОМЕРНОСТИ ЭВТАНАЗИИ
НЕЛЬЗЯ ОТВЕТИТЬ ОДНОЗНАЧНО.
НО МНОГИЕ ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЬНЫЕ
ВОСПРИНИМАЮТ ЕЕ СКОРЕЕ КАК БЛАГО.
С того дня я больше не рисковала оставлять мужа дома одного даже на полчаса. Когда мне предстоял поход за рецептом и в аптеку, договаривалась с дочкой. Света оставляла ребёнка у подруги на день и приезжала к нам, с ним вместе не получалось. Антошке тогда едва исполнилось пять лет, и он был совершенным непоседой, больше десяти минут на месте не мог усидеть. В другое время Грише, конечно, и хотелось бы пообщаться с внуком, а теперь шум, гам и неугомонная беготня ребёнка сильно утомляли деда, он становился ещё более раздражительным.
Я ничего не стала говорить Грише о тех мыслях, что поселились в его голове, язык просто не поворачивался. Да и что можно сказать человеку, которому только смерть сулит освобождение? Что самоубийство это грех? Разве можно осуждать его и упрекать за такие мысли? Так что мы с дочкой не пытались его в чём-то разубеждать, обходили стороной эту тему. Просто старались быть вдвое внимательнее и не оставлять его одного, и плюс ко всему избегать просмотра новостей. Хотя проблему это, конечно, не снимало.
Районный онколог во время одного из своих последних визитов, видя крайне тяжёлое состояние мужа, предложила выписать ему направление в хоспис, говорила, что там Грише будет обеспечен надлежащий уход и качественное обезболивание, и что всё это совершенно бесплатно. Я тогда категорически ответила нет, мне казалось просто немыслимым сдать мужа в богадельню, отправить его умирать среди чужих людей, которым до него не будет дела. Именно так я тогда воспринимала само слово хоспис – для меня оно означало государственный приют для умирающих нищих.
Изменить моё решение, вопреки стойкому предубеждению, меня заставил второй инсульт, случившийся за несколько дней до майских праздников. Это была настоящая катастрофа. Меня на скорой увезли в больницу, и я не находила себе места от переживаний. Дочка панически боялась ставить отцу уколы, опасалась, что может навредить ему своей неловкостью. Плюс лекарства были на исходе, а впереди предстояли долгие выходные, нужно было срочно идти за рецептом. Я не могла даже представить, как Света будет со всем этим справляться, успеет ли до праздников. Нужно было переоформлять заявление на её имя, пройти кучу кабинетов, собрать подписи. С кем она оставит ребёнка и кто будет присматривать за Гришей всё это время? Близких, кого можно было бы попросить о такой помощи и кто действительно смог бы это сделать, у нас не было, а времени на поиск профессиональной сиделки не оставалось совсем.
В этой ситуации единственным спасением для нас стало отправить Гришу в хоспис, хотя бы на несколько дней. Особых надежд на бесплатный «надлежащий уход» мы с дочкой не питали, но рассудили, что там ему, по крайней мере, проколют нужные лекарства, к тому же он будет под наблюдением, и риск, что ему удастся осуществить свои намерения, сведётся к минимуму. Утешались этим.
Света позвонила нашему онкологу, объяснила ситуацию. Врач приехала в тот же день, осмотрела Григория, сделала инъекцию последнего из оставшихся на тот момент препаратов. Направление и выписка из истории болезни были у неё на руках, и она сразу же позвонила в хоспис. Выездная бригада оттуда прибыла чуть ли не в течение часа. Так муж оказался в хосписе.
Моё собственное состояние было довольно тяжёлым, но стабильным – успели вовремя оказать помощь. Частично парализовало левые руку и ногу, но шансы на восстановление были неплохими.
Дочери я категорически запретила ко мне приезжать, настаивала на том, чтобы она всё своё время, какое только удастся выкроить, уделяла отцу. Однако через три дня они с Антоном всё же приехали ко мне. Света рассказывала, что об отце в хосписе хорошо заботятся, дают все необходимые препараты, что там очень внимательный персонал, к отцу приходят психолог и даже священник. Зная мой скептицизм, она сняла на телефон несколько фотографий.
Я немного успокоилась, хотя, конечно, в такую сказку поверить было трудно. Слова дочери звучали искренне, да и Антошка с восторгом рассказывал, что там красиво и смешные попугайчики, и дедушка хорошо себя чувствует. Но что может понимать в таких вещах пятилетний ребёнок? Так что сомнения у меня всё же оставались. До тех пор, пока я не увидела всё своими глазами.
Спустя неделю Света, видя, что постоянное беспокойство о муже мешает моему собственному выздоровлению, переговорила с врачом, забрала меня на полдня из больницы под расписку и свозила в хоспис. На меня, конечно, очень сильное впечатление произвели и вся обстановка, и воистину тепличные условия, которые там созданы для пациентов, и сердечное, чуткое отношение к ним всего персонала. Причём бросалось в глаза, что здесь это обычная норма поведения, а не видимость, специально создаваемая для какого-нибудь высокопоставленного ревизора из министерства.
ХОСПИС – ЭТО НЕ ПРИЮТ И НЕ БОГОДЕЛЬНЯ ДЛЯ НИЩИХ.
ХОСПИС – ЭТО МЕСТО, ГДЕ ЧУТКИЕ И ГОТОВЫЕ ПОМОЧЬ
ЛЮДИ ОТДАЮТ СВОИ СИЛЫ И ЛЮБОВЬ ТЕМ,
КОМУ ОНА ОСОБЕННО НЕОБХОДИМА.
Но больше всего меня поразили перемены в состоянии и настроении мужа. Гриша заметно приободрился при моём появлении и даже сделал попытку улыбнуться, что само по себе уже было чудом! Он рассказал, что здешним врачам удалось снять постоянно изнурявшие его приступы тошноты, и он теперь мог даже что-то покушать, не опасаясь обычных последствий.
Предметом же особой гордости Гриши стало то, что с помощью медсестры и ребят-волонтёров ему тут удалось принять ванну и по-настоящему вымыться. Дома, без крепких мужских рук, мы не могли себе позволить такой роскоши, приходилось кое-как обходиться обтираниями, при этом муж очень стыдился собственной беспомощности в таких простых вещах, и это угнетало его. А тут почему-то процедуры не казались унизительными. Вот что стало тогда, пожалуй, моим главным впечатлением об изменениях в состоянии мужа – его радость от ощущения собственной чистоты.
В первый раз Гриша пробыл в хосписе около месяца, Света с Антошкой всё это время навещали его. Дочку там, кстати говоря, обучили делать инъекции – сначала она ставила уколы под присмотром медсестры, а потом уже самостоятельно, так что прежняя боязнь у неё прошла.
Мужу стало значительно легче, и через несколько дней после моей выписки мы его забрали домой. Светлана взяла отпуск за свой счёт и осталась с сыном у нас, ухаживать за отцом и заниматься моей реабилитацией.
Нужно сказать, что Антон нас с дочкой стал всё чаще удивлять, постоянные посещения дедушки в хосписе сказались и на его поведении. Дома он больше не носился как угорелый, старался не шуметь, при этом не боялся подойти к деду и спросить, удобно ли ему, нужно ли что-то. Я даже подумала, может там с ним кто-то поговорил обстоятельно, врач или психолог, откуда такие перемены? Оказалось, что нет, видимо, он просто впитал царившую там атмосферу заботы и внимания, подражая взрослым.
Почти три недели муж провёл дома, за это время дважды его посещал врач выездной службы хосписа, осматривал и корректировал назначения. Потом опять наступило ухудшение, и Гришу снова положили в стационар.
Мы навещали его почти каждый день. Сначала думали со Светланой ездить в хоспис по очереди, чтобы не таскать с собой каждый раз Антошку, но тот неожиданно стал возмущаться, почему его не берут к дедушке. Да и Грише присутствие внука явно было приятно. Раньше ведь они практически не общались, а теперь успели привязаться друг к другу. Больше всего они полюбили вместе «гулять» в холле, где было устроено что-то вроде просторного зимнего сада – огромные фикусы, пальмы, папоротники и даже какие-то лианы, подвязанные к потолку. Словом, очень много зелени, а кроме того, большой аквариум, клетки с канарейками и теми самыми попугайчиками. Волонтёры помогали отвезти Гришу туда прямо на кровати, они с Антошкой наблюдали за рыбками и птичками, и дед рассказывал ему разные истории, о том, например, какой была его мама в детстве, или как мы с ним познакомились.
В один из приездов я застала у палаты мужа священника, который навещал его и раньше. Отец Алексий сказал, что Григорий позвал его, чтобы исповедаться и принять причастие, и он провёл обряд.
В тот раз и я услышала от мужа неожиданное признание. «Я ведь тогда всё уже продумал, – говорил он, – оставалось только дождаться, когда никого не будет дома. Слава Богу, не получилось. Не взял грех на душу и вам не оставил такую горькую ношу».
Позже он попросил меня отыскать телефон своего боевого товарища, с которым они вместе воевали в Чечне, хотел с ним проститься.
Максим сразу же откликнулся на мою просьбу, приехал на следующий день. Он конечно, был очень удручён состоянием друга, они ведь давно не встречались, и он ничего не знал о болезни Гриши. Но старался не показывать вида, держался молодцом и называл его не иначе как командир.
Муж рассказал нам с Антошкой, как Максим, который на десять лет младше его и в то время был совсем необстрелянным и худющим пацаном, вытащил его раненого с поля боя и нёс на себе пятнадцать километров к своим. Раньше муж никогда не делился своими военными воспоминаниями, и для нас эти рассказы стали откровением.
Мне разрешили находиться при муже постоянно, хотя помощи от меня было мало, рука после инсульта ещё плохо шевелилась. Врачи и медсёстры всячески поощряли любые мои усилия, а ещё присматривали, чтобы я не запускала своё собственное восстановление, делала упражнения. Со мной там даже специально занимался терапевт.
Максим теперь приезжал каждый день, привозил Свету с сыном на машине и отвозил обратно домой. Он быстро нашёл общий язык с Антошкой, и теперь они бывали в зимнем саду втроём, маленькой мужской компанией.
Лето было в разгаре, стояла тёплая, солнечная погода, и однажды Гриша произнёс что-то вроде «сейчас бы поваляться на пляже, походить босиком по травке». Недолго думая, Максим пошёл посоветоваться с врачом и назавтра организовал командиру вылазку на природу. Прихватил с собой из дома туристический коврик, толстые одеяла и маленькую подушку, а мы присмотрели небольшую солнечную лужайку в укромном уголке сада.
Максим на руках отнёс Гришу на этот нехитрый «пляж» и осторожно устроил там на лежанке. Мы примостились рядышком на втором одеяле, а Антошка принялся ловить бабочек и кузнечиков. Поймает – приносит деду, а тот полюбуется да и отпускает маленьких пленников на волю. Не передать словами, какое лицо было у Гриши, он буквально сиял.
И сейчас я думаю, что он был по-настоящему счастлив в эти полчаса. На следующее утро он умер.
Максим взял на себя организацию похорон и все прочие вопросы, и мы догадались, что это Гриша попросил его помочь и позаботиться о нас, когда его не станет.
А через год они со Светланой поженились, и я лишь тогда смогла в полной мере осознать всю глубину Гришиной любви к нам, его мудрость и прозорливость. Вспомнила, как часто он сетовал, что у дочки не сложилась личная жизнь и что ребёнок растёт без отца. Думаю, Гриша был бы рад узнать, что его задумка сработала и дочка наконец обрела семейное счастье. А может, он и знает».
Приют для странников
Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы, домовой церкви при городском хосписе, протоиерей отец Иоанн вот уже более 12 лет несёт Слово Божие и утешение больным и скорбящим, неизлечимым пациентам и их близким.
«Мне нередко приходится слышать сетования пациентов на то, что прожив жизнь достойно, заботясь о ближних и никому не причинив зла, встречать смерть им приходится в мучениях, всеми позабытыми и заброшенными, что Господь от них отвернулся, раз посылает одни лишь страдания и боль, – говорит отец Иоанн. – Но человеку не всегда дано понимать промысел Божий о нём, он видит всё происходящее как бы сквозь тусклое стекло. Следует всегда помнить, что действия Провидения Его ведутся так, чтобы всё было средством к добру. И то, что мы порой воспринимаем как зло, по его видимым разрушительным и тягостным для нас последствиям, есть лишь поверхностное явление зла и противоядие против зла глубинного и истинного.
В хосписе я стараюсь посетить всех больных, независимо от того, верующие они или нет, ведь каждый человек, стоящий у порога вечности, нуждается в помощи и утешении.
Безусловно, есть существенное различие между тем, как принимают свой диагноз и известие о скорой смерти люди верующие и неверующие. Для того, кто верует, вся его жизнь есть лишь приготовление к встрече с Господом, к встрече с вечностью, а телесная смерть – лишь рождение в ту вечность, что мы готовим для себя на земле. Верующему человеку легче смириться с неотвратимой близкой смертью, поскольку упование на встречу с Господом облегчает переход через порог вечности.
ВЕРА ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ
ПРИНИМАТЬ ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ
И НЕ ТЕРЯТЬ САМООБЛАДАНИЕ.
К неверующему принятие смерти приходит значительно сложнее, но и ему возможно обрести душевный покой, сделать хотя бы малый шаг к покаянию и смирению. Хотя и верующие люди могут быть духовно нестойкими, и в свои последние дни они особенно нуждаются в укреплении веры.
И в том, и в другом случае мы направляем наши усилия на то, чтобы помочь умирающему избавиться от страха смерти. А этот страх намного сильнее физической боли, а порой и многократно усиливает её. Поэтому главное – чтобы кто-то был рядом, чтобы человек чувствовал, что он не брошен. И я не раз имел возможность убедиться, что душевный покой человека в преддверии смерти часто оказывается намного важнее медикаментозного обезболивания.
Среди врачей, которые работают в хосписе, тоже есть и глубоко верующие, и совершенно нецерковные люди, но все они целиком и полностью разделяют особую философию, принципы которой заложены христианством.
Если вы поинтересуетесь историей хосписного движения, то узнаете, что изначально хосписы открывались в Европе как приюты для христианских паломников в Святую Землю. Здесь находили покой и заботу уставшие, измождённые или заболевшие странники, и для многих это пристанище оказывалось последним.
Можно сказать, что и сегодня хоспис – это приют для странников, но отправляющихся в жизнь вечную. Те же, кто помогает им на этом нелёгком пути, окружая любовью и участием, несёт своё служение во имя спасения – и того, кто болеет, и своего собственного».
Особое строение души
В хоспис Галину привело онкологическое заболевание в терминальной стадии ее матери. О ходе длительного лечения Галина рассказывать не любит, но делится подробностями последних месяцев пребывания матери в хосписе. Как ни парадоксально, её воспоминания об этом периоде полны светлых и добрых слов.
«Когда долгое время ухаживаешь за родным человеком в беспомощном состоянии, и все надежды на улучшение остались уже далеко позади, это, безусловно, очень суровое испытание, – говорит Галина. – В принципе, ты уже знаешь, как и что следует делать, но далеко не всегда. Моя мама в какой-то момент уже не могла глотать таблетки, а надвигались выходные – два мучительных и долгих дня, когда все серьёзные обезболивающие уже закончились. А боль такая, что человек от неё просто ежесекундно умирает.
Тогда я и обратилась в хоспис. Ведь если больной лежит в хосписе, он обеспечивается буквально всем: обезболиванием, обслуживанием, грамотным персоналом, всеми расходными материалами.
Хоспис – это не просто больничка, куда можно отдать человека на какое-то время. После обращения сотрудники хосписа сопровождают больного до самого конца, приезжают на дом помогать. Грубо говоря, если в стационаре у них лежит человек тридцать, то на дому – триста, и они всегда готовы выслать бригаду и помочь.
Хоспис немаловажен и с точки зрения психологической помощи, дома ведь порой бывает просто невозможно удерживать нормальную атмосферу, болезнь выматывает не только самого больного. И он к тому же не один раз может быть при смерти. А ты в промежутках между «скорыми» иногда совершенно не знаешь, что делать. Моя мама однажды начала задыхаться, и непонятно было, из-за чего, может, слюной подавилась. Позвонила в хоспис – приехала медсестра с отсосом, всё сделали, и мама стала нормально дышать.
У тяжёлых пациентов часто бывают пролежни, в туалет кто-то не может сходить – это всё очень тяжело организовать без поддержки. Даже сиделка – не выход. Их в своё время через меня прошло не менее двадцати, и ни одна не подошла.
Когда я, наконец, привезла маму в хоспис, ощущение было такое, будто я на дачу приехала. Весёленькие занавесочки, деревянные столы. Маму положили в двухместную палату. Уютно и легко настолько, что в какой-то момент даже исчезло это уже въевшееся под кожу страшное чувство, что твой любимый человек рядом умирает. Кровати функциональные очень удобные, у кого-то висит «гусь», как в реанимации, чтобы больной подниматься мог. Есть холодильник, телевизор, в каждой палате душ и туалет. Регулярно посещают врачи, медсестры приходят, что-то меняют, оказывают всяческую помощь, чтобы пациент не страдал: катетер, обезболивание, памперсы. И не только с позиции медицины, но и просто проявляя человеческую поддержку.
ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА ПРИЗВАНА ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
ДОСТОЙНО ЖИТЬ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
И ПРИ ЛЮБОМ ДИАГНОЗЕ.
ЭТО, НАВЕРНОЕ, И ЕСТЬ
ВЫСШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.
Везде чисто и красиво. Пациентов регулярно вывозят гулять, если тепло на улице – и обстановку сменить, и положительных впечатлений набраться. Проводят всевозможные музыкальные и творческие вечера, стараются занять чем-то интересным.
У меня хоспис теперь ассоциируется с пионерским лагерем, с чем-то таким детским, честным и понятным, где, с одной стороны, есть и определённая свобода, а с другой – чёткий порядок. Ведь, если вдуматься, мы в детстве и в старости очень похожи – такие же беззащитные и бесхитростные.
Пройдя впервые в это здание, я невольно подумала: «Господи, куда это я попала? Как же тут хорошо!» Везде картины висят, есть даже свой «живой уголок», где прекрасно себя чувствуют всевозможные зверушки: шиншиллы, морские свинки, кролики, попугаи, щеночки разные, рыбки экзотические. У них огромный холл, где постоянно кто-то есть – студенты, волонтёры, там всегда многолюдно, кто-то беседует, кто-то просто отдыхает. В хосписе вообще много молодёжи, которая геройствует, у них масса энергии, и они делятся ею со всеми, и с больными, и с сотрудниками.
Помню, выхожу однажды из маминой палаты, мне больно, плохо, а в холле целая ватага студентов и медсестра с ними, я им говорю: «Ребята, я курить хочу». А медсестра мне: «Пойдём, покурим, какие проблемы?» Знаете, как в студенческие годы, когда практику проходят, так всё по-свойски, по-простому. И, кстати, больным тоже курить не запрещают.
Врачи в хосписе часто улыбаются – все они, вне зависимости от специальности, немного психологи. Сюда ведь далеко не каждый пойдёт работать, не каждый сможет выдержать, когда у него на глазах умирают по несколько человек в день. Для этого надо иметь какое-то особое строение души, чистоту и благородство помыслов.
Медсёстры тоже очень благодушно настроены. Мама радовалась, общаясь с ними. Медсестры ведь необходимы не только для того, чтобы делать процедуры, но и чтобы просто поболтать, а когда надо, и утешить. Маме они даже маникюр делали – она у меня любила хорошо выглядеть, и одно это ей поднимало настроение на целый день.
Так что в хосписе это не просто средний персонал, это настоящие сёстры милосердия. К тому же пациенты хосписа нередко пребывают в таком состоянии, когда им бывает уже трудно общаться со своими близкими. Родные тоже измотаны болезнью, и морально, и физически, тем более, если стараются изо всех сил ухаживать и поддерживать, и для многих из них хоспис остаётся последним шансом что-то сделать для близкого человека. Поэтому иногда кто-то должен разряжать общение между ними и больным. А медсёстры – они, вроде бы, и сторонние люди, но при этом всегда открытые для общения и моральной поддержки.
Помощь здесь стараются оказать буквально во всём. И это не пустые слова. Лично мне для мамы нужно было купить специальную кровать, которая стоила 100 тысяч рублей, а денег к тому времени уже не было никаких. Для нас всё сделали бесплатно, я лишь оплатила доставку. Думаю, у хосписов существуют свои спонсоры из числа неравнодушных людей, часто из тех, кто сам прошёл через беду.
Прежние врачи не могли мне сказать даже приблизительно, сколько времени остаётся. Когда мама ещё дома лежала, приехала «скорая» по вызову, говорят: «Готовься, завтра к утру умрёт». Я сама не своя, машинально начала всё собирать, а в голове мысль: «Господи, да зачем я это делаю? Мама же ещё не умерла». Посмотрю на маму, а там просто тело маленькое под одеялом лежит… Руки опускаются, ничего делать не могу.
Так вот, после этого в хосписе мама в себя пришла и прожила ещё четыре месяца, и говорила, и улыбалась, и шутила… В хосписе врачи сообщают родственникам, какое примерно время осталось, а те уже сами решают, говорить ли больному. Был один случай, когда женщина шла на поправку, а ей сообщили, что у неё рак, так она просто сразу сгорела, через неделю умерла. Здесь каждый сам решает.
Среди пациентов есть такие, кто категорически не принимает свой диагноз. Есть и те, кто принимает и смиряется. А кто-то, хоть и принял, но старается все свои оставшиеся силы отдать тому, ради чего жил, что считал для себя важным, иные – для дела, а иные – для дорогого человека. У нас лежала девочка, мать троих детей, ей было всего 39 лет. Она прекрасно понимала, что умирает, но до самого последнего момента пыталась поговорить, приголубить, отдать всю свою любовь детям и помочь им подготовиться к предстоящему расставанию.
Случается и такое, что больные после хосписа выздоравливают – чудеса и здесь случаются. А бывает, после снятия симптомов страшный диагноз не подтверждается, человеку проводят новые обследования, оперируют, и он уходит домой здоровым. Одинаковых сценариев ни для кого не написано.
ХОСПИС УЧИТ ЛЮДЕЙ ЦЕНИТЬ КАЖДЫЙ МИГ,
ПРОВЕДЕННЫЙ ВМЕСТЕ, ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ
И ВСЕГДА БЫТЬ ГОТОВЫМ ПОМОЧЬ
НУЖДАЮЩЕМУСЯ В ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКУ.
После смерти мамы я ещё несколько лет приходила в хоспис, относила какие-то вещи, общалась. Думаю, многие из тех, чьи близкие прошли хоспис и умерли, в дальнейшем старались помочь, кто как может. Потому что, попав в этот мир, невозможно остаться к нему равнодушным. Он очищает, что ли. Мир, который я там узнала, много добрее, чище, честнее того, в котором мы живём. Там совсем другие законы и другой смысл у всего.
В хосписе, перед последней чертой, человек не отягощён душевным сором, он уже успел закончить свою «дезинфекцию» от бактерий зависти, лицемерия и зла и словно бы вспоминает себя – настоящего».
История любви
До того как перейти в районный хоспис, Наталья Веденеева семь лет проработала реаниматологом в отделении неотложной помощи городской клинической больницы. Сменить специализацию Наталью побудила личная трагедия – от рака желудка умер её отец. Последние три месяца жизни он провёл в хосписе, и Наталья всё это время находилась рядом с ним, ухаживала, помогала медсёстрам. Некоторое время спустя она снова вернулась сюда, уже в качестве штатного врача.
«Раньше я даже представить себе не могла, что буду работать в хосписе, – рассказывает Наталья. – Но болезнь отца перевернула во мне всё. А в хосписе я к тому же увидела, сколько людей нуждается в очень специфической помощи.
Врачей здесь не хватало, и меня с радостью взяли на работу. Правда, не сразу, примерно через год – должно пройти время, чтобы справиться с собственной психологической травмой, иначе и больным пользы от тебя будет мало, и сам быстро выгоришь.
Работа врача в хосписе, безусловно, отличается от того, к чему я привыкла и чем занималась. Отличается кардинально, своим внутренним содержанием и задачами. Ведь если в неотложке мы боролись за жизнь каждого пациента, можно сказать, зубами вырывая его из лап смерти, то здесь, принимая её неотвратимость, стараемся облегчить страдания уходящего.
Через многое пришлось пройти и многому стать свидетелем. Обычно люди, которые не имеют представления о том, что здесь происходит, когда заходит речь о хосписе, стараются сменить тему, отгородится как от чумы или чего-то непристойного. Иногда приходится даже слышать, что хоспис это «дом смерти» или «приют скорби». Многие думают, что люди здесь не живут, а существуют, большей частью, как «овощи», что в палатах у нас лежат полутрупы, которых завтра отправят в морг. Конечно же, это не так!
Хочу рассказать историю, свидетелем которой была сама. Историю, которая меня поразила до глубины души.
Лежал у нас лет пять назад Николай. Достаточно молодой мужчина, немногим более сорока лет. У Николая был рак поджелудочной железы. Семьи или родственников у него не было, и за всё время пребывания в хосписе его никто не навещал. Сам по себе он был неразговорчивым и замкнутым, ни с кем из больных не общался и большую часть времени лежал на кровати, уставившись в потолок. К лечению также относился апатично, порой полностью игнорируя назначения. И психолог с ним неоднократно беседовал, и другие врачи, но видимого результата это не давало. Медсёстры решили взять над ним особое шефство, чтобы постараться его хоть немного расшевелить и вывести из состояния депрессии. Иногда им всё же удавалось уговорить его прогуляться в нашем парке, благо, на дворе стоял май и тёплый весенний воздух наполнялся благоуханием цветущей вишни.
В одну из таких редких прогулок Николай обратил внимание на молодую женщину, сидевшую на лавочке с раскрытым альбомом, в котором она пыталась делать зарисовки карандашом. Лицо женщины показалось ему знакомым, он подошёл, присел рядом, заговорил.
Женщину звали Анной, у неё была тяжёлая форма лейкоза, поступила она к нам примерно за неделю до этого. Из близких у неё была лишь сестра, которая и поместила её в хоспис. После снятия болевого синдрома и остро выраженных симптомов анемии, Аня в тот день впервые выбралась на улицу.
О ЛЮБВИ ДВУХ ОБРЕЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ
СНЯТО НЕМАЛО ФИЛЬМОВ.
НО КУДА СТРАШНЕЕ,
КОГДА ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ НА ТВОИХ ГЛАЗАХ.
Как рассказывал мне тогда Николай, они действительно были знакомы прежде, когда-то давно, ещё в студенческие годы, и даже непродолжительное время встречались. Потом что-то у них не заладилось, и с тех пор они больше не виделись. Удивительно, как судьба порою распоряжается людьми – встретиться через столько лет в одном отделении хосписа.
Со дня этой встречи Николая будто подменили. Он приободрился, стал общаться и с персоналом, и с больными, начал следить за своим внешним видом. Теперь он с некоторым даже воодушевлением принимал все назначенные лекарства, внимательно выслушивал рекомендации врача. Иногда даже шутил и улыбался, чего ранее за ним вообще не замечалось.
Они с Анной старались чаще проводить время вместе, насколько позволяло состояние обоих. Вместе гуляли в парке или подолгу сидели в холле. Николай через кого-то из волонтёров достал для Анны этюдник с красками, и она увлечённо занялась живописью.
Как-то в разговоре Анна упомянула, что Николай в молодости увлекался поэзией и сам пробовал писать. Чтобы её порадовать, он стал ей читать стихи, которых раньше знал много. Но память уже подводила, поэтому он записывал сначала в тетрадке, что мог вспомнить, а потом читал Анне. Попросил ребят-волонтёров принести ему пару книжек, а те дня через три достали для него ноутбук. То ли по интернету нашли недорогой, то ли кто-то отдал свой старый.
И теперь Николай часами, пока Анна отдыхала или ей делали переливание крови, отыскивал в интернете любимые стихи, чтобы потом поделиться ими с любимой. Каждое утро он передавал через сестричек букетики полевых цветов в палату Анны – чтобы она, проснувшись, видела, что он здесь, рядом, и у них впереди ещё один солнечный день. Как уж он ухитрялся их собирать, для меня так и осталось загадкой.
Со стороны они порою выглядели прямо как два школьника, и вид этой влюблённой пары никого не оставлял равнодушным, столько тепла и взаимной нежности было в их глазах. Мы все понимали, что они стали не просто «друзьями по несчастью», их связало настоящее чувство.
Сестра Ани, приезжая её навещать, часто не могла сдержать слёз, видя их вместе. Помню, как Маша разревелась в палате сестры, пока той не было рядом. «Ну почему всё так несправедливо устроено в этом мире?! – плакала она. – Они ведь просто созданы друг для друга! Если бы не болезнь, могли быть счастливы вместе…» Потом она ещё с горечью говорила, как безумно жаль, что у них в молодости не сложились отношения, столько лет оба были одиноки, а ведь могла быть семья, дети.
Однажды Маша не сдержалась при сестре, пожалела её: «Это просто нечестно! Вы только встретились…» Аня же утешала её, говорила: «Ну что ты, родная! Ведь это самый драгоценный дар судьбы! Когда уже ничего не ждёшь, кроме смерти, и вдруг – такое счастье! А, может, только благодаря болезни мы и смогли по-настоящему увидеть друг друга».
Полтора месяца спустя состояние Ани ухудшилось, она уже не могла вставать, но Николай всё время старался быть рядом. Когда была возможность, её вывозили на улицу, под тенты, и они снова были вместе. Николай держал Аню за руку и читал стихи, которые написал для неё.
КОГДА ВПЕРЕДИ НЕ ЖДЕТ НИЧЕГО, КРОМЕ СМЕРТИ,
ЛЮБОВЬ ВОСПРИНИМАЕТСЯ
КАК НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК СУДЬБЫ,
ДАРОВАННЫЙ СВЫШЕ.
Конечно, все вокруг прекрасно понимали, что их нежданное счастье не будет долгим, учитывая диагнозы обоих. Хотя так хотелось надеяться, что у этой сказки будет счастливый конец! Но чуда не случилось. Видимо, лимит на волшебство был израсходован уже самим фактом этой невероятной встречи. Однажды утром Анна не проснулась, чтобы увидеть свой новый букет полевых цветов.
После этого Николай резко сдал. Как будто у него забрали последний стимул к жизни. Он практически сгорел, всего на две недели пережив любимую. Хорошо помню, что он сказал мне за несколько дней до своего ухода: «Лишь сейчас, благодаря Ане, я понял такую простую вещь – только там, где есть любовь, и существует жизнь. Всё остальное – тлен, имитация. Нужно любить! Любить, пока есть время». Ушёл он легко и быстро, без мучений и в полном сознании.
Вот такая история из жизни «дома смерти». Так что нет, здесь властвует не смерть и не скорбь! Здесь царит любовь, и жизнь проявляет себя особенно ярко – человек освобождается от всего наносного и вспоминает, для чего был рождён».
Ценить и понимать жизнь
Волонтёром в хосписе Валерий Афанасьев проработал три с половиной года. Впервые он попал туда по воле случая – любимая девушка попросила его помощи в уходе за старшим братом, который угодил в больницу после серьёзной аварии и находился в вегетативном состоянии.
«Брату Вероники долгое время пытались помочь в отделении реанимации городской больницы, и на какое-то время его состояние удалось стабилизировать, – говорит Валерий. – Но потом начались осложнения, проблемы с дыханием, что привело к гибели коры головного мозга. Человек вроде бы жив, в его организме функционирует всё, кроме сознания. Никакое лечение ему помочь не могло, теперь требовался только постоянный уход.
Домой его выписать не могли, там ухаживать за ним было некому. Мать никак не могла оправиться после произошедшей с сыном трагедии, находилась в тяжёлом психологическом состоянии и сама нуждалась в помощи. Отец работал далеко на Севере и сразу приехать не мог. Так что из реанимации Игоря перевели в хосписное отделение.
Несмотря на то, что Игорь в хосписе получал всю медицинскую помощь, какая только возможна в его случае, поставить на нём крест и бросить Вероника не могла. Ей хотелось хоть что-то сделать для брата, но единственное, что получалось – это покормить его с ложечки или дать воды. Поменять памперсы или обработать пролежни было выше её сил. Она никак не могла преодолеть чрезмерной брезгливости, жутко стыдилась этой своей слабости.
Из моих рассказов Вероника знала, что у меня до этого уже был некоторый опыт ухода за лежачим больным – будучи подростком, я помогал своей маме заботиться о парализованном дедушке до самой его смерти. К тому же теперь я учился на втором курсе мединститута. Вот она и подумала, что я смогу ей помочь, и словом, и делом. Эти надежды полностью оправдались, через некоторое время она привыкла, притерпелась.
Месяца через полтора вернулся с вахты отец Вероники, потом её мама понемногу стала приходить в себя, они тоже стали приезжать и ухаживать за сыном. Позже они забрали Игоря домой, под наблюдение патронажной службы хосписа. Моя помощь им уже так остро не требовалась, к тому же у меня начиналась летняя сессия. Но после сдачи экзаменов и прохождения практики я снова вернулся в хоспис.
Не знаю, как это объяснить, но меня почему-то всё время тянуло туда. Некоторые сокурсники надо мной прикалывались, мол, мало тебе в больничке санитарить, по дерьму скучаешь. А я вспоминал хоспис и его пациентов, сёстры многое о них рассказывали, да и с родственниками порой доводилось общаться. Просят, например, помочь вывезти человека в холл или на улицу – пока везёшь, разговоров не избежать, поневоле вникаешь в ситуацию.
Всё это цепляет, конечно. И сперва я решил поработать добровольцем месяц до начала семестра, да так втянулся, что стал приезжать после занятий в институте. Я прочувствовал, что моя помощь необходима людям, оказавшимся в безнадёжном положении.
Работы здесь предостаточно, руки всегда нужны, как нужна и, образно говоря «свежая кровь». Добровольцы в хосписе – это ни в коем случае не бесплатная замена персоналу: их помощь позволяет освободить медиков от множества бытовых хлопот, сберечь силы и время на прямую помощь пациентам и общение с ними. Волонтёрам искренне рады, для них организована специальная программа обучения. Прежде всего, конечно, нужно понять и принять сердцем философию хосписа, ведь паллиативная помощь – это совершенно особая форма медицины.
Существует строгий отбор, и тебя не сразу допускают непосредственно пациентам помогать, для этого ты должен быть психологически подготовлен к общению с больными и их родственниками. Это большая ответственность, и всё не так просто, как может показаться. Нужно знать, как себя вести с ними, нужны определённые навыки. Поэтому волонтёру сначала поручают выполнять всякие хозяйственные работы, например, забрать бельё из прачечной, разложить и развезти, почистить клетки в живом уголке, за растениями ухаживать в холле или в саду и прочее. А за это время ты учишься общаться, смотришь, как это делают медсёстры и врачи.
Когда уже прошёл отбор, начинаешь помогать ухаживать за пациентами. Ну, а если не готов контактировать с ними и их близкими, занимаешься тем, что по силам, потому что важно всё делать на позитиве и с удовольствием. Если ты будешь ходить по хоспису с кислой миной на лице, это никому не поможет.
Я проработал волонтёром в хосписе четыре года, с перерывами на сессии и, как бы это сказать, на восстановление душевных сил. Нагрузка на психику здесь неизмеримая, на себе испытал, и для меня врачи, которые работают в хосписе, настоящие герои, подвижники, а медсёстры – ангелы во плоти. Изо дня в день вместе они совершают свой подвиг, невозможный без огромной любви к людям.
Медики здесь – единая, сплочённая команда. В начале рабочего дня они собираются вместе, чтобы зарядиться положительной энергией и настроиться на работу. А в течение смены иногда что-то типа производственной гимнастики проводят, приходят по желанию, кто свободен. Вместе дни рождения отмечают, экскурсии совместные организуют, поездки на природу.
Всё это очень важно для снятия напряжения. Психолог в хосписе обязательно работает с персоналом, есть комната, специально оборудованная для релаксации, с массажными креслами, и даже душевые со светомузыкой. И это действительно здорово. Только всё же главный источник этой живительной энергии у каждого из них – внутри.
После окончания института я хочу продолжить своё образование в сфере паллиативной медицины. В России сейчас развитию этого направления стали уделять гораздо больше внимания, что необходимо – хосписов пока критически мало для такой огромной страны. К тому же попадают туда, в основном, онкологические больные, а ведь в помощи нуждаются неизлечимые пациенты и с другими диагнозами.
Так что работы здесь непочатый край – ведь если больного нельзя вылечить, это вовсе не означает, что ему ничем нельзя помочь. Можно и должно.
Работа в хосписе многое во мне перевернула, заставила задуматься о самых разных вещах. Ты общаешься с умирающими и учишься у них острее чувствовать жизнь, ценить её и понимать.
Убеждён, что каждый студент-медик должен там какое-то время поработать, для того, чтобы увидеть, какой должна быть на самом деле медицина и понять, зачем ты вообще пришёл в профессию, чего ты на самом деле хочешь. Именно в хосписе я понял, каким врачом хочу стать. И каким человеком».
6. НА РУБЕЖАХ СОЗНАНИЯ=
Это глава о том, есть ли правила у игр разума
Хаос – не место для прогулок
Когда хотят кого-то оскорбить, порой говорят, что его место в «дурке» или, иначе, в психбольнице. Однако реалии нашего нынешнего мира таковы, что они могут дать серьёзную фору любой психиатрической клинике. То, с чем сейчас люди сталкиваются в своей повседневной жизни и что изо всех сил стремится стать общепризнанной нормой, ещё буквально четверть века назад сложно было бы представить даже в самом одиозном отделении для психически буйных. Вал насилия и маниакальной шизоидности в наше время настолько высок, что, если его не остановить, он способен захлестнуть последние очаги стабильности общества. Иногда, оглядываясь вокруг, трудно избавиться от смутного ощущения, что все мы сегодня оказались запертыми в одном огромном, выстроенным собственными руками, сумасшедшем доме.
В этом контексте можно говорить о том, что психиатрическая клиника как таковая представляет собой лишь блёклую модель окружающей действительности. И если разобраться, корень многих внутренних проблем и современной цивилизации, и состояния психики отдельных её представителей общий, и имя ему – хаос. Хаос, который, с одной стороны, способен полностью поглотить разум одного человека, а с другой – уничтожить сами основы человеческого общества и миропорядка в целом.
При этом стоит учесть, что за красивым и даже с некоторых пор модным словом «хаос» скрываются отнюдь не абстракции и не прикольные игрушечные арт-объекты, а вполне конкретные, самые что ни на есть настоящие трагедии, страх, боль и опустошение. Но коль скоро злобе можно противопоставить любовь, а разрушению – созидание, то и хаос может быть побеждён благодаря гармонии и порядку. Как внутри, так и вовне. Психиатрия – как раз та область медицины, которая даёт шанс уберечь хрупкое сознание человека от необратимого разрушения и шаг за шагом вывести его из объятий мрака в зону равновесия и стабильности.
Удержать на краю
«На улице был тёплый приятный вечер, – рассказывает психиатр Андрей Евгеньевич Землянский. – Ранняя осень едва позолотила кроны деревьев и более, казалось, ничем не выдавала своего присутствия. Было полное ощущение, что лето всё ещё продолжается и будет продолжаться долго-долго, а возможно, не закончится никогда. Но где-то в самой глубине сознания уже сидела и не давала покоя предательская мысль, что всё вот-вот случится – задуют ветра, зарядят бесконечные дожди, и мы все дружно начнём месить вездесущую грязь, уныло шагая под низко нахлобученной шапкой однообразного свинцового неба.
Я, в то время ещё совсем зелёный студент мединститута, прогуливался по городу, не слишком торопясь возвращаться домой. Прохожих было немного, и это создавало подходящий антураж для мечтательного настроения, неожиданно посетившего меня под занавес дня. Я шёл по высокому мосту через реку и вдруг краем глаза зацепил даже не фигуру человека, а скорее его тень. Продолжая по инерции движение и сделав ещё несколько шагов, я внезапно осознал, что происходит. Я резко развернулся, и моё благостное настроение испарилось в мгновение ока.
ЕСТЬ ОДИН ШАНС НА МИЛЛИОН,
ЧТО ГУЛЯЯ ПО УЛИЦЕ, ВЫ УВИДИТЕ ЧЕЛОВЕКА,
РЕШИВШЕГО ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ.
И ИМЕННО ЭТОТ ШАНС ВЫПАЛ МНЕ,
ВРАЧУ-ПСИХОТЕРАПЕВТУ.
Молодой человек стоял снаружи ограждений моста, неловко держась рукой за поручень сзади, глядя вниз и слегка раскачиваясь над водой. Большинство людей его бы просто не заметили и прошли мимо, меня же словно ледяной водой окатило – я вдруг отчётливо представил себе, что должно случиться через несколько секунд. Я перешёл дорогу, стараясь не привлекать к себе внимание парня, чтобы каким-либо неловким движением не напугать его и не спровоцировать на радикальный шаг. Подойдя ближе, как можно спокойнее окликнул его и попытался завязать беседу. Когда мне удалось установить с ним контакт, по его сумбурным репликам я понял, что на фоне несчастной любви у него развилась глубокая депрессия. И теперь, потеряв веру в себя и в лучшее будущее, он решил свести счёты с жизнью.
Помню, я использовал весь свой запас позитива, накопленный за день, чтобы постепенно уговорить его вернуться назад за ограждения. Вероятно, в нём самом ещё теплилась неосознанная надежда, что кто-то сумеет его удержать от рокового решения, и именно поэтому мне всё-таки удалось с ним договориться. После того как он перелез обратно на внутреннюю сторону моста, мы добрались пешком до ближайшего сквера и устроились на одной из лавочек. Здесь он и рассказал свою невесёлую историю.
Расставание с любимой девушкой для Игоря (так звали молодого человека) было долгим и мучительным. После неудачных попыток наладить отношения, ему начало казаться, будто что-то внутри него самого безвозвратно сломалось, и мир теперь причинял лишь острую боль. Он решил, что прежнее состояние счастья уже не вернётся к нему никогда. С трудом подбирая слова, часто сбиваясь и задыхаясь от переполнявшей его боли, Игорь рассказывал, как тяжело он переживал разрыв, как месяцами сидел в своей комнате и не хотел никого видеть. С какого-то момента он начал замечать, что стал получать от своих страданий почти мазохистское удовольствие. Он погружался в такое состояние всё чаще и глубже, пока не перешёл, по его выражению, некую пограничную черту, за которой был лишь бесконечный ужас. И этот ужас звал его в свои объятья. Что ж, если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя.
Нет, парень не выглядел сумасшедшим. Скорее, просто глубоко несчастным человеком, болезненно переживающим происходящее с ним. Мы просидели на той лавочке в сквере до глубокого вечера, я помог ему поймать такси, и он навсегда ушёл из моей жизни. Не знаю, что с ним случилось дальше – удалось ли мне его убедить, что впереди его ещё ждёт много хороших и добрых вещей, получилось ли у него справиться со своей депрессией или же мои слова и сочувствие пропали даром. Надеюсь, он выстоял.
Рассказ Игоря надолго отпечатался в моей памяти, а особенно его слова о запретной черте, за которой ты встречаешься со своей смертью, и она зовёт тебя с собой. В дальнейшем в своей работе психиатра я часто находил подтверждение этому состоянию. Когда с человеком происходят трагические события, он порой чувствует, что стоит у порога, переступив который уже не сможет вернуться назад. «Даже лишь прикоснувшись к тому, что по ту сторону, – делился своими ощущениями Игорь, – ты становишься кем-то другим. Твой разум перестаёт тебе принадлежать, и решаешь теперь не ты, а кто-то другой. Или что-то другое…»
А ещё я запомнил его взгляд. Какая-то в нём была неправильность, что ли. Словно смотришь на стоящее перед тобой огромное здание и вдруг замечаешь, что его кирпичики выстроены не так, как должно. А потом с ужасом осознаёшь, что оно вот-вот начнёт рушиться прямо у тебя на глазах. Много позже подобный взгляд я наблюдал у некоторых своих пациентов. И это ощущение, возникшее тогда на мосту, вновь оживало во мне. Внутренне, для самого себя, я теперь знаю, что если мне удастся кого-то из них хотя бы на шаг отвести от этой губительной черты, от точки невозврата, то моя работа уже не напрасна».
Живое измерение души
Психика человека – обширная и многомерная сфера, она подобна бесконечному и малоизученному космосу. И так же, как звёздное небо над головой, её тайны всегда будут привлекать пытливые умы. Разница лишь в том, что эти тайны зачастую связаны с конкретной человеческой трагедией.
«Вот типичная история, – говорит Сергей Петрович Казаков, психиатр, кандидат медицинских наук. – Николаю В. было 32 года, он работал инженером. Проходил у нас лечение полгода назад. Раньше никаких отклонений у него не фиксировалось, это была первая госпитализация. Без видимых причин он вдруг стал сторониться людей. Со слов сестры пациента, сперва Николай начал замечать, что ему становилось всё труднее выполнять свои обычные обязанности, он не мог ни на чём сосредоточиться. Попытался брать работу на дом, однако это не помогло. Постепенно дошло до того, что Николай вообще перестал что-либо делать, мог только сидеть часами, уставившись в пол. Он забывал умываться, менять одежду, порой целыми днями не выходил из комнаты. В итоге родственники забили тревогу и направили его на обследование.
Когда Николай поступил к нам в отделение, он с трудом шёл на общение, практически перестал разговаривать, наглухо замкнувшись в себе. Ему поставили диагноз «шизофрения». Мне стоило немалых трудов установить с ним контакт и завоевать его доверие. Помню, каким большим достижением тогда было одно то, что удалось приучить Николая элементарно здороваться. Потом он понемногу стал реагировать на вопросы, отвечать на них, поначалу односложно. Здесь, конечно, работает только доброжелательное и терпеливое убеждение, никакая «дрессировка» не даст нужного нам результата.
Так постепенно мы начали общаться. Через некоторое время, благодаря нашим беседам и нескольким сеансам гипноза мне удалось определить, что вероятная причина психического надлома была заложена ещё в раннем школьном возрасте. Именно тогда учительница младших классов унижала его перед остальными детьми, била линейкой, называла неполноценным, дебилом и умственно отсталым. Мальчик ничего не рассказывал родителям, но внутренне остро переживал всю эту ситуацию. В результате он тогда надолго заболел и две недели просидел дома. Молодой организм достаточно быстро восстановился, и Николай скоро забыл об этом инциденте. Однако в его психике образовалась незаметная трещина.
Потребовалось много лет и новый жёсткий стресс, чтобы эта детская травма сработала как мина замедленного действия и постепенно развилась в клиническую форму болезни. Стресс, послуживший для неё детонатором, как мы выяснили, был спровоцирован тяжелым финансовым положением семьи и грядущим сокращением штата на предприятии, где работал Николай. Мы подобрали схему медикаментозного лечения, провели курс терапии, включая также и гипнотерапию. Лечение дало положительную динамику, и в конечном итоге Николая удалось вернуть к практически нормальной жизни.
К чему я веду, рассказывая эту историю болезни? К тому, что каждый пациент психиатрической клиники – это, прежде всего, человек, и относиться к нему нужно соответственно. Наша русская школа психиатрии всегда строилась на гуманистических позициях, поэтому уважение к пациенту, сколь критичным ни было бы его состояние, – один из ключевых принципов. На практике же эти принципы приобретают вполне прагматичное наполнение: чтобы реально помочь больному, нужно грамотно установить с ним контакт и, выстроив доверительные отношения, заручиться его уважением. Иначе какого-то серьезного прогресса в лечении даже и ожидать не приходится.
Живое измерение души требует такого же живого участия. Несмотря на то, что все болезни, казалось бы, давно изучены и описаны, в каждом конкретном случае они могут развиваться по-разному, клиническое течение всегда индивидуально. Многие врачи, к сожалению, ограничиваются постановкой диагноза на основе анамнеза и выявленных симптомов. Для меня же всегда важно не просто распознать ту или иную форму расстройства, но понять, что послужило первопричиной, отправной точкой развития болезни, и без абсолютного доверия пациента этот ребус не решить. Поэтому я и считаю, что сначала надо подобрать нужные ключи к пациенту, а потом уже – терапию. Психика – штука сложная, сломаться она может легко, а вот починить её много труднее, если это вообще возможно. Симптоматическим лечением, одними таблетками здесь, конечно, делу не поможешь. Так что сперва необходимо достучаться до рассудка пациента, найти корень проблемы, а потом уже искать выход из лабиринта.
ДАЖЕ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ В СЕБЕ,
ОН ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ И СОЧУВСТВИЯ —
ВЕДЬ ЛИЧНОСТЬ ВСЕГДА ПРИСУТСТВУЕТ,
ПУСТЬ И СПРЯТАННАЯ ГДЕ-ТО ГЛУБОКО ВНУТРИ.
И нуждается больной не только в таблетках, уважение и сочувствие – это те же виды терапии. Как и слово. И что из них важнее – ещё вопрос. С другой стороны, требуется осторожность, чтобы не переборщить и не впасть в крайность, умение держать безопасную дистанцию. Здесь я говорю, прежде всего, конечно, об эмоциональном и психологическом дистанцировании. Ведь не все пациенты такие замкнутые и необщительные, как было с Николаем, у некоторых, наоборот, эмоции зашкаливают и перехлёстывают. У каждого своя клиника. Нужно уметь ставить внутреннюю защиту, дабы не резонировать. Иначе вместо одного пациента на входе можно получить двоих и без выхода. Так что, в том бородатом анекдоте про крокодильчиков для каждого психиатра есть и своя доля тушки. Шутки, конечно».
Больничка
«Устроиться на работу в Кащенко получилось у меня довольно необычно, – делится воспоминаниями хирург Тамара Григорьевна Глушко. – В то время я занимала должность штатного хирурга в поликлинике напротив Даниловского монастыря. Всё бы хорошо, но зарплата там была мизерная, а я сына в одиночку воспитывала, так что с деньгами приходилось туго. Да и атмосфера в коллективе, честно говоря, сложилась не слишком приятная.
Привезли как-то с Афона в Данилов монастырь икону и мощи святого Спиридона Тримифунтского, который, по поверью, в материальных делах людям помогает. Я о нём тогда в первый раз услышала от медсестры одной верующей из нашего отделения, она и уговорила меня пойти обратиться к святому. Отстояли мы огромаднейшую очередь с четырёх часов дня и аж до часа ночи. Люди там, по слухам, о квартирах, дачах, машинах молились, а я поклонилась и так ничего и не попросила – сын, родители живы, с голода не умираем, и слава Богу!
Примерно неделю спустя на автобусной остановке я краем уха услышала из разговора двух женщин, врачей из Кащенко, о том, что у них там катастрофически не хватает специалистов. Подошла, спросила: «А вам хирург в больницу случайно не нужен?» Они говорят: «Очень даже нужен, как воздух нужен! Мы уже год без хирурга. Завтра же берите документы и приходите устраиваться». Так я и попала в Кащенко, а точнее, в Психиатрическую клиническую больницу № 1 им. Н. А. Алексеева.
В больнице у меня был полноценный хирургический кабинет, по всем СанПиНам, как положено, со смотровой и перевязочной, два раза в неделю я вела там обычный поликлинический приём. Проводила мелкие операции – вскрывала фурункулы, вырезала атеромы, брала пункцию и тому подобное. Но основная моя работа состояла в том, чтобы ходить по отделениям и осматривать больных на месте, среди них было много лежачих, которые сами до кабинета дойти не могли. А отделений там, надо сказать, аж тридцать штук, и я была единственным хирургом на всю больницу. Я проводила осмотры, вырезала бабушкам пролежни, проверяла, почему у пациента, скажем, болит живот, и выполняла прочие ординарные функции хирурга.
Здесь ведь такие же люди, как в любой другой больнице, и каждому из них бывает необходима не только психиатрическая помощь, но и обычная медицинская. Может, они даже больше в ней нуждаются, потому что не всякий в состоянии вразумительно объяснить, что и как у него болит, а некоторые и вовсе могут этого не осознавать и не чувствовать боли. Были у меня и такие случаи. Вот бабушка, например, с Альцгеймером, у неё там общий анализ крови показал какое-то воспаление. Я смотрела-смотрела, помяла-помяла, думаю: «Боже мой, ужас, такое ощущение, что гной где-то там в животе». А она ничего не говорит, я спрашиваю: «Болит что-нибудь?», она мимо меня смотрит и всё, никак не реагирует. В результате оказался флегмонозный холецистит, и если бы анализ крови не сделали, то никто бы и не подумал, что у неё что-то болит. Так что с ними в этом смысле порой сложнее.
Кроме хирурга там есть, конечно, и другие профильные специалисты. Я тогда поняла, кроме шуток, такую интересную вещь: если вы хотите, чтобы вас хорошо обследовали и при этом достойно к вам относились, ложитесь в Кащенко. А все разговоры про карательную психиатрию, которые идут из телевизора, – просто бред. Никаких смирительных рубашек, мягких комнат и кроватей без матрасов. Ничего этого там нет. Никаких санитаров-дуболомов в отделениях и прочих прелестей, санитары вообще только в приёмных работают. В Кащенко в принципе во главу угла ставится отношение к больному! Скажем, медсестры называют больных обязательно по имени-отчеству. Мелочь, как говорится, а приятно. Я сама не всегда могла кого-то запомнить по имени, а девчонки знали абсолютно всех больных. Понятно, что если лежал молодой парень, то он был для них Петя, Саша или там Коля, но ко взрослым и пожилым людям они обращались непременно по имени-отчеству. При этом здесь гарантировано полное медицинское обследование, всё оборудование у них для этого есть, так что вы получаете все анализы, процедуры и самое тёплое человеческое отношение. Мало какое медицинское учреждение может похвастаться подобным порядком.
Случались в моей тамошней практике и экстренные случаи. В критических ситуациях всё происходит очень быстро, действуешь на интуиции и на профессиональных рефлексах. Иными словами, просто делаешь своё дело, выкладываешься по полной. А там уже как фишка ляжет. Как-то утром, когда я только шла на работу, мне позвонили из больницы на мобильный: «У нас ЧП! Очень срочно нужна ваша помощь!». Забегаю я в отделение: «Что такое? Что случилось?» Оказывается, поступил один алкоголик. Он лежал в обычной больнице, и там у него началась белая горячка. Во время своих буйствований он где-то схватил ножницы и воткнул их себе в руку. Никто тогда и внимания особенного не обратил – ранка маленькая, незаметная. А на самом деле он попал ножницами аккурат в лучевую артерию, там сгусток образовался, и кровь просто остановилась. Ночью открылось кровотечение. Ему наложили жгут и так и перевезли к нам. Уже в Кащенко через некоторое время у него вновь начинается обильное кровотечение. Отделение стоит на ушах. Всё происходит на каких-то немыслимых скоростях – снова накладываем ему шину, тут же девчонки с бинтами бегают, помогают, срочно зашиваю повреждённую артерию. Всё предельно быстро, на полном автоматизме. Это уже потом можно сесть и перевести дыхание, прийти в себя. Вот такая она у нас, рядовая работа хирурга.
ХИРУРГИ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ —
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ.
И ТРЕБУЕТ ОНА НЕИМОВЕРНОЙ ОТДАЧИ
И БЫСТРОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.
Надо сказать, психиатрическая больница имени Алексеева – единственное учреждение, где существует алкогольная реанимация. Это для тех, у кого алкогольный делирий или, грубо говоря, белая горячка.
В реанимации человек, как правило, находится в очень тяжелом состоянии, когда, допустим, он сам уже не в состоянии даже дышать. В этом случае весьма вероятна интоксикация всего организма, может происходить отключение каких-то жизненно важных процессов и функций. Понятно, что их активно лечат, ставят лекарства, если человек не может дышать, в горло ему вводят трахеостому и проводят прочие экстренные мероприятия. Делают всё, что только возможно, для сохранения жизни и здоровья.
А в нашей реанимации некоторые больные тем временем ещё и чертей успевают гонять или там машины разгружать. Пришла я один раз к такому больному, который тогда уже на аппаратах лежал, а он мне с порога заявляет: «Отходи, отходи в сторону!» Я его спрашиваю: «А что такое?» «Ну, отходи же! – говорит он. – Ты что, не видишь, мы машину с песком разгружаем». «Хорошо, спасибо тебе, дружок», – отвечаю я и отхожу, чтобы лишний раз не волновать бедолагу. Забавно бывает, когда потом встречаешь такого больного, уже в общем отделении, он при этом, как правило, удивляется: «А вы меня разве знаете?» – «Знаю, знаю! – говорю я. – Ещё как знаю». «А откуда вы меня знаете?» – «Ну, вы же в реанимации лежали». – «Да, но я вас не помню». – «Дорогой мой, в вашем состоянии вы имели полное право меня не запомнить». И даже такие пациенты нередко потом оказываются вовсе даже не плохими ребятами. В основном, конечно, это работяги, либо, напротив, те, кто совсем не работает.
Понятно, что за восемь лет, которые мне довелось проработать в Кащенко, я уже достаточно хорошо изучила больных, знала, от кого и что можно ожидать. Там, конечно, существуют определённые правила, связанные с безопасностью. К примеру, меня учили, что садиться на стул нужно непременно вполоборота, чтобы видеть часть пространства за собой. Долгое время, когда я уже уволилась оттуда, у меня сохранялась эта привычка, а ещё – везде и всюду закрывать за собой двери. Просто в больнице строго-настрого запрещено оставлять двери открытыми, и у каждого врача там есть специальная ручка, которой эти двери открываются. Никто из женского персонала не носил бусы, потому что, теоретически, бусами можно удушить. Также никто не надевал серьги и не укладывал волосы в косы или хвосты, за которые легко схватить. Ничего не поделаешь, издержки профессии. Нас, конечно, всегда заранее предупреждали о некоторых особых пациентах, с которыми нужно быть максимально осторожными. Этот вот, скажем, совсем плохой больной, с ним поаккуратнее!
Наблюдая за такими больными, невольно задумаешься, что же на самом деле представляют собой психические заболевания. Понятно, что в каждой патологии есть своя внутренняя логика, но в чем критерий наличия самой болезни? Нередко можно слышать, как о том или ином человеке говорят, что он достаточно странный. А где та грань, перейдя которую человек становится уже не просто странным, а именно больным? Ведь когда нет чётких критериев, вероятность ошибки очень велика. И вообще, непонятно, как лечить заболевание, если не имеешь точного представления о том, что это такое. В хирургии с этим проще, есть, например, аппендицит – у него существуют вполне определённые признаки. Вырезали аппендикс, и ты забыл о нём на всю оставшуюся жизнь. В психиатрии всё совсем по-другому, здесь почва уж больно зыбкая. Патогенеза заболеваний никто не знает, объективных фактов нет. Ту же шизофрению на МРТ или на КТ ты никак не увидишь.
Более того, я думаю, никто до сих пор толком не знает, что это вообще такое – психически здоровый человек. Видимо, тот, кому ещё не успели поставить диагноз. А с другой стороны, когда действительно существует проблема, мало кто из нормальных людей обратится за помощью к психиатру или психотерапевту. Даже если у человека затяжная глубокая депрессия, он вряд ли сам пойдёт к специалисту, хотя тот действительно может помочь. Такой уж сложился у людей менталитет. Чисто юридически, психически здоровый человек это тот, который не состоит на учёте. А в реальности – у каждого свои тараканы в голове, и, если обследоваться у психиатра, я уверена, он любому сможет поставить диагноз. Я вот сама, например, жуткий клаустрофоб. В лифте и метро ездить я не боюсь, но вот мы как-то с сыном полезли в пещеры, и мне там очень даже не по себе стало.
НЕТ АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ
С ПСИХИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛЮДЕЙ.
ЕСТЬ ТЕ, ЧЬИ ТАРАКАНЫ ОСТАЛЬНЫМ НЕ ОСОБО МЕШАЮТ.
Как со всем этим справляются психиатры, я, откровенно говоря, не представляю, но они реально помогают больным людям. Конечно, существует много разных препаратов, есть и посильнее, и помягче – и седативные, и транквилизаторы, и антидепрессанты, и нейролептики. Понятно, что любое лекарство плохо, а эти препараты вообще достаточно серьезные по химическому своему составу, что не очень хорошо для организма, да и побочных эффектов много. Но, опять же, когда человек бегает и бьётся головой об стену, его надо всё-таки как-то угомонить, пока он ни себя, ни других не покалечил.
Тяжёлые психические расстройства в принципе неизлечимы. Но со многими острыми состояниями врачи справляются. Когда пациента привозят, например, с повышенной возбудимостью, и он в драку лезет, – вы ему проколете лекарства, и через несколько дней он у вас уже просто красавчик. Если будет и дальше принимать таблетки, то таким и останется, наступит ремиссия надолго. Но вся беда в том, что они не принимают лекарства, как правило. То есть он-то считает себя здоровым: «Это они, врачи, придурки. То, что у меня там квадратики летают, мне в кайф, у меня всё нормально!». Хорошо, когда есть родные, которые могут присматривать за больным после выписки из клиники, чтобы пил таблетки. Есть такие родственники, честь им и хвала, они замечательные, молодцы, но это 5–6 %, остальные думают, что сыночка у них самый здоровый и не надо ему никаких таблеток. Тем более, если всё это отягощено наследственностью.
Когда нет родных, никого, кто мог бы следить потом за больным, то здесь бывшим пациентам здорово помогает медико-реабилитационное отделение. Оно как раз занимается их адаптацией и социализацией. Вот больного выписали из острого отделения домой – они его берут под своё крыло. Пациент приходит каждый день, получает таблеточки, что-то болит у него – он идёт к доктору. Там у них есть и разные творческие кружки, театральный, художественный, арт-терапия и так далее.
В этой связи мне вспоминается ещё один больной. Был у нас такой Лёша, молодой достаточно, ему ещё и тридцати не было. Привезли его к нам в совершенно ужасном состоянии. Перенесли на носилках в старческое отделение. Он был алкоголиком в какой-то запредельной стадии, совершенно опустившийся человек. Какой-либо смысл в жизни для него просто отсутствовал. И началась у Лёши полнейшая апатия. Сам он уже никуда не ходил, его везде только на носилках носили. Я ему пролежни лечила. Ещё была у него на лице большая атерома, это такое подкожное образование. Мы с ним тогда договорились, что, если он выкарабкается, то я у него с лица её уберу, насовсем, чтобы он был красивым парнем.
И вдруг произошло просто чудо какое-то – Лёша наш оклемался, встал на ноги. Мало того, он теперь оказался ещё и первым помощником всему медперсоналу в отделении. Всё там было на Лёше. Уход за тяжёлыми пациентами – на Лёше, всегда его можно было попросить помочь, он и подержит больного, и повернет, если надо. Бельё там принести, на пищеблок сходить и прочее – он всегда готов, как пионер. В общем, не парень, а золото. Через какое-то время подошёл ко мне: «Помните, вы мне обещали?» «Конечно, – говорю, – помню». Вырезала я ему эту атерому. Очень он был тогда доволен, благодарил всячески. И что бы вы думали? После курса лечения Лёша не захотел выписываться, категорически. Неожиданно для себя он обрёл здесь свой собственный смысл жизни. И вот я думаю, если он попадёт назад в тот мир, из которого пришёл, скорее всего, опять начнёт пить. А здесь для него началась совсем другая жизнь. Хорошо это или плохо, не знаю, но так уж случилось. Пути Господни неисповедимы.
Восемь лет – это, конечно, немалый срок. Когда я увольнялась, и коллеги, и пациенты просили не уходить, и ко мне все уже привыкли, и я ко всем привыкла. Больные просто начали ныть: «Не уходите! Как же мы без вас?». Я говорю: «Вот если бы я была психиатром, я бы отсюда никогда в жизни не ушла». А как хирургу, конечно, мне хотелось развиваться. Но вот теперь, когда я дома разбираю старую одежду, я её не выбрасываю, как раньше, а уже много лет всю везу в Кащенко. Больные там бывают разные, поступают и летом, и зимой, много стариков одиноких. И далеко не у всех есть родственники, которые могут им принести сменную одежду. Я уже давно всем своим друзьям и знакомым говорю, чтобы они не выбрасывали свои старые вещи, а приносили их мне, для больных. Потом я всё это собираю и отвожу в больницу. Народ тамошний всегда искренне рад бывает. И, главное, что эти вещи им действительно нужны. Очень. Ведь психиатрическая больница – отнюдь не зона отчуждения. И если человек попал сюда, это вовсе не значит, что для него уже наступил конец света».
Если Бог захочет наказать
«Когда на тебя обрушивается такое несчастье, поначалу всё это просто не укладывается в голове, – говорит Ирина Владимировна Д., – а потом начинаешь изводить себя мыслями о том, почему это случилось с тобой, с твоей семьёй, за что тебе такое наказание господне. Снова и снова перебираешь в уме прошлое и пытаешься понять, когда всё это началось, что и почему пошло не так.
Благополучная и размеренная жизнь нашей семьи разбилась вдребезги четыре года назад, когда у младшего сына диагностировали шизофрению. У нас с мужем двое сыновей, и хотя разница между ними всего два года, они совершенно не похожи друг на друга. Не только внешне. Старший, Максим, с самого рождения был слабеньким, часто болел, а потом ещё порок сердца у него обнаружили, словом, набегались мы с ним по больницам. Зато потом, когда он пошёл в школу, проблем с учёбой вообще никогда не было, только ограничение физической нагрузки нужно было контролировать. Самые трудные предметы ему давались легко – математика, физика, химия, он не раз выигрывал городские олимпиады. При этом всегда был открытым и общительным мальчиком, и даже несмотря на слабое здоровье и близорукость, ребята в классе его уважали. Максим всегда был душой любой компании, лидером и, конечно, примером для младшего брата.
ЕСЛИ БЛИЗКИЙ ВАМ ЧЕЛОВЕК СТАЛ ЗАМКНУТЫМ
И АПАТИЧНЫМ, ПЕРЕСТАЛ ВЫРАЖАТЬ ЭМОЦИИ
И УГЛУБИЛСЯ В СЕБЯ, ИМЕЕТ СМЫСЛ НАСТОРОЖИТЬСЯ.
Павлик во всём старался подражать Максу. Мы с мужем частенько отмечали, что он копировал и походку брата, и его манеру говорить, по-детски радовался, когда Максим отдавал ему что-то из своей одежды, из которой вырос. До смешного доходило, помню, Паша мне как-то говорит: «Мам, да не нужны мне новые джинсы! Купи лучше Максу, тогда он мне свои серые отдаст». В отличие от брата, Павлик рос крепким, здоровым мальчиком, занимался то хоккеем, то плаванием. Потом все секции забросил и увлёкся шахматами, опять же, вслед за братом. Точные науки он очень не любил, часто мучился с домашними заданиями по алгебре, однако троек не приносил. Разве что двойки, и то за поведение. А вот сочинения всегда с удовольствием писал, доклады по истории тоже. Мы со своей стороны никогда не ставили Максима ему в пример, мол, смотри, у брата одни пятёрки, тебе должно быть стыдно от него отставать. Нет, такого не было. Но, возможно, это проявлялось как-то иначе, ненамеренно. Может, мы слишком бурно радовались успехам старшего, и каждый раз это становилось для Паши новым стимулом. Сейчас, оглядываясь на школьные годы сыновей, не перестаю думать о том, что есть доля и нашей вины в том, что случилось потом…
После школы Павел, недолго думая, пошёл поступать в тот же институт, что и Максим, на мехмат. Мы с мужем не могли налюбоваться на сына, с таким усердием он готовился к экзаменам, и Макс ему с удовольствием помогал, если что-то вызывало сложности. В общем, это поступление стоило Паше немалых трудов, но их результат был подарком для всей семьи, мы искренне гордились нашим мальчиком. А потом всё пошло наперекосяк…
Спустя некоторое время, где-то в начале второго семестра, мы стали замечать, как сильно изменился Павлик. Сначала мы не придавали этому значения – ну что тут особенного, просто мальчик взрослеет. А может, влюбился. Но потом всерьёз обеспокоились, поскольку эти перемены были странными и необъяснимыми. Павел становился всё более замкнутым и апатичным, он перестал улыбаться, да и вообще проявлять какие-то эмоции, на его лице словно застыла маска безразличия. Мы не могли понять, что происходит – сын не общается с друзьями, никому не звонит и никуда не ходит, а ведь раньше его было не удержать дома. Даже любимые компьютерные игры забросил.
И отец, и я пытались с ним поговорить по душам, каждый по-своему, вызвать на откровенность, выяснить, что с ним происходит, но на все расспросы он сухо отвечал «да всё нормально», лишь ещё больше замыкался и уходил в себя. Мы предположили, что у него возникли какие-то проблемы в институте, и он просто не хочет нас расстраивать. Максим тоже ничего не мог сказать – поскольку они учились на разных курсах, в институте они порой вообще не пересекались. Отец решил поехать в деканат и попытаться что-то выяснить там. И выяснил. Оказалось, что Павел давно уже не ходит на занятия, попросту прогуливает, хотя у него осталась ещё целая куча «хвостов» с прошлой сессии.
Эта новость для меня пришлась словно обухом по голове, ведь сын тщательно скрывал свои задолженности, каждое утро, как обычно, уходил в институт и возвращался вечером. Отец после этой поездки был сильно раздосадован тем, что ему пришлось выслушать о сыне. Но больше всего, конечно, таким мастерским обманом со стороны Павлика. И тут он не смог сдержаться, устроил жуткий скандал. Первый за двадцать лет нашей совместной жизни. Он кричал на сына, пытаясь добиться от него хоть какого-то объяснения: «Почему ты забросил учёбу? Почему прогуливаешь? Зачем ты нам врал?». И так дальше. А в ответ одно глухое молчание и полное равнодушие. «Ну, чего ты молчишь? Тебе сказать нечего? Ты что, совсем тупой?» – продолжал давить на него отец. Тот – ноль внимания. Я не знала, что делать, то ли мужа успокаивать, то ли сына защищать. Боялась, вдруг он тоже сейчас психанёт, хлопнет дверью и уйдёт из дома, ведь такой взбучки ему ни разу в жизни не доводилось получать. Но нет, ничего такого не произошло. Никакой реакции вообще. Пока я отпаивала мужа успокоительным, Паша тихонько выскользнул с кухни и ушёл в свою комнату. «Я устал. Голова болит», – вот и всё, что я услышала, когда позже заглянула к нему. Он просто лежал, ничего не делал. И до утра не выходил из комнаты.
Не знаю, может быть, именно этот скандал послужил тогда толчком для развития болезни. Иногда мне кажется, если бы мы как-то по-другому с ним поговорили, всё могло пойти иначе, и тогда не случилось бы того, что случилось. Хотя доктор потом мне объяснял, что по всем признакам Павлик уже тогда был болен, просто болезнь сначала протекала скрытно, а потом перешла в активную стадию. Так или иначе, но спустя примерно неделю, в течение которой Паша вообще не выходил из дому, ссылаясь на простуду, он попытался покончить с собой…
Откачать его смогли только благодаря тому, что Максим по счастливой случайности в тот день вернулся домой намного раньше обычного, у них отменились какие-то занятия. Три дня Павлик пролежал в реанимации, потом неделю в неврологии, там его предварительно осмотрел и психиатр. Ну, а потом уже положили на обследование в психиатрическую клинику, где и определили его болезнь как шизофрению.
ПСИХИКА – САМОЕ УЯЗВИМОЕ МЕСТО
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА.
ДАЖЕ ОЧЕНЬ ЗДОРОВЫЕ И КРЕПКИЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛЮДИ
МОГУТ ПОТЕРЯТЬ «РАССУДОК».
Я тогда много общалась с лечащим врачом Павлика, всё никак не могла успокоиться и понять, откуда всё это взялось, почему, как такое возможно? Спрашивала: «Доктор, ну как же так, ведь говорят, что в здоровом теле здоровый дух, а Паша всегда был на зависть крепким, физически развитым мальчиком, спортивным. И болел он очень редко, даже детские инфекции его стороной обошли. Что же его смогло так подкосить?» Помню, доктор мне рассказывал, что наша психика это вообще самое уязвимое в организме человека. И это несмотря на то, что природа создала наше физическое тело довольно приспособленным к разным воздействиям и многим опасностям, с целой системой защитных механизмов и возможностей для восстановления. А вот с психикой всё сложнее, это очень тонкая конструкция, и всё ещё малопонятная. Смотришь – вроде бы вполне устойчивая система и сбалансированная, со своими защитами, но вдруг от какого-то определённого воздействия в определённое время возьмёт и рухнет. «Это как со специально закалённым стеклом, – говорил врач. – Десять здоровяков могут долбить по нему кувалдой – и ничего, а подойдёт невзрачный старикашка да тюкнет маленьким молоточком в нужную точку – стекло и рассыплется в крошку». Наверно, так оно и есть. Мне трудно судить о свойствах психики, но я точно знаю одно – вся наша жизнь, наш маленький уютный мирок разлетелся на осколки в одно мгновенье.
О ситуации Павлика доктор сказал, что его расстройство было вызвано, скорее всего, тем, что мальчик в какой-то момент просто не справился с нагрузкой – учиться ему было крайне трудно, поскольку он выбрал самое сложное для себя, а не то, что на самом деле нравилось и получалось. При этом сам не мог понять, почему так происходит, искал причины в себе, стал считать себя ущербным. Он очень остро всё это воспринимал, боялся, что из-за проблем с учёбой изменится отношение к нему. В итоге всё больше отдалялся от внешней реальности, погружаясь в самые опасные и тёмные глубины внутреннего мира. Вот психика и не выдержала.
В клинике Павлик пролежал около трёх месяцев, лечили его, как я поняла, довольно тяжёлыми нейролептиками, но деваться было некуда. Как доктор сказал, «надо купировать симптоматику». После выписки примерно полгода ещё мы наблюдались амбулаторно, ходили периодически на терапию. Сейчас раз в год проходим плановые обследования. Я уже более-менее смирилась с тем, что жизнь сына, по большому счёту, сломана и будущее его ждёт не слишком радостное. Ведь даже если принимать всю жизнь таблетки, никто не даст стопроцентной гарантии, что не случится нового приступа, а с каждым обострением болезнь становится только ещё более разрушительной и труднее поддаётся лечению. Но я всё же стараюсь не терять присутствия духа и надежды на лучшее. Моего мальчика спасли, и это главное. Сейчас его состояние стабильное, ведёт он себя вполне адекватно, нормально общается с людьми, работает. В принципе, если не знать о его болезни, ничего даже не заподозришь, но о дальнейшей учёбе и каких-то перспективах говорить, конечно, не приходится.
Когда всё это свалилось на нашу семью, нас всех буквально придавило острое чувство вины за то, что упустили Павлика. Отец первые месяцы ещё крепился, но потом не выдержал. Начал допоздна засиживаться на работе, возвращаться домой выпившим. Дальше больше. Помощи от него ожидать уже не приходилось, наоборот, только новых стрессов и новых проблем. В итоге мне пришлось сделать нелёгкий выбор, и мы расстались. Максим тоже очень болезненно воспринял несчастье брата, ругал себя за то, что тратил всё своё время и внимание на институтские дела и новых друзей, отдалился от Пашки, не замечал его переживаний. Но раскисать нам было никак нельзя. Мы с Максом походили на занятия групповой психотерапии, чтобы научиться справляться с этой ситуацией, с нашей новой реальностью. Это действительно помогло, и теперь мы друг друга поддерживаем по мере сил. И, конечно, Павлика, ведь его ноша самая тяжёлая».
Гений и расстройство
Психиатрия, как никакая другая область медицины, окутана плотным туманом стойких мифов, досужих домыслов и бородатых анекдотов. Одно из наиболее устойчивых заблуждений связано с попытками поставить знак равенства между взлётами творческого гения и психическим расстройством, мол, «от гениальности до безумия один шаг». Однако единственное, что их объединяет, это тот факт, что и то, и другое – особые состояния сознания, на деле, однако, совершенно разные по своей природе.
ФРАЗА «ОТ ГЕНИАЛЬНОСТИ ДО БЕЗУМИЯ ОДИН ШАГ»
ЛИШЕНА ОСНОВАНИЙ И ЯВЛЯЕТСЯ
ПРОСТО КРАСИВЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ.
НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО
ДВА СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ СОСТОЯНИЯ.
«Все эти байки о безумных гениях бродят в умах ещё с середины XIX века, с подачи Ломброзо, – считает Анастасия Ленская, сетевой поэт и блогер, – благодаря его книжке «Гениальность и помешательство». Там он проводил параллель между этими понятиями, притягивая за уши примеры из жизни замечательных людей. По моему имховому мнению, живучесть сгенерированной им идеи говорит лишь о том, что этот фейк сработан весьма качественно. А рецепт прост – берёте щепотку фактов (лучше всего таких, которые сложно проверить), обжариваете до нужной кондиции, щедро сдабриваете фантазией, добавляете ярких красок и усилителей обывательского вкуса. Вот и всё, ваш коктейль «Вынос мозга» готов. Быстро и по привлекательной цене. И пипл хавает, что характерно, по сей день. Хоть в исходном варианте, хоть после некоторого апгрейда идеи – среди продвинутых юзеров нынче в тренде термин «изменённые состояния сознания». То бишь валят в одну кучу всё – творческое озарение с клиническими симптомами, духовные практики и медитации с действием алкоголя и психотропов. Типа всё это одно и то же. Ужас, конечно, но, тем не менее, многие на это ловятся. Ну, а что, разве Ван Гог ухо себе не оттяпал? Оттяпал. И это есть факт. Ну и понеслось. Полистать сегодня инет – так выходит, все сколь-нибудь талантливые художники, поэты и писатели в итоге либо съезжали с катушек, либо спивались. Хотите верить этому – дело ваше. У меня такие публикации вызывают лишь сакральный вопрос «что курил автор?».
Нет, конечно, гении тоже подвержены психическим болезням, равно как и обычные граждане, не обременённые талантом. Но ведь и гриппом болеют и гениальные учёные, и офисный планктон. Творческих людей можно причислить к группе риска по заболеваниям психики лишь в том смысле, что они имеют более тонкую, а, следовательно, и более уязвимую психическую организацию. Ну, и теорию вероятности никто не отменял – у электрика больше шансов получить удар током, а у моряка – утонуть. Психика художника – это и поле его деятельности, и инструмент, а инструменты имеют неприятное свойство в самый неподходящий момент бить по пальцам.
Однако есть и объективные факторы, которые делают плодотворной почву для невольных заблуждений и намеренных спекуляций на эту тему. И психическим расстройствам, и гениальным озарениям, как правило, свойственна некая странность, необычность, неожиданность. Во многих проявлениях, в восприятии окружающего мира или своей взаимосвязи с ним, например. И эти странности внешне могут быть похожи, но корни-то у них разные!
Неординарный взгляд на мир позволяет учёному делать фундаментальные открытия, а художнику – создавать произведения, переворачивающие душу зрителя, слушателя или читателя. Способность замечать необычное в обычном, то, что скрыто от глаз остальных людей, видеть общее в частном, сопоставлять, анализировать и делать небанальные выводы – это всё то, что свойственно истинному таланту и то, что делает его творения уникальными, выдающимися из общей массы подобных. Именно в этом их «странность», в нестандартности и нетривиальности мышления автора. А возникают они в результате намеренных и осознанных действий творческой личности, направляемых её свободной волей.
При всём желании ничего из этого вы не сможете отнести к подопечным психиатров. Их странность – синоним неадекватности, а не особого видения действительности. И это не следствие сознательных и последовательных усилий. Здесь рулят совершенно другие процессы, не имеющие ничего общего с собственной волей и разумом больного, ибо индуцированы как раз их разрушением. По-моему, совершенно очевидно, что психическая патология и акт творчества – две большие разницы. Как липовый паспорт и липовый мёд. Это и ослик сразу поймёт.
Если ещё немного поблестеть интеллектом, копнуть дальше и перейти на другой уровень вербализации (кому он интересен), можно поговорить и о более глубоких различиях. И творчество, и медитативные практики есть способы самореализации и развития духовного аспекта личности. Который является её внутренним стержнем и одновременно линией энергетической связи с внешним миром, обеспечивающей коннект с ноосферой и высшими духовными планами. В состоянии активного творчества человек пропускает через свой эмоциональный интеллект поток жизни и преобразует его, сверяясь со своим внутренним камертоном, своим ощущением гармонии. Да, здесь можно в некотором смысле говорить об изменённом (по отношению к обычному статусу) состоянии сознания, понимая под этим мобилизацию всех внутренних ресурсов личности и открытие новых каналов восприятия. Говоря простым человеческим языком, это творческое вдохновение, озарение, инсайт.
Психические заболевания – тоже в определённом роде изменённое состояние сознания, но здесь «изменённое» значит лишь «искажённое». Ни о каком расширении сознания или создании новых линков здесь говорить неуместно. Absolutely no. Ментальная и эмоциональная сферы личности больного разрушаются, а не развиваются. Это приводит и к закупориванию тех «артерий», по которым к ним поступала энергия от сердца личности, её духовного тела. Что, понятно, ведёт лишь к их дальнейшей деградации и деструкции. И окончательному дисконнекту в итоге.
Так что процессы художественного, творческого постижения и преобразования мира и клиника психических патологий имеют два кардинальных отличия – они происходят на принципиально разных уровнях бытия личности и их векторы диаметрально противоположны. Если творчество направлено на достижение гармонии, то психические болезни ведут лишь к вялотекущему росту энтропии. Лично я так это вижу».
«Шизофрения, как и было сказано»
«Хочу поделиться своим частным опытом, который в силу обстоятельств мне довелось получить в далёкой юности, – говорит Алексей Николаевич Р., искусствовед. – В моё время у молодых людей, в той или иной мере испорченных интеллектом, обычно не возникало ни малейшего желания отправляться служить в армию по призыву. Я не был исключением, и терять два года лучшей поры жизни ради того, чтобы месить грязь на строительстве какой-нибудь генеральской дачи, совершенно не собирался.
СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ В 90-Е БЫЛО НЕ ПРИНЯТО.
А ОТКОСИТЬ ОТ АРМИИ ВОСПРИНИМАЛОСЬ
СКОРЕЕ КАК ДОБЛЕСТЬ,
УМЕНИЕ ОБОЙТИ НАВЯЗАННЫЕ РАМКИ И ЗАКОНЫ.
Войны, когда моя служба действительно была бы нужна отечеству, в обозримом будущем вроде бы не намечалось, так что совесть моя была чиста и спокойна. Если бы это происходило в наше время, где и армия, и международная обстановка совсем другие, да и призыв всего лишь на один год, думаю, я бы не отказался послужить. Но сейчас речь не об этом. В те годы откосить от армии считалось даже своеобразной доблестью (если, конечно, вопрос не решался банальной взяткой). Тогда это означало пойти против общего течения, не уподобляться безропотному стаду, которое пастухи кнутами загоняют в загон, а приложить волю и находчивость, чтобы самому решить свою судьбу. Это не каждому было по плечу.
По отзывам тех, кто уже имел дело с призывной комиссией, существовало несколько реальных возможностей получить «белый билет». Мой выбор пал на психиатрию – это считалось наиболее трудным, но в тоже время и наиболее надежным вариантом. Среди многочисленных диагнозов я предпочёл шизофрению, как мне казалось, стопроцентно гарантирующую нужный результат. Купив на книжных развалах несколько учебников по психиатрии, я приступил к тщательному штудированию симптомов избранной для себя болезни.
Некоторые учебники, честно говоря, было даже забавно читать. Особенно, когда среди признаков шизофрении встречались, например, «проявление интереса к философии, религии, этике, космологии», а также «склонность к фантазированию и интерес к уединённым занятиям, таким как чтение, прослушивание музыки, коллекционирование». Уму непостижимо, но это так и есть, абсолютно серьёзно. И в описаниях ряда психических расстройств можно встретить смешение реальной симптоматики с явлениями, которые к ним не имеют решительно никакого отношения. Не учебник, а просто пыльная кладовка, куда скидывают всяческий хлам – в комнате мешает, но выбросить жалко, вдруг пригодится. Не удивлюсь, если по таким учебникам до сих пор учат студентов. А при подобной сомнительной классификации вполне реально и не разглядеть за редкими деревьями настоящего леса.
Итак, усвоив все необходимые теоретические знания, я начал прорабатывать конкретную легенду, которую позже должен был представить на суд психиатров. Но это было лишь половиной дела, самая сложная часть моего гениального плана заключалась в том, чтобы создать максимально достоверный образ и сыграть свою роль так, чтобы для любого специалиста он выглядел однозначным. Бытовала такая легенда, что психиатры обладают своими секретными методами и обмануть их практически невозможно. Именно в силу этого я особенно усердно трудился над проработкой образа.
Только когда всё, на мой взгляд, было готово, я решил действовать. Не дожидаясь очередного призыва и направления на медкомиссию, я предпочёл самостоятельно обратиться в психоневрологический диспансер. Так это выглядело более натурально, не вызывало ненужных ассоциаций с призывом и подозрений в симуляции. Помню, я очень волновался, надел какую-то не слишком опрятную потрёпанную одежду, на нос нацепил очки в толстой оправе, перевязанные изолентой, и долго тренировался перед зеркалом.
К моему удивлению, всё прошло как по нотам. А когда врач узнала, что, кроме всего прочего, я ещё пишу стихи и рисую, она выписала мне направление даже не в обычную психиатрическую больницу, а в клинику НИИ психиатрии, которая считалась элитарным медучреждением. Я был очень доволен собой, да к тому же приобрёл то, чего мне, пожалуй, до этого не хватало – определённую долю уверенности в своих силах, убедившись, что психиатр, несмотря на то, что он профессионал, остаётся таким же человеком, а любого человека при желании можно провести.
В клинике всё повторилось, и психиатр, который меня курировал, легко проглотил тщательно приготовленную и хорошо приправленную специями легенду. Когда же он узнал о моих творческих увлечениях, то очень и очень растрогался. Оказалось, что мой лечащий врач как раз в это время писал кандидатскую диссертацию по творчеству душевнобольных. Что называется, на ловца и зверь бежит – а Васька слушает, да ест. Поскольку в живописи я был большим поклонником творчества Эдварда Мунка, а из поэтов весьма почитал Осипа Мандельштама, мне не составило большого труда подобрать из своих произведений несколько откровенно заумных. Их я и представил заинтересованному вниманию моего психиатра. Он остался весьма доволен – рассматривая мои шедевры, долго причмокивал языком, как кот у миски сметаны, носился вокруг них, расставлял то здесь, то там, при этом весьма странно и даже как-то плотоядно улыбаясь, так что со стороны, наверное, можно было бы усомниться, кто из нас двоих пациент.
Я чувствовал себя настоящим Штирлицем в тылу врага. Через некоторое время я понял, что если аккуратно подбрасывать врачу точно прописанные в учебнике симптомы, то он, радуясь своей проницательности, словно ребенок, выставит именно тот диагноз, который меня интересует. Зазубренная с институтской скамьи информация имеет свойство выветриваться из головы, но отчасти непременно оседает где-то на самых дальних и пыльных чердаках подсознания. И вот теперь, когда я дозированно проявлял нужные ему признаки, полагаю, он испытывал то сладкое чувство приятного резонанса, которое вызывает неожиданное узнавание. В общем (Юстас – Алексу), процесс вербовки психиатра шёл вполне штатно.
Как того требовали правила экспертизы, я также проходил изнурительные многочасовые психологические тесты, изо всех сил стараясь от усталости не выдать неправильный результат. Неприятной неожиданностью стал для меня ритуал приёма таблеток. Дежурная медсестра не просто выдавала лекарства и предлагала запить их киселём, но ещё и заставляла каждый раз открывать рот для проверки. Я сразу же сообразил, что некоторое время необходимо будет разыгрывать роль послушного мальчика, до тех пор, пока медсёстры не усвоят, что я всегда аккуратно проглатываю таблетки, и не снизят свою бдительность. К тому же необходимо было узнать, какой эффект оказывают на мой несчастный организм эти препараты, чтобы затем демонстрировать соответствующие реакции на них своему врачу.
Мои предположения оказались верными – через некоторое время медперсонал перестал проверять моё прилежание, и все эти разноцветные пилюльки доставались туалетной раковине. Но до тех пор приходилось невероятно, нереально туго. Просто сказать, что мне было плохо, это ничего не сказать, я тогда практически начал утрачивать собственную идентичность. Я стал ощущать себя не просто тенью человека, но тенью, подвешенной в вечном полдне, когда солнце еле движется в небе и весь мир наполнен жидким расплавленным маревом. А если к этому добавить не слишком здоровую атмосферу от скопления большого количества психически больных людей, то, думаю, можно хотя бы в общих чертах представить, насколько несладко мне приходилось. Тогда я убедился на собственной шкуре, что при современном уровне фармакологии сделать из здорового человека полнейшего овоща при желании не составит никакого труда. И я был по-настоящему счастлив, когда приём таблеток для меня в конце концов закончился.
Перед самой моей выпиской в НИИ проводили всесоюзный семинар, куда съехались светила психиатрии со всей страны. А на десерт в клинике им демонстрировали меня, ни больше ни меньше как идеального классического шизофреника. Я находился в центре небольшого конференц-зала, со всех сторон окружённый снисходительно-доброжелательными ликами психиатров. Примерно в течение получаса они засыпали меня различными вопросами и время от времени слушали комментарии моего лечащего врача.
КЛАССИЧЕСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ БЫВАЕТ
ТОЛЬКО В УЧЕБНИКАХ ПО ПСИХИАТРИИ.
В ЖИЗНИ ЧТО-ТО НЕПРЕМЕННО ВЫБИВАЕТСЯ
ИЗ СТАНДАРТОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Особенно мне запомнился последний участливый вопрос какого-то профессора: «Ну вот, тебя сейчас выпишут, и что ты после этого собираешься делать?» А надо сказать, я планировал в том году поступать на факультет журналистики, но по зрелому размышлению решил, что сообщать светилам психиатрии об этом намерении не стоит – зачем лишний раз пугать хороших людей? Поэтому я сказал, что попробую поступить в педагогический, на русский и литературу, в самый заурядный институт, где почти не было конкурса. На мой ответ товарищи психиатры дружно и от души расхохотались. А потом кто-то из них напоследок сказал: «Ну-ну, не горячитесь, мой дорогой, мы ждём вас обратно, где-нибудь в течение ближайших полутора-двух месяцев».
Через два дня меня выписали, и больше я этого заведения, как и его обитателей, никогда не видел. Восстанавливаться и приходить в себя после клиники пришлось месяца два, уж больно сильно они мне там мозги понакрутили своими таблетками. Но, слава Богу, пришёл в норму. Интересно, конечно, было бы узнать, защитил ли мой врач свою диссертацию и какую роль в ней сыграл некий идеальный шизофреник с творческими способностями, но как-то не хочется ненароком разочаровать теперь уже маститого ученого, в которого он, без сомнения, превратился.
Мой отчаянно смелый, но, надо прямо признать, крайне рискованный эксперимент закончился успешно, мне удалось избавиться от дамоклова меча призыва и при этом сохранить свой рассудок в добром здравии. Вероятно, в этом сыграло свою роль то обстоятельство, что к тому моменту я уже довольно длительное время практиковал йогу и занимался медитацией. Помогло в том плане, что в результате постоянных упражнений у меня накопился определённый опыт, как по своей собственной воле входить в особое психическое состояние, а главное – как выходить из него. Однако так экспериментировать с собственной психикой, особенно с помощью психотропных средств, я, конечно, никому бы не советовал. А то, глядишь, ушёл в себя человек и не вернулся, и где его искать, никому неизвестно».
Фактор пси
«В середине 80-х годов я был обычным сотрудником Института судебной психиатрии, – рассказывает кандидат медицинских наук Михаил Леонидович Самойлов, – работал, в основном, в составе комиссий по проведению психолого-психиатрических экспертиз в уголовных процессах. Работа была достаточно интересной, благо, ежедневного присутствия в стационаре она не требовала, некоторые исследования проводились и в амбулаторном порядке. Меня тогда вполне устраивали и содержание работы, и её условия, с одной стороны, они давали неплохой материал для диссертации и время для его анализа, а с другой стороны, позволяли избежать так называемой «профессиональной деформации», которая более вероятна при постоянном контакте с пациентами.
Словом, вся дальнейшая трудовая и карьерная перспектива для меня тогда была как на ладони. Но однажды произошло событие, перевернувшее с головы на ноги все мои представления о психиатрии, если не сказать больше. На первый взгляд, ничего экстраординарного не случилось. Позвонил бывший однокурсник по мединституту, Владимир, и попросил о профессиональной консультации, в порядке личного одолжения.
По телефону мой коллега коротко обрисовал, чем занимается их недавно созданная экспериментальная лаборатория и в чём, собственно, будет состоять моя задача. А занимались они серьёзным изучением паранормальных способностей человека. Я не слишком удивился, поскольку в те годы достаточно явно наблюдался то ли информационный всплеск, то ли информационный «вброс», как сейчас говорят, но эта тематика, экстрасенсорика, вдруг перестала считаться табу. Истории об экстрасенсах и современных магах-целителях стали любимой игрушкой и бумажной прессы, и телепередач. На этой волне, будто хлынувшей из разрушенной плотины, тогда поднялось, конечно, много пены, но была и очевидная польза – к тем, кто активно интересовался необычными и неизученными способностями психики человека, а тем паче к людям, которые слышали «голоса», читали или передавали мысли на расстоянии, перестали относиться как к клиническим параноикам.
Видя сегодняшнее скептическое отношение публики к одному лишь слову «экстрасенс», даже не будучи записным конспирологом, рискну предположить, что отчасти здесь имел место и классический «наброс на вентилятор», выражаясь блогерским языком. И сейчас лично для меня уже вполне очевидно, что цель дискредитации парапсихологии (и самого явления как такового, и результатов его научного изучения), в общем-то, достигнута. Видимо, этому были причины, о которых можно лишь догадываться. Ну да не об этом сейчас речь.
Короче говоря, мой приятель был энтузиастом своего дела, и в той, вполне академической лаборатории, которые тоже стали тогда появляться в некотором числе, они пытались найти научный подход для изучения паранормальных способностей, проводили психофизиологические исследования «операторов», как они называли людей, обладавших такими талантами. Меня же он попросил провести в частном порядке обычную психиатрическую экспертизу испытуемых, на предмет наличия или отсутствия явных клинических признаков каких-либо психических заболеваний. Задача показалась мне как минимум любопытной, и я согласился. Симптоматики серьёзного умственного расстройства ни у одного из тестируемых экстрасенсов я не обнаружил, хотя некоторые из них и проявляли определённые невротические реакции, отличные от обычного поведения среднестатистического советского гражданина. Подчеркну, моей целью не было глубокое исследование личности испытуемого и составление его подробного медико-психологического портрета, лишь отсев явных, классических случаев заболеваний.
Эти консультации не были для меня слишком обременительными, я с удовольствием помогал коллеге. Со временем, всё больше общаясь с этой группой энтузиастов и погружаясь в суть их экспериментов, я постепенно увлёкся процессом. Больше всего меня зацепила тогда сама идея – найти абсолютно научные, т. е. объективные и измеряемые, доказательства существования парапсихических явлений. Попробую пояснить, почему.
НАЙТИ НАУЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
СУЩЕСТВОВАНИЮ ПАРАПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ —
«ЗОЛОТАЯ» МЕЧТА
МНОГИХ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ.
Основной вопрос философии, об отношении сознания и материи, думаю, никогда не потеряет своей актуальности, сколько бы веков над ним ни бились самые светлые умы человечества и сколько бы концепций его разрешения они ни создавали. Когда мы говорим о парапсихологических способностях человека, то речь, по сути дела, здесь как раз идёт о явлениях или событиях, происходящих в некой неизвестной области между сознанием человека и материей окружающего его мира, каким-то образом связывающих, соединяющих эти два неизвестных. Вот это взаимодействие сознания и психики человека с элементами материального, физического мира, а точнее, воздействие на него, собственно, и было предметом экспериментов.
Я вдруг увидел, что коллеги Владимира, не задаваясь тем самым сакраментальным философским вопросом, интуитивно пошли от первичности сознания и искали объективные доказательства его влияния на материю, используя имеющиеся в то время приборы и создавая новые для регистрации отражения парапсихических явлений в физической среде. Признаюсь, я всегда был скептиком и сначала с недоверием относился к происходящему в лаборатории. Но одна простая мысль в конечном счёте заставила меня пересмотреть своё отношение и к парапсихологии, и к своей работе в целом.
Мне тогда подумалось, что психиатрия как наука всегда строилась исключительно с позиций материализма, ещё со времён Гиппократа, который объяснял психические болезни нарушением смешения жидкостей в организме. И сегодня мы по-прежнему пытаемся объяснять умственные расстройства причинами органического порядка, теми или иными нарушениями в работе мозга, например. Не это ли обстоятельство является причиной катастрофического состояния психиатрии на нынешний день? А ведь оно, если говорить честно, именно таково. Иначе почему в психиатрии мы не видим каких-либо революционных прорывов, сравнимых, например, с открытием ДНК или вирусов? Смешно сказать, но более чем за столетие среди лауреатов Нобелевской премии в области медицины (а это 201 человек) – лишь один единственный психиатр, Юлиус Вагнер-Яурегг. Эта премия австрийскому психиатру была присуждена в 1927 году за разработку лихорадочной терапии лечения прогрессивного паралича, тяжёлого психоорганического заболевания. На самом деле, это, конечно, совсем не смешно, а очень печально.
Печально потому, что психиатрию, по строгим меркам, вообще некорректно называть ни наукой, ни медициной, она не являет собой систему «научных знаний», то бишь объективных фактов действительности. Это, пожалуй, единственная отрасль медицины, в которой распознавание болезней имеет вероятностный и субъективный характер, во многом она до сих пор подобна слепцу, бредущему наугад по лесной чаще. Мы блуждаем в потёмках, пытаясь на ощупь отыскать новые способы диагностики и лечения болезней. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что» – мне порой кажется, что эта формула как нельзя лучше характеризует принцип развития психиатрии. Ведь вся диагностика здесь основана исключительно на клиническом методе – сборе анамнеза, беседах с пациентом, различного вида тестированиях. Психиатрия не является доказательной медициной – у нас нет такого рентгена, которым можно было бы просветить душу человека, чтобы увидеть все её переломы.
Более того, мы говорим о «душевных болезнях», не имея понятия о том, что есть душа. Мы лечим «нарушения мышления», а представляем ли хотя бы в общих чертах, как оно должно функционировать, каковы его механизмы? Да и на сегодняшний день картина мало изменилась. С середины прошлого века учёные всерьёз говорят о создании искусственного интеллекта, и не только говорят, но и успешно работают, и в наши годы уже вплотную подошли к этому. А что мы знаем об интеллекте самого человека? Знаем ли мы, как рождается, живёт и умирает наш собственный разум?
Вопросы, вопросы, вопросы… Словом, подобная цепочка рассуждений и привела меня к осознанию «тщетности всего сущего» (в психиатрии) и необходимости кардинальных перемен в этой области медицины (если мы хотим её считать таковой). Вспомнив, что отправной точкой моего критицизма послужил основной вопрос философии, я решил использовать её в качестве точки опоры и… перевернул весь свой собственный мир. Ведь если принять, что первично именно сознание, то все симптомы психических болезней становятся логичным и вполне материальным следствием нарушений его функционирования. И не только психических болезней. И если (а вернее, когда) нам удастся создать глобальную, всеобъемлющую модель работы сознания человека, это реально позволит психиатрии вступить на качественно новый уровень, и мы сможем не только достоверно диагностировать заболевания, но и по-настоящему излечивать их, а не купировать симптоматику подбором препаратов.
СЕГОДНЯ ПСИХИАТРИЯ РАБОТАЕТ ПОДОБНО МНОГИМ
ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ —
ОНА СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ НА РАБОТЕ С СИМПТОМАМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, А НЕ С ЕГО ПЕРВОПРИЧИНОЙ.
Конечно, когда я говорю о построении глобальной модели сознания, я подразумеваю, что она должна включать в себя не только (и не столько) сведения, которыми мы сегодня обладаем о психике человека, о его мышлении и восприятии. Сюда должны войти знания, которые нам только предстоит получить благодаря исследованиям в области биохимии и нейрофизиологии мозга, биоэнергетики и экстрасенсорики, энергоинформационных технологий. А также и в других отраслях науки, которым ещё не придумано названий и которые, скорее всего, родятся на стыках прежних.
При этом не стоит отметать тысячелетний опыт собственной цивилизации, его нужно лишь переосмыслить в новом контексте. Душевные болезни были известны испокон веков, их лечили жрецы и Древнего Египта, и Древней Индии, можно вспомнить и более поздние истории, например, о таком известном целителе, как Иисус. Ведь вполне может статься, что рассказы об одержимости демонами и изгнании бесов не являются лишь религиозными бреднями, а имеют под собой реальную основу, стоит лишь перевести их на современный язык. И тогда в такой «одержимости» мы увидим, например, типичный случай заражения личности с ослабленным психическим иммунитетом каким-нибудь самым банальным энергоинформационным вирусом. Кто знает…
И кто знает, как изменится общепринятая картина мира, к каким новым теориям нас может привести изучение каналов и механизмов взаимодействия сознания и материального мира, особенно если помнить древние как мир принципы «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста. В полной мере это ожидание появления кардинально новых концепций и школ я отношу и к психиатрии, так что для активной познавательной деятельности в этом направлении впереди огромное непаханое поле».
Девиации и трансформации
«Говоря о психиатрии, следует иметь в виду ещё такой немаловажный аспект, – размышляет врач-консультант Центра психосоциальной реабилитации Пётр Павлович Тихомиров, – психическими заболеваниями, в общем смысле, считаются различные отклонения от нормы, будь то расстройства личности, нарушения мышления или девиантное поведение. И тут мы ступаем на зыбкую почву неопределённости, готовую в любой момент уйти из-под наших ног, поскольку мы пытаемся опереться на понятие, столь же изменчивое и подвижное, как вода. Ибо что есть эта самая норма?
У каждого человека своё понимание нормы и её границ. Для кого-то норма – подкармливать и спасать беспомощных медведей, попавших в ловушку в затопленном паводком зоопарке, для других – разбрасывать отравленное мясо для собак и бездомных кошек. Где-то разрабатывают уникальный протез хвоста для раненного дельфина, и благодарное животное становится самым убедительным символом борьбы за полноценную жизнь для людей с серьёзными травмами и ампутациями конечностей и для детей с ДЦП. А где-то публичное убийство жирафа путём забивания в его голову гвоздей из строительного пистолета с последующей разделкой трупа бедолаги и скармливания его львам преподносится как новаторский детский образовательный проект.
Видите, насколько растяжимо само понятие «норма»? И конечно, главенствующую роль здесь играет социум. Разные времена, разный уровень развития общества и разные культуры диктуют человеку свои нравственные критерии и свои рамки дозволенного, которые к тому же могут изменяться – и естественным эволюционным путём, и в результате разного рода манипуляций общественным мнением. Ещё полвека назад гомосексуализм, например, считался психической патологией и в ряде цивилизованных стран подлежал законодательному преследованию и принудительному лечению, сегодня же мы видим, какие колоссальные усилия и ресурсы прикладываются к тому, чтобы укоренить в обществе восприятие его на уровне «это нормально».
Здесь нужно ещё понимать, что, по сути, сейчас мир вступил в новую фазу своего существования, когда одним из глобальных факторов влияния на развитие общества и мощнейшим инструментом его трансформирования становится информация. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» – эти слова отца кибернетики, Норберта Винера с появлением интернета обрели новый смысл. И не случайно их часто приписывают основателю династии Ротшильдов, ведь управление информационными потоками (а через них – общественным сознанием) в наш век уже стало «высокими технологиями», приносящими как колоссальную прибыль, так и ощутимые идеологические и политические дивиденды.
ИНФОРМАЦИЯ – ГЛАВНЫЙ СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, НАСТРОЕНИЙ,
ПРИВЫЧЕК И ПОНЯТИЯ «НОРМЫ».
В своё время, когда я всерьёз заинтересовался существующими сегодня методами воздействия на общественное мнение и технологиями управления сознанием в целом, для меня стало настоящим откровением знакомство с концепцией «окон Овертона». Мысль о том, насколько пластичными могут быть границы допустимого обществом, помню, повергла меня тогда в шок. Я увидел, что, имея определённые ресурсы и последовательно применяя такую технологию, можно со временем заставить общество признать этической нормой любую дикость, любое абсолютно неприемлемое сегодня действие. А потому не удивляйтесь, если лет этак через двадцать «это нормально» будут говорить, например, о педофилии, не дай Бог, конечно. Так что, всё относительно. Но хуже всего относительность самой относительности.
Однако я отвлёкся. Собственно говоря, столь же плавающими оказываются и понятия нормы и девиации, которыми оперирует психиатрия. Такая жёсткая привязка к социуму неизбежно ставит психиатрию в зависимое, а порой и подчинённое положение по отношению к нему. В этом смысле совершенно не удивительно (как бы ни хотелось об этом умолчать), что психиатрия в разные годы, в частности, в середине прошлого века, использовалась как карательный инструмент государства в борьбе с инакомыслием, что в США, что в СССР. Безусловно, это не могло не вызвать обратной реакции, и мы ясно видим, насколько и по сей день сильны посеянные в те годы недоверие и скептицизм в отношении к психиатрии, а зачастую и непринятие профессиональной помощи. Даже в тех ситуациях, когда человеку она жизненно необходима.
Если вернуться к тем критериям нормы, на которые опирается психиатр при постановке диагноза, то наиболее чётким из них мне представляется готовность человека причинить непосредственный вред здоровью – своему или окружающих. Это понятно и логично. Когда расстройство психики отдельного индивида несёт в себе прямую опасность для социума, тот включает режим самосохранения. Как и биологический организм, он стремится изолировать и отторгнуть больные клетки или чужеродные тела. Так, например, в Европе в Средние века просто собирали всех психов на корабль и пускали его по реке, пусть себе плывут как угодно, лишь бы сплавить их из города.
Иллюстрация из практики. Был у нас в Центре на реабилитации один старичок-лесовичок, как его за глаза называл персонал. Так он в период ремиссии просто разговаривал с фикусами в отделении или с деревьями на улице. Ну, разговаривает себе, и ладно, может, он друид в душе, никому это не мешает. А изначально в больницу его привезли в острой фазе, когда он набрасывался на прохожих, палкой сгоняя их с тротуара. Милиционеры потом сказали, что он так спасал дождевых червей, повыползавших на асфальт погреться на солнышке. Вот это, по-моему, и есть самый характерный критерий того, что можно считать отклонением от нормы».
Гармония и порядок
Что же сегодня психиатр может противопоставить той самой «разрухе в головах», которая неминуемо ведёт к хаосу и разрушению не только психики отдельного человека, но и всего общества, цивилизации и мира вообще? Самое главное и самое, наверное, сложное – понимать и помнить, что сознание каждого человека есть частичка космического разума, фундаментальным свойством которого является гармония. И в каждом пациенте, каким бы помрачённым ни было его сознание, важно увидеть эту самую искру Высшего разума (Бога, Абсолюта, Космического сознания – нужное подчеркнуть) и помочь ей разгореться.
У человека, соприкоснувшегося с хаосом, могут быть полностью разрушены или сильно искажены какие-то структуры сознания. Всё зависит от того, насколько жёсткому воздействию оно подверглось. И если есть надежда, что разум пациента ещё не поглощён хаосом окончательно, можно попытаться вернуть его. Это тяжёлый труд, который требует от врача значительных затрат собственной душевной энергии и огромного терпения, а главное – строгого порядка и гармонии в собственной психике.
ТОЛЬКО САМ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ
К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
ЗАДАЧА ПСИХИАТРА – ВЫСТРОИТЬ МОСТИКИ,
ПО КОТОРЫМ СОЗНАНИЕ СМОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬСЯ,
ПРЕОДОЛЕВ ХАОС.
Не нужно бороться с хаосом, вести с ним активные военные действия, подавляя очаги беспорядка – пилить опилки бессмысленно. Хаосу, посеянному в сознании пациента, нужно противопоставлять гармонию, внедряя её туда различными путями, через те каналы восприятия, которые у больного ещё открыты. И двигаться можно только этим путём, купируя зоны хаоса и вытесняя его энергии. Шаг за шагом, пока не удастся создать островок гармонии и порядка, который в дальнейшем будет увеличиваться, становиться более стабильным, и в конце концов сможет начать самовоспроизводиться, восстанавливая разрушенную ранее связь с внешним миром и всеобщей гармонией.
Планета разумных
Хаос и порядок, красота и гармония, норма и её границы – затронув эти понятия, трудно обойти стороной такую категорию, как смысл жизни, ведь она тоже непосредственно касается объекта психиатрии – личности человека. «Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы, – писал Антуан де Сент-Экзюпери в своей потрясающей книге «Планета людей». – Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что даёт смысл жизни, даёт и смысл смерти».
Каждый человек в одиночестве стоит перед вопросом о смысле своей собственной жизни, решить его для себя может только он сам, и говорить об этом каждый может лишь за себя. Но когда мы касаемся смысла существования человечества не как биологического вида, а как подобия или проекции Высшего разума, становится очевидным, что невозможно найти иного смысла, помимо познания, творения и совершенствования вселенных – и тех, что снаружи, и тех, что внутри нас.
Это априори путь созидания и развития, но, пристально вглядевшись в объективную реальность сегодняшнего мира, крайне сложно отделаться от слов песни Виктора Цоя: «Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума». Оставим за скобками те силы и энергии, которые разрушают изначальную программу человеческого сознания и искажают направление его усилий – эта тема слишком глобальна и в большей степени она имеет отношение не к душевным болезням, но к духовным.
Духовные болезни современной цивилизации психиатрия, к сожалению, излечить не в состоянии, но вот что она действительно может и должна делать, так это бороться за каждую искорку сознания, утопающую во мраке. Дабы не превратилась планета обитания вида homo sapiens в пресловутый «корабль дураков», бесцельно плывущий по рекам безумия в океан хаоса.
7. РЯДОВЫЕ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
Эта глава о самых «важных» врачах в наших буднях – о терапевтах – и их подвигах
Связующий мостик
Так уж сложилось, что отношение к терапевтам, как правило, не самое уважительное. То ли дело хирурги, кардиологи, реаниматологи – вот где настоящая медицина! И мало кто осознаёт, что от самого, казалось бы, ординарного врача, может зависеть не только здоровье, но и жизнь пациента – ведь именно терапевт часто на ранней стадии распознаёт тяжёлое заболевание и своевременно назначает лечение.
Современная медицина разделена на узкопрофильные секторы, и большинство специалистов нарабатывает и совершенствует мастерство в своих областях, нередко имея лишь общее представление о смежных. Терапевт же играет роль связующего, спасительного мостика между этими обособленными островами огромного медицинского архипелага. Терапевт свободно ориентируется в медицине в целом и в случае надобности направляет пациента на обследование к соответствующему узкопрофильному специалисту или на госпитализацию.
Легендарные врачи прошлого – Гиппократ, Гален, Авиценна, Парацельс – изучали анатомию, ботанику, алхимию, хирургию, анализировали и переосмысливали знания, накопленные предшествующими поколениями, таким образом создавая подлинную медицинскую науку. В нынешнем представлении каждый из них был именно терапевтом – специалистом, аккумулирующим всю сумму знаний различных медицинских направлений.
Да что там Гиппократ! Самый известный доктор современности, который уже упоминался в одной из глав, Хаус – тоже был терапевтом.
Мастер Маргарита
«Впервые я увидела, как многое зависит от терапевта, ещё в детстве, – рассказывает врач-терапевт Антонина Вольшанская. – Эта история напрямую коснулась моей семьи. Мама однажды почувствовала себя так плохо, что не смогла пойти на работу, и вызвала врача. Ей быстро становилось хуже, болел верх живота, тошнило, она чувствовала сильную слабость, температура поднялась до 37,8 градусов. Я очень беспокоилась за маму, потому что впервые видела её в таком состоянии.
Наконец, к обеду в дверь позвонили. Молоденькая девушка в белом халате, поверх которого было небрежно наброшено лёгкое, тоже белое, весеннее пальто. Девушка представилась доктором и, скинув своё изящное пальто и слегка поправив перед зеркалом модную причёску, прошла к больной, наполняя квартиру чарующим благоуханием духов.
После недолгого обследования она заключила, что у мамы острая форма гастрита, выписала ей больничный, рецепт и назначила явиться к ней на приём через три дня. Доктор успокоила нас, сказав, что ничего страшного нет, и очень скоро всё придёт в норму. После чего мило улыбнулась и выпорхнула из нашей квартиры, словно прекрасная экзотическая бабочка.
Своим внешним видом она произвела на ребёнка сильное впечатление, и я сразу захотела стать такой же красивой, изящной и знающей своё дело доктором. Но встреча с настоящим врачом, действительно повлиявшим на мою судьбу, произошла чуть позже.
Я сбегала в аптеку, мама выпила лекарства, но ничего не улучшилось, напротив, ближе к вечеру стало совсем плохо.
Вдруг в дверь позвонили. На сей раз пороге стояла пожилая женщина из квартиры напротив. Она давно была на пенсии и жила одна. Не помню, зачем она тогда к нам зашла, то ли за солью, то ли за содой, но это стало спасением.
Узнав ситуацию, она вся преобразилась, и вместо скромно одетой, тихой пенсионерки я увидела предельно собранного, уверенного в себе человека. Оказалось, Маргарита Ивановна всю жизнь проработала рядовым терапевтом в поликлинике. Правда, не совсем рядовым – в своё время о её феноменальном мастерстве диагностирования легенды ходили. Об этом маме позже рассказал в больнице кардиолог, который, оказалось, хорошо знал нашу спасительницу.
Маргарита Ивановна сходила домой за инструментами, измерила маме давление и пульс, послушала через свой старенький стетоскоп, прощупала область живота, а затем сказала, что маме необходимо немедленно ехать в больницу, но волноваться не стоит – всё будет хорошо. Дала какую-то таблетку под язык, потом пошла к телефону и вызвала «скорую помощь», коротко с ними переговорив. Меня она отослала собирать необходимые для больницы вещи.
Как выяснилось, у мамы случился атипичный инфаркт миокарда, который не всегда удаётся сразу диагностировать. Если бы её не отвезли в больницу, вероятнее всего, спасти бы уже не удалось. Я очень благодарна Богу за то, что в этот вечер у Маргариты Ивановны кончилась соль и позвонила она именно в нашу дверь.
Я часто к ней заходила, пока мама была в больнице, мы подолгу беседовали. Она рассказывала о своей жизни и работе, разные забавные случаи из практики, а также удивительные сюжеты об истории врачевания – от самой древности до наших дней. Эти рассказы были настолько захватывающими, что я всерьёз заинтересовалась медициной и уже не мыслила своей дальнейшей жизни без неё.
Когда маму выписали, Маргарита Ивановна помогала ей полностью восстановиться.
Через пару лет мы переехали в другой город, и с Маргаритой Ивановной больше не виделись. Но я навсегда сохранила в сердце образ этой удивительной женщины, умной, грамотной, в высшей степени образованной, настоящего врача, готового бороться с любым недугом и побеждать.
Я закончила мединститут и стала терапевтом, как Маргарита Ивановна, мой первый учитель, чей пример вдохновил меня связать свою жизнь с медициной».
Кабинетное ремесло
После окончания института ты ещё не врач, несмотря на то, что у тебя в сумочке лежит новенькая корочка, пусть даже с отличием, – говорит педиатр Валентина Сурикова. – Ты ещё ни малейшего понятия не имеешь, как применять на практике все эти теоретические знания. Разумеется, это не значит, что полученные в течение нескольких лет упорного труда знания бесполезны. Они будут востребованы, но чуть позже, когда ты уже станешь практиковать. Ты начинаешь себя ловить на том, что эти знания неожиданно сами собой всплывают в голове именно тогда, когда в них возникает необходимость. Но сначала нужно набраться практического опыта, набить руку. Для этого и существует ординатура.
Когда я поступила в ординатуру, случился настоящий шок. Я видела перед собой больного ребенка и не могла заставить себя к нему подойти – груз ответственности так давил на меня и лишал возможности что-либо делать.
Потом, далеко не сразу, всё это прошло. В ординатуре я начала познавать ремесло. Именно ремесло. Формировалось умение, развивалась профессиональная интуиция. А дальше уже приходит на помощь накопленный опыт.
ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЧУЖИЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕСЛЕДУЮЩЕЕ ВРАЧА ДНЕМ И НОЧЬЮ, —
НЕЛЕГКИЙ ГРУЗ, НЕСТИ КОТОРЫЙ
ПОД СИЛУ ДАЛЕКО НЕ КАЖДОМУ.
Вторая ломка случилась со мной, когда я проходила амбулаторную практику. В стационаре проще – назначаешь больному необходимые лекарства и уходишь. При этом тебе не видны результаты собственного труда. В амбулатории же всё иначе, ты полностью ведёшь пациента с момента обращения до выписки. И мой второй шок был связан с осознанием того факта, что вот я назначила больному лечение, выписала лекарство – и ему действительно стало лучше. Несмотря на кажущуюся простоту, это очень сильное потрясение.
Чтобы выбрать для пациента правильное лечение, медики, в основном, работают по стандартам. Существуют определённые шаблоны, специализированные книги, в которых всё обстоятельно прописано Минздравом, что, как и при каком диагнозе делать, все дозировки и схемы. Это если следовать. И всё было бы замечательно, если бы болезни всегда вписывались в стандартные схемы – открыл нужную страничку, сверил симптомы, поставил диагноз. Дальше – списал дозировки в карту и дело в шляпе, больной здоров.
Понятно, что в реальности всё на порядок сложнее – и симптоматика бывает сходной у разных заболеваний, а, может, и вовсе не проявляться, и на лечение разные пациенты по-разному отвечают. Так что, следуя лишь одним шаблонам, человека не вылечишь. Поэтому мозг врача функционирует как огромный суперкомпьютер, и вот эта колоссальная внутренняя работа и называется – диагностика. У тебя в голове запускается сложнейший механизм поиска оптимального решения, а на выходе получаешь, образно говоря, некую «перфокарту» с назначениями лекарств и процедур.
Однако не стоит забывать, что в деле лечения непременно должна участвовать душа, без этого никак не обойтись. Иногда посмотришь в глаза ребёночку, возьмёшь на руки, улыбнёшься и чувствуешь, как возникает с ним контакт, который даёт тебе возможность что-то понять в состоянии этого крохотного существа и помочь ему. Душа здесь подобна смазочному материалу для шестерёнок логических решений.
Конечно, несмотря на весь накопленный опыт, ты не застрахован от сомнений и страха, что принятое решение может оказаться ошибочным. Это, пожалуй, самое неприятное в нашей работе ещё и потому, что ты не имеешь права показать свой страх и колебания – ни пациенту, ни его родителям. Если на твоем лице ненароком промелькнёт даже тень сомнения или неуверенности, то когда родители с ребёнком выйдут из кабинета, эти сомнения словно зараза разрастутся в них. Что может полностью перечеркнуть любое, даже самое правильное лечение.
Другая крайность – когда узнаёшь, что назначенное тобой лечение не выполняется. Я в таком случае бываю очень жёсткой, потому что игнорирование предписаний непременно доведёт до беды.
Главные инструменты врача – это уши, глаза и все прочие органы чувств, ведь большую часть исследования ты произвёл ещё до того, как взял в руки стетоскоп. Осмотр пациента начинается буквально с первой его минуты в кабинете – мы смотрим, как заходят люди, как садятся, помогает ли мама ребенку раздеться. Все эти, казалось бы, мелочи фиксируются и помогают в дальнейшей постановке диагноза – подобные детали часто бывают необычайно важны.
Все болезни так или иначе начинаются с души или в значительной мере её касаются, поэтому лечить первоначально надо именно душу, это прежде всего. Если мы возьмем пять разных людей, заражённых одинаковой патогенной бактерией, то получим пять различных вариантов развития одной и той же болезни. Это будет зависеть от множества факторов: от иммунной системы, наследственности, психологической атмосферы в семье и даже от того, как часто мама целует своего малыша. Именно поэтому вся система лечения по шаблонам – это уровень фельдшера, но не настоящего врача.
Во время приёма пациентов действует принцип медицинской сортировки: сначала идут тяжелораненые, потом лёгкие. И это правильно, однако здесь тоже есть определённые «но». Допустим, в очереди у моего кабинета два пациента – одна мамаша, которой нужно просто поговорить, а за ней другая, у которой ребёнок с температурой под 40. Я, конечно же, не буду два часа первую успокаивать, постараюсь закончить разговор или перенести и приму тяжелобольного ребёночка. Если же пойти чуть дальше и поставить вопрос – что важнее, болезни души или болезни тела, то ответить на него будет чрезвычайно трудно, почти невозможно. А такие ситуации на практике зачастую возникают, и вопрос подобного выбора – совсем не умозрительный.
ВСЕ БОЛЕЗНИ НАЧИНАЮТСЯ С ДУШИ.
ПОЭТОМУ И ЛЕЧИТЬ СНАЧАЛА НУЖНО
ИМЕННО ДУШУ.
Случай, который я привела в пример, произошёл у меня на практике. И первая мама была в очень плохом психическом состоянии, совершенно подавленная. В подобном положении страшнее всего то, что оценить степень тяжести стресса и его возможные последствия может только по-настоящему хороший врач, для этого нужно быть ещё и психологом. От того, что у неё нет температуры, она отнюдь не в меньшей опасности находится. Представьте, что я не стала бы с ней нянчиться, а она пошла бы и наложила на себя руки? И что, после этого я бы себя оправдывала тем, что побежала сбивать температуру у ребёнка? Поговорить и выслушать её было крайне важно, ведь выставить за дверь такую мамашу равно что её убить.
Вспоминается другая, несколько схожая ситуация, когда ребёнку помощь требовалась в значительно меньшей степени, нежели маме. Эта мамочка привела на прием ребёнка и рассказывает, что год назад у неё нашли серьёзные проблемы с сердцем и теперь она просто уверена, что у её дочери оно непременно тоже болит. Понятно, что здесь нужно лечить не девочку, а её маму, и лечить, в первую очередь, словом. Консультация тогда заняла у меня почти полтора часа.
Большинство наших болезней родом из детства. Это касается не только хронических заболеваний, но и психического состояния. Ведь болезнь – это не только температура, боль и нарушения в работе органов. Болезнью также можно назвать, допустим, острую нехватку папы. Или другой пример. Родители порой часто балуют ребёнка и разрешают ему практически всё, а в итоге у него возникают истерики, он начинает постоянно капризничать. Казалось бы, почему? А всё просто – разумные запреты ребёнок интуитивно воспринимает как заботу о нём. А если такой заботы, читай, запретов нет, он чувствует себя ненужным. И вот эта подсознательная ненужность со временем приобретает болезненную форму, которая калечит организм – сначала на психическом уровне, а затем переходит и на соматический.
Самое распространённое представление о враче – это непременно скальпель-зажим-тампон, разряд-ещё разряд. По факту же в эти рамки экстренной помощи вписывается не более пяти процентов всей медицинской практики. Реанимация, кровь, операции – это всё лишь верхушка айсберга. Настоящая медицина в другом. Вот история той женщины, с которой я беседовала полтора часа, она достаточно скучная, но именно это, по моему мнению, и есть настоящая медицина.
У нас ведь как заведено – если мы утром выходим на улицу, а там снега по колено, мы сразу же начинаем возмущаться и ругать коммунальщиков: «Вот лодыри! Почему снег не убрали?» Если же дороги и тротуары расчищены, мы этого просто не замечаем, считая что это в порядке вещей.
Так и в нашей профессии. Простые амбулаторные врачи лечат, ведут пациентов изо дня в день, преодолевая стрессы и полностью отдаваясь любимому делу. Не думаю, что кто-то из мамочек будет часами рассказывать подружкам, как они ходили к педиатру на прививки и сдавали анализы. Вот если чадо вдруг попадёт на операционный стол, даже в случае самого банального аппендицита, это событие долго будет в центре внимания и обсуждения в кругу её знакомых. Запомнят же из всей этой истории, конечно же, лишь хирурга.
При этом никому даже в голову не приходит простая мысль – для того, чтобы ребёночек не оказался под скальпелем хирурга, работаем именно мы, кабинетные врачи. Но об этом почему-то совсем не принято говорить, это нечто само собой разумеющееся. Дорожки расчищены – вот и славно».
Первый эшелон
«В отечественной медицине есть много громких фамилий, среди них – хирурги, кардиологи, психиатры, – рассказывает участковый терапевт Анастасия Нестерова. – В их честь называют больницы, улицы, открывают памятники. Направления медицины, ими представленные, всегда на слуху, их достижения часто в центре внимания СМИ, а вот обычные амбулаторные врачи неизменно остаются за кадром. И это при том, что любой человек, когда у него возникают проблемы со здоровьем, в первую очередь идёт в районную поликлинику к терапевту.
Как это ни обидно, но у большинства людей не слишком уважительное отношение к врачам-терапевтам, особенно к участковым. Нас чуть ли не обслуживающим персоналом считают. Этот менталитет сложился в советское время и во многом подкреплён нашей государственной системой здравоохранения. Только когда сам пациент видит, что с ним работает действительно серьёзный профессионал, по-настоящему квалифицированный специалист, он начинает понемногу менять своё мнение.
ЗАДАЧА ТЕРАПЕВТА: ЗА 15 МИНУТ ПРИЕМА
ПОСТАВИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
(ОШИБКА МОЖЕТ БЫТЬ ЧРЕВАТА
САМЫМИ ТРАГИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ),
НАЗНАЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ АНАЛИЗЫ И РЕШИТЬ,
КУДА НАПРАВИТЬ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ДООБСЛЕДОВАНИЯ.
ВЫ БЫ ТАК СМОГЛИ?
Кроме того, люди всегда чувствуют отношение к ним врача, и если вы вкладываете в дело частицу души, это не остаётся незамеченным. Как бы то ни было, а я всегда переживаю за каждого своего пациента. Бывают, разумеется, и такие больные, за которых вроде бы и не стоит особенно волноваться, потому что у них, на первый взгляд, всё в относительном порядке. Но я и здесь стараюсь быть предельно внимательной и не пропускать даже самые незначительные симптомы, которые порой могут показаться сущей мелочью. Ведь если приглядеться, именно за такими мелочами нередко может скрываться большая проблема.
Бывает иногда, что приходится оспаривать диагноз, поставленный другим врачом. Когда я подозреваю, что диагноз неверен, и эта ошибка может реально угрожать здоровью и жизни пациента, закрывать на это глаза я не имею права.
Однажды ко мне по ошибке попал рентгеновский снимок больного с другого участка. Прежде чем отдать снимок медсестре, чтобы она отнесла его лечащему врачу, я, конечно же, не могла его не посмотреть. На снимке были заметны некоторые признаки, позволявшие предположить тромбоэмболию лёгочной артерии, и в расшифровке рентгенолога они присутствовали. Я сама решила подойти со снимком к коллеге, чтобы уточнить результаты осмотра и убедиться в своём диагнозе. Каково же было моё недоумение, когда выяснилось, что лечащий врач диагностировала у больного всего лишь пневмонию. Я была вынуждена достаточно резко переговорить с коллегой, настояла, чтобы она незамедлительно вернула пациента и исправила свою ошибку.
В итоге пациент остался жив, его вовремя госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь. Я тогда опасалась, что своим вмешательством серьёзно испортила отношения с коллегой, но вышло наоборот – она была очень признательна за то, что я уберегла больного и её саму от врачебной ошибки и роковых последствий.
Случается и так, что спустя некоторое время я сама могу изменить свой собственный диагноз. Например, подозреваю у пациента ту же самую пневмонию, но при этом ничего особенного в лёгких не слышу. А через пару дней получаю клиническую картину на фоне антибиотиков и соответственно ей при необходимости могу пересмотреть первоначальный диагноз.
Правильная постановка диагноза – главное для успеха в лечении, это одна из ключевых задач нашего первого эшелона медицины, участковых терапевтов. Порою я ощущаю себя стрелочником из «Маленького принца». Помните? «Что ты делаешь?» – «Сортирую пассажиров». Если ты верно определил основную проблему, направил пациента к нужному специалисту или назначил соответствующее обследование – лечение имеет все шансы стать результативным. Если же ошибся и перевёл стрелку не туда – может катастрофа произойти, потому что драгоценное время будет упущено.
Например, как-то раз вызвали меня к пациенту на дом. Жена больного плачет и сбивчиво мне объясняет, что мужу очень плохо, что у него недержание мочи и сильная боль. С её слов, за день до меня приезжала «скорая помощь» и врач диагностировал цистит. Больной – худощавый мужчина, лежит в памперсе, натянутом до самого пупка. Чтобы посмотреть его живот, я расстёгиваю памперс, а там почти под самым лобком начинается огромная гора. И эта гора – мочевой пузырь, причём совершенно переполненный. Такое называют парадоксальной ишурией – моча немного подтекает непроизвольно, но вот самостоятельно опорожнение невозможно. На самом же деле у больного была аденома простаты и его мочевую систему просто-напросто заклинило. Пришлось вызвать «скорую», чтобы немедленно поставить ему катетер.
Вот ещё случай. У пожилой женщины был сильный кашель и просто заоблачная температура, при этом анализы выявили высокий показатель СОЭ. Мне тогда достаточно серьёзно пришлось повозиться с этой пациенткой. Выяснилось, что родственники уже вызывали к ней врача на дом с жалобами на то, что у неё ни с того ни с сего сильно отекала нога. В тот раз врач решил, что она элементарно отлежала ногу, вот и всё. Когда на следующий день я её осматривала, она была почти без сознания, но периодически открывала глаза и в полубреду называла меня каким-то неведомым именем. К тому же при прослушивании сердцебиения обнаруживались мерцания. Состояние больной я сочла угрожающим, решила её срочно госпитализировать. В больнице с ней тоже довольно долго мучились, и в итоге оказалось, что у нее саркоидоз лимфоузлов.
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРАПЕВТА
БЫВАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА НЕПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫЙ
ДИАГНОЗ МОЖЕТ СТОИТЬ КОМУ-ТО ЖИЗНИ.
И С ЭТИМ ПРИХОДИТСЯ СУЩЕСТВОВАТЬ ДАЛЬШЕ.
Разные истории случались, и далеко не все они, увы, заканчивались благополучно. Был у меня однажды на приёме пациент с температурой, 37,6. Помню, бросилось в глаза, что у него какая-то нездоровая бледность. Назначила ему забор крови и на всякий случай выписала антибиотики, несмотря на то, что ничего особенного ни в лёгких, ни в бронхах я не услышала.
Когда же получила готовые анализы, то картина была какая-то совсем уж некрасивая: низкий гемоглобин, лейкоциты нехорошие, формулы дурные. Я по этим анализам сразу поняла, что лечение на дому успехом не увенчается. Тогда я его госпитализировала, под надуманным диагнозом пневмония, хотя и предполагала, что там даже и близко нет никакой пневмонии. Главное было немедленно поместить его в хороший стационар, где есть возможность провести тщательное обследование.
Положили пациента в ведомственную больницу, и я была совершенно уверена, что теперь у него всё будет в порядке. Периодически отслеживала его состояние по электронным историям болезни, но в какой-то момент закрутилась и на несколько дней выпустила его из виду. И потом в коридоре поликлиники подходит ко мне знакомый врач и говорит, что пациент мой в больнице умер.
По сути, моей вины в этом не было, я госпитализировала его в хорошую больницу, где есть МРТ, все профильные специалисты, прекрасная реанимация и тому подобное. И все эти специалисты четыре недели искали причину болезни, но так и не смогли её обнаружить. Они написали «онкопоиск», но в результате никакой выраженной онкологии тоже не нашли. А в анамнезе у него был инфаркт миокарда, и вот на четвёртой неделе случился очередной приступ, больной умер.
И пусть я не считаю это своим поражением как врача, но сердце всё равно болит – а что если я что-то не доглядела, не сделала всё, что могла? С этим приходится жить. А ведь многие полагают, что терапевт – это одна из самых безопасных медицинских специальностей – сиди себе в тёплом кабинете, пей чаёк да в потолок поплёвывай».
Симптом Пастернацкого
«Я горжусь своей профессией, – рассказывает врач-терапевт Мария Анина, – потому что помогаю очень многим людям. Со стороны может показаться странным – ну, какое удовольствие в том, чтобы общаться с больными людьми, выслушивать их жалобы? Это настоящий конвейер – не успела одного вылечить, уже другой пришёл со своими болячками, и в моих обязанностях много рутины – осмотры, анализы, назначения, вызовы, писанина. И так изо дня в день. Иногда всё это жутко выматывает и моральная усталость скрывает от глаз истинную суть работы и её результат – спасённые жизни и сохранённое здоровье людей. И вот когда ты видишь такой результат, тогда испытываешь гордость.
Кроме того, ты всегда можешь убедиться в справедливости собственного диагноза, своевременно назначенной терапии – это тоже хороший повод для самоуважения. Пример: поставила я как-то пациенту диагноз пневмония, направила на госпитализацию. Захожу через некоторое время в его электронную карту, а там мой диагноз специалисты клиники уже сняли. Думаю, как так, неужели ошиблась? Проходит пара дней, смотрю – мой первоначальный диагноз вернулся на прежнее место. Чудеса? На самом деле всё просто: в больнице пациенту сделали рентген, и тот не показал никакой пневмонии, так как ранняя стадия на рентгеновском снимке может быть не распознаваема. Зато позже больного направили на компьютерную томографию, на которой всё уже было видно чётко. А ведь я эту пневмонию услышала, когда процесс только начинался – я верно диагностировала то, что не смогли распознать другие специалисты даже с помощью рентгена.
Если я что-либо начинаю подозревать, например, онкологию, то направляю больного на КТ или МРТ, а в случае подтверждения диагноза передаю его дальше, профильным специалистам. Однажды пациент пришел на обычную диспансеризацию, уже зная о своём диагнозе. Его внешний вид меня сразу насторожил, к тому же ощущался ещё какой-то негативный настрой. Показал он мне свои анализы и спрашивает, с лёгкой такой иронией: «Ну, и что вы думаете по этому поводу, доктор?» И я ему тогда по одним анализам, без опроса и визуального осмотра выдала вероятный диагноз – хронический амилоидоз. Выяснилось, что именно этот диагноз после тщательного обследования ему уже поставили в другом медицинском центре.
Врач, как никто, знает, насколько хрупок наш организм и как часто жизнь человека может зависеть от нелепой случайности или же его собственного легкомыслия.
ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ – ПЕРВАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ.
Не так давно был у меня на приёме парень, ещё и тридцати нет. Служил матросом на торговом судне, на тот момент вернулся из рейса. Заходили они в египетский порт, он купил там себе клубнику и то ли не помыл её, то ли помыл, но не слишком тщательно. Подхватил кардиомиотропный вирус. Я его сразу направила в стационар, но время уже было потеряно. Через пару месяцев сердце у него стало гигантского размера, диагностировали миокардит. Потом начались мерцания предсердий. Лечащий врач назначил капельницу, пациент находился под наблюдением аппаратуры. Дальше у него случился инсульт, а уже в реанимации начался и бронхит, и пневмония. Теперь за него дышит аппарат.
Казалось бы, банальный энтеровирус, а в итоге молодой мужчина теперь кандидат на пересадку сердца. Так обидно, что жизнь человека висит на волоске из-за стаканчика немытой клубники и собственной безалаберности – ведь обратись он к врачу раньше, возможно, и не было бы столь ужасных последствий. Так что мелочей во всём, что касается здоровья, не бывает.
Признаюсь, есть у меня пунктик – я всегда проверяю своих пациентов на симптом Пастернацкого: когда при обследовании больного проводится поколачивание рукой в поясничной области, реакция пациента на него помогает обнаружить пиелонефрит. И не только его, но и некоторые другие заболевания. Довольно простой тест, который я стараюсь никогда не пропускать. Конечно же, здесь не обошлось без некоторой предыстории.
Осматривала я как-то пожилую женщину на дому. Жалобы были на аритмию, тонометр неизменно показывал нарушение сердечного ритма. В разговоре с пациенткой выясняется, что у неё уже почти месяц держится высокая температура, 39,5. Женщина была прикреплена к ведомственной поликлинике, оттуда и вызывала доктора, который поставил диагноз – грипп. Она добросовестно лечилась от гриппа все четыре недели, а в последние несколько дней стала ощущать сильный дискомфорт в груди и странное сердцебиение. Я попыталась при помощи фонендоскопа распознать причину этого состояния, но скоро поняла, что различить на слух, что это – мерцание предсердий или экстрасистолия, не получится. Я всё же склонялась к мерцанию.
Надо понимать, что грипп не держит у человека температуру четыре недели. Можно было предположить какое-то осложнение, но сказать с ходу было нереально. При этом в лёгких никаких хрипов не слышно. А пациентка уже не то что бледная была, а можно даже сказать, зелёная. И тут я понимаю, что если в лёгких ничего нет, то следовало бы постучать по спинке. Я начинаю легонько постукивать, и пациентка сразу же вскрикивает от боли. Короче говоря, у женщины оказался острый пиелонефрит, а всё это время её лечили от гриппа. И никому в голову не пришло элементарно простучать по спине.
В этот же день отправила её по «скорой» в урологическое отделение больницы. Мы с ней договорились, что когда её выпишут, она обязательно мне перезвонит. Но она так и не позвонила. Беда в том, что за те четыре недели, которые больную лечили от гриппа, от её почек, думаю, уже мало чего осталось.
Я часто потом вспоминала эту печальную историю. И теперь каждый мой пациент обязательно получает в ходе осмотра ещё и поколачивание Пастернацкого. Ведь случается и так, что у человека может болеть живот, а в действительности за этим скрывается почечная колика. Почки – это очень серьезно. Такой вот у меня пунктик.
Была и другая ситуация с подобной путаницей в диагнозе. Пациентка утверждала, что у неё пневмония. В поликлинику сама прийти не могла, вызвала врача на дом. Едва зайдя в её квартиру, я сразу же обратила внимание на стойкий запах мочи. До этого больная вызывала «скорую помощь» и ей поставили диагноз пневмония. Она самостоятельно назначила себе какие-то там лекарства и начала их пить. От этих лекарств её тошнило, а во время тошноты происходило непроизвольное подтекание мочи. Такое иногда бывает.
Я решила её послушать, сломала все уши, но никакой пневмонии так и не нашла. После этого попробовала поколачивание Пастернацкого – пациентка скривилась от боли. В итоге я ей поставила диагноз пиелонефрит, и назначила довольно серьёзное лечение, включающее два сильных антибиотика. На следующий день пациентка сдала анализы, которые полностью подтвердили мой диагноз. На третий день назначенного мной лечения я приехала на контроль. В квартире уже не было никакого неприятного запаха, температура у пациентки была в норме. Оказалось, что она уже сама сделала генеральную уборку, а это говорило о том, что её силы начали активно восстанавливаться.
В АРСЕНАЛЕ У ТЕРАПЕВТА ЕСТЬ
МАССА ПРОСТЫХ ПРИЕМОВ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ЗАПОДОЗРИТЬ
ТО ИЛИ ИНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.
ИМЕННО ОТ ЭТИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОСМОТРА
НЕРЕДКО ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА.
Во многом обе истории сходны, только на этот раз всё оказалось сделано вовремя. И свою немаловажную роль в обоих случаях сыграла такая «мелочь» в обследовании, как постукивание по спине. И точность диагноза, а стало быть, и здоровье человека может зависеть от того, насколько внимателен терапевт к подобным «мелочам».
Врач всегда врач
«Я с детства хотела быть врачом, – вспоминает терапевт Елена Жигулина, – в другой профессии просто себя не видела. Мне всегда было жалко любое живое существо, будь то хромающая дворовая собака или голубь с перебитым крылом. Что уж говорить о больных людях.
Человеку в юном возрасте, когда он выбирает будущую профессию, свойственно идеализировать и романтизировать своё призвание. Ты думаешь: вот стану я врачом, буду помогать людям. Всё кажется таким простым и понятным, и ты ещё даже не представляешь себе, что это будет означать в реальности – какие тонны рутины придётся перелопачивать, сколько сомнений, неуверенности в себе, разочарований и неудач преодолевать. А главное – какую цену предстоит платить за эту самую возможность, помогать людям.
Психологическая нагрузка в нашем деле действительно очень велика. Ведь для медика проблемы, связанные со здоровьем пациента, всегда вызывают эмоциональную реакцию: вдруг ты чего-то не заметил, не доделал, упустил. Здесь нужны и крепкая выдержка, и огромное терпение, и внимательность. Так что профессия врача не для всех подходит, безусловно.
Я никогда не стремилась стать светилом с мировым именем или пойти в науку изучать болезни и открывать новые методы лечения, хотя и не могу сказать, что я совсем уж лишена амбиций. Может, мои амбиции несколько в ином: когда видишь, что пациент возвращается к полноценной жизни благодаря твоим усилиям и твоему труду – это само по себе награда.
Ведь в повседневности мало кто задумывается о том, какой это великий капитал – здоровье. Но когда что-то начинает разлаживаться в твоём организме, всё остальное отходит на второй план. Порою даже обычная простуда способна сломать человеку все планы, надолго выбить его из колеи. Что уж и говорить о серьёзных болезнях, тем более в запущенной стадии, когда вся жизнь человека постепенно сводится в узкий круг забот о своём состоянии и самочувствии. Всё, что прежде имело для него значение и составляло смысл жизни – карьера, деньги, самореализация, семья – всё отступает, хотя бы потому, что болезнь отнимает всю жизненную энергию, все силы, и физические, и моральные.
Поэтому я и считаю, что самая существенная помощь, которую один человек может оказать другому – это помочь восстановить и сохранить здоровье. Только когда человек здоров, он способен жить полноценно: реализовывать свои планы, что-то строить, изменять мир к лучшему, заботиться о близких, деньги зарабатывать.
И, кстати, если говорить об амбициях, то именно рядовые врачи – участковые терапевты в поликлиниках – находятся на передовых рубежах невидимого фронта борьбы за здоровье таких же, самых рядовых, людей. И это вовсе не лирика и пафос, так оно и есть.
Конечно, все люди – разные, и врачи – не исключение. Среди нас есть и те, для кого медицина – всего лишь служба, и те, для кого она – служение. Такой врач не пройдёт мимо человека, лежащего на улице или на лавочке в метро, сочтя его банально пьяным. Прощупает пульс, проверит дыхание. А если это сердечник, у которого случился приступ?
Нештатные ситуации со мной тоже периодически случаются.
Вот одна такая история. На нашей лестничной площадке живут, как бы сказать помягче, очень «весёлые» соседи. Долгое время они весь подъезд изводили своими шумными тусовками, со скандалами и драками. И милиция нередко к ним приезжала, но всё продолжалось в том же духе. Знала я и о том, что у них помимо алкоголя в ходу наркотики, причём довольно тяжёлые. Наркоманов я определяю по рукам: у тех, кто долгое время колет себе наркотик, склерозируются вены – не справляются с оттоком, с которым приходится работать. Поэтому у наркоманов часто красные отёчные руки, на которых не видно сухожилий и разгибателей.
ПОБЫВАВ НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ, МНОГИЕ ЛЮДИ ПЕРЕОСМЫСЛИВАЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ.
Так вот, однажды вечером мне звонят в дверь с истошными криками «вызовите скорую!». В коридоре хозяин «нехорошей квартиры» Алексей в луже крови, рядом носится и истерит его подруга. Она тогда не знала, что я медик, да и вообще мало что соображала, кинулась к ближайшей двери. У них произошли какие-то очередные разборки, которые закончились для соседа проникающим ножевым ранением в брюшную полость.
Я была практически на сто процентов уверена, что у парня повреждена печень. А там же петли кишечника, и пока Алексей сидел, она была зажата, кровь не била струёй, он был в адеквате, мог даже отвечать на мои вопросы. Я его решила в таком положении оставить, не менять позицию. Контролировала его состояние, чтобы он не терял цвет лица и находился в сознании. Попросила свою дочь принести из морозилки что-нибудь холодное, и мы приложили какую-то заморозку к ране.
Когда приехала «скорая», я поделилась своим предположением насчёт повреждения печени, но безуспешно. Может, они просто не услышали, что я тоже врач, и мои слова не приняли в расчёт. Доктор же уложила раненого на пол и начала задавать ему стандартные вопросы: ваша фамилия, возраст… На последних вопросах Алексей уже стал терять сознание, потому что при изменении позы произошло перераспределение органов в полости, кровопотеря резко увеличилась. Как уж они его довезли, не представляю, но удивительным образом парень выжил.
Когда его выписали из больницы, мы встретились с ним в подъезде. Он вспомнил и меня, и даже мою дочку, целовал руки и вставал на колени, искренне благодарил. Подругу его я больше не видела, а вот Алексей после этой истории сильно изменился. Конечно, побывав на грани жизни и смерти, человек многое переоценивает. От его родных я позже слышала, что он завязал с наркотиками, прошёл курс реабилитации, и теперь у него совсем другая жизнь.
То, что его удалось спасти – заслуга реаниматологов и хирургов. Но в том, что он получил этот шанс, есть частичка и моего труда. Он ведь мог истечь кровью до приезда «скорой». Да и я вполне могла не открывать дверь, опасаясь за себя и дочку – мало ли что происходит там, за дверью.
Если же говорить про обычные трудовые будни, то здесь всё гораздо прозаичнее. Но и тут нужна не меньшая расторопность. Приходит на приём больной – и я сразу должна сосредоточиться, включить всё своё внимание. Первое, на что я обычно смотрю, это внешний вид. Человек входит в кабинет, и я уже «сканирую» его: какое у него лицо, какие глаза, цвет кожи. Это мгновенно происходит. Дальше я слушаю внимательно его жалобы, что беспокоит. Иногда приходится много времени тратить, чтобы вытащить из пациента нужную для диагностики информацию и отсеять кучу лишней. А так, по внешнему виду, очень многое можно понять. Не всегда сразу определишь заболевание, но, по крайней мере, для себя создаёшь какое-то впечатление. Чем дольше работаешь, тем точнее настраивается этот твой «внутренний сканер». И потом всюду начинаешь обращать внимание на внешний вид людей с профессиональной точки зрения.
К примеру, есть такое заболевание, бронхоэктатическая болезнь, в этом случае, с течением времени у человека своеобразным образом деформируются руки – происходит утолщение фаланг и пальцы приобретают форму барабанных палочек, а ногти становятся похожи на часовые стёкла. Ещё при хронических сердечных заболеваниях такой симптом проявляется. И вот человек, сидящий напротив меня в метро, с такими пальцами сразу бросается в глаза. Я смотрю на его руки и понимаю, чем он болен. На сердечника, на мой взгляд, он не тянет, так что, скорее всего, у него бронхоэктатическая болезнь.
У ВРАЧА «ОСОБОЕ» ЗРЕНИЕ – ОПЫТНЫЙ ТЕРАПЕВТ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА СПОСОБЕН ЗАПОДОЗРИТЬ
В ЧЕЛОВЕКЕ СКРЫТЫЙ НЕДУГ, А В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ
ПО ОДНОМУ ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПОСТАВИТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ.
Или человек с туберкулёзом, например, для меня тоже сразу заметен. Туберкулёзники имеют достаточно типичную походку, никогда не бывают толстыми, обычно худенькие, с заострёнными чертами лица. И у них очень интересный блеск в глазах, притягивающий взгляд. Известна история Прасковьи Жемчуговой, крепостной актрисы графа Шереметьева, которая своей внешностью, блистательной игрой и пением настолько покорила сердце графа, что он дал ей вольную, а потом женился, несмотря на многие препоны. Так вот у неё был наследственный туберкулёз. Не про каждого такого больного можно сразу сказать, что у него туберкулёз, но внешний вид при этом заболевании довольно характерный.
Конечно же, я не подхожу со своими выводами к человеку в транспорте, если замечаю какие-то явные симптомы заболевания. Хотя была у меня ситуация, когда промолчать я не могла.
Года полтора назад я случайно встретилась на улице с бывшей одноклассницей, с которой мы были очень дружны в школе. Разговорились, что да как. А она была с сыном. И вот я вижу, у парня – все типичные признаки наркомании. И что прикажете делать с этим наблюдением? Сказать ей? Наверняка она сама знает, не может ведь не знать. И кто меня просит лезть в чужую жизнь, в чужую беду, какой смысл? Только сыпать соль на раны?
Некоторое время я терзалась сомнениями – говорить или нет. Потом решила, что лучше уж я испорчу нам обеим радостное впечатление от встречи или даже дальнейшие отношения, чем промолчу и не предостерегу от опасности, если она всё-таки не знает о зависимости сына. Оказалось всё именно так. Подруга моя, действительно, ничего не подозревала и никогда не замечала за сыном какого-то неадекватного поведения. Она, конечно, была в ужасе, но я предложила снова встретиться и подробно обсудить, что и как с этим делать. Записала её на приём к наркологу, и дальше уже пошла лечебная работа, детоксикация и прочее. Парень прошёл курс реабилитации в наркологическом центре.
Так что врач – всегда и везде врач, и да, ты видишь людей немного иначе, чем другие. Можно сказать, есть свои издержки профессионального восприятия. Вне клиники я стараюсь не думать о работе, переключаться на другие дела, чтобы не перегореть. Но бывают, конечно, случаи, когда этого не избежать, когда необходимо, например, хотя бы раз в день отзвониться пациенту, если он на моей курации. Поэтому не всегда получается так, что вот я закрыла кабинет, вышла из клиники – и всё, дальше личная жизнь и никаких мыслей о работе. Я могу, в принципе, выключиться, когда на мне не висит чего-то сложного или вызывающего беспокойство за пациента. Если в данный момент нет ничего такого экстренного – да, я могу расслабиться, повеселиться и так далее, как обычный человек.
Хотя не скажу, что абсолютно отключаюсь от работы, потому что даже и сны обычно снятся соответствующие, профессиональные, медицинские. Снится, что я кого-то лечу и всё в том же духе. Дочка по утрам уже подтрунивает надо мной: «Кого ты сегодня ночью спасала?» А я только улыбаюсь в ответ».
Я доктора узнаю по походке
«В одном из древних трактатов говорилось, что у целителя должен быть лучший конь с лучшей сбруей и самый дорогой халат, чтобы его помыслы не отвлекались на материальное, – рассказывает врач-педиатр Татьяна Зуйкова. – У нас же материальные блага, имеют, прежде всего, чинуши и депутаты, видимо, чтобы не отвлекаться от своей столь насыщенной жизни.
Это действительное отношение власти к врачам, которые, как можно ясно понять, менее ценны для страны, чем так называемые «слуги народа». Медиков при таком положении фактически обрекают на поборы: у них дети, внуки да и самим кушать хочется.
Тема эта деликатная и подходить к ней нужно не с огульных обвинений врачей в вымогательстве взяток. Кто-то работает, а кто-то врачует, одни хотят карьеру построить, другие ищут революционные открытия, а третьи просто мечтают заработать денег. Это не плохо и не хорошо, это то, что есть. И разобраться, к которой из этих категорий принадлежит тот или иной врач, не так уж сложно.
Что касается подношений, да, они играют определённую роль в финансовой стабильности медработников. Больные же зачастую приносят какие-то презенты врачам или сестричкам совсем не потому, что их к этому принуждают. Они искренне желают сделать доктору приятное, выразить таким образом свою благодарность, от всей души. По-моему, в этом нет ничего предосудительного, нормальный человеческий порыв.
ЕСЛИ ТЫ НЕ РЕЖЕШЬ, ЭТО ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ,
ЧТО ТЫ НЕ СПАСАЕШЬ ЛЮДЕЙ
(ПОГОВОРКА ТЕРАПЕВТА)
За рубежом существует такой подход: ты долго учишься, а потом имеешь все блага и законный престиж. В России всё несколько иначе. Некоторое уважение к профессии, безусловно, есть, что же касается престижа – не уверена, а о благах вообще говорить не приходится… Государство ценит и заботится о людях нашей профессии больше на словах, чем на деле. Особенно это относится к рядовым амбулаторным врачам, младшему и среднему персоналу, то есть по сути – к основной армии медиков.
Знаете, есть у меня одно забавное наблюдение – походка у врачей разных специальностей отличается кардинальным образом. Хирурги ходят важно, вразвалочку – в каждом шаге читается, что они вершители судеб. При этом все свои шаги они амортизируют подобно боксёрам, у них есть бойцовские манеры – потому что они привыкли работать по принципу «или пан или пропал». Кабинетные же врачи, будь то терапевты или педиатры, обычно семенят такими мелкими шажками. И за этой семенящей походкой – ежедневный самоотверженный труд.
Если поговорить со студентами второго курса мединститута, то подавляющее большинство хочет быть хирургами, сейчас им это кажется крутым. А вот к концу обучения отношение к специальности резко меняется. Они больше узнают о медицине и корректируют свою точку зрения. Если ты не режешь, это вовсе не значит, что ты не спасаешь людей.
Хирург в своём отделении – царь и бог. Он пришёл, дал указания, сделал операцию, спас. Пришёл, увидел, победил. В амбулаторной практике, у простых кабинетных врачей всё несколько иначе. Как врач-педиатр ты ведёшь каждую семью изо дня в день. Живёшь их горестями и радостями, переживаешь вместе с ними, помогаешь преодолевать проблемы. А, главное, ты принимаешь на себя ответственность за здоровье и жизнь. И ты порой даже представить не можешь, с чем придётся столкнуться.
Однажды ко мне на приём принесли грудничка с синдромом Дауна. Вообще это достаточно распространенная патология. Обычно во время беременности женщине делают пренатальный скрининг и выявляют возможность подобной проблемы. Если для семьи это неприемлемо, то беременность прерывают. Подобный подход позволяет родителям избежать рождения заведомого больного ребенка, хотя некоторые всё же идут на такие роды осознанно. Так вот, мамочка, о которой я рассказываю, узнала о состоянии своего ребёнка незадолго до визита ко мне, диагноз ей сообщили прямо в родильном зале.
Ко мне она пришла в состоянии абсолютной прострации. Не могу забыть свои жуткие ощущения от одного вида этой несчастной женщины. Малышка при этом оказалась просто чудесной – хорошенькая, улыбчивая девочка с красивыми глазками. А вот мама была совсем плоха – меня она как будто не замечала, механически отвечала на вопросы, механически пеленала своего ребёнка. Не улыбалась, вообще не проявляла никаких эмоций. Словно перед тобой не человек, а заводная кукла. Признаюсь, это было по-настоящему страшно. Я назначила ряд анализов, а потом, когда подошло время, мне никак не удавалось с ней связаться. Позже женщина сама перезвонила мне. Сказала, что ребёнка больше нет, ребёнок умер. Девочку нашли в кроватке бездыханной. Такое бывает, это называется «синдром внезапной смерти».
Подобная смерть в педиатрии – не исключительное событие, это, к несчастью, повседневность. В том случае не было никакой врачебной ошибки, и синдром Дауна совершенно ни при чём. Причины остановки дыхания при такой смерти неизвестны, и никакие признаки ей не предшествуют. Весь ужас в том, что, к примеру, мамочка готовит на кухне, слышит, как ребёнок в детской играет или смеётся, через минуту заходит в комнату, а он уже мёртвый лежит – остановилось дыхание. Честно сказать, я даже не помню, что тогда говорила той женщине, настолько я сама оказалась придавлена этим.
К сожалению, у нас не существует какой-либо системы психологической подготовки врачей, специальных курсов, на которых учили бы, как сообщать родственникам о смерти близких и как самим правильно воспринимать подобные известия. Родственники пациентов, конечно, имеют право получать подобную информацию от врача, но это не должна быть простая констатация факта, здесь необходим целый комплекс действий. Психологов этому учат, врачей других специальностей – увы, нет.
Если говорить о наиболее типичных ситуациях в работе педиатра, то, это, пожалуй, всякие проглоченные предметы. Звонит, к примеру, мне мамочка и говорит: «Мой ребёнок проглотил батарейку». Он, видишь ли, сначала её за щеку положил, мама кинулась к нему, пытаясь забрать, а он её сразу же и проглотил, поскольку дети всегда всё делают наперекор. Два часа они с малышом провели в стационаре – за это время успел образоваться ожог. Потом в течение года пришлось ездить на бужирование, когда для лечения и диагностики вводят специальный зонд в пищевод.
Малыши часто засовывают себе разные мелкие предметы в нос, в уши, глотают всё что ни попадя, в том числе бытовую химию. Я родителям всегда советую: сами вставайте на четвереньки и ползайте по всей комнате, ищите опасные места. У деток постарше и подростков самое жуткое – это суициды. Выпивают всевозможные вещества или таблетки – потом с пластиковым пищеводом вынуждены будут жить, и исправить уже ничего нельзя, останутся инвалидами. И таких случаев тысячи.
Скальпель хирурга или дефибриллятор реаниматолога – лишь мизерная часть медицинской практики, всё остальное – ежедневный труд амбулаторных врачей, которые отдают пациентам свои знания, силы и сердце».
8. БОЛЬ, ЧТО СТРАШНЕЕ СМЕРТИ
Это глава о том, как психологи в экстремальных ситуациях помогают людям вновь стать людьми
«Выжить» ещё не значит «пережить»
Уберечь психику человека, дать ему внутреннюю опору и помочь сохранить самого себя – для этого существует неотложная психиатрическая помощь при чрезвычайных ситуациях. Это некая экстренная психологическая реанимация, позволяющая человеку, находящемуся в пограничной ситуации, остаться человеком.
Если врачи «скорой» сбивают предельно высокую температуру тела, то психиатры борются с зашкаливающим градусом душевной боли. Одни врачи стараются сохранить жизнь человека, не дают ему умереть, другие делают всё возможное, чтобы в критической ситуации пострадавший не сошёл с ума от горя, смог вынести выпавшие на его долю испытания и продолжил жить. Потому что «выжить» ещё не значит «пережить».
Ужас, держащий за руку
Спитакское землетрясение 7 декабря 1988 года по разным данным унесло жизни до 45 тысяч человек. Было разрушено более 360 населённых пунктов, полмиллиона человек остались без крова, около 100 тысяч получили ранения различной степени тяжести, многие стали инвалидами. Город Спитак, оказавшийся эпицентром катастрофы, был стёрт с лица земли.
Минуло почти тридцать лет, руины давно расчищены и города отстроены заново, но людская память хранит картины ужаса тех дней.
«Я работала учительницей младших классов в Спитаке, – вспоминает Ануш Арутюнян. – В тот день мне с утра нездоровилось, на первом уроке я почувствовала температуру, испугалась, что заболела гриппом и могу заразить детишек. Договорилась с директором о замене и ушла домой. По дороге встретила нашего учителя физкультуры Арсена Баграмяна. Он торопился на свой урок, но, увидев в каком я состоянии, остановился и предложил довезти меня до дома. Мы стояли недалеко от здания школы, когда произошёл первый толчок…»
Жуткий грохот и столб поднявшейся в воздух пыли. Мгновения – и на месте школы – груда развалин. Ануш стояла, как вкопанная, отказываясь понимать, что произошло. Арсен же сразу бросился к школе. Вместе с кем-то из родителей он полез в сохранившийся оконный проём первого этажа. Через минуту Арсен уже выталкивал наружу одного за другим двоих ребят. И в этот момент рухнули еле державшиеся стены, просто рассыпались на глазах. Это был второй толчок…
Из оцепенения Ануш вывели крики детей, которых спас Арсен. Она кинулась к ним, оттащила подальше, пыталась оказать первую помощь. Из-под обломков школы слышались голоса. Мужчины бросились разбирать завалы – сначала разгребали руками и кусками арматуры, потом кто-то принёс ломы и лопаты.
Одним из них был Карен, отец ученика из класса Ануш. Много позже он рассказывал, как ходил по шатким грудам камней, старался найти хоть кого-то из уцелевших, вслушивался в каждый шорох. И в какой-то момент он действительно услышал тихий плач из глубины завала и увидел протянутую к нему руку. Он смог дотянутся до этого мальчика, сказал: «Держись, мы тебя вытащим». Крикнул на помощь других мужчин, и они стали пробивать туннель, пытались ломами приподнимать плиты, чтобы вытащить ребёнка. Но им так и не удалось ничего сделать. А вечером, когда приехал первый кран, было уже поздно, над развалинами стояла мёртвая тишина…
ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ – ЭТО ВСЕГДА ГОРЕ
И УНЕСЕННЫЕ ЖИЗНИ. ВРАЧИ, РАБОТАЮЩИЕ В ЗОНЕ
ПОРАЖЕНИЯ, УЖЕ НИКОГДА НЕ СМОГУТ СТАТЬ ПРЕЖНИМИ.
ЧУЖОЕ ГОРЕ МЕНЯЕТ ИХ НАВСЕГДА.
«Через десять лет я встретила Карена в Спитаке, на поминальных мероприятиях. Я его не узнала – он сильно изменился, осунулся. Но он меня вспомнил и подошёл. Мы поговорили, правда, недолго. Разговаривать было тяжело. Я знала, что в тот день погибли его жена и двое детей, сын и дочка, оба учились в нашей школе. Он почти ничего не рассказывал о них, только показал чудом сохранившиеся фотографии. А прощаясь, произнёс слова, которые я поняла лишь спустя несколько дней: «Самое страшное во всём этом ужасе то, что он до сих пор меня не отпускает. Так и держит за руку».
Ануш, кроме 28 своих учеников, потеряла обоих родителей и старшего брата, они погибли под развалинами их дома. Сестру спасателям на третий день поисков всё же удалось вытащить из-под обломков швейной фабрики, где она работала. Но через два дня она умерла – пока её доставали из завала, отравленная кровь из сдавленных ног успела растечься по телу, и почки не выдержали.
«Помню убитых горем людей, которые молча сидели у останков своих мёртвых домов, ожидая, когда спасатели смогут достать тела их родных, чтобы похоронить. Жгли костры, сидели и ждали. Я тоже сидела у такого костра и ждала… Думаю, от сумасшествия тогда меня спасло только то, что в лагере, куда меня эвакуировали, была большая группа детей, с которыми работали психологи из России. Им был нужен переводчик, а мне просто необходимо было чем-то себя занять, чтобы не думать всё время об одном и том же».
Среди руин Ануш познакомилась с Галиной Сергеевой, психотерапевтом из Москвы, которая работала с детьми, но старалась находить время, чтобы поддержать и взрослых. Галина очень помогла Ануш, научила её справляться с приступами паники, сейсмофобией. А через 4 года, когда Ануш переехала к дальним родственникам в Москву, у нее вновь возникли проблемы и она отыскала Галину.
«Я вышла замуж, но семейная жизнь вскоре начала рушиться – муж очень хотел детей, а я никак не могла решиться родить, – рассказывает Ануш Арутюнян. – После Спитака я вообще долгое время не могла смотреть на детей, боялась сглазить, потому что всё время представляла их мёртвыми. Такими, каких видела там, на руинах».
Галина провела с ней несколько сеансов, помогла избавиться от этих жутких воспоминаний и картин, преследовавших женщину годами, от постоянного ощущения тревоги. Семейная жизнь вскоре наладилась – появились дети. Вот только снова работать в школе Ануш так и не смогла, пришлось сменить профессию.
Тектонический разлом души
«Это самая крупномасштабная катастрофа и великая трагедия ушедшего века. Как будто это была ядерная война – весь город лежал в руинах. Всю жизнь это будет стоять у меня перед глазами… Я не мог уложить в своей голове силу сдвига, который вызвал такой разлом, прошедший по самой окраине Спитака», – рассказывал генерал-майор Николай Тараканов, руководитель работ по ликвидации последствий землетрясения.
Упоминания о разломе земной поверхности протяжённостью в десятки километров, вызванном первыми же толчками, встречаются практически во всех воспоминаниях очевидцев этой катастрофы и участников спасательных работ. Глубину же разлома, прошедшего по душам людей, которые оказались в эпицентре этого бедствия, измерить невозможно.
«Я никогда больше не буду прежним», – говорит сегодня мужчина, выживший при землетрясении в Спитаке. «Я чувствую, что уже никогда не приду в себя. Может, хотя бы дети смогут забыть этот кошмар», – делится женщина, чья семья пострадала при захвате заложников в Беслане, спустя десять лет после трагедии. И это действительно так.
«Последствия психологической травмы для каждого, кто оказался в чрезвычайной ситуации, сугубо индивидуальны, – поясняет Ольга Потапова, специалист отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. – Общим является то, что такая травма влияет на восприятие времени, под её воздействием у пострадавших меняется видение прошлого, настоящего и будущего, свою жизнь они чётко делят на периоды «до» и «после». По интенсивности переживаемых чувств травматический стресс соразмерен со всей предыдущей жизнью человека. Из-за этого он зачастую воспринимается наиболее существенным событием жизни и тем самым разломом между произошедшими травмирующими событиями и всем, что будет потом.
КАТАСТРОФА ДЕЛИТ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА НА «ДО» И «ПОСЛЕ».
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВЫЖИВШИХ – ДЕПРЕССИЯ,
РАЗВИТИЕ ТРЕВОЖНОСТИ, РАЗЛИЧНЫЕ ФОБИИ
И ПОТЕРЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ.
Говорят, что время лечит. На самом же деле при таких глубоких психологических травмах время лишь притупляет остроту восприятия боли, затягивает поверхность кровоточащей раны, которая продолжает кровоточить. Но надо как-то жить. И это «как-то» зависит от внутренних ресурсов, от способности переживания трагических событий и поиска нового смысла жизни.
Жертвы и очевидцы трагедии спустя некоторое время нередко жалуются не только на тревожные состояния, депрессию или чувство вины. Для многих пережитая катастрофа становится причиной глубокого личностного кризиса. Они говорят о том, что утратили ощущение ценности собственной жизни, собственной личности, о разрыве связи с окружающим. У многих пострадавших в результате посттравматического стресса рушится вся картина мира, подобно песочному замку, сметённому прихотью океанской волны».
Психотерапевт помогает человеку освободиться от преследующих его болезненных воспоминаний и интерпретации эмоциональных переживаний как напоминания о травме, помогает восстановить контроль над своими эмоциями и реакциями, активно включиться в настоящее и найти для случившегося надлежащее место в общей перспективе своей жизни и личной истории. Это и есть работа психолога – помочь человеку выстроить заново гармоничную, объёмную и целостную панораму реальности, в которой не будет зияющих чёрной пустотой провалов, восстановить разрушенные трагедией мостки между окружающим внешним миром и миром внутренним, обителью его собственной личности.
Спокойствие и макияж
«Понимание того, как следует эффективно оказывать экстренную помощь, пришло с годами, – рассказывает психолог Татьяна Самохина. – Пришлось несколько раз серьёзно обжечься, прежде чем выработались чёткие внутренние установки. Я поняла, что нельзя быть навязчивым, человек должен сам прожить свалившееся на него горе и справиться со своей реакцией на него, преодолеть стресс. Только его собственный опыт сможет мобилизовать ресурсы организма. Но вместе с тем, конечно же, от специалистов требуется чуткая поддержка и сопровождение, чтобы у человека не возникло ощущения, что он остался один на один со своим несчастьем.
Поддержка – это сострадание, участие и забота. Кто-то нуждается в медикаментозной помощи. Кому-то важнее просто побыть одному, самому постараться справиться с горем. Тот, кому действительно потребуется помощь, кто её будет готов принять, всегда так или иначе сможет о ней попросить. Мы никогда активно не навязываем свою помощь. Всегда важно уважать пострадавшего. Уважать и любить. Можно сказать, что всех, с кем я работала, я искренне любила. Это очень важное и, на мой взгляд, обязательное условие нашей работы. Я всегда любила и люблю то, что делаю, и я всегда с уважением относилась ко всем своим пациентам.
Часто даже не приходится специально ничего придумывать, чтобы завести беседу, пострадавшие сами предлагают темы для разговора. Если они уже внутренне готовы и хотят говорить, это сразу понимаешь. Обычно такие разговоры ведутся о погибшем, они способствуют снижению эмоционального напряжения и помогают в формировании «светлого образа погибшего». Это тоже важно для проживания естественной реакции горя от утраты близкого».
Существуют различные техники работы с пострадавшими, но на деле каждый специалист, приобретая обширный опыт, выстраивает собственную индивидуальную тактику. Здесь главное – научиться понимать человека, чувствовать его состояние и потребности в данный конкретный момент: нуждается ли он сейчас в твоей помощи или ему необходимо побыть наедине со своим горем.
«Со временем у меня тоже выработалась определённая схема работы: мы организуем всю структуру первоначальной помощи, а дальше просто наблюдаем. Существует такое понятие, как «активное наблюдение». Весь процесс происходит на профессионально-интуитивном уровне. Можно просто подойти к человеку и спросить, всё ли у него в порядке, нужна ли какая-либо помощь. По его реакции профессионал способен сделать целый ряд выводов о его внутреннем состоянии. Многое можно прочитать без слов, по мимике пациента, по той или иной форме напряжения его лица. Нужно лишь научиться внимательно смотреть. Порой хватает и того, что к человеку просто подошли и уделили внимание, дали какую-то таблетку, это уже само по себе помогает. Я часто работаю с обыкновенным глицином. В такой ситуации, в принципе, любая таблетка способна оказать целительное воздействие».
В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО – НЕ НАВРЕДИ.
Свода правил нет, есть общий принцип – не навреди. Прежде всего, это профессиональная нейтральная позиция: «Я включен, но вместе с тем я отстранен». То есть, с одной стороны, это эмоциональная направленность на пострадавшего, сострадание к нему, понимание и уважение его чувств, готовность прийти на помощь, проявить заботу. А с другой – сохранение необходимой дистанции, безоценочность суждений, ровное отношение ко всем. Это позволяет сохранять профессионализм, необходимую чёткость в работе и внутреннюю безопасность.
«Ещё одно негласное правило при работе в зоне ЧС – опрятный и безупречный внешний вид. Это непременно. Какими бы ни были условия нашего пребывания в очаге, сколько бы часов мы ни работали (а порой это 48 часов без отдыха), мы всегда должны излучать спокойствие и уверенность. Врач в первую очередь должен вызывать доверие. Поэтому – никаких резких, провоцирующих, «крамольных» слов, опрятность и вежливость. Поэтому – спокойствие. И макияж».
Цветы и солнце
К группе самого высокого риска относятся, прежде всего, прямые жертвы, те, кто подвергся физическому воздействию, угрожающему жизни. Их близкие, а также свидетели трагических событий тоже относятся к группе риска. Это и есть основной фронт работы психиатров в зоне бедствия. И, безусловно, в центре их внимания всегда находятся дети, так или иначе пострадавшие в ЧС.
«Дети – это совершенно особая часть населения, которая в ситуациях масштабных катастроф в первую голову нуждается в нашей помощи, – говорит Виктор Кравченко, доктор медицинских наук, врач-психиатр. – Работая с детьми в Беслане, я видел выражение неподдельного ужаса и полной растерянности у многих взрослых, которые не могли понять, что стало с их добрым и тихим ребёнком, откуда в детях столько агрессии, и что со всем этим делать».
Пятилетняя девочка, играя с куклой, говорит ей: «Если ты сейчас же не замолчишь, я тебе отрежу голову»; мальчик требует от матери купить мороженое, угрожая ей игрушечным пистолетом: «Если не купишь, я тебя пристрелю»; а на вопрос «кем ты хочешь стать, когда вырастешь» большинство, не задумываясь, отвечает: «Террористом».
ДЕТИ – ОСОБЫЕ ПАЦИЕНТЫ.
ЕСЛИ МАЛЫШИ ОКАЗАЛИСЬ
В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ,
ИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА.
Для психолога же в этом нет ничего экстраординарного – дети повторяют слова, которые слышали от террористов. Они инстинктивно пытаются стать сильнее своих родителей, авторитет которых в их глазах пошатнули боевики, и именно с ними они ассоциируют теперь эту силу и пытаются им подражать.
Когда на глазах ребёнка рушится мир его родителей, его собственный внутренний мир рушится впятеро быстрее. Ребёнок видит потрясение и беспомощность взрослых, их экспрессивные эмоциональные переживания, слышит их рассказы об устрашающих подробностях происходящих событий. Это дополнительное негативное воздействие подобно присоединению вторичной инфекции при ослабленном иммунитете – дети как бы заражаются от взрослых новыми бациллами визуальных и телесных образов, и это лишь способствует росту их психической и телесной напряжённости. У многих детей наблюдаются выраженные симптомы регрессии, то есть возвращения на более ранние ступени развития.
«На первом этапе, сразу после воздействия травмирующих событий мы имеем дело с шоковыми реакциями на стресс. Они обычно проявляются в двух крайностях – это двигательное возбуждение и бурные эмоции либо полная замкнутость, ступор. Ребёнок может часами безостановочно бегать, прыгать, без видимой цели и смысла возбуждённо вскрикивать, толкаться. И так вплоть до полного изнеможения. При этом он совершенно не в силах самостоятельно успокоиться. А другой, наоборот, может впадать в глубокое оцепенение – долго, неподвижно и молчаливо, сидеть или стоять вообще без какой-либо активности, со взглядом, устремлённым в никуда. Либо эти состояния сменяют друг друга, и середины между ними нет.
Основные задачи, которые мы решаем в первые дни – это диагностика, выявление аномальных реакций и отклонений от нормального для их возраста поведения; установление контакта с детьми; включение их в общение и совместную деятельность. Детям в этот период нужно как можно больше активности – и физической, и творческой. Это даёт возможность в игровой форме организовать возбуждённых детей и вывести из ступора заторможенных, помочь им выплеснуть подавленную агрессию. Иначе могут начаться и психосоматические явления, вплоть до отказа органов.
В дальнейшем включённое наблюдение позволяет выстроить стратегию коррекционной работы. Это игровая и арт-терапия, рисование, лепка и другие методики корректировки эмоций, снятия внутреннего напряжения через символическое проигрывание травмирующих запечатлений. Дети, подвергшиеся воздействию в чрезвычайной ситуации, нуждаются в психологическом сопровождении и реабилитации в течение длительного периода. Психокоррекция требует времени и терпения, и цветы, радуга или солнце вместо чёрных лиц с красными глазами и кровавого месива на рисунках детей появляются лишь через 2–3 недели кропотливой работы психотерапевтов. Можно сказать, в этом и есть ключевая цель нашей работы с детьми.
Я помню свой первый выезд на ЧС, это был 1995 год, захват больницы в Будённовске. Позже были «Норд-Ост» и Беслан. Там всё было довольно хаотично, работали команды психиатров из разных институтов, было несколько служб, которые между собой не общались, была определённая несогласованность. Но нас объединяло главное – ясное понимание необходимости экстренной помощи, и прежде всего, для сохранения психического здоровья детей, золотого генофонда нации, её будущего».
«Не спрашивай, по ком звонит колокол…»
Чернобыльская катастрофа и Спитакское землетрясение произошли во времена, когда ещё не существовало ни МЧС, ни тем более каких-то специализированных отделений неотложной психиатрической помощи. Психиатры и психологи стали привлекаться для оказания помощи при ЧС не так давно.
Опыт ликвидации последствий первых масштабных катастроф и позволил создать общие алгоритмы реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе, и оказания психиатрической помощи. Сейчас взаимодействие всех служб чётко отлажено, между ними распределены обязанности: кто работает в очаге, кто – в отдалённых областях и так далее. Работа психологов заключается, прежде всего, в сопровождении пострадавших с самого начала происходящей ЧС, даже известия о ней, до её конечного завершения, включая ритуальные захоронения.
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ «НАПИСАНЫ» КРОВЬЮ
ПРОШЛЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ.
Аварийно-спасательные или антитеррористические операции всегда связаны со следственными мероприятиями, с выяснениями причин происходящего. Психологи включаются и в помощь следственным органам – консультируют правоохранителей, подсказывают, какие вопросы и как лучше задавать пострадавшим, чтобы снизить уровень их стресса, их реакции, не спровоцировать обострение состояния. Врач ЧС не утешает разве что врачей ЧС, и то только потому, что устаёт. Словом, психолого-психиатрическая помощь – это многоплановая работа, и в отличие от других видов помощи, её востребованность не исчерпывается лишь периодом ликвидации последствий катастрофы, а может сохраняться годами.
«В любой чрезвычайной ситуации есть пострадавшие, – продолжает свой рассказ психотерапевт Ольга Потапова. – И мы должны максимально ответственно выполнить свои обязанности, мы должны помочь, собрать, сопроводить, уменьшить интенсивность боли, снять острые состояния. В ходе работы пришло понимание, что на нашу долю ложится не только поддержка и сопровождение жертв и их родственников, но ещё и психологическая помощь сотрудникам других служб».
Работа в зоне стихийного бедствия или техногенной катастрофы – это тяжелейшее испытание для психики человека. Все участники спасательных работ в очаге ЧС, даже профессионалы со специальной подготовкой, получают глубочайший стресс в результате того, что становятся свидетелями шокирующего зрелища – огромного количества смертей и масштабных разрушений.
«Лет восемь назад у меня был пациент, на приём он пришёл с жалобами на бессонницу, раздражительность и частые депрессии. В прошлом врач, крепкий на вид мужчина, не один год проработавший на станции скорой помощи. Повидал за время своей работы многое, но после командировки в Армению, где он в составе группы медиков оказывал помощь пострадавшим во время землетрясения, уволился. В ходе наших сеансов выяснилось, что глубинной причиной его нынешнего состояния были именно давние впечатления тех дней, эмоциональные и зрительные образы бедствия.
Чаще всего его рассказы о переживаниях сводились к тем эпизодам, когда он не смог кому-то помочь. Он рассказывал о том, как спасатели спускались в галерею завала, чтобы ножовкой ампутировать ногу прижатой бетонными плитами девушке и тем дать ей шанс выжить, спасти от синдрома длительного сдавления. О том, как он плакал от бессилия помочь другим вытащенным из-под обломков жертвам, как приводил в сознание солдата, работавшего на разгрузке тел погибших, как откачивал крановщика с инфарктом, у которого лопнули тросы крана и сорвавшаяся плита рухнула на развалины, где были ещё живые люди…»
И таких историй множество. Коллега Ольги Потаповой – Татьяна, работавшая с родными жертв теракта в Беслане, рассказывала такой случай. Тела погибших тогда свозились в Бюро судмедэкспертизы во Владикавказе, какое-то время они были выложены для опознания во дворе Бюро. Некоторые из журналистов в погоне за горячими сюжетами периодически пытались туда пробраться через забор. Одного из таких «удачливых» охотников, фотокорреспондента, психологам в результате пришлось в течение двух часов выводить из аффективного ступора, вызванного открывшимся ему зрелищем. Выйдя оттуда, он просто осел на землю и уставился на свои руки, словно видел их впервые. Так и сидел неизвестно сколько времени, ни на что не реагируя, пока на него не обратила внимание психолог, сопровождавшая на опознании родственников погибших.
Так что очевидцы и непосредственные участники событий, как и сами пострадавшие (прямые жертвы), тоже подвергаются мощнейшему стрессогенному воздействию, катастрофические последствия которого могут проявиться спустя достаточно длительное время. Скажу больше – это воздействие нередко испытывают на себе даже люди, не находившиеся сами лично в зоне бедствия.
«Вот пример такого расстройства. Примерно через полгода после взрывов жилых домов в Москве ко мне на приём пришла женщина. Точнее, её привёл муж. Женщина была очень напряжена, проявляла повышенное двигательное возбуждение. Муж рассказывал, что у неё периодически возникают приступы тревоги, какие-то беспорядочные метания по квартире, стремление куда-то бежать. В последние месяцы она практически не спит, и, что хуже всего, это постоянное нервное напряжение уже сказывается на их годовалой дочке.
ЛЮБЫЕ КАТАСТРОФЫ ОТРАЖАЮТСЯ
НА ВСЕХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ О НИХ ЗНАЮТ.
ОДНИ ПЕРЕЖИВАЮТ БОЛЬ И ОТЧАЯНИЕ ЖЕРТВ ТРАГЕДИИ,
ДРУГИЕ ПЕРЕСТАЮТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ,
ТРЕТЬИ ГОТОВЯТСЯ К ХУДШЕМУ.
Из наших бесед стало очевидным, что причина расстройства – страх перед терактом, вызванный картинами разрушений, которые она во множестве видела в выпусках новостей по телевизору. «Страшно не за себя, а за своё маленькое сокровище», – рассказывала пациентка. Женщина изводила себя и близких навязчивыми мыслями о возможности повторения трагедии, чтением всяческой литературы по этому поводу, бесконечными перестановками мебели, составлением плана действий на случай подобной ситуации. Всегда держала наготове тёплые вещи, ложилась спать одетой и так далее. Причём жили они даже не в Москве, а в ближайшем пригороде.
Почему такое возможно? Тут есть о чём задуматься. Мне кажется, дело в том, что любая катастрофа – это своего рода локальный «чернобыль», психоэнергетический коллапс. Вобрав в себя все тёмные эманации – смерть и разрушение, боль и отчаяние, страх и ужас – эпицентр трагедии начинает излучать их в окружающую среду. Мы все находимся в едином информационном поле, все являемся частичками ноосферы, этого огромного живого океана, и такое излучение не может не сказываться как на всей системе в целом, так и на каждой её песчинке в отдельности.
Когда я об этом размышляю, мне на память неизменно приходят слова, вдохновившие в своё время Хемингуэя: «И потому не спрашивай, по ком звонит колокол – он звонит по тебе».
На бочке с порохом
«Существует определённое различие между ситуациями, спровоцированными природными катаклизмами или техническими авариями, и теми, которые возникают в результате террористических действий, – считает военный психолог Андрей Федотов. – Я для себя это давно отметил. У меня было уже порядка 20 выездов в зоны ЧС, и я не раз мог убедиться, что отличаются и восприятие людьми самих событий, и их реакции на последствия.
Разрушения, вызванные разгулом стихии, всегда имеют оттенок некой фатальности – да, это природа, она не всегда подвластна человеку. Техногенные катастрофы, даже если они обусловлены человеческим фактором, тоже могут быть приняты сознанием – они, как правило, не несут на себе печати умышленных, злонамеренных действий. Терроризм же, по моему глубокому убеждению, находится вообще вне ментальной сферы человека и вне общечеловеческой культуры, ибо никакие идеи или цели не стоят ни одной отнятой ради них жизни. Это может прозвучать штампом, но терроризм – это одно из проявлений вселенского зла.
Человек зачастую слаб и нестоек, а духовная пустота очень быстро заполняется отрицательными энергиями – злобой, ненавистью, гневом. Стоит лишь чуть-чуть приоткрыть им дверь. И постепенно инфицированный ненавистью человек становится проводником чужой злой воли, бездумным орудием хаоса. Питающие его энергии создают иллюзию силы и могущества, но по сути дела, для них он – лишь расходный материал, пища. Заразив сознание такого индивидуума вирусом безумия, зло ищет пути расширения своего влияния, распространения этой инфекции. И тот, кто прежде был человеком, теперь несёт в мир смерть и разрушение, в свою очередь заражая живых ненавистью и страхом. Как это происходит, я видел в Беслане.
НЕНАВИСТЬ – ЭТО ИНФЕКЦИЯ,
КОТОРАЯ ПРОНИКАЕТ В ПУСТЫЕ ДУШИ
И ЗАРАЖАЕТ ЛЮДЕЙ.
Большое скопление людей всегда таит в себе опасность неконтролируемого проявления эмоций и вспышек агрессии. В особенности это относится к району, где развиваются трагические события. Нервы здесь у всех в высшей степени напряжены, а градус эмоций и душевной боли просто зашкаливает. В этих условиях от малейшей искры может так полыхнуть, что в результате уже нечего будет тушить. В наши задачи, кроме всего прочего, входит и контроль обстановки на предмет психоэмоциональной взрывоопасности. Когда мы столкнулись с подобными процессами в Беслане, мы практически ещё не имели никакого опыта. Изучение всего произошедшего дало нам возможность в дальнейшем в определённой мере предугадывать ход событий и избегать негативных проявлений.
В тяжкий период ожидания, длившийся три дня, который был связан с неизвестностью относительно судьбы заложников и путей разрешения конфликта, среди людей повисло просто невообразимое напряжение. И с каждым часом оно лишь нарастало. Казалось, это всеобщее напряжение тогда настолько сгустилось, что его можно было резать ножом, как масло. Каждый тогда находился в каком-то своем индивидуальном стрессовом состоянии – у кого-то случались истерики, кто-то едва справлялся с нервозностью. Для части родственников была характерна тотальная замкнутость, другие не могли сдержать агрессию. И таких психологически обострённых состояний отмечалось значительное количество.
Где-то в конце второго дня ожидания начался переход к активной фазе. Среди жителей города и родственников заложников зазвучали призывы к самостоятельным действиям, в том числе вооружённым, обвинения властей, начались поиски виноватых и призывы к расправе, импульсивные выплески отчаяния и гнева. В общем, стали нарастать всевозможные аффективные реакции. Заражённая этим безумием разъярённая толпа всё сильнее бесновалась, что грозило самыми непредсказуемыми последствиями. Как я уже говорил, хаотические энергии, проникнув в эмоционально подготовленное массовое сознание, могут очень быстро превратить обычных людей в грозное оружие разрушения. Причём каждый взятый в отдельности человек до этого, как правило, даже представить себе не мог, что способен на подобное. К этому нужно быть готовым, внимательно наблюдать за ситуацией, чтобы не допустить угрожающего поворота событий.
Отсутствие достоверной информации всегда порождает слухи, порой самые иррациональные. И когда они попадают в раскалённую эмоциональную атмосферу – жди беды. Достаточно лишь спичку поднести – и случится взрыв. В Беслане в подобной ситуации мы определяли провокаторов и выводили их из толпы. Если бы мы этого не делали, могло возникнуть серьёзное межэтническое столкновение. И непременно были бы новые жертвы среди мирного населения. Много жертв.
В экстремальных условиях чрезвычайной ситуации психологи стараются создавать и поддерживать экологичную, безопасную среду – как для пострадавших, так и для сотрудников экстренных служб. Позитивную роль в формировании сдержанного эмоционального фона может играть и помощь представителей традиционных религиозных конфессий – православия, мусульманства, буддизма. Надо сказать, я не помню за последнее время ни одной чрезвычайной ситуации, где в ликвидации последствий не участвовали бы служители церкви. Религиозное сопровождение и поддержка жертв тоже очень важны, ведь к профессиональному психотерапевту не каждый готов обратиться, хотя бы из обычного предубеждения типа «я же не псих». А религия – это вроде как другое, это духовный выбор, святое дело. Поэтому такая помощь никогда не бывает лишней.
К сожалению, этим часто пользуются откровенные мошенники под видом проповедников всякого рода сект. Почувствовав запах денег, стаи подобных стервятников слетаются со всего мира к местам масштабных катастроф. Материальная помощь, которую государство направляет пострадавшим в результате бедствия, и поток добровольных пожертвований простых граждан неизменно притягивают миссионеров-самозванцев всех мастей. Так это было и в убитом горем Беслане, который в первые же дни после трагедии заполонили саентологи и прочие шарлатаны.
В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
ВСЕГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ РАЗЛИЧНОГО РОДА
«МИССИИ» И ПРОПОВЕДНИКИ.
ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТИ ЛЮДИ НЕ ЖЕЛАЮТ ПОМОЧЬ,
А ПРОСТО ХОТЯТ НАЖИТЬСЯ НА ЧУЖОМ ГОРЕ.
Мы практически сразу заметили результаты этой миссионерской, с позволения сказать, «помощи». Под специфическим воздействием саентологов, индуцирующих те самые энергии хаоса, у пострадавших и многих жителей города возникали неадекватные реакции на окружающее, вспышки гнева и ненависти, нарастали проявления негативных эмоций, резко подскочил уровень агрессивности. Властные структуры тогда оперативно среагировали, и общими усилиями город довольно быстро удалось очистить от этих шакалов».
Огонь, вода и медные трубы
«Детонатором для взрыва негативных эмоций во время чрезвычайных ситуаций, как ни прискорбно, нередко становятся средства массовой информации, в первую очередь, телевидение, – продолжает размышлять Андрей Федотов. – В погоне за яркой картинкой и за рейтингом журналисты порой забывают о своей личной ответственности за происходящее в зоне бедствий, в том числе, за психическое состояние находящихся там людей.
Степень влияния СМИ на состояние пострадавших в ЧС для меня особенно наглядно проявилась в августе 2000-го года, когда мы с коллегами, психологами и психотерапевтами, работали с родными членов экипажа затонувшей подводной лодки «Курск». Наиболее ощутимо это влияние сказывалось в период неопределённости и ожидания результатов спасательной операции. Нетрудно представить, как нужна родственникам информация о том, что делается для спасения их близких, как они цепляются за любые новые сведения. С другой стороны, информационная неразбериха способна лишь спровоцировать раскачку эмоций и нарастание общей напряжённости.
Именно так происходило и во время кризиса с гибелью АПЛ «Курск». Мало того, что освещение происходивших событий в СМИ отличалось повышенной эмоциональностью в ущерб беспристрастному анализу и объективным оценкам, значительная часть сообщений вообще не имела под собой достоверной основы. В погоне за сенсациями некоторые СМИ хватались за любую новую информацию, в том числе из непроверенных источников, кидаясь из одной крайности в другую – от сообщений об успешно проводимой спасательной операции до категоричных заявлений о гибели экипажа. Причём эти оценки менялись на противоположные чуть ли не ежечасно, то поддерживая хрупкие надежды на спасение моряков, то убивая их.
В результате противоречивые сообщения, на которые не скупились СМИ, способствовали недопустимому затягиванию реакции горя у родственников подводников, а каждый выпуск новостей для них становился новым психотравмирующим ударом, обостряя реакции на стресс и переводя его в хроническую форму, доводя эмоциональную и психическую напряжённость до критического уровня.
Мне трудно беспристрастно судить, чего в таком отношении к чужой трагедии больше – глупости, безответственности или душевной глухоты. Ведь за подобными событиями всегда стоят судьбы людей, их психическое здоровье, за которое мы боремся. Неужели они менее ценны, чем позиция в рейтинге или эксклюзивные кадры в блоке новостей, которые на минуту задержат внимание обывателя?.. Да, есть такое понятие «свобода слова», но есть ли понимание свободы выбора этого самого слова – большой вопрос».
Те, кто удержат
«Всё что с нами происходит, происходит не просто так, – убеждена психолог Татьяна Самохина. – Это не какая-то карма, порой события развиваются в рамках наших же сценариев. И иногда мы сами можем некоторые ситуации притягивать, моделировать. Всё что есть – результат нашей же деятельности. Даже можно сказать (хотя это не совсем профессионально, а скорее имеет религиозный акцент), некоторые события происходят с нами для того, чтобы мы что-то переосмыслили.
Попадая в беду, в отчаянии от случившегося, мы мучаемся вопросами: за что?.. почему это случилось со мной?.. почему я?.. Мы часто слышали это и от пострадавших в ЧС. По моему мнению, это вопросы, на которые нет ответа. А если и искать на них ответ, то он ничего не даст, напротив, может лишь способствовать усилению чувства вины, отчаяния, беспомощности, которые сами по себе разрушительны для человека.
Когда человек задаётся вопросами «за что» и «почему», он автоматически встаёт в позицию жертвы, а из неё уже очень сложно выбраться. Правильнее переконструировать вопрос: для чего? И мы активно в этом помогаем пострадавшим. Такая постановка вопроса способствует мобилизации собственного ресурса, именно это может привести к действительному осознанию случившегося, к переосмыслению каких-то аспектов своей жизни и их переоценке, к обретению смысла дальнейшей жизни. Это позволит человеку не обрекать себя на самоуничтожение, но, осознав скоротечность жизни, изменить какие-то приоритеты, понять, что ценность жизни – в самой жизни. Мы есть у себя. И это – самая большая ценность.
В любых ситуациях необходимо стремиться сохранять своё душевное здоровье, не сжигать всю жизненную энергию в горниле негативных эмоций. Делать, что можешь, позитивно мыслить, радоваться и быть благодарным тому, что имеешь. Если научиться хотя бы с пониманием принимать все (пусть и самые суровые) уроки судьбы, то можно пережить и любой психотравмирующий опыт. Организм человека биологически устроен так, что он способен переносить физическую боль любой интенсивности, убить же нас может именно наша психическая реакция на неё».
И в этот момент кто-то должен быть рядом. Обязательно должен. Тот, кто не только скажет «держись!», но и удержит. Кто поможет увидеть путь к свету. Кто знает все движения души и умеет сделать так, чтобы душевная боль не стала необратимой катастрофой для личности.
9. ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ
Это глава о том, как работа врачей, спасающих пострадавших от Чернобыльской катастрофы, превратилась в подвиг
Солнечный удар
«Я хорошо помню ту первомайскую демонстрацию в Киеве, – рассказывает врач-терапевт Михаил Батурин. – Стояла прекрасная погода, было тепло и солнечно. Колонны нарядных весёлых людей заполнили центр города. Громко играла музыка, демонстранты радостно улыбались, махая красными флажками. Розовощёкие карапузы гордо шествовали рядом с родителями, таща за собой воздушные шары, кто по одному, а кто целыми гроздьями. Парочка таких шариков, случайно отпущенных малышом, устремилась вверх, подхваченная лёгким весенним ветерком. Почему-то отчётливо запомнилось, как я тогда смотрел, жмурясь и прикрываясь ладонью от солнца, на эти уплывающие яркие шарики, под безутешный плач ребенка, скрытого от меня толпой».
Колонна медленно двигалась по направлению к Крещатику, то и дело останавливаясь. В одну из таких остановок Михаил услышал крики «Врача, врача! Ребёнку плохо!» Он стал протискиваться сквозь толпу и вскоре увидел ошалелого вида молодого мужчину, несущего на руках неподвижного мальчика лет семи. Люди перед ним расступались. Отец от волнения еле слышно говорил: «Помогите, пожалуйста, помогите, Коленьке плохо…»
Недалеко от обочины в тени деревьев стояла скамейка, куда положили мальчика. Михаил осмотрел его и достаточно быстро привел его в чувство. Коля жаловался на тошноту, головокружение, слабость и сухость во рту. У кого-то нашлась бутылка минералки. Малышу дали выпить воды, протёрли лицо и сделали компресс. Минут через десять мальчик почувствовал себя лучше. Михаил посоветовал немедленно отвезти его в дежурную больницу.
«Казалось бы, ничем не примечательный рядовой случай, если бы не одно «но»… Мой знакомый, коллега, дежуривший на Первомай в бригаде «скорой помощи», рассказывал мне потом, что подобный случай был в тот день не единственный. Необычно большое количество детей на демонстрации теряли сознание, и это при том, что, особой жары не было. Всё стало понятным лишь несколько дней спустя, когда по городу поползли тревожные слухи…»
Так начался май 1986 года.
С момента катастрофы на Чернобыльской АЭС до первомайского праздника прошло меньше недели. Выбросы от взрыва взметнулись на высоту более десяти километров, где несущие смерть частицы пыли были подхвачены мощными воздушными потоками. Радиоактивное облако отчётливо наблюдалось с находящейся на орбите космической станции в течение нескольких дней после аварии. Тогда тщательно скрывалось, какой радиоактивный фон присутствовал в Киеве во время проведения первомайской демонстрации, но, судя по косвенным признакам, он был весьма значительным.
Владимир Щербицкий, бывший в то время первым секретарём ЦК Компартии Украины, вплоть до самой последней минуты вёл отчаянные телефонные переговоры с Горбачёвым, пытаясь добиться отмены демонстрации, на что получил категорический отказ.
«Точное количество людей, подвергшихся тогда облучению, сейчас уже установить невозможно, но совершенно очевидно, что это далеко не одна тысяча человек. Десятки умерли сразу, сотни – спустя годы, многие навсегда потеряли здоровье. При этом не исключено, что этот чёрный след аварии растянется ещё на долгие годы. Радиация ведь это такая штука, которая может громко аукнуться даже спустя 2–3 поколения».
НЕТ СТРАШНЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ЧЕМ ОСОЗНАННО ПОДВЕРГАТЬ
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ОПАСНОСТИ
РАДИ ИДЕОЛОГИИ.
Как показал дальнейший ход событий, «солнечный удар» тогда получила вся наша страна.
Словно бы не моя жизнь
«В ночь аварии меня вызвали по телефону из приёмного отделения, – рассказывала Татьяна М., работавшая фельдшером в медсанчасти № 126 города Припять. – Голос у медсестры, которая мне тогда позвонила, сильно дрожал, она то захлёбывалась, то внезапно замолкала. Добиться чего-то вразумительного от неё я так и не смогла, но и без того стало понятно, что случилась беда. Последующие события понеслись так стремительно, как будто происходили в каком-то фильме о совсем другой, словно бы не моей жизни, настолько всё это было неожиданным и страшным.
Когда я только подходила к больнице, первое, что услышала – какой-то совершенно нечеловеческий крик боли, сначала один, затем другой, а потом с десяток голосов слились в один общий ужасающий стон. Я в медицине уже далеко не новичок, однако всё моё тело от этого озноб прошиб – наверное, такие крики можно услышать лишь в аду. У приёмного отделения стояли две машины скорой помощи, и из них выгружали полуживых людей. Кого-то сразу клали на носилки, кто-то ковылял сам. Лица и руки у многих оказались сильно обожжены. Глаза санитарки, помогавшей выгружать больных, были в слезах, она что-то говорила, пыталась успокоить, а слёзы всё текли и текли по её лицу.
Приёмное отделение больницы, рассчитанное на одновременную обработку не более 10 человек, оказалось полностью забито поступавшими больными. На многих из них видела военную форму. Как позже мне сказали, это были пожарные, первыми прибывшие на борьбу с аварией.
Многим требовалась незамедлительная медицинская помощь, а медперсонала катастрофически не хватало. Ощущалась острая необходимость не только в квалифицированных врачах и фельдшерах, но даже в медсёстрах и санитарках. Изначально в ту страшную ночь на скорой помощи дежурил один врач и один фельдшер. Плюс к этому в приёмном покое находились ещё медсестра и санитарка. Они в итоге и приняли на себя первый вал пострадавших. Потом уже всех, кого возможно, обзвонили, а за остальными послали людей по адресам. К огромному сожалению, так совпало, что день был субботним и многие успели уехать за город.
Внезапно из-за большой дозы радиации у нескольких человек одновременно началась сильная рвота, они бросились к единственному находившемуся по близости ведру, и их стало рвать одновременно. В промежутках между приступами кто-то из них пытался отвечать на вопросы терапевта по поводу дозы облучения. Даже примерных уровней радиации на станции, а тем более полученных доз никто тогда не знал. Говорили, что на АЭС сейчас везде пыль и грязь, очень многое разрушено, а вся станция является зоной мощного излучения.
Смотреть на вновь поступающих людей было действительно страшно. Некоторых бил сильный озноб, другие пошатывались, как пьяные, с трудом ориентировались. Многие были сильно, до волдырей, обожжены, лица покрывала коричневая маска так называемого ядерного загара, некоторые же, напротив, выглядели белыми, словно мел. Одни казались неестественно сильно возбуждёнными, другие, наоборот, чрезвычайно заторможенными.
По нашей просьбе все прибывающие складывали свои личные вещи и документы прямо при входе, на подоконник. Конечно же, сортировать их тогда не было никакой возможности, так и лежало всё в общей куче. С собой врачи запретили брать в терапевтическое отделение любые личные вещи – кольца, часы, цепочки – всё это к тому времени уже было дополнительным источником радиации. Дальше с людей под душем смывали радиоактивную пыль и переодевали в чистую одежду. Когда в приёмном отделении закончились комплекты чистого белья, пациентов стали просто обёртывать в простыни.
Уровень радиации в больнице, который периодически проверял дозиметрист, всё время увеличивался. Направленные нам в помощь работницы с «Энергомонтажа» постоянно мыли полы во всех помещениях, прежде всего, в приёмном покое и палатах, но это мало помогало, фонило сильно. «Грязную» одежду, сапоги, каски пожарных – всё это сносили в подвал, чтобы хоть как-то оградить больных и персонал от этих дополнительных источников радиации.
Часть терапевтического отделения к тому времени стояла на ремонте, а оставшиеся места оказались практически полностью заполнены больными. Мы вынуждены были в авральном порядке отправлять домой всех лежавших у нас до этого пациентов, чтобы освободить койки для вновь поступающих, а кроме того, не подвергать их самих дополнительному облучению. Из-за отсутствия времени переодеться у них не было никакой возможности, и они так и расходились из больницы по ночным городским улицам в больничных пижамах.
ПОСЛЕ ВЗРЫВА НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ САМООТВЕРЖЕННО И ОСОЗНАННО
ПОДВЕРГАЛИСЬ ОБЛУЧЕНИЮ РАДИ СПАСЕНИЯ
НЕСЧАСТНЫХ ЛЮДЕЙ, ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ ЗОНЫ ЧС.
Среди других пострадавших был муж одной из наших медсестёр, Володя. Его привезли с переломом позвоночника и рёбер, сильно обожжённого радиоактивным паром, с белым, неподвижным, будто застывшая гипсовая маска, лицом. Почти всё время он был без сознания, но когда на некоторое время приходил в себя, то просил нас не подходить к нему слишком близко, так как он излучал радиацию. Каким мужеством нужно обладать, чтобы в такой ситуации думать не о себе, а о ближних!
Весь основной вал работы по оказанию помощи пациентам лёг в то время на трёх-четырёх врачей-терапевтов, которых удалось доставить в больницу. К счастью, у нас тогда нашлись специальные комплекты для оказания помощи при лучевом поражении, хранившиеся как раз на экстренный случай радиационной аварии. Мы сразу же использовали по назначению имеющиеся там внутривенные препараты. Спустя какое-то время практически все пострадавшие уже лежали под капельницами.
В ту первую самую страшную ночь и врачи, и медсёстры, и санитарки, и фельдшеры – все работали на пределе возможного, из последних сил стараясь сделать максимум и совершить для несчастных обожжённых людей чудо – сохранить их жизни и здоровье, понимая, что обрабатывая и перевязывая раны, принимают на себя опасную дозу радиации.
К 10 часам утра 26 апреля наша больница таким образом приняла около ста человек. Вечером того же дня прибыла аварийная бригада врачей из московской больницы № 6, единственной в Союзе, специализировавшейся на лечении лучевой болезни. Они отобрали для немедленной эвакуации в Москву первую партию наиболее тяжёлых пострадавших, которых ночью и отправили туда самолётом. Жаль, что Володя до этого так и не дожил. Он умер утром в реанимационном отделении».
Этот рассказ о первых часах после аварии записан со слов фельдшера Татьяны её сестрой Людмилой. Сама же Татьяна умерла спустя полгода в больнице Киева.
На другой планете
«К Чернобыльской АЭС я выехал примерно спустя час после взрыва, – рассказывает водитель «скорой помощи» Алексей Г. – Врачей и фельдшеров на «скорой» тогда катастрофически не хватало, поэтому в машине кроме меня в тот момент больше никого не было. В мою задачу входило принять пострадавших, которым врач на месте окажет первую помощь, и отвести их в больницу Припяти».
На станции «скорой» на момент аварии дежурили диспетчер, а также врач и фельдшер, которым и достались первые, самые трудные выезды. Они тогда ехали в полную неизвестность, так как совершенно ничего не знали о том, что произошло на станции. У них не было с собой даже элементарных одноразовых респираторов, чтобы защититься от радиоактивной пыли, не говоря уже о какой-либо спецодежде. Не было даже препаратов йода, их позже подвезли из медсанчасти.
КАЖДЫЙ ВРАЧ, РАБОТАВШИЙ В ЗОНЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ –
НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ.
«Первое, что я увидел – огромное огненное зарево, окрасившее собой полнеба. Именно в него, в этот пылающий где-то впереди костёр и ехал я на своей машине вслед за другой «скорой». Всё это выглядело словно какие-то адские врата. Как позже выяснилось, такое сравнение было недалеко от истины. Помню страшный жар вокруг, копоть, терпкий дым горящего битума, высушивающий горло. Щипало в глазах, через некоторое время начинал душить кашель.
Когда мы подъехали, десятка полтора человек уже ждали нас около одной из машин, где врач их осматривал и обрабатывал раны. В основном у людей были ожоги. Сильные ожоги. Лица и руки какого-то, как пурпурного цвета, сплошь покрытые волдырями, многие еле держались на ногах. Врач делал им уколы и помогал садиться в машины. Практически все жаловались на сильную головную боль, сухость во рту и тошноту.
Первую машину уже отправили, но постоянно подходили всё новые и новые пострадавшие, которых опалило это страшное дыхание невидимой смерти. Выглядели они так, словно только что побывали на какой-то другой планете, совершенно чуждой всему живому. У многих пожарных проявлялось необычно сильное перевозбуждение, на пределе возможностей нервной системы. Поэтому и кололи им, скорее всего, успокоительное.
С фельдшером, который приехал одновременно со мной в соседней машине, мы попытались выяснить, почему людей принимают прямо на улице, ведь насколько нам было известно, на станции имелся медпункт. Там обрабатывать пострадавших было бы значительно удобнее, учитывая, что он специально создан для оказания помощи при радиационной аварии. Как оказалось, медпункт этот тогда был надёжно закрыт, поскольку дежурство в нём велось лишь в дневное время. Вот так из-за административных нелепостей были нарушены элементарные правила, которые, возможно, кому-то могли помочь сохранить здоровье и жизнь.
Всех пострадавших сначала должны были дезактивировать именно там, в санпропускнике самой АЭС – мыть и менять заражённую, «грязную» одежду на чистую и только после этого везти в больницу, чтобы максимально ограничить там уровень радиации. В конце концов, дверь здравпункта взломали и к утру ребят стали отвозить в больницу уже обработанными и переодетыми.
Вскоре мою машину полностью загрузили пострадавшими, и я выехал в сторону больницы. Не помню уже, сколько подобных рейсов пришлось сделать за эту ночь и последующее утро, но таких ужасов, которых я тогда насмотрелся, с избытком хватило до конца дней. Мне и сейчас иногда снится Припять и шатающиеся от радиации полуживые люди, лица которых покрыты густым ядерным загаром».
Тогда так и не сработала в полную силу специально разработанная система оказания первой помощи больным при подобных авариях. Если бы она была задействована, многих жертв удалось бы избежать. Как всегда в таких случаях, за ошибки и преступную халатность начальства расплачиваться пришлось простым людям. Только благодаря личному мужеству и самоотверженности медиков удалось справиться с первой, самой тяжёлой волной пострадавших.
Практически все врачи и большинство персонала «скорой помощи», которые в ту ночь выезжали на станцию для оказания экстренных мер и эвакуации больных, на следующий день сами оказались на больничных койках. Многие умерли в течение года.
Самый страшный враг невидим
«Когда произошла Чернобыльская авария, меня, как и многих других резервистов, вызвали в военкомат и сказали, что нужно послужить стране, – рассказывает врач-терапевт Семён Тихонов. Мы были так воспитаны – помощь другим людям, попавшим в беду, воспринималась как дело чести. Ехали к Чернобылю, полностью отдавая себе отчёт, что кому-то из нас, возможно, суждено не вернуться оттуда или стать инвалидом, получив сильную дозу облучения. Многие догадывались, что истинные масштабы аварии и радиационная обстановка в зоне катастрофы замалчивались.
Меня прикомандировали в качестве военврача к уже сформированному полку резервистов. Рядом с нами по периметру 30-километровой зоны АЭС стояли такие же лагеря подразделений, прибывших со всей страны. Основная задача, которая стояла перед нами, это деактивация, то есть обеззараживание местности. А, соответственно, передо мной – следить за тем, чтобы личный состав не получил лишней дозы радиации и был в состоянии выполнить основную задачу.
Никто из ребят не старался спрятаться за спины других и уклониться от этой поездки. Высаживались из поезда утром, неподалёку от соснового леса. Помню, нас поразило то, что хвоя всех деревьев имела ярко-рыжий цвет. Стоял такой туман, что метрах в семи уже практически ничего не было видно. Туман этот был странный, плотный, словно облако, и, несмотря на то, что дело шло уже часам к одиннадцати, он никак не рассеивался.
САМЫЕ СТРАШНЫЕ КАТАСТРОФЫ
ПРОИСХОДЯТ НАЯВУ, А НЕ В КИНО.
Помню, проходила мимо нас какая-то бабулька, ведя за собой на верёвке слегка ошалевшую козу, и кто-то у неё спросил, что это за туман здесь такой необычный. На что она слегка сокрушённо ответила, мол, не туман это вовсе, а «радуация» летает, и нету с ней никакого сладу. Прошла ещё несколько шагов и растворилась в белой дымке.
Когда мы только прибыли в Припять, я ловил себя на ощущении, что вокруг всё происходит как во сне – пустые улицы и какая-то совершенно мёртвая тишина, будто здесь взорвали нейтронную бомбу и все люди вымерли. Чуть больше чем за сутки город перестал существовать. При этом осталось всё – дома, магазины, парикмахерские, детские площадки и игрушки. Всё, кроме людей. И где-то там, внутри этой тишины поселилась смерть.
Странной и порой жутковатой была наша работа, мы проводили дезактивацию в абсолютно обезлюдевших деревнях и посёлках. Однажды зашли во двор дома, в котором были накрыты огромные длинные свадебные столы, полные различных угощений. Стояли недопитые бутылки, тарелки, полные еды… А за домом был привязан у изгороди тощий телёнок с безумными глазами, который, видимо, к тому времени не ел и не пил уже несколько дней. Совершенно непередаваемое, жуткое зрелище! И во всём этом, и вокруг, и внутри притаилась неотвратимая погибель, радиоактивные элементы обнаруживались везде – в воде, в почве, в пыли, клубившейся над дорогами.
Здешним жителям, судя по всему, мало что объясняли, власти выполняли полученное сверху распоряжение и гнали их прочь с насиженных мест. Люди в панике бросали всё.
Наши ребята снимали асфальт, мыли улицы, срезали верхний слой почвы. При этом общий радиационный фон существенно уменьшался, приезжие комиссии с удовлетворением фиксировали все эти изменения, записывали их в толстые журналы и быстренько уезжали. Но через несколько дней всё возвращалось на круги своя – ветер менялся, принося с избытком новую порцию радиоактивной пыли и датчики вновь зашкаливали.
Труднее всего было изменить обыденное сознание тех, с кем я бок о бок нёс эту нелёгкую службу. Я вновь и вновь пытался напоминать, объяснять, что самый страшный враг невидим и здесь он подкарауливает нас везде – в воздухе, в воде, в земле. Он незаметно убивает всё, что с ним соприкасается. Многие из ребят отслужили раньше по два года в спецвойсках, но это была лишь простая учёба. Здесь всё было по-настоящему, и любая беспечность в дальнейшем могла стоить им здоровья.
В самом начале нарушения радиационной безопасности были сплошь и рядом – обработка одежды проводилась плохо, под душем, где должны были смывать радиоактивную пыль, мылись без особого энтузиазма. После этого сразу же укладывались спать. Бывали случаи, когда ребята просто падали от усталости на койки в «грязной» одежде. Один раз я показательно замерил прибором подушки и одеяла – фон был настолько сильным, что в результате их пришлось уничтожить. Эта демонстрация подействовала и проблем с безалаберностью существенно поубавилось.
ЕСЛИ МЫ САМИ НЕ ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ, ТО НИКТО НЕ ПОЗАБОТИТСЯ! В ЗОНЕ КАТАСТРОФЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОДДЕРЖКА ТОВАРИЩЕЙ – ЕДИНСТВЕННАЯ ОПОРА И НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ.
Несмотря на меры индивидуальной защиты, активнее всего продолжали впитывать радиацию волосы. Единственное, что в этом отношении действительно помогало, так это радикальное решение проблемы – стрижка «ёжик».
Много происходило различных историй, когда по глупости и недосмотру наши резервисты едва не нахватались дополнительных доз излучения. Скажем, в зоне высокой радиоактивности было строжайше запрещено что-либо есть, пить, даже курить сигареты. При этом стояла совершенно нестерпимая жара. Воду привозили в бутылях, и как-то уж повелось, что бутыли эти открывали при помощи пряжки ремня. На работе ребята были в спецкостюмах химзащиты, после этого все открытые части протирались. Но когда позже ехали в машине, поднявшаяся пыль забивалась, в том числе, и под пряжку. Потом, когда такой пряжкой открывали бутыли с водой, радиоактивные частицы попадали в воду. Так что пришлось приложить определённые усилия, чтобы полностью изжить эту опасную привычку.
Я регулярно проводил медосмотры и замеры, с положенной периодичностью кормил всех огромными таблетками йодистого калия, обрабатывал раны, вскрывал абсцессы, капал в воспалённые глаза. Следил, чтобы мои ребята впитали в себя как можно меньше разлитой вокруг невидимой смерти. Печальнее всего было осознавать, насколько мало от меня зависело всё остальное».
Клиника
Наиболее тяжёлые больные из числа пострадавших в аварии лечились в московской больнице № 6 – клинике Института биофизики, занимающейся проблемами радиационной медицины. Эта клиника была первым научным медицинским учреждением в СССР, образованным в 1951 году для медицинского обслуживания работников атомной промышленности и пострадавших в результате радиационных аварий.
Вот что рассказывала о чернобыльских событиях профессор Ангелина Гуськова, врач-радиолог клинической больницы ИБФ: «Мне позвонили из медсанчасти. Говорят, на станции пожар, слышны какие-то взрывы. Вдруг связь забивается, слышно плохо. Это было через час после взрыва, то есть в половине третьего ночи. Наверное, я первой в Москве узнала о случившемся. Сразу же позвонила дежурному Третьего Главного управления Минздрава, сказала, что мне нужна хорошая связь с Чернобыльской АЭС, и попросила прислать машину.
Вскоре я уже была в управлении. Оттуда связь лучше. Получила сведения о пострадавших. Рвота, краснота на теле, слабость, у одного пациента понос, то есть типичные признаки острой лучевой болезни. Однако меня пытались убедить, что горит пластик и люди отравляются ядовитыми газами. Из новых сообщений узнала, что в медсанчасти число пострадавших увеличивается: уже сто двадцать человек. Я им говорю: ясно, что это не химия, а лучевое поражение, будем принимать всех… Еду в клинику. Вызываю аварийную бригаду, чтобы отправить ее в Припять. К их возвращению клиника должна быть готова к приему больных. В пять утра бригада была у меня вся в сборе, а ждать пришлось несколько часов! «Наверху» сомневались в необходимости вылета бригады в Припять! Самолет дали только в два часа дня, хотя врачи могли быть в Чернобыле на восемь часов раньше.
На месте стало ясно, что мы имеем дело с радиационной аварией. Сначала в Москву отправили самых тяжёлых. В клинику больные начали поступать через сутки – на следующее утро. К этому времени больница была уже в основном освобождена. Как и предусматривалось для таких случаев, назначили начальников отделений – наших сотрудников. Клиника полностью перешла на новый режим работы.
Мы не были готовы к такому потоку больных, но оперативно решали все проблемы. Наше счастье, что было тепло и больных привозили раздетыми. Рабочую одежду с них снимали там, перед отлетом, а второй раз мы раздевали их уже в клинике. Всех мыли, отбирали «грязные» инструменты, книги, вещи – всё было заражено. Самых тяжёлых разместили на верхнем этаже. Ниже – тех, кто пострадал меньше. И началась лечебная работа».
ЕСЛИ БЫ НЕ ХАЛАТНОСТЬ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ,
СПАСТИ УДАЛОСЬ БЫ НАМНОГО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ.
НО ВРЕМЯ БЫЛО УПУЩЕНО.
Общее число пациентов, госпитализированных в клиники Москвы и Киева с предварительным диагнозом «острая лучевая болезнь» составило порядка 350 человек. Из 129 человек, доставленных самолётами в Москву, диагноз впоследствии подтвердился у 108, из обследованных в Киеве – у 26 больных. Позднее в клинике ИБФ обследовались ещё 148 человек из числа первых участников ликвидации аварии, а в последующие 3 года здесь продолжали лечение и повторное обследование около 100 больных острой лучевой болезнью ежегодно. Всего же для исключения данного диагноза было обследовано свыше 3000 человек.
Если говорить только об острой лучевой болезни, то прямыми жертвами аварии на Чернобыльской АЭС стало 134 больных ОЛБ, из них в течение 4 месяцев умерло 28 человек, в отдалённые сроки (за последующие 25 лет) – ещё 21. Плюс 2 оператора, погибших в день аварии. Эти данные о числе прямых жертв катастрофы не столь шокирующие, как можно было бы предположить. Шокирует другое – то, что это, по сути, единственные относительно точные данные о людских потерях.
Что касается остальных данных, то, как указывается в материалах Чернобыльского форума: «Невозможно надежно определить с какой-либо точностью число случаев смертельных раковых заболеваний, вызванных облучением вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, как и фактическое воздействие стресса и страха, вызванных самой аварией и реакцией на неё. Небольшие различия в предположениях, касающихся радиационных рисков, могут привести к большим различиям в прогнозируемых медицинских последствиях, которые являются поэтому крайне неопределенными».
Секундомер жизни=
«Очень хорошо запомнился один эпизод из моего пребывания в зоне Чернобыльской АЭС, случившийся незадолго до моего отъезда домой, – рассказывает бывший ликвидатор, врач-рентгенолог Андрей Волков. – Наше подразделение стояло лагерем километрах в сорока от Припяти. Каждое утро нас привозили на территорию станции для проведения различных обеззараживающих работ. Одна из последних задач, которую нам поставили, была расчистка крыши третьего энергоблока от кусков высокорадиоактивного графита.
Представьте себе крышу величиной с футбольное поле. После взрыва четвёртого энергоблока вся она оказалась щедро засеяна кусками бетонных плит, разорванной арматуры, покорёженных стальных конструкций и различной величины осколками графитовых стержней, находившихся до этого внутри реактора. Взрыв оказался такой силы, что эти многочисленные обломки разбросало не только по всей обширной территории АЭС, но и далеко за её пределами. Некоторые из них были не больше футбольного мяча, другие – размером с легковую машину. При этом все они обладали высокой степенью радиоактивности. Но более всего смертоносным излучением были пропитаны куски графитового стержня, там уровень радиации просто зашкаливал. Именно их и хотели удалить с крыши прежде всего.
Как офицер я временно исполнял обязанности старшего в нашем небольшом подразделении, но самое главное, будучи при этом военврачом, я обязан был следить за состоянием здоровья резервистов и контролировать индивидуальную дозу облучения каждого из них. Изначально алгоритм действий казался предельно простым – сначала нужно было визуально определить нахождение подходящего по размерам куска графита, облачиться в специальный костюм, защищающий от радиации, выскочить на крышу, поместить выбранный кусок на лопату и сбросить его с края крыши там, где внизу стоял огроменный контейнер для сбора смертоносного мусора.
Сложность заключалась в том, что общий радиоактивный фон на этой крыше представлял собой значительную проблему, а уж запредельная радиоактивность графитовых обломков и вовсе не внушала оптимизма. Поэтому действовать необходимо было за считанные секунды. Как рентгенолог могу сказать, что по уровню излучения подобную экскурсию можно сравнить с целой серией рентгеновских снимков на память.
Я сам помогал просчитывать максимальное количество секунд, в течение которых человек мог безопасно находиться на крыше. Регламент получался жёсткий – 15 секунд, чтобы добежать до куска графита и погрузить его на лопату, 15 секунд – чтобы добраться до края крыши и сбросить этот хлам в контейнер и 15 секунд для того, чтобы вернуться назад. Дольше по времени находиться человеку там было смертельно опасно. Потом я сам принимал ребят и тщательно следил за состоянием их здоровья, чтобы никому не стало плохо. Обрабатывал различные раны и ожоги, проверял, чтобы не воспалялись глаза. Помню, как один из парней снял с руки часы, а там оказался сильнейший ожог. Так что работы мне как врачу хватало.
Мой последний выход на объект оказался самым запоминающимся.
Наша смена подходила к концу, практически все, кто выходил на крышу, уже вернулись. Я тоже только что отстрелялся и, отправив ребят спускаться вниз по лестнице, остался встречать последнюю группу из трёх человек. Вскоре появился один, затем секунд через десять другой. Пока по времени всё шло штатно. Вот тут-то и произошло непредвиденное. Последний замешкавшийся член группы, заметив, что отстаёт, слегка засуетился, рванулся вперёд и зацепился носком сапога за кусок выступающей бетонной плиты. В общем, падение его было весьма чувствительным. Невооружённым взглядом было видно, что без серьёзной травмы там не обошлось. Он попытался встать, но это у него не получилось – скорее всего, плита сдвинулась и прижала ногу.
Времени на анализ ситуации не было. Решение возникло моментально, на уровне инстинкта – на ходу надевая респиратор, я выскочил на крышу.
Добежать до пытавшегося освободить ногу солдата, было делом нескольких секунд. Я помог ему слегка развернуться, после чего аккуратно сдвинул кусок плиты и вытащил застрявшую ногу. Парень стонал от боли. Чутьё врача подсказывало, что сломан голеностоп. Обхватив пострадавшего обеими руками, я подставил ему плечо, и вместе мы двинулись на трёх ногах к выходу с крыши.
Мысленным взором я отчётливо увидел скользящую по циферблату стрелку секундомера, отсчитывающую не только секунды пребывания на ядерном солнцепёке, но и всю мою дальнейшую жизнь. Добравшись в наших тяжеленных костюмах до безопасного места, мы минут десять не могли отдышаться.
Уехать домой в ближайшие дни мне так и не удалось. Мы оба схватили приличную дозу радиации и отправились отдыхать на больничные койки. К счастью, нам повезло, всё закончилось благополучно. Алексей, которому я помог выбраться со злополучной крыши, действительно сломал голеностоп, и его сразу после лечения должны были отправить домой. Сам я отбыл чуть раньше, и когда зашёл перед отъездом к нему попрощаться, он подарил мне на память секундомер, как символ того, через что нам вместе довелось пройти. Этот секундомер до сих пор со мной, и порою глядя на него, я вспоминаю ту, другую секундную стрелку, которая стояла перед глазами, когда много лет назад я тащил парня по крыше четвёртого энергоблока».
ОБ АВТОРЕ
Ярослав Соколов родился в Москве в 1990 году. Окончил филологический факультет МГУ с красным дипломом и Институт журналистики и литературного творчества.
Публиковался в различных российских СМИ.
Долгое время работал пресс-секретарем крупного медицинского центра, где познакомился и подружился с талантливыми врачами – настоящими героями отечественной медицины. Именно эти знакомства натолкнули его на идею создания книги.
Служба Номер телефона
МЧС и пожарная охрана 101
Полиция 102
Скорая медицинская помощь 103
Газовая аварийная служба 104
Телефон экстренной помощи (общий),
в стандарте GSM. Вызов доступен
и при заблокированной клавиатуре,
и при отсутствии СИМ-карты 112
Главное управление МЧС России
по г. Москве (приемная) 8 (495) 650-70-89
Главное управление МЧС России
по г. Москве (по Государственной
противопожарной службе (приемная)) 8 (499) 246-89-46
Служба спасения 911 8 (495) 937-99-11
Мосводоканал (городские
подземные коммуникации) 8 (499) 763-34-34
Экстренная психологическая помощь 8 (495) 205-05-50


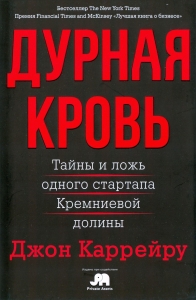

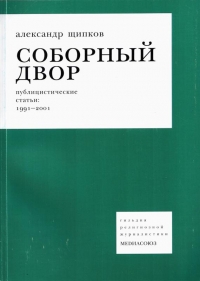
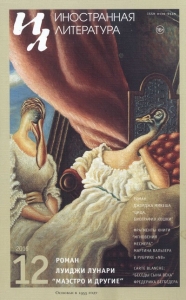


Комментарии к книге «Вызов принят. Невероятные истории спасения, рассказанные российскими врачами», Ярослав Андреевич Соколов
Всего 0 комментариев