Марина ЦВЕТАЕВА. Письма 1905-1923
1905
1-05. М.А. Цветаевой
<20 мая 1905 г.> [1]
Дорогая мама.
Вчера получили мы твою милую славную карточку. Сердечное за нее спасибо! Как мы рады, что тебе лучше, дорогая, ну вот, видишь. Бог помог тебе. Даю тебе честное слово, дорогая мамочка, что я наверное знала, что тебе будет лучше и видишь, я не ошиблась! Может быть мы все же вернемся в Россию! Как я рада, что тебе лучше, родная. Знаешь, мне купили платье (летнее). У меня только оно и есть для лета. Fr<äulein> Brinck [2] находит, что я должна иметь еще одно платье. Крепко целую!
Муся [3]Впервые — Русская мысль. 1991. 10 мая (публ. Л.А. Мнухина). СС-6. стр. 15. Печ. по тексту первой публикации, сверенному с оригиналом (архив Л.А. Мнухина).
Коротенькое письмо двенадцатилетней девочки своей матери является самым ранним из дошедших до нас писем Цветаевой. Написано оно в расположенном недалеко от Фрайбурга пансионе Бринк, где юные сестры Цветаевы, Марина и Ася, заканчивали учебный 1904/05 год.
2-05. A.A. Иловайской
<Лето 1905 г.> [4]
Дорогая Александра Александровна.
Извините пожалуйста что мы так долго Вам не писали, но последнее время мы ни о чем другом не могли думать, как о нашем освобождении из пансионской тюрьмы [5]. Здесь в Sanct Blasien природа чудесная, темные горы, покрытые густым еловым лесом, водопады, земные долины! А воздух-то какой чудный весь пропитанный смолой. Мы весь день гуляем в лесу и вполне наслаждаемся нашей волюшкой. Да, после Insti<tu>te Brinck St. Blasien просто рай. Тут есть две собаки и несколько кошек, которые живут с нами в большой дружбе. Ну, а что Лёра [6] и Оля [7] поделывают в Крыму? Давно мы ничего о них не слышали. Кланяйтесь пожалуйста Дмитрию Ивановичу [8] от меня, и Оле с Лёрой тоже, когда Вы им напишите. Крепко целует Вас
Ваша Маруся [9].Впервые — СС-6. стр. 15–16. Печ. по тексту первом публикации.
1906
1-06. A.A. Иловайской
Ялта, 8-го января 1906 г. [10]
Многоуважаемая Александра Александровна!
Сердечно благодарим Вас за Ваш чудный подарок. Какая это прекрасная книга, как дивно сделаны рисунки! Мы страшно любим книги и у нас скопилась порядочная библиотека. Ваша чудная книга доставила нам огромное удовольствие. Я как раз учу историю и «Царь Иоанн Грозный» [11] пришелся мне как нельзя более кстати. Живем мы в Ялте ничего себе, учимся, ожидаем письма из Москвы всегда с большим нетерпением. Мы готовимся в мае держать экзамен; Ася во второй, а я в четвертый класс и должны много учиться. Я должна пройти программу первых трех классов в эту зиму, Ася проходит программу первого [12].
Погода у нас очень хорошая, так тепло, что ходим в сад только в платьях. Но все же как ни хороша ялтинская погода и природа, сама она, Ялта препротивная и мы только и думаем, как бы поскорей в Москву. Ведь мы уже больше трех лет не видали Андрюши [13], а Лёры [14] больше двух. И вообще, в гостях хорошо, а дома куда лучше!
Еще раз благодарим Вас сердечно за Вашу чудную книгу. Сердечный привет от мамы и нас Вам и многоуважаемому Дмитрию Ивановичу [15].
Маруся и Ася ЦветаевыВпервые — Поэт и время. стр. 62. Печ. по СС-6. стр. 16.
Письмо написано сестрами Цветаевыми.
1907
1-07. И.З. и Е.А. Добротворским
23-го декабря 1907 г.
Дорогой Иван Зиновьевич и Елена Александровна!
Как-то Вы там поживаете? [16] Не занесены ли снегом? Сегодня мы с Илюшей [17] покупали елку, немного лысую с одного бока, но все же сносную. Поставили мы ее в нашей комнате, вернее в той, где наш книжный шкаф [18]. Будет ли у Вас елка? Много ли катается Андрей? [19] Не пугаются ли его встречные? Мы тут часто Вас вспоминаем и искренно Вам завидуем. От Валерии получилось письмо недавно, содержание которого наверно расскажет Надя [20]. Мы перебесились с Асей на цветных яйцах и теперь бесимся на открытках [21].
Пока до свидания! От души желаю Вам веселых праздников и всяких благ к Новому году.
Крепко Вас целую. Передайте, пожалуйста мой привет Кате [22].
Маруся.Впервые — Борисоглебье. стр. 196. Печ. по тексту первой публикации, сверенному с оригиналом (ДМЦ).
Письмо написано на художественной открытке с изображением сельского пейзажа.
1908
1-08. П.И. Юркевичу
<21 июля 1908 г. Орловка> [23]
На 18-ое июля
Когда твердишь: «Жизнь — скука, надо с ней Кончать, спасаясь от тоски». Нет ничего светлей и радостне́й Пожатья дружеской руки. Душа куда-то ввысь возносится. Туда, где ярок солнца свет, И в сердце тихо произносится Молчаньем скре́пленный обет. Не будем строгими и зрелыми. Пусть мы безумны, ну т<а>к что ж! Мы знаем, правда только с смелыми, А всё другое только ложь. Пусть скажут: «Только безрассудные Поверят дружеским словам». За светлый луч в минуту трудную От всей души спасибо Вам. И вот теперь скажу уверенно (Я знаю, между нами — нить): «О нет, не всё еще потеряно, И есть исход и можно жить!» —_____
Не вообразите о себе слишком многого, избалованный Понтик! [24]
_____
Написано в «веселом» настроении 21-го июля 1908 (после езды на конях) [25].
<Сложенный втрое лист надписан рукой Цветаевой:>
Вечерняя почта из Горбачёва [26].
«Понтику» (своеобразному пойнтеру, не вошедшему в возраст).
Впервые — Московский комсомолец. 1994. 22 нояб. (публ. Н. Дардыкиной). Новый мир. № 6. 1995. стр. 119–120 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 711–712. Печ. по тексту публикации в Новом мире.
2-08. П.И. Юркевичу
<Таруса. 22 июля 1908 г.> [27]
Хочу Вам писать откровенно и не знаю, что из этого получится, — по всей вероятности ерунда.
Я к Вам приручилась за эти несколько дней и чувствую к Вам доверие, не знаю почему.
Когда вчера тронулся поезд, я страшно удивилась — мне до последней минуты казалось, что это все «так», и вдруг к моему ужасу колеса двигаются и я одна. Вы наверное назовете это сентиментальностью, — зовите как хотите.
Я почти всю ночь простояла у окна. Звезды, темнота, кое-где чуть мерцающие огоньки деревень, — мне стало так грустно.
Где-то недалеко играли на балалайках, и эта игра, смягченная расстоянием, еще более усиливала мою тоску.
Вы вот вчера удивились, что и у меня бывает тоска. Мне в первую минуту захотелось все обратить в шутку — не люблю я, когда роются в моей душе. А теперь скажу: да, бывает, всегда есть. От нее я бегу к людям, к книгам, даже к выпивке, из-за нее завожу новые знакомства.
Но когда тоска «от перемены мест не меняется» (мне это напоминает алгебру «от перемены мест множителей произведение не меняется») — дело дрянь, так как выходит, что тоска зависит от себя, а не от окружающего.
Иногда, очень часто даже, совсем хочется уйти из жизни — ведь все то же самое. Единственно ради чего стоит жить — революция [28]. Именно возможность близкой революции удерживает меня от самоубийства.
Подумайте: флаги. Похоронный марш [29], толпа, смелые лица — какая великолепная картина.
Если б знать, что революции не будет — не трудно было бы уйти из жизни [30].
Поглядите на окружающих, Понтик, обещающий со временем сделаться хорошим пойнтером, ну скажите, неужели это люди?
Проповедь маленьких дел у одних [31], ― саниновщина [32] у других.
Где же красота, геройство, подвиг? Куда девались герои?
Почему люди вошли в свои скорлупы и трусливо следят за каждым своим словом, за каждым жестом. Всего боятся, поговорят откровенно и уж им стыдно, что «проговорились». Выходит, что только на маскараде можно говорить друг другу правду. А жизнь не маскарад!
Или маскарад без откровенной дерзости настоящих маскарадов.
От пребывания моего в Орловке у меня осталось самое хорошее впечатление. Сижу перед раскрытым окном, — все лес. Рядом со мной химия, за к<отор>ую я впрочем еще не принималась [33], так как голова трещит.
Сейчас 9 ½ ч<асов> утра. Верно, вы с Соней [34] собираетесь провожать Симу [35]. Как бы я хотела сидеть теперь в милом тарантасе, вместо того, чтобы слышать как шагает Андрей в столовой, ругаясь с Мильтоном [36].
Папа еще не приехал [37].
Вчера в поезде очень хотелось выть, но не стоит давать себе волю. Вы согласны?
Нашли ли Вы мою «пакость», которую можете уничтожить в 2 секунды и уничтожили ли?
После Вашей семьи мне дома кажется все странным. Как мало у нас смеха, только Ася [38] вносит оживление своими отчаянными выходками. У Вас прямо можно отдохнуть.
Милый Вы черный понтик (бывают ли черные, не знаете?) я наверное без Вас буду скучать. Здесь решительно не с кем иметь дело, кроме одной моей знакомой — г<оспо>жи химии, но она до того скучна, что пропадает всякая охота иметь с ней дело [39].
Видите, понемногу впадаю в свой обычный тон, до того не привыкла по-настоящему говорить с людьми.
Как странно все, что делается: сталкиваются люди случайно, обмениваются на ходу мыслями, иногда самыми заветными настроениями и расходятся все-таки чужие и далекие.
Просмотрите в одном из толстых журналов, к<отор>ые имеются у Вас дома, небольшую вещичку (она кажется называется «Осень» или «Осенние картинки»). Там есть чудные стихи, к<отор>ые кончаются так
… «И все одиноки»… [40]Вам они нравятся? Слушайте, удобно ли Вам писать на Вас? М<ожет> б<ыть> лучше на Сонино имя? Для меня-то безразлично, а вот как Вам?
Приходите ко мне в Москву, если хотите с Соней (по-моему лучше без). Адр<ес> она знает. М<ожет> б<ыть> мы с Вами так же быстро поссоримся, как с Сергеем [41], но это не важно.
Вы вчера меня спросили, о чем писать мне. Пишите обо всем, что придет в голову. Право, только такие письма и можно ценить. Впрочем, если неохота писать откровенно — лучше не пишите.
Удивляюсь как Вы меня не пристукнули, когда я рассказывала Соне в смешном виде Андреевскую Марсельезу [42].
Что у Вас дома? Горячий привет всем, включая туда Нору, Буяна и Утеху [43].
Ах, Петя, найти бы только дорогу!
Если бы война! Как встрепенулась бы жизнь, как засверкала бы!
Тогда можно жить, тогда можно умереть! Почему люди спешат всегда надеть ярлыки?
И Понтик скоро будет с ярлыком врача или учителя [44], будет довольным и счастливым «мужем и отцом», заведет себе всяких Ев и тому подобных прелестей.
Сценка из Вашей будущей жизни
— «Петя, а Петь!»
― «Что?»
― «Иди скорей, Тася без тебя не ложится спать, капризничает!» ―
― «Да я сочинения поправляю». ―
― «Все равно, брось, наставь им троек, больше не надо, ну а хорошим ученикам четверки. Серьезно же, иди, Тася совсем от рук отбилась». ―
― «Неловко, душенька, перед гимназистами…»
― «Ах, какой ты, Петя, несносный. Все свои глупые студенческие идеи разводишь, а тем временем Тася Бог знает что выделывает!» ―
― «Хорошо, милочка, иду…»
Через несколько минут раздается «чье-то» пенье. «Приди котик ночевать, Мою Тасеньку качать»…
― «Папа, а что это ты разводишь, мама говорила?»
― «Идеи, голубчик, студенты всегда разводят идеи». ―
― «А-а… Много?» ―
― «Много. Что тебе еще спеть?» ―
― «Как Бог царя хоронил [45], это все мама поет».
— «Хорошо, детка, только засыпай скорей!» — Раздаются звуки национального гимна.
Ad infinitum {1}
Пока прощайте, не сердитесь, крепко жму Вам обе лапы
МЦ.Адр<ес> Таруса. Калуж<ская> губ<ерния>. Мне. Передайте Соне эту открытку от Аси.
Пишите скорей, а то химия, Андрей, алгебра… Повеситься можно!
Впервые — Минувшее, 11. 1991. стр. 337–339 (публ. Е.И. Лубянниковой и Л.А. Мнухина). Печ. по тексту СС-6. стр. 17–20 (с уточнением даты написания).
3-08. П.И. Юркевичу
Говорила я Вам, Понтик, что буду писать по два раза в день [46].
Сегодня получила письмо от Сережи [47].
Представьте себе, в каких обстоятельствах он вспомнил меня: оркестр в японском театре заиграл Хиавату [48], и он, конечно, не мог не вспомнить.
Не могу сказать, чтобы я была очень польщена этим обстоятельством [49].
Сейчас особенно темно на душе. Ася с Андреем уехали в гости с ночевкой, я одна с француженкой [50]. Ворчит-поварчивает на столе самовар, темная, совсем осенняя ночь обступила стены дома и старается проникнуть в него через черные стекла.
У меня был сегодня странный разговор, после к<оторо>го я никак не могу прийти в себя.
Странный субъект ― этот мой знакомый [51]. Он не сильный, я его страшно боюсь. Боюсь его и иду к нему, потому что не могу не идти.
Он холодный, мертвый. Увидит светлую точку и мгновенно загасит ее. Зажечь он ничего не может. Вся жизнь его полна призраков.
Сегодня он мне сказал такую вещь:
— «Как прекрасно иметь в себе огонь и тушить его!» [52] — Я долго над этим думала. Что можно ответить на такую вещь? [53]
К чему гасить огонь? Гасить его не надо. А к чему разжигать? Человек может погибнуть, если огонь вспыхнет в нем слишком сильно. Горение могут вынести только немногие избранные. Я лично говорю: надо всегда разжигать костер в сердце прохожих, только искру бросить, огонь уж сам разгорится.
Лучше мученья, огненные, яркие, чем мирное тленье. Но как убедить людей, что гореть надо, а не тлеть. Они потребуют моментально гарантию, расписку в счастье.
Всё сводится к риску и дерзости. Только они спасут людей от спячки.
Дерзость мысли, чувства, слова! Говорить, не боясь преград, идти смело, никому не отдавая отчета, куда и зачем, влечь за собой толпу…
Это чудно! Но… если не горенье нужно, а замерзание! Вот Брюсов [54], ― забрался на гору, на самую вершину (по его мнению) творчества и, борясь с огнем в своей груди, медленно холодеет и обращается в мраморную статую.
Разве замерзание не так же могуче и прекрасно, как сгорание? Милый Понтик, глядя <на> все это с медицинской точки зрения, Вы скажете, что это всё сплошная отвлеченность, что природа не считается с капризами отдельных личностей и пр.
Но Вы мне тем-то и нравитесь, что в Вас эстетик сильнее врача, а то бы я не стала Вам писать всего этого.
Вы, м<ожет> б<ыть>, помните мои стихи «В Монастыре» [55], к<отор>ые показывала Вам Соня? [56] Они написаны под впечатлением разговора с этим странным знакомым.
В нем есть что-то каменное и холодное. Когда я поговорю с ним, все светлое, красивое, смелое исчезает и дает место какому-то кошмарному бреду, полному диких ужасов и страшных картин.
Во время разговора с Вами я чувствовала себя так ясно, так хорошо. Вообще я очень отдохнула в Орловке [57]. А теперь всё смято, беспорядочно, сумбурно. В голове бродят какие-то отрывки мыслей. Ничего не могу обобщить. Связь как-то утерялась.
Порой мне бывает страшно и откуда-то со дна всплывает что-то темное. Мне кажется, что это начало сумасшествия. Впрочем, это шаблонно — все так говорят и никто не сходит с ума.
Прочтите это письмо еще раз вечером, если хотите меня понять.
О, Петя, как тяжело жить одной. Я боюсь одиночества и своей тоски. Бегу ко всем, лишь бы забыться. Как бы мне хотелось быть сейчас в столовой и слушать. «Два гренадера» [58]. Вижу отсюда, к<а>к Соня полулежит на диване, а Вы вкладываете валик и приговариваете:
— «Ах ты черт, странно, что ж это он не лезет?» ―
Глажу Вас против шерстки.
Лапу, товарищ!
МЦ.22-го июля 1908
Впервые ― Новый мир. № 6. 1995. стр. 120–121 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 714–715. Печ. по тексту первой публикации.
4-08. П.И. Юркевичу
<23 июля 1908 г., Таруса> [59]
Вы, Понтик, пожалуйста, не воображайте, впрочем, Вы такой умный, что ничего и не вообразите.
Передо мной лежит раскрытая химия [60] и ехидно улыбается.
Знаете что? Устроим зимой кружок, хотя бы литературный с рефератами по поводу прочитанного и прочим. К этому я стремлюсь из чувства самосохранения: с другими тоска не так страшна, да <и> приятно (хотя слово «приятно» сюда не годится) обмениваться мнениями насчет прочитанного и таким образом проверить стойкость и верность своих убеждений. Как Вы думаете на этот счет? У Вас, верно, есть кто-нибудь, кто бы пожелал участвовать?
Оказывается, что экзамен мой будет числа 28-го сент<ября> месяца [61], так что я напрасно не осталась у Вас, чтобы ехать в Соковнино [62]. Ругаю себя, но от этого ничего не меняется.
Погода у нас беспросветная.
«Дождь и холод, грязь и слякоть, Светлых точек нить {2}, Небо хочет нас оплакать И похоронить…» [63]Все тарусские находят, что я загорела, как цыганка. Здесь — всё лес и лес, даже странно с непривычки и грустно без открытого горизонта тульских широких полей.
Кто-то теперь без меня ласкает Буяна? [64]
Да, Петя, пожалуйста, составьте мне список Ваших достопримечательностей (не лично Ваших, хотя, если хотите, и этот), а то я было начала перечислять и запнулась на Чермашне и Мокром [65].
Папа очень доволен, что я побывала у Вас, и, кажется, ничего не имеет против меня еще когда-нибудь отпустить к Вам.
Соня на меня не дуется, не знаете? Мы ведь с ней порядочно грызлись.
Завтра беру первый урок по алгебре, — перспектива не из приятных.
Химию начну сегодня же, по крайней мере надеюсь начать.
Как я только приехала, Ася тотчас же начала изводить меня, впрочем, очень дружелюбно. Она представляла, как я в очках, согнувшись в 3 погибели, прицепилась к лошади, и как последняя, тоже скрючившись, лениво двигается.
Слушайте, Понтик, Вы ничего не имеете против того, чтобы осенью познакомиться с одной нашей знакомой зубоврачихой [66] — разочарованной барыней слегка в декадентском вкусе.
У нее всегда бывает много народа, иногда интересного.
Нас с Асей она, не знаю за что, очень любит и всегда рада всем нашим знакомым и друзьям. Ее гостиную я зову «зверинцем», уж очень разнообразные звери там бывают.
Не ручаюсь, что это общество Вам понравится, но посмотреть стоит. Как полная противоположность ей — у меня есть одна знакомая эсдечка, смелая, чуткая, умная, настоящая искорка [67].
В ее присутствии всем делается светло и радостно на душе, уж очень она сердечный и искренний человек.
Посмотрите, Петя, познакомитесь — влюбитесь, да мимо нее нельзя пройти равнодушно.
В свою очередь погляжу на Ваших знакомых, так как, судя по Вашим рассказам, есть среди них интересные. Соня мне говорила, что Вы очень избалованы всеми.
Это правда?
Трогательно: отсылаю одновременно письма всем троим: Сереже, Вам и Соне. Не хватало бы еще письма Володе [68]. Кстати, когда будете ему писать, напишите, что ему надо еще много практиковаться, прежде чем определять верно по почерку характер человека.
Впрочем, задатки у него есть, и Бог знает, м<ожет> б<ыть> он прославится не как инженер, а как определитель людей по почерку.
Как он узнал, что я близорукая? Это интересно.
Сердечно завидую Вам: 24-го или 25-го будете слушать музыку [69], а я, м<ожет> б<ыть>, в это же время буду учить, как «кристаллы падают, так вообще»…
Папа окончательно велел нам бросить с Асей наши фуражки [70]. Он купил нам красные береты с перьями, как носили средневековые пажи. Представляю себе удивленные лица всех Ваших соседей, если бы они их увидели.
Пока всего хорошего.
Пишите.
Ваша МЦ.Впервые — Новый мир. № 6. 1995. стр. 122–124 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 716–717. Печ. по тексту первой публикации.
5-08. П.И. Юркевичу
<28 июля 1908 г.>, Таруса
Откровенность за откровенность, Понтик.
Хотите знать, какое впечатление у меня осталось от Вашего письма? [71]
Оно всецело выразилось в тех нескольких словах, к<отор>ые вы-рва-лись у меня невольно:
— «Какой чистый, какой смелый!» ―
― «Кто? — спросила сидевшая тут же Лея и многозначительно прибавила, — да мне вовсе не интересно знать. Кто бы то ни был — всё равно разочаруешься!» ―
― «Не беспокойся, этого не будет!» — сказала я.
― «Давай пари держать, что через месяц, много 1 ½ ты придешь ко мне и скажешь: „А знаешь, Ася, это не то, совсем не то“». ―
― «Пари держать не хочу, всё равно проиграешь ты. Знаешь, повесь меня, если это не будет так!» ―
― «Ладно!» — Ася подошла к стене и нарисовала виселицу с висящей мной.
― «Я тебе дюжину примеров приведу, — продолжала моя дорогая сестрица, — больше дюжины, считая только последние два года!» ―
Действительно, пришлось нехотя признаться в том, что каждое «очарование» влекло за собой неминуемое «разочарование». А сколько их было! — Но не о них я хотела говорить.
Ваш тип — тип смелого, чистого, самоотверженного борца сходит со сцены.
От Вас веет чем-то давно прошедшим, милым, светлым. В Вас есть свойство, почти исчезнувшее, — энтузиазм, любовь к мечте.
А это много, скажу больше — это почти всё! Энтузиазм, стремление вверх, к звездам, прочь от пошлой скуки, жажда простора и подвига — вот что движет жизнь вперед, делает ее сверкающей, сказочной. А жизнь должна быть сказкой… по смыслу (по форме это редко удается). Только недетской веселой сказочкой с опасностью в виде бабы-яги посредине и благополучным концом (в виде национального гимна и Тасенек [72]), а такой сказкой, чтобы дух захватывало, когда ее станешь читать или, вернее, когда «наши внуки» станут ее слушать.
Я люблю граненые стекла [73] и в детстве была способна по целым часам их рассматривать, не скучая. Пусть наша жизнь будет как граненые стекла, — на меньшем мириться нельзя. Моему понятию о жизни всецело соответствует следующее стихотворение Максима Горького, писанное им, когда он еще не был правоверным марксистом.
Песня о Марко [74]
В лесу над рекой жила фея, В реке она часто купалась, Но раз, позабыв осторожность, В рыбацкие сети попалась. Ее рыбаки испугались. Но был с ними юноша Марко. Схватил он красавицу-фею И стал целовать ее жарко. А фея, как гибкая ветка, В могучих руках извивалась И в Марковы очи глядела И тихо чему-то смеялась. Весь день она Марко ласкала. А как только ночь наступила, Пропала веселая фея… У Марко душа загрустила. И день ходит Марко, и ночи В лесу над рекой, над Дунаем. Всё ищет, всё стонет — «Где фея?» ― А волны смеются: «Не знаем!» ― Но он закричал им — «Вы лжете, Вы сами играете с нею!»… И кинулся юноша глупый ― В Дунай, чтоб найти свою фею… ― Купается фея в Дунае, К<а>к прежде до Марко купалась. А Марко уж нету, но все же О Марко хоть песня осталась! А вы на земле проживете, Как черви слепые живут, ― Ни сказок про вас не расскажут. Ни песен про вас не споют._____
Конечно, если смотреть на всю эту историю с точки зрения «пользы» и «результатов» — получится бессмыслица. К чему Марко бросился в реку? Наконец, не лучше ли ему было остаться на берегу за чисткой рыбы и бросить мысли о промелькнувшей в его жизни сказке — фее.
Такая идиллия: чистил бы Марко свою рыбу или возил ее в соседний город, откуда возвращался бы навеселе, а на следующий день снова закидывал свои сети, и так всю жизнь.
Но случилось нечто странное: увидев фею, Марко вдруг понял, что Дунай лучше жизни с продажей рыбы.
Он сгорел за свою мечту, за свой порыв. Именно так я понимаю революцию — не как средство наполнения голодных желудков, а как горение за мечту, м<ожет> б<ыть>, такую же призрачную и обманчивую, как дунайская фея.
В этом мы наверное с Вами разойдемся. Вы говорите: отдать жизнь за счастье других. Я скажу: отдать жизнь за мечту (к<отор>ая, может быть, причинит людям вред, впрочем в моем случае и в Вашем это не так).
Сейчас душно, — собирается гроза, и поэтому как-то не пишется.
Вернулась сейчас с купанья, во время к<оторо>го произошла следующая сценка. Когда мы пришли на берег — там сидел один маленький мальчишка с коровой и теленком. Мы пообещали ему стеречь корову, если он уйдет. В самый разгар купанья корова и теленок, накупавшись вдоволь, ушли на луг. Вскоре послышался рев пастушонка, к<отор>ый околачивался где-то поблизости.
― «Как, ты здесь, Лялька, ты не ушел? — крикнула Ася, обрадовавшись предлогу избавиться от коровы и теленка, — ты обещал уйти, а сам не уходишь, вот теперь загоняй их сам!» ―
Рев еще более усилился.
― «Да, Лялька! — поддержала я, — и не воображай, что мы будем их загонять!» ―
Рев перешел в нечто еще более сильное, чему названия я не знаю.
―«Загоняй сам!» — радостно вопили мы из воды. Вдруг среди рева послышалось нечто похожее на слова.
― «Что?» — переспросили мы.
― «ё-ё-ёнка!» — донеслось с горки.
― «Что?» ―
― «Тейё-ё-ёнка-а-а!» ―
― «Да что?» ―
― «Я койову, а вы тейё-ёнка!» ―
На том и порешили. Лялька с ревом загнал корову, а теленка, к<отор>ый был рядом с ней, оставил для нас. Простите за такую ерунду, просто очень уж смешно было, а Вам, наверное, со стороны просто странно. Вчера вечером я вышла побродить в поле. У нас полей мало, всё больше лес. Ну вот бродила я меж желтой рожью <так!>, садилось солнце — и край неба был огненно-красный, переходящий в золотой. Приближающаяся темнота, бледный месяц, голубоватая даль — всё это настраивало к грусти. Я думала над тем, почему люди так одиноки. Ведь это ужас, подумайте, это проклятие. И ведь никогда люди, даже самые, самые близкие, не могут знать, что происходит в душе друг у друга. Счастлив тот, кто не гонится затем, чтобы понять. Вот я говорю с Вами (это я так для примера беру) и никогда не знаю, серьезно ли Вы говорите или шутя, не могу поручиться зато, что Вы понимаете мое настроение…
Ну вот, я думала так и медленно шла, глядя на тоскливую даль. <Зачеркнуто две строки> И как-то сразу сделалось холодно и захотелось домой.
Небо совсем померкло, а при свете луны поля сделались какие-то странные, грезящие, холодные.
Вся оторванность человека от природы вдруг ярко стала мне понятна. И вышло так: люди — чужие, природа — чужая, далекая.
И грустно-грустно было возвращаться по лесу домой, где кроме химии и алгебры никто не ждет.
Вы будете виноваты, если я провалюсь по обоим предметам, так и скажу.
― «Это Петя виноват, я хотела учиться!» ―
― «Какой Петя?» — удивленно спросит педагог.
― «А такой, Понтик! — сквозь слезы отвечу я и для пояснения прибавлю — черный!» ―
На педагогическом совете будет разбираться вопрос о причине неуспешности экзамена г<оспо>жи Ц<ветаевой>.
― «Мое мнение, — проворчит нечто вроде Степаненки [75] — что она во сне увидела какого-нибудь арапа, Петю…».
― «Почему же Петю, а не Колю?» — тоненьким голоском спросит учитель алгебры. ―
― «Это всегда так во сне! — скажет начальница, — думаешь про Колю, а увидишь Петю».
― «И так испугалась, что ничего не сумела сказать», — докончит «нечто». —
― «Черный… Гм… Это не антихрист ли? — глубокомысленно изречет батюшка, — оно иногда того…».
― «Именно, именно, анархист! — тоненьким голосом поддержит „алгебра“', ― а за знакомство с анархистом…»
— «Антихристом!» — поправит батюшка.
― «Да, да, я так и сказал. Итак, за знакомство с недозволенными лицами мы г<оспо>же Ц<ветаевой> поставим 0». ―
― «Для искоренения злонравия», ― буркнет «нечто». ―
— «Для возвращения заблудшей овцы на путь истинный!» ― пробасит молчавшая «химия».
Итак, Вы и анархист и антихрист, а по-настоящему милый черный пойнтер. Как у нас красиво! Я часто ужасно жалею, что Вас здесь нет. Такая широкая спокойная река, отражающая все настроения неба, заглохшие дороги, заливные луга, горы. Вам бы, верно, здесь очень понравилось. Почему я не могу Вас пригласить вместо Сони? [76] Сижу на своей вышке [77], где провожу почти весь день. Видна голубая вдумчивая река, нежно-зеленые, трепетные березы, в к<отор>ых я в детстве по близорукости и сильно развитой фантазии видала рыцарей и волшебников с длинными бородами. Вы когда-нибудь обращали внимание на красоту дыма. Он так хорошо умирает наверху, в голубом небе!
Недавно я написала стихи, конч<ающиеся> так
<Зачеркнуто три слова>
Не смущайтеся, люди, исканьями правды напрасными, Будьте дети, идите к тому, что вас манит и радует, Только в смерти должны мы печальными быть и прекрасными, Как те грустные листья, что падают, падают, падают…Когда я получила Вашу закрытку, я ужасно удивилась и весь день ходила в очень странном настроении.
Мне даже одну минуту показалось, что Вы — нечто мной вымышленное, а не действительность.
Бывают дни, когда ходишь как во сне, мало замечая то, что происходит. Мой учитель по алгебре был страшно удивлен, вернее, недоволен тем, что я никак не могла понять, что такое разложение на множители и алгебр<аическое> деление. (Последнее, кстати, так и осталось непонятым мною, и опять Вы виноваты.)
Больше всего меня удивило в Вашей закрытке то выражение, что «и у меня» бывает хандра. Повторяю Вам, что тоска — мое обычное состояние, из к<оторо>го я на время вышла, благодаря Вам. Унизительно жить, не зная зачем. А вот что Вы, избалованный, хорошенький дамский кавалер, очаровательный «jeune homme» {3} — и вдруг отрицаете саниновщину [78] ― это меня ужасно удивило и обрадовало.
Я Вас раньше ведь терпеть не могла (м<ожет> б<ыть> это так будет, не ручаюсь за себя дольше сегодняшнего дня, и то много!), всё говорила Соне — «Ну, милая, и противный же твой Петя, вот антипатичный!» ―
Я никого больше на свете не ненавижу, чем хорошеньких студентов, для к<отор>ых цель жизни «побеждать» всех, начиная с высокопоставленных дам и кончая горничными и др<угими> еще получше, а Вы мне казались именно таким типиком. И вот, когда я узнала от Сони, что Вы должны скоро приехать [79], м<ожет> б<ыть> уже приехали, мне сделалось очень неприятно, так как я не желала нарушать тишины Вашего дома и вместе с тем быть приветливой к «победителю» [80] не могла. Я даже колебалась, ехать ли.
А что я немножко «щетинилась» вначале — естественно.
Во всяком случае, в настоящую минуту я к Вам отношусь очень хорошо, а что будет — не знаю, тогда увидим. Это и не так важно.
Потом когда-нибудь, в Москве, если будем друзьями, я Вас спрошу одну вещь, к<отор>ую мне бы хотелось знать. Только не в комнате. Где-нибудь на улице, вечером, а то я совсем не могу разговаривать, когда на меня смотрят [81].
Теперь лунные ночи. Гуляете ли Вы? Давайте поедем на шарабане сегодня вечером. Никогда не забуду того тоскливого чувства одиночества, к<отор>ое охватило меня, когда поезд двинулся [82].
Слушайте, пожалуйста, назовите Вашу первую дочь Мариной, ладно?
Часто ли Вам пишет Е<ва>? [83]
Глажу Вас против шерстки и буду рада, когда она отрастет. Писал ли Сережа? Насчет него я нахожусь в одном сомнении. Я на Вас загадывала по одной книге, и вот что вышло:
«…И думы шептали: „Не ждите чудес, Жрецы Вам солгали, и Он не воскрес!“ И долго с тревогой глядели в окно. Там не было Бога, там было темно» [84]._____
Вы, наверное, очень мучились над религиозными вопросами?
Наверное, Соня очень рада, что я уехала. Устроила ли она Вам то, о чем я ее просила, или нет?
<3ачеркнута одна строка>
Пока всего Вам хорошего. Спасибо за хорошее письмо. Написала много ерунды — не взыщите.
Исполнится ли Асино предсказание, — мне интересно. Пишите.
МЦ.Вечером 28-го июля 1908 г.
Милый щененок Вы мой (не обижайтесь, что я Вас так зову, я очень люблю собак), как бы Вам объяснить получше, почему мне так трудно жить.
Видите ли, я сознаю свою полную непригодность для жизни [85]. Революция, как и всякий подъем, — только миг, а жизнь так длинна. Представьте себе, ведь не сразу же Вы из маленького мальчика с оскаленными постоянно для смеха зубами сделались большим и серьезным.
Это ведь всё сделалось день за днем, никаких скачков в Вашей жизни не было. Ведь вся жизнь ― бесконечный ряд «сегодня», «вчера» и «завтра».
Чем заполнить жизнь? Ну, укажите мне что-нибудь такое, чем можно было жить всю жизнь.
Мне страшно хочется умереть рано, пока еще нет стремления вниз, на покой, на отдых.
Ну представьте себе такую встречу. Вы — почтенный учитель гимназии, отец семейства и пр. Я сорокалетняя дама с солидным супругом. Очаровательно, не правда ли?
А самое худшее — это если мы оба не окончательно заснем и при встрече вспомним прошлое.
Подумайте, до чего легко свернуться {4} с пути. Момент слабости, отчаяния, минутное увлечение — и расплата на всю жизнь.
Нужно быть вечно на страже, как бы не свихнуться.
Петя, Вы вот умный, смелый, чистый, скажите — чем нужно жить? Если жить чувством, порывом — какое право мы имеем тогда обвинять Санина? Делить порывы на добрые и злые слишком рассудочно и скучно. Выходит какая-то добродетель на постном масле. Выходит так: или постоянно следить за собой, держать себя в своих руках, или жить по голосу сердца, называя добрым то, что искренно, будь это хоть та же ненавистная саниновщина.
Я понимаю — быть одиноким ради чего-нибудь, ради какой-нибудь идеи. Но не имея ничего определенного, что бы заполняло всё существо, и быть одиноким — трудно.
На пути столько заманчивых станций, кажется, что только на минутку зайдешь отдохнуть, а там не хватит силы выбраться на настоящую дорогу, махнешь рукой и останешься.
Вот странно, я Вас так мало знаю и говорю с Вами так откровенно, как с немногими. М<ожет> б<ыть> это потому что я пишу вечером? Но начало письма писалось утром, при солнце.
Если Вы думаете, что я ломаюсь, — пожалуйста, напишите.
М<ожет> б<ыть> Вы и сам ломаетесь, а совсем не я. Меня злость разбирает.
Мы едем с Вами в шарабане. Уже стемнело. Звезды. Налево небольшой лесок, кругом всё поле, ровное-ровное, как будущий строй.
Мне жаль, что я не знала Вас маленьким. Какой Вы были? Самолюбивый, с выдержкой, мне кажется. Отчего-то с Сережей нам никогда не удавалось поговорить как следует. Пробовали переписываться прошлым летом и рассорились. Сережа больно взъелся на меня за то, что я была причиной падения (на очень короткий срок) его авторитета в глазах Сони. Кстати, Соня прислала Асе «серьезное» письмо, полное «изречений».
Будем ли мы видеться в Москве?
Ну, пора кончать, да и Вам пора спать. По-прежнему ли Вы спите целыми днями? Весело ли было в Соковнине? Как сошел <так!> концерт?
Написала я Вам, кажется, много лишнего, но горе мое в том, что я всегда пересолю, — не умею остановиться вовремя.
Никогда бы не сказала, что буду писать такие длинные письма «избалованному мальчику».
Как хорошо, что мы не «благородно ретировались» друг перед другом, правда?
Напишите мне хорошенько обо всем.
Всего, всего лучшего.
МЦ.Впервые — Новый мир. № 6. 1995. стр. 125–129 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 717–723. Печ. по тексту первой публикации.
6-08. П.И. Юркевичу
<Не позднее 31 июля 1908 г., Таруса> [86]
Никакой милости от Вас в виде «протянутой руки» и Ваших посещений я не желаю, и не думала даже рассчитывать на Вас, так что Ваши опасения оказались напрасными.
Помилуйте, рассчитывать на такого интересного молодого человека — да еще в Москве, к<отор>ая переполнена такими хорошенькими барышнями (даже в декадентском вкусе есть), — это мне даже в голову не приходило, а если и приходило — то на очень короткое время и теперь уже не придет, смею Вас в этом уверить.
Извиняюсь за те длинные сердечные излияния, к<оторы>ми утруждала Вас, жалею, что Вы с самого начала нашего знакомства не «указали мне мое место».
Впрочем, винить здесь некого, так как я сама должна была бы его знать.
Очень благодарна Вам за перечисления знаменитостей, населяющих Тульскую губ<ернию>.
Забудьте эпизод нашего знакомства и не берите на себя труд мне отвечать.
М. Цветаева.Впервые — Новый мир. 1995. № 6. стр. 130–131 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 723. Печ. по тексту первой публикации.
7-08. П.И. Юркевичу
4-го VIII. <19>08 г.
Извиняюсь за последнее письмо. Сознаюсь, что оно было пошло, дрянно и мелко.
Приму во внимание Ваш совет насчет «очарований» и «разочарований». Соглашаюсь с Вами, что слишком люблю красивые слова [87]. Мне было страшно тяжело эти последние дни. Учиться я совсем не могла. Сначала была обида на Вас, а потом возмущение собой. Правда всегда останется правдой, независимо от того, приятна она или нет. Спасибо Вам за неприятную правду последнего письма. Таких резких «правд» я еще никогда ни от кого не слыхала, но, мирясь с резкостью формы, я почти совсем согласна с содержанием.
Только зачем было писать так презрительно? Я сознаю, что попала в глупое и очень некрасивое положение: сама натворила Бог знает что и теперь лезу с извинениями. М<ожет> б<ыть> Вы будете надо мной смеяться, — но я не могу иначе, жить с сознанием совершенной дрянности слишком тяжело. Все же и с Вашей стороны было несколько ошибок.
Вы могли предоставить моей деликатности решение вопроса о «рассчитывании на Вас в Москве», уверяю Вас, что я и без Вашего замечания не стала бы злоупотреблять Вашим терпением.
Вы должны были повнимательнее прочесть мое письмо и понять из него, что мое мнение о Вас как о «charmant jeune homme» {5} и дамск<ом> кав<алере> было до знакомства, а другое после, так что моя логика оказалась вовсе не такой скверной.
Впрочем мои промахи бесконечно больше Ваших, так что не мне Вас упрекать.
Отношусь к Вам как к славному, хорошему товарищу и как товарища прошу прощения за всё. Прежде чем написать это я пережила много скверных минут и долго боролась со своим чертовским самолюбием, к<оторо>му никто до сих пор не наносил таких чувствительных ударов как Вы.
Ваше дело — простить мне или нет.
Не знаю как выразить Вам все мое раскаяние, что обидела такого милого, сердечного человека, как Вы и притом так дрянно, с намеками, чисто по-женски.
Как товарищу протягиваю Вам руку для примирения.
Если ее не примете — не обижусь.
Ваша МЦ.P.S. Если будете писать — пишите по прежнему адр<есу> {6} прямо мне. Насчет химии и алгебры я ведь шутила, неужели Вы приняли за серьезное? ―
Впервые — Минувшее, 11. 1991. стр. 343–344 (публ. Е.И. Лубянниковой и Л.А. Мнухина). Печ. по СС-6. стр. 23–24.
8-08. П.И. Юркевичу
Таруса, 13-го июля <августа> 1908 г. [88]
Как часто люди расходятся из-за мелочей. Я рада, что мы с Вами снова в мире, мне не хотелось расходиться — с Вами окончательно, потому что Вы — славный. Только и мне трудно будет относиться к Вам доверчиво и откровенно, как раньше. О многом буду молчать, не желая Вас обидеть, о многом — не желая быть обиженной. Я все-таки себе удивляюсь, что первая подошла к Вам. Я очень злопамятная и никогда никому не прощала обиды (не говоря уже об извинении перед лицом меня обидевшим) [89].
Впрочем, все это Вам должно быть надоело, — давайте говорить о другом.
Погода у нас серая, ветер пахнет осенью. Хорошо теперь бродить по лесу одной. Немножко грустно, чего-то жаль.
Учу немного свою химию, много — алгебру, читаю. Прочла «Подросток» Достоевского [90]. Читали ли Вы эту вещь? Напишите — тогда можно будет поговорить о ней. Вещь по-моему глубокая, продуманная.
Приведу Вам несколько выдержек.
_____«В нашем обществе совсем не ясно, господа. Ведь Вы {7} Бога отрицаете, подвиг отрицаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе. Скажите, что я отвечу чистокровному подлецу на вопрос его, почему он непременно должен быть благородным.
Что мне за дело до того, что будет через тысячу лет с человечеством, если мне за это, по-Вашему (опять, точно я Вам это говорю, хотя и я могла бы сказать нечто подобное, особенно насчет подвига), „ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига не будет? Да черт с ним, с человечеством, и с будущим, я один только раз на свете живу!“»
_____«У многих сильных людей есть, кажется, натуральная потребность найти кого-нибудь или что-нибудь, чтобы преклониться.
Многие из очень гордых людей любят верить в Бога, особенно несколько презирающие людей. Сильному человеку иногда очень трудно перенести свою силу. Эти люди выбирают Бога, чтоб не преклоняться перед людьми: преклоняться перед Богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие, — вернее сказать — горячо желающие верить, но желания они принимают за самую веру. Из этаких особенно часто выходят разочаровывающиеся».
_____«Самое простое понимается всегда лишь под конец, когда уже перепробовано все, что мудреней и глупей».
_____«На свете силы многоразличны, силы воли и хотения в особенности. Есть t° кипения воды и есть t° каления красного железа». — (И здесь химия. О, Господи!)
_____«Мне вдруг захотелось выкрасть минутку из будущего и попытать, как это я буду ходить и действовать». —
_____Вам понятно такое ощущение?
«Вообще до сих пор во всю жизнь, во всех мечтах моих о том, как я буду обращаться с людьми — у меня всегда выходит очень умно, чуть же на деле — очень глупо!
Я мигом отвечал откровенному откровенностью и тотчас же начинал любить его. Но все они тотчас меня надували и с насмешкой от меня закрывались».
_____Не находите ли Вы, что последнее часто верно? Я без всяких намеков. Вы не думайте. Но и Вы, очень Вас прошу, обходитесь без них. Теперь я невольно над каждым словом думаю — не ехидство ли какое.
Теперь, чтобы закончить письмо как следует, спишу Вам одни стихи Евгения Тарасова, к<отор>ые должны Вам напомнить одно настроение в Вашей жизни [91].
— Они лежали здесь, в углу, В грязи зловонного участка. Их кровь, густая, словно краска Застыла лужей на полу. Их подбирали, не считая. Их приносили — без числа, На неподвижные тела Еще не конченных кидая. Здесь были руки — без голов. Здесь были руки — словно плети. Лежали скомканные дети. Лежали трупы стариков, У этих — лица были строги, У тех — провалы вместо лиц, Смотрели вверх, глядели ниц, И были бо́сы чьи-то ноги, И чья-то грудь была жива, И чьи-то пальцы шевелились, И губы гаснущих кривились, Шепча невнятные слова… Декабрьский день светил им скупо, Никто не шел, чтоб им помочь… И вот, когда настала ночь — Живых не стало, были трупы. И вот лежали там, в углу, Лежали тесными рядами, Все — с искаженными чертами И кровь их стыла на полу.Да, это посерьезнее будет, чем «намеки» и «упреки». Пишите, я всегда рада Вашим письмам. Всего лучшего.
МЦ.<Приписки на полях:>
Завидую Вашим частым поездкам, часто вспоминаю об Орловке. Спасибо за пожелание «спокойных дней», мне они не нужны, уж лучше какие ни на есть бурные, чем спокойные. Я шучу.
Числа до 18-го пишите в Тарусу, впрочем, когда я уеду — напишу и дам моск<овский> адр<ес>.
Как же Вы решили насчет университета?
Вы с Сережей чудаки! Сами ложатся спать, а др<угим> желают спокойной ночи. Я получила письмо среди белого дня и спать совсем не хочу.
Письмо даже на ощупь шершавое, попробуйте. А все-таки Вы славный! (Логики в посл<еднем> восклицании нет, ну да!..)
Что милая Норка, Буян, моя симпатия, Утеха и пр<очие>. Мне в настоящую минуту хочется погладить Вас по шерстке, т.е. против.
Написала одни стихи, — настроение и мысли в вагоне 21-го июля, когда я уезжала из Орловки. Прислать? [92] ―
А «больные» вопросы, Вы правы, теперь не следует затрагивать, лучше когда-нибудь потом. Как хорошо, что Вы все так чутко понимаете.
Я Вас очень за это ценю.
Что Соня? Хандрит ли? Какие известия от Сережи? План относительно Евг. Ив. я не оставила, дело за согл<асием> Собко [93].
Впервые — Минувшее, 11. 1991. стр. 340–343 (публ. Е.И. Лубянниковой и Л.А. Мнухина). Печ. по СС-6. стр. 20–23 (с уточнением датировки письма и использованием коммент. к первой публикации).
9-08. П.И. Юркевичу
<Между 18 и 24 августа 1908 г., Москва> [94]
Ну вот я и в Москве. Что-то странно после Тарусы: шум экипажей, фонари, толпа на улицах. Учу свою химию (25-го и 26-го экз<амены> по ней и по алгебре). В общем рада, что в городе, хотя тех немногочисленных знакомых, с к<отор>ыми еще не рассорилась, еще не видала.
Спасибо Вам за письмо, Петя. Я хорошо понимаю Ваше тогда настроение. Такой фразы я бы пожалуй никогда не простила [95]. Вот и Вы простить-то простили, а уж верно забыть ее никогда не сможете.
Насчет моих стихов, о к<отор>ых писала <зачеркнуто три строки> присылаю Вам их [96] <зачеркнуто несколько слов>.
Мне очень трудно теперь стало Вам писать, какое-то неуверенное чувство.
Рада буду повидать Вас в Москве. Здесь всё еще по-летнему: стук экипажей, зеленые деревья, пыль на улицах. Очень тянет в синематограф, такая подзадоривающая музыка [97]. Помните, как мы все ходили тогда весной. Я еще сказала Вам: «Если буду объясняться в любви — Вы не верьте. Весной я всякому готова!» ―
Да, Понтик, Вам Соня давала читать мое последнее письмо? В нем нет ни слова правды, это мы с Асей Соню мистифицируем [98]. Только не выдавайте нас, прошу. А Вы поверили?
Соне я пишу, верней писала в многочисленных письмах, что я влюблена в одного там типа. Сонечка аккуратно в каждом письме объясняла мне, что такое любовь, как надо любить и пр. Между прочим от нее узнала Ваше мнение, что исход любви — брак. Это как-то с Вами не вяжется.
Сегодня папа разрыл мой дневник [99] и прочел в нем наши проделки в Тарусе. Приходит весь взволнованный к моей старшей сестре Валерии и объявляет ей — «Представь себе, Марина влюблена в Мишу» [100] (это сын нашего сторожа, симпатичный мальчик). Валерия так и не могла разуверить его в этом. Ну, пускай думает.
Скучно дома. Всё какие-то толки, предостережения, намеки. (Папа начитался Санина и выражал Валерии опасение, как бы я не «вступила в гражд<анский> брак» с каким-нибудь гимназистом, каково?)
Кстати, что это Соня все только и говорит, что о браке, любви и пр. Которое письмо уж.
Ну, Петя, Вы не сердитесь, что пишу так неинтересно и мало. Я как останусь одна — так сейчас грусть.
Внешние неудачи, домашние скандалы, разные сплетни — ерунда, вот уж что меня не огорчает, а «вопросы» [101] разные — мое горе. Хочется понять жизнь.
Какой Вы, Понтик, хороший, а еще ругались на меня зато, что я слишком много о Вас думаю.
Отчего люди так скрывают хорошие стороны?
До свидания, спасибо за славное, искреннее письмо. Не думайте, что я не оценила Вашего доверия.
Крепко жму Вам руку.
МЦ.Когда будете в Москве? ―
Впервые ― Новый мир. 1995. № 6. стр. 131–132 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 723–724. Печ. по тексту первой публикации.
10-08. П.И. Юркевичу
<Между 18 и 27 августа 1908 г., Москва >
Написано после письма насчет «рассчитывания» и пр., 31-го VII <19>08 [102]
Стало холодно вдруг и горели виски И казалась вся жизнь мне — тюрьма. Но скажите: прорвалась хоть нотка тоски В ироническом тоне письма? Был ли грустной мольбы в нем малейший намек, Боль о том, что навек отнято, И читался ли там, меж презрительных строк Горький отклик: «За что? О, за что?» ― Кто-то тихо сказал: «Ты не можешь простить, Плачь в душе, но упреков не шли. Это гордость в себе свое горе носить!» ― И сожгла я свои корабли… Кто-то дальше шептал — «В сердце был огонек [103], Огонькам ты красивым не верь!» ― И за этот за горький, тяжелый урок Я скажу Вам — спасибо теперь. Только грустно порою брести сквозь туман, От людей свое горе тая, ― Может быть, это был лишь красивый обман, И не знаю, любила ли я…_____
И Вы в свою очередь, Петя, не смейтесь. Ведь очень легко можно сказать Вам: «Вот сентиментальная девица. Почти что признание в любви!» — На что отвечу: это дело прошлое. Стихи эти написаны под впечатлением обиды и живым воспоминанием о Вас, каким я знала Вас в Орловке. Теперь всё изменилось. Не то чтобы ссора наша отдалила нас друг от друга, а все-таки есть что-то. Вы и сам верно это чувствуете. Согласны ли Вы? ―
Ну так вот, Вы не смейтесь. А все-таки мы пожалуй еще будем друзьями, и близкими. Мне отчего-то так кажется. О многом поговорим, когда увидимся и если увидимся.
Какое впечатление осталось у Вас от моих этих стихов? Пишите.
Соне передайте от меня, что «Лева [104] в Москве». ―
Ну, до свидания.
Хорошо бы, если зимой началось что-нибудь! Так жить нельзя, копаться в своей душе вечно — значит лишить себя всякой радости. Поменьше комнатной жизни! —
Впервые — Новый мир. 1995. № 6. стр. 132–133 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 724–725. Печ. по тексту первой публикации.
11-08. П.И. Юркевичу
Какая у меня сейчас отчаянная тоска, Понтик! Осень, колокольный звон, сознание, что лучшее время уходит без радости. Вы вот говорите о том, что я слишком много занимаюсь своим «я». А откуда взять внешние события, когда их нет? Ходить в гости? Но это мне доставляет гораздо больше мучения, чем радости. Кто-нибудь пошутит, так себе, без всякого умысла, а я потом думаю, думаю об этой фразе, выворачиваю ее во все стороны, пока не додумаюсь до того, что всем на меня наплевать и пр.
Бывают у меня минуты, когда мне хочется, чтобы меня пожалели. Под таким настроением (опять-таки только настроением) вылилось у меня след<ующее> стихотворение, к<отор>ое Вы найдете на 2-ой стр<анице>.
Я сама знаю, что не надо так возиться с собой. Да если бы теперь началось «что-нибудь», разве я бы стала хандрить? При одной мысли о возможности революции у меня крылья вырастают. Только не верится что-то.
Гляжу сейчас на поблекший хмель на стенах сарая, на безучастные крыши домов, на небо без просвета, без голубого клочка… А где-то солнце, цветы, где-то люди смеются.
Ну, слушайте стихи.
В ожидании ответа на мое «покаянное» письмо [105].
Вы простите, я знаю, мы встретимся дружно И не будем смеяться намеками зло, Но о том, что казалось так близко, так нужно, Не смогу я сказать — ведь так много ушло! Эта грустная мысль уж меня не тревожит, Вспыхнет вновь ли костер, что горел в темноте? {8} Будут новые искры, и лучше, быть может, Будут новые искры, но только не те. Это рок. Человеческой жизни тоска в нем. Помню всё, и порывистый наш разговор… Вспоминаю о нем как о милом, о давнем, Хоть немного недель промелькнуло с тех пор. Если все это было не призрачным словом. Что читалось под солнцем июльского дня. Снова вспыхнет тоска, и в доверии новом Я приду и скажу: «Пожалейте меня!» [106] ―_____
В одном из Ваших писем, Понтик, Вы спрашиваете, откуда я беру данные для пессимистического мировоззрения. Ну хотя бы из такой хандры, к<отор>ая иногда длится несколько дней подряд.
Из гордости не лезу к людям за участием («а ко мне лезешь» дополните Вы), а сами приласкать не догадаются. Малейшая шутка так бесит, так обижает, что иногда даешь себе волю и говоришь, что попадется на язык. Разумеется, уж не нежное.
Конечно глупо обвинять мир в том, что мне скверно, да я и не обвиняю, но невольно общие выводы окрашиваются в черный цвет, или в серый, это верней. Это всё очень банально, что я говорю.
От Вашего письма у меня осталось двойственное впечатление. Так было я ему обрадовалась, и вдруг натыкаюсь на такую зачеркнутую фразу.
— «Вот Вам мой взгляд. Понимайте как хотите. Мне совершенно все равно, так как это меня сейчас совершенно не интересует». ―
Я это и так знаю, Петя, у меня душа не из носорожьей кожи [107], я всё очень быстро понимаю.
Жаль, что не зачеркнули почерней, так как я всегда очень основательно изучаю зачеркнутые места в полной уверенности найти там что-нибудь неприятное.
Желаю Вам удачного перехода на естественный факультет [108]. Теперь Вам конечно недосуг будет писать, ну, а когда освободитесь немножко, буду рада получить от Вас известие, как Вы устроились и пр.
Всего лучшего.
Оба экзамена выдержала на 4 (по отдельности) [109]. Иду на молебен.
МЦ.27-го VIII <19>08.
Впервые — Новый мир. 1995. № 6. стр. 133–134 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 725–727. Печ. по тексту первой публикации.
12-08. П.И. Юркевичу
<Не ранее второй половины сентября 1908 г., Москва> [110]
Милый, славный Понтик! Не сердитесь, всё равно этим ничего не достигнете. Нужно было чем-нибудь выразить то чувство, названия к<оторо>го я не знаю, — если вышло по-ребячески и глупо — изменять теперь поздно. Обещать ничего не обещаю, совсем не вижу, почему я должна обещать. Скажу одно: такие поступки не повторяются.
Сейчас вечер. В комнатах ясный сумрак. Небо желто-розовое, светлое, звонят колокола.
В такие вечера я никак не могу найти себе места. Как красиво, когда лучи заходящего солнца отражаются в окнах домов! Точно чьи-то широко раскрытые блестящие глаза! Дребезжат пролетки…
Милый мальчик мой, как мне вчера было хорошо с Вами.
Любовь, дружба ли — не всё ли равно? Дело не в названии.
Господи, Понтик, как много в жизни такого, чего нельзя выразить словами! Слишком мало на земле слов.
Крепко жму Вам руку. Не сердитесь за вчерашний порыв. Бывают минуты, когда не сама действуешь, а под влиянием чего-то очень сильного. Если все-таки недовольны, постарайтесь забыть. Я напоминать не буду.
Ну, друзья что ли?
Ваша МЦ.P.S. Прилагаемое письмо будьте добры — передайте Сереже [111]. Напишите, как Вы, сердитесь или нет? Милый, хороший!
Впервые — Новый мир. 1995. № 6. стр. 135 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 727. Печ. по тексту первой публикации.
13-08. П.И. Юркевичу
<Не ранее второй половины сентября 1908 г., Москва> [112]
Знаете, Понтик, я никак не могу решить, Вас ли я любила или свое желание полюбить? [113] «Жить скверно и холодно, согревает и светит любовь». Так говорят люди. Я хотела попробовать, способна ли я любить или нет. Но все встречные были такие противные, мелочные, дрянные, что, увидев Вас, мне показалось: «Да, такого можно любить!» И мало того — я почувствовала, что люблю Вас.
Все дни, когда от Вас не было писем, и эти последние, московские дни мне было отчаянно-грустно. А теперь я несколько дней совершенно о Вас не вспоминала. А герцога Рейхштадтского [114], к<оторо>го я люблю больше всех и всего на свете, я не только не забываю ни на минуту, но даже часто чувствую желание умереть, чтобы встретиться с ним [115]. Его ранняя смерть, фатальный ореол, к<отор>ым окружена его судьба, наконец то, что он никогда не вернется, всё это заставляет меня преклоняться перед ним, любить его без меры так, как я не способна любить никого из живых. Да, это всё странно.
К Вам я чувствую нежность, желание к Вам приласкаться, погладить Вас по шерстке, глядеть в Ваше славное лицо. Это любовь? Я сама не знаю. Я бы теперь сказала — это жажда ласки, участия, жажда самой приласкать. Но сравниваю я свое чувство к Наполеону II с своей любовью к Вам и удивляюсь огромной их разнице.
М<ожет> б<ыть> так любить, как люблю я Наполеона II, нельзя живых. Не знаю [116].
Чувствую только, что умерла бы за встречу с ним с восторгом, а за встречу с Вами — нет.
Понтик, я считаю Вас настолько чутким, что надеюсь, Вы не обвините меня в бегстве перед Вами.
То, что сказано, — сказано. Если Вы думаете, что я теперь из гордости говорю Вам всё это, — можете потребовать от меня чего-нибудь, что меня бы унизило. Я исполню.
Трусить я перед Вами не трушу и не раскаиваюсь в том, что было, а просто делюсь с Вами сомнениями, к<отор>ые возникли у меня на этот счет.
Я купила большой портрет Герцога Рейхштадтского ребенком [117]: продолговатое личико с недоверчивым взглядом темных серьезных глаз, высокомерное выражение красивых губ, мягкие, пушистые волосы, оттеняющие высокий лоб… Общее выражение лица грустно-надменное. По целым часам могу смотреть на это чудесное личико сломленного жизнью гениального ребенка.
У меня к нему такое чувство восторга, жалости и преклонения, что я бы на всё пошла ради него.
Я всё лето, всю прошлую весну жила мыслями, снами, чтением о нем. Есть драма «Орленок» («L'Aiglon») [118], это моя любимая книга. В ней в проникновенных стихах выражается вся трагическая судьба сына Наполеона I [119]. Его детство, смутные воспоминания о Версале, об отце, потом юность среди врагов, в Австрии, все его грезы о Франции, о битвах, вся его молодая странная жизнь проходит перед нами. Есть места, к<о-тор>ые можно перечитывать без конца. Читаешь и чувствуешь, как подступают слезы, и плачешь в тоске по этому молодому, чудесному, непризнанному ребенку, так несправедливо загубленного {9} судьбой [120].
Да, такая любовь, как моя к этому болезненному мальчику, этому призраку, — это действительно любовь.
Если бы мне сказали: «Ты согласна сейчас увидеть драму „L'Aiglon“, а потом умереть?» [121] — я бы без колебаний ответила — «Да!» ―
Увидеть эту аристократическую голову, эту гибкую фигуру с белокурой прядью на лбу, услышать этот голос, говорящий предсмертные слова. — Господи, да за это все мучения можно претерпеть, не то что умереть!
Я знаю, что никогда не достигну своей мечты — увидеть его, поэтому и буду любить его до самой смерти больше всех живых.
Ну, заговорилась я.
Милый Понтик, не сердитесь, верьте мне, я не виновата в том, что я такая неровная.
Крепко жму Вам руку.
Ваша МЦ.P.S. <Зачеркнуто одно слово> Я люблю Вас больше всех живых на свете, оговорку {10}, о к<отор>ой я раньше забыла.
Впервые — Новый мир. № 6. 1995. стр. 135–136 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 727–729. Печ. по тексту первой публикации.
14-08. П.И. Юркевичу
<Осень 1908 г., Москва>
Ну вот, хотела с Вами поссориться [122], да сейчас раздумала.
Читаю я «Дух времени» Вербицкой [123]. Вещь совсем не талантливая, но, подойдя к описанию октябрьских событий, похорон Баумана [124], я прямо не выдержала: швырнула книжку в потолок и села за письмо к Вам. Мне прямо больно читать такие книги. Мысль, что всё это прошло, что молодость пройдет без этого, не дает мне покоя. Подумайте, вдруг, когда нам будет по сорока лет, всё это начнется. Ведь нельзя жить без этого!
Можно жить без очень многого: без любви, без семьи, без «теплого уголка». Жажду всего этого можно превозмочь. Но как примириться с мыслью, что революции не будет? Ведь только в ней и жизнь?
Рядом с мыслью о ней всё так мелко, все эти самолюбия, намеки, весь этот чад, вся эта копоть!
Охотно прощаю Вам Ваше «спать хочется» [125]. Всё это ерунда. Хочется — и спите. Спите крепко, без сновидений. Спать хочется? С чем и поздравляю. Нет, всё это не стоит тоски!
Неужели эти улицы никогда не потеряют своего мирного вида? Неужели эти стекла не зазвенят под камнями? Неужели всё кончено?
Слишком много могу Вам сказать. Вот передо мной какие-то статуи… [126] Как охотно вышвырнула бы я их за окно, с каким восторгом следила бы, как горит наш милый старый дом!
Ничего не надо, ничего не жалко!
Только бы началось.
Восьмидесятников [127] у меня нет, искала-искала, не нашла.
МЦ.Впервые — Новый мир. № 6. 1995. стр. 138 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 729. Печ. по тексту первой публикации.
15-08. П.И. Юркевичу
<Осень 1908 г., Москва>
Спасибо за Ваше письмо. Я рада, что Вы прочли мою автобиографию [128].
Не подумайте, Петя, что я забыла о Вас вчера, но Эллис [129] довольно капризен и, пожалуй, не зная о Вас от меня, стал бы ехидничать или вообще выкинул бы что-нибудь. Поэтому я Вас не позвала. Вы, как человек обидчивый, наверное, рассердились бы, и вообще заварилась бы каша. Если он Вас интересует и Вы пожелали бы его повидать ожидайте худшего, к<отор>ое, м<ожет> б<ыть>, и не осуществится. Напишите мне насчет этого — тогда извещу Вас, когда он у нас будет.
У меня сейчас настроение досады на себя. Мне кажется, что я веду с людьми себя непростительно-искренно и глупо.
Дождь, дождь, дождь. Крыши такие унылые со своим мокрым слезливым видом. Что может быть хуже домов? Ящики: непростительно правильные, грузные, все такие похожие [130].
Что было здесь несколько тысяч лет тому назад? Так же падали желтые листья, только вместо «рыжего дома со ставнями» [131] здесь были болота.
А все-таки осень хороша. Как красиво падает лист! Вот он оторвался, в нерешительности кружится, потом опускается ниже, ниже и наконец плавным движением приникает к земле, где лежат его братья — все тем же путем окончившие короткую жизнь. Падение листьев — символ жизни человеческой. Все мы рано или поздно после недолгого кружения по воздуху своих мыслей, грез, заветных дум возвращаемся к земле [132]. Все радости и все печали осени — в ее неминуемости. Желтый сарай с увядшим хмелем, мокрая черная земля, скользкие мостки, желтые грустные листья — всё это и ненавистно и дорого, и ласкает и мучит.
Да, грустно. Радует меня то «нечто», чем пахнет в воздухе. Только не могу, не смею верить я, что оно действительно осуществится. Не забастовка, нет, но боевая готовность, уснувшая даже в лучших, жажда грозных слов и великих дел.
Нет больше пороха в людях, устали они, измельчали, и не верю я, что эти самые, обыкновенные и довольные, могли бы воскресить революцию [133]. Не такие творят, о нет! А м<ожет> б<ыть> те, что творят, настоящие, нежные и глубокие только и существуют, что в сочинениях Вербицкой и «Андрее Кожухове» Степняка [134]. Можно бороться, воодушевляясь прочитанным, передуманным (никакими экономическими идеалами и настоящими марксистами нельзя воодушевиться), можно бороться, воодушевляясь мечтой, мечтой нечеловеческой красоты, недостижимой свободы, только недостижимой!
Красота, свобода — это мраморная женщина, у ног к<отор>ой погибают ее избранники. Свобода — это золотое облачко, к к<оторо>му нет иного пути кроме мечты, сжигающей всю душу, губящей всю жизнь. Итак, бороться, за недостижимую свободу и за нездешнюю красоту я буду бороться в момент подъема. Не за народ, не за большинство, к<о-тор>ое тупо, глупо и всегда неправо. Вот теория, к<отор>ой можно держаться, к<отор>ая никогда не обманет: быть на стороне меньшинства, к<отор>ое гонимо {11} большинством [135]. Идти против — вот мой девиз! [136] Против чего? спросите Вы. Против язычества во времена первых христиан, против католичества, когда оно сделалось господствующей религией и опошлилось в лице его жадных, развратных, низких служителей, против республики за Наполеона, против Наполеона за республику, против капитализма во имя социализма (нет, не во имя его, а за мечту, свою мечту, прикрываясь социализмом), против социализма, когда он будет проведен в жизнь, против, против, против!
Нет ничего реального, за что стоило бы бороться, за что стоило бы умереть. Польза! Какая пошлость! Приятное с полезным, немецкий педантизм, слияние с народом… Гадость, мизерия, ничтожество!
Умереть за …русскую конституцию. Ха ха ха! Да это звучит великолепно. На кой она мне черт, конституция, когда мне хочется Прометеева огня. «Это громкие слова», — скажете Вы. Пусть громкие слова! Громкие красивые слова выражают громкие, дерзкие мысли! Я безумно люблю слова [137], их вид, их звук, их переменность, их неизменность. Ведь слово — всё! За свободное слово умирали Джиордано Бруно [138], умер раскольник Аввакум [139], за свободное слово, за простор, за звук слова «свобода» умерли они.
Свободное слово! Как это звучит!
Понтик, милый мой, брат, милый брат. Вы меня понимаете? Вдруг исчезла бы Москва с синематографами, конками, гостиницами, экипажами, четвергами, субботами, всей этой суетней, и вместо нее ― Кавказ, монастырь, где томилась Тамара [140], скалы, орлиные гнезда, аулы, смуглые лица черкесов, их гортанный говор, пляска их девушек, обрывы, кони, звездные ночи, вершины Казбека и Эльбруса. Но Кавказ дикий, девственный Кавказ 300–400 л<ет> тому назад.
Быть героем какой-нибудь книги, ехать ночью верхом, скатиться в пропасть, встретиться с душманами. Изведать хоть раз чувство одинокого творчества там, наверху, забыть о Москве, не знать о митингах, кадэтах {12} и эсдеках, холере и синематографах. Вы понимаете?
Дождь, дождь, дождь. Мокрые крыши, желтые листья, заливается на соседнем дворе шарманка…
Пишите, Понтик.
Ваша МЦ.Впервые ― Новый мир. 1995, № 6. стр. 139–141 (публ. О.П. Юркевич). СС-7. стр. 729–731. Печ. по тексту первой публикации.
16-08. B.K. Генерозовой
<1908–1910 гг.> [141]
Валя, поверьте мне! Вы себя не знаете. Вам кажется, что у Вас не хватит силы прожить без личной любви? А товарищество, любовь в широком смысле разве не заменят Вам замужества? Разве Вам нужна именно только такая любовь? Неужели Вы не боитесь скуки, разочарования и пошлости, связанных с долгими годами семейной жизни. Утешение ― дети. Если посвятить себя совершенно их жизни, их развитию, воспитанию, если сделать из них людей сильных, сильных сердцем и умом, бояться нечего. Только мне жаль Вашей силы, которой придется разменяться на мелкие монеты.
Мне бы так хотелось увидать в Вас товарища, борца, а не мать, не жену. Н.А. [142], я думаю, будет довольна своей жизнью, а Вы? Удовлетворитесь ли Вы такой семейной жизнью? Какая у Вас цель? Какой Ваш девиз? Что Вы хотите, быть зрителем или борцом? Признаете ли Вы компромиссы? Ответьте мне на все это.
Валенька, не знаю кто Вы, но чувствую, что Вы — талант [143], сила. Или Вы будете солнцем, или… Жизнь докажет, кто из нас прав. Прощайте!
Ваша Маруся.Любите ли Вы детей? Можете ли Вы посвятить им всю, всю жизнь? Поймете ли мою сказку? Автоб<иография> подвигается. 411 стр<аниц>. Скоро напишу Вам еще. Пишите, пишите! Валенька — солнце мое!
Впервые — СС-7. стр. 739 (по оригиналу, хранящемуся в архиве Л.А. Мнухина). Печ. по тексту первой публикации.
1909
1-09. B.K. Генерозовой
<Начало 1909 г.>
Дорогая Валенька!
Мне сегодня было с Вами хорошо, как во сне. Никогда не думала, что встречусь с Вами при таких обстоятельствах [144]. Так ясно вспомнилось мне милое прошлое. Я люблю Вас по-прежнему, Валенька, больше всех, глубже. Никогда я не уйду от Вас. Что мне сказать Вам? Слишком много могу сказать. Будь я средневековым рыцарем, я бы ради Вашей улыбки на смерть пошла. Вам теперь очень грустно. Как мне жаль, что я не могу быть с Вами. Милая Кисенька моя, думаю, что вскоре напишу Вам длинное письмо. Если будете слишком грустить — напишите мне, я Вас пойму. Помните, что я Вас очень люблю.
Ваша МЦ.Перечитала сегодня Ваши письма [145]. У меня они все. Стихи пришлю, Кисенька милая.
Впервые — Воспоминания. стр. 26–27. Печ. по тексту СС-6. стр. 30.
2-09. В.И. Цветаевой
<Ялта, апрель 1909 г.>
Милая Валечка. Если бы ты знала, как хорошо в Ялте! [146] Я ничего не читаю и целый день на воздухе, то у моря, то в горах. Фиалок здесь масса, мы рвем их на каждом шагу. Но переезд морем из Севастополя в Ялту был ужасный: качало и закачивало всех [147]. Приеду верно 3-го или 4-го. Всего лучшего.
МЦ.Впервые — Поэт и время. стр. 63. Печ. по тексту СС-6. стр. 31.
3-09. Эллису
Париж, 22-го июня 1909 г.
Милый Лев Львович! У меня сегодня под подушкой были Aiglon {13} и Ваши письма [148], а сны — о Наполеоне — и о маме. Этот сон о маме я и хочу Вам рассказать [149]. Мы встретились с ней на одной из шумных улиц Парижа. Я шла с Асей. Мама была как всегда, как за год до смерти — немножко бледная, с слишком темными глазами, улыбающаяся. Я так ясно теперь помню ее лицо! Стали говорить. Я так рада была встретить ее именно в Париже, где особенно грустно быть всегда одной [150]. — «О мама! — говорила я, — когда я смотрю на Елисейские поля, мне так грустно, так грустно». И рукой как будто загораживаюсь от солнца, а на самом деле не хотела, чтобы Ася увидела мои слезы. Потом я стала упрашивать ее познакомиться с Лидией Александровной [151] — «Больше всех на свете, мама, я люблю тебя, Лидию Александровну и Эллиca» {14} («А Асю? — мелькнуло у меня в голове. — Нет, Асю не нужно!») «Да, у Лидии Александровны ведь кажется воспаление слепой кишки», — сказала мама. — «Какая ты, мама, красивая! — в восторге говорила я, — как жаль, что я не на тебя похожа, а на…» хотела сказать «папу», но побоялась, что мама обидится, и докончила: «неизвестно кого! Я так горжусь тобой». — «Ну вот, — засмеялась мама, — я-то красивая! Особенно с заострившимся носом!» Тут только я вспомнила, что мама умерла, но нисколько не испугалась. — «Мама, сделай так, чтобы мы встретились с тобой на улице, хоть на минутку, ну мама же!» — «Этого нельзя, — грустно ответила она, — но если иногда увидишь что-нибудь хорошее, странное на улице или дома, — помни, что это я или от меня!» Тут она исчезла. Сколько времени прошло ― я не знаю. Снова шумная улица. Автомобили, трамваи, омнибусы, кэбы, экипажи, говор, шум, масса народа. Вдруг я чувствую, что за мной кто-то гонится. Мама? Но я боюсь, значит не она. Что-то белое настигает меня, хватает и душит. Перехожу через улицу. Прямо на меня трамвай. Я ухожу с рельс, иду в противоположную сторону, а трамвай за мной.
Освободившись наконец от него, вижу насторожившийся автомобиль, выжидающий, куда я двинусь, чтобы кинуться за мной. Тут я начинаю понимать, что что-то здесь неладно. Я вижу, что кто-то узнал наш с мамой уговор и хочет меня наставить против мамы, хочет, чтобы я, напуганная преследованием вещей и неприятными неожиданностями, наконец сказала: «Оставь меня в покое!» Я поняла также, что мама бессильна предупредить меня и теперь мучается. Перехожу на другой тротуар. Вечереет. Около стены с афишами стоят трое людей — маленькая старушонка, ребенок и старик. Я начинаю говорить о маме, но старуха ничего не понимает, не слышит. Я начинаю думать, что мне только кажется, будто я говорю. Вдруг я стою перед ней и шевелю губами? Как только я это подумала, мне стало ясно, почему она меня не слышит, но все же я продолжала мысленно мою фразу, которая кончалась словами «уничтожить». Моя старуха в то же мгновение вынимает из кармана мел и пишет на стене «уничтожить», то есть не произнесенное мною слово. Тогда я начинаю расспрашивать ее: «Вы знали маму? Вы любили ее?» — «Подленькая она была, прилипчивая, — шипит старушонка, — голубка моя, верь мне». В ее шепоте что-то заискивающее, хитрое и вместе с тем робкое. Тогда я обращаюсь к стоящей за мной барышне — высокой, в голубом платье и pince-nez — и упавшим голосом спрашиваю ее: — «А что думаете о маме Вы?» — «У нее было очень много книг, оттого ей все завидуют», — неопределенно отвечает барышня. — «Мама была прямая как веревка, натянутая на лук! — кричу я звенящим и задыхающимся от негодования и огромного усилия голосом, — она была слишком прямая. Согнутый лук был слишком согнут и, выпрямляясь, разорвал ее!».
Всё исчезает. Светлый вечер у нас в Трехпрудном. В детской, на Асиной кровати сидит какой-то незнакомый господин — следователь в голубой рубашке, с огромной, спускающейся на грудь, черной бородой. У Асиного стола — барышня в pince-nez. В руках у нее перочинный нож и книга. Не знаю, под каким предлогом я выхожу из комнаты, спускаюсь по лестнице и вижу: навстречу ко мне, с трудом поднимаясь по ступенькам, идет померанцевое деревцо в кадке. Я толкаю его, но вдруг понимаю, что оно зеленое, милое, что ему трудно идти вверх, а оно все же идет, что это — мама! Я обнимаю его тонкий ствол, целую хрупкие листочки. Внизу, на краю стола в столовой лежит записка, начинающаяся словами «Дорогая Муся» (так меня звала мама). — «Нет, это не мама пишет! это не ее почерк, это снова подлог!» Рассматриваю бумажку, и что же — на углу различаю слова, «следователь по судебным делам». Значит тот, наверху, тоже враг. Мчусь по лестнице и еще в дверях кричу: «Это Вы писали, а не мама, это подло, подло!».
Барышня в pince-nez рассматривает бумажку. Следователь, видя, что он в моих руках, поднимается с постели и грозно требует у барышни бумажку, желая уничтожить улику. Она быстро сует ему в руки книгу, перочинный нож и убегает вслед за мной. Улики налицо. За следователем поднимается полиция. Мы на улице. Идет трамвай. Из трамвая высовываются головы, машут платками. Я на всякий случай отвечаю. Может быть, среди всех этих фальшивых знаков и есть один настоящий, мамин. И как бы в награду за храбрость я вижу на площадке трамвая трех девушек, из которых левая немножко — о, чуть-чуть! — напоминает маму. Радости моей нет границ. Я беру ее под руку и вишу сбоку у трамвая. Ее глаза! Да, да! Она не может принять свой обычный вид, а то все узнают, но я-то все поняла! Перед нами идет другой трамвай, и с него свисает повешенный в красном костюме — может быть следователь.
Опять площадь. Милая барышня в pince-nez, моя помощница, улыбается. Я благодарю ее и сжимаю обеими руками ее маленькую, холодную ручку.
Вот и все. Спасибо за Ваши письма, за письма и за сон. Милый Чародей, непременно приезжайте в Тарусу. Многое, многое Вам расскажу.
МЦ.Впервые — НП. стр. 15–18, без даты и с ошибками. СС-6. стр. 31–34. Печ. по тексту в СС-6, сверенному по копии с оригинала.
1910
1-10. B.K. Генерозовой
<Начало 1910 г.>
Конечно, Валя, так и нужно было ожидать. Все хорошее кончается всегда. Сошлись на мгновенья, взялись за руки, посмотрели друг другу в глаза и прочли там, я думаю, хорошие слова. Вы такая чуткая и нежная! Лучше Вас друга не найду никогда. Думаю о Вас и тоскую и желаю Вам быть счастливой, как только можно быть. А я пойду одна на борьбу, пойду нерадостная. Кто знает? Может быть, мы еще встретимся с Вами в жизни, может быть, заглянув друг другу в глаза, рассмеемся и скажем: «Да, это та!!» Все возможно. А теперь мы ничего не знаем. Будущее скрыто. Как хотелось бы крепко прижаться к Вам и «завыть». Эх!..
Впервые — Воспоминания. стр. 27. СС-6. стр. 30 (с сокращениями). Печ. по тексту первой публикации.
2-10. В.Я. Брюсову
Москва, 15-го марта 1910 г.
Многоуважаемый Валерий Яковлевич,
Сейчас у Вольфа [152] Вы сказали: «…хотя я не поклонник Rostand»…
Мне тут же захотелось спросить Вас, почему? Но я подумала, что Вы примете мой вопрос за праздное любопытство или за честолюбивое желание «поговорить с Брюсовым». Когда за Вами закрылась дверь, мне стало грустно, я начала жалеть о своем молчании, но в конце концов утешилась мыслью, что могу поставить Вам этот же вопрос письменно.
Почему Вы не любите Rostand? Неужели и Вы видите в нем только «блестящего фразера», неужели и от Вас ускользает его бесконечное благородство, его любовь к подвигу и чистоте?
Это не праздный вопрос.
Для меня Rostand — часть души, очень большая часть [153].
Он меня утешает, дает мне силу жить одиноко. Я думаю — никто, никто не знает, не любит, не ценит его, как я.
Ваша мимолетная фраза меня очень опечалила.
Я стала думать: всем моим любимым поэтам должен быть близок Rostand. Heine, Victor Hugo, Lamartine, Лермонтов — все бы они любили его.
С Heine у него общая любовь к Римскому королю [154], к Mélessinde [155], триполийской принцессе: Lamartine не мог бы не любить этого «amant du Rêve» {15}, Лермонтов, написавший «Мцыри», сразу увидел бы в авторе «l'Aiglon» родного брата; Victor Hugo гордился бы таким учеником.
Почему же Брюсов, любящий Heine, Лермонтова, ценящий Victor Hugo, так безразличен к Rostand?
Если Вы, многоуважаемый Валерий Яковлевич, найдете мой вопрос достойным ответа, — напишите мне по этому поводу.
Моя сестра, «маленькая девочка в больших очках», преследовавшая Вас однажды прошлой весной на улице, — часто думает о Вас [156].
Искренне уважающая Вас
M Цветаева.Адрес: Здесь, Трехпрудный переулок, собственный дом,
Марине Ивановне Цветаевой
Впервые — с незначительными сокращениями — Новый мир. 1969. № 4. стр. 186 (публ. A.C. Эфрон). Печ. по СС-6. стр. 37–38 (по копии автографа).
3-10. И.В. Цветаеву
Dresden, 16/29 июня 1910 г.
Милый папа. Пишу тебе из Дрездена куда мы с Асей приехали сегодня купить некоторые вещи. «Weisser Hirsch» лежит в котловине. Горы в другом роде, чем шварцвальдские — менее приветливые. Целые дни льет дождь. У пастора кроме нас несколько пансионеров-мальчиков.
Андрей на днях собирается в Швейцарию. Наш адр<ес> Weisser Hirsch, Rissweg, 14 bei Herrn Bachmann.
Целуем.
МЦВпервые — Борисоглебье. С. 194, 196. Печ. по тексту первой публикации, сверенному с оригиналом (ДМЦ).
Письмо написано на художественной открытке с видом Дрездена.
4-10. П.И. Юркевичу
Weisser Hirch, 8-го Июля 1910 г. [157]
У меня к Вам, Петя, большая просьба: пожалуйста, прочтите Генриха Манна «Богини» и «Голос крови» [158].
Вы этим доставите мне большую радость, а себе — по меньшей мере несколько ярких, незабываемых часов.
Чтение Манна — плаванье по очень яркому морю, под очень синим небом, на очень красивой галере с очень красивыми гребцами, мимо очень пестрых городов.
Судите немцев не по добродушным бюргерам, а по таким, как Манн. Хотя нельзя сказать «по таким», так как Манн один и не похож ни на кого из всех существующих и когда-либо бывших писателей.
Если сравнивать его с кем-нибудь — его, пожалуй, можно сравнить еще с D'Annunzio [159].
Знакомы ли Вы с произведениями последнего?
Если нет — будьте хорошим мальчиком, прочтите его «Огонь», «Наслаждение», «Девы скал» [160].
Поймите, я прошу только для Вас. Сама я ведь читала эти вещи, и выгоды в том, что Вы их прочтете, для меня никакой нет.
Я когда-то заметила в Вас искорку, Петя, и мне хочется, чтобы она никогда не погасла, несмотря ни на что.
Берегите ее! Все лишившиеся ее перестали жить.
Все, никогда ее не имевшие, вовсе не жили.
И в Орловке можно жить с тревожно бьющимся сердцем.
И в Париже можно жить без всякого волнения.
Всё зависит от нас — не от нас, желающих чего-нибудь, а от нас, всегда чувствующих себя, ощущающих каждое биение своего сердца.
Понятны Вам мои слова?
Природа и книги, — выше и ярче нет ничего [161]. Музыка, музеи, книги, розовые вечера и розовые утра, вино, бешеная езда, — всё это мне необходимо, ибо только тогда я живу, когда чувствую в себе дрожь яркого переживания.
Всё остальное — самообман.
Я не боюсь пошлости, так как знаю, что ее во мне нет.
Я боюсь одного в мире — минуты, когда во мне замирает жизнь.
Это — расплата за каждый праздник. И тогда я бессильна перед жизнью. Кроме такого мгновенного затишья нет для меня ничего страшного, потому что я чувствую в себе бесконечный восторг перед каждым облачком, напевом, поворотом дороги.
И вот, Петя, мне хотелось бы и Вам передать свою сладкую способность вечно волноваться.
Мне хотелось бы, чтобы Вы, благодаря мне, пережили многое — и не забыли его.
Верьте и доверьтесь мне.
Я много перемучалась. Вспомните то, что я говорила о расплате за праздники.
Читайте, Понтик, Манна и д'Аннунцио и читая вспоминайте меня. Это мне будет большой радостью.
Ни один человек, встретившийся со мною, не должен уйти от меня с пустыми руками.
У меня так бесконечно много всего! Умейте только брать, выбирать. Я говорю: «ни один человек»…
Пожалуйста, не думайте, что я хочу сказать: «ни один первый встречный». Нет, я говорю только о тех, с кем у меня есть хоть немного общего.
Обижаться на мое письмо, если Вам и захочется, Понтик, не надо! К чему эта мелочность? Я пишу Вам в хорошую минуту. Сумейте увидать в этом письме настоящую меня и не обижаться на то, что Вам покажется обидным.
Я пишу Вам с горячим желанием передать Вам свое настроение. Возьмите его, если захотите… Вот и всё!
МЦ.Впервые — Московский комсомолец. 1994. 22 нояб. (публ. Н. Дардыкиной; с неточностями). Новый мир. № 6. 1995. стр. 141–142 (публ. О.П. Юркевич. Опубл. по тексту, сверенному с оригиналом). СС-7. стр. 731–732. Печ. по тексту Нового мира.
5-10. В.И. Цветаевой
<Weisser Hirch, 11 июля 1910 г.> [162]
Милая Валерия, спасибо за твою открытку. Мы как раз вспоминали тебя с паршивкой [163] сегодня утром. Папа сегодня (28-го ст<арого> стиля) должен приехать в Берлин, Андрей в Нёшателе [164].
Семья, где мы живем, очень странная. За обедом почти исключительно картофель + разговоры о душе и <нем. неразб.> Нам эти блюда их по вкусу, т<а>к к<а>к приготовлены на немецкий лад. Сам пастор, — неудавшийся Beethoven или Wagner, мрачный и неприятный. Жена его д<о> с<их> п<ор> влюблена в него и всё время лезет с нежностями.
<Приписки на полях:>
Дети очень неразвитые, мальчик 14-ти л<ет> ростом с Андрея д<о> с<их> п<ор> приходит прощаться в рубашке, не стесняясь.
Все время дожди и мы уныло сидим в комнатах. Пиши еще. Наш адр<ес>
<Край открытки с адресом оторван>
Печ. впервые по оригиналу, хранящемуся в архиве Дома-музея Марины Цветаевой в Москве.
Написано на художественной открытке с видом на городок Вайсер-Хирш.
6-10. Эллису
Москва, 2-го декабря 1910 г.
Милый Эллис,
Вы вчера так внезапно исчезли, — почему? В Мусагете [165] было очень хорошо. Мне про него даже снились сны. У меня к Вам просьба: перемените, пожалуйста, в 2-х моих стихотворениях для альманаха [166] следующие места:
_____Как я отвыкла от людей и разговоров! При малейшем разногласии с собеседником мне уже хочется уйти, становится так скверно! В Мусагете много милых и мне симпатичных людей. Я довольна, что там бываю, но… М<ожет> б<ыть> папа на несколько дней уедет в Петербург [167]. Если это будет, — известим Вас. Будет ли в воскресенье что-нибудь у Крахта? [168] И в к<отор>ом часу и что именно? Привет.
МЦ.А мой сонет? [169]
Впервые — в кн: Цветаева А. Воспоминания (М.: Сов. писатель. 1971. стр. 342–343) с двумя пропущенными фразами. СС-6. стр. 34 (полный текст). Печ. по СС-6.
7-10. М.А. Волошину
Москва, 23-го декабря 1910 г.
Многоуважаемый Максимилиан Александрович,
Примите мою искреннюю благодарность за Ваши искренние слова о моей книге [170]. Вы подошли к ней к<а>к к жизни, и простили жизни то, чего не прощают литературе. Благодарю за стихи [171].
Если не боитесь замерзнуть, приходите в старый дом со ставнями [172]. Только предупредите, пожалуйста, заранее. Привет.
Марина Цветаева.Впервые ― ЕРО. стр. 157 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 39. Печ. по НИСП. стр. 83. Все письма, публикующиеся в настоящем издании по НИСП, печатаются с исправлением неточностей в первых публикациях.
8-10. М.А. Волошину
Москва, 27-го декабря 1910 г. [173]
Многоуважаемый Максимилиан Александрович.
Благодарю Вас за письма.
В пятницу вечером я не свободна.
Будьте добры, выберите из остальных дней наиболее для Вас удобный и приходите, пожалуйста, часам к пяти, предупредив заранее о дне Вашего прихода.
Привет.
Марина ЦветаеваВпервые — ЕРО. стр. 158 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 39–40. Печ. по НИСП. стр. 83.
9-10. М.А. Волошину
Многоуважаемый
Максимилиан Александрович,
Приходите, пожалуйста, в пятницу, часам к пяти.
Марина ЦветаеваМосква, 29-го декабря 1910 г.
Впервые — СС-6. стр 40 (с указанием даты: 28 декабря). Публ. по НИСП. стр. 84.
10-10. М.А. Волошину
<30 декабря 1910 г., Москва>
Многоуважаемый Максимилиан Александрович,
Я в настоящее время т<а>к занята своим новым граммофоном (к<оторо>го у меня еще нет), что путаю все дни и числа [174].
Если Ваша взрослость действительно не безнадежна [175], Вы простите мне мою рассеянность и придете 4-го января 1911 г., в 5 час<ов>, к<а>к назначили. Т<а>к говорит — вежливо, длинно и прозой — мое великодушие.
А т<а>к скажет — менее вежливо, короче и стихами — моя справедливость:
Кто виноват? Ошиблись оба… Прости и ты, к<а>к я простила! Марина Цветаева.Впервые — СС-6. стр. 40. Печ. по НИСП. стр. 85.
1911
1-11. М.А. Волошину
Москва, 5-го января 1911 г.
Я только что начала разрезать «La Canne de Jaspe» [176], когда мне передали Ваше письмо. Ваша книга всё, что мы любим, наше — очаровательна. Я буду читать ее сегодня целую ночь. Ни у Готье, ни у Вольфа [177] не оказалось Швоба [178]. Я даже рада этому: любить двух писателей зараз — невозможно. Будьте хорошим: достаньте Генриха Манна [179]. Если хотите блестящего, фантастического, волшебного Манна, — читайте «Богини», интимного и страшно мне близкого — «Голос крови», «Актриса», «Чудесное», «В погоне за любовью», «Флейты и кинжалы».
У Генриха Манна есть одна удивительно скучная вещь: я два раза начинала ее и оба раза откладывала на грядущие времена. Это «Маленький город».
Вся эта книга — насмешка над прежними, она даже скучнее Чехова [180].
Менее скучны, но т<а>к же нехарактерны для Манна «Страна лентяев» и «Смерть тирана».
Я в настоящую минуту перечитываю «В погоне за любовью». Она у меня есть по-русски, т.е. я могу ее достать.
В ней Вас должен заинтересовать образ Уты, героини.
Но если у Вас мало времени, читайте только Герцогиню и маленькие вещи: «Флейты и кинжалы», «Актрису», «Чудесное». Очень я Вам надоела со своим Манном?
У Бодлера есть строка, написанная о Вас, для Вас: «L'univers est égal à son vaste appétit» [181]. Вы — воплощенная жадность жизни.
Вы должны понять Герцогиню: она жадно жила. Но ее жадность была богаче жизни. Нельзя было начинать с Венеры!
До Венеры — Минерва, до Минервы — Диана! [182]
У Манна т<а>к: едет автомобиль, через дорогу бежит фавн. Всё невозможное ― возможно, просто и должно. Ничему не удивляешься: только люди проводят черту между мечтой и действительностью. Для Манна же (разве он человек?) всё в мечте — действительность, всё в действительности — мечта. Если фавн жив. отчего ему не перебежать дороги, когда едет автомобиль?
А если фавн только воображение, если фавна нет, то нет и автомобиля, нет и разряженных людей, нет дороги, ничего нет. Всё — мечта и всё возможно!
Герцогиня это знает. В ней всё, кроме веры. Она не мистик, она слишком жадно дышит апрельским и сентябрьским воздухом, слишком жадно любит черную землю. Небо для нее — звездная сетка или сеть со звездами. В таком небе разве есть место Богу?
Ее вера, беспредельная и непоколебимая, в герцогиню Виоланту фон Асси.
Себе она молится, себе она служит, она одновременно и жертвенник, и огонь, и жрица, и жертва.
Обратите внимание на мальчика Нино, единственного молившегося той же силе, к<а>к Герцогиня. Он понимал, он принимал ее всю, не смущался никакими ее поступками, зная, что всё, что она делает, нужно и должно для нее.
Общая вера в Герцогиню связала их до гроба, быть может и после гроба, если Христос позволил им жить еще и остаться теми же.
К<а>к смотрит Христос на Герцогиню? Она молилась себе в лицах Дианы, Минервы и Венеры. Она не знала Его, не понимала (не любила, значит — не понимала), не искала.
Что ей делать в Раю? За что ей Ад? Она — грешница перед чеховскими людьми, перед с<оциал->д<емократами>, земскими врачами, — и святая перед собой и всеми, ее любящими.
Неужели Вы дочитали д<о> с<их> п<ор>?
Если бы кто-н<и>б<удь> т<а>к много говорил мне о любимом им и нелюбимом мной писателе, я бы… нарочно прочла его, чтобы т<а>к же длинно разбить по всем пунктам.
Один мой знакомый семинарист (Вы чуть-чуть знаете его) [183] шлет Вам привет и просит Вас извинить его неумение вести себя по-взрослому во время разговора. Он не привык говорить с людьми, он слишком долго надеялся совсем не говорить с ними, он слишком дерзко смеялся над Реальностью.
Теперь Реальность смеется над ним! Его раздражают вечный шум за дверью, звуки шагов, невозможность видеть сердце собеседника, собственное раздражение — и собственное сердце.
Простите бедному семинаристу!
Марина ЦветаеваВпервые — ЕРО. стр. 159–160 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 40–42. Печ. по НИСП. стр. 85–87.
2-11. М.А. Волошину
Какая бесконечная прелесть в словах:
«Помяни… того, кто, уходя, унес свой черный посох и оставил тебе эти золотистые листья» [184]. Разве не вся мудрость в этом: уносить черное и оставлять золотое?
И никто этого не понимает, и все, знающие, забывают это! Ведь вся горечь в остающемся черном посохе!
Не надо забвения, надо золотое воспоминание, золотые листья, к<о-тор>ые можно, разжав руку, развеять по ветру!
Но их не развеешь, их будешь хранить: в них будешь лелеять тоску о страннике с черным посохом. А черный посох, оставленный им, нельзя развеять по ветру, его сожжешь, и останется пепел — горечь, смерть!
Может быть, Ренье и не думал об этих словах, не подозревал всю их бездонную глубину, — не всё ли равно! Я очень благодарна Вам за эти стихи.
Марина ЦветаеваМосква, 7-го января 1911 г.
Впервые — ЕРО. стр. 161 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 42. Печ. по НИСП. стр. 87–88.
3- 11. М.А. Волошину
Благодарю Вас за книги, картину, Ваши терпеливые ответы и жалею, что Вы т<а>к скоро ушли.
Благодарю еще за кусочек мирры [185], ― буду жечь его, несмотря на упрямство спички: у меня внизу топят печку.
Сейчас Вы идете по морозной улице, видите людей и совсем другой.
А я еще в прошлом мгновении.
М<ожет> б<ыть> и прав Вячеслав Иванов? [186]
Привет и благодарность.
Марина ЦветаеваМосква, 10-го января 1911 г.
Впервые — СС-6. стр 42–43. Печ. по НИСП. стр. 88.
4-11. М.А. Волошину
После чтения «Les rencontres de M. de Bréot» Régnier {16} [187]
Облачко бело́ и мне в облака Стыдно глядеть вечерами. О, почему за дарами К Вам потянулась рука? Не выдает заколдованный лес Ласковой тайны мне снова. О, почему у земного Я попросила чудес? Чьи-то обиженно-строги черты И укоряют в измене. О, почему не у тени [188] Я попросила мечты? Вижу, опять улыбнулось слегка Нежное личико в раме. О, почему за дарами К Вам потянулась рука? МЦМосква, 14-го января 1911 г.
Впервые — ЕРО. стр. 162 (публ. В.П. Купченко). Печ. по НИСП. стр. 88–89.
5-11. М.А. Волошину
Москва, 28 января 1911 г.
Благодарю Вас, Максимилиан Александрович, за письмо и книги. Приходите.
Марина ЦветаеваВпервые — СС-6. стр. 43. Печ. по НИСП. стр. 89.
6-11. М.А. Волошину
<Конец января 1911 г. Москва>
Милый Максимилиан Александрович,
Лидия Александровна [189] и мы все страшно огорчены происшедшим недоразумением [190].
Всё это произошло без меня, я только об этом узнала.
Шутливая форма обращения к Вам доказывает только ее хорошее отношение к вам.
Я сама ничего не понимаю.
МЦВпервые — НИСП. стр. 89. Печ. по тексту первой публикации.
7-11. М.А. Волошину
<Середина марта 1911 г., Москва>
Одному из кошачьей породы
Они приходят к нам, когда У нас в глазах не видно боли, Но боль пришла, — их нету боле. — В кошачьем сердце нет стыда! Смешно, не правда ли, поэт. Их обучать домашней роли. Они бегут от рабской доли, — В кошачьем сердце рабства нет! К<а>к ни мани́, к<а>к ни зови, К<а>к ни балу́й в уютной холе, Единый миг, — они на воле, В кошачьем сердце нет любви! [191] МЦВпервые в качестве письма — НИСП. стр. 89–90. Печ. по тексту первой публикации.
8-11. М.А. Волошину
Многоуважаемый
Максимилиан Александрович,
Только что получила от Л<идии> А<лександровны> [192] извещение, что она больна. Мне очень неловко перед Вами. Она просит Вас извиниться. Привет.
Марина Цветаева.Москва. 21-го марта 1911 г.
Впервые — СС-6. стр. 43. Печ. по НИСП. стр. 90.
9-11. М.А. Волошину
Москва, 23-го марта 1911 г.
Многоуважаемый Максимилиан Александрович,
Вчера кончила Consuelo и Comtesse de Rudolstadt, — какая прелесть! Сейчас читаю Jacques [193].
Приходите: есть новости! Завтра уезжаю за город, вернусь в пятницу. Дракконочка [194] всё хворает, она шлет Вам свой привет. У нас теперь телефон (181-08), позвоните, если Вам хочется прийти, и вызовите Асю [195] или меня.
Лучше всего звонить от 3 — 4.
Всего лучшего.
За чудную Consuelo я готова простить Вам гнусного M. de Bréot.
Привет Вам и Елене Оттобальдовне [196].
Марина ЦветаеваP.S. Можно ли утешаться фразой Бальмонта: «Дороги жизни богаты»? [197]
Можно ли верить ей? Должно ли?
Впервые — ЕРО. стр. 162–163 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 43 Печ по НИСП стр. 90–91.
10-11. М.А. Волошину
Многоуважаемый Максимилиан Александрович,
Я очень виновата перед Вами за телефон. Третьего дня и вчера я была дома от 3 до 4, сегодня не могла. Почему Вы не вызвали Асю? Это она с Вами говорила.
Напишите мне, пожалуйста, когда придете. Приходите, если хотите и можете, завтра или в среду или в четверг, — только сообщите заранее, когда? Вызовите…
Впрочем лучше напишите.
Если же Вы эти вечера и сумерки заняты, мне остается только пожелать Вам доброй весны. Привет.
Марина ЦветаеваМосква, 28-го марта 1911 г.
Впервые — СС-6. стр. 43–44. Печ. по НИСП. стр. 91.
11-11. М.А. Волошину
Многоуважаемый Максимилиан Александрович,
Посылаю Вам Ваши книги. Travailleur de la mer [198] и Dumas [199] куплю завтра же, к<а>к обещала. Исполнится ли Ваше предсказание насчет благословения Вас за эти книги в течение целой жизни, — не знаю. Это можно будет проверить на моем смертном одре. Поклон Елене Оттобальдовне, руку подкинутым младенцем — Вам [200]. До свидания (с граммофоном) в Коктебеле [201].
Марина ЦветаеваМосква, 1-го апреля 1911 г.
Впервые — СС-6. стр. 44. Печ. по НИСП. стр. 91.
12-11. М.А. Волошину
Гурзуф, 6 апреля 1911 г.
Многоуважаемый Максимилиан Александрович,
Я смотрю на море, — издалека и вблизи, опускаю в него руки, но все оно не мое, я не его [202]. Раствориться и слиться нельзя. Сделаться волной? Но буду ли я любить его тогда?
Оставаться человеком (или «получеловеком», все равно!) — вечно тосковать, вечно стоять на рубеже.
Должно, должно же существовать более тесное ineinander {17}. Но я его не знаю!
Цветет абрикосовое дерево, море синее, со мной книги…
Читаю сейчас Jean Paul'а «Flegeljahre», {18} [203] ― бесконечно-очаровательную, грустно-насмешливую, неподдельно-романтическую книгу.
Наша дача, — «моя» звучит слишком самоуверенно, — над самым морем, к к<оторо>му ведет бесчисленное множество лестниц без перил и почти без ступенек. Высота головокружительная. Приходится все время подбадривать себя строчкой из Бальмонта, заменяя слово «солнце» словом «море»:
— «Я видела море, сказала она, Что дальше — не все ли равно?!» [204]Пусть это эстетство, мне оно дороже и ближе чужого опрощения!
Здесь еще довольно холодно. Сейчас лежала на скале и читала милые «Flegeljahre». Эта скала называется крепостью [205], с нее чудный вид на море и Гурзуф.
В надписях на скалах есть что-то или очень пошлое или очень трогательное — я еще не решила. Когда решу, буду или очень нападать на них, или очень защищать. Если бы только они были немного поумнее!
Я очень сильно загорела — все время сижу без шапки.
Мечтаю о купанье, но оно начинается только в мае. М<ожет> б<ыть>, это и есть самое тесное сближение с морем? Предпоследнее, конечно! Непременно напишите, что Вы об этом знаете.
Общество, выражаясь скромно, не совсем то: господин с дамой (бывают «дама с господином», но здесь наоборот), дама с колясочкой, два неопределенных субъекта — смесь с<оциал>-д<емократа> с неучем — и всё. Есть еще несколько маленьких детей, но до того грязных, что вся моя нежность от этого пропадает.
Господин (с дамой) уже старался познакомиться. Рассказывает о дружбе с одним виноделом, к<отор>ый его угощает, о погоде, о тоске одиноких прогулок — даму он не считает, — о своих занятиях по торговой части… Я улыбалась, говорила: «Да, да… Неужели? Серьезно?», потом перестала улыбаться, перестала вскоре отвечать: «Неужели?» — а в конце концов сбежала.
Мне кажется, он не только никогда ничего не читал, но и вообще этого не умеет.
Дама (с колясочкой) занята только ею. Это, конечно, очень мило, но несколько однообразно. Есть еще одно маленькое женское существо, скучающее о муже и рассказывающее мне вот уже пять дней (от Москвы до Гурзуфа) свои радости и печали. Я улыбаюсь, говорю: «Да, да… Неужели? Серьезно?» — и, кажется, вскоре перестану улыбаться. Но восторг мой еще не прошел, не думайте!
Всего лучшего, иду гулять.
МЦ.Адр<ес>: Гурзуф, Генуэзская крепость, дача Соловьевой, мне. P.S. Не были ли Вы в Мусагете [206] и у Крахта? [207] Что нового? Видели ли Дракконочку?
Впервые — Новый мир. 1977. № 2 (публ. И.В. Кудровой). СС-6. стр. 44–46. Печ. по НИСП. стр. 93–94.
13-11. М.А. Волошину
Гурзуф, 18-го апреля 1911 г.
Многоуважаемый Максимилиан Александрович,
Пишу Вам под музыку, — мое письмо, наверное, будет грустным.
Я думаю о книгах.
К<а>к я теперь понимаю «глупых взрослых», не дающих читать детям своих взрослых книг! Еще т<а>к недавно я возмущалась их самомнением: «дети не могут понять», «детям это рано», «вырастут — сами узнают».
Дети — не поймут? Дети слишком понимают! Семи лет «Мцыри» и «Евгений Онегин» гораздо верней и глубже понимаются, чем двадцати. Не в этом дело, не в недостаточном понимании, а в слишком глубоком, слишком чутком, болезненно-верном!
Каждая книга — кража у собственной жизни. Чем больше читаешь, тем меньше умеешь и хочешь жить сам.
Ведь это ужасно! Книги — гибель. Много читавший не может быть счастлив. Ведь счастье всегда бессознательно, счастье только бессознательность.
Читать все равно, что изучать медицину и до точности знать причину каждого вздоха, каждой улыбки, это звучит сентиментально — каждой слезы.
Доктор не может понять стихотворения! Или он будет плохим доктором, или он будет неискренним человеком. Естественное объяснение всего сверхъестественного должно напрашиваться ему само собой. Я сейчас чувствую себя таким доктором. Я смотрю на огни в горах и вспоминаю о керосине, я вижу грустное лицо и думаю о причине — естественной — его грусти, т.е. утомлении, голоде, дурной погоде; я слушаю музыку и вижу безразличные руки исполняющих ее, такую печальную и нездешнюю… И во всем т<а>к!
Виноваты книги и еще мое глубокое недоверие к настоящей, реальной жизни. Книга и жизнь, стихотворение и то, что его вызвало, — какие несоизмеримые величины! И я т<а>к заражена этим недоверием, что вижу — начинаю видеть ― одну материальную, естественную сторону всего. Ведь это прямая дорога к скептицизму, ненавистному мне, моему врагу!
Мне говорят о самозабвении. «Из цепи вынуто звено, нет вчера, нет завтра!»
Блажен, кто забывается!
Я забываюсь только одна, только в книге, над книгой!
Но к<а>к только человек начинает мне говорить о самозабвении, я чувствую к нему такое глубокое недоверие, я начинаю подозревать в нем такую гадость, что отшатываюсь от него в то же мгновение. И не только это! Я могу смотреть на облачко и вспомнить такое же облачко над Женевским озером и улыбнусь [208]. Человек рядом со мной тоже улыбнется. Сейчас фраза о самозабвении, о мгновении, о «ни завтра, ни вчера».
Хорошо самозабвение! Он на Генуэзской крепости, я у Женевского озера 11-ти лет, оба улыбаемся, — какое глубокое понимание, какое проникновение в чужую душу, какое слияние!
И это в лучшем случае.
То же самое, что с морем: одиночество, одиночество, одиночество.
Книги мне дали больше, чем люди. Воспоминание о человеке всегда бледнеет перед воспоминанием о книге, — я не говорю о детских воспоминаниях, нет, только о взрослых!
Я мысленно всё пережила, всё взяла. Мое воображение всегда бежит вперед. Я раскрываю еще нераспустившиеся цветы, я грубо касаюсь самого нежного и делаю это невольно, не могу не делать! Значит я не могу быть счастливой? Искусственно «забываться» я не хочу. У меня отвращение к таким экспериментам. Естественно — не могу из-за слишком острого взгляда вперед или назад.
Остается ощущение полного одиночества, к<оторо>му нет лечения. Тело другого человека — стена, она мешает видеть его душу. О, к<а>к я ненавижу эту стену!
И рая я не хочу, где всё блаженно и воздушно, — я т<а>к люблю лица, жесты, быт! И жизни я не хочу, где всё так ясно, просто и грубо-грубо! Мои глаза и руки к<а>к бы невольно срывают покровы — такие блестящие! — со всего.
Что позолочено — сотрется, Свиная кожа остается! [209]Хорош стих?
Жизнь — бабочка без пыли.
Мечта — пыль без бабочки.
Что же бабочка с пылью?
Ах, я не знаю.
Должно быть что-то иное, какая-то воплощенная мечта или жизнь, сделавшаяся мечтою. Но если это и существует, то не здесь, не на земле!
Все, что я сказала Вам, — правда. Я мучаюсь, и не нахожу себе места: со скалы к морю, с берега в комнату, из комнаты в магазин, из магазина в парк, из парка снова на Генуэзскую крепость ― т<а>к целый день.
Но чуть заиграет музыка, — Вы думаете — моя первая мысль о скучных лицах и тяжелых руках исполнителей?
Нет, первая мысль, даже не мысль — отплытие куда-то, растворение в чем-то…
А вторая мысль о музыкантах.
Т<а>к я живу.
То, что Вы пишете о море, меня обрадовало. Значит, мы — морские? [210]
У меня есть об этом даже стихи, — к<а>к хорошо совпало! [211] Курю больше, чем когда-либо, лежу на солнышке, загораю не по дням, а по часам, без конца читаю, — милые книги! Кончила «Joseph Balsamo» — какая волшебная книга! Больше всех я полюбила Lorenz'y, жившую двумя такими различными жизнями. Balsamo сам такой благородный и трогательный [212]. Благодарю Вас за эту книгу. Сейчас читаю M-me de Tencin, ее биографию [213].
Думаю остаться здесь до 5-го мая. Всё, что я написала, для меня очень серьезно. Только не будьте мудрецом, отвечая, — если ответите! Мудрость ведь тоже из книг, а мне нужно человеческого, не книжного ответа. Au revoir. Monsieur mon père spiritual {19}. Граммофона, м<ожет> б<ыть>, не будет [214].
Впервые — ЕРО. стр. 163–165 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 46–48. Печ. по НИСП. стр. 94–97.
14-11. М.А. Волошину
<Начало мая 1911 г., Коктебель>
В ответ на стихотворение [215]
Горько таить благодарность И на чуткий призыв отозваться не сметь, В приближении видеть коварность И где правда, где ложь угадать не суметь. Горько на милое слово Принужденно шутить, одевая ответы в броню. Было время, — я жаждала зова И ждала, и звала. (Я того, кто не шел — не виню). Горько и стыдно скрываться. Не любя, но ценя и за ценного чувствуя боль. На правдивый призыв не суметь отозваться, — Тяжело мне играть эту первую женскую роль!Впервые — ЕРО. стр. 177 (первоначально датировано В.П. Купченко: 1913–1914). CC–1 стр. 195. Печ. по НИСП. стр. 98.
Стихотворение написано на открытке с видом Феодосии.
15-11. М.А. Волошину
Феодосия, 8-го июля 1911 г.
Дорогой Макс,
Ты такой трогательный, такой хороший, такой медведюшка, что я никогда не буду ничьей приемной дочерью, кроме твоей.
В последний вечеру тебя была тоска, а я думала, что ты просто злишься, — теперь я раскаиваюсь в своей резкости. Нужно было подойти к тебе, погладить тебя по лохматой гриве и сказать: «Ма-акс! Ма-акс!» или: «Кись-кись, Кись-кись!», тогда ты сразу сделался бы хорошим, настоящим, тем, к<отор>ый на все случаи жизни знает только одно утешение — «Баю бай бай, Медведевы детки…»
Ты не должен меня забывать, я тебя т<а>к хорошо понимаю, особенно в случае с Верочкой [216]. Но и в других тоже! Это лето было лучшее из всех моих взрослых лет, и им я обязана тебе.
Прими мою благодарность, мое раскаянье и мою ничем не… заменимую нежность.
МЦ<Рукой С. Эфрона:>
Ма-акс!
Привет и поцелуй от твоего дорогого Сережи.
P.S. Ха-ароший он был!!! Будь здоров. Твой до гроба
Сергей ЭфронПотапенка [217] тебя целует.
Впервые — СС-6. стр. 48–49. Печ. по НИСП. стр. 99.
Написано на следующий день после отъезда М. Цветаевой и С. Эфрона из Коктебеля.
16-11. Е.О. Волошиной
Феодосия, 8-го июля 1911 г.
Дорогая Пра [218],
Хотя Вы не любите объяснения в любви, я все-таки объяснюсь. Уезжая из Коктебеля, мне т<а>к хотелось сказать Вам что-н<и>б<удь> хорошее, но ничего не вышло.
Если бы у меня было какое-н<и>б<удь> большое горе, я непременно пришла бы к Вам.
Ваша шкатулочка будет со мной в вагоне и до моей смерти не сойдет у меня с письменного стола.
Всего лучшего, крепко жму Вашу руку.
Марина ЦветаеваP.S. Исполните одну мою просьбу: вспоминайте меня, когда будете доить дельфиниху [219].
И меня тоже!
Сергей ЭфронВпервые — СС-6. стр. 80–81. Печ. по НИСП. стр. 99–100.
17-11. Е.Я. и В.Я. Эфрон
9/VII <19>11 г.
Вера и Лиля!
Сейчас мы в Мелитополе. Взяли кипятку и будем есть всё то, что вы нам приготовили. Привет.
Милая Лиля и милая Вера, здесь, т.е. в вагоне пахнет а́мфорой {20}, но мы не унываем. Всего лучшего.
МЦВпервые — НИСП. стр. 100. Печ. по тексту первой публикации.
Написано на видовой открытке: «Мелитополь. Александровская ул. и гостиница Кониди». Первые три строки — рукой С.Я. Эфрона, последние две — М.И. Цветаевой.
18-11. Е.Я. и В.Я. Эфрон
<9 июля 1911 г.>
Милая Вера и Лиля! Лозовая. Ем борщ. Почти всё, что дано на дорогу, съедено. Спасибо. Привет
СережаМилая Влюблезьяна [220], хочется сказать Вам что-н<и>б<удь> хорошее, но сейчас отходит поезд. До другого раза!
МаринаВпервые ― НИСП. стр. 100. Печ. по тексту первой публикации. Написано на видовой открытке: «Ст. Лозовая. № 1». Датировано по почтовому штемпелю.
19-11. Е.Я. и В.Я. Эфрон
10 июля 1911 г. Тула
Еще три-четыре часа и мы в Москве, ехали прекрасно.
Весь провиант уничтожен. Марина чувствует себя хорошо, я тоже. Спали часов 25. Пока до Москвы, прощайте.
Привет всем, особый Пра.
Милые Лиля и Вера! Сережа пока ведет себя хорошо — много спит и ест. Всего лучшего, скоро будем в Москве.
МЦВпервые — НИСП. С. 101. Печ. по тексту первой публикации.
Написано на открытке из серии в пользу общины Св. Евгении: «В. Зарубин. Маки». После названия картины «Маки» — рукой Цветаевой сделана приписка: «или „Макаки“ — каждый из этих маков был в прежней жизни тем, что Лиля в настоящей» (НИСП. стр. 455).
20-11. Е.Я. и В.Я. Эфрон
Самара, 15 июля 1911 г. [221]
Дорогая Лиленька,
Вот мы и в Самаре. Уезжая из Москвы, я забыла длинное письма к Вам. Если Андрей [222] перешлет, Вы его получите. Сережа здоров и ужасно хорош. Привет всем. Целую Вас и Веру.
МЦМилая Лилюк и Вера! Как у вас сейчас в Кокте<беле>. Я страшно счастлив. Целую.
Впервые — НИСП. стр. 102. Печ. по тексту первой публикации. Написано на открытке с цветным изображением «Дикой кошки». Последняя фраза — рукой С.Я. Эфрона.
21-11. М.А. Волошину
Самара, 15-го июля 1911 г.
Милый Макс,
Эта открытка напоминает мне тебя и Theophile Gautier [223]. Желаю тебе чувствовать себя т<а>к же хорошо, к<а>к я.
МЦ<Рукой С. Эфрона:>
Милый Макс! Мы с Мариной часто вспоминаем твой Коктебель.
Целую Сережа.Кланяйся от нас {21} Елене Оттобальдовне. Мы ей скоро напишем.
Впервые — СС-6. стр. 49. Печ. по НИСП. стр. 102.
Письмо написано на открытке, где изображены лев и львица в пустыне.
22-11. Е.Я. Эфрон
<Июль 1911 г. Усень-Ивановский завод>
Дорогая Лиленька,
За неимением шоколада посылаю Вам картинку [224].
Сереженька здоров, пьет две бутылки кумыса в день [225], ест яйца во всех видах, много сидит, но пока еще не потолстел. У нас настоящая русская осень. Здесь много берез и сосен, небольшое озеро, мельница, речка. Утром Сережа занимается геометрией, потом мы читаем с ним франц<узскую> книгу Daudet [226] для гимназии, в 12 завтрак, после завтрака гуляем, читаем, — милая Лиля, простите скучные описания, но при виде этого петуха ничего умного не приходит в голову [227].
Давно ли уехала Ася [228] и куда? Как вел себя И.С.? [229] Мой привет Вере [230]. Когда начинается тоска по Коктебелю, роемся в узле с камешками.
Пишите, милая Кончита [231] и не забывайте милой меня.
На днях мы с С<ережей> были в Белебее [232]. Это крошечный уездный городок совершенно гоголевского типа. Каторжники таскают воду, в будке сидит часовой, а главное — во всем городе нельзя достать лимонаду.
Я сегодня видела Вас во сне. Вы были в клетчатом платке и страшно хохотали. Я перекрестила Вас и Вы исчезли. Интересно? Простите за все эти глупости!
<На обороте рукой С.Я. Эфрона:>
По получении этого письма поезжай к Юнге [233], бери у него микроскоп и принимайся читать сие письмо.
СережаВпервые — Поэт и время. стр. 74–75. Печ. по НИСП. стр. 103.
23-11. Е.Я. Эфрон
Милая Лилька!
Страшно спешу черкнуть тебе два слова.
Сегодня отходит почта. Боюсь ее пропустить.
Бегу, бегу!
Положим, что не бежит, а идет, ну, дальше: дальше… {22}
Что дальше?
Целую тебя и Верку и Макса, конечно!
Сережа«Ну?!» говорит Марина и я принужден кончить письмо с лишней ложью на совести, — я сидела в другой комнате и совсем не говорила «ну».
МЦАдр<ес>: Усень-Ивановский завод, Уфимской губ<ернии>, Белебеевского уезда, Волостное правление, мне.
25-го июля 1911 г.
<Далее следует рисунок МЦ, изображающий кисть руки с длинными и тонкими пальцами. >
P.S. Сережа находит здесь свою руку похожей на когти Вурдалака.
Впервые — НИСП. стр. 103–105. Печ. по тексту первой публикации.
24-11. М.А. Волошину
Усень-Ивановский завод
26-го июля 1911 г.
Дорогой Макс,
Если бы ты знал, к<а>к я хорошо к тебе отношусь!
Ты такой удивительно-милый, ласковый, осторожный, внимательный. Я так любовалась тобой на вечере в Старом Крыму [234], ― твоим участием к Олимпиаде Никитичне [235] — твоей вечной готовностью помогать людям.
Не принимай всё это за комплименты, — я вовсе не считаю тебя какой-н<и>б<удь> ходячей добродетелью из общества взаимопомощи, — ты просто Макс, чудный, сказочный Медведюшка. Я тебе страшно благодарна за Коктебель, — pays de rе́demption {23}, к<а>к называет его Аделаида Казимировна [236], и вообще за всё, что ты мне дал. Чем я тебе отплачу? Знай одно, Максинька: если тебе когда-н<и>б<удь> понадобится соучастник в какой-н<и>б<удь> мистификации [237], позови меня… Если она мне понравится, я соглашусь. Надеюсь, что другого конца ты не ожидал?
Я опять принялась за Jean Paul'а [238] ― у него чудные изречения, напр<и-мер>: Т<а>к же нелепо судить мужчину по его знакомым, к<а>к женщину по ее мужу.
Нравится? Но не это в нем главное, а удивительная смесь иронии и сентиментальности. К тому же он ежеминутно насмехается над читателем, вроде Th. Gautier.
Что ты сейчас читаешь? Напиши мне по-настоящему или совсем не пиши. Последнее мне напоминает один случай из нашего детства. «Он был синеглазый и рыжий», т.е. один чудный маленький мальчик в Nervi долго выбирал между Асей и мной и в конце концов выбрал меня, потому что мы тогда уехали. В Лозанне мы с ним переписывались обе, и однажды Ася получает от него такое письмо: «Пиши крупнее или совсем не пиши» [239].
Загадываю сейчас на тебя по «Джулио Мости» — драматической фантазии в 4-х дейст<виях> с интермедией, в стихах. Сочинение Н.В., 1836 г. [240]
1. Твое настоящее:
Чем оправдаешь честного Веррино?
2. Твое будущее:
Я у него была: он предлагал
Какую-то свободную женитьбу.
Не моя вина, что выходят глупости!
Загадываю Лиле
1. Ее настоящее:
И отпусти ей грех, когда возможно.
И просвети ее заблудший разум,
Но не карай несчастную!
2. Ее будущее:
И может быть, вдвоем гораздо больше
Найдешь источников богатства.
1. Верино настоящее:
Готова ль ты свое оставить место
И домом управлять?
2. Верино будущее:
Что за история! Совсем одета
Так рано! Не спала, — постель в порядке…
Максинька, об одном тебя прошу: никого из людей не вталкивай в окно сестрам, к<а>к ― помнишь? — втолкнул меня. Мне это будет страшно обидно. М<ожет> б<ыть> ты на меня за что-н<и>б<удь> сердишься и тебе странно будет читать это письмо, — тогда читай всё наоборот.
МЦАдр<ес>: Усень-Ивановский завод. Уфимской губ<ернии>, Белебеевского уезда, Волостное правление, мне.
P.S. Пиши скорей, почта приходит только два раза в неделю и письма идут очень долго.
Скажи Елене Оттобальдовне, что я очень, очень ее люблю, Сережа тоже.
Впервые — ЕРО. стр. 166–168 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 49–51. Печ. по НИСП. стр. 105–107.
25-11. В.Я. Эфрон
Усень-Ивановский завод, 4-го авг<уста> 1911 г.
Милая Вера, привет от милой Марины. Она с утра до вечера откармливает Сережу всякой всячиной и, вычитав недавно, что в Турции жены султана едят рис, чтобы потолстеть, начала пичкать его (Сережу) рисом. Иногда она вспоминает Макса и стих Гумилева: «Я хочу к кому-нибудь ласкаться, К<а>к ко мне ласкался кенгуру!» [241] — и вспоминает тогда Вас. Никто никогда не сумеет т<а>к тереться о ее плечо и подставлять ей свое, к<а>к Вы. В этом она уверена. Марина, если Вера позволит, целует Веру.
МЦВпервые — НИСП. стр. 108. Печ. по тексту первой публикации. Написано на видовой открытке «Белебей. Усень-Ивановский завод. Вид на гору Мысайку».
26-11. М.А. Волошину
Усень-Ивановский завод, 4-го августа 1911 г.
Милый Макс,
А когда ты мне (запустил) попал мячиком в лицо, я тебе прощаю. Мы сейчас шли с Сережей по деревне и представили себе, к<а>к бы ты вышел нам навстречу из-за угла, в своем балахоне, с палкой в руках и начал бы меня бодать. А я бы сказала: — «Ма-акс! Ма-акс! Я не люблю, когда бодаются!» Теперь я ценю тебя целиком, даже твое боданье. Но т<а>к к<а>к это письмо слишком похоже на объяснение в любви, — прекращаю.
МЦP.S. Жму твою лапу.
Жму, ценю, прощаю! Жми, цени, прости!
Твой С. Э.<Рукой М.И. Цветаевой: >
Это письмо написано до твоего, 10 дней т<ому> назад.
Впервые — СС-6. стр. 52 (с указанием датировки: 14 августа). Печ. по НИСП. стр. 109.
Написано на видовой открытке: «Усень-Ивановский завод (Уф<имской> губ<ернии>). Посадка хвойных дерев».
27-11. М.А. Волошину
Усень-Ивановский завод,
11-го августа 1911 г.
Милый Максинька,
Одновременно с твоим лясым [242] письмом, я получила 2 удивительно дерзких открытки от Павлова [243], друга Топольского [244].
Мое молчание на его 2-ое письмо он называет «неблаговидным поступком», жалеет, что счел меня за «вполне интеллигентного» человека и радуется, что не прислал своих «произведений».
Я думаю отправить ему в полк открытку такого содержания:
«Милостивый Государь, т<а>к к<а>к Вы, очевидно, иного дамского общества, кроме лошадиного, не знаете, то советую Вам и впредь оставаться в границах оного.
На слова, вроде „неблаговидный поступок“ принято отвечать не словами, а жестом».
— К<а>к хорошо, что лошадь женского рода!
С удовольствием думаю о нашем появлении в Мусагете втроем и на ты! Ты ведь приведешь туда Сережу? А то мне очень не хочется просить об этом Эллиса.
Спасибо за письмо, милый Медведюшка. Меня очень обрадовало твое усиленное рисование. Сережу тоже, — по какой чудной картине ты нам подаришь, — с морем, с горами, с полынью! Если ты о них забудешь при встрече в Москве, ты ведь позволишь нам напомнить, — Vous rе́fraîchir la mе́moire? {24}
Сережа готовит тебе сюрприз, я …мечтаю о твоих картинах, — видишь, к<а>к мы тебя вспоминаем!
Макс, я сейчас загадала на тебя по Jean Paul'y и вот что вышло: «Warum erscheinen uns keine Tierseelen?» {25}
Доволен?
Довольно глупостей, буду писать серьезно. Сперва о костюмах: у меня с собой только серая юбка, разодранная уже до Коктебеля в 4-ех местах. Я ее каждый день зашиваю, но сегодня на меня упал рукомойник и разодрал весь низ. Мы и его и ее заклеили сургучом.
— Во-вторых о Сережином питании: он выпивает по две бутылки сливок в день, но не растолстел.
— В-третьих о моей постели: она скорей похожа на колыбель, притом на плохую. В середине ее слишком большое углубление, т<а>к что, ложась в нее, я не вижу комнаты. Кроме того парусина рвется не по часам, а по минутам. Стоит только шевельнуться, к<а>к слышится зловещий треск, после к<оторо>го я всю ночь лежу на деревяшке.
— В-четвертых о книгах: я читаю Jean Paul'a, немецкие стихи и Lichtenstein [245]. Представь себе, Макс, что я совсем не изменилась с 12-ти л<ет> по отношению к этой книге.
Жду письма с Мишиным дуэлем [246], Спящей Царевной, названием и описанием предназначенных нам картин, всем, что не лень будет описать — или не жалко.
Спасибо за Гайдана, 4 pattes {26} и затылок [247]. А когда ты в меня мячиком попал, я тебе прощаю.
МЦУ<сень> Ив<ановский завод>
11/VIII 1911 г.
Милый Макс!
Я готовлю тебе один подарок. Мне кажется — ты будешь им доволен. Очень жалею, что меня сейчас нет в К<октебе>ле — был бы с удовольствием твоим секундантом. Мы часто вспоминаем тебя. И «баю-бай» вспоминаем. Целую тебя
СережаМакс, отпечатай мне несколько коктебельских снимков [248]. Ну, пожалуйста! Целую тебя.
МЦВпервые ― Новый мир. 1977. № 2 (публ. И.В. Кудровой). СС-6. стр. 51–52 (без приписки). Печ. по НИСП. стр. 109–110.
28-11. М.А. Волошину
Москва, 22-го сент<ября> — 5-го окт<ября> 1911 г.
Милый Макс,
Спасибо за открытки.
Тебя недавно один человек ругал за то, что ты, с презрением относящийся к газетам, согласился писать в такой жалкой, к<а>к Московская [249]. Я защищала тебя, к<а>к могла, но на всякий случай напиши мне лучшие доводы в твою пользу.
Я не люблю, когда тебя ругают.
Эллис недавно уехал за границу. Мы вчетвером поехали его провожать, но не проводили, потому что он уехал поездом раньше. Лиля серьезно больна, долгое время ей запрещали даже сидеть. Теперь ей немного лучше, но нужно еще очень беречься. Из-за этого наш план с Сережей жить вдвоем расстроился. Придется жить втроем, с Лилей, м<ожет> б<ыть> даже вчетвером, с Верой, к<отор>ая, кстати, приезжает сегодня с Людвигом [250]. Не знаю, что выйдет из этого совместного житья, ведь Лиля всё еще считает Сережу за маленького. Я сама очень смотрю за его здоровьем, но когда будут следить еще Лиля с Верой, согласись — дело становится сложнее. Я бы очень хотела, чтобы Лиля уехала в Париж. Только не пиши ей об этом.
Сережа пока живет у нас. Папа приезжает наверное дней через 5 [251]. Ждем все (С<ережа>, Б<орис> [252], Ася и я) грандиозной истории из-за не совсем осторожного поведения. Наша квартира в 6-ом этаже, на Сивцевом-Вражке, в только что отстроенном доме. Прекрасные большие комнаты с итальянскими окнами. Все четыре отдельные.
Ну, что еще? Л<идия> А<лександровна> в отвратительном состоянии здоровья и настроения. Говорит всё т<а>к же неожиданно. У нас в доме «кавардак» (помнишь?). Почти ничего не читаю и не делаю.
Максинька, узнай мне, пожалуйста, точный адр<ес> Rostand [253] и его местопребывание в настоящую минуту! Играет ли Сарра? [254] Если будет время, зайди Rue Bonaparte, 59 bis или 70 к M-me Gary [255] и расскажи ей обо мне и передай привет. Она будет очень рада тебе, а я — благодарна.
Ну, до свидания, пиши мне. Сережа, Борис и Ася шлют привет. Лиля очень сердится, что ты не пишешь.
МЦP.S. Макс, мне 26-го будет 19 л<ет>. подумай! А Сереже — 18 [256].
Впервые ― ЕРО. стр. 169 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 52–53. Печ. по НИСП. стр. 112–113.
29-11. М.А. Волошину
Москва, 1-го — 14-го октября 1911 г.
Дорогой Макс,
Недавно, проходя по Арбату, я увидела открытку с кудрявым мальчиком, очень похожим на твой детский портрет — и вспомнила, к<а>к ты чудесно подполз к нам с Сережей, помнишь, на твоей террасе? Завтра мы переезжаем на новую кв<артиру> — Сережа, Лиля, Вера и я.
У нас с Сережей комнаты vis a vis {27}, — Сережина темно-зеленая, моя малиновая. У меня в комнате будут: большой книжный шкаф с львиными мордами из папиного кабинета, диван, письменный стол, полка с книгами и… и лиловый граммофон с деревянной (в чем моя гордость!) трубою [257]. У Сережи — мягкая серая мебель и еще разные вещи. Лиля и Вера устроятся, к<а>к хотят. Вид из наших окон чудный — вся Москва. Особенно вечером, когда вместо домов одни огни. Дома, где мы сейчас с Сережей, страшный кавардак: Ася переустраивает комнату. Кстати, один эпизод: папа не терпит Борю, и вот, когда он ушел, Ася позвала Бориса по телефону. Когда в 1 ч<ас> вернулся папа, Б<орис> побоялся, уходя, быть замеченным и остался в детской до 6 ч<асов> утра, причем спускался по лестнице и шел по зале в одеяле, чтобы быть похожим на женскую фигуру.
Ася перед тем прокралась вниз и на папин вопрос, что она здесь делает, ответила: «Иду за молоком» (к<оторо>го, кстати, никогда не пьет). Мы с папой очень мило поговорили вчера о моем отъезде, он на все согласен. Присутствие Лили и Веры (в общем, очень ненужное) послужило нам на пользу.
Драконночка вечно мила и необыкновенна. К<а>к ты верно заметил в ней несоответствие высказываемого с думаемым. К<а>к-то недавно, напр<имер>, она, утешая одну барышню, говорит ей такую вещь: «Нельзя же, в самом деле, открывать душу и лупить с ней во все лопатки!» Она очень полюбила Сережу:
— «Да, Се-ре-жа такой трога-тель-ный».
— (Ася) — «А Боря трогательный?»
— «Нет, он страш-ный».
Ты, Макс, конечно, больше любишь Бориса, ты отчего-то Сереже за все лето слова не сказал. Мне очень интересно — почему? Если из-за мнения о нем Лили и Веры — ведь они его т<а>к же мало знают, к<а>к папа меня. Ты, т<а>к интересующийся каждым, вдруг пропустил Сережу, — я ничего не понимаю!
26 сент<ября> было Сережино 18-ти и мое — 19-ти летия. Это был последний день дома без папы. Мы сидели вчетвером наверху у Айзы [258], при канделябрах, обжирались конфетами и фруктами и вспоминали нашего незаменимого Медведюшку. Мы праздновали зараз 4 рождения — наши с Сережей, Асино, бывшее 14-го сентября и заодно Борино будущее, в феврале. К<а>к бы ты на Асином месте вел себя с Борисом? Ведь нельзя натягивать вожжи с такими людьми. К<а>к ты думаешь? — Из-за мелочей. — Напиши, если хочешь, об этом свое мнение. Ты ведь знаешь людей! В Мусагете еще не была и не пойду до 2-го сборника [259]. Милый Макс, мне очень любопытно; что ты о нем скажешь, — неужели я стала хуже писать? [260] Впрочем, это глупости. Я задыхаюсь при мысли, что не выскажу всего, всего!
Пока до свидания, Максинька, пиши. Ася тебя целует. Сережа тоже. Марина лохматится о твою львиную голову. У меня волосы тоже вьются… на концах.
МЦМой адр<ес>: Москва, Сивцев Вражек, д<ом> Зайченко или д<ом> 19 кв<артира> 11, мне.
Впервые — Новый мир. 1977. № 2 (публ. И.В. Кудровой). СС-6. стр. 53–55. Печ. по НИСП. стр. 113–114.
30-11. Е.Я. Эфрон
Милая Лиля, извините меня, пожалуйста, за вчерашнюю неловкость с Лидией Александровной [261]. Я вовсе не хотела обидеть Вас, это случилось совершенно неожиданно для меня самой. Л<идия> А<лександровна> вошла первая, я вслед за ней, и она сразу начала мне что-то говорить, — мне показалось, что уже поздно знакомить. Еще раз прошу Вас извинить меня за эту некорректность.
Всего лучшего. Вера с котенком, кажется, не воюет.
МЦМосква, 9 октября 1911 г.
Впервые — СС-6. стр. 85. Печ. по НИСП. стр. 114–115. Послано с нарочным.
31-11. М.А. Волошину
Москва, 28-го октября 1911 г.
Дорогой Макс,
У меня большое окно с видом на Кремль. Вечером я ложусь на подоконник и смотрю на огни домов и темные силуэты башен. Наша квартира начала жить. Моя комната темная, тяжелая, нелепая и милая. Большой книжный шкаф, большой письменный стол, большой диван — все увесистое и громоздкое. На полу глобус и никогда не покидающие меня сундук и саквояжи. Я не очень верю в свое долгое пребывание здесь, очень хочется путешествовать! Со многим, что мне раньше казалось слишком трудным, невозможным для меня, я справилась и со многим еще буду справляться! Мне надо быть очень сильной и верить в себя, иначе совсем невозможно жить!
Странно, Макс, почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной. Для меня это сюрприз, — мне всегда казалось, что кто-то другой будет устраивать мою жизнь. Теперь же я во всем буду поступать, к<а>к в печатании сборника [262]. Пойду и сделаю. Ты меня одобряешь?
Потом я еще думала, что глупо быть счастливой, даже неприлично! Глупо и неприлично т<а>к думать. — вот мое сегодня.
Жди через месяц моего сборника, — вчера отдала его в печать. Застанет ли он тебя еще в Париже?
Пра [263] сшила себе новый костюм — синий, бархатный с серебряными пуговицами — и новое серое пальто. (Я вместо кафтан [264] написала костюм.) На днях она у Юнге [265] познакомилась с Софией Андреевной Толстой [266]. Та, между прочим, говорила: «Не люблю я молодых писателей! Все какие-то неестественные! Напр<имер>, X. сравнивает Лев Николаевича с орлом, а меня с наседкой. Разве орел может жениться на наседке? Какие же выйдут дети?».
Пра очень милая, поет и дико кричит во сне, рассказывает за чаем о своем детстве, ходит по гостям и хвастается. Лиля всё хворает, целыми днями лежит на кушетке, Вера ходит в китайском, лимонно-желтом халате и старается приучить себя к свободным разговорам на самые свободные темы. Она точно нарочно (и, наверное, нарочно!) употребляет самые невозможные, режущие слова. Ей, наверное, хочется перевоспитать себя, побороть свою сдержанность [267]. — «Раз эти вещи существуют, можно о них говорить!» Это не ее слова, но могут быть ею подуманными. Только ничего этого ей не пиши!
До свидания, Максинька, пиши мне.
МЦВпервые — ЕРО. стр. 170–171 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 55–56. Печ. по НИСП. стр. 115, 117
32-11. М.А. Волошину
Москва, 3-го ноября 1911 г.
Дорогой Макс,
В январе я венчаюсь с Сережей, — приезжай [268]. Ты будешь моим шафером. Твое присутствие совершенно необходимо. Слушай мою историю: если бы Дракконочка не сделалась зубным врачом, она бы не познакомилась с одной дамой, к<отор>ая познакомила ее с папой; я бы не познакомилась с ней, не узнала бы Эллиса, через него не узнала бы Н<иленде>ра [269], не напечатала бы из-за него сборника, не познакомилась бы из-за сборника с тобой, не приехала бы в Коктебель, не встретилась бы с Сережей, — следовательно, не венчалась бы в январе 1912 г.
Я всем довольна, январь — начало нового года, 1912 г. — год пребывания Наполеона в Москве [270].
После венчания мы, наверное, едем в Испанию. (Папе я пока сказала — в Швейцарию.) [271] На свадьбе будут все папины родственники, самые странные. Необходим целый полк наших личных друзей, чтобы не чувствовать себя нелепо от пожеланий всех этих почтенных старших, к<отор>ые, потихоньку и вслух негодуя на нас за неоконченные нами гимназии и сумму наших лет — 37, непременно отравят нам и январь, и 1912 год.
Макс, ты должен приехать!
Сборник печатается, выйдет, наверное, через месяц.
Сегодня мы с Асей в Эстетике читаем стихи [272]. Будут: Пра, Лиля, Сережа, Ася и Борис. Я говорила по телефону с Брюсовым (он случайно подошел вместо Жанны Матвеевны [273], просившей меня сообщить ей по телефону ответ), и между прочим такая фраза: «Одна маленькая оговорка, можно?» — «Пожалуйста, пожалуйста!»
Я, робким голосом:
— «Можно мне привести с собой мою сестру? Я никогда не читаю без нее стихов».
— «Конечно, конечно, будем очень счастливы».
Посмотрим, как они будут счастливы!
Я очень счастлива — мы будем совершенно свободны, — никаких попечителей, ничего.
Разговор с папой кончился мирно, несмотря на очень бурное начало. Бурное — с его стороны, я вела себя очень хорошо и спокойно. — «Я знаю, что (Вам) в наше время принято никого не слушаться»… (В наше время! Бедный папа!)… «Ты даже со мной не посоветовалась. Пришла и — „выхожу замуж“!»
— «Но, папа, к<а>к же я могла с тобой советоваться? Ты бы непременно стал мне отсоветовать».
Он сначала: «На свадьбе твоей я, конечно, не буду. Нет, нет, нет».
А после: «Ну, а когда же вы думаете венчаться?»
Разговор в духе всех веков!
Тебе нравится моя новая фамилия?
Мои волосы отросли и вьются. Цвет русо-рыжеватый.
Над моей постелью все твои картинки. Одну из них, — помнишь, господин с девочкой на скамейке? — я назвала «Бальмонт и Ниника» [274]. Милый Бальмонт с его «Vache» [275] и чайными розами!
Пока до свидания, Максинька, пиши мне.
Только не о «серьезности такого шага, юности, неопытности» и т.д.
МЦВпервые ― ЕРО. стр. 171–173 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 56–57. Печ. по НИСП. стр. 117–118.
33-11. М.А. Волошину
Ваше письмо — большая ошибка [276].
Есть области, где шутка неуместна, и вещи, о к<отор>ых нужно говорить с уважением или совсем молчать за отсутствием этого чувства вообще.
В Вашем издевательстве виновата, конечно, я, допустившая слишком короткое обращение.
Спасибо за урок!
Марина ЦветаеваМосква, 19-го ноября 1911 г.
Впервые ― ЕРО. стр. 173 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 57. Печ. по НИСП. стр. 119.
34-11. Эллису
3-го декабря 1911 г.
Дорогой Эллис,
Будьте поласковее с этой барышней [277], ― это сестра Сережи, очень интересная и умная.
Забудьте на время о готической девушке с Библией в руках! [278] С Библией, к<отор>ую она даже читать не умеет!
Не сердитесь за шутку и будьте помилей с Лилей.
МЦВпервые — Поэт и время. стр. 75. СС-6. стр. 34. Печ. по СС-6.
35-11. М.А. Волошину
Москва, 3-го декабря 1911 г.
Дорогой Макс,
Вот Сережа и Марина, люби их вместе или по отдельности, только непременно люби и непременно обоих [279]. Твоя книга ― прекрасная, большое спасибо и усиленное глажение по лохматой медвежьей голове за нее [280]. Макс, я уверена, что ты не полюбишь моего 2-го сборника. Ты говоришь, он должен быть лучше 1-го или он будет плох. «En poèsie, comme en amour, rester à la même place — c'est reculer?» {28} Это прекрасные слова, способные воодушевить меня, но не изменить! Сегодня вечером с 9-тичасовым поездом уезжают за границу Ася и Лиля. С 10-тичасовым едет факир [281]. Увидишь их всех в Париже. Я страшно горячо живу.
Не знаю, увидимся ли в Париже, мы там будем в январе, числа 25-го [282]. Пока до свидания. Скоро мы с Сережей едем к Тио [283], в Тарусу, потом в Петербург. Его старшая сестра очень враждебно ко мне относится [284].
МЦ.Впервые — ЕРО. стр. 174 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 57–58. Печ. по НИСП. стр. 120.
36-11. М.А. Волошину
<Телеграмма>11. XII. 1911. <Москва>
Та patte cher ours unique.
Marina {29}Впервые — НИСП. стр. 119. Печ. по тексту первой публикации.
В очерке «Живое о живом» Цветаева вспоминает о реакции Волошина на ее гневное письмо (см. предыдущее письмо): «И его ответ: спокойный, любящий, бесконечно-отрешенный, непоколебимо-уверенный, кончающийся словами: „Итак, до свидания — до следующего перекрестка!“ — то есть когда снова попаду в сферу его влияния, из которой мне только кажется — вышла, то есть совершенно как светило — спутнику» (СС-4. стр. 191).
1912
1-12. М.А. Волошину
Петербург, 10-го января 1912 г.
Милый Макс,
Сейчас я у Сережиных родственников в П<етер>бурге [285]. Я не могу любить чужого, вернее, чуждого. Я ужасно нетерпима.
Нютя [286] ― очень добрая, но ужасно много говорит о культуре и наслаждении быть студентом для Сережи.
Наслаждаться — университетом, когда есть Италия, Испания, море, весна, золотые поля…
Ее интересует общество адвокатов, людей одной профессии. Я не понимаю этого очарования! И не принимаю!
Мир очень велик, жизнь безумно коротка, зачем приучаться к чуждому, к чему попытки полюбить его?
О, я знаю, что никогда не научусь любить что бы то ни было, просто, потому что слишком многое люблю непосредственно!
Уютная квартира, муж-адвокат, жена ― жена адвоката, интересующаяся «новинками литературы»…
О, к<а>к это скучно, скучно!
Дело с венчанием затягивается, — Нютя с мужем выдумывают все новые и новые комбинации экзаменов для Сережи. Они совсем его замучили. Я крепко держусь за наше заграничное путешествие.
— «Это решено».
Волшебная фраза!
За к<отор>ой обыкновенно следуют многозначительные замечания, вроде: «Да, м<ожет> б<ыть> на это у Вас есть какие-н<и>б<удь> особенные причины?»
Я, право, считаю себя слишком достойной всей красоты мира, чтобы терпеливо и терпимо выносить каждую участь!
Тебе, Макс, наверное, довольно безразлично все, что я тебе сейчас рассказываю. Пишу все это наугад.
Пра очень трогательная, очень нас всех любит и чувствует себя среди нас, к<а>к среди очень родных. Вера очень устает, все свободное время лежит на диване. Недавно она перестала заниматься у Рабенек, м<ожет> б<ыть> Рабенек с ее группой [287], в точности не знаю.
Пока до свидания, пиши в Москву, по прежнему адр<есу>.
Стихи скоро начнут печататься, последняя корректура ждет меня в Москве [288].
МЦ.P.S. Венчание наше будет за границей [289].
Впервые — ЕРО. стр. 176 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 58–59. Печ. по НИСП. стр. 123–124.
2-12. Е.Я. Эфрон
Париж, 5/18 марта 1912 г.
Милая Лиля, вчера утром мы приехали в Париж [290]. Сережа лучше меня знает названия улиц и зданий. Я, желая показать ему Notre Dame, повела его вчера в совершенно обратную сторону. Аси мы еще не разыскали. Наше отчаяние — все эти автобусы и омнибусы, загадочные своим направлением. Пока до свидания.
МЭ [291]Впервые — НИСП. стр. 125. Печ. по тексту первой публикации. Написано на открытке с видом: «Jardin du Luxemburg, le coin des Nourrices» («Люксембургский сад, уголок кормилиц»).
3-12. Е.Я. и В.Я. Эфрон
Палермо, 21-го марта / 2-го апреля 1912 г.
Христос Воскре́се, милые Лиля и Вера! Желаю Вам лучше провести праздники, чем это удается нам. Здесь уже несколько дней холодно, и мы каждый вечер боимся землетрясения.
Сережа еще не поправился, но вот уже несколько дней много ест и ложится рано.
Всего лучшего.
МЭВпервые — НИСП стр. 129. Печ. по тексту первой публикации.
Написано на видовой открытке: «Palermo. ― Chiesadi S. Giovanni degli Eremiti. Costruita nel 1132» («Палермо. — Церковь Св. Иоанна Отшельника. Построена в 1132 г.»).
4-12. А.Я. и A.B. Трупчинским
3/IV <19>12 г.
Поздравляем и желаем всего, всего лучшего.
Марина СережаПеч. впервые по оригиналу, хранящемуся в частном собрании.
Написано рукой Цветаевой (подписано обоими) на видовой открытке: «Palermo. ― Piazza Marina е Giardino Garibaldi». («Палермо. — Площадь Марина и сад Гарибальди»). Поздравление, по-видимому, связано с наступившей Пасхой.
5-12. М.А. Волошину
Palermo, 4-го апреля 1912 г.
Милый Макс, Христос Воскресе!
Где ты сейчас, по прежнему ли {30} целыми днями? Скоро ли собираешься в Коктебель или
Пришли мне какие-н<и>б<удь> стихи. Знаешь новость? Ася после Пасхи венчается с факиром [292].
Мы живем на 4-ом этаже, у самого неба. В нашем дворе старинный фонтан с амуром. Мы много снимаем [293].
Будь т<а>к мил, узнай мне поскорей адр<ес> Аделаиды Казимировны [294], очень тебя прошу!
Привет Пра.
МЭАдр<ес:> Italie Palermo Via Allora Hotel Patria, № 18, мне.
Впервые — НИСП. стр. 129–130. Печ. по тексту первой публикации. Написано на видовой открытке: «Monreale — Duomo — Interno» «(Монреале — Кафедральный собор — Интерьер»).
6-12. A.M. Кожебаткину
Палермо, 4-го апр<еля> 1912 г.
Христос Воскресе, милый Александр Мелетьевич! Мы встречаем Пасху в Palermo, где колокола и в постные дни пугают силой звона. Самое лучшее в мире, пожалуй — огромная крыша, с к<отор>ой виден весь мир. Мы это имеем. Кроме того, на всех улицах запах апельсиновых цветов. Здесь много старинных зданий. Во дворе нашего отеля старинный фонтан с амуром. С нашей крыши виден двор монастырской школы. Сегодня мы наблюдали, как ученики приносили аббату подарки на Пасху и целовали ему руки. Пишите о Москве. Всего лучшего.
Марина ЭфронМой адр<ес>: Italie, Palermo, Via Allora, Hôtel Patria, № 48. M-me Marina Efron.
Впервые — Памятники культуры. Новые открытия. 1988. M.: Наука. 1989. стр. 64 (публ. K.M. Азадовского). СС-6. стр. 101. Печ. по СС-6.
7-12. Ж.Г. и К.Ф. Богаевским
Катания. 11/24-го апреля 1912 г.
Милые Жозефина Густавовна и Константин Федорович!
Из Палермо мы приехали в Катанию. Завтра едем в Сиракузы.
Ах, Константин Федорович, сколько картин Вас ждут в Сицилии! Мне кажется, это Ваша настоящая родина. (Не обижайтесь за Феодосию и Коктебель.) В Палермо мы много бродили по окрестностям были в Montreale, где чудный, старинный бенедиктинский монастырь с двориком, напоминающим цветную корзинку, и мозаичными колоннадами. После Сиракуз едем в Рим, оттуда в Базель. Если захочется написать, то адр<ес> Schweiz, Basel, poste restante. Всего лучшего. Сережа шлет привет.
МЭ.Впервые — СС-6. стр. 101–102. Печ. по тексту первой публикации.
8-12. A.M. Кожебаткину
Сиракузы, 13/26-го апреля 1912 г.
Милый Александр Мелетьевич.
Получили ли Вы мою открытку из Палермо? Я, кажется, перепутала № Вашего дома. Сегодня мы уезжаем из Сиракуз через Катанью и Мессину в Рим, из Рима — в Базель. Если захочется написать, то адр<ес>: Швейцария, Basel, poste restante, M-me Marina Efron. Что нового в Москве и Мусагете? Пока всего лучшего, С<ергей> Я<ковлевич> шлет привет.
МЭ.Впервые — Поэт и время. стр. 75. СС-6. стр. 101. Печ. по СС-6.
9-12. В.Я. Эфрон
28/15 апреля 1912 г.
Шлю привет из Милана.
МЭПеч. впервые по оригиналу, хранящемуся в частном собрании. Написано на видовой открытке: «Milano. — Interno Teatro della Scala» («Милан. — Зрительный зал театра Ла Скала»).
10-12. Е.Я. Эфрон
Кирхгартен
7 мая (24 апреля) 1912 г. [295]
Милая Лиленька, Сережа страшно обрадовался Вашему письму [296]. Скоро увидимся. Мы решили лето провести в России. Так у нас будет 3 лета: в Сицилии, в Шварцвальде, в России. Приходите встречать нас на вокзал, о дне и часе нашего приезда сообщим заранее [297]. У нас цветут яблони, вишни и сирень, — к сожалению, все в чужих садах. Овес уже высокий, — шелковистый, светло-зеленый, везде шумят ручьи и ели. Радуйтесь: осенью мы достанем себе чудного, толстого, ленивого кота. Я очень о нем мечтаю. Каждый день при наших обедах присутствует такой кот, жадно смотрит в глаза и тарелки и, не вытерпев, прыгает на колени то Сереже, то мне. Наш кот будет такой же.
<Приписка на полях:>
Радуюсь отъезду Макса и Пра [298] и скорому свиданию с Вами и Верой. Всего лучшего.
МЭМилый Лилюк,
Ты отгадала: нам скоро суждено увидеться. Марина решила присутствовать на торжествах открытия Музея, и к Троицыну дню (13 мая) мы будем в Москве…
Сейчас внизу гостиницы (деревенской) празднуют чье-то венчание, и оттуда несется веселая громкая музыка. Но в каждой музыке есть что-то грустное (по крайней мере, для профана), и мне грустно. Хотя грустно еще по другой причине: жалко уезжать и вместе с тем тянет обратно. Одним словом, вишу в воздухе и не хватает твердости духа, чтобы заставить себя окончательно решить ехать в Россию.
А тоска растет и растет!.. У меня сейчас такая грандиозная жажда, а чего — я сам не знаю!..
Впервые полностью — Саакянц А. стр. 38–39. СС-6. стр. 85 (приписка С. Эфрона вынесена в примечания). Печ. по НИСП. стр. 130–131.
11-12. Е.Я. Эфрон
Москва. 19-го мая 1912 г.
Милая Лиля,
Спасибо за шляпу, — я не умею благодарить, но Вы должны почувствовать, что я рада.
Целую.
МЭ.Впервые — Саакянц А.-2. стр. 36. Печ. по тексту первой публикации. Является припиской к письму С.Я. Эфрона к сестре Е.Я. Эфрон:
Милая Лилька,
Не писал тебе, так как совсем замотался с устройством квартиры (мы ее сняли теперь!)
Мы нашли очаровательный особняк в 3 комнаты (55 рублей). Марина в восторге. Мы накупили мебель по случаю очень дешево, причем мебель исключительно старинную. Тебе наша квартира очень понравится. Описывать тебе не буду. Приедешь — оценишь.
Я порядком устал от Москвы, но теперь слава Богу осталось дней восемь до отъезда к Тьё [299].
Дня три — четыре можешь писать по адресу: Собачья площадка, д. № 8.
Это наша новая квартира.
12-12. В.Я. Эфрон
Таруса, 11-го июня 1912 г.
Милая Вера,
Вот уже неделя, к<ак> мы у Tio. Она делит свою нежность между граченком, к<оторо>го выходила, четырьмя котами, голубями, воробьями, курами, нищими и нами, — но на нашу долю все-таки остается много.
От Сережи она в восторге, советуется с ним во всех важных случаях. Т<а>к напр<имер> она спрашивала его недавно, нужно ли ремонтировать флигель, к<отор>ый сгорел несколько времени тому назад от лампадки. Сережа сказал «да», и завтра начинается перестройка. С 15-го июля мы переселяемся туда, пока мы живем в гостиной главного дома, у нас свой ход на улицу и свой ключ. Но Сережин кредит третьего дня чуть-чуть не поколебался: он вздумал учить летать граченка и для этого прямо бросал его с высоты поднятой руки. Несколько раз обходилось благополучно, но в конце концов несчастный упал на хвост и несколько времени ходил грустный. Tio сразу это заметила. — «Это вы, наверное, Сирожа, огорчиль моя бедная граченька». (Она грассирует.) С<ережа>, конечно, уверял ее, что нет. Дай Бог, чтобы он только не скончался! С ним тогда навеки кончится тетино доверие к Сереже.
Мы встаем к 9-ти часам, пьем кофе и сидим за столом часа по два: Tio то вспоминает старое время, свою молодость и мамину, то жалуется на прислугу и «тарусская свиней!» Ее, действительно, страшно обирают. Когда ей напр<имер> понадобится написать русское письмо, она платит 5 р<ублей>, за простую палку для флага, срубленную тут же в лесу с нее берут 2 р<убля> и т.д.
Она вздыхает — и дает, иногда даже не вздыхает!
Мы видимся с ней только за едой, остальное время она занята хозяйством, т.е. собственноручно перетирает мебель, посуду, готовит и жалуется на всю эту работу. У нее 3 прислуги: 70-тилетняя старуха из «самая ужасная город ― Нижний, первый забастовщик», горничная и вечно спящий дворник, похожий на лешего. А делает она всё сама!
Дом — волшебный, поражает чистотой. Всё в чехлах. Я в диком раже. Т<а>к хочется рассмотреть все эти стенные и стоячие лампы, канделябры, статуи, картины, диваны, кресла, тумбочки, столы! Но нет: всё крепко зашито! В ее комнате всегда полутемно. Над диваном огромный портрет дедушки углем, по бокам фотографии: мамины детские и наши всех возрастов, на туалетном столике граненые флаконы — увы, пустые! Она не выносит духов — какие-то полированные ящички с цветами, ручные зеркальца, — всякая чудесная мелочь. Часы с вальсами Штрауса и Ланнера [300] больше не ходят, она говорит, что это после нашего последнего приезда.
Скоро зацветут липы. Они окружают весь сад, круглые, темные, страшно густые. Перед террасой площадка, посыпанная красным песком. Раньше на клумбах росли дивные цветы, теперь же ничего нет, всё сожрали и вытоптали мои враги, предмет моего глубочайшего отвращения — куры.
Не помню, писал ли Вам Сережа о нашем особняке на Собачьей площадке? [301] В нем 4 комнаты, потолок в парадном расписной, в Сережиной комнате камин, в моей и столовой освещение сверху (у меня, кроме того, нормальное окно) и вделанные в стену шкафы. Кухня и комната для прислуги в подвале. Если не будет собственного, хотелось бы прожить в этом доме подольше, такой не скоро найдешь!
Ну вот и всё о нас пока.
Пишите о себе, о коктебельской жизни этого лета, — прогулках, симпатиях, ненавистях (они должны быть, раз есть Толстой! [302]) Были ли в Феодосии, видались ли с Петром Николаевичем? [303] Он на наши книги [304], посланные из Шварцвальда, ничего не ответил.
Купаетесь ли?
Пишите обо всем и побольше. Ася целое лето будет в Москве. Да, я забыла: мы уже обставили всю нашу квартиру, купили старинный рояль с милым, слегка разбитым звуком, прекрасную ковровую мебель для Сережиной комнаты, зеркало из красного дерева, к<а>к и рояль, гардероб и т.д.
Будет очень волшебный домик, осенью увидите. Ну, окончательно до свидания.
МЭВпервые — НИСП. стр. 134–137. Печ. по тексту первой публикации.
13-12. В.Я. Эфрон
<Не позднее 11 июля 1912 г.>
Милая Вера,
Спасибо за возмутительно-неподробное письмо. Мы около 2-х недель скитаемся и мечемся по Москве в поисках «волшебного дома» [305]. Несколько дней тому назад (это для приличия, по-настоящему — вчера) нашли его в тихом переулочке с садами [306]. Что яблочный сад при нем — не верьте: просто зеленый дворик с несколькими фруктовыми деревьями и рыжим Каштаном в будке. Если хотите с Лилей жить в «волшебном доме», — будем очень рады. Одна комната большая, другая поменьше. Ответьте. Завтра Сережа едет в Петербург к Завадскому за разрешением [307], во вторник, по-видимому, дом будет наш. Нужно будет осенью устроить новоселье. До свидания, о подробном письме уже не прошу. Привет всем, вернее тем, кто меня любит. Другим не стоит.
Марина.Впервые ― с небольшими сокращениями в кн.: Саакянц А. стр. 40. СС-6. стр. 102 (полностью). Печ. по СС-6 (с уточнением даты написания).
14-12. В.Я. Эфрон
Москва, 11-го июля 1912 г.
Милая Вера,
Я должна просить у Вас прощения: по некоторым обстоятельствам, о к<отор>ых я сразу не подумала, трудно будет устроить, чтобы Вы с Лилей жили у нас. М<ожет> б<ыть> Вы даже и не согласились бы, прошу прощения на случай согласия.
Бедный Сережа уже четвертую ночь в вагоне между Москвой и Петербургом. Мы ведь оба несовершеннолетние, папы сейчас нет, и приходится обращаться к Сережиному попечителю Завадскому [308]. Вчера мы целый день провели у нотариусов — главного и неглавного. Оказалось, что разрешение на купчую, выданное Сереже петербургским нотариусом и подписанное попечителем, написано не по форме, и Сереже пришлось вторично ехать в Петербург. Иначе всё дело с домом пропало бы. К счастью он хорошо спит в вагоне и вид у него ничего-себе. На днях всё это кончится и мы уедем куда-н<и>б<удь> на дачу, м<ожет> б<ыть> в Удельную [309].
Третьего дня вечером я встречала Н<ютю>. Поезд ее стоял всего 15 минут, и мы не успели рассказать друг другу всего. Она была очень оживлена, в восторге от путешествия, очень загорела и выглядит хорошо. А<лександр> В<ладимирович> [310] приезжает 16-го.
Прочла рецензию в Аполлоне о моем втором сборнике [311]. Интересно, что меня ругали пока только Городецкий и Гумилев, оба участники какого-то цеха [312]. Будь я в цехе, они бы не ругались, но в цехе я не буду.
Да, нечто приятное для Вас! Вчера мы в трамвае встретили одного Вашего знакомого. Он первый подошел к нам. — «Я узнал Вас по глазам», сказал он Сереже, — «у Вас настоящие эфроновские глаза. Скажите, пожалуйста, где теперь В<ера> Я<ковлевна> и Е<лизавета> Я<ковлевна>?» Сережа ответил. — «А где они будут зимой? Где будет В<ера> Я<ковлевна>? К<а>к мне ее разыскать? А к<а>к Ваше отчество?»
После этого он быстро повернулся и, не дождавшись ответа {31}, ушел на площадку.
Этот знакомый — Асмол… [313] Честное слово, всё было, к<а>к я говорю!
Пока до свидания.
Надеюсь, Вы на меня не сердитесь.
МЭВпервые — НИСП. стр. 139–140. Печ. по тексту первой публикации.
15-12. В.Я. Эфрон
Иваньково, 29-го июля 1912
Милая Вера,
Вот уже 5-ый день, к<а>к Сережа заболел и в постели: t° три дня стояла на 38,5-39,5. Был доктор, но ничего определенного не сказал: думает, что идет какой-то острый воспалительный процесс в области толстой кишки. Бедный Сережа уже пять дней почти ничего не ест: полное отсутствие аппетита и кроме того воспаление десен и нарывы по всему рту. Д<окто>р прописал строгую диэту; из лекарств — пирамидон и салол.
Мы живем на даче у артистки Художеств<енного> театра Самаровой [314], в отдельном домике. Есть чудесная комната для Вас, с отдельной маленькой террасой и входом. К<а>к только приедете в Москву, непременно приезжайте к нам и живите до начала занятий. Лиля умоляет Вас сделать это, несмотря на сравнительную дороговизну пансиона (50 р<ублей>).
Режим и воздух здесь очень хорошие. На соседней даче живут Крандиевские [315], к<отор>ые предлагают Вам свое гостеприимство в случае, если цена пансиона Вам не подойдет. Мы останемся здесь до 20-го августа.
Дорога сюда следующая: на трамвае до Петровского парка, потом на извозчике до самой нашей дачи (75 коп<еек>) Нанимайте в деревню Иваньково, извозчики уже знают.
Кроме всего остального, знакомство с Самаровой может оказать Вам пользу.
Она пожилая и очень трогательная, особенно своими заботами о Сереже.
Сейчас должен прийти доктор.
30-го июля 1912 г.
Вчера доктор высказал предположение, что это заболевание — инфекционное. Д<олжно> б<ыть> Сережа пил в Москве какую-н<и>б<удь> гадость. Сегодня t° почти нормальная, но слабость очень велика. Крандиевские каждый день заходят справляться о Сережином здоровье и ведут себя очень трогательно.
Скоро напишу Вам еще.
Ответьте поскорей, хотите ли Вы поселиться у Самаровой.
До свидания.
МЭАдр<ес>: Покровское-Глебово-Стрешнево по Моск<овско->Виндавской ж<елезной> д<ороге>. Деревня Иваньково, дача Самаровой.
Впервые — НИСП. стр. 140–141. Печ. по тексту первой публикации.
16-12. Е.Я. Эфрон
Иваньково, 1-го августа 1912 г.
Милая Лиля,
Сережа был это время очень болен, t доходила до сорока. Д<окто>р, приглашенный из Покровского, сначала подумал о воспалении толстой кишки, потом решил, что это остро-инфэкционная болезнь, происшедшая от какой-н<и>б<удь> плохой воды или чего-н<и>б<удь> в этом роде. Теперь он поправляется, но очень ослабел от долгого голодания. Рот у него упорно не улучшается: совершенно зеленый язык, до крови растрескавшийся по бокам, опухшие, налитые кровью десны с нарывами, — словом полный ужас. Ему трудно глотать даже холодную жидкую пищу. Сегодня сюда приехали к нам наши комиссионеры, — купчая окончательно утверждена и дом наш [316]. Не беспокойтесь о Сереже: теперь дело идет на поправку, но скоро ли он окрепнет — неизвестно. Нужно еще долго лежать и соблюдать диэту. Болезнь длилась около недели. Т<емпература> второй день нормальная. Всего лучшего, скоро напишу еще.
МЭВпервые ― НИСП. стр. 141–142. Печ. по тексту первой публикации.
17-12. Е.Я. Эфрон
Иваньково, 9-го августа 1912 г.
Милая Лиля,
Сережа приблизительно выздоровел. Приблизительно — потому что очень худ. Вчера мы были в Москве, в первый раз после его болезни.
Представьте себе: госпожа, продавшая нам дом [317], упорно и определенно не желает из него выезжать. 3 недели тому назад она уже знала, что ей придется найти себе квартиру к 5-му авг<уста>. Она же всё время преспокойно жила на даче, не делая никаких приготовлений к выезду.
Несколько дней тому назад мы еще раз предупреждали ее о необходимости выехать до 5-го, и вот вчера приезжаем в Москву, думая перевозить мебель — и что же? Квартиры у нее нет, ни одна вещь не вывезена, и сама она неизвестно где. Мы написали ей записку с извещением, что за каждый лишний день, прожитый ею в доме, считаем с нее по 10 руб<лей>. начиная с 8-го. Написали еще, что подали жалобу мировому, — чего по настоящему не сделали. Дело у мирового, говорят, длится около трех недель, а нам необходимо переехать до 15-го.
Ася берет наш особняк на Собачьей [318], но т<а>к к<а>к сама укладываться и возиться с переездом не может, выписывает из-за города экономку, к<отор>ую должна во время предупредить. Мы же не можем ей ничего сказать точного о дне выезда.
Кроме того, еще одна неприятность: по просьбе прежней хозяйки мы решили оставить ее дворника. Теперь же оказывается, что он неграмотный.
Стройку мы решили отложить до ранней весны [319] и м<ожет> б<ыть> обойдемся без нашего несколько подозрительного комиссионера. Вчера к К<рандиев>ским приезжал один молодой архитектор [320]. М<ожет> б<ыть> он возьмется за это дело.
Туся, Надя и сама M<ada>me [321] всё время навещали Сережу во время его болезни. Ну, натерпелась же я с этой М<ada>me! Ее бесцеремонность выходит за всякие пределы. К тому же я никогда не видала более хвастливого человека. А ее мания советов! На все темы: от моего положения до выбора стихов. Без конца говорила о своем романе, о лестных отзывах, потом давала полную характеристику Нади, говорила о ее отношении к любви (ее любимая тема) — браку, даже к ней самой. Всё это неожиданно, многословно и нелепо.
Ей, конечно, нельзя отказать в доброте, но еще меньше в отсутствии всякого элементарного понятия о такте.
К 20-му мы думаем перебраться в Москву. Здесь с 25-го июля настоящая осень ― холодная, ветреная и дождливая. Листья опадают, небо с утра в темных низких тучах. Вчера мы купили книгу стихов Анны Ахматовой, которую так хвалит критика [322]. Вот одно из ее стихотворений:
«Три вещи он любил не свете: За вечерней пенье, белые павлины И стертые карты Америки. Не любил, к<а>к плачут дети, Чая с малиной И женской истерики. — А я была его женой».Но есть трогательные строчки напр<имер>:
«Ива по небу распластала Веер сквозной. Может быть, лучше, что я не стала Вашей женой».Эти строчки, по-моему, самые грустные и искренние во всей книге.
Ее называют утонченной и хрупкой за неожиданное появление в ее стихах розового какаду [323], виолы и клавесин.
Она, кстати, замужем за Гумилевым, отцом кенгуру в русской поэзии [324].
Пока всего лучшего, до свидания, до 20-го пишите сюда, потом на Б<ольшую> Полянку, М<алый> Екатерининской пер<еулок>.
МЭP.S. Сережа выучил очень много французских слов.
P.P.S. № нашего будущего телефона: 198-06.
Вам нравится?
Это был лучший из шести данных нам на выбор!
Впервые — НИСП. стр. 143–145. Печ. по тексту первой публикации.
18-12. <С.М. Кезельману>
<Август 1912 г. > [325]
Глубокоуважаемый Господин,
Я была очень рада получить письмо от Ольги [326] и Ваши несколько строчек, и я бы ответила Вам раньше, если бы всякие заботы, связанные с переездом [327], не лишили бы меня этой возможности.
И я очень счастлива за Ольгу так же как и за Вас, я вас обоих понимаю: Ваше положение относительно родных и те неприятности [328], связанные с этим для Ольги. Но из ее письма видно, что они долго не продлятся. Если бы я не была знакома с тем, кого Ольга любит, я бы боялась, что он ее не поймет, но я имела удовлетворение увидеть во время моего пребывания в Мюнхене [329], что Вы ее понимаете, как мало кто другой: ее честность, исключительную душевную чистоту. И ввиду того, что Вы ее так хорошо поняли, я верю в Вашу любовь.
Печ. впервые (перевод В. Лосской). Письмо (черновик) написано по-французски (хранится в архиве М. Цветаевой в РГАЛИ. Ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 307).
Адресат установлен предположительно по содержанию. Было ли письмо отправлено, неизвестно.
1913
1-13. М.А. Волошину
Милый Макс,
Конечно, делай, к<а>к хочешь, но я бы на твоем месте не давала книг [330] Бурлюку [331] на «льготных условиях». Если уж на то пошло, пришли его к нам, в склад. Мы сделаем ему уступку в 25 %. т.е. вместо 50-ти, он заплатит 35 к<опеек>. Это Пра мне прочла открытку Бурлюка.
Всего лучшего, до свидания в среду.
МЭМосква, 10-го марта 1913 г.
<Приписка М. Кювилье:>
Милый Макс, не забудьте, что я прихожу завтра в 3 ½ или в 4. Спокойной ночи. Майя [332].
Впервые — HИСП. стр. 145–146. Печ. по тексту первой публикации.
С начала декабря 1912 г. М.А. Волошин и Е.О. Кириенко-Волошина жили в Москве в квартире, нанятой сестрами Эфрон, — Кривоарбатский переулок, дом 13, квартира 9.
2-13. Е.Я. и В.Я. Эфрон
Коктебель, 28-го апреля 1913 г.
Милые Лиля и Вера, Коктебель странно-пуст: никого, кроме Пра и Макса [333]. Дни серые, холодные и дождливые, с внезапными озерами синего неба. Мы живем в отдельном домике, в двух сообщающихся комнатах. Алина [334] ― в одно окно (в ней я жила месяц), наша — в два, с видом на горы и на Максину башню ― великолепную!
С Максом мы оба в неестественных, натянутых отношениях, не о чем говорить и надо быть милым. Он чем-то к<а>к будто смущен, — вообще наше en trois {32} невозможно. Разговоры смущенные, вялые, все всё время начеку.
М<ожет> б<ыть> это оттого, что он не знает, к<а>к относиться к Сереже. Оба почти не говорят серьезно.
Ничего не произошло и вряд ли произойдет, но все это давит.
Пра необычайно мила, мне хотелось бы сказать ― человечна. Мы долго сидим с ней, я сопровождаю ее в ее хозяйств<енных> путешествиях. Вместе поджариваем на керосинке разные вещи и выдираем на грядках гадкую траву.
Она рассказывает о своей молодости, за окнами темнеет — синяя, синяя темнота ― мы идем домой, Сережа отгоняя, я подманивая… собак. Их здесь очень много: 5 живут на наших террасах, Сережа швыряет в них камнями, я — хлебом.
Вчера Макс рисовал Сережин портрет [335] — вышел негр с ½ носа (М<акс> нашел, что у всех Эфронов должен быть такой нос).
— 11 час<ов> я кончаю. Сейчас отходит почта.
Всего лучшего.
МЭВпервые — НИСП. стр. 146. Печ. по тексту первой публикации.
3-13. М.С. Фельдштейну
Коктебель, 27-го мая 1913 г., понедельник
Милая Волчья Морда,
Сейчас на темном небе яркий серп месяца, совсем серебряный, — горящее серебро. В воздухе многочисленные голоса собак. Влетела бабочка и, трепыхаясь, ползет по столу. Лева [336] говорит: «Марина, сейчас влетят разные летучие мыши и всякая гадость».
Мы только что кончили ужинать, — было крикливо, неловко и уныло. Крикливо из-за двух сестер [337], неловко из-за окриков на них Пра перед матерью и уныло из-за слишком ясного знания всего, что будет.
События сегодняшнего дня: мытье автомобиля перед его окраской, большая прогулка в горы. Мы отделились от художников: Эва Адольфовна [338], Сережа, Копа, Тюня и я. Какие горы мы видели, какие скалы, какое море! Сидели, спустя ноги в пустоту, пили воду из какой-то холодной дыры (источника), видели все море и чуть ли не весь мир. Произошел инцидент с Тюней. Сережа сказал, что талья у него самая тонкая из всех присутствующих (талий) и, возмущенный возражением Тюни, стал примерять ее пояс. Он, действительно, наделся на последнюю дырку, но при первом Сережином вздохе… лопнул, — совсем, окончательно, даже кончик отскочил шагов на пять. Тюня тотчас же назвала Сережу свиньей, потом отошла и всю остальную дорогу была гнусна.
Эва Адольфовна была в шароварах Пра и в своем татарском кафтане. Она купила себе голубой купальный костюм в «Бубнах» [339], и мы после прогулки купались, она и я.
Майя [340] тоскует, плакала уже в комнате Эвы Адольфовны, у себя и у Пра.
— «Ну, зачем Вы его выбрали? Что в нем такого? Толстый, с проседью {33}, в папаши Вам годится! Любить никого не может, я сама часто плачу из-за этого, я понимаю, к<а>к Вам должно быть горько. Да плюньте на него! Выбрали бы себе какого-н<и>б<удь> юношу, стройного, красивого, молодого, вместе бы бегали, вместе бы сочиняли стихи…»
— «Но я не могу на него плюнуть…»
Я думаю! Бедная Майя!
Пра все более и более восторгается Эвой Адольфовной.
А м<ожет> б<ыть> Вы уже далеки от всего этого.
Трещат цикады. На воле чудно — огромная, тихая ночь.
Я буду счастлива, я знаю, что существенно и не существенно, я умею удерживаться и не удерживаться, у меня ничего нельзя отнять. Раз внутри — значит мое. И с людьми, к<а>к с деревьями: дерево мое — и не знает, т<а>к же человек, душа его.
Со мной даже бороться нельзя: я внешне ничего не беру — и никто не знает, к<а>к много — внутри.
Желтый и синий лев (подарок Э<вы> А<дольфовны> и П<етра> Н<иколаевича> [341]) смотрит одобрительно. Он сидит рядом с львиной тарелкой [342] с одной стороны и настоящим Левой — с другой.
Автомобиль, пламенно вымытый обормотами, уехал краситься, и вернется вместе с Вами (?) через неделю.
Привет обоим белым волкам [343].
МЭ.Впервые ― De Visu. M. 1993. № 9. стр. 14 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 105 106. Печ. по тексту НИСП. стр. 147–148.
4-13. М.С. Фельдштейну
Коктебель, 28-го мая 1913 г.
Милый Михаил Соломонович, Сначала хроника: сегодня утром приехала невероятная, долгожданная, мифическая «мамаша» [344], в к<оторую> т<а>к не верила Пра, и — представьте себе! — я пожертвовала этим зрелищем для того, чтобы писать Вам письмо.
— Цените? — Вчера Лиля, Эва Адольфовна и Сережа уехали первые, я осталась одна у Петра Николаевича. Пили кофе. Он закатывал глаза, говорил туманно и прерывал свою пламенную речь озабоченными восклицаниями, вроде: «А Вам, может быть, мало сахара?» Я, не смущаясь, говорила дальше. Потом пришла Потапенко [345] ― одна из жен знаменитого писателя, — и повела нас обедать в какую-то невероятную семью — невероятную своей естественностью, нормальностью провинциализма. Мне сначала понравились эти маленькие, «уютные» комнатки, но потом вдруг стало гнусно. Кроме матери и пятерых детей — всех черных — был еще белый кот, пара тому, черному, у Рогозинских [346]. Что это был за кот! Длинный, худой, цепкий, с бело-желтыми глазами и хриплым, унылым, каким-то предсмертным голосом. Я сделала попытку приласкать его, но не могла. Выходя из этого милого семейства, П<етр> Н<иколаевич> сказал: — «Нет, Марина, не верьте, что этот кот когда-н<и>б<удь> был хорошим. Такие коты хорошими не бывают». — О его прежней хорошести говорила хозяйка в оправдание настоящей его гнусности.
Да! Утром, в 5 часов, Эва Адольфовна и Лиля отправились на пристань и пропустили пароход с Соколом [347], к<отор>ый, к<а>к оказалось после, вообще не приехал.
— Майя вчера ходила в белой головной повязке, Тюня в красивой прическе, делавшей ее похожей на английскую гравюру. Они очень подружились, сидели по обеим сторонам Макса, но когда Тюня нацепила Максу бантик и обезобразила этим его до крайности, Майя, совсем бледная, вышла.
Погода чудная, яркая, жаркая. Вчера Ванда Александровна [348] привезла огромную корзину черешен, — я вспомнила о Вас.
Гудит автомобиль, — кто-то уезжает в Феодосию.
— Без Вас наша жизнь потеряла много остроты. Многое еще хотелось бы Вам сказать.
Всего лучшего, до свидания.
МЭ.Впервые — De Visu. M. 1993. № 9. стр. 14–15 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 106–107. Печ. по тексту НИСП. стр. 148–149.
5-13. М.С. Фельдштейну
Коктебель, 28-го мая 1913 г., вторник
Милый Михаил Соломонович, Сегодня я узнала от Э<вы> А<дольфовны>, что Вы не приедете. Когда Вы это узнали, вспомнили ли Вы мое предсказание?
Очень жаль! Вы застали здесь только предчувствие лета. А сейчас жара, синева. Мы будем ночью ходить в горы. Хорошо будет ночевать на воле! Разожжем костер, возьмем с собой чайник, черешен, увидим восход луны и солнца.
Ужасно, ужасно жаль. Вы, мне кажется, должны любить ночные прогулки и ночные костры. А знаете, когда костер самый лучший? Вечером, на закате, вернее, тотчас же после заката. Дым и розовое небо.
Сегодня приехала Вера [349]. У нее на чердаке прелестно: везде шелковые шали, книги, из окна вид на море.
Пока я не знала, что Вы не приедете, я с радостью писала Вам, мне хотелось, чтобы Вы ничего не пропустили и, приехав, сразу жили дальше, к<а>к мы все. Теперь же я чувствую безнадежность все передать, сохранить Вас действующим лицом и тщетность моих частых писем. Когда Вы едете за границу?
Э<ва> А<дольфовна> в восторге от Пра, Пра в еще большем от нее. Ее подкупает и очаровывает откровенность Э<вы> А<дольфовны>, женственность ее переживаний. Недавно Э<ва> А<дольфовна> положила голову на колени Пра и воскликнула: «Ах, Пра, какая Вы мудрая!» — я бы не сказала. Она понимает все очень элементарно и многого, многого совсем не может понять. С Пра я совсем не могу говорить ни о своей жизни (внешне-внутренней), ни о своей душе. У нас с ней прекрасные отношения — вне моей сущности.
— Слушайте! Когда у нас будет дом в Тарусе, обязательно приезжайте [350]. Там липовый сад, два маленьких дома, коты, золотое вечернее небо и наше детство. Почему мне сейчас показалось, что Вам скучно слушать о детстве?
Вблизи широкая голубая Ока, плоты, у нас будет лодка. Есть еще грустный, грустный, серый, чахлый базар с режущей душу музыкой, почта с никогда не приходящими долгожданными письмами, а потом воля, синие дали, огромные луга, костры, небо.
Там очень грустно, почти невыносимо жить. Все кажется прошлым и сном. Главное я забыла: чудные часы со штраусовскими вальсами [351]. Это уже почти смерть, такая острая и сладкая тоска, такая невозможность жить, что становишься тенью, гибнешь, уплываешь.
В этих часах — весь романтизм, вся боль обожания, вся жажда смерти, — вся моя душа.
Но это далеко, далеко.
Слушайте, если мы до тех пор почему-нибудь разойдемся, я уеду, и Вы один еще лучше переживете все, о чем я Вам писала. До свидания, привезите мне что-н<и>б<удь> из Мюнхена [352].
МЭ.Впервые ― De Visu. M. 1993. № 9. стр. 15–16 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 107–108. Печ. по тексту НИСП. стр. 149–150.
6-13. М.С. Фельдштейну
Коктебель, 7<—8>-го мая / июня! 1913 г. [353], пятница
Милый, к<а>к мне Вас жаль из-за проданного имения [354] и к<а>к дерзко, что Вы мне т<а>к долго не отвечаете. Je me partage entre ces deux sentiments {34}. Сейчас шесть часов вечера, за окном качается порозовевшая трава.
Слушайте, что бы Вы сейчас ни делали, бросьте все: садитесь в вагон, из вагона — в экипаж, велите лошадям звенеть бубенцами, нюхайте гадкую траву (помните?), восторгайтесь показавшейся вдали башней Макса, — пусть она растет, и когда дорастет до естественных размеров, прыгайте с экипажа.
— Все это, конечно, мысленно.
Потом мы будем пить чай на террасе, — без конфет, но с радостью. А когда стемнеет, будем проявлять. (Сегодня мы три раза снимали море за Змеиным гротом). Потом пойдем за калитку и увидим восход луны.
Ах, вчера было чудно! Огромная желтая луна над морем, прямо посреди залива, и под ней длинная полоса грозно-летящих облаков. Луна то исчезала, то вспыхивала в отверстии облака, то сквозила слегка, то сразу поднималась. Казалось, все летит: и луна, и облака, и Юпитер. — Все небо летело.
Говорили о конце света, и Вера боялась идти на свой чердак, где с потолка сыплется известка, а в щели врывается и воет ветер.
Мы с Сережей и Тюней — втроем — танцевали вальс.
Сегодня Сережа, Сокол и я были за Змеиным гротом, дальше того места, где я Вас с Сережей снимала. Мы взобрались на острую, колючую скалу и сидели, свесив ноги. Были огромные, бешеные волны.
Сейчас много черешен, бедное мое волчье золото! Мы сегодня вчетвером съели девять фунтов. Пра перестала давать обеды, и мы теперь ходим в столовую на горе: Лиля, Сережа, Сокол, Маня Гехтман [355] (помните ночь после Халютиной? [356] Вы очень сердитесь на меня за записку?). Вера, Тюня, Копа и я. Остальные обедают в другом месте. В столовой мило и похоже на Швейцарию. Из одного окна вид совсем Швейцарский, из другого — напоминает Св<ятую> Елену [357]: пустынные желтые холмы, за к<оторы>ми чувствуется океан.
Чтобы привести в ужас других обедающих, Сережа и Сокол рассказывают самые невероятные вещи: об острове Цейлоне, поездках на Циппелине [358], знакомстве с франц<узским> премьером и т.п. Сегодня они были обезьянами.
Да, у нас завелся новый француз [359]: тоже сентиментальный, но еще не влюбленный в Лилю. Мы с ним собирали камешки, и я дала ему один — довольно гадкий. Он тотчас же сделал вид de la mettre sur son coeur (la pierre) {35}.
Петр Николаевич привез с собой много вина, (он же привез француза), — был последний и самый буйный ужин. Кончилось тем, что Маня Г<ехтман> заснула в комнате у Макса, несмотря на то, что француз идеально изображал кинематограф.
— А все-таки интересно, напишете ли Вы мне, или нет? ―
Эва Адольфовна последние дни совсем не была в Коктебеле. Это мы все ясно чувствовали. Проводы были без пороха, м<ожет> б<ыть>, из-за ее слабого желания скорой встречи. Она под конец совсем устала и сама не знала, хочет ли вернуться в Коктебель.
Передайте ей мой нежный привет. Впрочем, она раньше Вас получит от меня письмо [360]. До свидания, всего лучшего.
МЭ.P.S. Спасибо за письмо {36}. Прочтите эту фразу ласковей, чем она звучит.
Впервые — De Visu. M. 1993. № 9. стр. 16–17 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 108–110. Печ. по НИСП. стр. 150–152.
7-13. М.С. Фельдштейну
Коктебель, 8-го июня 1913 г., суббота
Мордочка моя золотая, милая, волчья! Значит я верно поняла, что эта продажа имения будет для Вас горем! К<а>к мне Вас жаль, к<а>к мне больно за Вас! И ничего нельзя сделать. Слушайте, я непременно хочу, чтобы Вы побывали у нас в Трехпрудном, увидели холодный низ и теплый верх, большую залу и маленькую детскую, наш двор с серебристым тополем, вывешивающимся чуть ли не на весь переулок, — чтобы Вы все поняли! А главное — чтобы Вы увидели Андрея [361], т<а>к не понимающего, чем был и есть для нас его дом. Тогда — мне кажется — Вы поймете глубину и остроту моей боли за Вас.
Проходя мимо дома в Трехпрудном, мне всегда хочется сказать: «ci gît ma jeunesse» {37}.
Вы для меня теперь освящены страданием, Вы мне родной.
Я много думаю о Вас.
Не вчитывайтесь в мое третье письмо, мне отчего-то хотелось сделать Вам больно, я злилась на Вашу покорность судьбе. Но заметьте одно странное совпадение: в конце этого письма я писала Вам о маленьком доме под большими липами на берегу Оки. Что-то во мне к<а>к будто почуяло продажу Катина и предлагало Вам — очень робко — то, что будет у меня.
Когда мне было 9 лет — мы были тогда в Тарусе, — я сказала гувернантке: «Мы живем здесь семь лет подряд, но мне почему-то кажется, что наша жизнь очень изменится и мы сюда долго не приедем». Через месяц мама заболела туберкулезом, мы уехали за границу и вернулись в Тарусу через 4 года, — мама там и умерла. ―
Слушайте, это не фраза: что бы потом ни было, я никогда не отрекусь, что Вы одна из самых моих благородных встреч.
МЭ Мальчиком, бегущим резво, Я предстала Вам. Вы посмеивались трезво Злым моим словам: «Шалость — жизнь мне, имя — шалость! Смейся, кто не глуп!» — И не видели усталость Побледневших губ. Вас притягивали луны Двух огромных глаз, — Слишком розовой и юной Я была для Вас! Тающая легче снега, Я была — к<а>к сталь. Мячик, прыгнувший с разбега Прямо на рояль, Скрип песка под зубом, или Стали по стеклу… Только Вы не уловили Грозную стрелу Легких слов моих, и нежность Самых дерзких фраз, ― — Каменную безнадежность Всех моих проказ!Коктебель, 29-го мая 1913 г., среда
МЭВпервые ― De Visu. M. 1993. № 9. стр. 17–18 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 110–111. Печ. по тексту HИСП. стр. 152–154.
8-13. Е.Я. Эфрон
Коктебель, 2-го августа 1913 г., пятница
Милая Лососина! [362]
Посылаю Вам стихи Сереже и карточку Али в Вашем конверте. (Вот к<а>к можно в десяти словах обозначить отношения четырех человек.) Спасибо за Лёвскую красоту, но Вы ничего не пишете о своем приезде. Когда? С Петей [363], или одна?
Мы ждем ответа из санатории [364]. Лев целый день позирует: портрет подвигается [365]. Вера очень трогательно ухаживает за всеми. У меня есть для Вас одна новость о Лёве и Субботиной {38}, ― боюсь, что Вам ее уже написали. Если нет, расскажу Вам при встрече — интересней!
Вот стихи:
Как водоросли Ваши члены, Иль ветви мальмэзонских ив. Т<а>к Вы лежали в брызгах пены, Рассеянно остановив На светло-золотистых дынях Аквамарин и хризопраз Сине-зеленых, серо-синих Всегда полузакрытых глаз. Летели солнечные стрелы И волны — бешеные львы… Т<а>к Вы лежали, — слишком белый От нестерпимой синевы. А за спиной была пустыня И где-то — станция Джанкой… И тихо золотилась дыня Под Вашей длинною рукой. Т<а>к, утомленный и спокойный Лежите — юная заря. Но взгля́ните — и вспыхнут войны И горы двинутся в моря. И новые зажгутся лу́ны, И лягут яростные львы По наклоненью Вашей юной, Великолепной головы. [366] МЭВпервые ― НИСП. стр. 154–155. Печ. по тексту первой публикации.
9-13. Е.Я. и В.Я. Эфрон
Москва, 17-го авг<уста> 1913 г.
Милые Лиля и Вера,
Пишу Вам в детской, перед отходом в банк. Ночевала я в Трехпрудном, где сейчас Ася, Борис и Андрюша [367]. Андрюша очень вырос, с длинными золотистыми волосами и очень темными серо-зелеными глазами. Ася с ним и Б<орисом> на зиму едет в Феодосию.
Сегодня же дам объявление о доме [368]. Комната у нас сдана за 20 р<ублей>. Дворник очень милый и расторопный, с пламенной мечтой о хозяине. Сейчас я говорила по тел<ефону> с Салтыковым [369]. Он трогательно беспокоится о Сереже. Пока всего лучшего, спешу.
Привет всем. К<а>к Аля? Не позволяйте Груше [370] уходить с ней далеко и вообще без вашего ведома.
Скоро напишу еще.
МЭВпервые — НИСП. С. 155. Печ. по тексту первой публикации.
10-13. Е.Я. и В.Я. Эфрон
Коктебель, т.е. Лосиный Остров
19-го авг<уста> 1913 г., понед<ельник>
Милые Лиля и Вера,
Сейчас я у Аси на новой даче до завтра. Завтра — первое объявление о доме. В Москве — хорошо, свежо, в доме всё исправно, дворник очень милый, кур всех зарезали, 2 собаки сбежали. Какие-то 2 господина заходили до моего приезда к дворнику. Один хотел снять дом, другой — купить. Ася пока здесь, через месяц едет в Феодосию с Борисом и Андрюшей на всю зиму Андрюша очень хорошенький, с золотистыми длинными волосами и очень темными — серо-зелеными глазами. Глаза и губы — Асины. Скажите Груше, что мы его сняли в фотографии в ее костюмчике. Пишите об Але. Лиля, пож<алуйста> отодвиньте Алину кроватку от стены т<а>к, чтобы она не могла достать до подоконника, где всегда валяются иголки и разная дрянь. Купается ли она через день по 10-ти мин<ут>? Лучше смотреть по часам. К<а>к ее зубы? Скажите Груше, что у меня есть материя ей на платье. Пока всего лучшего, из Москвы напишу всем. Пока всем привет.
Не позволяйте Груше водить Алю без шляпы. Пожалуйста!
Целую. Пишите.
МЭАндрюша — совсем большой и очень милый. Совсем другой, чем Аля.
Впервые — НИСП. стр. 156. Печ. по тексту первой публикации.
11-13. Е.Я. Эфрон
Москва, 22 августа 1913 г., четверг
Милая Лиля,
Кто-то поет в граммофоне: «Ты придешь, моя заря, — последняя заря…» [371]
Женщина или небо в последний раз? Вчера был унылый день. Я с утра бродила по комнатам, рылась в старых дневниках и письмах, сопровождаемая маленьким собачьим скелетом. Потом лежала в спальне на кушетке с тем же черно-желтым скелетом. А вечером! Что было вечером! Я пошла к Л<идии> А<лександровне> [372]. Она встретила меня очень мило (за день до этого она была у меня с Шурой [373]), но скоро ее вызвали, и я осталась одна с Володей [374] (за столом).
После 3-ех или более минутного молчания он начал изрекать такие фразы: «Все люди — пошляки. Они показывают свои козыри, а когда с ними знакомишься ближе, то видишь одну пошлость, самую низкую»… «Вы думаете, что Вы живете праздником? Вы очень ошибаетесь! Вы живете самыми пошлыми буднями. У каждого мастерового есть свой праздник, один в неделю, а у Вас нет»… «Да, все люди — пошлые. Я не знаю ни одного человека без пошлой подкладки. И эта подкладка — главное. И Вы ее увидите»…
И так далее!
Пришла Л<идия> А<лександровна> и разговор прекратился. Потом, уже в передней, пошел дальше.
— «Да, вот я Вам скажу, Мар<ина> Ив<ановна>, у Вас нет ничего человеческого. У Вас внутри пустота. Вы одна инструментальность. И все Ваши стихи — одна инструментальность».
(Так как приходил мой бывший директор гимназии, мне, чтобы не видеться с ним, пришлось зайти к Володе в комнату, где разговор продолжался).
— «Вы еще не дошли до человеческого. Я ведь прекрасно знаю Вашу жизнь.»
— «Вы знаете?»
— «Да, я. Вы можете не соглашаться, но это так. Даже если Вы мне расскажете целый ряд фактов, я останусь при своем мнении. Вы не знаете человеческой души, вообще — Вы не человек.»
— «Что же такое эта человечность?»
— «Это невозможно объяснить.»
— «Ну, жалость? Любовь?»
— «Да, пожалуй, — вообще этого нельзя объяснить. Вы вот говорите, что у Вас есть друзья. Но они дружны с Вами только из выгоды. Все люди таковы! И Вы лично для них совершенно не интересны. Вы в жизни не пережили еще ни одного глубокого чувства и м<ожет> б<ыть> никогда не переживете. Вообще, у Вас нет ничего общего с Вашими стихами.»
— «Слушайте, я не хочу продолжать этого разговора. Мы чужие. Такой разговор для меня оскорбителен, с другими я давно бы его прекратила. И вообще я бы больше не хотела с Вами разговаривать.»
— «И я вышел к Вам только по настоянию Лидии Алекс<андровны> и вообще не хотели бы Вас видеть в своем доме.»
— «То есть где?»
Он делает жест вокруг себя. Я поняла — кабинет.
— «Квартира Лидии Алекс<андровны> — это мой дом.»
— «Я прихожу не в Ваш дом, я прихожу к Л<идии> А<лександровне>.»
— «Дом Л<идии> А<лександровны> — мой дом. И я Вас попрошу никогда больше сюда не являться.»
— «А я очень жалею, что здесь нет со мной моего мужа, чтобы дать Вам по Вашей маленькой хамской физиономии.»
— «Смотрите, как бы Вы сами не получили!»
Он отворяет мне дверь.
— «Позвольте мне Вам открыть дверь.»
— «А мне позвольте последний раз сказать Вам „хам“!»
— «До свидания!»
_____
Вот!
Сереже я, конечно, ничего не пишу об этом.
Интересно, что я в течение всего разговора была на редкость мягка из-за Л<идии> А<лександровны>, всё больше молчала.
Насчет Али: она должна кушать через 3 часа: сначала кашу, а потом кормиться (за раз), — только перед сном не надо каши. Спать ей надо между семью и восемью и днем, когда захочет. С Грушей будьте построже, ничего не спускайте. Я сегодня ей написала с приказанием Вас беспрекословно слушаться. Делайте всё по своему усмотрению, посылайте Грушу с Алей на море, когда тепло, — всё, к<а>к найдете нужным. Только непременно купайте Алю по 10 мин<ут>. Часы у Петра Николаевича [375].
<На полях:>
Когда у Али нет кашля, ни жара, ее всегда можно купать, несмотря на расстройство желудка. Т<емпературу>, когда понадобится, надо мерять под мышкой 15 мин<ут>. Груша знает, к<а>к. Всего лучшего, привет всем.
МЭНе позволяйте Груше уходить с Алей, не спросив у Вас.
Спасибо за письмо.
Впервые — НИСП. стр. 157–159. Печ. по тексту первой публикации.
12-13. Е.Я. Эфрон
<Телеграмма>
Принята: 31 августа 1913 <Москва>
Вчера 30-го час три четверти дня папа скончался разрыв сердца завтра похороны целую — Марина [376]
Впервые — НИСП. стр. 159. Печ. по тексту первой публикации.
13-13. Е.Я. Эфрон
Москва, 3-го сент<ября> 1913 г., вторник
Милая Лиля,
Спасибо за письма и открытки. Могу Вас (и себя) обрадовать: везу une bonne, très gentile. Elle a 22 ans et sert depuis 3 ans comme femme de chambre, cuisinière et bonne de 5 enfants. Et tout cela pour 8 roubles! {39} У нее хорошая рекомендация. Думаю, что она нам подойдет. За нее ручается Андреина [377] прислуга, очень хорошая, живущая у него 2 года. Очень тороплюсь кончить все дела, их уже мало. Выезжаю 6-го. По приезде в Ялту дам Вам телеграмму о выезде. Спросите, пож<алуйста>, Пра, сколько мы ей должны. Очень радуюсь Вам и Але. Где Вера? Я всё звоню, думая, что она уже в Москве.
У меня в голове тупая пустота и в сердце одно желание — скорей уезжать.
Всего лучшего. Ne dites rien а la nourrice {40}.
МЭ<Ha полях:>
Сейчас иду покупать Але башмачки и чулки. Ася сшила ей теплое платьице и шьет ей пальто.
Впервые — НИСП. стр. 159–160. Печ. по тексту первой публикации.
14-13. В.Я. Эфрон
Орел, 9 ч. утра 7 сент<ября> 1913 г.
Милая Вера,
Еду без паспорта — где ночевать в Севастополе? Послала телеграмму Петру Николаевичу [378] с тем же вопросом и просьбой ответить Севастополь вокзал телеграф до востребования. На вокзале, кажется, ночевать не позволяют, а в гостиницу не пустят. Вспомнила о паспорте в самый момент отхода поезда, но не успела сказать. Попросите Леню [379] сказать по телефону 198-06 в лечебницу, что паспорт дворника у него. Тогда Чичеровы [380] пришлют за ним.
Еду хорошо, «публики» меньше.
Всего лучшего Вам… и мне!
МЭP.S. Узнайте, пож<алуйста>, 198-06, отнес ли Владимир [381] Пете [382] книги и нашлась ли одна квитанция?
Впервые — НИСП. стр. 160. Печ. по тексту первой публикации.
15-13. Э.А. Фельдштейн
Курск, 7-го сент<ября> 1913 г., 1 ч<ас> дня [383]
Дорогая Эва Адольфовна.
Отъезжая, я вдруг вспомнила, что еду без паспорта и, следовательно, не могу ночевать в гостинице. Послала телеграмму Петру Николаевичу [384], — м<ожет> б<ыть>, у него есть кто-н<и>б<удь> знакомый в Севастополе. Жду его ответа на Севаст<опольском> вокзале. Если и он ничего не найдет — придется всю ночь гулять по Севастополю. Безумная жара. Всю ночь подо мной происходили бешеные столкновения человеческих душ: женские выгоняли мужские. Пока всего лучшего, спасибо за проводы. Привет всем Вашим. Еду.
МЭВпервые — De Visu. M. 1993. № 9. стр. 18–19 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 116–117. Печ. по тексту НИСП. стр. 160.
16-13. М.П. Кювилье
Ялта, 14-го сент<ября> 1913 г. Воздвижение, день рождения Аси (19 лет)
Милая Майя,
Читаю Ваши стихи — сверхъестественно, великолепно! [385] Ваши стихи единственны, это какая-то detresse musicale! {41} — Нет слов — у меня нет слов — чтобы сказать Вам, как они прекрасны. В них все: пламя, тонкость, ирония, волшебство. Ваши стихи — высшая музыка.
Майя, именно про Вас можно сказать:
Et vous avez à tout jamais — dix-huit ans! {42}
Я сейчас лежала на своем пушистом золотистом пледе (последний подарок папы, почти перед смертью) и задыхалась от восторга, читая Вашу зеленую с золотом тетрадь.
Ваши стихи о любви — единственны, как и Ваше отношение к любви. Ах, вся Ваша жизнь будет галереей прелестных юношеских лиц с синими, серыми и зелеными глазами под светлым или темным шелком прямых иль вьющихся волос. Ах, весь Ваш путь — от острова к острову, от волшебства к волшебству! Майя, вы — Sonntags-Kind {43}, дитя, родившееся в воскресенье и знающее язык деревьев, птиц, зверей и волн.
Вам все открыто, Вы видите на версту под землей и на миллиарды верст над самой маленькой, последней видимой нам звездой. Вы родились волшебницей, Вы — златокудрая внучка какого-нибудь седого мага, передавшего Вам, умирая, всю мудрость свою и ложь. Мне Вы бесконечно близки и ценны, как солнечный луч на старинном портрете, как облачко, как весна.
Пишите больше и присылайте мне свои стихи, потом Вы мне их перепишете.
Ваши стихи для меня счастье.
Майя, у меня план: когда уедет Лиля [386], приезжайте ко мне недели на две, или на месяц, — на сколько времени Вас отпустит мама. Мы будем жить в одной комнате. Вам нужно только деньги на билеты и еду, квартира у меня уже есть [387].
Впервые — Саакянц А. стр. 51–52. СС-6. стр. 117–118. Печ. по тексту СС-6.
17-13. В.Я. Эфрон
Ялта, санатория Александра III
день Ваших именин 1913 г.
<17 сентября>
Милая Вера
«Я не съела ни листа, К<а>к могла я быть сыта?»Эта Сидоровая [388] поздравляет Вас с именинами. Пишу у Лёвы во время ужина. Сегодня Лёва был у д<окто>ра, к<отор>ый советует ему делать операцию аппендицита и ехать в Москву, — ему совершенно не нужна санатория. Это слова главного врача санатории. Соколу он не сказал ничего определенного, предлагает ему лечиться туберкулином, на что С<окол>, конечно, не соглашается. Оба и Лев и Пудель [389] — очаровательны и ведут себя великолепно. Лиля принимает углекислые ванны и целыми днями спит. Аля невероятно похудела и побледнела, но здорова, хотя очень капризна. Через 10 дней будут готовы ее карточки с Грушей, к<отор>ую — Вы еще не знаете? — мгновенно выпроводили из Ялты через день после моего приезда. Причина — паспорт. Новая няня несколько тупа, но очень старательна. Лиля безрезультатно воспитывает ее и Алю. Аля говорит: куда, туда, кукла, «ко» (кот), мама, папа, тетя, няня, гулять. У нее невыносимый характер. Хозяйка дома в ужасе и чуть-чуть не попросила нас съехать. В Севастополе я ночевала в купальне, — было чудно: холод, шум моря, луна и солнце: утром стало хуже — полосатые дамы.
Всего лучшего!
Наш адр<ес>: Общинный пер<еулок> дом Кирьякова.
МЭВпервые — НИСП. стр. 161. Печ. по тексту первой публикации.
18-13. М.С. Фельдштейну
Ялта, 20-го сентября 1913 <г.>, суббота [390]
Дорогой друг,
Мне пришла идея — очаровательная и непреодолимая — написать Вам по-французски. Мы вступили в новую эпоху наших отношений — спокойную и прелестную, когда две души расстаются без печали и встречаются с удовольствием.
Надо было начать вот с чего! У меня к Вам есть одно предложение, которое Вы вольны отклонить, и которым я же первая, может быть, не воспользуюсь, — предложение безо всякого обязательства. Поскольку Вы любитель человеческих душ и поскольку моя душа, как мне кажется, прямо-таки создана для таких любителей, — я предлагаю Вам стать моим исповедником, — очаровательным и очарованным исповедником, но таким же верным, как если бы ему были доверены государственные тайны.
Начнем с того, что прекрасные глаза, недуг и недружелюбие Петра Эфрона два дня не давали мне покоя и продолжают быть моей мечтой еще и теперь — раз в неделю, в течение пяти минут перед тем, как заснуть.
Его худое лицо — совсем не красивое, его истомленные глаза — прекрасные (он как бы не имеет сил открыть их полностью) могли бы стать моей истинной болью, если бы моя душа так гибко не уклонялась бы от всякого страдания, сама же летя в его распростертые объятия.
Что еще сказать Вам?
Знаете ли Вы историю другого молодого человека, проснувшегося в одно прекрасное утро увенчанным лаврами и лучами? Этим молодым человеком был Байрон, и его история, говорят, будет и моей [391]. Я этому верила и я в это больше не верю.
— Не та ли это мудрость, которая приходит с годами? Я только знаю, что ничего не сделаю ни для своей славы, ни для своего счастья. Это должно явиться само, как солнце.
— Примите, сударь, уверение в моем глубоком доверии, которое Вы, возможно, не оправдаете?
Марина ЭфронВпервые — De Visu. M. 1993. № 9. стр. 18–19 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 111–112. Печ. по тексту НИСП. стр. 162–163.
Письмо написано по-французски (перевод Е.Б. Коркиной).
19-13. В.Я. Эфрон
Ялта, 25-го сент<ября> 1913 г., среда
Милая Вера,
Сережа с Соколом остаются здесь еще на один месяц — до 1-го ноября. Мы решили взять комнаты Макса и Пра, предупредите квартирантов за 2 недели до нашего приезда [392].
Звериные здоровья — ничего, слегка прибавляют. Завтра она будут у нас праздновать наши дни рождения [393]. Сейчас в Ялте цирк Дурова, Лиля каждое утро решает пойти и каждый вечер перерешает. Сегодня она с ужасом рассказывала мне, что в программе помечен поезд из 70-ти крыс.
Аля здорова, но очень капризна. На днях пришлю Вам ее карточку. Она, кроме прежних слов, говорит еще «Лиля», — это не без упорного Лилиного воспитания.
Пока всего лучшего, сейчас будем с Лёвой проявлять.
Напишите мне, пож<алуйста>, адрес Майи [394], не забудьте!
Я ей пишу бесконечное письмо.
Привет всем знакомым и поцелуй Вам.
МЭВпервые — НИСП. стр. 163. Печ. по тексту первой публикации.
20-13. В.Я. Эфрон
Ялта, 8-го октября 1913 г., вторник
Милая Вера,
Когда я не знаю дня недели, я ставлю наугад, — иногда выходит верно. От Вас 100 лет — ни строчки. Мы с Лилей ведем идиллическую жизнь, нарушаемую только ее изучением непонятных ей научных предметов и терминов. Ее робкая надежда все-таки сдать экзамены — умилительна. Сокол скучает, молчит, вяло волочит ноги и… прибавляет. Лёва в восторге от моря, тумана, близости или дальности гор, облаков и солнца и за последнюю неделю немного сбавил. Но в общем он чувствует себя лучше, чем до санатории. Он в упоении от «Войны и Мира». Я сейчас читаю Balzac'a «Cousine Bette» [395] — историю злостной старой девы, к<о-тор>ую Лиля находит похожей на себя. — Всё еще зелено, солнце еще греет. Мы много снимаем стереоскопом.
Аля говорит несколько новых полуслов и определенно называет всех по именам. Она стала дольше спать и меньше капризничать. Хорошеет с каждым днем. Получили ли Вы ее карточку? Лиля привезет еще лучшую.
Пока до свидания, до 1-го — 3-го ноября наш адр<ес> — прежний. Привет Майе и Фельдштейнам, если их увидите. Я им тоже послала Алину карточку.
МЭВпервые — НИСП. стр. 164. Печ. по тексту первой публикации.
21-13. В.Я. Эфрон
Ялта, 14-го октября 1913 г., понед<ельник>
Милая Вера,
Спасибо за письмо. Послезавтра я с Алей и няней еду в Феодосию устраиваться. Сегодня к нам приходят Лёвы [396], второй раз за всё время. Лиля волнуется уже с 4-ех ч<асов> утра (первое пробуждение Али), стараясь изобразить на тарелке нечто вроде сбитых сливок. У нее 2 пары великолепных соколиных башмаков: одни — ярко (даже слишком) рыжие, другие — ослепительно-белые. Она «обеспечена» на 2 года и в восторге.
Лёва вчера прибавил около трех ф<унтов> (за неделю); Сокол тоже около этого. Лёва сейчас весит 4 ½ пуда, Сокол — 4 без двух ф<унтов>. Но Лёвин нормальный вес должен быть никак не менее 5 п<удов> по его росту! Все-таки он поправляется.
Насчет Феодосии мы решили к<а>к-то сразу, не сговариваясь. С<ереже> хочется спокойствия и отсутствия соблазнов для экз<аменов>, мне же сейчас совершенно безразлично, где жить. К тому же в Феодосии будет Ася [397]. Не видали ли Вы ее? Я уже около трех недель не имею от нее ни строчки. Пишите мне уже в Феодосию на Петра Николаевича [398].
Напишите мне, пож<алуйста>, адр<ес> Аделаиды Казимировны [399] и передайте ей это письмо возможно скорей, в нем Алина карточка.
Аля очень быстро развивается. Говорит: «ко», мама, Лиля, няня, «па» (упала), «ка» (каша, — причем указывает рукой на кастрюльку), куда, «кука» (кукла); понимает «нельзя», «иди», «вставай», узнает в книге кота и тигра, к<оторо>го тоже называет «ко». Ходит она быстро и гораздо уверенней, чем месяц назад. Волосы и брови темнеют. Да, Вы правы! Лиля и не думает учить ее «тетя Вера», — ничего подобного.
Привет Фельдштейнам и Майе. Пра собирается в Москву 15-го ноября. Маргарита Васильевна [400] всё еще в Коктебеле, я ее наверное застану.
Всего лучшего.
МЭВпервые — НИСП. стр. 164–165. Печ. по тексту первой публикации.
22-13. Е.Я. Эфрон
Феодосия, 19-го октября 1913 г., пятница [401]
Милая Лилися,
Сегодня я ночевала одна с Алей, — идеальная няня ушла домой. Аля была мила и спала до семи, я до десяти (!!!) Сегодня чудный летний синий день: на столе играют солнечные пятна, в окне качается красно-желтый виноград. Сейчас Аля спит и всхлипывает во сне, она т<а>к и рвется ко мне с рук идеальной няни. Умилитесь надо мной: я несколько раз заставляла ее говорить «Лиля». В 2 ч. пойдем с П<етром> Николаевичем [402] искать квартиру [403].
К<а>к Вы доехали? К<а>к вели себя Ваши соседи по палубе — восточные люди? К<а>к Вы встретились с Лёвами? [404]
Пока до свидания, всего лучшего. Не забудьте ответить Н<юте> [405] на письма. Целую.
МЭВсё это написано тушью дяди в феске [406]. Пишите на П<етра> Николаевичах
Впервые — по копии из архива A.A. Саакянц. СС-6. стр. 85–86. Печ. по тексту НИСП. стр. 165–166.
23–13. М.С. Фельдштейну
Феодосия, 11-го декабря 1913 г., четверг
Милый Михаил Соломонович, Сереже лучше, — вчера ему дали пить [407]. Около трех суток он ничего не пил и говорил только о воде. Ужасно было сидеть с ним рядом и слушать, а потом идти домой и пить чай. Подробности операции пишу Лиле.
Вы меня очень тронули телеграммой. Приходится вспомнить слова Goethe: «Wie ist doch die Welt so klein! Und wie muss man die Menschen lieben, die wenigen Menschen, die einen Lieb haben» {44}.
Впрочем, Goethe сказал много, но мне больше нравится по-своему.
Вот мои последние стихи:
Уж сколько их упало в эту бездну, Разверстую вдали! Настанет день, когда и я исчезну С поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, Сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, И золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, С забывчивостью дня, И будет все, к<а>к будто бы под небом И не было меня! Изменчивой, как дети, в каждой мине И так недолго злой, Любившей час, когда дрова в камине Становятся золой. Виолончель и кавалькады в чаще, И колокол в селе… Меня, такой живой и настоящей На ласковой земле! К вам всем (что мне, ни в чем не знавшей меры, Чужие и свои?!) Я обращаюсь с требованьем веры И с просьбой о любви. И день и ночь, и письменно и устно, — За правду «да» и «нет», За то, что мне так часто слишком грустно И только двадцать лет. За то, что мне — прямая неизбежность Прощение обид, За всю мою безудержную нежность И слишком гордый вид, За быстроту стремительных событий, За правду, за игру… Послушайте! Еще меня любите За то, что я умру.Всего лучшего. Буду рада Вашему письму и тогда напишу еще. Привет Эве Адольфовне.
МЭВпервые — De Visu. M. 1993. № 9. стр. 19–20 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 112–113. Печ. по тексту НИСП. стр. 166–167.
24-13. В.Я. Эфрон
Феодосия, 14-го дек<абря> 1913 г., суббота
Милая Вера,
Спасибо за письмо. Третьего дня только я отправила Вам и Лиле открытку с новостями об Але. К ним могу прибавить пока только одну: она начала «читать» все окружающие предметы: гребенку, стул и т.д. На карточках она гораздо хуже, чем в натуре: пропадает цвет глаз, нежность кожи. К тому <же> ее лицо очень подвижное, и многие выражения являются случайными.
Сереже много лучше. Ему дают кашу, и сегодня — котлеты. Он оброс и похож на оранга.
В письме к Пра Вы найдете описание моей текущей жизни. Стихов пишу мало, но написанными довольна. Есть длинные стихи Але, начинающиеся т<а>к:
«Аля! Маленькая тень На огромном горизонте»… [408]Если Вам интересно, — пришлю.
Последние дни вижусь с Максом. Он очарователен, к<а>к в лучшие дни и я вполне забыла летние недоразумения.
О книгах в магазинах ничего не знаю. Прошлой весной мы их давали на комиссию, — проданы, или нет — я не знаю. У Кожебаткина [409] жульническим образ<ом> кроме 180–200 (м<ожет> б<ыть> больше) руб<лей> за продажу наших книг осталось еще больше 50 (м<оже>т б<ыть> 100!) экз<емпляров> «Волшебного фонаря» без расписки. А м<ожет> б<ыть> и 200, сейчас не знаю.
У меня есть здесь около 10-ти — 15-ти экз<емпляров> «В<олшебного> ф<онаря>», но к<а>к их переслать? М<ожет> б<ыть> через Редлихов [410], если они поедут в Москву.
Стихи Мчеделову [411] перепишу с удовольствием какие хочет, — его любимые. Передайте мой привет Асе Жуковской [412]. Видитесь ли с Майей и Адел<аидой> Казимировной? [413] Напишите мне большое письмо о себе!
МЭКрепко целую Вас и Лилю. Асин Андрюша прекрасно ходит, Аля еще неуверенно, — она гораздо крупнее. У нее 13 зубов.
Впервые — НИСП. стр. 167–168. Печ. по тексту первой публикации.
25-13. М.С. Фельдштейну
Феодосия, 23-го декабря 1913 г., понедельник
Дорогой Михаил Соломонович,
Пишу Вам в каком-то тревожном состоянии. Сейчас я у Аси одна во всем доме [414], если не считать спящего Андрюши.
— В такие минуты особенно хочется писать письма.
Сейчас вся Феодосия в луне. Я бежала вниз со своей горы и смотрела на свою длинную, черную-черную тень, галопировавшую передо мною. Рядом бежала собака Волчек — вроде Волка. (Не примите за намек!) — Ах, я только сейчас заметила, что написала с большой буквы! Вот, что значит навязчивая боязнь не т<а>к быть понятой! — (Это, кажется, сказала Сидоровая [415], — вся прелесть в «я»!)
Сколько скобок! Восклицательных знаков! Тирэ!
Завтра будет готово мое новое платье — страшно праздничное: ослепительно-синий атлас с ослепительно-красными маленькими розами. Не ужасайтесь! Оно совсем старинное и волшебное. Господи, к чему эти унылые английские кофточки, когда т<а>к мало жить! Я сейчас под очарованием костюмов. Прекрасно — прекрасно одеваться вообще, а особенно — где-н<и>б<удь> на необитаемом острове, — только для себя!
В Феодосии — ослепительные сверкающие дни. Сегодня был дикий ветер, сегодня я видала женщину, родившуюся в 1808 г., сегодня лунная ночь, а завтра будет готово мое новое платье!
— Видели ли Вы Сережу и к<а>к нашли его? [416] Если можете, постарайтесь оставить его в Москве до 28-го. Я боюсь, что он тотчас же захочет в Феодосию и не успеет отдохнуть от дороги.
Пишите, где и к<а>к провели Сочельник и Новый Год. Пришлите мне какую-н<и>б<удь> хорошую карточку Тани [417].
Это пока все мои просьбы. М<ожет> б<ыть>, когда-н<и>б<удь> будет одна — большая.
Всего лучшего Вам обоим. Вам троим.
МЭВпервые — De Visu. M. 1993. № 9. стр. 20–21 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 111–112. Печ. по тексту НИСП. стр. 168–169.
26-13. М.А. Волошину
Феодосия, 27-го декабря 1913 г.
Милый Макс,
Спасибо за письмо и книжечку Эренбурга [418]. О Сережиной болезни: присутствие туберкулеза на вырезанном отростке дало нам повод предположить его вообще в кишечнике. — Вот все данные, — 20-го С<ережа> уехал в Москву. Сегодня получила от него письмо: Лиля в Петербурге, все остальные в Москве, кроме Аси Жуковской [419]. Завтра, или после-завтра С<ережа> приезжает, 30-го мы с Асей говорим стихи на каком-то вечере «pour les noyes» {45} [420] (к<а>к я объяснила Blennard'y [421]). А 31-го думаем приехать к тебе встречать Новый год, если только С<ережа> не слишком устанет с дороги [422].
П<етр> Н<иколаевич> [423] уехал куда-то на три дня. Макс, напиши мне, пожалуйста, адр<ес> Эренбурга, — надо поблагодарить его за книгу.
Всего лучшего, — не уезжаешь ли ты куда-н<и>б<удь> на Новый год?
МЭ.Впервые — СС-6. стр. 59. Печ. по НИСП. стр. 169–170.
1914
1-14. Е.Я. и В.Я. Эфрон
Феодосия, 9-го февраля 1914 г., понедельник
Милая Лиля и Вера,
У нас весна, — вчера ходили без пальто. Чудный теплый ветер, ослепительное море, ослепительные стены домов.
С<ережа> недавно начал заниматься с гимназическим французом [424], к<отор>ый живет за городом. Целый ряд довольно безобразных и громадных вилл почти на самом берегу, отделенном от улицы узкой полоской железной дороги. Мы с Асей почти каждый раз ходим провожать С<ережу> и каждый раз не знаем, что делать с этой непередаваемой красотой вечернего моря и вечернего неба над ним.
Ася с апреля думает ехать в Коктебель, нам с С<ережей> придется из-за экзаменов оставаться здесь до первых чисел июля. Где вы обе, вернее каждая из вас, думаете быть летом? Лиля, Вы ненавидите планы и от таких вопросов делаете зловредное лицо, — поэтому я и спрашиваю.
Посылаю две карточки Али, — одну вам обеим, другую Пра. Это было месяц назад, с тех пор Аля выросла на сантиметр, а волосы — на два.
В среду будет готова ее новая шубка, вернее осеннее пальто из кудрявого желто-розового плюша с капором и муфтой. Я отчасти живу этой перспективой, — о, misère! {46}
За этот месяц Аля окончательно научилась ходить — почти не падает и почти бегает. Сейчас она простужена и не выходит. Недавно к ней поступила новая няня — 19-ти лет. высокая, худая, очень тихая и ласковая, кроме того, — «наклонная к штунде», к<а>к выразилась дама, дававшая о ней рекомендацию.
Уж не знаю, считать ли это плюсом, или минусом.
Аннету (Лиля, плачьте!) я рассчитала из-за ее постоянного отсутствия в детской и хождения в гости на 12 часов и больше, — последний раз на 16!
У Аси няни меняются с подавляющей быстротой: московская няня уехала из-за «наклонности к эпилепсии», другую муж-солдат снял с места под предлогом смерти матери, третью в настоящее время сбивает мать.
У Андрюши с кормилицами было 10 нянь (за 1 ½ г.) у Али за 1 г. 5 мес. — 9!
И сколько еще будет!
Лиля, Аля от внутренней подлости разучилась произносить Ваше имя, что с Вашей точки зрения делает ее глупее, чем 4 месяца назад. Вместо прежнего ясного и отчетливого: «Лиля» она говорит «Лля» или к<а>к-то еще хуже. Виновата в этом не я, — я часто напоминаю ей о Вас.
Лиля, громадное спасибо за чудную материю на переплет, — лучшую из всех моих. Свисток Андрюша принял восторженно.
— Дядя и тетя адски поглупели, — оба [425].
Он лепечет что-то непонятное, странно поблескивая своими стеклянными глазами. Сюжет его последней картины: ряд кипарисов на темно-синем небе, под кипарисами каменный старик, держащий в руках череп и две кости {47}. Рядом со стариком голова девушки, величиной с четырех таких стариков (одна голова!). Белокурые волосы, синие глаза и ярко-розовые щеки. На голове густой креп, а в руке вместо костей — букет из необычайно пронзительных цветов. Всё это называется: «Продавщица цветов на кладбище». А<лиса> Ф<едоровна> тоже глупа, несмотря на всю свою симпатичность. Напр<имер> она готова часами плакать из-за того, что дядя не съел — вернее не доел — огромной миски с разбухшим в теплой воде крыжовником.
Лиля, сочувствуйте!
Кроме того она невероятно-суетлива и вся дрожит… несмотря на всю свою симпатичность.
О П<етре> Н<иколаевиче> [426] уже не говорю: он окончательно пропах чесноком и записался.
Когда входишь с весенней улицы в его квартиру, сразу качаешься от этого оглушительного запаха чесноку и вечно-закрытых окон. Приходится вспоминать изречение какого-то француза: «Pourquoi l'air est-il bon à la campagne? — Parce que les paysans n'ouvrent pas les fenêtres» {48}.
— Но сама Феодосия очаровательна, и я никогда не пожалею, что осталась здесь на зиму.
Всего лучшего. Поцелуйте за меня Пра и передайте ей Алину карточку.
Какие новости в Москве? Кто у Вас бывает? Всё хочу знать.
До свидания.
МЭВпервые — НИСП. стр. 170. Печ. по тексту первой публикации.
2-14. Е.Я. и В.Я. Эфрон
Феодосия, 28-го февраля 1914 г., пятница
Милая Лиля и Вера,
Вчера получила окружное свидетельство [427], м<ожет> б<ыть> оно зачтется Сереже, если кто-н<и>будь похлопочет. Но влиятельных лиц здесь очень мало и хлопочут они неохотно, — противно обращаться, тем более, что это всё незнакомые.
С<ережа> занимается с 7-ми часов утра до 12-ти ночи, — что-то невероятное. Очень худ и слаб, выглядит отвратительно. Шансы выдержать очень гадательны: директор [428], знавший папу и очень мило отнесшийся к С<ереже>, и инспектор — по всем отзывам грубый и властный — в контрах. Кроме того учителя, выбранные С<ережей>, никакого отношения к гимназии не имеют. Всё это не предвещает ничего хорошего, и во всем этом виноват П<етр> Н<иколаевич> [429], наобещавший Бог весть каких связей и удач. — Enfin! {49} —
У нас весенние бури. Ветер сшибает с ног и чуть ли не срывает крышу. Последние дни мы по утрам гуляем с Максом — Ася и я. Макс очень мил, приветлив и весел, без конца рассказывает разные истории, держа нас по 1 ½ часа у входных дверей. — «А вот я еще вспомнил»…
Але скоро 1 ½ года. Посылаю Пра ее карточку. Она говорит около 70-ти слов, почти верно и понимает почти все повелительные наклонения. Недавно водила ее к д<окто<ру. Сердце и легкие отличные, но есть малокровие. Д<окто>р прописал железо. Пока до свидания! Всего лучшего, пишите.
МЭВпервые — Саакянц А. стр. 58. СС-6. стр. 104–105. Печ. по НИСП. стр. 172.
3-14. В.В. Розанову
Феодосия, 7-го марта 1914 г., пятница
Милый, милый Василий Васильевич,
Сейчас во всем моем существе какое-то ликование, я сделалась доброй, всем говорю приятное, хочется не ходить, а бегать, не бегать, а лететь, — все из-за Вашего письма к Асе — чудного, настоящего — «как надо!».
Сейчас мы с Асей шли по главной улице Феодосии — Итальянской — и возмущались, почему Вы не с нами. Было бы так просто и так чудно идти втроем и говорить, говорить без конца.
Слушайте, как странно: это мои первые, самые первые слова Вам, Вы еще ничего не знаете обо мне, но верьте всему! Клянусь, что каждое мое слово — правда, самая точная.
Я ничего не читала из Ваших книг, кроме «Уединенного», но смело скажу, что Вы — гениальны. Вы все понимаете и все поймете, и так радостно Вам это говорить, идти к Вам навстречу, быть щедрой, ничего не объяснять, не скрывать, не бояться.
Ах, как я Вас люблю и как дрожу от восторга, думая о нашей первой встрече в жизни — может быть неловкой, может быть нелепой, но настоящей. Какое счастье, что Вы не родились 20-тью годами раньше, а я — не 20-тью позже!
Послушайте, Вы сказали о Марии Башкирцевой то, чего не сказал никто [430]. А Марию Башкирцеву я люблю безумно, с безумной болью. Я целые два года жила тоской о ней. Она для меня так же жива, как я сама.
О чем Вам писать. Хочется все сказать сразу. Ведь мы не виделись 21 год — мой возраст. А я помню себя с двух!
Посылаю Вам книжку моих любимых стихов из двух моих первых книг: «Вечернего альбома» (1910 г., 18 лет) и «Волшебного фонаря» (1911 г.) [431]. Не знаю, любите ли Вы стихи? Если нет — читайте только содержание.
С 1911 г. я ничего не печатала нового. Осенью думаю издать книгу стихов о Марии Башкирцевой и другую, со стихами двух последних лет [432].
Да, о себе: я замужем, у меня дочка 1 ½ года — Ариадна (Аля), моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренно. Прадед его с отцовской стороны был раввином, дед с материнской — великолепным гвардейцем Николая I [433].
В Сереже соединены — блестяще соединены — две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом — весь в мать. А мать его была красавицей и героиней.
Мать его урожденная Дурново [434].
Сережу я люблю бесконечно и навеки. Дочку свою обожаю.
Пишу Вам все это в ответ на Ваши слова Асе о замужестве.
Теперь скажу Вам, кто мы: Вы знали нашего отца. Это — Иван Владимирович Цветаев, после смерти которого Вы написали статью в «Новом времени» [435].
Еще лишнее звено между нами. Как радостно!
Сейчас вечер. Целый день я думала о Вас. Какое счастье!
Слушайте, я хочу сказать Вам одну вещь, для Вас, наверное, ужасную: я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни.
Отсюда — безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы — молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить.
Все, что я сказала — правда.
Может быть, Вы меня из-за этого оттолкнете. Но ведь я не виновата. Если Бог есть — Он ведь создал меня такой! И если есть загробная жизнь, я в ней, конечно, буду счастливой.
Наказание — за что? Я ничего не делаю нарочно.
Посылаю Вам несколько своих последних стихотворений [436]. И очень хочу, чтобы Вы мне о них написали, — просто как человек. Но заранее уверена, что они Вам близки.
Вообще: я ненавижу литераторов, для меня каждый поэт-умерший или живой — действующее лицо в моей жизни. Я не делаю никакой разницы между книгой и человеком, закатом и картиной. — Всё, что люблю, люблю одной любовью.
<Далее приведены стихотворения.>
Милый Василий Васильевич, я не хочу, чтобы наша встреча была мимолетной. Пусть она будет на всю жизнь! Чем больше знаешь, тем больше любишь. Потом еще одно: если Вы мне напишете, не старайтесь сделать меня христианкой.
Я сейчас живу совсем другим.
Пусть это Вас не огорчает, а главное, не примите это за «свободомыслие». Если бы Вы поговорили со мной в течение пяти минут, мне не пришлось бы Вас просить об этом.
Кончаю мое письмо самым нежным, самым искренним приветом, пожеланием здоровья Вашей жене и Вам. Напишите мне о Вашей семье: сколько у Вас детей, какие они, сколько им лет?
Всего лучшего.
Марина Эфрон, урожд<енная> Цветаева.Адрес: Феодосия, Анненская ул<ица>, дача Редлих
Марине Ивановне Эфрон.
P.S. С осени опять буду в Москве.
_____
Хочется сказать Вам еще несколько слов о Сереже. Он очень болезненный, 16-ти лет у него начался туберкулез. Теперь процесс у него остановился, но общее состояние здоровья намного ниже среднего. Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша! Я постоянно дрожу над ним. От малейшего волнения у него повышается t°, он весь — лихорадочная жажда всего. Встретились мы с ним, когда ему было 17, мне 18 лет. За три — или почти три — года совместной жизни — ни одной тени сомнения друг в друге. Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменилась, — люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет.
Мы никогда не расстаемся. Наша встреча — чудо. Пишу Вам все это, чтобы Вы не думали о нем, как о чужом. Он — мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого, у меня слишком много тоски и протеста. Только при нем я могу жить так, как живу — совершенно свободная.
Никто — почти никто! — из моих друзей не понимает моего выбора. Выбора! Господи, точно я выбирала!
Ну, кончаю. Когда Вы увидите Асю, Сережу и меня — очень непохожих! — Вы все поймете.
И эта встреча будет!
— Бесконечное спасибо Вам за Все!
Впервые — НП. стр. 22–26, с неточностями. В Соч. 88. 2 воспроизведено по копиям с оригинала. СС-6. стр. 119–121. Печ. по СС-6.
4-14. В.Я. Эфрон
Феодосия, 9-го марта 1914 г., воскресенье
Милая Вера,
Подлая Вы и подлая Лиля ничего не отвечают мне на мои письма. Пра недавно писала, что Вы на лето уезжаете играть — надолго ли? куда? какие роли? Неужели т<а>к и не попадете в Коктебель? Ни Вас, ни Лили и присутствие Толстого [437] — довольно неуютная перспектива! Уже ½ года, к<а>к мы не видались и еще ½ года, пока у видимся. Пра пишет, что Вы хороши, к<а>к юный тополь. Оставайтесь такой до нашего свидания!
Аля очень выросла, очень похорошела. Теперь бегает не только по комнатам, но и по улицам — Боже, что я пишу! — по саду. Длина ее 82 см., вес — около 30-ти ф<унтов>. Но с виду она худа. Лицо страшно изменчивое, страшно трудно снимать. Понимает она очень много, говорит больше 100 слов. Весела, ласкова, очень сосредоточенна, к игрушкам до странности равнодушна. Любит, когда ей поют в ухо, — подставляет то одно, то другое. Д<окто>р нашел ее малокровной, прописал железо. Легкие и сердце прекрасны. Сейчас ей непрерывно шьются новые вещи: сшиты осеннее плюшевое пальто, капор и муфта; летнее пальто, белое, скоро будут готовы летние платьица — все белые.
Андрюша хорошо бегает, лазит лучше Али, вообще физически проворней. Он ужасно похож на Асю.
Ася думает ехать в Коктебель в конце апреля, мы с С<ережей> — увы! — только в июне.
С<ережа> чувствует себя довольно скверно, — слишком устает. Директор [438], у к<оторо>го я была, принял меня необычайно радушно и некоторыми чертами напомнил мне папу. Всего лучшего, напишите хотя бы открытку!
МЭВпервые — НИСП. стр. 173–174. Печ. по тексту первой публикации.
5-14. Е.Я. Эфрон
Феодосия, 18-го марта 1914 г., среда
Милая Лиля,
Пишу Вам в постели, в к<отор>ой нахожусь день и ночь уже 8 дней, воспаление ноги и сильный жар.
За это время к<а>к раз началась весна: вся Феодосия в цвету, всё зелено.
Сейчас С<ережа> ушел на урок. Аля бегает по комнатам, неся в руках то огромный ярко-синий мяч, то Майину [439] куклу о двух головах, то почти взрослого Кусаку [440], то довольно солидного осла (успокойтесь — не живого!)
Аля сейчас говорит около 150 слов, причем такие длинные, к<а>к гадюка, Марина, картинка <…> [441]
«Р» она произносит с великолепным раскатом, как три «р» за раз, и почти все свои 150 слов говорит правильно.
Кота она зовет: кот, Куси́ка, кися, ко́тенька, кисенька — прежнее «ко» забыто. Меня: мама, мамочка, иногда — Марина. Сережу боится, к<а>к огня. Стоит ему ночью, услышав ее плач, стукнуть в стену, к<а>к она мгновенно закрывает глаза, не смея пошевелиться. Вы ее не видели уже около ½ года. Вчера мать Лени Цирес [442] говорила, что Вы не поедете в К<окте>бель. <…> [443] Неужели правда? К<а>к жаль! Значит, Вы увидите Алю уже двух лет. Она необычайно ласкова к своим: всё время целуется. Всех мужчин самостоятельно зовет «дядя», — а Макса — «Мак», или «Макс». К чужим не идет, почтительно обходя их стулья.
Посылаю Вам ее карточку 1 ½ года, снятую ровно 5-го марта. Скоро пришлю другую, где они сняты с Андрюшей [444].
— Сережа то уверен, что выдержит, то в отчаянии [445]. Занимается чрезвычайно много, нигде не бывает.
П<етр> Н<иколаевич> [446] переезжает на другую квартиру и надеется распродать некоторые свои вещи — похуже — за небывалые цены.
<…> очень редко. Он страшно жалок и сильнее, чем когда-либо увлечен своим писательством. Бываем у Александры Михайловны [447] и в прекрасных с ней отношениях. В прекрасных же отношениях с домом Лампси, где нам нравятся все — взрослые и дети. Лидия Антоновна [448] очаровательна. Пока всего лучшего. Пишите мне. Куда едете летом? С<ережа> после экзамена думает поехать недели на две к Нюте. Крепко Вас целую.
<На верхнем поле:>
P.S. Дядя и тетя [449] стали кормить нас гнусными обедами и позорными ужинами.
Впервые — полностью НИСП. стр. 174–175. СС-6. стр. 86–87. Печ. по тексту полной публикации.
6-14. В.В. Розанову
Феодосия, 8-го апреля 1914 г., 3-й день Пасхи
Милый Василий Васильевич,
Сейчас так радостно, такое солнце, такой холодный ветер. Я бежала по широкой дороге сада, мимо тоненьких акаций, ветер трепал мои короткие волосы, я чувствовала себя такой легкой, такой свободной.
Сев за стол, я сразу взялась за ручку и вот еще не знаю, о чем буду писать.
— Сейчас подошла Аля в своем светло-желтом — белокуром — кудрявом пальто и, подняв на меня свои огромные ярко-голубые глаза, сказала: «До свидания», потом задумавшись, с ангельской улыбкой добавила: «и́ — а́» (крик осла).
— Пишу Вам о папе. Он нас очень любил, считал нас «талантливыми, способными, развитыми», но ужасался нашей лени, самостоятельности, дерзости, любви к тому, что он называл «эксцентричностью» (я, любя 16-ти лет Наполеона, вставила его портрет в киот — много было такого!). Асе было 8, мне 10 лет, когда мы уехали за границу, — у мамы открылся туберкулез легких. За границей мы прожили безвыездно 3 года, — мама, Ася и я. Первый год все вместе в Nervi, потом папа уехал в Россию, мы с Асей — в Лозанну в пансион, мама осталась на второй год в Nervi. После Лозанны мы — мама, Ася и я — переехали в Шварцвальд. Лето провели с папой. Следующую зиму мы с Асей были в немецком пансионе во Фрейбурге, мама жила недалеко от нас. В феврале у нее возобновился туберкулезный процесс (совершенно окончившийся в Nervi), и она уехала в одну шварцвальдскую санаторию [450].
Зима 1905-06 г. прошла в Ялте. Это была мамина последняя зима. В марте у нее началось кровохаркание, вообще болезнь, раньше почти незаметная, пошла с жестокой быстротой. — «Хочу домой, хочу умереть в Трехпрудном!» (Переулок, где был наш дом.)
Мама умерла 5-го июля 1906 г. в Тарусе Калужской губ<ернии>, где мы все детство жили по летам. Смерть она свою предвидела ясно. — «Теперь начинается агония».
За день до смерти она говорила нам с Асей: «И подумать, что какие угодно дураки вас увидят взрослыми, а я…» И потом: «Мне жаль только музыки и солнца!» 3 дня перед смертью она ужасно мучилась, не спала ни минуты.
— «Мама, тебе поспать бы»…
— «Высплюсь — в гробу!»
Мама была единственной дочерью. Мать ее, из польского княжеского рода, умерла 26-ти лет. Дедушка всю свою жизнь посвятил маме, оставшейся после матери крошечным ребенком. Мамина жизнь шла между дедушкой и швейцаркой-гувернанткой, — замкнутая, фантастическая, болезненная, недетская, книжная жизнь. 7-ми лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила героями, великолепно играла на рояле.
Знакомых детей почти не было, кроме девочки, взятой в дом, вместо сестры маме. Но эта девочка была безличной, и мама, очень любя ее, все же была одна. Своего отца — Александра Даниловича Мейн — она боготворила всю жизнь. И он обожал маму. После смерти жены — ни одной связи, ни одной встречи, чтобы мама не могла опускать перед ним глаз, когда вырастет и узнает.
Мамина юность, как детство, была одинокой, болезненной, мятежной, глубоко-скрытой. Герои: Валленштейн, Поссарт, Людовик Баварский [451]. Поездка в лунную ночь по озеру, где он погиб [452]. С ее руки скользит кольцо — вода принимает его — обручение с умершим королем. Когда Рубинштейн [453] пожал ей руку, она два дня не снимала перчатки. Поэты: Heine, Goethe, Schiller, Shakespeare. — Больше иностранных книг, чем русских. Отвращение — чисто-девическое — к Zola и Мопассану, вообще к французским романистам, таким далеким.
Весь дух воспитания — германский. Упоение музыкой, громадный талант (такой игры на рояле и на гитаре я уже не услышу!), способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью.
Гордость, часто принимаемая за сухость, стыдливость, сдержанность, неласковость (внешняя), безумие в музыке, тоска.
12-ти лет она встретила юношу его звали Сережей Э. (фамилии я не знаю, инициалы — моего Сережи!). Ему было года 22. Они вместе катались верхом в лунные ночи. 16-ти лет она поняла и он понял, что любят друг друга. Но он был женат. Развод дедушка считал грехом. — «Ты и дети, если они будут, — останетесь мне близки. Он для меня не существует». — Мама слишком любила дедушку и не согласилась выходить замуж на таких условиях. Сережа Э. уехал куда-то далеко. 6 лет мама жила тоской о нем. Поклон издали в концерте, два письма, — всё! — за целых 6 лет. Тетя (швейцарская гувернантка, с которой дедушка не был в связи!) обожала маму, но ничего не могла сделать.
Дедушка все замолчал.
22-х лет мама вышла замуж за папу, с прямой целью заместить мать его осиротевшим детям — Валерии 8-ми лет и Андрею — 1 года. Папе тогда было 44 года.
Папу она бесконечно любила, но 2 первых года ужасно мучилась его неугасшей любовью к В.Д. Иловайской.
— «Мы венчались у гроба», — пишет мама в своем дневнике. Много мучилась она и с Валерией, стараясь приручить эту совершенно чужую ей по духу, обожавшую свою покойную мать и резко отталкивавшую «мачеху» 8-летнюю девочку. — Много было горя! Мама и папа были люди совершенно непохожие. У каждого своя рана в сердце. У мамы музыка, стихи, тоска, у папы — наука. Жизни шли рядом, не сливаясь. Но они очень любили друг друга. Мама умерла 37-ми лет, неудовлетворенная, непримиренная, не позвав священника, хотя явно ничего не отрицала и даже любила обряды.
Ее измученная душа живет в нас, — только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика.
— Папа нас очень любил. Нам было 12 и 14 лет, когда умерла мама. С 14-ти до 16-ти лет я бредила революцией, 16-ти лет безумно полюбила Наполеона I и Наполеона II, целый год жила без людей, одна в своей маленькой комнатке, в своем огромном мире.
Но об этом периоде пусть Вам напишет Ася.
Напишу Вам о папе.
Он умер 30-го августа 1913 г., от старческой болезни сердца, появившейся в последние годы [454]. Самый последний год он чувствовал нашу любовь, раньше очень страдал от нас, совсем не зная, что с нами делать. Когда мы вышли замуж, он очень за нас беспокоился. Ни Сережи, ни Бориса [455] он не знал. Сережу он потом полюбил, поверив в его желание высшего образования, — это для него было главное.
Как людей он не знал ни С<ережи), ни Б<ориса>, совсем не знал, кто те, кого мы любим.
Алю и Андрюшу [456] он очень любил, очень им радовался и, как потом мы узнали, всем о них рассказывал. Но он видел их совсем маленькими, до года. Это ужасно жаль!
Как странно! Я Вам это расскажу.
Я приехала в Москву числа 15-го августа, сдавать дом (наш дом с Сережей).
Папа был в имении около Клина, где все лето прожил в прекрасных условиях.
Числа 22-го мы с ним увидались в Трехпрудном, 23-го поехали вместе к Мюру [457] — он хотел мне что-нибудь подарить. Я выбрала лохматый плюшевый плэд — с одной стороны коричневый, с другой золотой. Папа был необычайно мил и ласков.
Когда мы проходили по Театральной площади, сверкавшей цветами, он вдруг остановился и, показав рукой на группу мальв, редко-грустно сказал: «А помнишь, у нас на даче были мальвы?»
У меня сжалось сердце. Я хотела проводить его на вокзал, но он не согласился: «Зачем? Зачем? Я еще должен в Музей».
— «Господи, а вдруг это в последний раз?» — подумала я и, чтобы не поверить себе, назначила день — 29-ое — когда мы с Асей к нему приедем на дачу.
Господи, у меня сердце сжимается! — 27-го ночью его привезли с дачи почти умирающего. Доктор говорил, что 75 % людей умерло бы во время переезда. Я не узнала его, войдя: белое-белое осунувшееся лицо. Он встретил меня очень ласково, вообще все время был ласков и кроток, расспрашивал меня о доме, задыхающимся голосом продиктовал письмо к одному его <знакомому> любимому молодому сослуживцу [458]. Вообще он всё время говорил, хотя не должен был говорить ни слова. Говорил о Сереже, о его занятиях, о его здоровье, об Але, об Андрюше — «хочу заработать им по 10 тысяч», — о болезни своей говорил, что «доктора раздули», и строил планы о будущих лекциях. Что-то сказал о Музее, — Ася переспросила — «Да, Румянцевский музей, откуда меня прогнали!» [459].
Он прожил 2 ½ суток. Все время говорил о самых обыкновенных вещах, умолял нас идти спать, не утомлять себя, расспрашивал о погоде. Я что-то рассказывала о феодальном замке.
— «Теперь прошел век феодальных замков, — настал век людей труда!»
За день — меньше! — до смерти он спросил меня: «А как… твой… этот… плэд?» Господи!
Последний день он был почти без памяти. Умер он в 1 ¾ ч<аса> дня. Мы с Андреем были в его комнате. Он ужасно задыхался, дыхание пропадало ровно на 1/3 минуты каждую минуту Дышал отрывисто и странно-громко: «Ах! Ах!»
С первого момента до последнего ни разу не заговорил о возможности смерти. Умер без священника. Поэтому мы думаем, что он действительно не видел, что умирает, — он был религиозен. — Нет, это тайна. Теперь уже никогда не узнаем, чувствовал он смерть, или нет.
Его кончина для меня совершенно поразительна: тихий героизм, — такой скромный!
Господи, мне плакать хочется!
Мы все: Валерия, Андрей, Ася и я были с ним в последние дни каким-то чудом: В<алерия> случайно приехала из-за границы, я случайно из Коктебеля (сдавать дом), Ася случайно из Воронежской губернии, Андрей случайно с охоты.
У папы в гробу было прекрасное светлое лицо.
За несколько дней до его болезни разбились: 1) стеклянный шкаф 2) его фонарь, всегда — уже 30 лет! — висевший у него в кабинете 3) две лампы 4) стакан. Это был какой-то непрерывный звон и грохот стекла.
Я все еще, не веря, утешала себя, что это «к счастью». Это — до его болезни.
— Ну, кончаю. Любите Асю и меня, мы Вас нежно, нежно любим. Кто-то мне говорил, что Вы любите ставить «неприличные вопросы». Не ставьте, придется резко отвечать, будет оскорбление, всем будет больно.
Я прочла Ваши «Люди лунного света» [460], это мне чуждо, это мне враждебно, но в «Уединенном» Вы другой, милый, родной, совсем наш. Будьте с нами таким и не ставьте «вопросов», на какие нельзя отвечать. — Зачем? Пусть на них отвечают другие! —
«Опавшие листья» [461] купили обе. Как хорошо, что фотографии!
И карточки свои пришлем.
_____
Милый, милый Василий Васильевич, сейчас закат. Еле различаю, что пишу. На окне большой букет диких тюльпанов. В соседней комнате укладывают Алю.
В открытую форточку врывается ветер и шевелит волосы на лбу. Я одна дома. Скоро придет Сережа. — Мы купили «Опавшие листья», а, когда увидимся, Вы нам надпишете.
Слушайте, не огорчайтесь, что мы из всех Ваших книг знаем только «Уединенное», — разве мы публика? Ася например до сих пор не читала Дон-Кихота, а я только этим летом прочла «Героя нашего времени», хотя и писала о нем сочинения в гимназии.
Умилительная вещь: директор здешней мужской гимназии Вас страшно любит, — его настольная книга — Ваш разбор Великого Инквизитора [462]. Даже в таком далеком уголке, как Феодосия, Вас знают многие, — это я наверное говорю.
Начала читать Вашу книгу об Италии [463] — прекрасно.
Вообще: Вы можете написать отвратительно (Ваши «Люди лунного света»), но никогда — бездарно.
Вы поразительно-умны. Вы гениально-умны и гениально-чутки. Например Ваше «не сердитесь» с тире. Господи, у нас с Асей слезы навернулись на глаза, когда мы увидали эти тире.
— «Марина, он сам их ставил!»
Только над такими вещами я могу плакать.
— Ах, смешно! Недавно кто-то показывает мне два лица в журнале, закрыв подписи. — «Кто это? Каков его характер, кем он должен быть?»
— «Директор гимназии, — во всяком случае педагог… Это человек сухой, хитрый…»
Рука, закрывавшая подпись, отдергивается.
Все вокруг смеются.
Я читаю: «Василий Васильевич Розанов!»
Вокруг — неудержимый смех.
— Пришлите нам свои фотографии, — непременно! — непременно с надписями и непременно две.
Ведь их нетрудно «закупоривать» — (ах, сочувствую, ужасно отсылать книги! Какой-то кошмар!).
Ну, надо кончать. Всего, всего лучшего. Крепко жму Вам обе руки. Будете ли в Москве зимой? Ася осенью думает ехать в Париж на целую зиму, а может быть на целый год. Мы с Сережей будем в Москве. Пишите!
МЭP.S. Мне вдруг пришло в голову, как нелепо было бы послать Вам на Пасху визитную карточку с поздравлением!
Впервые — НП. стр. 26–34, с неточностями. Отрывок из письма публиковался ранее в журнале «Новый мир» (1969). № 4. стр. 186–189). Полностью — в Соч 88, 2. СС-6. стр. 121–127. Печ. по тексту СС-6.
7-14. В.В. Розанову
Феодосия, 18-го апреля 1914 г., пятница
Милый Василий Васильевич.
5-го мая у Сережи начинаются экзамены на аттестат зрелости. Он занимается по 17-ти часов вдень, истощен и худ до крайности. Подготовлен он приблизительно хорошо, но к экстернам относятся с адской строгостью. Если он провалится, его осенью могут взять в солдаты, несмотря на затронутое легкое, болезнь сердца и узкую грудь. Тогда он погиб.
Директор здешней гимназии на Вас молится, он сам показывал мне Вашего «Великого Инквизитора» [464], испещренного заметками: «Поразительно», «Гениально» и т.д. Мы больше часу проговорили, я дала ему «Уединенное», в тот же вечер он должен был читать в каком-то собрании реферат о Вашем творчестве. Так слушайте: тотчас же по получении моего письма пошлите ему 1) «Опавшие листья» с милой надписью [465], 2) письмо, в котором Вы напишете о Сережиных экзаменах, о Вашем знакомстве с папой и — если хотите о нас. Письмо должно быть ласковым, милым, «тронутым» его любовью к Вашим книгам, — ни за что не официальным. Напишите о Сережиной болезни (у директора уже есть свидетельства из нескольких санаторий), о его желании поступить в университет, вообще расхвалите.
О возможности для Сережи воинской повинности не пишите ничего.
Директор с ума сойдет от восторга, получив письмо и книгу. Вы для него — Бог.
Судьба Сережиных экзаменов — его жизни — моей жизни — почти в Ваших руках.
С<ереже> я ничего не говорю об этом письме, — не потому что не уверена в Вас — напротив, совершенно уверена!
Но он в иных случаях мнителен и сейчас особенно — из-за этих чертовских занятий.
Папа еще перед смертью — за день! — говорил о Сережиных занятиях, здоровье, планах, говорил очень заботливо и нежно — и обещал весной написать директору.
Обращаюсь к Вам, как к папе.
Всего лучшего, с безумным нетерпением жду ответа и заранее ликую.
Имя Сережи: Сергей Яковлевич Эфрон.
Имя д<иректо>ра: Сергей Иванович Бельцман.
Бельцман!!!Ради Бога, не перепутайте!
Мой адрес: Анненская ул<ица>, дача Редлих.
Адрес д<иректо>ра:
Феодосия, Директору Мужской Гимназии
Сергею Ивановичу Бельцман.
P.S. Директор сам знал папу и очень трогательно о нем говорил. Я просидела у него часа 3, ела апельсины, говорила об «Уединенном» и пересмотрела всех кукол его трехлетней дочери — счетом 60. Это все искренно и с удовольствием. Он ужасно милый.
Впервые — НП. стр. 35–36, с неточностями. СС-6. стр. 127–128. Печ. по СС-6 (по копии, сверенной с оригиналом).
8-14. Е.Я. и В.Я. Эфрон
Феодосия, 21-го апреля 1914 г., понедельник
Милые Лиля и Вера,
Не могу удержаться написать Вам об Але — до того она очаровательна и необыкновенна. Сейчас она повторяет почти все слова и говорит фразу, вроде: «Аля поет», «мама кушает», «мням-ням-будет?», «кот кусается», «вот она!», — «няня скорей!» — «буба дать» (дай бублик), «Барбос, пошел, гадкий!» — «Кайяд боится!» (Шоколад боится, Шоколад — коктебельская собака, приведенная сюда на жительство Максом). Вообще она говорит весь день, с каждым днем больше.
Всё время целуется, обхватив за шею, играет со мной следующим обр<азом>: повалив меня, начинает петь: «баю-бай, бай-бай!», постукивая по мне куда попало.
Я делаю вид, что сплю, и вдруг с рычанием на нее накидываюсь. Начинается восторженный визг.
С<ережу> она зовет то папой, то Лёвой, научилась у него представлять мартыху: т<а>к же вытягивает лицо и закругляет рот в форме «о».
Идеально-благоразумна: ничего не трогает, кроме своих игрушек и вещей. Часто, входя в комнату, застаешь ее совсем одну, взобравшуюся на постель, или сидящую на своем стульчике. Никогда ничего не рвет — даже бумаги, все ее игрушки в целости.
Голосок у нее низкий, необыкновенно-нежный. Плачет она редко, — почти всегда от страха. Боится до дрожи новых игрушек, стука в дверь, свистка парохода, сильного ветра.
Сегодня напр<имер> ужасно плакала от страха перед зонтиком и т<а>к и не захотела взять его в руки. Вчера у нас был Андрюша. Аля не отходила от него ни на шаг, — но почему? Стоило ему только протянуть руку к какой-н<и>б<удь> вещи (а он трогает, рвет и ломает решительно всё) к<а>к Аля с криком: — «Адюся! Изя!» (нельзя) изо всех сил толкала и тянула его в другую сторону. Она гораздо выше его и с виду старше по крайней мере на полгода. У нее масса новых — летних и зимних — платьев, сшитых у портнихи и отлично сидящих. Новое летнее пальто из коричневого шелкового полотна, с золотыми пуговицами. Все ей идет. Она хорошо бегает вниз и вверх по горке и ужасно радуется, когда говоришь «Идем гулять!» Тотчас же бежит в детскую и, указывая на вешалку, восклицает: «Пато! Сапка!»
На дворе ее окружают собаки, лижут, толкают, иной раз валят на землю.
«Барбос, пасёл!» «Кайяд, пасёл!»
Посылаю Вере карточку Али и Андрюши, снятую 1 ½ месяца назад.
С<ережа> занимается с 6-ти утра до двух ночи, — какое-то безумие. Но с виду не очень плох. Выдержать очень трудно, в этом году какие-то новые правила, вмешивается округ, — вообще — гадость!
Экзамены начинаются 5-го мая, — день нашей встречи три года назад.
У нас цветет сирень, деревья зелены, трава густая и высокая. В саду чудесно.
Ася 1-го уезжает в Андрюшей в Коктебель.
Пока всего лучшего, жду письма. Где Вы обе будете летом и кончила ли Лиля экз<амены>? [466]
МЭP.S. Аля считает до десяти — самостоятельно.
Впервые — НИСП. стр. 175–176. Печ. по тексту первой публикации.
9-14. В.Я. Эфрон
Феодосия, 22 мая 1914 г., четверг
Милая Вера,
Только что отправила Вам Сережину телеграмму. Он выдержал все письменные экз<амены> — 4 яз<ыка> и 3 матем<атики>. Очевидно, выдержал, т<а>к к<а>к директор на вопрос Лидии Антоновны [467], к<а>к он держит, сказал: «хорошо».
Числа 20-го июня, или 25-го он будет в Москве. Очень хочет повидаться с Петей [468]. Где он сейчас, был ли у него Манухин [469], возможно ли излечение рентгеновскими лучами? К<а>к его самочувствие — внутреннее? Безумно жаль его!
Если ему это может быть приятным, передайте, что Ахромович [470] в письме ко мне восклицает о нем: «Какой это очаровательный человек!»
Мы с Алей уезжаем 1-го в Коктебель и пробудем там всё лето. Д<окто>ра очень советуют для Али морской воздух и солнце.
Сережа по приезде в Москву пойдет к Титову [471]. У него плохо с сердцем, вообще он истощен, но не т<а>к плох, к<а>к мог бы быть из-за экзаменов. Обещал мне беспрекословно исполнить совет Титова, или др<угого> специалиста, — ехать именно туда, куда его пошлют, и на столько времени, сколько окажется нужным.
Д<окто>р, смотревший его, сказал, что на военную службу его ни за что не возьмут из-за сердца, но что затронутая верхушка его вполне излечима.
Об Але: она выросла до неузнаваемости и хороша, к<а>к ангел. Лицо удлинилось и похудело, волосы почти везде русые, только с боков еще несколько прежних белых прядей.
Говорит она наизусть коротенькие стихи и сама составляет фразу. Напр<имер> сегодня она сказала: «Кусака будет мыть ручки». Видя, что идет дождь, она возмущенно воскликнула: «Дождь пи сделал!» (т.е. за маленькое). О себе она говорит частью в первом, частью в третьем лице.
Напр<имер>: «Хочу купаться», «Пойду сама», но вдруг такие неожиданности: «Дай, пожалуйста, купаться».
Когда что-н<и>б<удь> просит, всегда прибавляет «пожалуйста». — «Дай, пож<алуйста>, розочку», или бублик, или кубики. Любит смотреть картинки и рассказывать их содержание. Характер идеальный: ни слез, ни капризов. Меня любит больше всех. Я с ней почти целый день, гуляем, заводим шарманку, смотрим картинки.
Няня у нее слегка вроде Груши: молодая (16 л<ет>), веселая и легкомысленная, но сейчас это не опасно, т<а>к к<а>к Аля с ней находится сравнительно мало. У Али целый гардероб, масса платьев, три — даже четыре! — шляпы. 2 летних пальто, два осенних. Для Коктебеля — цветные носочки и сандалии.
О себе напишу в др<угом> письме. Я, между прочим, подстригла сзади и с боков волосы и выгляжу — по Пра много моложе, по Максу — взрослой женщиной.
Всего лучшего, милая Вера, крепко целую Вас. Передайте мой нежный привет Пете и напишите о нем. На какие деньги он лечится и хватает ли?
Напишите мне до 1-го сюда, после 1-го — в Коктебель. Уезжаю так рано из-за неприятности с Рогозинским [472].
МЭ<Приписка С.Я. Эфрона:>
Целую тебя и Петю — буду в Москве через четыре недели. Манухин делает чудеса — так хочется, чтобы Петя попробовал Рентгеновских лучей.
Выехал бы сейчас в Москву, да не могу из-за экзаменов. Как только кончу — приеду.
Передай П<ете> самые нежные слова. Не пропустите время для операции, часто только она может помочь. Прости, Верочка, что не приезжаю.
СережаКуда писать? Пиши почаще о П<ете>. Где Лиля?
Впервые — НИСП. стр. 176–178. Печ. по тексту первой публикации.
10-14. В.Я. Эфрон
Коктебель, 6 июня 1914 е., пятница
Милая Вера,
Пишу Вам на авось к Фельдштейнам [473]. Взяли ли Вы мое письмо до востребования?
Скоро будет неделя, к<а>к я здесь. Природа та же — бесконечно хорошая и одинокая, — людей почти нет, хотя полны все дачи, — настроение отвратительное. Милы: Пра, Майя, Ася, Андрюша, Аля. Равнодушны и почти невидимы: Богаевский [474], Кандауров [475], Оболенская [476], Радецкий [477] на днях приехал — очень помолодел и похорошел, весел, мил, но далек.
Есть молодая пара: милый, беззаботный 20-тилетний муж, — безобидный, слегка поверхностный [478] и 19-тилетняя жена [479], — хорошенькая, вульгарная, с колоссальным апломбом, считающая Сарру Бернар «подлой бабой», Marie Башкирцеву [480] — «тщеславной девчонкой», юношескую вещь Hugo «Han d'Island» [481] — бульварным романом и, наконец, нежность — чем-то средним. Старается иметь детский вид и голос. «Котлета» произносит «кОтлЭта». Презирает учение Льва Толстого и русское простонародье. — Хуже и резче Копы [482] и карикатурнее первой Инны [483] (лето 1911 г.!) и в тысячу тысяч раз. Куда хуже С.И. Толстой!!! [484] Пра от нее в детском восторге, Макс весьма почтителен, Майя детски верит в ее искренность. Пра и Майя — дети, Макс — мужчина. Этим всё объясняется.
Молодой человек — австриец по происхождению, готовится к режиссуре, пишет сказки, прелестно (до слез!) поет Игоря Северянина, подражая ему, но сам неглубок, хотя одарен. Вот и все люди. Много других, незнакомых. Макс очень раздражителен и груб, ни с кем почти не говорит. Я с приезда ни разу не была у него в мастерской. Даже странно об этом думать. С Пра у него плохие, резкие отношения и ей, по ее словам, все равно, уедет ли он в Базель, или здесь останется.
Мы с Асей живем очень отдельно, обедаем в комнатах, видимся с другими, кроме Пра и Майи, только за чаем, ½ часа три раза в день. И то всё время споры, переходящие в ссоры, к<отор>ые, в свою очередь, возрастают до скандалов. Таков дух этого лета. Алюшка бледна и худа, но здорова, бегает босиком по песку, с людьми очень сдержана, любит только меня. Все, видавшие ее прошлым летом, удивляются ее росту, худобе и речи.
Андрюша на вид здоровее ее, хотя здоровьем нежней, — лучше бегает, проворней лазит, ко всем идет, у всех просит «сухалика». Гладит Макса по голове и засыпает с неизменной — непонятной — фразой: «Махс, китоли цяс?» Вообще это ребенок живой, веселый, добрый, капризный, — очень нежный, но почти ко всем. Меня он зовет то «Селёзецька», то «Милина», то «Малина», то «Ася». Асю обожает: целует, обнимает, силится поднять, зовет, целует ее карточку и всем дает целовать (это еще до ее приезда).
Аля решительно всех поражает своей взрослостью, строгостью, неулыбчивостью. К Андрюше она прохладна, Пра боится. Слушается только меня, — без меня ни за что ни с кем не поздоровается.
Меня убивают Пра и мать Оболенской [485], вздыхающие над Алиной худобой и умоляющие меня раскармливать ее. Вчера я попробовала, и кончилось бледностью, вялостью и, наконец, Фридрихом [486], — «Давайте ей конфет, шоколада, сахара!..» — Точно ей пять лет! Вчера ей исполнилось 1 г<од> 9 мес<яцев>.
Няня у нее веселая, хорошенькая, вполне надежная, но я за ней всё время гляжу. К тому <же> Аля — воплощенное благоразумие: боится всего, что не корова, лошадь, собака и кот, — даже Божьей коровки. В море не лезет, — наоборот, при виде его торопливо шепчет: «Пи идем», — только от нежелания и страха. — Странный эффект! Аля душой и телом — маленький грустный ангел. Только со мной Аля весела и то к<а>к-то странно, солидно. Только меня целует сама, только меня боится. Когда что-н<и>б<удь> натворит — бросит ли куклу на пол, или даром попросится, сама идет в угол и плачет, без малейшего моего слова, и не выйдет оттуда, пока не скажешь: «Ну, иди!» Страшно любит пение: всё бросает, даже сухарик, и слушает, раскрыв огромные глаза. Когда кончишь: — «Еще, паята!» (пожалуйста). Сама петь стесняется, т<а>к же, к<а>к смеяться, — насильно сжимает губы. Больше всех игрушек любит мои кольца и браслеты, любит душиться. Это всё может показаться тенденциозным, но все это — правда.
Сережа 5-го выдержал историю — пишет, что «позорно» — и то слава Богу! Ему еще осталось 4 экз<амена>:
9-го — латынь
12-го — Закон Божий
13-го — Физика
14-го франц<узский> и нем<ецкий> языки.
И всё! Потом мы м<ожет> б<ыть> все с детьми поедем в Шах-Мамай [487].
Лидия Антоновна [488] глубоко-очаровательна: женственна, чутка, нежна. С<ережа>, Ася и я с ней в большой дружбе. Мика нас очень любит, это настоящий «Ми-иша», круглый, тяжелый, ласковый. Ириночка — прелестный, необычайный ребенок и хороша на редкость. Есть еще двухлетняя Таня [489] — тоже медведик — пожирает порцию двух взрослых людей. У нее редчайший слух. Весной — ей еще не было двух лет и она еще не говорила она уже пела около 50-ти песенок без малейшей ошибки и отбивала такт своим копытом. На вид ей 4 года.
Если поедем в Шах-Мамай, то пробудем там дней 5. Сережа немного отойдет и затем числа 20-го, 21-го поедет в Москву. Относительно его лечения — ни он, ни я ничего не знаем. Пусть московские д<окто>ра — и лучше два, чем один — его внимательно осмотрят и решат, куда ему ехать. У него затронута одна верхушка, неправильное сердце (т.е. деятельность) и что-то с желудком. Всё это надо лечить сразу: для легких — воздух, для сердца — м<ожет> б<ыт>ь души, или еще что-н<и>б<удь>, для желудка — диэта. Хорошо, если бы Вы у кого-н<и>б<удь> узнали, кто к концу июня из хороших д<окто>ров будет в Москве. А то на С<ережу> нечего надеяться! Не пугайтесь: ничего ужасного с ним нет, но всё расшатано. Я очень счастлива, что он все-таки кончил. Это его грызло и вредило ему больше, чем казалось. Теперь он почувствует себя свободным и будет лечиться. Он очень оскелетился, но не т<а>к сильно, к<а>к мог бы, — мы все еще удивляемся. Подумайте, три месяца умирать от сна и выдержать 25 экз<аменов>, если не больше! Его аттестат зрелости — прямо геройский акт.
Стихи С<ереже> [490]
Нет, я пожалуй странный человек, Другим на диво! — Быть, несмотря на наш XX век, Такой счастливой! Не слушая речей <о тайном сходстве душ,> Ни всех тому подобных басен, Всем объявлять, что у меня есть муж, Что он прекрасен. Т<а>к хвастаться фамилией Эфрон, Отмеченной в древнейшей книге Божьей, Всем объявлять: «Мне 20 лет, а он — Еще моложе!» Я с вызовом ношу его кольцо, С каким-то чувством бешеной отваги. Чрезмерно узкое его лицо Подобно шпаге. Печален рот его, углами вниз, Мучительно-великолепны брови. В его лице трагически слились Две древних крови. Он тонок первой тонкостью ветвей. Его глаза — прекрасно-бесполезны — Под крыльями распахнутых бровей — Две бездны. Мне этого не говорил никто, Но мать его — магические звенья! — Должно быть Байрона читала до Самозабвенья._____
Когда я прочла эти стихи и кто-то спросил Макса, понравилось ли, он ответил: — «Нет» — без объяснений. Это было первое нет на мои стихи. Поэтому мне хотелось бы знать и Ваше, и Лилино, и Петино мнение.
Сейчас гроза. Страшный ливень. Где-то Кусака? У меня сегодня болит шея, к<отор>ую за ночь отдавил Кусака. Это его обычное место. Душно, спихнешь, в ответ: «Мурры» (полу-мурлыканье, полумяуканье) и он снова a la lettre {50} на шее.
Он — совсем человек, такой же странный кот, к<а>к Аля — ребенок.
Стихи Але
Ты будешь невинной, тонкой, Прелестной и всем чужой, Стремительной амазонкой, Пленительной госпожой, И кудри свои, пожалуй, Ты будешь носить, к<а>к шлем. Ты будешь царицей бала И всех молодых поэм. И многих пронзит, царица, Насмешливый твой клинок, И всё, что мне только снится, Ты будешь иметь у ног. Всё будет тебе покорно, И все при тебе — тихи, Ты будешь к<а>к я, бесспорно, И лучше писать стихи… Но будешь ли — кто знает? Смертельно виски сжимать, Как их вот сейчас сжимает Твоя молодая мать…_____
5-го июня 1914 г., Коктебель, Але 1 г<од> 9 мес<яцев> ровно.
Вера, где Лососина [491] и почему ничего не пишет? Если напишет до Сережиного отъезда — пришлю ей какой-н<и>б<удь> подарок. Вам уже он обеспечен.
Пока всего лучшего, пишите о Пете и передайте ему эту записочку [492]. Как его адр<ес>?
Целую вас и Лососину. Пишите.
Приветы Ваши передам, хотя дрожу за свою интонацию.
МЭВпервые — НИСП. стр. 179–183. Печ. по тексту первой публикации.
11-14. П.Я. Эфрону
1 День августовский тихо таял В вечерней золотой пыли, Неслись звенящие трамваи, И люди шли. Рассеянно, к<а>к бы без цели Я тихим переулком шла, И, помнится, — тихонько пели Колокола. Воображая Вашу позу, Я всё решала по пути Не надо ли, иль надо розу Вам принести. И всё приготовляла фразу — Увы, забытую потом! — И вдруг совсем нежданно, сразу Тот самый дом! Многоэтажный, с видом скуки Считаю окна — вот подъезд. Невольным жестом ищут руки На шее крест. Считаю серые ступени, Меня ведущие к огню. Нет времени для размышлений. Уже звоню! Я помню точно рокот грома И две руки мои, к<а>к лед. Я называю Вас. — «Он дома, Сейчас придет». Пусть с юностью уносят годы Всё незабвенное с собой, Я буду помнить все разводы Цветных обой, И бисеринки абажура, И шум каких-то голосов, И эти виды Порт-Артура, И стук часов. Миг длительный по крайней мере, К<а>к час. Но вот шаги вдали, Скрип раскрывающейся двери… И Вы вошли. «Ну, что сейчас ему отвечу? О Cyrano de Bergerac!» И медленно встаю навстречу, Уже к<а>к враг. _____ Но было сразу обаянье Пусть этот стих, к<а>к сердце прост! Но было дивное сиянье Двух темных звезд. И их, огромные, прищуря Вы не узнали, нежный лик, Какая здесь играла буря Еще за миг! Я героически боролась, Мы с Вами даже ели суп! — Я помню несказанный голос, И очерк губ, И волосы, пушистей меха, И — самое родное в Вас — Прелестные морщинки смеха У длинных глаз. Я помню — Вы уже забыли — Вы там сидели, я вот тут. Каких мне стоило усилий, Каких минут Сидеть, пуская кольца дыма И полный соблюдать покой. Мне было прямо нестерпимо Сидеть такой! Вы эту помните беседу Про климат и про букву ять? Такому странному обеду Уж не бывать! — «А Вам не вредно столько перца?» Я вдруг вздохнула тяжело, И что-то до сих пор от сердца Не отлегло. _____ Потерянно, совсем без цели Я темным переулком шла, И, кажется, — уже не пели Колокола._____
Коктебель, 6-го июня 1914 г., пятница
Впервые — в цикле из семи стихотворений под общим заглавием «П<етру> Э<фрону>» в кн.: Цветаева М. Стихотворения и поэмы: В 5 т. / Сост. и подгот. текста А. Сумеркина при участии В. Швейцер. Нью-Йорк, 1980. Т. 1. стр. 168–170; СС-1. стр. 204–207. Печ. по НИСП. стр. 183–186.
Стихотворение — воспоминание о первой встрече с П.Я. Эфроном в августе 1913 г. в Москве. Написано на двойном листе писчей бумаги в клетку. Нижний край второго листа оторван. Лист сложен втрое и надписан: «Пете».
12-14. П.Я. Эфрону
Москва, 10-го июля 1914 г.
Я ушла в 7 ч<асов> вечера, а сейчас 11 утра, — и всё думаю о Вас, всё повторяю Ваше нежное имя [493]. (Пусть Петр — камень [494] для меня Вы — Петенька!) Откуда эта нежность — не знаю, но знаю — куда: в вечность! Вчера, возвращаясь от Вас в трамвае, я всё повторяла стихи Байрону [495], где каждое слово — Вам.
К<а>к Вы адски чутки!
Это — единственное, что я знаю о Вас. Внутренне я к Вам привыкла, внешне — ужасно нет. Каждый раз, идя к Вам, я все думаю, что это надо сказать, и это еще, и это…
Прихожу — и говорю совсем не о том, не т<а>к.
Слушайте, моя любовь легка. Вам не будет ни больно, ни скучно. Я вся целиком во всем, что люблю. Люблю одной любовью — всей собой — и березку, и вечер, и музыку, и Сережу, и Вас.
Я любовь узнаю по безысходной грусти, по захлебывающемуся: «ах!» [496] Вы для меня прелестный мальчик, о котором — сколько бы мы ни говорили — я все-таки ничего не знаю, кроме того, что я его люблю. Не обижайтесь за «мальчика», — это все-таки самое лучшее!
— Вчера вечером я сидела в кабинете Фельдштейна [497]. На исчерна-синем небе качались черные ветки. Вся комната была в тени. Я писала Вам письмо и т<а>к сильно думала о Вас, что все время оглядывалась на диван, где Вы должны были сидеть. В столовой шипел самовар, тикали часы. На блюдце лежали два яйца, — ужасно унылых! Я все время о них вспоминала: «надо есть», но после письма к Вам стало т<а>к грустно-радостно, вернее — радостно-грустно, что я, к<а>к Аля, сказала «не надо».
— Вчерашнее письмо разорвала, яйцо сегодня съела. —
Пишу сейчас у окна. Над зеленой крышей сарая — купол какой-то церковки — совсем маленький — и несколько качающихся веток. Над ними — облачко.
_____Вы первый, кого я поцеловала после Сережи. Бывали трогательные минуты дружбы, сочувствия, отъезда, когда поцелуй казался необходимым. Но что-то говорило: «нет!» Вас я поцеловала, потому что не могла иначе. Всё говорило: «да!»
МЭP.S. Спасибо за рассказ о черном коте.
Впервые — Саакянц А. стр. 69–70. СС-6. стр. 130–131. Печ. по НИСП. стр. 186–187.
13-14. П.Я. Эфрону
Москва, 14-го июля 1914 г., ночью
Мальчик мой ненаглядный!
Сережа мечется на постели, кусает губы, стонет. Я смотрю на его длинное, нежное, страдальческое лицо и всё понимаю: любовь к нему и любовь к Вам. Мальчики! Вот в чем моя любовь. Чистые сердцем! Жестоко оскорбленные жизнью! Мальчики без матери! Хочется соединить в одном бесконечном объятии Ваши милые темные головы, сказать Вам без слов: «Люблю обоих, любите оба — навек!»
Петенька, даю Вам свою душу, беру Вашу, верю в их бессмертие. Пламя, что ожигает меня, сердце, что при мысли о Вас падает, — вечны. Т<а>к неожиданно и бесспорно вспыхнула вера.
Вы сегодня рассказывали о Вашей девочке [498]. Всё во мне дрожало. Я поцеловала Вам руку. — Зачем «оставить»? Буду целовать еще и еще, потому что преклоняюсь перед Вашим страданием, чувствую Вас святым.
О, моя деточка! Ничего не могу для Вас сделать, хочу только, чтобы Вы в меня поверили. Тогда моя любовь даст Вам силы.
Помните: что бы я Вам ни говорила, каким бы тоном — не верьте, если в этом не любовь.
Если бы не Сережа и Аля, за которых я перед Богом отвечаю, я с радостью умерла бы за Вас, за то, чтобы Вы сразу выздоровели. Так — не сомневаясь — сразу — по первому зову.
Клянусь Вашей, Сережиной и Алиной жизнью. Вы трое — мое святая святых {51}. Вот скоро уеду. Ничего не изменится. Умерла бы — всё бы осталось. Никогда никуда не уйду от Вас. Началось с минуты очарования (август или начало сентября 1913 г.), продолжается бесконечностью любви. Завтра достану Вам крестик.
Целую.
МЭСтихи 12-го июля 1914 г.
Не думаю, не жалуюсь, не спорю, Не сплю. Не рвусь ни к солнцу, ни к луне, ни к морю, Ни к кораблю. Не чувствую, как в этих стенах жарко. Как зе́лено в саду. Давно желанного и жданного подарка Не жду. Не радуют ни утро, ни трамвая Звенящий бег. Живу, не видя дня, позабывая Число и век. На, кажется, надрезанном канате Я — маленький плясун. Я — тень от чьей-то тени. Я — лунатик Двух темных лун._____
Стихи 13-го июля 1914 г.
Я видела Вас три раза, Но нам не остаться врозь. — Ведь первая Ваша фраза Мне сердце прожгла насквозь! Мне смысл ее так же тёмен, Как шум молодой листвы. Вы — точно портрет в альбоме, — И мне не узнать, кто Вы. Мне кажется — Вас любили <……….> Мне кажется — Вы губили За то, что любили Вас. Здесь всё — говорят — случайно, И можно закрыть альбом… О, мраморный лоб! О, тайна За этим огромным лбом! Послушайте, я правдива До вызова, до тоски: Моя золотая грива Не знает ничьей руки. Мой дух — не смирён никем он. Мы — души различных каст. И мой неподкупный демон Мне Вас полюбить не даст. «Так что ж это было?» — Это Рассудит иной Судья. Здесь многому нет ответа, И Вам не узнать — кто я. МЭПусть последнее слово будет: люблю!
Ластуне
15-го июля 1914 г., понед<ельник>
С ласточками прилетела Ты в один и тот же час, Радость маленького тела. Новых глаз. В марте месяце родиться — Господи, внемли хвале! — Это значит — быть к<а>к птица На земле. Первою весенней почкой Очень юного ствола, Первой ласточкой и дочкой Ты была! Ласточки ныряют в небе, В доме все пошло вверх дном: Детский лепет, птичий щебет За окном. Дни сентябрьские кратки, Долги ночи сентября. Сизокрылые касатки За моря! Давит маленькую грудку Стужа северной земли. Это ласточки малютку Унесли! Спящую от сна будили Их родные голоса Подхватили, закружили В небеса! Жалобный недвижим венчик, Нежных век недвижен край. Спи, дитя. Спи, Божий птенчик. Баю-бай… МЭВпервые — Саакянц А. стр. 71 (без окончания и стихов). СС-6. стр. 131–132 (без стихов). Печ. по НИСП. стр. 187–190.
1915
1-15. Е.Я. Эфрон
<Maй 1915 г., Москва>
Милая Лиленька,
Очень прошу Вас — пошлите к Тусе [499] прислугу за моими книгами: Стихами Ростопчиной [500] и Каролины Павловой [501], а то Туся послезавтра уезжает и книги потеряются.
Уезжаю 20-го, билеты уже заказаны [502].
Целую Вас, как-нибудь утром приду с Алей, сейчас я по горло занята укладкой зимних вещей и т<ому> п<одобными> ужасами.
МЭP.S. Если можно, достаньте мне книги сегодня же!
Впервые — НИСП. стр. 197. Печ. по тексту первой публикации.
Записка без конверта. Датируется по содержанию.
2-15. Е.Я. Эфрон
Святые Горы, Харьковской губ<ернии> [503]
Графский участок, 14
Дача Лазуренко
30-го июля 1915 г.
Милая, милая Лиленька,
Сейчас открыла окно и удивилась — так зашумели сосны.
Здесь, несмотря на Харьковскую губ<ернию> — Финляндия: сосны, песок, вереск, прохлада, печаль.
Вечерами, когда уже стемнело, — страшное беспокойство и тоска: сидим при керосиновой лампе-жестянке, сосны шумят, газетные известия не идут из головы, — кроме того, я уже 8 дней не знаю, где Сережа и пишу наугад то в Белосток, то в Москву, без надежды на скорый ответ.
Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то — через день, он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце — вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь.
— Соня [504] меня очень любит и я ее люблю — и это вечно, и от нее я не смогу уйти. Разорванность от дней, к<отор>ые надо делить, сердце всё совмещает.
Веселья — простого — у меня, кажется, не будет никогда и, вообще, это не мое свойство. И радости у меня до глубины — нет. Не могу делать больно и не могу не делать.
Аля растет трудным, сложным ребенком — в обычное время спокойна, как взрослый человек, но чувствительность у нее чрезмерная. Сейчас же слезы на глазах. Самолюбие и совесть — вот ее две главных черты, обе в ней поражают. Лицом она прелестна, лучше нельзя. — «Почему небо не звенит?» (Колокола) — «Я съела маленькую мясу» (за супом) — «Ты — мой большой ангел». — «Почему зайчик не целуется, который на стене?» (Солнечный) — «Марина, я съела ма-аленькую зелень: ма-алень-кую гадость». — «А кота в лавке продают? А бусы? А черешни? А маленького Боженьку? А маленького дядю на брошке? А ангела? А маленькие звезды?» — «Солнце в луже валяется».
— Лиленька в следующим письме пришлю Вам новые стихи, они о цыганстве [505].
Пока целую Вас нежно.
Соня шлет привет.
Пишите скорей.
МЭВпервые — Полякова С. стр. 57, без второй части. Полностью — НИСП. стр. 202. Печ. по тексту полной публикации. Письмо послано в имение Подгорье, станция Новозаполье.
3-15. Е.Я. Эфрон
Москва, Поварская, Борисоглебский пер<еулок>
д<ом> 6, кв<артира> 3
21-го декабря 1915 г.
Милая Лиленька,
Думаю о Вас с умилением.
Сейчас все витрины напоминают Вас, — везде уже горят елки.
Сегодня я покупала подарки Але и Андрюше (он с Асей на днях приедет). Але — сказки русских писателей в стихах и прозе и большой мячик, Андрюше — солдатиков и кубики. Детям — особенно таким маленьким — трудно угодить, им нужны какие-то особенные вещи, ужасно прикладные, вроде сантиметров, метелок, пуговиц, папиросных коробок, etc. Выбирая что-нибудь заманчивое на свой взгляд, тешишь, в конце концов, себя же.
— Сейчас у нас полоса подарков. Вере мы на годовщину Камерного [506] подарили: Сережа — большую гранатовую брошь, Борис [507] — прекрасное гранатовое ожерелье, я — гранатовый же браслет. Сереже, на его первое выступление в Сирано 17-го декабря [508] я подарила Пушкина изд<ание> Брокгауза [509]. На Рождество я дарю ему Шекспира в прекрасном переводе Гербеля [510], Борису — книгу былин [511].
— Сережа в прекрасном настроении, здоров, хотя очень утомлен, целый день занят то театром, то греческим. Я уже два раза смотрела его, — держит себя свободно, уверенно, голос звучит прекрасно. Ему сразу дали новую роль в «Сирано» — довольно большую, без репетиции. В первом действии он играет маркиза — открывает действие. На сцене он очень хорош, и в роли маркиза и в гренадерской. Я перезнакомилась почти со всем Камерным театром, Таиров [512] — очарователен. Коонен [513] мила и интересна, в Петипа [514] я влюбилась, уже целовалась с ним и написала ему сонет, кончающийся словами «пленительный ровесник» [515]. — Лиленька, он ровно на 50 лет старше меня! [516]
За это-то я в него и влюблена.
— «Вы еще не сказали ни одного стихотворения, а я вокруг Вашей головы (жест) вижу… ореол!»
— «О — пусть это будет ореолом молодости, который гораздо ярче сияет над Вашей головой, чем над моей!»
Яблоновский [517]: «Да ведь это — Версаль!»
Мы сидели в кабинете Таирова, Яблоновский объяснялся в любви моим книгам и умильно просил прочесть ему «Колыбельную песенку» [518], к<отор>ую вот уже три года читают перед сном его дети, я была в старинном шумном платье и влюбленно смотрела в прекрасные глаза Петипа, который в мою честь декламировал Béranger «La diligence» [519]. — Но всего не расскажешь! На следующий раз, после премьеры «Сирано», я сказала ему: — Вы были прекрасны, я в восторге, позвольте мне Вас поцеловать!
— Поверьте, что я оценил… — рука, прижатая к сердцу, и долгий поцелуй.
— Да, Лиленька! Я забыла! Ася Жуковская Сереже подарила чудную шкатулку карельской березы, Вера — Каролину Павлову, прекрасное двухтомное издание, — все за первое его выступление.
Таирову на годовщину театра Сережа подарил старинное изд<ание> комедий (?) Княжнина [520], Вера и Елена Васильевна [521] — по парчовой подушке, весь кабинет его был в подарках: бисерная трость, бисерный карандаш, еще какой-то бисер. Он сиял. Это было 12-го.
— Алю я обрила. Шерсть растет мышиная, местами совсем темная. Она здорова, чудно ест, много гуляет, пьет рыбий жир и выглядит великолепно, — тяжелая, крупная девочка, вроде медведя. Великолепная память, ангельский характер и логика чеховского учителя словесности. — «Когда солнце спрячется, то в детской будет — темно, а когда солнце снова появится, то в детской будет светло». — «Раз ты мне не позволяешь ходить босиком по полу, я и не хожу, а если бы ты позволила, то я бы ходила. — Правильно я говорю, Марина?» etc.
У нас сейчас чудная прислуга: мать (кухарка) и дочь (няня) — беженки из Седлеца. Обе честны, как ангелы, чудно готовят и очень к нам привязаны. Няня грамотная, умная, с приличными манерами, чистоплотная, Алю обожает, но не распускает, — словом, лучше нельзя.
— Лиленька, у меня новая шуба: темно-коричневая с обезьяньим мехом (вроде коричневого котика), фасон — вот {52}: сзади — волны. Немного напоминает поддевку. На мягенькой белой овчине. Мечтаю уже о весеннем темно-зеленом пальто с пелериной.
— Милая Лиленька, пока до свидания.
Переписываю Вам пока одни стихи — из последних.
Новолунье, и мех медвежий, И бубенчиков легкий пляс… Легкомысленнейший час! Мне же — Глубочайший час. Умудрил меня встречный ветер, Снег умилостивил мне взгляд. На пригорке монастырь — светел И от снега — свят. Вы снежинки с груди собольей Мне сцеловываете, друг. Я — на дерево гляжу в поле И на лунный круг. За широкой спиной ямщицкой Две не сблизятся головы. Начинает мне Господь сниться, Отоснились Вы [522]._____
Довольно часто вижу Веру. Она в этом году очень трогательна, гораздо терпимей и человечней. К Сереже она относится умилительно: сама его гримирует, кормит, как, чем и когда только может и радуется его удачам. И Елена Васильевна к нему страшно мила. В театре его очень любят, немного как ребенка, с умилением.
— Это письмо ужасно внешне, но мне хотелось просто передать Вам наши дни. Скоро напишу Вам о себе. Пока крепко Вас целую, всего лучшего, пишите.
МЭP.S. Умоляю Вас запомнить № дома (6) и № кв<артиры> (3! 3! 3!), а то у меня из-за Вашего письма был скандал с почтальоном. Он возмущался отсутствием №№ дома и квартиры, я — его возмущением.
Поварская, Борисоглебский пер<еулок>,
д<ом> 6, кв<артира> 3,
Эфрон.
<На полях>
Эта карточка снята еще осенью и слишком темна, держите ее на солнце, пусть выгорит [523].
Впервые — Наше наследие. М. 1994. № 31. стр 87–88 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 88–90. Печ. по НИСП. стр. 206–210.
Письмо послано в имение Подгорье, ст. Новозаполье.
1916
1-16. Е.Я. Эфрон
<Между 9 и 11 марта 1916 г. Москва>
Лиленька,
Приезжайте немедленно в Москву.
Я люблю безумного погибающего человека и отойти от него не могу — он умрет [524]. Сережа хочет итти добровольцем, уже подал прошение [525]. Приезжайте. Это — безумное дело, нельзя терять ни минуты.
Я не спала четыре ночи и не знаю, как буду жить. Всё — на гóре. Верю в Вашу спасительную силу и умоляю приехать.
Остальное при встрече.
МЭP.S. Сережа страшно тверд, и это — страшней всего. Люблю его по-прежнему.
<На обороте письма — приписка рукой В.Я. Эфрон:>
Лиля, приезжай немедленно в тот же вечер к<а>к только получишь письмо. Это очень нужно. Не откладывай ни одной минуты. Сережа подал прошение и надо устроить т<а>к, чтобы он взял обратно, пока оно не имело еще значения [526].
ВераА хуже то, что он собирается ехать в полк пехотным нижним чином.
Впервые — СС-6. стр. 87 (по копии из архива А. Саакянц), неполностью и с неточной датировкой. Печ. полностью по НИСП. стр. 210–211.
2-16. Е.Я. Эфрон
Коктебель, 19-го мая 1916 г.
Дорогая Лососина,
Получила Ваше письмо на берегу, его мне принесла Вера. Вера была больна (ангина), теперь поправляется, но сильно похудела. Вскармливает с рожка слепого еженка и умиляется.
Сережа тощ и слаб, безумно радуется Коктебелю, целый день на море, сегодня на Максимой вышке принимал солнечную ванну. Он поручил Мише [527] следить за воинскими делами, Миша телеграфирует ему, когда надо будет возвращаться. Всё это так грустно! Чувствую себя в первый раз в жизни — бессильной. С людьми умею, с законами нет.
О будущем стараюсь не думать, — даже о завтрашнем дне!
Аля «кормит море» камнями, ласкова, здорова. Вчера вечером, засыпая, она мне сказала: «Ты мое не-ебо! Ты моя луна-а! Никак не могу тебя разлюбить: всё любится и любится!»
— У Пра, Лиля, новые комнаты, — две: прежняя Максина (нечто, вроде кабинета, хотя весьма непохоже!) и прилегающая к ней — спальня. Пра, конечно, взяла эти комнаты, чтобы быть ближе к Максу. — Макса я еще не видела, он в Феодосии. Из своих здесь: Вера, Ася [528], Борис [529] и Мария Ивановна с двумя сестрами [530], все три переболели ангиной. Обеды дорогие: 35 р<ублей>, кормимся пока дома. Вера очень заботлива, но я боюсь ей быть в тягость. От Вас, например, я бы легко приняла всякую заботу — Вы мне близки и я Вас люблю, к Вере же у меня нет близости, мне трудно с ней говорить, ничего с собой не поделаю. Знаю, что она хорошо ко мне относится, знаю, что не заслуживаю, и мне трудно.
Ася мила, но страшно вялая, может быть она проще, чем я думаю, я ее еще совсем не знаю, она как-то ко всему благосклонна и равнодушна.
Я уже загорела, хожу в шароварах, но всё это не то, что прежние два лета (первые) в Коктебеле, нет духа приключений, да это так понятно!
— Лиленька, спасибо за письмо под диктовку. Конечно, он хороший, я его люблю, но он страшно слаб и себялюбив, это и трогательно и расхолаживает. Я убеждена, что он еще не сложившийся душою человек и надеюсь, что когда-нибудь — через счастливую ли, несчастную ли любовь — научится любить не во имя свое, а во имя того, кого любит.
Ко мне у него, конечно, не любовь, это — попытка любить, может быть и жажда [531].
Скажите ему, что я прекрасно к нему отношусь и рада буду получить от него письмо — только хорошее!
Лиленька! Вижу акацию на синем небе, скрежещет гравий, птицы поют.
Лиленька, я Вас люблю, мне с Вами всегда легко и взволнованно, радуюсь Вашим литературным удачам и верю в них [532].
Целую Вас нежно.
Думаю пробыть здесь еще дней десять [533].
Если не успеете написать сюда, пишите
Москва Поварская, Борисоглебский переулок
д<ом> 6, кв<артира> 3.
А то Вы Бог знает что пишете на конверте!
У меня очень много стихов, есть целый цикл о Блоке [534].
— Может быть мне придется ехать в Чугуев, м<ожет> б<ыть> в Иркутск, м<ожет> б<ыть> в Тифлис, — вряд ли московских студентов оставят в Москве! [535]
Странный будет год! Но я как-то спокойно отношусь к переездам, это ничего не нарушает.
Постарайтесь написать мне поскорей! Еще целую.
МЭСтихи Лозинского [536] очень милы, особенно последняя строчка!
Впервые — НИСП. стр. 213–214. Печ. по тексту первой публикации.
3-16. Е.Я. Эфрон
Москва, Поварская
Борисоглебский пер<еулок> д<ом> 6, кв<артира> 3
Москва, 12-го июня 1916 г.
Милая Лососина,
Сережа 10-го уехал в Коктебель с Борисом, я их провожала. Ехали они в переполненном купэ III кл<асса>, но, к счастью, заняли верхние места. Над ними в сетках лежало по солдату. Сережины бумаги застряли в госпитале, когда вынырнут на свет Божий — Бог весть! По крайней мере, он немного отдохнет до школы прапорщиков.
Я, между прочим, уверена, что его оттуда скоро выпустят, — самочувствие его отвратительно.
В Москве свежо и дождливо, в случае жары я с Алей уеду к Асе, в Александров. Я там уже у ней гостила, — деревянный домик, почти в поле. Рядом кладбище, холмы, луга. Прелестная природа.
Лиленька, а теперь я расскажу Вам визит М<андельштама> в Александров [537]. Он ухитрился вызвать меня к телефону {53}: позвонил в Александров, вызвал Асиного прежнего квартирного хозяина и велел ему идти за Асей. Мы пришли и говорили с ним, он умолял позволить ему приехать тотчас же и только неохотно согласился ждать до следующего дня. На след<ующее> утро он приехал. Мы, конечно, сразу захотели вести его гулять — был чудесный ясный день — он, конечно, не пошел, — лег на диван и говорил мало. Через несколько времени мне стало скучно и я решительно повела его на кладбище.
— «Зачем мы сюда пришли?! Какой ужасный ветер! И чему Вы так радуетесь?»
— «Так, — березам, небу, — всему!»
— «Да, потому что Вы женщина. Я ужасно хочу быть женщиной. Во мне страшная пустота, я гибну».
— «От чего?»
— «От пустоты. Я не могу больше вынести одиночества, я с ума сойду, мне нужно, чтобы обо мне кто-нибудь думал, заботился. Знаете, — не жениться ли мне на Лиле?»
— «Какие глупости!»
— «И мы были бы в родстве. Вы были бы моей belle-soeur!» {54}
— «Да-да-а… Но Сережа не допустит».
— «Почему?»
— «Вы ведь ужасный человек, кроме того, у Вас совсем нет денег».
— «Я бы стал работать, мне уже сейчас предлагают 150 р<ублей> в Банке, через полгода я получил бы повышение. Серьезно».
— «Но Лиля за Вас не выйдет. Вы в нее влюблены?»
— «Нет».
— «Так зачем же жениться?»
— «Чтобы иметь свой угол, семью…»
— «Вы шутите?»
— «Ах, Мариночка, я сам не знаю!»
День прошел в его жалобах на судьбу, в наших утешениях и похвалах, в еде, в литературных новостях. Вечером — впрочем, ночью, — около полночи, — он как-то приумолк, лег на оленьи шкуры и стал неприятным. Мы с Асей, устав, наконец, перестали его занимать и сели — Маврикий Александрович [538], Ася и я в другой угол комнаты. Ася стала рассказывать своими словами Коринну [539], мы безумно хохотали. Потом предложили М<андельшта>му поесть. Он вскочил, как ужаленный. — «Да что же это, наконец! Не могу же я целый день есть! Я с ума схожу! Зачем я сюда приехал! Мне надоело! Я хочу сейчас же ехать! Мне это, наконец, надоело!» Мы с участием слушали, — ошеломленные.
М<аврикий> А<лександрович> предложил ему свою постель, мы с Асей — оставить его одного, но он рвал и метал. — «Хочу сейчас же ехать!» — Выбежал в сад, но испуганный ветром, вернулся. Мы снова занялись друг другом, он снова лег на оленя. В час ночи мы проводили его почти до вокзала. Уезжал он надменный.
Я забыла Вам рассказать, что он до этого странного выпада всё время говорил о своих денежных делах: резко, оскорбленно, почти цинически. Платить вперед Пра за комнату он находил возмутительным и вел себя так, словно все, кому он должен, должны — ему. Неприятно поразила нас его страшная самоуверенность.
— «Подождали — еще подождут. Я не виноват, что у меня всего 100 р<ублей>» — и т.д.
Кроме того, страстно мечтал бросить Коктебель и поступить в монастырь, где собирался сажать картошку.
Сегодня мы с Асей на Арбате видели старуху, лет девяноста, державшую в одной руке — клюку, в другой — огромный голубой эмалированный горшок. Стояла она перед дверью магазина «Скороход» [540]. Все проходящие долго на нее смотрели, она ни на кого.
— Лиленька, Вам нравится?
_____Всего лучшего, пишите мне пока в Москву. Аля здорова, всё хорошеет. Я недавно видела во сне Петю [541] и узнала во сне это прежнее облако нежности и тоски. Он был в коричневом костюме, худой, я узнала его прелестную улыбку. Лиля, этого человека я могла бы безумно любить! Я знаю, что это — неповторимо.
МЭВпервые — Вопросы литературы. 1983. № 11. стр. 209–210 (публ. А. Саакянц). Печ. по НИСП. стр. 217–219.
Датируется по почтовому штемпелю. Письмо в имение Подгорье, ст. Новозаполье.
4-16. С.Я. Эфрону
Александров, 4-го июля 1916 г. [542]
Дорогая, милая Лёва! [543]
Спасибо за два письма, я их получила сразу. Прочтя про мизинец, я завыла и чуть не стошнилась, — вся похолодела и покрылась гусиной кожей, хотя в это время сидела на крыльце, на самом солнце. Lou! Дурак и гадина!
Я рада, что Вы хороши с Ходасевичем [544], его мало кто любит, с людьми он сух, иногда холоден, это не располагает. Но он несчастный и у него прелестные стихи, он хорошо к Вам относится? Лувенька, вчера и сегодня всё время думаю, с большою грустью, о том, как, должно быть, растревожила Вас моя телегр<амма>. Но что мне было делать? Я боялась, что умолчав, как-н<и>б<удь> неожиданно подведу Вас. Душенька ты моя лёвская, в одном я уверена: где бы ты ни очутился, ты недолго там пробудешь [545]. В этом меня поддерживает М<аврикий> А<лександрович>, а он эти дела хорошо знает [546]. Скоро — самое позднее к 1-му августу — его отправляют на фронт. Он страшно озабочен Асиной судьбой, думает и говорит только об Асе, мне его страшно жаль [547].
Lou, не беспокойся обо мне: мне отлично, живу спокойнее нельзя, единственное, что меня мучит это Ваши дела, вернее Ваше самочувствие. Вы такая трогательная, лихорадочная тварь!
Пишу Вам в 12 ночи. В окне большая блестящая белая луна и черные деревья. Гудит поезд. На столе у меня в большой плетенке — клубника, есть ли у Вас в Коктебеле фрукты и кушаете ли? Маврикий только что красил детскую ванну в белый цвет и так перемазался и устал, что не может Вам сейчас писать и шлет пока горячий привет.
Дети спят. Сегодня Аля, ложась, сказала мне: «А когда ты умрешь, я тебе раскопаю и раскрою тебе рот и положу туда конфету. А язык у тебя будет чувствовать? Будет тихонько шевелиться?» и — варварски: «Когда ты умрешь, я сяду тебе на горбушку носа!» И она и Андрюша каждый вечер за Вас молятся, совершенно самостоятельно, без всякого напоминания. Андрюша еще упорно молится «за девочку Ирину» [548] — а брата почему-то зовет: «Михаи́лович», с ударение на и.
Ася приедет, должно быть, в Воскресение.
Милый Лев, спокойной ночи, нежно Вас целую, будьте здоровы, не делайте глупостей с пальцем.
Лев, здесь очень много Сидоровых! [549]
МЭСлышу отсюда вытье Дейши! [550]
Впервые — СС-6. стр. 133 (по копии, хранившейся в архиве А. Саакянц), с небольшим сокращением. Печ. полностью по НИСП. стр. 221–222.
5-16. С.Я. Эфрону
Александров, 7-го июля 1916 г.
Обожаемый Лев,
Я была вчера у воинского начальника и вечером дала Вам телеграмму с нарочным, — Бог знает, застанет ли Вас еще мое письмо, поэтому пишу коротко.
4-го дворник ездил в Крутицкие [551], где делопроизводитель сказал ему, что Ваше назначение получено и что Вы должны явиться через 1 ½ часа. Тогда Миша тотчас же послал оставленною мною телегр<амму>. Приехав, я пришла в ужас, позвонила воинскому начальнику, к<отор>ый очень любезно известив меня, каким № и откуда к нему ехать, попросил зайти сегодня же в 4 ч<аса>. Я отправилась. Он беспомощно просил меня поторопить Вас с ответом, он послал Вам запрос 2-го, а 6-го еще не было ответа. Сказал, что запрос о Вас получен из штаба и показал телеграмму (штабную). Все там наизусть знают Ваш адр<ес>, чиновники наперебой декламировали его, причем один произнес: «Контебель», а другой пояснил, что он, действительно, существует и что он сам там был. Все молодые чиновники — вылитые Могилевские [552]. Воинский начальник вызовет Вас сам, я десять раз спрашивала его, не вызвать ли мне Вас. — «Не беспокойтесь, я сам его извещу». Итак, сидите в Коктебеле! Не думаю, что этот вопрос для них легок. — «Ну, где же я это, наконец, узнаю!» — Слышала собственными ушами. Он похож манерами на дядю Митю [553], а сложением — на Макса. Было очень жарко, мне — от волнения, ему от июля-месяца и от Льва.
Спасибо, Lou, за историю с Брюсовым и Ходасевичем! [554] Я безумно хохотала и наслаждалась, М<аврикий> А<лександрович> тоже.
Фамилия д<иректо>ра — Сыроечковский, Евгений Иванович [555], он был красавец, я 14 л<ет> немножко была в него влюблена. Однажды — тоже за сочинение — он призвал меня в кабинет и, запомнив только первые две строки некрасовской «Ростопчинской шутки»
В Европе сапожник, чтоб барином стать Бунтует, — понятное дело! У нас революцию сделала знать, — В сапожники ль, что ль, захотела? [556]— спросил меня: — «Вы, г<оспо>жа Цветаева, должно быть в конюшне с кучерами воспитывались?»
— «Нет, г<осподи>н директор, с директорами!»
Потом, к весне, меня вежливо исключили с пятеркой за поведение — из-за папы.
Я была на его похоронах, ближе всех стояла к гробу. Пишу сейчас на террасе, поздняя ночь, деревья шумят, колотушка трещит.
Кажется — 12-го июля опять будет призыв студентов, я это слышала в Крутицких — от кого-то из чиновников.
Ася уже ходит, я ее видела вчера. Мальчик спокойный [557]. Лев, я вчера видала в лечебнице трехдневного армянина: густая длинная, почти до бровей, черная челка, круглые, как у совы, чернейшие брови и большие черные глаза, вид миниатюрного трехлетнего ребенка. Взгляд пристальный. Я была от него в восторге, — «он жид должно быть!» Лев, знаешь, сколько сейчас платят кормилицам? — 75 р<ублей> в месяц и приданное.
Скажи М<андельшта>му, не забудь упомянуть о какао, манных кашах и яйцах! И всего по 6-ти: простынь, наволочек, полотенец и т. д… И башмаков! — Соня (прислуга) узнав, всплеснула руками: «Ох, ба-а-арыня! И я этого не знала!» Теперь это ей не даст спать по крайней мере месяц!
Дома всё благополучно, кроме коклюша во дворе. Аля здорова и хорошо себя ведет. Недавно она мне сказала: «А когда ты умрешь, я сяду тебе на горбушку носа!» Она каждый вечер за Вас молится, Андрюша тоже.
Лува, иду спать, сейчас около двух. В Москве получила письмо от Чацкиной [558], торопит с переводом, хочет печатать его с августа, а у меня пока переведено всего 50 стр<аниц> [559]. Надо торопиться. Сегодня я сразу перевела восемь.
Заходил к Вам Говоров [560] и оставил записку, в к<отор>ой обещает Вам «массу интересных новостей».
Ну, Лувенька, приятного сна, или купанья, или обеда, иду спать. Целую Ваше рыжее бакенбардие.
<Вместо подписи — рисунок козы.>Мы с Асей решили, если у нее пропадет молоко, через каждые три часа загонять в овраг по чужой козе и выдаивать ее дотла. Я бы хотела быть вскормленной на ворованном, да еще сидоровом молоке!
P.S. Очень думаю о Ваших делах, Лев, только о них и думаю, но трудно писать.
Табак с нашей клумбы.
<На полях:>Лев, я насушила 1 ½ ф<унта> белых грибов! Табак я тебе рвала в темноте и страшно боялась, но задумала.
Впервые — НИСП. стр. 222–224. Печ. по тексту первой публикации.
6-16. П.И. Юркевичу
Москва, 21-го июля 1916 г.
Милый Петя,
Я очень рада, что Вы меня вспомнили. Человеческая беседа — одно из самых глубоких и тонких наслаждений в жизни: отдаешь самое лучшее — душу, берешь то же взамен, и все это легко, без трудности и требовательности любви.
Долго, долго, — с самого моего детства, с тех пор, как я себя помню — мне казалось, что я хочу, чтобы меня любили.
Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это — любовь. А то, что Вы называете любовью (жертвы, верность, ревность), берегите для других, для другой, — мне этого не нужно. Я могу любить только человека, который в весенний день предпочтет мне березу. — Это моя формула.
Никогда не забуду, в какую ярость меня однажды этой весной привел один человек — поэт [561], прелестное существо, я его очень любила! — проходивший со мной по Кремлю и, не глядя на Москву-реку и соборы, безостановочно говоривший со мной обо мне же. Я сказала: «Неужели Вы не понимаете, что небо — поднимите голову и посмотрите! — в тысячу раз больше меня, неужели Вы думаете, что я в такой день могу думать о Вашей любви, о чьей бы то ни было. Я даже о себе не думаю, а, кажется, себя люблю!»
Есть у меня еще другие горести с собеседниками. Я так стремительно вхожу в жизнь каждого встречного, который мне чем-нибудь мил, так хочу ему помочь, «пожалеть» [562], что он пугается — или того, что я его люблю, или того, что он меня полюбит и что расстроится его семейная жизнь.
Этого не говорят, но мне всегда хочется сказать, крикнуть: «Господи Боже мой! Да я ничего от Вас не хочу. Вы можете уйти и вновь прийти, уйти и никогда не вернуться — мне все равно, я сильна, мне ничего не нужно, кроме своей души!»
Люди ко мне влекутся: одним кажется, что я еще не умею любить, другим — что великолепно и что непременно их полюблю, третьим нравятся мои короткие волосы, четвертым, что я их для них отпущу, всем что-то мерещится, все чего-то требуют — непременно другого — забывая, что все-то началось с меня же, и не подойди я к ним близко, им бы и в голову ничего не пришло, глядя на мою молодость.
А я хочу легкости, свободы, понимания, — никого не держать и чтобы никто не держал! Вся моя жизнь — роман с собственной душою, с городом, где живу, с деревом на краю дороги, — с воздухом [563]. И я бесконечно счастлива.
Стихов у меня очень много, после войны издам сразу две книги [564]. Вот стихи из последней [565]:
Настанет день — печальный, говорят: Отцарствуют, отплачут, отгорят — Остужены чужими пятаками Мои глаза, подвижные, как пламя. И — двойника нащупавший двойник Сквозь легкое лицо проступит лик. О, наконец, тебя я удостоюсь, Благообразия прекрасный пояс! А издали — завижу ли я вас? — Потянется, растерянно крестясь. Паломничество по дорожке черной К моей руке, которой не отдерну. К моей руке, с которой снят запрет, К моей руке, которой больше нет. На ваши поцелуи, о живые, Я ничего не возражу — впервые: Меня окутал с головы до пят Благоразумия прекрасный плат. Ничто уже меня не вгонит в краску, Святая у меня сегодня Пасха. По улицам оставленной Москвы Поеду — я и побредете — вы. И не один дорогою отстанет, И первый ком о крышку гроба грянет, — И наконец-то будет разрешен Себялюбивый, одинокий сон! — Прости, Господь, погибшей от гордыни Новопреставленной болярине Марине!Это лето вышло раздробленное. Сначала Сережа был в Коктебеле [566], я у Аси (у нее теперь новый мальчик — Алексей), теперь мы съехались [567]. Он все ждет назначения, вышла какая-то путаница. Я рада Москве, хожу с Алей в Кремль, она чудный ходок и товарищ [568]. Смотрим на соборы, на башни, на царей в галерее Александра II, на французские пушки [569]. Недавно Аля сказала, что непременно познакомится с царем [570]. — «Что же ты ему скажешь?» — «Я ему сделаю вот какое лицо!» (И сдвинула брови). — Живу, совсем не зная, где буду через неделю, — если Сережу куда-нибудь ушлют, поеду за ним. Но в общем все хорошо.
Буду рада, если еще напишете, милый Петя, я иногда с умилением вспоминаю нашу с Вами полудетскую встречу: верховую езду и сушеную клубнику в мезонине Вашей бабушки [571], и поездку за холстинами, и чудную звездную ночь.
Как мне тогда было грустно! Трагическое отрочество и блаженная юность.
Я уже наверное никуда не уеду, пишите в Москву. И если у Вас сейчас курчавые волосы, наклоните голову, и я Вас поцелую.
МЭ.Впервые полностью — Минувшее. 11. 1991 (публ. Е.И. Лубянниковой и Я.А. Мнухина). СС-6. стр. 24–26. Печ. по тексту СС-6.
7-16. В.Я. Эфрон
<Конец июля 1916 г., Москва>
Милая Вера,
Посылаю Вам спирт и книжку, ради Бога не потеряйте, а то опять придется доставать разрешение.
С<ережа> был в лечебнице: катарр, прописали ментол с кокаином, у него маленькая лихорадка.
Вера, Мандельштама забирают! [572] И Говорова! [573]
Когда у Вас новоселье? [574]
Целую Вас и Магду.
МЭP.S. Можно ли себе мазать голову очищенным дегтем, или потом не смоешь? Это С<ережа> рекомендует, но боюсь, что тут что-то не то.
Впервые — НИСП. стр. 225. Печ. по тексту первой публикации. Датируется по содержанию.
8-16. Е.Я. Эфрон
Москва, 30-го сентября 1916 г.
Милая Лиленька,
Поздравляю Вас с прошедшим днем рождения [575] и обращаюсь к Вам с просьбой. Мне непременно нужна шуба, а цены сейчас на сукно безумные — 18–20 р<ублей> арш<ин>.
Купите мне, пож<алуйста>, 5–6 арш<ин> кавказского сукна [576], если будет кусок в 6 — лучше 6, во всяком случае не меньше пяти, шуба, в виду моего положения [577], должна быть cloche — широкая. Если кавказское сукно не двойной ширины, как наше, берите больше, посоветуйтесь с кем-ниб<удь> умудренным.
Цвет, Лиленька, лучше всего — коричневый, но скорее отдающий в красное, — не оливковый, не травянистый. Можно совсем темно-коричневый, строгий.
Следующий, если не будет коричневого, — темно-зеленый, за ним темно-лиловый, за ним темно-синий, за ним — черный, серый покупайте только в самом последнем случае, а оливко<во>го и защитного — ни в каком случае!
У меня две шубы, и обе не годятся: одна — поддевка, в талью, другая — леопард, а быть леопардом в таком положении — несколько причудливо, хотя Ася [578] и советует мне нашить себе на живот вырезанного из черного плюша леопардёныша.
Буду Вам очень благодарна, Лиленька, если скоро купите и вышлите, сейчас у меня шьет портниха, и мне хотелось бы кончить всю обмундировку сразу.
Деньги сейчас же вышлю, как узнаю цену, — не задержу.
Это сегодня — второе просительное письмо. Первое — дяде Мите [579], с просьбой дать Сереже рекомендательное письмо в Военно-Промышленный Комитет [580], — где он хочет устроиться приемщиком. Жалованье — 80—100 р<ублей>, время занятий, кажется, от 11-ти до 4-ех. — Деньги сейчас очень нужны! —
Пишу стихи, перевожу Comtesse de Noailles [581], мерзну, погода, как в ноябре.
— Ах, мне как-то оскорбительно, что есть где-то синее небо, и я не под ним!
Единственная моя уверенность — в моем праве решительно на всё, droit de seigneur {55}. Если жизнь это оспаривает — я не противлюсь, только глубоко изумлена, и рукой не пошевельну от брезгливости.
— Да.
Чувствую себя — физически — очень хорошо, совсем не тошнит и не устаю. С виду еще ничего не заметно.
Скоро ли Вы приедете?
Сережа вернулся, хотя не потолстевший, но с ежечасным голодом, и веселый. Пьет молоко и особенных зловредностей не ест. Сейчас Магда [582] пишет его портрет, сводя его с ума своей черепашьестью.
Аля растет и хорошеет, знает уже несколько букв. Замечательно слушает и пересказывает сказки. У нее хорошая, аккуратная, чистоплотная, бездарная няня-рижанка. Другая прислуга приветливая расторопная солдатка, милая своей полудеревенскостью. В доме приблизительный порядок. Пол-обеда готовится у соседей, на плите, мы кухню еще не топим.
— Вот Лиленька, дела хозяйственные.
А вот один из последних стихов:
И другу на руку легло Крылатки тонкое крыло. — Что я поистине крылата! — Ты понял, спутник по беде! Но, ах, не справиться тебе С моею нежностью проклятой! И, благодарный за тепло. Целуешь тонкое крыло. А ветер гасит огоньки И треплет пестрые платки, А ветер от твоей руки Отводит крылышко крылатки, И дышит: «душу не губи! Крылатых женщин не люби!» [583]Лиленька. у меня для Вас есть черная бархатная с бисером накидка Вашей бабушки [584], очень торжественная. Целую Вас.
МЭP.S. Если кавк<азское> сукно разного качества, берите погрубей, потолще.
Впервые — НИСП. стр. 227–229. Печ. по тексту первой публикации.
9-16. В.Я. Эфрон
<Начало октября 1916 г., Москва>
Милая Вера,
Если у Вас еще есть работа, пусть Анна Ивановна [585] еще побудет у Вас, — у меня сломался ключ от сундука, где все вещи для шитья, кроме того я жду от Лили кавк<азского> сукна на шубу. Когда А<нна> И<вановна> кончит у Вас, направьте ее ко мне, никому не передавайте, я ее займу дней на десять, не больше, — если Лена и Маня [586] могут подождать, так им и скажите.
Кроме того, дайте, пож<алуйста>, Марте [587] книжку для спирта.
Целую Вас.
МЭСережа просит передать Магде, что приедет после обеда, д<олжно> б<ыть> к трем [588]. К 12-ти он идет в Военно-Промыш<ленный > Ком<итет>.
Впервые — НИСП. стр. 230. Печ. по тексту первой публикации.
10-16. Е.А. и М.С. Фельдштейн
<Москва, октябрь 1916 года> [589]
Милые Эва и Миша,
Пишу к Вам по поручению Сережи. Он просит у Вас рекомендательное письмо к Петухову [590].
Сам он очень торопился в лечебницу. Если письмо уже существует, передайте его, пожалуйста, моей прислуге.
Всего лучшего.
МЭ.P.S. Мои интимные письма — слишком интимны, официальные — слишком официальны.
Извините меня за скуку этого и не сомневайтесь в моей искренней симпатии.
Впервые — De Visu. M. 1993. № 9. стр. 21 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 117. Печ. по НИСП. стр. 229–230.
11-16. С.Я. и A.C. Эфрон
<24 октября 1916 г., Москва>
Целую милую Лёву и Алю.
МЭВпервые — НИСП. С. 230. Печ. по тексту первой публикации.
Почтовая карточка, текст написан карандашом. Почтовый штемпель: Сев<ерный> (т.е. Ярославский) вокзал 24.X.1916.
Возможно, Цветаева ездила в Александров навестить А.И. Цветаеву.
1917
1-17. В.Я. Эфрон
Москва, 28-го января 1917 г.
Милая Вера.
Лиля завтра в 3 ч<аса> занята, а Аля как раз в это время спит, так что мы лучше отложим свидание на другой раз. От Сережи пока ни слова. Целую Вас.
МЭВпервые — НИСП. стр. 233. Печ. по тексту первой публикации.
2-17. В.Я. Эфрон
<Между 28 января и 7 февраля 1917 г., Москва>
Милая Вера,
Есть возможность написать и послать что-н<и>б<удь> Сереже через знакомых Марии Серг<еевны> [591], к<отор>ые уезжают в Нижний [592] сегодня вечером.
Если надумаете, посылайте пораньше — к М<арии> С<ергеевне>. Адр<ес> ее: Б<ольшой> Афанасьевский, д<ом> 27, кв<артира> Воскресенских. Эти самые Воскресенские-то и едут.
С<ережа> здоров, ему привили тиф, и он уже оправился. Как-ниб<удь> вечером зайду рассказать подробнее.
МЭВпервые — НИСП. стр. 233. Печ. по тексту первой публикации.
3-17. Б.C. Труxaчеву
Москва, 10-го февраля 1917 г., пятница
Милый Борис,
Все никак не выберусь к Вам: морозы и трамвайная давка. Но очень хочу Вас видеть, надеюсь, что Вы сейчас же, как сможете, придете.
С<ережа> пока еще в Нижнем [593]. Страшно устает от строя, режим суровый, но пока здоров. У него там несколько знакомых.
Адр<ес> его: Нижний Новгород, 1 учебный подготовительный батальон, 4 рота,3 взвод.
Рядовому такому-то.
Всего лучшего, будьте здоровы и приходите.
МЭ.Впервые — Поэт и время. стр. 76. Печ. по тексту СС-6. стр. 143.
4-17. Е.Я. Эфрон
<Не ранее 13 апреля 1917 г., Москва>
Милая Лиля,
С<ережа> пишет, что всё время всех сажает под арест [594], что на будущее в П<етрограде> смотрит безнадежно и что едет в П<етроград> повидаться с Асей [595] и Степуном [596]. Бориса [597] попросите ко мне приехать завтра в 4 ч<аса>, а Никодиму [598] позвоните 5-04-46 (Никодим Акимович) чтобы приезжал завтра в 1 ч<ас>, а то я не хочу, чтобы они встретились с Б<орисом>. Поцелуйте за меня Алю и скажите ей, что ее сестра всё время спит.
Впервые — СС-6 (публ. по копии из архива А. Саакянц). Печ. по НИСП. стр. 235–236.
Написано в Московском Воспитательном доме, в клинике которого 13 апреля 1917 г. у Цветаевой родилась ее вторая дочь Ирина.
5-17. A.C. Эфрон
Але. (Прочти сама.) [599]
Милая Аля,
Я очень по тебе соскучилась. Посылаю тебе картинку от мыла.
Твою сестру Ирину мне принес аист — знаешь, такая большая белая птица с красным клювом, на длинных ногах.
У Ирины темные глаза и темные волосы, она спит, ест, кричит и ничего не понимает.
Кричит она совсем как Алеша [600], — тебе понравится.
Я оставила для тебя няне бумагу для рисования, нарисуй мне себя, меня и Ирину и дай Лиле, она мне привезет. Веди себя хорошо, Алечка, не капризничай за едой, глотай, как следует.
Когда я приеду, я подарю тебе новую книгу.
Целую тебя, напиши мне с Лилей письмо.
Марина16-го апреля 1917 г.
Попроси Лилю, чтобы она иногда с тобой читала.
Впервые — Саакянц А. стр. 120–121. СС-6. стр. 143. Печ. по СС-6.
6-17. A.C. Эфрон
<Между 16 и 28 апреля 1917 г., Москва>
Милая Аля,
Вера мне передала то, что ты сказала, и мне стало жалко тебя и себя. Я тебя недавно видела во сне. Ты была гораздо больше, чем сейчас, коротко остриженная, в грязном платье и грязном фартуке. Но лицо было похоже. Ты вбежала в комнату и, увидев меня, остановилась. — «Аля! Разве ты меня не узнаешь?» спросила я, и мне стало страшно грустно. Тогда ты ко мне подошла, но была какая-то неласковая, непослушная.
И Ирину я видала во сне, точно она уже выросла, и у нее зеленые глаза, и когда на них смотришь, они делаются похожи на крылья бабочки.
Аля! Не забудь сказать Маше [601], что я прошу, чтобы она поскорее отдала в починку корыто и примус. А няне скажи, чтобы она без меня полосатого и голубого бархатного платья тебе не надевала. Ты, наверное, без меня гадко ешь и обливаешься молоком. А гулять в хорошую погоду ходи не на Собачью площадку, а на Новинский бульвар. Там больше места тебе играть и меньше пыли.
Мартыха! Не забывай по вечерам молиться за всех, кого ты любишь. Молись теперь и за Ирину. И за то, чтобы папа не попал на войну. Крепко тебя целую.
МаринаВпервые — Цветаева M. Поклонись Москве (M.: Моск. рабочий, 1989. стр. 351–352). СС-6. стр. 144. Печ. по НИСП. стр. 236–237.
7-17. A.C. Эфрон
Москва, 28-го апреля 1917 г.
Милая Аля,
Посылаю тебе конфеты. Пусть Лиля тебе дает по одной после обеда и ужина, если ты хорошо ела.
Помнишь ли ты меня еще? Я тебя очень часто вспоминаю. Здесь есть один ребенок, который кричит, как игрушечный баран. А твой баран, который тебе папа на Пасху подарил, еще кричит?
Я радуюсь за тебя, что такая хорошая погода.
Аленька, узнай у Маши взяла ли она из починки мои башмаки и отдала ли чинить калоши. Если нет, попроси, чтобы она это сделала. Напиши мне с Лилей или Верой письмо и пришли рисунки. Я по тебе соскучилась.
Недавно я видела Маврикия [602]. У Алеши два зуба и он начинает ходить один. А Андрюша болен, у него жар [603].
Крепко тебя целую, Мартышенька, будь здорова и веди себя хорошо. Приеду, подарю тебе новую книгу.
МаринаВпервые — Саакянц А. стр. 120–121. СС-6. стр 144. Печ. по НИСП. стр. 237.
8-17. Е.Я. Эфрон
29-го апреля 1917 г., Москва
Милая Лиленька,
У меня к Вам просьба: не могли бы Вы сейчас заплатить мне? Вы мне должны 95 р<ублей> — 70 р<ублей> за апрель (по первые числа мая), 24 р<убля> за март (70 р<ублей>—46 р<ублей>, которые Вам остался должен Сережа) и 1 р<убль> за февр<аль>. (Вы мне должны были — помните, мы считались? — 18 р<ублей>, но 2 раза давали по 10 р<ублей>, а я в свою очередь платила за молоко, так что в итоге Вы мне оставались должны за февраль 1 р<убль>. У меня каждая копейка записана, дома покажу.)
У меня сейчас большие траты: неправдоподобный налог в 80 р<ублей>; квартирная плата, жалованье прислугам, чаевые (около 35 р<ублей> здесь, — и м<ожет> б<ыть> еще 25 р<ублей> за 2 недели, если до 4-го не поправлюсь.
А занимать мне не у кого, я Никодиму д<о> с<их> п<ор> должна 100 р<ублей>.
— Сделаем так. Купите мне у Френкелей [604] пару башмаков — 29 номер (их 38 мне мал), а остальные деньги, если не трудно, пришлите с Верой. Смогу тогда начать платежи. Пришлите башмаки, все-таки надо померить.
Потом — Вера говорила о каком-то варшавск<ом> сапожнике. Возьмите у Маши [605] мои старые желтые башмаки (полуботинки), к<отор>ые я хотела продавать. Она знает. Пусть сапожник сделает из них полуботинки (а м<ожет> б<ыть> выйдут башмаки) для Али. На образец дайте Алины новые черные. А то я все равно не продам. За работу давайте, я думаю, не больше 5 р<ублей>.
— И еще поручение, Лиленька. Сдавайте офицер<скую> комнату [606] на всё лето — условие: ежемес<ячная> плата вперед (это всегда), и чтобы по телеф<ону> ему звонили не раньше 4 ч<асов> дня. А то опять прислуге летать по лестницам. И сдайте непрем<енно> мужчине. Женщина целый день будет в кухне и все равно наведет десяток мужчин.
Чувствую себя хорошо. Вчера д<окто>р меня выслушивал. В легких ничего нет, простой бронхит. Вижу интересные сны, записываю. Вообще массу записываю мыслей и всего: Ирина научила меня думать.
Очень привыкла к жизни здесь, буду скучать. Время идет изумительно быстро: 16 дней, как один день.
Множество всяких планов чисто внутренних (стихов, писем, прозы) — и полное безразличие, где и как жить. Мое — теперь — убеждение: Главное — это родиться, дальше всё устроится.
Ирина понемножечку хорошеет, месяца через 3 будет определенно хорошенькая. По краскам она будет эффектней Али, и вообще — почему-то думаю — более внешней, жизненной. Аля — это дитя моего духа. — Очень хороши — уже сейчас — глаза, необычайного блеска, очень темные (будут темно-зеленые или темно-серые), — очень большие. И хорош рот. Нос, думаю, будет мой: определенные ноздри и прямота Алиного, вроде как у Андрюши в этом возрасте. Мы с Асей знатоки.
Когда вернусь, массу Вам расскажу о женщинах. Я их теперь великолепно знаю. Сюда нужно было бы посылать учиться, молодых людей, — как в Англию.
Целую Вас.
Да! В понедельн<ик> Алю с Маврикием не отпускайте: я м<ожет> б<ыть> скоро вернусь (3-го) — и хочу непременно, чтобы Аля была дома. Кроме того, я не смогу без няни.
Значит, Лиленька, не забудьте насчет башмаков: № 29. И непрем<енно> на каблуке.
МЭ<На полях:> Сейчас тепло. Пусть Аля переходит в детск<ую>, а С<ережину> комн<ату> заприте.
Впервые — СС-6. стр. 92–94 (по копии из архива А. Саакянц). Печ. по НИСП. стр. 238–239.
9-17. A.C. Эфрон
Москва, двадцать девятого апреля,
тысяча девятьсот семнадцатого года, суббота
Милая Аля,
Может быть теперь я уже скоро вернусь. Я тебя не видала только шестнадцать дней, а мне кажется, что несколько месяцев.
У тебя, наверное, без меня подросли волосы и можно уже будет заплетать тебе косички сзади.
Я думала у Ирины темные волосы, а оказались такие же, как у тебя, только совсем короткие. А глаза гораздо темней твоих, мышиного цвета.
Мартышенька, почему ты мне не присылаешь рисунков? И почему так редко пишешь?
Боюсь, что ты меня совсем забыла.
Гуляй побольше, теперь такая хорошая погода. На бульвар можно брать с собой мячик, на Собачью площадку не бери и вообще там не гуляй.
Целую тебя. Будь умницей. Может быть скоро у видимся.
Марина
Впервые — Саакянц А. стр. 120–121. СС-6. стр. 145. Печ. по НИСП. стр. 239–240.
10-17. В.Я. Эфрон
Москва, 2-го мая 1917 г., вторник
Милая Вера,
Завтра еду домой. Т° сегодня — в первый раз за 2 недели — 36,9.
Пусть завтра в 4 ч<аса> дня заедет за мной Маша. Напомните ей привезти Алино розовое ватное одеяло и дайте ей сдачу с 28 р<ублей> (пусть разменяет помельче!) И если можно пришлите еще 25 р<ублей>.
Другая просьба: завтра же запишитесь для Ирины в Детское Питание, на 4 кормления в день. Скажите, что ребенку 3 недели. Молока у меня определенно не хватает. Вчера проверяла. Главный врач сразу посоветовал Детское Питание. (Буду чередовать себя с ним). — «Кормилицы Вы сейчас не достанете — и не ищите! А молоко в Д<етском> П<итании> стерилизов<анное>, отлично приспособл<енное> для каждого детского возраста. За успех такого прикармливания ручаюсь. Но придется Вам лето посидеть в Москве».
_____Так что, Вера, непременно завтра же запишитесь. Буду брать с 4-го числа. Спросите у Аси [607], как это делается, и можно ли брать молока на 4 кормления в день. (Кажется — на кажд<ый> раз бутылочка).
Целую Вас и Магду [608]. — Мне так совестно за свои вечные просьбы, но скоро я буду здорова и всё это кончится.
МЭВпервые — НИСП. стр. 240. Печ. по тексту первой публикации.
11-17. Е.О. Волошиной
<Рукой А. Эфрон.>
Милая Пра я тебя очень люблю. Ты хочешь меня увидеть? Пра, ты любишь Марину? Спасибо тебе за брошку. У меня есть сестра Ирина и есть Красная роза. Но мне жалко моря. Целую тебя и Макса. Письмо писала сама. Скоро напишу еще.
Аля.<Рукой МЦ:>
Письмо всецело Алино, кроме . Она хотела писать еще и так писала бы до бесконечности, но чудная погода, — идем гулять. Нежно Вас целую, завтра напишу.
МЭ.Москва, 13-го мая 1917 г.
Впервые — СС-6. стр. 81. Печ. по тексту первой публикации.
12-17. Е.Я. Эфрон
Милая Лиля,
Рабочие от Шора [609], неся вниз рояль, разбили почти все перила и сломали притолоку. Будьте добры, пришлите кого-нибудь починить, — перила почти целиком снесены, и ходить по лестнице опасно.
МЭМосква, 19-го. мая 1917 г., пятница
— Если Вы согласны произвести эту починку, ответьте мне пожалуйста через Машу.
Впервые — НИСП. стр. 241. Печ. по тексту первой публикации.
13-17. Е.О. Волошиной
<Конец мая 1917 г.>
Дорогая Пра, простите мне, что я так долго не писала.
Сейчас я с Асей, она в страшном горе, все сразу рухнуло. Были с ней вчера на кладбище и сегодня пойдем. Телеграмму мою в Харьков о смерти М<аврикия> А<лександровича> [610] она не получила и ехала в надежде застать его. Я ей все сказала на вокзале [611].
Целую Вас нежно, Аля в восторге от Вашего письма, уже наизусть его знает.
Спасибо за любовь.
МЭПеч. впервые по копии с оригинала, хранящегося в частном архиве. Датируется по содержанию.
14-17. Е.Я. Эфрон
Москва, 29-го июня 1917 г., четверг
Милая Лиля,
Сережа жив и здоров, я получила от него телегр<амму> и письмо [612]. Ранено свыше 30-ти юнкеров (двое сброшено с моста, — раскроенные головы, рваные раны, — били прикладами, ногами, камнями), трое при смерти, один из них — только что вернувшийся с каторги социалист. Причина: недовольство тем, что юнкера в с<оциал>-д<емократической> демонстр<ации> 18-го июня участия почти не принимали, — и тем, что они шли с лозунгами: «Честь России дороже жизни». — Точного дня приезда Сережи я не знаю, тогда Вас извещу.
Сейчас я одна с кормилицей и тремя детьми (третий — Валерий — 6 мес<яцев> — сын кормилицы.) Маша [613] — ушла. Кормилица очень мила, и мы справляемся.
О своем будущем ничего не знаю. Аля и Ирина здоровы, Ирина понемножку поправляется, хотя еще очень худа.
Пишу стихи, вижусь с Никодимом [614], Таней [615], Л<идией> Александровной [616], Бердяевым [617]. И — в общем — всё хорошо. Привет Эве [618].
МЭСпасибо за землянику Але, — не поблагодарила раньше, п<отому> ч<то> потеряла адрес.
Впервые — СС-6. стр. 94 (по копиям из архива А. Саакянц, с ошибкой в датировке). Печ. по НИСП. стр. 244.
Е.Я. Эфрон жила в имении Михайловское (станция Белые столбы) на даче у Фельдштейнов, давала уроки их старшей дочери.
15-17. Е.Я. Эфрон
Милая Лиля,
Последнее, что я знаю о Сереже, это то, что вчера (4-го) должен был быть его выпуск. С тех пор я писем не получала. Он писал 25-го.
Коротенькая записочка и вырезка из газеты о нападении большевиков на петергофцев, — я тогда Вам писала.
Я вчера вечером была на Тверской. Огромная толпа стройным свистом разгоняла большевиков. Среди солдат раздавались возгласы: «Подкуплены! Николая II хотят!» — «Товарищи, кричите погромче: „Долой большевиков!“»
Мчались колючие от винтовок автомобили. Настроение было грозное. Вдруг кто-то крикнул, толпа — обезумев — побежала, — иступленные лица, крики — ломились в магазины — Ходынка.
Я что есть силы бросилась на совершенно опустевшую мостовую, — ни одного человека — ждали выстрелов.
Одно только чувство: ужас быть раздавленной. Всё это длилось минуту-две. Оказалось, — ложная тревога. Мы были с Лидией Александровной.
По переулкам между Тверской и Никитской непрерывно мчались вооруженные автомобили большевиков. Первый выстрел решил бы всё.
Мы с Л<идией> А<лександровной> пробыли там часов до одиннадцати, — не стреляли.
Я в безумном беспокойстве за Сережу. Как только получу от него телегр<амму>, мгновенно телеграфирую Вам.
Москва — какой я ее вчера видела — была прекрасной. А политика, может быть, — страстнее само́й страсти.
МЭМосква, 5 июля 1917 г., среда.
— Сегодня целый день — гром. В городе тихо.
Впервые — НИСП. стр. 244–245. Печ. по тексту первой публикации.
17. М.А. Волошину
Москва, 7-го августа 1917 г.
Дорогой Макс,
У меня к тебе огромная просьба: устрой Сережу в артиллерию, на юг. (Через генерала Маркса? [619])
Лучше всего в крепостную артиллерию, если это невозможно — в тяжелую. (Сначала говори о крепостной. Лучше всего бы — в Севастополь.)
Сейчас Сережа в Москве, в 56 пехотном запасном полку.
Лицо, к которому ты обратишься, само укажет тебе на форму перехода.
Только, Макс, умоляю тебя — не откладывай. — Пишу с согласия Сережи — Жду ответа. Целую тебя и Пра.
МЭ(Поварская, Борисоглебский пер<еулок>
д<ом> 6, кв<артира> 3)
Впервые — ЕРО. стр. 177–178 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 59–60. Печ. по НИСП. стр. 246.
17-17. М.А. Волошину
Москва, 9-го августа 1917 г., среда
Милый Макс,
Оказывается — надо сделать поправку. Сережа говорит, что в крепостной артиллерии слишком безопасно, что он хочет в тяжелую {56}.
Если ты еще ничего не предпринимал, говори — в тяжелую, если дело уже сделано и неловко менять — оставь так, как есть. Значит, судьба.
Сереже очень хочется в Феодосию, он говорит, что там есть тяжелая артиллерия.
Милый Макс, если можно — не откладывай, я в постоянном страхе за Сережину судьбу. — И во всяком случае тяжелая артиллерия где бы то ни было лучше пехоты {57}.
Скажи Пра, что я только что получила ее письмо, что завтра же ей отвечу, поблагодари ее.
Сегодня у меня очень занятой день, всё мелочи жизни. В Москве безумно трудно жить, как я бы хотела перебраться в Феодосию! — Устрой, Макс, Сережу, прошу тебя, как могу.
Целую тебя и Пра.
Недавно Сережа познакомился с Маргаритой Васильевной [620], а я — с Эренбургом. Вспомнила твой рассказ об épilatoire {58} — и потому — не доверяла. У нас с ним сразу был скандал, у него отвратительный тон сибиллы. Потом это уладилось [621].
Сереже Маргарита Васильевна очень понравилась, мне увидеться с ней пока не довелось.
МЭ— Макс! Ты может быть думаешь, что я дура, сама не знаю, чего хочу, — я просто не знала разницы, теперь я уже ничего менять не буду. Но если дело начато — оставь, как есть. Полагаюсь на судьбу.
Сережа сам бы тебе написал, но он с утра до вечера на Ходынке, учит солдат, или дежурит в Кремле. Так устает, что даже говорить не может.
_____<Рукой С. Эфрона>
Милый Макс, ужасно хочу, если не Коктебель, то хоть в окрестности Феодосии. Прошу об артиллерии (легкая ли, тяжелая ли — безразлично), потому что пехота не по моим силам. Уже сейчас — сравнительно в хороших условиях — от одного обучения солдат — устаю до тошноты и головокружения. По моим сведениям — в окрестностях Феодосии артиллерия должна быть. А если в окрестностях Феодосии нельзя, то куда-нибудь в Крым — ближе к Муратову или Богаевскому [622].
— Жизнь у меня сейчас странная — и не без некоторой приятности: никаких мыслей, никаких чувств, кроме чувства усталости — опростился и оздоровился. Целыми днями обучаю солдат — «маршам, военным артикулам» и пр. В данную минуту тоже тороплюсь на Ходынку.
Буду ждать твоего ответа, чтобы в случае неудачи предпринять что-либо иное. Но все иное менее желательно —
— Хочу в Феодосию! {59} [623]
Целую тебя и Пра.
СережаПра напишу отдельно.
Впервые — СС-6. стр. 60–61. Печ. по НИСП. стр. 246–248.
К письму приложен отдельный листок, на котором рукой Цветаевой написано: «Москва 56 запасной пехотный полк 10 рота. Прапорщик Сергей Яковлевич Эфрон».
18-17. М.А. Волошину
Москва, 24-го августа 1917 г.
Дорогой Макс,
Я еду с детьми в Феодосию. В Москве голод и — скоро — холод, все уговаривают ехать. Значит, скоро увидимся.
Милый Макс, спасибо за письмо и стихи. У меня как раз был Бальмонт, вместе читали [624].
Макс, необходимо употребить твой последний ход [625], п<отому> ч<то> в Москве переход из одной части в другую — воспрещен. Но с твоим ходом это вполне возможно. Причина: здоровье. Сережа блестящее подтверждение.
Макс, поцелуй за меня Пра, скоро увидимся. Пишу Асе, чтоб искала мне квартиру [626]. Недели через 2 буду в Феодосии.
МЭВпервые — ЕРО. стр. 178–179 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 61. Печ. по НИСП. стр. 248.
19-17. М.А. Волошину
Москва, 25-го августа 1917 г.
Дорогой Макс,
Убеди Сережу взять отпуск и поехать в Коктебель. Он этим бредит, но сейчас у него какое-то расслабление воли, никак не может решиться. Чувствует он себя отвратительно, в Москве сыро, промозгло, голодно. Отпуск ему конечно дадут. Напиши ему, Максинька! Тогда и я поеду, — в Феодосию, с детьми. А то я боюсь оставлять его здесь в таком сомнительном состоянии. Я страшно устала, дошла до того, что пишу открытки. Просыпаюсь с душевной тошнотой, день, как гора. Целую тебя и Пра. Напиши Сереже, а то — боюсь — поезда встанут.
МЭВпервые — ЕРО. стр. 179 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 62. Печ. по НИСП. стр. 248–249.
20-17. В.Я. Эфрон
13-го сентября 1917 г.
Милая Вера,
Я сейчас так извелась, что — или уеду на месяц в Феодосию (гостить к Асе [627]) с Алей, или уеду совсем. Весь дом поднять трудно, не знаю как быть.
Если вы или Лиля согласитесь последить за Ириной в то время, как меня не будет, тронусь скоро. Я больше так жить не могу, кончится плохо.
Спасибо за предложение кормить Алю. Если я уеду, этот вопрос пока отпадает, если не удастся, — это меня вполне устраивает. Сейчас мы все идем обедать к Лиле. Я — нелегкий человек, и мое главное горе — брать что бы то ни было от кого бы то ни было.
Целую Вас и Асю [628].
МЭЕсли будете посылать в Офицерское [629] — купите и для нас. Мы сейчас без прислуги. Что купить Вы уже сами сообразите. (Съедобное.)
<На полях:>
Алю пришлю завтра в 6 часов.
Впервые — Саакянц А. стр. 40–41, с небольшими сокращениями. СС-6. стр. 102–103. Печ. полностью по НИСП. стр. 249.
21-17. H.A. Плуцер-Сарна
<Конец сентября 1917 г.>
Никодим,
Сижу на вокзале и совершенно не знаю, что Вам скажу. Проходя мимо Иверской, я перекрестилась. Меня сейчас нет, есть Вы и Ваше отношение к тому, что я сейчас скажу. <Не окончено>
Впервые — НЗК-1. стр. 243. На полях «Записи моей дочери». Печ. по тексту первой публикации.
22-17. С.Я. Эфрону
Феодосия, 19-го октября 1917 г.
Дорогой Сереженька,
Вы совсем мне не пишете. Вчера я так ждала почтальона — и ничего, — только письмо Асе от Камковой [630]. Ася всё еще в имении. Она выходила сына Зелинского [631] от аппендицита, он лежал у нее три недели, и теперь родители на нее Богу молятся. Я не поехала, — сначала хотели ехать все вместе, но я не люблю гостить, старики на меня действуют угнетающе, я чувствую себя виноватой во всех своих кольцах и браслетах. Сторожу Андрюшу. Я к нему совершенно равнодушна, как он ко мне и — вообще — ко всем. Роль матери при нем сводится к роли слуги, ни малейшего ответного чувства — камень.
Лунные ночи продолжаются. Каждый вечер ко мне приходит докторша, иногда Н.И. Хрустачёв [632]. Он совсем измучен семьей, озлоблен. Приходит, ложится на ковер, курит. Мы почти не говорим, и приходит он, думается, просто чтобы не видеть своей квартиры. Иногда говорю ему стихи, он любит, понимает. И жена его измотана, работает на него и на девочку, как раб, сама моет полы, стирает, готовит. Безнадежное зрелище. Оба правы — верней — никто не виноват. И ни тени любви, одно озлобление.
Я живу очень тихо, помогаю Наде [633], сижу в палисаднике, над обрывом, курю, думаю. Здесь очень ветрено, у Аси ужасная квартира, сплошной сквозняк. Она ищет себе другую.
Все дни выпускают вино. Город насквозь пропах. Цены на дома растут так: великолепный каменный дом со всем инвентарем и большим садом — 3 месяца тому назад — 40.000 р<ублей>, теперь — 135.000 р<ублей> без мебели. Одни богатеют, другие баснословно разоряются (вино).
У одного старика выпустили единственную бочку, к<отор>ую берег уже 30 лет и хотел доберечь до совершеннолетия внука. Он плакал. Расскажите Борису [634], это прекрасная для вас обоих тема.
Сереженька, я ничего не знаю о доме: привили ли Ирине оспу, как с отоплением, как Люба [635], — ничего. Надеюсь, что все хорошо, но хотелось бы знать достоверно.
Я писала домой уж раз семь.
Сейчас иду на базар с Надей и Андрюшей. Жаркий день, почти лето. Устраивайте себе отпуск. Как я вернусь — Вы поедете. Пробуду здесь не дольше 5-го, могу вернуться и раньше, если понадобится.
До свидания, мой дорогой Лев. Как Ваша служба? Целую Вас и детей.
МЭP.S. Крупы здесь совсем нет, привезу что даст Ася. Везти ли с собой хлеб? Муки тоже нет, вообще — не лучше, чем в Москве. Цены гораздо выше. Только очередей таких нет.
С кем видитесь в Москве? Повидайтесь с Малиновским [636] (3-66-64) и спросите о моей брошке.
Впервые — СС-6. стр. 133–134 (по копиям из архива А. Саакянц). Печ. по НИСП. стр. 252–252.
23-17. С.Я. Эфрону
Феодосия, 22-го октября 1917 г.
Дорогой Сереженька!
Вчера к нам зашел П<етр> Н<иколаевич> [637] — вести нас в здешнее литературное общество «Хлам» [638]. Коля Беляев [639] был оставлен у двери, как нелитератор.
Большая зала, вроде Эстетики. Посредине стол, ярко освещенный. Кипы счетоводных (отчетных) книг. Вокруг стола: старуха Шиль (лекторша) [640], черный средних лет господин, Галя Полуэктова [641] и еще какое-то существо вроде Хромоножки [642], — и П<етр> Н<иколаевич> с нами двумя.
— А у нас недавно был большевик! — вот первая фраза. Исходила она из уст «средних лет». — «Да, да, прочел нам целую лекцию. Обыватель — дурак, поэт — пророк, и только один пророк, — сам большевик».
— Кто ж это был?
— Поэт Мандельштам.
Всё во мне взыграло.
— Мандельштам прекрасный поэт.
— Первая обязанность поэта — быть скромным. Сам Гоголь…
Ася: — Но Гоголь сошел с ума!
— Кто знает конец г<осподи>на М<андельшта>ма? Я напр<имер> говорю ему: стихи создаются из трех элементов: мысли, краски, музыки. А он мне в ответ: — «Лучше играйте тогда на рояле!» — «А из чего по Вашему создаются стихи?» — «Элемент стиха — слово. Сначала бе слово…» Ну, вижу, тут разговор бесполезен…
Я: — Совершенно.
Шиль: — Значит одни слова — безо всякой мысли?
П<етр> Н<иколаевич>: — Это, г<оспо>да, современная поэзия!
— И пошло́! Началось издевательство над его манерой чтения, все клянутся, что ни слова не понимают. — Это кривляние! — Это обезьяна! — Поэт не смеет петь! —
Потом водопад стихов: П<етр> Н<иколаевич>, Галя Полуэктова, Хромоножка. Хромоножка, кстати, оказалась 12-тилетней девочкой — Фусей.
«— Наболевшее сердце грустит».
Реплики свои по поводу М<андельшта>ма я опускаю, можете себе их представить. Мы просидели не более получаса.
Я бы к названию «Хлам» прибавила еще: «Хам». — «Хлам и Хам», можно варьировать. И звучит по-английски.
В этом «Хламе» участвовал Вячеслав (?) Шешмаркевич. Он был здесь летом, читал лекцию о Пушкине, обворожил всех. Он теперь прапорщик и острижен. (Не Вячеслав, — Всеволод!) Рассказывал всем, что старше своего брата Бориса на 3 месяца. Все верили. — Это нечто вроде непорочного зачатия, чудеса у себя дома.
— Сереженька! Везде «Бесы»! [643] Дорого бы я дала, чтобы украсть для Вас одну счетоводную книгу «Хлама»! Стихи по сто строк, восхитительные канцелярские почерка. Мелькают имена Сарандинаки, Лампси, Полуэктовой. Но больше всех пишет Фуся.
Галя П<олуэкто>ва через год, два, станет полным повторением своей матери. Сейчас она шимпанзе, скоро будет гориллой. А как хороша она была 4 года назад!
Сереженька, здесь есть одна 12-летняя девочка, дочь начальника порта Новицкого [644], которая заочно в Вас влюбилась. Коля Беляев подарил ей Вашу карточку. — Приятно?
Девочка хорошенькая и умная — по словам Коли.
Пока целую Вас. Получила всего 3 письма. Привезу Вам баранок и Ирине белых сухарей (продаются по рецепту в аптеке).
МЭ— Латри [645] расходятся.
Впервые — НИСП. стр. 252–253. Печ. по тексту первой публикации.
24-17. А.С. Эфрон
Феодосия, 23-го октября 1917 г.
Милая Аля!
Спасибо за письмо. Надеюсь, что ты себя теперь хорошо ведешь. Я купила тебе несколько подарков.
Недавно мы с Надей и Андрюшей ходили в степь. Там росли колючие кустарники, совсем сухие, со звездочками на концах. Я захотела их поджечь, сначала они не загорались, ветер задувал огонь. Но потом посчастливилось, куст затрещал, звездочки горели, как елка. Мы сложили огромный костер, каждую минуту подбрасывали еще и еще. Огонь вырывался совсем красный. Когда последняя ветка сгорела, мы стали утаптывать землю. Она долго дымилась, из-под башмака летели искры.
От костра остался огромный черный дымящийся круг.
Все меня здесь про тебя, Аля, расспрашивают, какая ты, очень ли выросла, хорошо ли себя ведешь. Я отвечаю: «При мне вела себя хорошо, как без меня — не знаю».
Аля, не забудь, расскажи папе, что Эссенция [646] умерла. Последнее время у нее закрылись оба глаза, один — совсем, от другого осталась щелочка. Когда он смотрел, он приподнимал рукою веко — и так ходил, один, по улицам, под черным зонтом.
Умер он ночью, совсем один, даже без прислуги.
Расскажи всё это папе.
Дембовецкий (поэт) женился на совсем молоденькой женщине, своей ученице, и выпустил вторую книгу стихов [647]. Постараюсь ее папе привезти. И для папы у меня есть чудный подарок, съедобный, — скажи ему.
Я скоро вернусь, соскучилась по дому.
Поцелуй за меня папу, Ирину и Веру. Кланяйся Любе [648].
Очень интересно будет посмотреть на Вериного американца [649].
МаринаВпервые — НИСП. стр. 254. Печ. по тексту первой публикации.
25-17. С.Я. Эфрону
Феодосия, 25-го октября 1917 г.
Дорогой Сереженька,
Третьего дня мы с Асей были на вокзале. Шагах в десяти — господин в широчайшем желтом платье, в высочайшей шляпе. Что-то огромное, тяжелое, вроде оранг-утанга.
Я, Асе: «Quelle heurreur!» — «Oui, j'ai déjà remarqué!» {60} — И вдруг — груда шатается, сдвигается и — «М<арина> И<вановна>! Вы меня узнаете?»
— Эренбург!
Я ледяным голосом пригласила его зайти. Он приехал к Максу, на три дня [650].
Вчера приехала из К<окте>беля Наташа Вержховецкая [651]. Она меня любит, я ей верю. Вот что она рассказывала:
— «М<арина> Цветаева? Сплошная безвкусица! И внешность и стихи. Ее монархизм — выходка девочки, оригинальничание. Ей всегда хочется быть другой, чем все. Дочь свою она приучила сочинять стихи и говорить всем, что она каждого любит больше всех. И не дает ей есть, чтобы у нее была тонкая талья». Затем рассказ Толстого (или Туси?) [652] о каком-то какао с желтками, которое я якобы приказала Але выплюнуть, — ради тонкой тальи. Говорил он высокомерно и раздраженно. Макс слегка защищал: — «Я не нахожу, что ее стихи безвкусны». Пра неодобрительно молчала.
О Керенском [653] он говорит теперь уже несколько иначе. К<ерен>ский морфинист, человек ненадежный. А помните тот спор?
Сереженька, как низки люди! Ну не Бог ли я, не Бог ли Вы рядом с таким Эренбургом? Чтобы мужчина 30-ти лет пересказывал какие-то сплетни о какао с желтками. Как не стыдно? И — главное — ведь это несуразно, он наверное сам не верит.
И как непонятны мне Макс и Пра и сама Наташа! Я бы ему глаза выдрала!
— Ах, Сереженька! Я самый беззащитный человек, которого я знаю. Я к каждому с улицы подхожу вся. И вот улица мстит. А иначе я не умею, иначе мне надо уходить из комнаты.
Все лицемерят, я одна не могу.
От этого рассказа отвратительный осадок, точно после червя.
Сереженька, я вправе буду не принимать его в Москве?
_____Вчера мы были у Александры Михайловны [654]. Она совсем старушка, вся ссохлась, сморщилась, одни кости. Легкое, милое привидение.
Ярая монархистка и — что больше — правильная. Она очень ослабла, еле ходит, — после операции или вообще — неизвестно [655]. Что-то с кишечником и безумные головные боли. На лице живы только одни глаза. Но горячность прежняя, и голос молодой, взволнованный, волнующий [656].
Живет она внизу, в большом доме. Племянники ее выросли, прекрасно воспитаны [657]. Я говорила ей стихи. — «Ваши Генералы 12 года — пророчество! Недаром я их так любила» [658], — сказала она. У этой женщины большое чутье, большая душа. О Вас она говорила с любовью.
Сереженька, думаю выехать 1-го [659]. Перед отъездом съезжу или схожу в Коктебель. Очень хочется повидать Пра. А к Максу я равнодушна. Дружба такая же редкость, как любовь, а знакомых мне не надо.
Читаю сейчас (Сад Эпикура) А. Франса. Умнейшая и обаятельнейшая книга. Мысли, наблюдения, кусочки жизни [660]. Мудро, добро, насмешливо, грустно, — как надо.
Непременно подарю Вам ее.
Я рада дому, немножко устала жить на юру. Но и поездке рада. Привезу что могу. На вино нельзя надеяться, трудно достать и очень проверяют.
Когда купим билеты, дадим телеграмму. А пока буду писать. Целую Вас нежно. Несколько новостей пусть Вам расскажет Аля.
МЭВпервые — СС-6. стр. 135–136 (по копии из архива А. Саакянц). Печ. по НИСП. стр. 254–256.
26-17. С.Я. Эфрону
<2-(4?) ноября 1917 г> [661]
Сереженька!
Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться, — слушайте: Вчера, подъезжая к Х<арькову>, прочла «Южный край» [662]. 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, п<отому> ч<то> она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре.
Сереженька! Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю, что́ Вы сейчас, сию эту секунду.
_____Подъезжаем к Орлу. Сереженька, я боюсь писать Вам, как мне хочется, п<отому> ч<то> расплачусь. Всё это — страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я пишу, Вы есть, — раз я Вам пишу. А потом — ах! — 56 запасный полк [663]. Кремль. И я иду в коридор к солдатам и спрашиваю, скоро ли Орел.
Сереженька, если Бог сделает это чудо — оставит Вас живым — отдаю Вам всё: Ирину, Алю и себя — до конца моих дней и на все века.
И буду ходить за Вами, как собака.
Сереженька! Известия неопределенны, не знаю чему верить. Читаю о Кремле, Тверской, Арбате, Метрополе, Вознес<енской> площади, о горах трупов. В с.р. <эсеровской> газете «Курская Жизнь» от сегодняшнего дня (4-го) — что началось разоружение. Другие газеты (3-го) пишут о бое.
Где Вы сейчас? Что с Ириной, Алей? Я сейчас не даю себе воли писать, но я 1000 раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город?
— Скоро Орел. Сейчас около 2х часов дня. В Москве будем в 2 ч<аса> ночи. А если я войду в квартиру — и никого нет, ни души? Где мне искать Вас? М<ожет> б<ыть> и дома уже нет?
У меня всё время чувство: это страшный сон. Я всё жду, что вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. Что это мне снится, что я проснусь.
Горло сжато, точно пальцами. Всё время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька
Я написала Ваше имя и не могу писать дальше.
Впервые — в дневниковых записях «Октябрь в вагоне» (Воля России. Прага. 1927. № 11/12. стр. 3–4). СС-4. стр. 418–419. В СС-6. стр. 136–137 напечатано по этой публикации. В НЗК-1 (стр. 179–180) — с разночтениями. Печ. по Н3K-1.
26а-17. С.Я. Эфрону
ПИСЬМО В ТЕТРАДКУ <2 ноября 1917 г.>Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться, — слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный край». 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас — но тут следуют слова, которых я не могу написать.
Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы — есть, раз я Вам пишу! А потом — ах! — 56 запасной полк, Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота?) [664]. А главное, главное, главное — Вы, Вы сам. Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!
Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака.
Известия неопределенны, не знаю чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, Метрополь, Вознесенскую площадь, про горы трупов. В с<оциал>-р<еволюционной> газете «Курская Жизнь» от вчерашнего дня (1-го) — что началось разоружение. Другие (сегодняшние) пишут о бое. Я сейчас не даю себе воли писать, но тысячу раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город?
Скоро Орел. Сейчас около 2 часов дня. В Москве будем в 2 часа ночи. А если я войду в дом — и никого нет, ни души? Где мне искать Вас? Может быть, и дома уже нет? У меня все время чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. Что это мне снится, что я проснусь.
Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.
Я написала Ваше имя и не могу писать дальше.
Вариант письма 26–17. Печ. по тексту СС-6. стр. 136–137.
27-17. В.Я. Эфрон
Коктебель, 16-го {61} ноября 1917 г.
Дорогая Вера!
Если есть возможность выехать из Москвы выезжайте с Алей, Ириной и Любой [665] в Коктебель. Пра предлагает Вам бесплатно комнату и стол.
Все ключи у Вас (у Жуковских). Узнайте на вокзале, доходит ли багаж. Тогда соберите часть вещей менее ценных в большую корзину. У нас их две: внизу и рядом с С<ережи>ной комнатой. Выберете ту, что покрепче и перевяжите веревкой. Если багаж не доходит — зашейте вещи в несколько тюков. Возьмите на это старые простыни и серое байковое (Сережино) одеяло. Можно в пикейное.
Теперь дела:
Мои денежные расписки находятся: или в одном из правых ящиков моего письменного стола (скорей всего в среднем), в большом портфеле, обтянутом черной материей с цветочками. — или в маленьком шкафчике, угловом, за стеклом, в бисерном голубом портфельчике. Посмотрите сначала в шкафчике, а то письменный стол заперт, и средний правый ящик придется взломать. (Лучше отпереть, замок очень прост.) Бумаги (2) (расписку и удостоверение) везите с собой.
Сереже везите: кожаную куртку, гетры, (у Жуковских), макинтош (в гардеробе), военную фуражку (у Бориса) [666], фрэнч и синие брюки (в одном из нижних сундуков), всё военное, оставленное у Миши [667], кожу на сапоги и подметки (в гардеробе), его документы (аттест<ат> зрелости и пр. — в солдатском сундучке). В офиц<ерских> брюках, к<отор>ые у Миши, ключ от входной двери и — кажется — ключ от солд<атского> сундука. Сундук отперт. Бумаги в конверте.
Мне везите: зеленое летнее и коричневое летнее пальто (оба в гардеробе), две черных юбки (в гардеробе), белье — что найдется, несколько блузок (разбирая сундуки), все воротнички, находящиеся в одной из китайских шкатулок (в гардеробе, Алины и мои). Алину голубую брошку.
В левом сундуке (горбатом) — совсем новое детское розовое ватное одеяло. Возьмите и его (если влезет) и Алино. Берите с собой простыни, взрослые и детские (у нас с собой только две). В сундуках много Алиных зимних платьев.
Желтую шкатулку карельской березы возле моей шарманки, в углублении или гардеробе и все мои драгоценности (в 3 черных шкатулках Пра, в углов<ом> шкафчике) и большой (под письм<енным> столом) ящик с фотографиями передайте на сохранение или Никодиму [668] (Б<ольшой> Николо-Песковский, д<ом> 4, кв<артира> 5) или Мише.
Сережину доху (в больш<ом> сундуке, на дне) и серебряное блюдо (в больш<ом> несгораемом — незаперт<ом>, на нем граммофон) — заложите. Квитанции передайте или Никодиму (или Тане [669]) или Мише, а то вещи пропадут.
Везите Але желтенькую лохматую шубку, вязаное пальто, побольше платьев. В гардеробе справа наверху есть пакет с мелочами для Ирины, там же две пары красных чувяк (ее же). Везите всю Алину обувь (в гардеробе слева). В большом сундуке возьмите несколько скатертей, я сделаю себе из них белье, у меня ничего нет. Там же неск<олько> несшитых материй: красная, голубая, белая, крэм. Возьмите из большого сундука мою шубу из кавказского сукна и поезжайте в ней. Она Вам здесь пригодится. Люба пусть возьмет голубое ватное одеяло, к<отор>ым покрывается. Оно ей необходимо.
Не забудьте Иринину клеенку!!! И, разбирая сундуки, возьмите для нее какие-ниб<удь> вязаные шарфы. Их много.
Алю везите в голубой шубке. Ирину — в белой и в заячьей и в трех одеялах (двух байковых и Алином розовом ватном).
Необходимо взять с собой рис и манную. Здесь нет.
Необходимо взять с собой примус и термос (или в гардеробе или в съестном шкафу), несколько кастрюль, чайник и голубую кружку, красный медный кофейник, голубой эмалированный молочник.
Моя (для сердца) просьба Вам: из углового шкафчика, где вещи маленькую красную записную книжку об Але, и из среднего ящика письм<енного> стола (где голубой замок, есть ключ) — черную средней толщины клеенчатую тетрадку со стихами, и зеленую кожаную, почти неисписанную. А не нейдете — Бог с ней!
Вера! Шкафчик на замке, (голубой, есть ключ, тот же, что от письм<енного> стола) и еще заперт простым ключом. Пусть слесарь откроет. Простой ключ здесь, у меня. А потом Вы повесите замок.
Найдите в зеленом несгор<аемом> шкафу у жильца паспорт деда и привезите. С<ережа> им дорожит.
Гардероб заприте, как есть, сундуки (все) и корзины составьте в мою комнату, туда же вещи — кроме мебели! из С<ережи>ной комнаты и детской.
Квартиру сдайте на полгода, если возможно, а то — до осени. Если нижняя комната сдана под домовой комитет — сдайте детскую, темную и столовую. С Сережиной — как знаете. Можно сдать — на время — кому-ниб<удь> знакомому, но с тем, чтобы можно было неожиданно в нее въехать.
Главное: привезти банковские 2 бумаги, заложить доху и серебр<яное> блюдо, взять у Дырвянского [670] за 3 мес<яца> вперед, возможно больше денег в Банке, взять у квартирантов (когда сдадите кв<артиру>) также за 3 мес<яца> вперед — так и уславливаться. Цена за 3 комн<аты> — от 300 р<ублей> до 400 р<ублей>, за 4 (если дом<овой> ком<итет> не взял) — 400 р<ублей>. Деньги везите на себе, — авось доедете? Предложите снять Слязскому [671], у него много родственников, раньше предлож<ите> Никодиму, м<ожет> б<ыть> нужно кому-ниб<удь> из его знакомых.
Пра и Макс Вас очень ждут. А если Вы не уживетесь здесь — дорога моя.
Здесь трудно, но возможно. Но сегодня второй день нет газет, и я чувствую, что не выживу здесь без детей, в вечном беспокойстве. Любу соблазняйте морем, хлебом, теплом, спокойствием.
Да! Необходимо взять в вагон чайник, кружку и детский предмет, а то пропадете! Не забудьте губку, клизму, частый гребень.
Если ехать невозможно — что делать! Если есть малейшая возможность — поезжайте. А то мы расстаемся с детьми — Бог весть насколько!
М<ожет> б<ыть> дороги уже встали, м<ожет> б<ыть> письмо мое напрасно — что делать! Я сделала всё, что могла, я так просила тогда С<ережу> взять Алю.
Чтобы уменьшить тюк, пусть Люба наденет поверх своего платья мое коричневое летнее пальто (висит в гардеробе, длинное, масса пуговиц), а сверху своего пальто — еще мое зеленое с тремя пелеринками. Если можно, возьмите и Алино осеннее, с серебр<яными> пуговицами, и летнее желтенькое. Здесь ничего нельзя купить. Берегитесь доро́гой воров!!!
Ну, поручаю всё это на Божью волю! Если ехать страшно — не поезжайте, если трудно — все-таки поезжайте. Здесь проживем.
Если выехать не удастся — устройте это с моими банковск<ими> бумагами и драгоценностями и передайте Никодиму или Тане. Особенно-бумаги. Если не поедете, сдайте детскую!
Целуйте детей. У нас всё хорошо. Погода теплая, гуляем без пальто, но по ночам холодно. Пра и Макс очень зовут Вас.
МЭP.S. Ключи я Вам дала, они с Вашими ключами у Жуковских. 3 связки.
Ради Бога! Пусть не сломают мою синюю люстру!
Ключ от моей комнаты передайте в надежные руки (Лиле? Никодиму? Мише?)
Коричневую куртку, я думаю, Вы можете надеть на себя? Мы ехали совсем не страшно. Велите носильщику занять хоть одно верх<нее> место.
_____Попросите Таню помочь с укладкой, она непременно поможет, и очень. Возьмите у нее С<ереж>ин коричневый портсигар на ремне, наденьте его на дорогу. Пусть Таня — если хочет — возьмет к себе грамм<офон> и пластинки. Пусть проводит Вас на вок<зал>.
<На полях:>
Ответьте тел<еграммой> на имя Макса.
NB! Несш<итые> материи (4) везите непременно, лучше уж скатертей не надо. Белой — арш<ин> 15, другие — отрезы: голубая, красная, крэм.
Дайте Никодиму на хранение (если он твердо ост<ается> в М<оскве>) мал<енький> сундучок с фотогр<афическими> принадлеж<ностями>. Он у меня в комнате, зеленый.
Пусть Таня уговаривает Любу, если та заартачится. Она молодец — сумеет! И пусть вообще Вам помогает, скажите, что я очень прошу ее. Она с удовольст<вием> всё сделает!
_____Непременно!
Сдайте, на всякий случай, в багаж одно корыто, похуже. Берите с собой побольше денег, часть зашейте на Любу. Спишите № или №№ ломбард<ных> квит<анций>.
_____Ох! —
МЭВпервые — НИСП. стр. 256–260. Печ. по тексту первой публикации. Послано заказным письмом из Феодосии, почтовый штемпель: 17.XI.17. См. также письмо 25–17 и коммент. 10 к нему.
27а-17. В.Я. Эфрон
Коктебель, <16> ноября 1917 г.
Дорогая Вера!
Если есть возможность выехать из Москвы — выезжайте с Алей, Ириной и Любой в К<октебель>. Пра предлагает Вам бесплатно комнату и стол.
Все ключи у Вас (у Ж<уков>ских). Узнайте на вокзале, доходит ли багаж. Тогда соберите часть вещей — менее ценных — в большую корзину. У нас их две: внизу — и рядом с комн<атой> С<ережи>. Выберете ту, что покрепче и перевяжите веревкой. Если багаж не доходит — зашейте вещи в несколько тюков простынь (старых) или С<ережи>но серое байковое одеяло. Можно в пикейное. Можно в голубое ватное (старое) к<отор>ым покрывается Люба. Его необходимо взять.
Теперь дела:
Мои денеж<ные> расписки (из Государственного> Банка: расписка и удостоверение) находятся: или в одном из правых ящик<ов> моего письм<енного> стола (скорей всего — в среднем), в большом портфеле, черном с цветочками, — или в угловом шкафе, за стеклом, в маленьком бисерном голубом портфельчике. От среднего ящика у Вас нет ключа, угловой шкафчик закрыт сначала на замок (есть ключ), потом на ключ (у Вас его также нет). Пусть слесарь откроет, не взломает, ключи очень просты.
Банк<овские> бумаги — две — расп<иску> и удостов<ерение> везите с собой.
С<ереже> везите: кож<аную> куртку, гетры (у Ж<уков>ских), макинтош (в гард<еробе>), военную фуражку (у Б<ориса>), фрэнч и синие брюки (в одном из больш<их> сунд<уков>), всё военное, оставл<енное> у Миши, кожу на сапоги и подметки (в гардеробе), его документы, наход<ящиеся> в солд<атском> сундучке, в конв<ерте>. В брюках, что у Миши, ключ от вход<ной> двери и — кажется — ключ от сундука. Он отперт.
Мне везите: зеленое летнее и коричн<евое> летнее пальто (оба в гардер<обе>), две черных юбки (в гард<еробе>), белье что найдется, неск<олько> блузок из сундуков (две черных — или — в гард<еробе> или в сунд<уке>), воротнички — мои и Алины — из китайской больш<ой> чайной шкатулки, в гардер<обе>. Возьмите Алину голубую брошку, я ее оставила у Любы.
В левом сунд<уке> (горб<атом>) — совсем новое детское розовое шелк<овое> ватн<ое> одеяло. Возьмите и его, если влезет. Если багажа не будет, сократите всё соответственно.
Берите с собой простыни — взрослые и детские — у нас с собой только две. В сунд<уке> много Алиных зимн<их> платьев.
Желтую шкат<улку> карельск<ой> березы (возле грамм<офона> или в гардер<обе>) и все мои драгоцен<ности> — (в трех черных шкат<улках> Пра, в углов<ом> шкаф<у>) и большой (под письм<енным> столом) ящик с ф<отогра>фиями передайте на сохранение или Тане (Б<ольшой> Николо-Песковский, д<ом> 4, кв<артира> 5) или Мише.
Сережину доху (в больш<ом> сунд<уке>, на дне) и серебр<яное> блюдо заложите. Серебр<яное> блюдо в больш<ом> несгор<аемом> ящике, на к<отор>ом грамм<офон>. Он не заперт. Посоветуйтесь с Таней, Никодимом и Мишей: если можно выгодно продать — продавайте. А если не продадите, заложите и передайте квитанции Никодиму (или Тане). — Или Мише, вообще — в надеж<ные> руки, а то вещи пропадут.
Везите Але желтенькую плюш<евую> шубку, синее пальто с серебр<яными> пуговиц<ами> (вязаное пусть наденет под шубу), желтое летнее, сколько можно платьев, всю обувь (в гардеробе, слева). В гард<еробе> справа — 2 пары Ирининых красн<ых> чувяк и пакетики с ее мелочами. В больш<ом> сунд<уке> возьмите неск<олько> скатертей, сделаю себе из них белье, у меня ничего нет. В одном из двух сунд<уков> — 4 материи: 15 ар<шин> белой, 3 ар<шина> красной (детская), 3 арш<ина> голубой, 4 арш<ина> крэм, как мое платье. Везите их непременно, тогда можно взять всего одну скатерть.
Возьмите из больш<ого> сунд<ука> мою шубу из кавк<азского> сукна и поезжайте в ней. Она Вам здесь пригодится. В сундуке (больш<ом>) несколько вяз<аных> шарфов. Возьмите для Ирины.
Алю везите в голубой шубке, нескольк<их> сменах белья, коричн<евом> вяз<аном> пальто. Ирину — в белой и в заячьей и в трех одеялах (Алином старом розовом и двух байковых).
Необходимо взять с собой рис и манную. Здесь нет.
Необходимо взять с собой примус, термос (или в гардеробе или в съестном шкафу) и — что можете — в смысле кастрюль. Хорошо бы мой большой медный кофейник и голубой эмалир<ованный> молочник.
Гардероб заприте, как есть: сундуки (все) и корзины и все содержимое С<ережи>ной комнаты и детской составьте в мою комнату.
Квартиру сдайте на полгода, если возможно, а то — до осени. Если нижняя комната сдана под домовой ком<итет> — сдайте детскую, темную, столовую и кухню 300 р<ублей> — Сережину можно сдать на время кому-ниб<удь> знакомому, сами рассудите. Можно и все — в одни руки. Главное: привезти 2 банк<овские> бумаги, заложить или продать доху и блюдо, взять у Дырвянского за 3 мес<яца> вперед, возможно больше денег в Банке, взять у кварт<ирантов> (когда сдадите кв<артиру>) также за 3 мес<яца> вперед, — так и уславливаться. Цена за 3–4 комн<аты> — 300 р<ублей> — 400 р<ублей>, сдавайте как квартиру, с кухней.
Пра и Макс Вас очень ждут
Здесь трудно, но возможно. Но сегодня второй день нет газет, и я чувствую, что не выживу здесь, без детей. Любу соблазняйте морем, спокойствием, хлебом, теплом.
Да! Необходимо взять в вагон чайник, кружку и детский предмет, а то пропадете! Не забудьте губку, клизму, частый гребень.
Если ехать невозможно — что́ делать! Если есть малейшая возможность — поезжайте. А то — Бог весть — когда мы опять увидим детей!
Чтобы уменьшить тюк, пусть Люба наденет поверх своего платья мое коричневое пальто (летнее, висит в гардеробе, длинное, масса пуговиц), а сверху своего пальто — еще мое зеленое, с тремя пелеринками. Берегитесь доро́гой воров!!! У С<ергея> И<вановича> [672] украли калоши. Если в багаж ненадежно, не сдавайте, узнайте раньше. Пошлите за день до отъезда Бориса на вокзал. А берите так: не две юбки мне, а одну (не клош), не всю С<ережи>ну обмундировку, одно детское ватное одеяло и т.д. Только все материи, это все кусочки, они не много занимают места.
Ну, отдаю всё это на Божью волю! Если ехать страшно — не поезжайте! Если трудно — все-таки поезжайте. Здесь проживем.
Если выехать не удастся — отдайте мои банк<овские> бумаги и драгоцен<ности> Никодиму или Тане. Если не поедете — сдайте детскую.
Целуйте детей. У нас всё хорошо. Пра и Макс очень зовут Вас.
Попросите Таню помочь с укладкой, она очень дельная. Возьмите у нее С<ереж>ин портсигар на ремне, наденьте на дорогу. Поезжайте в моей кавк<азской> шубе. Пусть Таня если хочет — возьмет к себе грамм<офон> и пластинки. Пусть проводит Вас на вок<зал>. Она Вам очень поможет. Скажите, что я ее прошу.
_____Ключи я Вам дала, 3 связки, они с Вашими ключами у Ж<уков>ских. Ради Бога! Пусть не сломают мою синюю люстру!
Ключ от моей комн<аты> передайте в надежные руки (Лиле? Никодиму? Мише?)
_____Коричн<евую> куртку, я думаю. Вы можете надеть на себя?
Мы ехали совсем не страшно. Велите носильщ<ику> занять хоть одно верхнее место. В багаж, если не надежно не сдавайте. Дайте Никодиму на хранение (если он твердо ост<ается> в Москве) маленький сундучок с фотогр<афическими> принадлеж<ностями>. Он у меня в комнате, зеленый.
Сдайте на всякий случай в багаж одно корыто, похуже.
Берите с собой побольше денег, часть зашейте на Любу.
Спишите № или №№ ломбард<ных> квит<анций>.
Ох! —
МЭ<На полях>
Ответьте телеграммой на имя Макса.
В зел<еном> несгор<аемом> ящике, у жильца, пасп<орт> С<ережи>ного деда. Захватите! Он им страшно дорожит! {62}
Никодиму: Квит<анции> от ломбарда, драгоценности, Банк<овские> бумаги (если не поедете), шкат<улку> кар<ельской> березы, ящик с фот<ографиями>, сундучок с фот<ографическими> принадл<ежностями> —……— если не откажется.
Тогда — на Божью волю! —
Впервые — НИСП. стр. 260–264. Печ. по тексту первой публикации.
Письмо по содержанию аналогично предыдущему; многие слова сокращены, что заставляет предполагать, что это копия письма, оставленная себе, либо причиной сокращений явился недостаток времени для написания письма, отправляемого со срочной оказией (НИСП. стр. 500).
28-17. В.Я. Эфрон
Феодосия, 17-го ноября 1917 г.
Милая Вера,
Вчера я отправила Вам письмо с отходящим поездом, сегодня сняла здесь, в Феодосии, квартиру (2 комн<аты> и кухня) за 25 р<ублей>. В К<октебе>ле с детьми зимовать невозможно.
Вот, что мне обязат<ельно> нужно: 1) кухонную посуду (кастрюльки — 3 серые, судки с ручкой, медный кофейник, голубой эмалированный, — молочник, 1 маленький утюг, маленьк<ий> тазик, хорошо бы — одну сковородку, в Ф<еодосии> ничего нельзя достать) — примус (лучший), термос, спиртовку, ножи, вилки, ложки (стол<овые> и чайные), разлив<ную> ложку, 2 чайника (эмал<ированный> и маленький), эмалир<ованную> кружку. Всё это никак нельзя сдавать в багаж.
2) рис, манную, толокно, коробочку Меллиневуда, к<отор>ую я привезла, геркулес, табак (сколько сможете, слева в гардеробе, в узле)
3) 3 материи (белую, голубую, красную, о к<отор>ых я Вам писала).
4) в солд<атском> сундучке — детские метрики, вообще — бумаги.
5) необходимое белье и платье для Али и Ирины (я уже писала)! Не забудьте Алиных шляп, осенних и летних (из материи).
6) мое белье, скатерти, клеенку из столовой, Иринину клеенку.
Об остальном я Вам уже писала. (Об одеялах, С<ережи>ных вещах, простынях и т.д.)
Помните, что здесь у меня нечего нет.
Часть вещей (более легких) можно отослать по почте, по адр<есу>: Карантинная ул<ица>, д<ом> Адамова, А.И. Трухачевой.
_____Ответьте мне телеграммой, возможно ли выехать. Узнайте, доходит ли багаж.
Низ, кроме моей комнаты, сдайте. Сереж<ину> комнату не сдавайте, или сдайте с предупрежд<ением>, что могут неожид<анно> въехать.
Вещи везите в мешках из старых простынь.
Поговорите с Никодимом [673] о моих денеж<ных> делах, боюсь остаться без денег. Кто будет получать деньги с квартирантов? Попросите — от моего имени — заняться этим Никодима. Вообще, пусть он и Таня [674] Вам помогут в сдаче квартиры. (За 3 мес<яца > вперед!)
Милая Вера, Вам видней, возможно ли ехать. Пошлите Бориса [675] посм<отреть> на отход<ящие> поезда. Если возможно — поезжайте. В Ф<еодосии> и молоко и хлеб и продукт<ы>, хотя дорого. И кв<артира> хорошая, и тихо.
Если в М<оскве> хорошо и ожид<ается> вообще улучшение — и устроилось (надежно) с молоком — не выезжайте, п<отому> ч<то> тогда я приеду. Посоветуйтесь с Никодимом и Фельдштейнами и, решив, дайте мне тел<еграмму> на Макса.
А если решите ехать, думайте за меня, у меня ничего нет, а надо — всё.
Всё в прошлом письме (относ<ительно> вещей) остается в силе. Многое можете отослать почтой (из менее необ<ходимых> и ценных вещей) — ценными пакетами, если почта действует.
Целую Вас и детей. В К<окте>беле Вы сможете погостить или остаться совсем.
МЭ— Зиму я решила быть в Ф<еодосии> или в М<оскве>. — Паспорт деда, метрики, банк<овские> бумаги, деньги везите на себе.
<На полях:>
Если багаж доходит, берите подушки, мои летние платья, вообще всего — побольше.
Впервые — НИСП. стр. 264–266. Печ. по тексту первой публикации.
29-17. С.Я. Эфрону
28-го ноября 1917 г.
Лев! Я вчера была у С {63}. Он предлагает помочь в продаже дома [676] — какому-нибудь поляку. Относительно другого, он говорит, чтобы я записала Вас кандидатом в какое-то эконом<ическое> общество. Хороший заработ<ок>. А пока — советует Вам еще отдохнуть с месяц. Насчет кандидатуры — я разузнаю и напишу Вам подробно. Вообще — по его словам — состояние Вашего и С<ергея> И<вановича> [677] здоровья совсем не опасно. Посоветуюсь еще с другими докторами. Он говорит вполне уверенно. Дуня [678] не уезжает, и завтра я переезжаю домой [679]. Доде [680] передайте, что посылку ее я передала, но дядю не застала.
Целую. Обнадежьте С<ергея> И<вановича> насчет 9 лет службы. Это серьезно.
М.P.S. У Додиного дяди — бородатая прислуга вроде Бабы-Яги. Очень милая. 100 лет.
Передайте это Доде.
Скоро пришлю продуктов и простынки.
<На полях>
Напишите Тане [681] письмо с благодарностью за меня и детей. Она мне очень помогает. Б<ольшой> Николо-Песковский, д<ом> 4. кв<артира> 5 {64}.
Впервые — Звезда. СПб. 1992. № 10. стр. 12 (публ. Е.И. Лубянниковой). СС-6. стр. 137–138. Печ. по НИСП. стр. 266–267
30-17. <Н.А. Плуцер-Сарна>
<Конец ноября — начало декабря> 1917 г.
Часто вижусь с Т<аней>. Она получила твое письмо и, кажется, тебе уже написала. Мы с М<ироновым> [682] и Алей однажды зашли к ней, я сидела на ее сундуке, у окна.
Сундук покрыт зеленым плэдом, на столе мои книги.
М<иронов> рассказывал о базарах в Иркутске, Аля играла с ленточками, к<отор>ые ей подарила Таня, я в тоск <не дописано>
Впервые — НЗК-1. стр. 245. На полях «Записей моей дочери». Печ. по тексту первой публикации.
Письмо предположительно адресовано H.A. Плуцер-Сарна.
31-17. С.Я. Эфрону
11-го дек<абря> 1917 г. {65}
Лёвашенька!
Завтра отправлю Вам деньги телеграфом. Вера дала Тане чек, и Таня [683] достает мне — когда по 100 р<ублей>, когда больше. Деньги Вы получите раньше этого письма.
Я думаю, Вам уже скоро можно будет возвращаться в М<оскву>, переждите еще несколько времени, это вернее. Конечно, я знаю, как это скучно — и хуже! — но я очень, очень прошу Вас.
Я не приуменьшаю Вашего душевного состояния, я всё знаю, но я так боюсь за Вас, тем более, что в моем доме сейчас находится одна мерзость, которую сначала еще надо выселить [684]. А до Рождества этого сделать не придется.
Конечно, Вы могли бы остановиться у Веры, но всё это так ненадежно!
Поживите еще в К<окте>беле, ну немножечко. (Пишу в надежде, что Вы никуда не уехали.)
— Слушайте: случилась беда: Аля сожгла в камине письмо Макса к Цейтлиным [685] (я даже не знаю адр<еса>!) и письмо О<льги> А<ртуровны> [686] — к Редлихам [687].
Завтра отправлю Вам простыни, когда они дойдут? Я страшно боюсь, что потеряются. Отправлю две.
— У Ж<уков>ских разграблено и отобрано все имение [688], дом уже опечатан, они на днях будут здесь.
Ваш сундучок заперт, всё примеряю ключи и ни один не подходит. Но по крайней мере документы в целости. Паспорт деда я нашла и заперла.
М<ожет> б<ыть> Вы помните, куда Вы девали ключ от сундучка?
У Г<ольдов>ских [689] был обыск, нашли 60 пудов сахара и не знаю сколько четвертей спирта. У меня недавно была Е.И. С<тарын>кевич [690], она поссорилась с Рашелью (из-за Миши [691], она, очевидно, его любит) и написала ей сдержанное умное прощальное письмо. Она мила ко мне, вообще мне все помогают. А я плачу́ стихами и нежностью (как свинья).
Страховую квитанцию я нашла, сегодня Дунин муж внесет. В каком безумном беспорядке Ваши бумаги! (Из желтой карельской шкатулочки!) Как я ненавижу все документы, это ад.
Последнее время я получаю от Вас много писем, спасибо, милый Лев! Мне Вас ужасно жаль.
Дома всё хорошо, деньги пока есть, здесь все-таки дешевле, чем в Ф<еодосии>.
Вышлите мне, пожалуйста, билет! (розовый.)
Сейчас Аля и няня идут гулять, отправлю их на почту.
Простите, ради Бога, за такое короткое письмо, а то пришлось бы отправлять его только завтра.
Очень Вас люблю. Целую Вас.
М.Б<альмон>т в восторге от стихов Макса и поместил их в какую-то однодневку-газету с другими стихами [692]. Я недавно встретила его на улице.
— Борис [693] занялся театральной антрепризой, снял целый ряд помещений в разных городах, у него будет играть Радин [694].
Впервые — Звезда. 1992. СПб. № 10. стр. 13 (публ. Е.И. Лубянниковой). СС-6. стр. 138–139. Печ. по НИСП. стр. 267–268.
1918
1-18. H.A. Плуцер-Сарна
<Между 9 и 16 июня 1918 г.>
Письмо.Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, живая только Вами вхожу, наконец, к Вам в дом — я всем существом в праве на Вас.
Можно оспаривать право человека на хлеб, нельзя оспаривать право человека на воздух. Я Вами дышу, я только Вами дышу. Отсюда мое оскорбление.
Вам жарко, Вы раздражены. Вы измучены, кто-то звонит. Вы лениво подходите к двери. — «Ах, это Вы!». И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью, — да восхищайтесь же мной, я так хорош! —
Вам нет дела до меня, до моей души, три дня — бездна, что было? Вам всё равно. Вам жарко.
Вы говорите: «Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю». Любовь ко мне входит в Вашу любовь к себе.
То, что Вы называете любовью, я называю у Вас хорошим расположением духа. Чуть Вам плохо (нелады дома, дела, жара) — я уже не существую.
Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи — чтобы, когда я вхожу, человек радовался.
_____«И знаете — Бог любит неожиданности!»
_____Конец письма:
— «Тут, дружочек, я заснула с карандашом в руке. Видела страшные сны — летела с ньюйоркских этажей. Просыпаюсь: свет горит. Кошка на моей груди делает верблюда.»
Впервые — H3K-1. стр. 256–257. Печ. по тексту первой публикации. Адресат установлен В.И. Лубянниковой.
2-18. Е.Я. Эфрон
<Июль 1918 г.>
Милая Лиля!
Получила все Ваши три письма.
Если Вы все равно решили жить в деревне, я у Вас Ирину оставлю, если же живете исключительно из-за Ирины, я Ирину возьму [695].
Жить на два дома сейчас невозможно, денег у меня в обрез, ибо потребности дня неограничены.
Всё, что я смогу сделать — платить за Иринино молоко, давать крупу и взять на себя половину того, что Вы платите за комнату.
Подумайте, подходит ли это Вам, и ответьте через Мишу [696].
Надо — необходимо приучать Ирину к картофелю. Крупы мало и достать нельзя. За картофель буду платить отдельно. Я определенно не хочу, чтобы Вы на Ирину тратили хотя бы копейку, но если ее содержание будет мне не по силам, я ее возьму.
Вот, милая Лиля, точно и определенно — положение моих дел.
Не сердитесь и не упрекайте, у меня не только Ирина, а еще Аля, а еще дрова, к<отор>ых нет, и ремонт, за к<отор>ый надо платить, и т.д. без конца.
Целую Вас. Подумайте и ответьте. Посылаю крупу и 84 р<убля> за Иринино молоко до 4-го авг<уста> ст<арого> стиля. Деньги за комнату — если Ирина у Вас останется — привезу в среду.
МЭВпервые — НИСП. стр. 273. Печ. по тексту первой публикации.
3-18. <Н.А. Плуцер-Сарна>
<Между 28 августа — 3 сентября 1918 г.>
Из письма.
Нас делят, дружочек, не вещи высокого порядка, а быт. Согласитесь, что не может быть одинаковое видение от жизни от человека, к<отор>ый весь день кружится среди кошёлок, кухонных полотенец, простонародных морд, вскипевшего и не вскипевшего молока — и человека, в полном чистосердечии никогда не видавшего сырой морковки.
— Да, но на то и любовь, чтобы сравнивать быт. (Принц в Ослиной Коже и судомойка [697].)
— Да, принцу-то легко забыть о никогда не виденных им кастрюльках, а судомойка знает, что принц уйдет, а грязные кастрюли — останутся!
_____Женщине, если она человек, мужчина нужен, как роскошь, — очень, очень иногда. Книги, дом, заботы о детях, радости от детей, одинокие прогулки, часы горечи, часы восторга, — что тут делать мужчине?
У женщины, вне мужчины, целых два моря: быт и собственная душа.
_____Кошёлку я несу, как котомку, отсюда восторг.
Впервые — НЗК-1. стр. 270–271. Печ. по тексту первой публикации.
Адресат установлен предположительно.
4-18. H.A. Плуцер-Сарна
<Между 28 августа и 3 сентября 1918 г.>
Из письма:
…Господи Боже мой, знайте одно: всегда, в любую минуту я о Вас думаю. Когда Вам захочется обо мне подумать, знайте, что Вы думаете в ответ.
…Это ныло у меня два года в душе, а теперь воет.
…Я же не одержима, моя одержимость тайная, никто в нее никогда не поверит.
…Люблю Вас и без сына, люблю Вас и без себя, люблю Вас и без Вас — спящего без снов! — просто за голову на подушке!
Впервые — НЗК-1. стр. 272. Печ. по тексту первой публикации.
Адресат установлен Е.И. Лубянниковой.
5-18. A.C. Эфрон
Москва, 2-го сентября 1918 г. [698]
Милая Аля!
Мы еще не уехали. Вчера на вокзале была такая огромная толпа, что билеты-то мы взяли, а в вагон не сели.
Домой возвращаться мне не хотелось — дурная примета, и я ночевала у Малиновского [699]. У него волшебная маленькая комната: на стенах музыкальные инструменты: виолончель, мандолина, гитара, — картины, где много неба, много леса и нет людей, огромный зеленый письменный стол с книгами и рисунками, старинный рояль, под которым спит собака «Мисс» (по-английски значит — барышня).
Мы готовили с Малиновским ужин, потом играли вместе: он на мандолине, я на рояле. Вспоминали Александров, Маврикия, Асю, всю ту чудную жизнь [700]. У него на одной картине есть тот александровский овраг, где — ты помнишь? — мы гуляли с Андрюшей и потом убегали от теленка {66}.
Сейчас раннее утро, все в доме спят. Я тихонько встала, оделась и вот пишу тебе. Скоро пойдем на вокзал, встанем в очередь и — нужно надеяться, сегодня уедем.
На вокзале к нам то и дело подходили голодные люди, — умоляли дать кусочек хлеба или денег. Поэтому, Аля, ешь хорошо, пойми, что грех плохо есть, когда столько людей умирают с голоду. У Нади [701] будет хлеб, кушай утром, за обедом и вечером. И каждый день кушай яйцо — утром, за чаем. И пусть Надя наливает тебе в чай молоко.
Пиши каждый день, читай свою книгу, если придет кто-нибудь чужой, будь умницей, отвечай на вопросы. Поцелуй за меня Никодима и Таню [702], если их увидишь.
Целую тебя, Алечка, Христос с тобой, будь здорова, не забывай молиться вечером.
(Мой отъезд напоминает мне сказку про козу и козленят, — «ушла коза в лес за кормом…»)
Поцелуй за меня Ирине [703] ручку и самоё-себя в зеркало.
До свидания!
МаринаКланяйся Наде.
Впервые — HCT. стр. 46–47. Печ. по тексту первой публикации.
6-18. H.A. Плуцер-Сарна
Из письма:
Пишу Вам это письмо с наслаждением, не доходящим, однако, до сладострастия, ибо сладострастие — умопомрачение, а я вполне трезва. Я Вас больше не люблю.
Ничего не случилось. — жизнь случилась. Я не думаю о Вас ни утром, просыпаясь, ни ночью, засыпая, ни на улице, ни под музыку, — никогда.
Если бы Вы полюбили другую женщину, я бы улыбнулась — с высокомерным умилением — и заулыбалась — с любопытством — о Вас и о ней.
Я — aus dem Spiel {67}.
— Всё, что я чувствую к Вам, — легкое волнение от голоса и то общее творческое волнение, как всегда в присутствии ума — партнёра.
Ваше лицо мне по-прежнему нравится.
— Почему я Вас больше не люблю? Зная меня, Вы не ждете «не знаю».
Два года подряд я — мысленно — в душе своей — таскала Вас за собой по всем дорогам, залам, церквам, вагонам, я не расставалась с Вами ни на секунду, считала часы, ждала звонка, лежала, как мертвая, если звонка не было, — всё, как все — и все-таки не всё, как все.
Вижу Ваше смуглое лицо над стаканом кофе — в кофейном и табачном дыму — Вы были как бархат — я говорю о голосе — и как сталь — говорю о словах — я любовалась Вами, я Вас очень любила.
Одно сравнение — причудливое, но вернейшее: Вы были для меня тем барабанным боем, подымающим на ноги в полночь всех героических мальчишек города.
— Вы первый перестали любить меня. Если бы этого не случилось, я бы до сих пор Вас любила, ибо я люблю всегда до самой последней возможности.
Сначала Вы приходили в 4 часа, потом в 5 ч<асов>, потом в 6 ч<асов>, потом в восьмом, потом совсем перестали. Дела? Да, — дело дней — жизнь.
Вы не разлюбили меня (как отрезать). Вы просто перестали любить меня каждую минуту своей жизни, и я сделала то же, послушалась Вас, как всегда.
Вы первый забыли, кто я́.
Пишу Вам без горечи — и без наслаждения. Вы все-таки лучший знаток во мне, чем кто-либо, я просто рассказываю Вам, как знатоку и ценителю — Seelenzustand {68}, и я думаю, что Вы по старой привычке похвалите меня за точность чувствования и передачи. (2-го окт<ября> 1918 г.)
Впервые — НЗК-1. стр. 277–278. Печ. по тексту первой публикации.
Адресат установлен Е.И. Лубянниковой.
7-18. <Н.А. Плуцер-Сарна>
<Между 15 и 27 ноября 1918 г.>
Из письма.
…Я написала Ваше имя и долго молчала. Лучше всего было бы закрыть глаза и просто думать о Вас, но — я трезва! — Вы этого не узнаете, а я хочу, чтобы Вы знали. — (Знаю, что Вы всё знаете!).
Сегодня днем — легкий, легкий снег — подходя к своему дому я остановилась и подняла голову. И подняв голову, ясно поняла, что подымаю ее навстречу Вашей чуть опущенной голове.
<…>! [704] Мы еще будем стоять так, у моего подъезда, — нечаянно — в первый — в тысяча первый — раз.
— Думайте обо мне что хотите (мое веселое отчаянье!) Но — прошу Вас! — не валить всего этого на «безумное время».
У меня всегда безумное время.
Милый друг! Вчера вечером я в первый раз в жизни полюбила лифт. (Всегда панически и простонародно боялась, что застряну навек!)
Я подымалась — одна в пустой коробке — на каком-то этаже играла музыка, и все провалы лифта были наводнены ею. И я подумала: движущийся пол — и музыка. Пустота и музыка. Вся я. — И, задыхаясь от восторга, подумала: — Музыка коварными когтями разворачивает грудь.
А через час я встретилась с Вами.
— Я знаю, что я Вам необходима, иначе не были бы мне необходимы — Вы.
Впервые — НЗК-1. стр. 286–287. Печ. по тексту первой публикации.
Адресат установлен предположительно.
8-18. A.A. и А.Ф. Лебедевым
Многоуважаемые г<оспо>да Лебедевы!
Согласно поручению моей сестры, Анастасии Ивановны Трухачевой, прошу Вас выдать ее вещи [705] (в ящиках и мебель) Алексею Антоновичу Борисову [706].
Марина ЭфронМосква, 27-го декабря 1918 г.
8 января 1919 г. [707]
Впервые — Голос труда. Александров. 1993. 12 авг. (публ. А. Львова) СС-6. стр. 148. Печ. по СС-6.
1919
1-19. <Н.А. Плуцер-Сарна>
<Январь 1919 г.>
Из письма.
…«Милый друг! Кем бы Вы меня не считали: сивиллой — или просто сволочью»…
_____Любовь — разложима, но не делима.
_____Вы меня никогда не любили. Если любовь разложить на все ее составные элементы — все налицо: нежность, любопытство, жалость, восторг и т.д. Если всё это сложить вместе — может и выйдет любовь.
Но это никогда не слагалось вместе.
_____…Элементы, входящие в наши отношения (пишу «отношения» и сомневаюсь, есть ли у Вас какое-н<и>б<удь> отношение ко мне…)
_____Конечная точка линии, исходной точкой которой является Очарование — есть Магия.
_____Любовь — параллельная линия к нашей с Вами прямой, проведенная на миллиметр расстояния.
_____Аристократизм: враг избытка. Всегда немножко меньше, чем нужно. <Над строкой: Не перед<ать> (явно.)>
Вечное Вы любовнику.
_____Аристократизм — замена принципов — Принципом. (Legrand Principe {69}).
(Н<икодим>)
_____Клянусь Богом, что Вы меня ни капельки не любите, клянусь Богом, что я от этого люблю Вас гораздо меньше и любуюсь Вами гораздо больше, а так как это и Вам и мне дороже, чем любовь, продолжайте не любить меня — на здоровье!
Впервые — НЗК-1. стр. 292–293. Печ. по тексту первой публикации.
Адресат установлен предположительно.
2-19. <Н.А. Плуцер-Сарна>
<Январь 1919 г.>
Из письма:
«Милый друг! У меня к Вам нежнейшая просьба: никогда не заставляйте понапрасну ждать. Прошу не за себя, а за тех, к<отор>ые не умеют писать стихи, когда не приходят — а просто плачут!
Дайте мне это обещание! Каждый раз, когда Вы намереваетесь не придти, предупредите — Вы сделаете доброе дело — во имя мое.
Сколько добрых дел в течение всей Вашей красоты!<»>
_____Почему я не смею — чрез горло не идет — сказать Вам, что я Вас люблю? Всё, что угодно, — только не это!
_____Всё, что у меня осталось свободы с Вами — это мой смех.
_____Вы меня не любите, а я Вам не доверяю.
(Любовь.)
Впервые — НЗК-1. стр. 293. Печ. по тексту первой публикации.
Адресат установлен предположительно.
3-19. В.К. Звягинцевой
Верочка?— (Вопросительный знак — для оклика.)
Приходите. У меня много новых стихов и я Вас люблю. А если Вам нездоровится, и Вам нельзя придти, и нельзя сидеть у Вас, — выйдем на волю, посидим где-нибудь. Расскажу Вам про чудовищную поэтессу [708], вообще расскажу Вам разные вещи, — удачи и злоключения.
Целую Вас.
МЦ.Москва. 11-го июля 1919 г.
— Приходите пока есть кофе и сахар. Оба кончаются.
Впервые — Швейцер В. стр. 327. СС-6. стр. 148. Печ. по СС-6.
4-19. <Н.А. Плуцер-Сарна>
<Между 24 и 29 июля 1919 г.>
Не называя Вашего имени (дабы не ставить точку над i Вашего тщеславия!) скажу Вам, что Вы единственный из поступили со мною правильно, ибо поступили чудовищно.
Ebaubie {70} таким поведением, я буду Вас помнить вечно, лучшее доказательство тому, что я не дальше, как сегодня утром, совсем не думая о Вас несколько месяцев! — видела Вас во сне: Вы у меня под большой пестрой подушкой забыли цепочку с сердечком, к<отор>ые я Вам когда-то — в каком-то предыдущем сновидении — подарила.
— Милый друг! Вы — не в сновидении! — сделали лучше: Вы невинно забыли у меня книжечку стихов, Вам мною посвященных [709].
Таких вещей с людьми даже я не делала. Vous avez été plus royaliste que le Roi {71} [710].
Жалко только, что я больше ценю этот роялизм, чем Вы сами, — ибо Вы о нем давно уже забыли!
_____Запах из распахнутой двери кафэ — кофе — ванили — сигары — каких-то печений кажется.
Вы думаете мне захотелось зайти в кафэ, пить и есть? — Нет — слезы на глазах! — целовать.
Впервые — НЗК-1. стр. 384. Печ. по тексту первой публикации.
Адресат установлен предположительно.
5-19. В.К. Звягинцевой
Верочка!Я так отвыкла от любви, что была почти в недоумении, получив Вашу записку: из другого царства, из другого мира.
Живу окруженная и потопленная Алиной иступленной любовью — но это уже не жизнь, а там где-то — как герои моих пьес.
Живу — правда — как на башне, правим с Алей миром с чердака. Ирина тоже на чердаке, но не правит.
В быту продаю и бегаю за казенными обедами.
Недавно пошла вечером с Алей и Ириной в церковь — оказалось: канун Воздвижения, Асиного 25-летия. — Мы обе родились в праздник [711]. Простояла часть службы, кружила по Собачьей площадке, был такой вечер. — Я думала: «Если Ася жива, она знает, что я об ней думаю», — думала именно этими словами, только это, весь вечер [712].
— Да.
— Приходите. Вечерами я дома, каждый вечер, нигде не бываю. Но предупредите заранее, тогда я в этот день не буду днем укладывать Ирину и смогу уложить ее вечером пораньше.
Целую Вас. Поговорим о «Червонном Валете» [713], к<оторо>го С<печин>ский [714] все просит у меня для Вашего театра и в к<отор>ом — я хочу — чтобы Вы играли Червонную Даму — героиню!
— Скорее приходите!
МЦ.Москва, 18-го сентября 1919 г.
Впервые — Швейцер В. стр. 329. СС-6. стр. 149. Печ. по тексту СС-6.
6-19. A.C. Эфрон
<13 ноября 1919 г.>
Алина тетрадка.
Алечка!Что мне тебе сказать? — Ты уже всё знаешь! И что мне тебе дать? — У тебя уже всё есть! — но все-таки — несколько слов — на дорогу!
Ты сейчас спишь на моей постели, под голубым одеялом и овчиной, и наверное видишь меня во сне. Так как ты меня любил только еще один человек: Сережа. Та же любовь, те же глаза, те же слова.
Алечка! — Спасибо тебе за всё: и за окурки, и за корки, и за спички, и за окаренок, и за бесконечное твое терпение, и за беспримерное твое рвение, — я была тобой счастлива, ты мне заменяла: воду, которая замерзла, хлеб, к<отор>ый слишком дорог, огонь, которого нет в печи — смеюсь! — ты мне была больше этого: Смыслом — Радостью — Роскошью.
Милая Алечка, не томись, не горюй. То, что сейчас бессмысленно, окажется мудрым и нужным — только надо, чтобы время прошло! — Нет ничего случайного!
Целую тебя нежно. Пиши на букву . Люби меня. Знай, я всегда с тобой.
МЦ.Москва, 13-го ноября 1919 г., ночь.
Алина приписка:
— Марина! Я Вас люблю — я Вечно Ваша.
Впервые — НЗК-2. стр. 62. Печ. по тексту первой публикации.
7-19. A.C. Эфрон
<Конец ноября 1919 г.>
Письмо к Але, после первого посещения ее в приюте
Алечка!Это письмо ты прочтешь уже в Борисоглебском. Будет топиться печечка, я буду подкладывать дрова, может быть удастся истопить плиту — дай Бог, чтобы она не дымила! — будет вариться еда — наполню все кастрюльки.
Ты будешь есть — есть — есть!
— Будет тепло, завесим окна коврами.
— Аля, уходя я перекрестила красные столбы твоего приюта.
Аля! Ангел, мне Богом данный!
У меня глаза горят от слёз. Дай Бог — Бог, на коленях прошу Тебя! — чтобы всё это скорей прошло, чтобы мы опять были вместе.
_____(Не кончено.)
Впервые — НЗК-2. стр. 48–49. Печ. по тексту первой публикации.
1920
1-20. В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву
<22 января / 4 февраля 1920 г.>
Сашенька и Верочка!
Я еще жива. — Только в большом доме, в чужой комнате, вечно на людях [715]. Аля все еще больна, д<окто>ра не угадывают болезни. Жар и жар. Скоро уже 2 месяца, как она лежит, а я не живу.
Сашенька, я нашла Вашу записку на двери. — Трогательно. Если бы у Али пала t°, я бы пришла, я тоже по вас обоих соскучилась как волшебно было тогда эти несколько дней.
Приходите вы, господа, ко мне, — так, часов в 7. Если меня не будет, значит я ушла за дровами и сейчас вернусь.
Дня не назначаю, чем скорей, тем лучше. Но не позднее семи. — Аля засыпает в девять.
Целую и жду.
МЦ.Впервые — Швейцер В. стр. 333. СС-6. стр. 151. Печ. по тексту СС-6.
2-20. В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву
<Начало февраля 1920 г.> [716]
Друзья мои!
Спасибо за любовь.
Пишу в постели, ночью. У Али 40,4 — было 40,7. — Малярия. 10 дней была почти здорова, читала, писала, вчера вечером еще 37 — и вдруг сегодня утром 39,6 — вечером 40,7.
Третий приступ. — У меня уже есть опыт безнадежности, — начала фразу и от суеверия в хорошую или дурную сторону боюсь кончить.
— Ну, даст Бог! —
Живу, окруженная равнодушием, мы с Алей совсем одни на свете. Нет таких в Москве!
С другими детьми сидят, не отходя, а я — у Али 40,7 — должна оставлять ее совсем одну, идти домой за дровами.
У нее нет никого, кроме меня, у меня — никого, кроме нее. — Не обижайтесь, господа, я беру нет и есть на самой глубине: если есть, то умрет, если я умру, если не умрет — так нет.
Но это — на самую глубину, — не всегда же мы живем на самую глубину — как только я стану счастливой — т.е. избавленной от чужого страдания — я опять скажу, что вы оба — Саша и Вера — мне близки. Я себя знаю.
— Последние дни я как раз была так счастлива: Аля выздоравливала, я — после двух месяцев — опять писала, больше и лучше, чем когда-либо. Просыпалась и пела, летала по лавкам — блаженно! — Аля и стихи.
Готовила книгу — с 1913 г. по 1915 г. [717] — старые стихи воскресали и воскрешали, я исправляла и наряжала их, безумно увлекаясь собой 20-ти лет и всеми, кого я тогда любила: собою Алей — Сережей — Асей — Петром Эфрон — Соней Парнок — своей молодой бабушкой — генералами 12 года — Байроном — и — не перечислишь!
А вот Алина болезнь — и я не могу писать, не вправе писать, ибо это наслаждение и роскошь. А вот письма пишу и книги читаю. Из этого вывожу, что единственная для меня роскошь — ремесло [718], то, для чего я родилась.
Вам будет холодно от этого письма, но поймите меня: я одинокий человек одна под небом — (ибо Аля и я — одно), мне нечего терять. Никто мне не помогает жить, у меня нет ни отца, ни матери, ни бабушек, ни дедушек, ни друзей. Я — вопиюще одна, потому — на всё вправе. — И на преступление! —
Я с рождения вытолкнута из круга людей, общества. За мной нет живой стены, — есть скала: Судьба. Живу, созерцая свою жизнь — всю жизнь — Жизнь! — У меня нет возраста и нет лица. Может быть — я — сама Жизнь. Я не боюсь старости, не боюсь быть смешной, не боюсь нищеты — вражды — злословия. Я, под моей веселой, огненной оболочкой, — камень, т.е. неуязвима. — Вот только Аля, Сережа. — Пусть я завтра проснусь с седой головой и морщинами — что ж! — я буду творить свою Старость — меня все равно так мало любили!
Я буду жить — Жизни — других.
И вместе с тем, я так радуюсь каждой выстиранной Алиной рубашке и чистой тарелке! — И комитетскому хлебу! И так хотела бы новое платье!
Все, что я пишу, — бред. — Надо спать. — Верочка, выздоравливайте и опять глядите лихорадочными — от всей Жизни — глазами <поверх?> румяных щек. — Помню ваше черное платье и светлые волосы.
— Когда встанете, пойдите к Бальмонту за радостью, — одного его вида — под клетчатым пледом — достаточно!
Впервые — Саакянц А. стр. 217–218. СС-6. стр. 151–153. Печ. по тексту СС-6.
3-20. В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву
Москва, 7/20-го февраля 1920 г., пятница
Друзья мои!
У меня большое горе: умерла в приюте Ирина — 3-го февраля, четыре дня назад. И в этом виновата я [719]. Я так была занята Алиной болезнью (малярия — возвращающиеся приступы) — и так боялась ехать в приют (боялась того, что сейчас случилось), что понадеялась на судьбу.
Помните, Верочка, тогда в моей комнате, на диване, я Вас еще спросила, и Вы ответили «может быть» — и я еще в таком ужасе воскликнула: — «Ну, ради Бога!» — И теперь это совершилось, и ничем не исправишь. Узнала я это случайно, зашла в Лигу Спасения детей на Соб<ачьей> площадке разузнать о санатории для Али — и вдруг: рыжая лошадь и сани с соломой — кунцевские — я их узнала. Я взошла, меня позвали. — «Вы г<оспо>жа такая-то?» — Я. — И сказали. — Умерла без болезни, от слабости. И я даже на похороны не поехала — у Али в этот день было 40,7 — и — сказать правду?! — я просто не могла. — Ах, господа! — Тут многое можно было бы сказать. Скажу только, что это дурной сон, я все думаю, что проснусь. Временами я совсем забываю, радуюсь, что у Али меньше жар, или погоде — и вдруг — Господи. Боже мой! — Я просто еще не верю! — Живу с сжатым горлом, на краю пропасти. — Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец, — здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь что другому трудно. И — наконец — я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь — и вот Бог наказал.
— Никто не знает, — только одна из здешних барышень, Иринина крестная, подруга Веры Эфрон. Я ей сказала, чтобы она как-нибудь удержала Веру от поездки за Ириной здесь все собиралась, и я уже сговорилась с какой-то женщиной, чтобы привезла мне Ирину и как раз в воскресенье.
— О!
— Господа! Скажите мне что-нибудь, объясните.
Другие женщины забывают своих детей из-за балов — любви — нарядов — праздника жизни. Мой праздник жизни стихи, но я не из-за стихов забыла Ирину — я 2 месяца ничего не писала! И — самый мой ужас! — что я ее не забыла, не забывала, все время терзалась и спрашивала у Али: — «Аля, как ты думаешь ———?» И все время собиралась за ней, и все думала: — «Ну, Аля выздоровеет, займусь Ириной!» — А теперь поздно.
У Али малярия, очень частые приступы, три дня сряду было 40.5 — 40.7, потом понижение, потом опять. Д<окто>ра говорят о санатории: значит — расставаться. А она живет мною и я ею как-то исступленно.
Господа, если придется Алю отдать в санаторию, я приду жить к Вам, буду спать хотя бы в коридоре или на кухне — ради Бога! — я не могу в Борисоглебском, я там удавлюсь.
Или возьмите меня к себе с ней, у Вас тепло, я боюсь, что в санатории она тоже погибнет, я всего боюсь, я в панике, помогите мне!
Малярия лечится хорошими условиями. Вы бы давали тепло, я еду. До того, о чем я Вам писала в начале письма, я начала готовить сборник (1913–1916) — безумно увлеклась — кроме того, нужны были деньги.
И вот — все рухнуло.
У Али на днях будет д<окто>р — третий! — буду говорить с ним, если он скажет, что в человеческих условиях она поправится, буду умолять Вас: м<ожет> б<ыть> можно у Ваших квартирантов выцарапать столовую? Ведь Алина болезнь не заразительная и не постоянная, и Вам бы никаких хлопот не было. Я знаю, что прошу невероятной помощи, но — господа! — ведь Вы же меня любите!
О санатории д<окто>ра говорят, п<отому> ч<то> у меня по утрам 4–5°, несмотря на вечернюю топку, топлю в последнее время даже ночью.
Кормить бы ее мне помогали родные мужа, я бы продала книжку через Бальмонта — это бы обошлось. — Не пришло ли продовольствие из Рязани? — Господа! Не приходите в ужас от моей просьбы, я сама в непрестанном ужасе, пока я писала об Але, забыла об Ирине, теперь опять вспомнила и оглушена.
— Ну, целую. Верочка, поправляйтесь. Если будете писать мне, адресуйте: Мерзляковский, 16, кв<артира> 29. — В.А. Жуковской (для М.И. Ц<ветаевой>) — или — для Марины. Я здесь не прописана. А может быть. Вы бы, Сашенька, зашли? Хоть я знаю, что Вам трудно оставлять Веру.
Целую обоих. — Если можно, никаким общим знакомым — пока — не рассказывайте, я как волк в берлоге прячу свое горе, тяжело от людей.
МЦ.<Приписка на полях:>
И потом — Вы бы, Верочка, возвратили Але немножко веселья [720], она Вас и Сашу любит, у Вас нежно и весело. Я сейчас так часто молчу — и — хотя она ничего не знает, это на нее действует. — Я просто прошу у Вас дома — на час!
М.Впервые — Швейцер В. стр. 336–337. СС-6. стр. 153–154. Печ. по тексту СС-6.
4-20. В.К. Звягинцевой
Москва, <12/25-го> февраля 1920 г., среда [721]
Верочка!
Вы — единственный человек, с кем мне сейчас хочется — можется — говорить. Может быть, потому, что Вы меня любите.
Пишу на рояле, тетрадка залита солнцем, волосы горячие. Аля спит. Милая Вера, я совсем потеряна, я страшно живу [722]. Вся как автомат: топка, в Борисоглебский за дровами — выстирать Але рубашку — купить морковь — не забыть закрыть трубу — и вот уже вечер, Аля рано засыпает, остаюсь одна со своими мыслями, ночью мне снится во сне Ирина, что — оказывается — она жива — и я так радуюсь — и мне так естественно радоваться — и так естественно, что она жива. Я до сих пор не понимаю, что ее нет, я не верю, я понимаю слова, но я не чувствую, мне все кажется — до такой степени я не принимаю безысходности — что все обойдется, что это мне — во сне — урок, что — вот — проснусь.
— Милая Верочка. —
С людьми мне сейчас плохо, никто меня не любит, никто — просто — в упор — не жалеет, чувствую все, что обо мне думают, это тяжело. Да ни с кем и не вижусь.
Мне сейчас нужно, чтобы кто-нибудь в меня поверил, сказал: «А все-таки Вы хорошая — не плачьте — С<ережа> жив [723] — Вы с ним увидитесь — у Вас будет сын, все еще будет хорошо».
Лихорадочно цепляюсь за Алю. Ей лучше — и уже улыбаюсь, но — вот — 39,3 и у меня сразу все отнято, и я опять примеряюсь к смерти. — Милая Вера, у меня нет будущего, нет воли, я всего боюсь. Мне — кажется — лучше умереть. Если С<ережи> нет в живых, я все равно не смогу жить. Подумайте — такая длинная жизнь — огромная — все чужое — чужие города, чужие люди, — и мы с Алей — такие брошенные — она и я. Зачем длить муку, если можно не мучиться? Что меня связывает с жизнью? Мне 27 лет, а я все равно как старуха, у меня никогда не будет настоящего.
И потом, все во мне сейчас изгрызано, изъедено тоской. А Аля — такой нежный стебелек!
— Милая Вера, пишу на солнце и плачу — потому что я все в мире любила с такой силой!
Если бы вокруг меня был сейчас круг людей. — Никто не думает о том, что я ведь тоже человек. Люди заходят и приносят Але еду — я благодарна, но мне хочется плакать, потому что — никто — никто — никто за все это время не погладил меня по голове. — А эти вечера! — Тусклая стенная лампа (круглый матовый колпак), Аля спит, каждые полчаса щупаю ей лоб — спать не хочется, писать не хочется — даже страшно думать! — лежу на диване и читаю Джека Лондона, потом засыпаю, одетая, с книгой в руках.
И потом, Верочка, самое страшное: мне начинает казаться, что Сереже я — без Ирины — вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы я умерла, — достойнее! — Мне стыдно, что я жива. — Как я ему скажу?
И с каким презрением я думаю о своих стихах!
В прошлом — разъедающая тоска… [724]
Впервые — Швейцер В. С. 337–338. СС-6. стр. 149–150. Печ. по СС-6.
5-20. <Н.Н. Вышеславцеву>
4-го русского мая 1920 г. понед<ельник>
Н<иколай> Н<иколаевич>! — Мое горе в том, что я, отвергая всё Ваше, не могу Вас презирать.
И еще мое горе в том, что я не всё Ваше отвергаю.
И третье мое горе — что Вы + доблесть не получили в колыбель — sensibilité (этого слова нет по-русски: чувствительность — глуповато, восприимчивость — общё и холодно.)
Sensibilité — это способность быть пронзенным, уязвимость — за другого — души. — Вам ясно? —
И еще мое горе, что Вы, нежный руками — к рукам моим! — не нежны душою — к душе моей! Это было и у многих (вся моя встреча с 3<авад>ским! [725] — с его стороны!) но с тех я души не спрашивала.
Конечно — руками проще! Но я за руками всегда вижу душу, рвусь — через руки — к душе, даже когда ее нет. — А у Вас она есть (для себя!) — и ласковость только рук — от Вас!!! — для меня оскорбление.
Встреча с Вами для меня большое событие. Господи, когда я думаю о мирах, которые нас рознят, мне все равно — руки! — Не хочу — не льщусь — не надо! Только руки, — я за это себя никогда не продавала!
Когда-то, в минуту ослепительного прозрения, я сказала о себе — маскируя глубину — усмешкой:
«Другие продаются за деньги, я — за душу». С кожей и костями продаюсь — кому не продавалась! — и как всегда хотела быть послушной!
— Еще меня сбивает Ваше «приятно». — Ах, Господи, когда одному мучительно от несоответствия, а другому приятно от соответствия, — какие тут соответствия и несоответствия! — Исконная бездна мужского и женского! —
Милый друг, Вы бы могли сделать надо мной чудо, но Вы этого не захотели, Вам «приятно», что я такая.
…Так гладят кошек или птиц… [726]Вы могли бы, ни разу не погладив меня по волосам («лишнее! — и так вижу!») и разочек — всей нежностью Вашей милой руки — погладив мою душу — сделать меня: ну чем хотите (ибо Вы хотите всегда только лучшего!) — героем, учеником, поэтом большого, заставить меня совсем не писать стихи — (?) — заставить убрать весь дом, как игрушечку, завести себе телескоп, снять все свои кольца, учиться по-английски.
Всю свою жизнь — с 7 лет! — я хотела только одного: умереть за, сейчас, 27 лет я бы попробовала «жить для»…
Не для Вас — Господи! — Вам этого не нужно (потому не нужно и мне!) — а через Вас как-то — словом Вы могли бы взять меня за руку и доставить прямо к Богу. — Вот. —
И блоковские «стишки» я бы Вам простила (о себе уж не говорю!), и Асину книгу, и Вашу Устинью проклятую, и огород — дружочек! — но Вы не захотели мне ничего объяснить, у Вас просто не было напряжения, воли к моему — ну, что ж, скажу! — спасению.
П<отому> ч<то> Павлик А<нтоколь>ский, который пишет:
— пора Офицерам вставать за Петра — [727]и сам никуда не встанет — такого союзника — в моем! — мне не надо. Лучше уж такие враги, как Вы.
Вы сделали дурное дело со мной, дружочек.
Вы сказали: — «Не то, но впрочем можно и так.» В первое я поверила и, поверив в первое, не поверила во второе. (П<отому> ч<то> сказал НАСТОЯЩИЙ человек!)
Вы оказались слишком строгим для знакомого (какое Вам дело?) — и недостаточно — для человека так или иначе вошедшего в мою жизнь.
Да, я в Вашу комнату вошла, а Вы в мою жизнь. — В этом всё. — Я, легкомысленная, оказалась здесь тяжелее Вас, такого веского!
— Знаете, кем бы я бы хотела быть Вам? — Вестовым! Часовым! [728] — Словом, на мальчишеские роли! —
— «Поди туда — не знаю куда, Принеси то — не знаю что.»И я бы шла бы и приносила. (— Господи, какая у меня сейчас к Вам нежность!) — Собакой бы еще сумела быть…
А придется мне — и это наверное будет, и мне грустно —
Ну, словом: от призрака (героя какой-нибудь чужой или собственной книги) — от призрака — к подлецу (живому), от подлеца — к призраку…
— О! —Слушайте внимательно, я говорю Вам, как перед смертью: — Мне мало писать стихи! Мне мало писать пьесы! Мне надо что-нибудь — кого-нибудь (ЛУЧШЕ — ЧТО-НИБУДЬ!) — любить — в каждый час дня и ночи, чтобы всё шло — в одно, чтобы я не успела очнуться, как — смерть.
Чтобы вся жизнь моя была одним днем — трудовым! — после которого спят — каменно.
Поймите меня: ведь всё это мое вечное стремление таскать воду по чужим этажам, помочь какому-н<и>б<удь> дураку тащить узел, не спать, не есть, перебороть (себя и трудность!) — это не просто: избыток играющих сил — клянусь! —
Но не моя вина, что все трудности мне слишком легки — все отречения! — что всё это опять — игра.
Найдите мне тяжесть по мне.
И — чтобы — не тяжесть ради тяжести (как разгребание снега ради мускулов!), а чтобы это кому-н<и>б<удь> было нужно.
Распределите каждый час моей жизни, задавайте мне задачи, как сестры — Золушке:
«Отбери чечевицу от гороха…»
И только — ради Бога! — никаких фей на помощь!
_____Вы м<ожет> б<ыть> скажете в ответ: «У Вас есть большое дело. Воспитывайте Алю.»
Но что я могу — я, которую саму нужно воспитывать?!
Я служить хочу.
— Вот Вам, дружочек, я — наедине с собой, настоящая. Каждое слово — правда. Ни пени́нки!
МЦ.Впервые — НЗК-2. стр. 119–121. Печ. по тексту первой публикации.
6-20. H.H. Вышеславцеву
16-го мая 1920 г. {72} — Воскресенье, — Троицын день
День нашего примирения, дружочек.
Жаль, что я в этот день не могу преподнести Вам — новую любовь! (Не готова еще.)
Мириться с Вами я не пойду, хотя книжка Ваша готова — переписана и надписана [729].
— «Милому Н<иколаю> Н<иколаевичу> В<ышеславцеву>, — с большой грустью — от чистого сердца — в чудесный Троицын день.»
Но у Вас сегодня — вернисаж, Вам не до Троицына дня и не до женских стихов.
Брат Володечки [730], Вы сейчас в роли доктора (дай Бог, чтобы не фельдшера!) — и сами этого не подозреваете…
Вы из породы «уважающих женщину», не смотрящих глубже — не подходящих ближе, чем нужно.
С Вами мы наверное будем хорошо дружить, и, если Вы так умны, как надеюсь, мне с Вами не будет скучно.
— Кончаю Коринну [731]. Освальд уже любит Люсиль, к<отор>ая не поднимает глаз даже, когда одна.
Отвлекаюсь:
Г<оспо>жа де Сталь (Корина) не чувствует природы, — всё для нее важнее, чем природа.
Ctesse de Noailles погибает от каждого листочка.
Ctesse de Noailles — здесь — сродни Беттине [732].
Г<оспожа>жа де Сталь — Марии Башкирцевой [733].
Во первых двух — mon âme émotionale {73}.
Во вторых двух — mon âme intellectuelle {74}.
Во мне всё перемешано.
M<ada>me de Staël — всего наблюдатель и мыслитель, здесь она сродни моим записным книжечкам. В ней моя мужественность.
Так как она живет страстно — le temps presse {75} — у нее нет времени для описаний.
Моя разница с ней: из неглавного (ибо главное для нее определенно — мир внутренний) — ее больше влечет искусство. Лаокоон [734] напр<имер> больше, чем просто дерево.
Я же к Лаокоону, как вообще к искусству (кроме музыки и стихов) — как к науке руку на́ сердце положа — равнодушна.
Природа на меня действует несравненно сильнее, природа — часть меня, за небо душу отдам.
Поняла: в природу — просто отмечаю — мне дороже то, что наверху: солнце, небо, деревья — tout се qui plane {76}. Чего я не люблю в природе, это подробностей: — tout ce qui grouille {77}, изобилия ее не люблю, землю мало люблю. (Люблю сухую, как камень, чтобы нога, как копыто.)
В природе, должно быть, я люблю ее Романтизм, ее Высокий Лад. Меня не тянет ни к огороду (подробности), ни к сажанию и выращиванию, — я не Мать — вечернее небо (апофеоз, где все мои боги!) меня опьяняет больше, чем запах весенней земли. — Вспаханная земля! — это не сводит меня с ума — непосредственно — мне надо стать другой — другим! — чтобы это полюбить. Это не родилось со мной. Когда я говорю «на ласковой земле», «на землю нежную» [735] я вижу большие, большие деревья и людей под ними.
Это не искусственность — я же не люблю искусства! — это та моя — во всем — особенность, как в выборе людей, книг, платьев.
Вспаханная земля мне ближе Лаокоона, но оба мне — в общем — не нужны.
Вспаханная земля — это Младенчество и Мать умиляюсь, преклоняюсь и прохожу мимо.
Кроме того, я в природе чувствую обиду, — слишком всему и всем в ней не до меня. Я хочу, мне надо, чтобы меня любили.
Поэтому мои 2 тополя перед крыльцом мне, пожалуй, дороже больших лесов, они — волей неволей за 6 лет [736] успели привыкнуть ко мне, отметить меня, кто так часто на рассвете глядел на них с крыльца? — А слово mes Jardins — Prince Ligne {78} [737] заменят мне все сады Северной и другой — Семирамиды! [738]
Впервые — НЗК-2. стр. 156–158 (с указанием точной даты).
7-20. Вяч. И. Иванову
20-го русск<ого> мая 1920 г.
Большой роман — на несколько лет. Vous en parlez à Votre aise, ami.
— Moi qui'n ai demandé à l'universe que quelques pâmoisons {79}.
И — кроме того — разве я верю в эти несколько лет? И — кроме того — если они даже и будут — разве это не несколько лет из моей жизни, и разве женщина может рассматривать время под углом какой бы то ни было задачи?
Иоанна д'Арк [739] могла, но она жила, не писала.
Можно так жить нечаянно — ничего не видя и не слыша, но знать наперед, что несколько лет ничего не будешь видеть и слышать, кроме скрипа пера и листов бумаги, голосов и лиц тобой же выдуманных героев, — нет, лучше повеситься!
Эх, Вячеслав Иванович, Вы немножко забыли, что я не только дочь проф<ессора> Цветаева, сильная к истории, филологии и труду (всё это есть!), не только острый ум, не только дарование, к<отор>ое надо осуществить в большом — в наибольшем — но еще женщина, к<отор>ой каждый встречный может выбить перо из рук, дух из ребер!
Впервые — НЗК-2. стр. 172–173. Печ. по тексту первой публикации.
В НЗК-2 письму предшествует запись Цветаевой о визите к ней Вяч. Иванова и разговоре с ним (стр. 165–172).
19го русск<ого> мая 1920 г., среда
Сейчас у меня три радости: Вячеслав Иванов — Худолеев [740] и НН.
Вячеслав Иванов — Царьград Мысли, Худолеев — моя блаженная Вена (династии Штрауссов!), — НН — моя старая Англия и мой английский home {80}, где нельзя не дозволено! — вести себя плохо.
Сегодня чудесный день. <…> Я целый день спала —
<…>
— …стук в дверь — (парадную) — легчайший.
Снимаю засов (спинка стула, работа М<илио>ти) — Вячеслав! — В черной широкополой шляпе, седые кудри, сюртук, что-то от бескрылой птицы.
— «А вот и я к Вам пришел, Марина Ивановна! К Вам можно? Вы не заняты?»
— «Я страшно счастлива.»
(До задыхания! Единственное, что во мне перебарывает смущение, — это Восторг.)
— «Только у меня очень плохо, такой разгром, всё поломано. Вы не бойтесь, там у меня лучше…»
— «Это мы здесь будем сидеть?»
(Беспомощно и подозрительно озирается: столы, половины диванов, отовсюду ноги и локти стульев и кресел, кувшины, разбитый хрусталь, пыль, темнота…)
— «Нне-ет! Мы ко мне пройдем. Слава Богу, что Вы не видите, иначе бы Вы…»
— «Иначе бы я сказал, что у Вас то же, что у меня. Я ведь тоже ужасно живу, — неуютно, всё поломано, столько людей…»
Входим.
— «А где Ваша дочь?» — «Она с Миррой Бальмонт в д<оме> Соллогуба». — «Во Дворце Искусств?» — «Да.»
— «Как у Вас неуютно: темно, такое маленькое окошечко. Скучно жить?»
— «Нет, всё — только не это.»
— «Но ведь Вам же трудно, денег нет. Вы не служите?»
— «Нет, т.е. я служила 5½ мес. — в Интернациональном К<омите>те. Я была русский стол. Но я никогда больше служить не буду.»
— «Чем же Вы живете? Откуда Вы достаете деньги?» — «А так, — продаю иногда, т.е. мне продают, иногда просто дают, теперь паёк, так, — не знаю. Мы с Алей так мало едим… Мне не очень нужны деньги…»
— «Но вещи же тоже когда-нибудь истощатся?»
— «Да.»
— «Вы беззаботны?»
— «Да.»
— «Но ведь можно взять какую-нибудь другую службу…»
— «Я совсем не хочу служить, — не могу служить. Я могу только писать и делать черную работу — таскать тяжести и т.д. И потом столько радостей: вот Коринна Mme de Staël напр<имер>»…
— «Да, идеальных утешений много. — А Вы одна живете?»
— «С Алей. — Впрочем, здесь наверху еще какие-то люди, очень много, постоянно новые…»
— «И это всё Ваши вещи?»
— «Да, обломки, остатки. Я чувствую, что Вы меня презираете, — только — ради Бога! — я до последней минуты старалась отстоять, — но не могу же я вечно ходить следом и смотреть: крадут или не крадут'? И кроме того я ничего не вижу…»
— «Ах, это Вы о сохранении вещей говорите? Нет, — разве можно уберечь! И при виде такого истинно-философского отношения к жизни, у меня не только не презрение, но — admiration {81}»…
— «Это не философское отношение, это просто инстинкт самосохранения души. — Как я рада, что Вы меня не презираете!»
— «Я тогда сказал глупость — о вакантности — это со мной часто бывает.»
— «Нет, это была не глупость, я просто обиделась, но теперь это прошло, я так счастлива!»
— «Надо что-нибудь для Вас придумать. Почему бы Вам не заняться переводом?»
— «У меня сейчас есть заказ — на Мюссэ, но…»
— «Стихи?»
— «Нет, проза, маленькая комедия, — но…»
— «Надо переводить стихи, и не Мюссэ — м<ожет> б<ыть> это и не так нужно — а кого-нибудь большого, любимого…»
— «Но мне так хочется писать свое!!! — Это, конечно, очень смешно, что я говорю, я знаю, что это никому не нужно…»
— «А это уже плохо, — как никому не нужно?»
— «Так — никому, я не в ту полосу, не в ту волну попала, но это нужно — мне, нужно же чем-н<и>б<удь>, утешаться, не могу же я только стирать, только варить…»
— «Что же Вы пишете? Стихи?»
— «Нет, стихов мне мало, пишу их только, когда мне надо к человеку и нельзя подойти иначе. Я страстно увлекаюсь сейчас записными книжками: всё, что слышу на улице, всё, что говорят другие, всё, что думаю я…»
— «Записные книжки — это хорошо, но это только материал. Вернемся к переводу. Разве не хорошо — Бальмонт, переведший Шелли? — Как он его перевел, — другой вопрос. — Перевел, как мог. — Но взять стихи на чужом яз<ыке> и пережить, почувствовать их на своем, — это не меньше, чем писать свое. Это некий таинственный брак, если — действительно — любишь. Выберите себе такого поэта и переводите — часа по 3 в день. — Это будет Ваше послушание, нельзя же без послушания!»
— «Я Вас прекрасно понимаю, особенно последнее, о послушании. Но у меня никогда не хватит времени. Встаю: надо принести воды — готовить накормить Алю — отвести ее к Соллогубу — потом привести опять накормить… Вы понимаете?
И читать еще хочется, — столько прекрасных книг! — А главное — записные книжки, это моя страсть, п<отому> ч<то> — самое живое.»
— «Аля, я за нее очень боюсь. Как ее имя: Александра?»
— «Нет, Ариадна.»
— «Ариадна…»
— «Вы любите?..»
— «О, я очень люблю Ариадну… — Вы давно разошлись с мужем?»
— «Скоро три года, — Революция разлучила.»
— «Т.е.?»
— «А так:»…
(Рассказываю.)
— «А я думал, что Вы с ним разошлись.»
— «О, нет! — Господи!!! — Вся мечта моя: с ним встретиться!»
Говорю о своей неприспособленности к жизни, о страсти к Жизни:
— «Mais c'est tout comme moi, alors! {82} Я ведь тоже ничего не умею.»
(Неизъяснимое обаяние его иностранного: франц<узского> и немец<кого> — говора, чуть-чуть ирония над собой и что-то — чуть-чуть — от Степана Трофимовича.)
— «А Вы пишете прозу?»
— «Да, записные книжки…»
— «Не как Ваша сестра?» — «Нет, короче и резче…» — «Она же хотела быть вторым Ницше, кончить Заратустру.» — «Ей было 17 лет.» — «А знаете, кто раньше Ницше написал Заратустру?» — «?» — «Беттина, Беттина Брентано, Вы знаете Беттину?» — «Беттина гениальна, и я люблю ее, п<отому-что она принадлежала к числу „танцующих душ“». — «Это Вы чудесно сказали!» — «Моя жена — Лидия Петровна <Дмитриевна> Зиновьева-Аннибал…» — «Обожаю ее „Трагический Зверинец“, — там „Чорт“ — вылитая я!» — «Да, если Вы ее знаете, она должна быть Вам близка… И вот, однажды — будучи совсем молоденькой девушкой, в совершенно неподходящей обстановке — на балу — она сказала какому-то гвардейцу: — „Можно дотанцоваться и до Голгофы“. Вы христианка?»
— «Теперь, когда Бог обижен, я его люблю.»
— «Бог всегда обижен, мы должны помогать быть Богу. В каждой бедной встречной женщине распят Христос. Распятие не кончилось, Христос ежечасно распинается, — раз есть Антихрист. — Словом, Вы христианка?»
— «Думаю, что да. — Во всяком случае, у меня бессонная совесть.»
— «Совесть? Это мне не нравится. Это что-то протестантское совесть.»
(На лице гримаска, как от запаха серной спички.)
— «И кроме того — я больше всего на свете люблю человека, живого человека, человеческую душу, — больше природы, искусства, больше всего»…
— «Вам надо писать Роман, настоящий большой роман. У Вас есть наблюдательность и любовь, и Вы очень умны. После Толстого и Достоевского у нас же не было романа.»
— «Я еще слишком молода, я много об этом думала, мне надо еще откипеть…»
— «Нет, у Вас идут лучшие годы. Роман или автобиографию, что хотите, — можно автобиографию, но не как Ваша сестра, а как „Детство и Отрочество“. Я хочу от Вас — самого большого.»
— «Мне еще рано — я не ошибаюсь — я пока еще вижу только себя и свое в мире, мне надо быть старше, мне еще многое мешает.»
— «Ну, пишите себя, свое, первый роман будет резко-индивидуален, потом придет объективность.»
— «Первый — и последний, ибо я все-таки женщина!»
— «После Толстого и Достоевского что дано? Чехов — шаг назад.»
— «А Вы любите Чехова?»
Некоторое молчание и — неуверенно:
— «Нне… очень…»
— «Слава Богу!!!»
— «Что?»
— «Что Вы не любите Чехова!»
— «Терпеть не могу!»
— «А я так привык ко всяким возмущениям и укоризнам в ответ, что невольно замедлился…»
— «Господи! Можно же, наконец, не любить чего-нибудь на свете!»
— «Оставим Чехова в стороне, как ту или иную ценность — в романе он, во всяком случае, ничего не дал. И после Достоевского — кто?»
— «Розанов, пожалуй, но он не писал романов.»
— «Нет, если писать, то писать большое. Я призываю Вас не к маленьким холмикам, а к снеговым вершинам.»
— «Я боюсь произвола, слишком большой свободы. Вот в пьесах например: там стих — пусть самый податливый! Самый гнущийся! — он все равно — каким-то образом — ведет. А тут: полная свобода, что хочешь то и делай, я не могу, я боюсь свободы!»
— «Здесь нет произвола. Вспомните Goethe, так невинно и сердечно сказанное:
Die Lust zum Fabulieren {83}.
Вот лист белой бумаги — fabuliere! {84} — Это сложней, чем Вы думаете, здесь есть свои законы, через несколько страниц Вы уж будете связаны, из нескольких положений — <слово не вписано> — выходов! — а их могут быть сотни — и все прекрасны! — надо будет выбрать одно, м<ожет> б<ыть> найти одно — 101-ое. Вы уже почувствуете над собой закон необходимости. Вот Вам — для примера — всем известный анекдот про Толстого и Анну Каренину.»
— «Не знаю.»
— «Это был действительный случай. Редакция ждет — типография ждет — посыльный за посыльным — рукописи нет. Оказывается, что Толстой не знал, что первым сделала Анна Каренина, вернувшись к себе домой. — То? — Это? — Другое? — Нет. — И вот, ищет, не находит, ищет, — вся книга стоит, посыльный за посыльным.
Наконец, подходит к столу и пишет: „Как только А<нна> К<аренина> взошла в залу, она подошла к зеркалу и оправила вуалетку…“ Или что-то в этом роде. — Вот.»
— «Железный закон необходимости. Ослепительно понимаю.»
— «Не бойтесь свободы — повторяю: свободы нет! — Кроме того, настоящим прозаиком можно сделаться только, пройдя школу стиха.»
— «О, не бойтесь! Длиннот у меня не будет, у меня наоборот стремление к сжатости, к формуле…»
— «Но чтоб и сухо не было, — может получиться схема. Проза Пушкина и то уже суха, хотелось бы подробностей. — и нету. Для прозаика нужно: умение видеть других, как себя и себя, как другого — и большой ум — он у Вас есть — и большое сердце…»
— «О! — Это!..»
— «Как Вы относитесь к А. Белому, п<отому > ч<то> tout compris {85} — это все-таки единственный прозаик наших дней.»
— «Он мне не близок, не мое, скорей — не люблю.»
— «Не любите Андрея Белого! — Т.е. — Вы меня понимаете? — не лично, не человека не любите, а прозаика, автора! Не хотелось бы, чтобы Вы подпали под его влияние.»
— «Я?! — Я не самомнительна, А. Белый — больше меня, но у меня точный ум и я не из породы одержимых. Он ведь всегда под какими-то обломками… Целый город упал на человека, — вот Петербург…»
— «И город-то призрачный!»
— Восторгаюсь. —
(Речь Вячеслава несравненно плавнее, чем здесь, у меня, но тороплюсь — пора за Алей и боюсь забыть.)
— «Однако, уже 10 часов, Вам пора за Алей.»
— «Еще немножечко!» (Вспоминает не в первый раз.)
— «Но ей спать пора.»
— «Но ее там накормят, она всегда рано ложится, и я так счастлива Вами — и разочек — можно?»
Улыбается.
— «Взял бы я Вас с собой во Флоренцию!..»
(О, Господи, ты, знающий, мое сердце, знаешь, чего мне стоило в эту секунду не поцеловать ему руки!)
— «Итак: мое наследье Вам: пишите Роман. Обещаете?»
— «Попытаюсь.»
— «Только меня беспокоит Аля, Вы ведь, когда начнете писать…»
— «О да!»
— «А что будет с ней?»
— «Ничего, будет гулять, она ведь сама такая же… Она не может без меня…»
— «Я всё думаю, как бы Вам уехать. Если мне не удастся выехать заграницу, я поеду на Кавказ. Едемте со мной?»
— «У меня нет денег и мне надо в Крым.»
— «А пока Вам надо за своей дочерью. Идемте.»
— «Только я Вас немножечко провожу. Вам ничего, что я без шляпы?»
Выходим. Иду в обратную сторону от Соллогуба, — с ним. На углу Собачьей площадки — он:
— «Ну, а теперь идите за Алей!»
— «Еще немножечко!»
<Далее две с половиной страницы не заполнены>
8-20. Вяч. И. Иванову
18/31 мая 1920 г.
Письмо к Вячеславу (Переписываю, чтобы потом не забыть, как любила.)Дорогой В<ячеслав> И<ванович>!
Это гораздо больше, чем можно сказать.
Сегодня мне нужно было идти в один дом, где будет музыка, (всегда иду за ней следом, как нищий!) — но я осталась дома, чтобы быть одной — (с Вами.)
Вы для меня такое счастье и такое горе — Ваш отъезд! [741] — что я совсем не знаю, что с этим делать. Буду ждать 15-го июня с ужасом, а оно будет, п<отому> ч<то> именно 15-го июня — сама сегодня утром назначила — солдат принесет керосин.
В<ячеслав> И<ванович>, я нынче сказала о совести, а Вы не поняли, теперь поймите — поймете!
Когда Вы меня сегодня спросили: «Вы очень дружны с Б<альмон>том?» знаете мой первый ответ — проглоченный — хотела написать — не могу — произносить такие вещи еще хуже — предательство, окончательное предательство. И вот теперь у меня угрызения совести.
Но — чтобы Вы не подумали хуже, чем есть — все-таки скажу. Вот что горело у меня тогда на губах:
— «Да, да, очень дружна, очень люблю, но Вы же не можете не понимать, что мне нужны только Вы!»
Это для меня самое невыносимое на свете хотя бы мысленно кого-н<и>б<удь> предать, — тот беззащитный, невинный, не знает, и даже сказать нельзя, п<отому> ч<то> он не раскаяние запомнит, а предательство, — искупить нельзя!
Думаю сейчас об этом своем ответе. — Откуда?
Пожалуй что все-таки: исконная неблагодарность — исконное оправдание наперед — исконное заметание следов — женщины.
Скажу о Вас и о Б<альмон>те.
Б<альмон>т — мне друг, я люблю его и любуюсь им, я окончательно верю в него, у этого человека не может быть низкой мысли, ручаюсь за него в любую минуту, всё, что он скажет и сделает будет рыцарски и прекрасно. С ним у меня веселье и веселие, grande camaraderie {86}, с ним я, он со мной — мальчишка, мы с ним очень много — главным образом! — смеемся. С ним бы мне хотелось прожить 93 г. в Париже, мы бы с ним восхитительно взошли на эшафот.
С ним мы — сверстники, только я, как женщина — старше.
Не усмотрите в этом непочтения — этим не грешу — но почитать Б<альмонта> — обижать Б<альмонта>, я, преклоняясь перед его даром, обожаю его. — Чудесное дитя из Сказки Гофмана [742], — да? (Das fremde Kind {87}.)
Отношение, будучи глубоко по сущности, идет, танцуя по поверхности, как солнце плещется по морю.
_____— Вы. —
С Вами мне хочется вглубь, in die Nacht hinein {88}, вглубь Ночи, вглубь Вас. Это самое точное определение. — Перпендикуляр, опущенный в бесконечность. — Отсюда такое задыхание. Я знаю, что чем глубже — тем лучше, чем темнее — тем светлее, через Ночь — в День, я знаю, что ничего бы не испугалась, пошла бы с Вами — за Вами — в слепую.
Если во мне — минутами это пронзительно чувствую — (по безответственности какой-то!) — воплотилась — Жизнь, в Вас воплотилось Бытие.
— Das Weltall {89}.
(Заметили ли Вы, что нам всегда! всегда! всю жизнь! — приходится выслушивать одно и то же! — теми же словами! — от самых разных встречных и спутников! — И как это слушаешь, чуть улыбаясь, даже слово наперед зная!)
_____Теперь о другом. Одно меня в Вас сегодня как-то растравительно тронуло: «много страдал — люблю жизнь — но как-то отрешенно»…
Го-спо-ди! — Ведь это — живая я. Потому так всё и встречаю, что уже наперед рассталась. Издалека люблю, à vol d'oiseau {90} люблю, хотя как будто в самой толще жизни.
Когда я с Вами сегодня шла, у меня было чувство, что иду не с Вами, а за Вами, даже не как ученик, а как собака, хорошая, преданная, веселая — и только одно не могущая: уйти.
Много собак за Вами ходило следом, дорогой В<ячеслав> И<ванович>, но — клянусь Богом! — такой веселой, удобной, знающей время и место собаки у Вас еще не было. — Купите собачий билет и везите во Флоренцию! —
Но Вы уедите! уедите! уедите!
Здесь в Москве я спокойна, я всегда могу Вам написать (злоупотреблять не буду, хотя — 3-ья страница! — уже злоупотребляю!) — могу окликнуть Вас на каком-н<и>б<удь> вечере, услышать Ваш старинно-коварно-ласковый голос, — да просто сознание, что по одним арбатским переулкам ходим, — я дом Ваш знаю [743], — значит Вы есть!
А во Флоренции я и мысленно не смогу ходить за Вами следом, я ни одной улицы не знаю, я во Флоренции не была!
Сейчас глубокая ночь, Вы спите. — Кто это был в красном платьице? — Ваш сын? [744] — Он Алин однолеток, о нем мне когда-то восторженно рассказывала мать Макса.
Шлю Вам привет — кладу Вам — по-собачьи — голову в колени. — Не сердитесь! Я не буду Вам надоедать, я Вас слишком люблю.
МЦ.Впервые — НЗК-2. стр. 178–180. Печ. по тексту первой публикации.
9-20. Вяч. И. Иванову
Письмо к Вячеслову Иванову(30-го мая ст. ст. 1920 г.)
Дорогой Вячеслав Иванович!Сейчас уже очень поздно, — нет, уже очень рано! — первые птицы поют.
Мне только что снился сон про Вас: Вы уезжали, Вы наконец получили свободу и уезжали, и обещали мне зайти проститься: — «Только я приду к Вам очень поздно, — нет, очень рано, я всю ночь буду укладываться. Только сами уж стерегите меня на дороге, не пропустите!»
И вот, я решила вовсе не идти домой, ночь тянется, гаснут огни (мы не в Москве, а на каком-то рыбачьем островочке, везде море и сети. — Я поставила перед собой Алю, но Аля засыпает, отношу ее на руках домой, лезу на какие-то скалы. Дом на огромном высоком камне, вокруг пропасть. (А вдруг Аля проснется и спросонья упадет в пропасть, а вдруг во сне выйдет из дому?)
Но все-таки оставляю ее, иду на прежнее место, становлюсь, жду Вас. — И постепенный тихий ужас: а вдруг Вы уже прошли, пока я относила Алю? — «Стерегите меня», — а я ушла, не устерегла, и Вы уедете, я Вас никогда не увижу.
Каменею. — Жду — (Такой простой сон, слезы текут, слизываю.)
И вот — уже сереет, ветер, кусты движутся — и вот из-за скал и камней — Вы. Издалека различаю Вас: черная фигура, волосы на ветру. Не окликаю. Идете медленно, подходите, почти рядом. — «В<ячеслав> И<ванович>!» — Но Вы не останавливаетесь, не слышите, глаза закрыты, дальше идете, раздвигая спящими руками ветки.
Потом — провал во сне — помню себя влезающей на отвесную скалу, не за что ухватиться, Вы наверху, Вы сейчас уйдете, не прошу, чтобы помогли, сами протягиваете руку — улыбку Вашу вижу! — руки не беру, Вы не можете меня втащить, это я Вас стащу. И отпуская руками стену — чтобы руки не взять! — рухаю в пустоту.
И это рухаю еще длится! Проснулась и не прошло!
Потому что Вы уезжаете! — Я вчера видела Б<альмон>тов, виза получена, уезжают [745].
И сон — от этого. Только сон верней, п<отому> ч<то> слезы-то текли — из-за Вас! — сторожила-то я — Вас! — Алю-то бросила в страшном доме — из-за Вас!
— Дружочек! — Это такое горе! — А сегодня надо идти за пайком и радоваться, что получила!
И это растравление: что Вы еще здесь, что еще несколько дней будете здесь, что Вас будут видеть столько людей, — все, кроме меня!
Беру Вашу руку — одну и другую — прижимаю к груди — целую.
И вопрос — просьба — и — заранее! — покорность.
МЦ.Впервые — НЗК-2. стр. 188–189. Печ. по тексту первой публикации.
10-20. H.H. Вышеславцеву
Москва, 31-го мая ст. ст. 1920 г.
Н<иколай> Н<иколаевич>!
Мне та́к — та́к много нужно сказать Вам, что надо бы сразу — сто рук!
Пишу Вам еще как не-чужому, изо всех сил пытаюсь вырвать Вас у небытия (в себе), я не хочу кончать, не могу кончать, не могу расставаться!
У нас с Вами сейчас дурная полоса, это пройдет, это должно пройти, ибо если бы Вы были действ<ительно> таким, каким Вы сейчас хотите, чтобы я Вас видела (и каким Вас — увы! — начинаю видеть!), я бы никогда к Вам не подошла.
Поймите! — Я еще пытаюсь говорить с Вами по-человечески — по-своему! — добром, я совсем Вам другое письмо писать хотела, я вернулась домой, захлебываясь от негодования — оскорбления — обиды, но с Вами нельзя так, не нужно так, я не хочу забывать Вас другого, к к<ото-р>ому у меня шла душа!
Н<иколай> Н<иколаевич>! Вы неправильно со мной поступили.
Нравится — разонравилась, нужна (по-Вашему: приятна) — неприятна, это я понимаю, это в порядке вещей.
И если бы здесь та́к было — о Господи, мне ли бы это нужно было говорить два раза, — один хотя бы?!
Но ведь отношение здесь шло не на «нравится» и «не нравится» — мало ли кто мне нравился — и больше Вас! а книжек я своих никому не давала [746], в Вас я увидела человека, а с этим своим человеческим я последние годы совсем не знала куда деваться!
Помните начало встречи: Опавшие листья? — С этого началось, на этом — из самых недр, — до самых недр — человеческом — шло.
А как кончилось? — Не знаю — не понимаю — всё время спрашиваю себя: что я сделала? М<ожет> б<ыть> Вы переоценили важность для меня — Ваших рук, Вашего реального присутствия в комнате, (осади назад!) — эх, дружочек, не я ли всю жизнь свою напролет любила — взамен и страстнее существующих! — бывших — небывших — Сущих!
Пишу Вам в полной чистоте своего сердца. Я правдива, это мой единственный смысл. А если это похоже на унижение — Боже мой! — я на целые семь небес выше унижения, я совсем не понимаю, что́ это такое.
Мне так важен человек — душа — тайна этой души, что я ногами себя дам топтать, чтобы только понять — справиться!
Чувство воспитанности, да, я ему следую, — здравый смысл, да, когда партия проиграна (раньше, чем партия проиграна), но я здесь честна и чиста, хочу и буду сражаться до конца, ибо ставка — моя собственная душа!
— И божественная трезвость, к<отор>ая больше, чем здравый смысл, — она-то и учит меня сейчас: не верь тому, что видишь, ибо день сейчас заслоняет Вечность, не слышь того, что слышишь, ибо слово сейчас заслоняет сущность.
Первое зрение во мне острее второго. Я увидела Вас прекрасным.
Поэтому, минуя «унижение» — и — оскорбления — всё забывая, стараясь забыть, хочу только сказать Вам несколько слов об этой злополучной книжечке.
Стихи, написанные человеку. Под сеткой стихотворной формы — живая душа: мой смех, мой крик, мой вздох, то, что во сне снилось, то что сказать хотелось — и не сказалось, — неужели Вы не понимаете?! — живой человек — я. —
Как же мне всё это: улыбку, крик, вздох, протянутые руки — живое!!! — отдавать Вам, к<оторо>му это нужно только как стихи?!
«Я к этой потере отношусь не лирически», а стихи-то все, дар-то весь: Вы — я — Вам — мое — Вас… Как же после этого, зачем же после этого мне Вам их давать? — Если только как рифм<ованные> строки — есть люди, к<отор>ым они более нужны, чем Вам, ибо не я же! — не моей породы поэты — Ваши любимые!
То же самое что: тебе отрубают палец, а другой стоит и смотрит, — зачем? Вы слишком уверены, что стихи — только стихи. Это не так, у меня не так, я, когда пишу, умереть готова! И долго спустя, перечитывая, сердце рвется.
Я пишу п<отому> ч<то> не могу дать этого (души своей!) — иначе. — Вот. —
А давать их — только п<отому> ч<то> обещала — что ж! — мертвая буква закона. Если бы Вы сказали: «Мне они дороги, п<отому> ч<то> мне»…, — «дороги, п<отому> ч<то> Ваши», «дороги п<отому> ч<то> было»…, «дороги, п<отому> ч<то> прошло», — или просто: дороги — о, Господи! как сразу! как обеими руками! —
А так давать, — лучше бы они никогда написаны не были!
— Странный Вы человек! — Просить меня переписать Вам стихи Д<жалало>вой [747] — привет моей беспутной души ее беспутной шкуре.
Зачем они Вам? — Форма? — Самая обыкновенная: ямб, кажется. Значит, сущность: я. — А то, что Вам написано, Вами вызвано. Вам отдано, — теряя это (даже не зная — что, ибо не читали) Вы не огорчены лирически, а просите у меня книжечку, чтобы дать мне возможность поступить хорошо. — Не нужно меня учить широким жестам, они все у меня в руке.
— Как мне бы хотелось, чтобы Вы меня поняли в этой истории со стихами — с Вами самим!
Как я хотела бы, чтобы Вы в какой-нибудь простой и ясный час Вашей жизни просто и ясно сказали мне, объяснили мне: в чем дело, почему отошли. — Так, чтобы я поняла! — поверила!
Я, доверчивая, достойна правды.
Устала. — Правда как волна бьюсь об скалу (не не-любви, а непонимания!)
И с грустью вижу, насколько я, легковесная, оказалась здесь тяжелее Вас.
МЦ.— И на фронт уходите [748] и не сказали. —
_____ Так, выбившись из страстной колеи, — Настанет день — скажу: «Не до любви!» Но где же на календаре веков Тот день, когда скажу: «Не до стихов!» [749] _____(Можно было бы — обратно!)
Впервые — НЗК-2. стр. 190–192. Печ. по тексту первой публикации.
11-20. В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву
<3-го июля 1920> [750]
Милая Вера, милый Саша!
В четверг будем у Вас: Волькенштейн [751] и я, — может быть, Бебутов [752], если Волькенштейн его поймает, я давно уже его не видала.
Приходили: Аля, моя приемная дочка (милиотиевская старшая [753]) — и я.
МЦ.Вторник.
Волькенштейн захватит пьесу «Паганини» [754].
Впервые — Швейцер В. стр. 337. СС-6. стр. 155. Печ. по тексту СС-6.
12-20. <В.Д. Милиоти>
Москва, 15-го августа — Успение
Видела Вас. Полушутя спросила, со всеми ли Вы целуетесь. — «Ни с кем». — Гм. — Впрочем, если это даже так — сейчас, это не будет так уже три дня спустя.
Поэтому мне приблизительно всё равно.
Если Вы говорили неправду — жаль. Вы теряете единственный случай за всю Вашу жизнь быть правдивым с женщиной.
(Сейчас в черноте играет унылый солдатский рожок, — думаю о том, что у Вас нет души, есть дух (Пафос), — воображение (творчество) — и сердце (припадки любовности, — вроде малярии!). Но Вам нечем и нечего ответить на такой рожок!) —
Так, повидались, — дитя до ржи и дитя во ржи, — все великолепно, теперь можно сделать передышку. «Завтра приду» — потом — через Эву [755]: «сегодня приду» — сегодня просто не пришли, — три дня, — я уже, кажется начинаю устанавливать, что я нужна Вам через пять дней на шестой.
Ах, дружочек, я предпочитаю разряжать / разгружать {91} души, чем тела!
Печ. впервые. Письмо (черновик) хранится в архиве М. Цветаевой в РГАЛИ (Ф. 1190, оп. 3).
Адресат установлен предположительно.
13-20. <В.Д. Милиоти>
Москва, 18-го русск<ого> августа 1920 г.
— Только что докурила последнюю папиросу у моего подъезда. Вы не зашли ко мне — и потому-что устали, — и потому-что боялись объяснений? А может быть Вы уже так поверили в мою мужскую сущность, что не предполагаете и возможность объяснений со мной?
А моя мужская сущность, дружочек, не более и не менее как моя женская délicatesse de coeur {92} — и к себе и к другому.
Я раньше другого понимаю, — в этом моя сила.
И, поняв, иду или навстречу или отхожу. Человеку со мной легко, мне с собой — трудно.
Думаю о Вас и ничего не понимаю. Если Вы никого другого не любите, Вы все-таки оторвались от меня. Это ясно. Будем говорить просто: в первые дни — недели — нашего знакомства, Вы бы нашли для меня время, — для себя нашли бы! В том-то и дело, что тогда — для себя, сейчас — для меня. — Для себя всегда хватает — даже в разгар театрального сезона, даже в Советской Москве! — Так? —
— Если Вы никого другого не любите, Вы и меня не любите. — Достоверность. —
Когда любят, хотят быть вместе, рвутся к человеку, скучают без человека, жалко есть яблоко без него.
— Так? —
Так, дружочек. Это Вам подтвердят и Шекспир, и поволжский плотогон, и негр с кольцом в носу, и собака воющая без хозяина, и через тысячу лет так будет.
— Скучно. — В <нрзб> —
Странно звучит, но сейчас В<олькенш>тейн более привязан ко мне, чем Вы, и мне с ним добрее, проще, человечнее.
А все-таки лучше, что Вы не зашли, мне сейчас больно, но спокойно, я одна, поезда воют, Аля спит, нет этой смуты от неведомо-кого в комнате, ибо: Вы для меня утрачены, я Вас совсем не понимаю, собеседник остался, человек исчез.
Вы мне ничего не сказали, мне не надо слов, я давно с Вами рассталась, — тогда в те долгие-долгие вечера (ночи, утра) когда сторожила Вас на подоконнике.
Как я Вас тогда любила и как мне было больно!
— Потом, после встречи с Вами — после того перерыва уже ничто не возобновилось, человек смог без меня, — этого не вытравишь ничем. Я отстранилось, сама смогла без Вас, твердо смогла. — Вы может быть и не понимаете такого отстранения, я не отказала ни в чем? — Я знаю только один отказ — невольный — когда душа отказывается верить — все остальные отказы, в конце концов, мелкие счеты, особенно когда не трудно отказать.
Вся моя линия с Вами (как со всеми) была: бери, раз нравится, — только другие брали вещи, большие и маленькие, Вы взяли всего человека, другие дорожили — раз вещи, Вы человека сочли за вещь и, не ценя вещей, бросили.
Что у меня к Вам осталось? — Волнение от чудесного голоса (Вашего вернейшего сообщника!) — прелесть Ваших движений — очарованность собеседником, — умиления немножко.
И еще — чувство какой-то незаслуженной обиды — хотя — я глупа — в любви всё незаслуженно.
Печ. впервые. Письмо (черновик) хранится в архиве М. Цветаевой в РГАЛИ (Ф. 1190, оп. 3).
Адресат установлен предположительно.
14-20. <В.Д. Милиоти>
Москва, август 1920 г.
Милый друг!
Перебрав сейчас мысленно, чего я хочу (из сущего) — воблы, яблоко, чаю, папирос, — я поняла, что ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого, — а пятого: а именно — писать Вам.
И вот, — уже пыталась было настроить себя на сонный лад, — сразу ожила, развеселилась, — ночь ведь втрое длиннее дня! — всё успею!
— Я хочу сказать Вам о себе и Вас всю правду. (Простите, что «о себе» на первом месте, но так оно сейчас и есть). — Всю правду. — Это не должно Вас страшить. Во-первых, Вы это письмо получите только после моего отъезда — ответ исключается, — во-вторых: правда, когда человек умен, всегда ценнее вымысла, (а может быть: вымысел в руках умного человека не может не <пропуск слова> правдой. Но я уклоняюсь!)
Дружочек, я ничего не знаю — и я всё знаю.
Вы любите кого-то другого.
Началось это так: после тех двух недель, когда мы с Вами не виделись, у Вас и у меня пропало одно и то же чувство: вечности, неразрывности, невозможности друг без друга.
(Верьте на слово, я права).
Тогда, при встрече, я — отчасти от радости, что Вы со мной, — больше из природной сдержанности во всем для себя тяжелом — тогда я совсем Вам не рассказала, чем были для меня эти две недели: как я сидела ждала, лежала ждала, ходила ждала, как грызла себе сердце на подоконнике и залечивала его у письменного стола. — Милый друг, когда с Вами так будет, Вы вспомните и поймете. —
Думаю, что Вы не поняли легкости моей протянутой руки, — истолковали вообще легкостью — равнодушием.
Классическая сцена ревности больше бы убедила Вас в моей любви. (Простонародное: «не ревнует — не любит».) Ревность. — Не знаю. —
Если ревность — боль оттого, что человек уходит, у меня, конечно, была ревность. Я только не направляю ножа на другого. Поэтому и нет сцены. Но нож все-таки есть.
И сейчас есть.
— Дорогой! — Сейчас, в настоящую минуту, я Вам совсем не нужна. Я ведь знаю Вас, Вы идолопоклонник. Записочки, колечки, «зверски скучал», — Tout va de son Drain {93}, — y Вас для меня нет ни секунды времени, ни мысли, Вы весь поглощены, Вы и себя не помните. Я люблю Ваш Пафос — и — пересиливая себя — говорю Вам: «Лучше так — чем никак!».
Мое письмо Вы получите только через месяц. Не знаю, равняется ли душевный диапазон Вашей героини — диапазону творческому, поэтому не знаю, что́ в Вашем отношении — месяц, не думаю — руку на сердце положа — чтобы таких месяцев набралось — слишком много!
Впрочем, я Вас мало знаю, знаю только с собой, других Вы ведь, кажется, любили — годы?
Но не об этом я хочу говорить. Я хочу только объяснить Вам, что не из забывчивости, не из равнодушия так легко отпустила Вас, — а оттого, что умна — и — хорошо воспитана.
— Видите, когда человек перестает любить меня, (замечаю это всегда раньше, чем он!) — я сразу перестаю верить, что он когда-либо любил меня, просто не помню, всё истолковываю иначе, — откуда же взять даже мысленный упрек, — раз ничего не было?! — Это не неблагодарность, — просто смущенность всего существа.
Эти два месяца с Вами для меня сейчас как сон — не потому что так прекрасны — (хотя они и были прекрасны!) — но потому что я не понимаю как они могли быть. Я справедлива: не преувеличиваю и не приуменьшаю ни Вас, ни себя: Вы стоите меня, а я — Вас, — но — очевидно: коса на камень. Вы еще более жадны на любовь, чем я.
Печ. впервые. Письмо (черновик) хранится в архиве М. Цветаевой в РГАЛИ (Ф. 1190, оп. З).
Адресат установлен предположительно.
15-20. A.C. Ерофееву
<17-го октября 1920 г.> [756]
Милый Саша!
Ждали Вас с Влад<имиром> Мих<айловичем> [757], ели яблоки, читали. Привет.
МЦ.
Впервые — Швейцер В. стр. 337. СС-6. стр. 155. Печ. по тексту в СС-6.
16-20. М.А. Волошину
Москва 21-го ноября / 4-го дек<абря> 1920 г.
Дорогой Макс!
Послала тебе телеграмму (через Луначарского [758]) и письмо (оказией). И еще писала раньше через грузинских поэтов — до занятия Крыма [759].
Дорогой Макс, умоляю тебя, дай мне знать, — места себе не нахожу, каждый стук в дверь повергает меня в ледяной ужас, — ради Бога!!!
Не пишу, потому что не знаю, где и как и можно ли.
Передай это письмо Асе. Недавно ко мне зашел Е.Л. Ланн [760] (приехал из Харькова), много рассказывал о вас всех. Еще — устно — знаю от Э<ренбур>га [761]. Не трогаюсь в путь, потому что не знаю, что меня ждет. Жду вестей.
Поцелуй за меня дорогую Пра, как я счастлива, что она жива и здорова! — Скажи ей, что я ее люблю и вечно вспоминаю. — Всех вас люб<лю>, дорогой Максинька, а Пра больше всех. Аля ей — с последней оказией — написала большое письмо [762].
Я много пишу. Последняя вещь — большая — Царь-Девица [763]. В Москве азартная жизнь, всяческие страсти. Гощу повсюду, не связана ни с кем и ни с чем. Луначарский — всем говори! — чудесен. Настоящий рыцарь и человек.
Макс! Заклинаю тебя — с первой возможностью дай знать, не знаю, какие слова найти.
Очень спешу, пишу в Тео [764] — среди шума и гама — случайно узнала от Э<ренбур>га, что есть оказия на Юг.
— Ну, будь здоров, целую всех Вас нежно, люблю, помню и надеюсь.
МЦ.Впервые — ЕРО. стр. 179–180 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 62–63. Печ по НИСП. стр. 281.
17-20. Е.Л. Ланну [765]
Кусочек письма:
Дружочек! — Только что расстались с Вами, на щеке всё еще чувство Вашей куртки. — Хочу быть с Вами и должна быть с Вами, — я сейчас обокрадена — Вы бы лежали и спали, я бы сидела и смотрела, я люблю Вас больше себя, мне совсем не нужно (до страсти нужно!) всё время говорить с Вами, я безумно боюсь Вашей усталости, — о, Ваше личико нежное, изломанные брови, кусочек уха под волосами, впадина щеки! — Пишу и уже чувствую теплую черноту Ваших волос под губами, на всем лице! — Я бы просто сидела рядом, Вы бы спали. — Ваши кверху заломленные руки! — Но Вы бы не заламывали рук, я бы упорно загоняла бы их под плэд. — Знаете, как я сижу? — Правая рука за Вашей спиной, левая у Вас под головой, тихонько и бережно соединяю обе. — Чувствую боком милый остов Вашего тела, такого пронзительного сквозь толщу всех плэдов и шуб! — Когда Вы, в первый раз после меня, ляжете ночью, почувствуйте, пожалуйста, меня возле себя, — я забыла, что лоб мой — на Вашем.
Обожаю Ваш лоб.
_____Вынула сейчас Вашу цепочку и поцеловала, — мне еще никто никогда не дарил цепочки — и как хорошо, что внутри, не на показ, так близко от души!
Вспомните меня — живую! — как я сидела возле Вас (и еще буду сидеть!) — обняв — и не обняв — слушая — любуясь отстраняясь, чтобы лучше любоваться — вспомните меня!
_____Завтра мы встретимся в Тео, увижу Вас в шубе: острая морда в воротнике, белые перчатки.
Потом увижу Вас вечером у Жозефа — Парижского мальчика — с двукрылыми волосами, с победоносным взлетом лба, в лиловой куртке.
Потом увижу Вас в театре: хочу в ложе, чтобы сидеть близко, — и, клянусь Богом, что это не пристрастье к шкуре (которой у Вас нет и к<отор>ую люблю нежнейше!) — а страсть к Душе.
Пишу Вашим пером. — Серебряное и летит. — Как я буду жить без Вас?!
_____(Конец ноября 1920 г.)
Впервые — НЗК-2. стр. 225–226. Печ. по тексту первой публикации.
18-20. Е.Л. Ланну
28-го русск<ого> ноября 1920 г.
— После вечера у Гольдов [766]. —То, что я чувствую сейчас — Жизнь, т.е. — живая боль. И то, что я чувствовала два часа назад, на Арбате, когда Вы — так неожиданно для меня, что я сразу не поняла! — сказали:
— «А знаете, куда мы поедем после Москвы?»
И описание Гренобля — нежный воздух Дофинэ — недалеко от Ниццы — монастырская библиотека — давно мечтал… Гренобль, где даже тень моя не проляжет!
— Дружочек, это было невеликодушно! — Лежачего — а кто так кротко лежит, как я?! — не бьют: — Понимали ли Вы, что делали, или нет? —
Рядом с Вами идет живой человек, уничтоженный в Вас — женщина (второе место, но участвует!) — и Вы в спокойном повествовательной тоне вводите ее в свою будущую жизнь — о, какую стойкую и крепкую! — где ей нет места, — где даже тень ее не проляжет!
А если не нарочно (убеждена, что нечаянно, — тем хуже!) — это дурной поступок, — ибо я и это приму.
Вы для меня растравление каждого часа, у меня минуты спокойной нет. Вот сегодня радовалась валенкам, — но глупо! — раз Вы им не радуетесь.
— Хороша укротительница?!
Впервые — НЗК-2. стр. 226–227. Печ. по тексту первой публикации.
19-20. Е.Л. Ланну
Москва, 6-го русс<кого> декабря 1920 г., воскресенье
Из трущобы — в берлогу — Письмо первое —Дружочек!
После Вашего отъезда жизнь сразу — и люто! — взяла меня за бока.
Проводив Вас взглядом немножко дольше, чем было видно глазами, я вернулась в дом. У Д<митрия> А<лександровича> [767] было милое, вопрошающее — и сразу благодарное мне! — лицо {94}. Благодарная за похвалу, я сделалась вдвое веселей и милей, чем при Вас. Месхиева [768] ругала Малиновскую [769]. Д<митрий> Алекс<андрович> деликатно опровергал. Аля возилась с собакой, Д<митрий> А<лександрович> с Алей.
Потом мы с Месхиевой пошли домой, я — оберегая ее от ухабов, она меня — от автомобилей.
— «Вы очень подружились с Ланном?» — «Да, — большой поэт и еще больший человек. Я буду скучать о нем». «Вам нравятся его стихи?» — «Нет. Извержение вулкана не может нравиться. Но — хочу я или не хочу — лава течет и жжет».
— «Он в Харькове был очень под влиянием Чурилина» [770]. — «Однородная порода. — Испепеленные. — Испепеляющие».
Назначив друг другу встречу в понедельник (хотя любить ее не буду, — настороже, себялюбива и холодна!) — расстались.
Дома я уложила Алю. — Да, постойте! — Взойдя, я сразу поняла: не чердак и не берлога, — трущоба! И была бы совсем счастлива определением, если бы рядом были Вы, чтобы оценить. — Поняв трущобность, удовлетворилась ею, и ушла ночевать в приличный дом, — к знакомым Скрябиной. Там были одни женщины, говорили про спиритизм и сомнамбулизм, я лежала на огромном медведе, не слушала, спорила, соглашалась и спала. Ночью тридцать раз просыпалась, курила, бродила, будила и ушла до свету, оставив всех в недоумении, — зачем приходила.
— Такой Москвы Вы не знаете, да и я забыла, что она есть! — Тишина — фарфоровость — блеск и ломкость. Небо совсем круглое и все розовое, и снег розовый, — и я тигровым привидением [771] — Не встретила ни человека.
Дойдя до Смоленского [772], решила — noblesse oblige {95} — навестить — посетить его останки — и — о удивление! — не помер: мужик с дровами!
— «Купчиха, дров не надоть!» — «Даже очень!»
Впряглась с мужиком и довезла до дому 4 мешка дров. Отдала всю пайковую муку, — по крайней мере не украдут, а дрова я потороплюсь сжечь. И сразу — глупое сожаление: — «Ну, конечно, — только он уехал, — и дрова! А я его морила холодом». (Но поняв, что Вам сейчас все равно — тепло, сразу успокоилась.)
— В 12 ч<асов> дня посылаю Алю на Собачью площадку (к<отор>ой по-Вашему нет), — в Лигу Спасения Детей, за каким-то усиленным питанием, а сама сажусь дописывать те — последние — стихи, диалог над мертвым [773].
Потом голова болит, ложусь на Алину кровать, покрываюсь тигром и пледом, дрова есть — значит, можно не топить, ужасный холод, голова разлетается, точно кто железным пальцем обводит веки. — Сплю. — Просыпаюсь: темнеет. Али нет. — Иду к Скрябиным [774]. — Там нет. — Вспоминаю год назад — приют, госпиталь, этот ужас всех недр [775] — вспоминаю и последние две недели сейчас, мою сосредоточенность на себе, мое раздражение на ее медленность, мое отсутствие благодарности Богу, что она есть. Возвращаюсь, жду, читаю какую-то книгу. — Темнеет. — Не могу сидеть, оставляю ей записку в дверях, иду во Дворец Искусств, к одному художнику [776]. — «Была у Вас Аля?» — «Только что ушла». Опять домой. Часы проходят. (Уже 5 ч<асов>). — Ее нет. — Дверь раскрывается. В<олькен>штейн. — «М<арина> И<вановна>, я пришел к Вам насчет пьесы, я хочу устроить…» — «Мне не до этого, — Аля пропала. Оставьте меня». — Упорствуя, расспрашивает. Неохотно — резко — почти грубо рассказываю. — Идет искать. — Жду. — Час проходит. Совсем темно. Возвращается. Во Дворце ее видели все: была и у Рукавишникова [777], и в канцелярии, и у цыган, и в подвалах, — но нигде нет [778]. — Садится. — «М<арина> И<вановна>, Вы еще увидите того поэта?» — «Нет». — «Но будете ему писать?» — «Не знаю». (Недоумение.) — «Мне очень жаль, что так мало пришлось поговорить с ним тогда». (— «Подлизывается!» — думаю я с презрением). — «Он мне очень понравился. И — заметили ли Вы, что он совершенно похож на коненковского Паганини, — точно с него делано!» — Я, оживляясь: — «Коненковского Паганини я не рассмотрела, — близорука, но — как странно — в первую же встречу, через 10 мин<ут> после того, как он вошел, сказала ему, что он похож на Паганини» [779]. — «Значит, Коненков правильно понял Паганини». — «Так вот, если будете ему писать, напишите ему следующее. — Я потом думал о нем. — Его творчество — и декламация — и всё явление… Этот человек сведенный, судорожный, исступленный. Человек трудной жизни. Мне пришел в голову такой пример: когда Станиславский смотрит молодого актера, он первым делом говорит ему: — „Легче! Легче! — Так, распустите мускулы. — Совсем свободно“. — „И всё?“ — „Да, и всё. Чувствуйте: напряжение позади, сейчас освобождение. Не бойтесь, что Вам даром платят деньги!“ — Так вот, я думал о нем. Он не доверяет легкости, — он брезгует ею. Он намеренно громоздит трудности. Ему нужны только непосильные задачи. О, ему трудно жить, — тем более, что все это из глубины, в большой серьез».
— «Вы не так… то есть Вы более… наблюдательны, чем я думала».
— «Жалко, что Вы не познакомили нас с ним раньше, я бы показал ему Станиславского. Это гениальный человек прежде всего».
(Прав.) — Благодарная за «показал бы ему», а не «показал бы его», чуть проясняюсь и прошу у него спички. — Дает и много. — «Но Аля!!» — Уже 7 часов. (Ушла в 12 ч<асов>) — Обещает еще раз, после того как зайдет домой, идти искать во Дворец. Уходит. Я лежу и думаю. Думаю вот о чем. — Господи, и тогда я мучилась, пальцем очерчивала, где болит, но какая другая боль! Та боль — роскошь, я на нее не вправе, а эта боль — насущная, то, чем живут, от чего не вправе не умереть. (Если Аля не найдется!) — Аля — Сережа. Ася — на грани, и насущное, и роскошь. Ланн — только роскошь, и вся боль от него и за него — роскошь, и сейчас Бог наказывает. Ланн — во имя мое, могло бы быть и во имя его, но не вышло — не выйдет — ему не нужно — это у него уже есть — и даже если бы не было — ему (такой породе!) не нужно. Отношение неправильно пошло, исправилось только к концу — выпрямилось, за день до его отъезда. Я поняла: никакой заботы! Холодно — мерзни, голоден — бери, умирать — умирай, я ни при чем, отстраняюсь — галантно! — без горечи. Ему нужно: несколько голов (умов) — мужских, от времени до времени — подобие любви, (жесточайшая игра для обтачивания когтей против себя же!) или мужская дружба (теоретизирование — планы детективных контор и готовность — если надо — умереть друг за друга! Только не друг без друга!) — или женское обаяние: духи, меха — и никакой грудной клетки!
Думала без горечи: пристально и стойко. — «Если бы суждено было встретиться еще — о, замечательная встреча! Я бы дала ему ровно столько и ровно то, что ему нужно. — Но — Аля?!!!»
_____В 9-ом часу появился В<олькен>штейн, ведя Алю за руку, — напыщенный и прохладный в сознании всего своего великодушия в ответ на всю мою подлость.
Подвел — поклонился — и вышел.
— «Аля, что это значит?» — «Я хотела испытать горе, — как ребенок живет без матери». — «Где ты была?» — «Я целый день сидела в сугробе и голодна, как смерть». — «Гм… — И никуда не заходила?» — «Нет». — «Нигде, нигде не была, — ни у Скрябиных, ни у X, ни у Z, ни у цыган?» «Ни — где. Ходила по пустырям и горевала». — «А кто был во Дворце? Кто веселился с детьми такого-то? Кто глядел на шахматный турнир? Кто? — Кто — кто? — ?» — «Марина, простите!» —
Яростно посадила ее на табурет посреди комнаты. — «Так, руки вдоль колен! Так, не двигаться! А что я горюю, что я думаю, что ты попала под автомобиль, а что Е<вгений> Л<ьвович> уехал и теперь надо любить меня вдвое — ты об этом не думала?!» и т.д. и т.д.
Дверь настежь: художник из Дворца [780] (открывший после смерти Ирины серию моего дурного поведения — просто — за сходство с Борисом {96} [781] — как первое, чему я улыбнулась после всего того ужаса).
«М<арина> И<вановна>! Я к Вам! Я по Вас соскучился. Можно?» (Когда-то видались три раза в день, теперь не видались с июня, хотя соседи.)
«Очень рада! Садитесь. Кушать будете?»
«Все, что дадите!»
Аля: «М<арина>! Он тоже голоден, как смерть!» Я: «Чудесно! Два таких аппетита в доме, — мне больше не нужно! Аля, разжо́ги!»
И — пошло! — Топлю, колю, пилю, сидят, едят.
«Аля, мойся!» — К 11-ти мы на улице. — Куда идти? Пошли к Антокольским (соседям, он — поэт и неплохой). Съели очень много черного хлеба и ушли. Оттуда на Арбатскую площадь, — уже 12 ч<асов>, оттуда — к Скрябиным, оттуда в 2 ч<аса> по домам.
Сегодня он опять зайдет за мной: неутомимый ходок, как я, мне с ним весело — и абсолютно безразличен. Просто — для не сидения по вечерам в трущобе. — А о сходстве с Борисом — вот что: вьющаяся голова (хотя темная) — и посадка головы, — разлетающийся полушубок — нелепая грандиозность — химеричность — всех замыслов, — обожание нелепости, comme telle {97} — так мы, напр<имер>, в прошлом году всю дорогу из Замоскворечья к моему дому говорили о каком-то баране, сначала маленьком: бяша, бяша! потом он уже большой и нас везет (под луной — было полнолуние — и очень поздний час ночи) — потом он, везя, начинает на нас оглядываться и — скалиться! потом мы его усмиряем, — один бок жареный, едим — и т.д., и т.д., и т.д. — В итоге — возвращаясь каждый к себе домой: хочу лечь — баран, книгу беру — шерстит — баран! печку топлю, — пахнет паленым, — он же сгорбатился — и т.д.
Идем вчера, смеясь, — вспоминаем.
— «Да, но наш баран — все-таки не баран! И в этом наше оправдание», — говорит он.
— Крылатый баран! — поправляю я и — внезапно — «от нашего барана до Пегаса — один шаг!»
_____Простите за всю эту ересь — это для характеристики.
Иду вчера и думаю. — «Я дура. Премированная дура. Баран — поддевка — веселье. При чем тут любовь? Зачем всегда это бесплатное приложение? — Моя галантность? — Нет, глупость. — Надо же понять, наконец, что не всякое желание другого — насущное, что есть — в этой области и — м<ожет> б<ыть> — больше, чем в других — Прихоть. А я, всегда принимающая малейшую причуду другого au grand sérieux {98} — просто дура!»
— Но, дружочек, у меня есть одно оправдание: я невозвратна. Не потому, что я так решаю, а потому что что-то во мне не может вторично, — другие глаза и голос и та естественная преграда, которая у меня никогда не падает — ибо ее нет! — при первом знакомстве, и неизбежно вырастает — во втором. — Точно я, заплатив дань своему женскому естеству (формальному!) — я внимательно занимаюсь изучением того, кто передо мной.
И это так невинно, что ни один — клянусь! — ничего не помнит.
_____Об одном я не успела ни написать, ни сказать Вам, — а это важно! — Об огромном творческом подъеме от встречи с Вами. — Те стихи Вам [782] — не в счет, просто беспомощный лепет ослепленного великолепием ребенка — не те слова — все не то — (я, но — не Вам, — поняли?) — Вам нужно все другое, ибо Вы из всех, меж всех — другой, — все та же моя неверная начальная слепота — верно-неверная лунатическая дорога.
Ничего не обещаю — ибо Вам ничего не нужно! — но просто повествую Вам — как все это письмо — ибо Вы ценитель и знаток душ! — что то что с Вас сошло на меня (говорю как — о горе́!) другое и по-другому скажется, чем все прежнее. — Спасибо Вам! — Творчески!
вторник
Вы уже день, как дома. А я уже три дня — как не́ дома. — Знаете, где я вчера была? — Судьба! — В Спасо-Болвановском!!! [783]
— Дружок, он есть! — И действительно — за́ Москвой-рекой! — Далё-еко! — Длинный, горбатый, без тротуаров и мостовых, весь в церковных домиках, — и везде светло, тепло! — Какая там советская Москва! — Времен Иоанна Грозного!
Мы шли со Скрябиной, — она в своей котиковой шубе, на узких как иголки каблуках, я медведем в валенках, и она все время падала.
И ка́к — мне́ — бы́ло — жа́ль!
(NB — не ее, конечно!)
_____Между прочим: Вам совсем не надо читать этого письма за раз, — ведь оно писано кусочками — клочочками, день за днем, почти час за часом.
Так и читайте!
А то мне совестно, а Вам, взглянув, — наверное, безнадежно!
_____Сегодня — случайно — наткнулась на Белую стаю [784]. — Как жаль, что забыла еще поблагодарить! —
Раскрыла: Ваш почерк. Прочла. Задумалась. Вы уже наверное не помните, что написали, я сама читала как новое. Как меня — ужасом! — восхищает бренность. — Милая Ахматова — милый Вы — милая я. —
— Кончила те стихи, над мертвым. Хотела по-Вашему (вопросом), вышло по-моему (ответом, — и каким!) — Если это письмо будет отправлено, присоединю и стихи.
_____Моя главная забота сейчас: гнать дни. Бессмысленное занятие, ибо ждет — может быть — худшее. Иногда с ужасом думаю, что — может быть — кто-нибудь в Москве уже знает о С<ереже>, м<ожет> б<ыть> многие знают, а я — нет. Сегодня видела его во сне, сплошные встречи и разлуки. — Сговаривались, встречались, расставались. И все время — через весь сон — надо всем сном — его прекрасные глаза, во всем сиянии.
(Сейчас спрашиваю Алю: — «Аля, что печка?» И ее спокойный ответ: — «Печка? — Головешит!» — Так, собака, бегущая, прихрамывая, у нее «треножит», большевики о победах — «громогласят» и т.д.)
Купила себе — случайно, как всё в моей жизни «полушалок» (обожаю слово!), сине-черный, вязаный. Люблю его за тепло, — «в гроб с собой возьму!»
(О, мой гроб! Мой гроб!) — Как у русских князей: с конем, с женой, с рабом, с броней! — И — в итоге — как Петр перед смертью: ОТДАЙТЕ ВСЁ!)
Купила на улице у старухи, к<отор>ая, живя 18 лет (а может быть — 81 г<од>!) в Москве, ни разу не была на Смоленском. — «Я зря болтаться никогда не любила». Слушала с наслаждением. — Вот мой Потебня! [785] — И еще завидовала: «зря болтаться», — что я другого с рождения делала?!
четверг
Мой друг! — Я уже начинаю отвыкать от Вас, забывать Вас. Вы уже ушли из моей жизни. — Послезавтра — нет, завтра — неделя как Вы уехали. — Помните, я Вас просила: до субботы! — а Вы уехали в пятницу, а мне так и осталось в памяти: суббота.
Вы — умник и отвесно глядите в души. Я бы хотела, чтобы Вы поняли: начинаю отвыкать, забыла.
Мне, чтобы жить — надо радоваться. Пока Вы были здесь — даже, когда мне было так больно, я все-таки могла сказать себе: завтра в 6 ч<асов> (пойду — или не пойду, все равно — но — завтра в 6 ч<асов> — достоверность!)
А сейчас? — Завтра — нет, послезавтра — нет, через неделю — нет, через месяц — нет, хочется думать и попадаю в пустоту — может быть — через год, может быть — никогда.
Чего ж тут любить — помнить — мучиться?
И вот мое трезвое, благоразумное, огнеупорное, — асбестовое! — сердце, поняв, смирилось, отпустило.
От встречи с Вами у меня осталось только смутное беспокойство: надо куда-то идти, — и вот, хожу: весь день — «по делам» (т.е. — по трущобам — в поисках за табаком) — с Алей, вечером одна или с кем-нибудь. — Это, конечно, Вы, Ваша память, — «куда-то идти» — бесспорно — «от чего-то уйти».
Если бы я знала, что Вы — что я Вам необходима — о! — каждый мой час был крылат и летел бы к Вам — но та́к — зря — впустую, — нет, дружочек, много раз это со мной было: не могу без! — и проходило, могла без, не могу без — это, очевидно другое: когда другой так не может без, что и ты не можешь.
— Это не холод и не гордыня, это, дружочек, опыт, то, чему меня научила советская Москва за эти три года — и то, что я — наперед — знала уже в колыбели.
_____— Ланн. — Это отвлеченность. — Ланн. — Этого никогда не было. — Это то, что смогло уйти, следовательно, — могло не придти.
И еще: высокий воротник, глаза под высокой шапкой, мягкий голос и жесткие глаза.
— Может быть, если бы я получила от Вас письмо, я бы резче поверила, что Вы были. Но вряд ли Вы напишете и вряд ли я отошлю это письмо.
— Вчера Вы на секундочку воскресли: когда я, позвонив, стояла у Вашего парадного и ждала. (Я в первый раз была у Д<митрия> А<лександровича> после Вас, — так, кажется, ходят на кладбище.)
Я так привыкла.
(Аля, мешая угли в печке: — «Марина! Это адские помидоры!» — и — недавно — на мое напоминание {99}.
— «Марина, я бы не хотела, чтобы…»)
— О! дружочек, какой у меня тогда был бы оплот! — Или: — «Напишите мне большую вещь, настоящую, как перед смертью…»
Но всем мои стихи нужны, кроме Вас! Ваше отношение к моим стихам — галантность Гарибальди к добровольцу из хорошей семьи.
— Но какое мне дело до стихов?! —
_____Верность.
И — ослепительная формула: — Верность — это инстинкт самосохранения.
Такой верностью я буду верна в первый раз в жизни.
А все остальные верности — или героизм, или воспитанность.
_____— Как странно: всем я приносила счастье! Кому легкое, кому остро, — но никогда тяжесть, удушение! — А Вас я, кажется, удушиваю. А если бы Вы знали, как я сдерживаюсь, не даю себе ходу, приуменьшаю, сглаживаю, обезвреживаю каждый свой взгляд и шаг!
Так, постепенно, раскрытые Вам навстречу руки все опускаются, опускаются, теряя и отпуская. — О, за эти опущенные руки Бог мне все простит!
_____— Последний день —
Расстаюсь с Вами счастливая.
Я никогда не боялась внешних разлук, привыкла любить отсутствующих. — Любить — слабое слово, — жить.
Как Вы тогда хорошо сказали: лютая эротика, — о, как Вы чуете слово!
Люблю Вас — поэта — так же как себя — за будущее. Ваши стихи прекрасны, — клянусь Богом, что совершенно нечаянно вспомнила аэролит — и потом уж — По! [786]
Ваши стихи прекрасны, но Вы больше Ваших стихов.
Вы — первый из моих современников, кому я — руку на́ сердце положа — могу это сказать.
Вы мне чужой. Вы громоздите камни в небо, а я из «танцующих душ» (слова Вячеслава) [787].
Вы мне чужой, но Вы такой большой, что — на минуту — приостановили мой танец.
Дай Вам Бог только здоровья, силы, спокойствия. — и как я Вас буду по-новому и изумительно любить — голову запрокинув! — через пять лет.
Ваш Роланд [788] — из наивысших мировых достижений, только в наши дни такие слова — не на всех устах.
Если определить Вашу поэтическую породу — Вы, конечно, — радуга, чей один конец — По, а другой — Новалис [789], но как там — помните, Вы рассказывали — никогда не забуду, как вероятно — никогда не прочту — круговые вихри, — так здесь — непрерывные радуги.
И Вы только в начале первой!
— О, как я Вас люблю в Вашей нацеленности! Как Вами бы любовался Ницше!
Впервые — Marina Cvetaeva. Studien und materialien. стр. 163–171 (публ. И.В. Кадровой). СС-6. стр. 157–165. Печ. по СС-6.
19а-20. Е.Л. Ланну
Из письма к Ланну после его отъезда
(неотосланного.)
ИЗ ТРУЩОБЫ — В БЕРЛОГУ. — Письмо первое —Дружочек!
После Вашего отъезда жизнь сразу — и люто! — взяла меня за бока. Проводив Вас взглядом немножко дольше, чем было видно глазам, я вернулась в дом.
У Д<митрия> А<лександровича> было милое, вопрошающее — и сразу благодарное мне! — лицо (За то, что у меня — после проводов — веселье.) Благодарная за похвалу, я сделалась вдвое веселей. Месхиева ругала М<алинов>скую. Д<митрий> А<лександрович> деликатно опровергал, Аля возилась с собакой, А.Д. <Д.А.> с Алей.
Потом мы с Месхиевой пошли домой, я — оберегая ее от ухабов, она меня — от автомобилей.
(Так — страстной ненавистью — боятся их только еще Вячеслав Иванов — и Степун [790].)
— «Вы очень подружились с Ланном?» — (Все говорят — даже Вы сами! — Ланн, твердое Л, — я Lannes, как наполеоновского маршала! [791]) — «Да, — большой поэт и еще бо́льший человек. Я буду скучать без него». — «Вам нравятся его стихи?» — «Нет. Вулкан не может нравиться. Но — хочу я или не хочу — лава течет и жжет».
_____Дома я уложила Алю. — Да, постойте! — Взойдя, я сразу поняла: не чердак и не берлога, — трущоба! (Но полрадости, — Вас не было рядом, чтобы оценить!)
Поняв трущобность, удовлетворилась ею и ушла ночевать в приличный дом, — к знакомым Т.Ф. С<кря>биной. Там были одни женщины, говорили про спиритизм — сомнамбулизм — какая нелепость! — бессмысленность! — неоправданность! — летящий стол, — стол, который должен стоять! И какое уродство: как если бы на орла напр<имер> поставили миску с супом и заставив стоять смирно, сели бы кругом обедать. Бог прав, дав орлам крылья, а столам — ноги. Не хочу — наоборот!) — Я лежала на огромном медведе (мех усыпляет, медвежий — в особенности — знаю по опыту, каждый раз ложась на медведя, сплю. — Объяснение медвежьей, зимней спячки.) — Я лежала на огромном медведе, не слушала, спорила и спала.
Ночью 30 раз просыпалась, курила, бродила, будила и ушла с рассветом, оставив всех в недоумении, — зачем приходила.
Такой Москвы Вы не знаете, да и я забыла, что она есть! — Блеск — звонкость — ломкость. Небо совсем круглое (относительно земли — сомневаюсь), как надышанное розовым, и снег розовый, — и я — тигровым привидением.
Дойдя до Смоленского, решила — noblesse oblige — навестить — посетить его останки — и — о удивление! — не помер: мужик с дровами!
— «Купчиха, дров не надоть!» — «Даже очень!» Впряглась с мужиком и довезла до дому 4 мешка дров. Отдаю взамен всю пайковую муку, — по крайней мере не украдут, а дрова я потороплюсь сжечь. И сразу — глупое сожаление: — «Ну, конечно, — только он уехал, — и дрова!»
(Но поняв, что Вам сейчас — все равно — тепло, сразу успокоиваюсь.)
— В 12 ч<асов> дня посылаю Алю на Собачью площадку (к<отор>ой по-Вашему нет), — в Лигу Спасения Детей, за каким-то усиленным питанием, а сама сажусь дописывать те — последние — стихи, диалог над мертвым.
Потом голова болит, ложусь на Алину кровать, покрываюсь тигром и плэдом, дрова есть — значит, можно не топить, ужасный холод, голова разлетается, точно кто железным пальцем обводит веки.
— Сплю. —
Просыпаюсь: темнеет. Али нет. — Иду к Скрябиным — Там нет. — Вспоминаю год назад — приют, госпиталь, этот ужас всех недр — вспоминаю эти последние две недели сейчас, мою сосредоточенность на себе (Вас), мое раздражение на ее медленность, мое отсутствие благодарности Богу — каждый день и час — за то, что она есть.
Возвращаюсь, жду, читаю какую-то книгу. — Темнеет. — Не могу сидеть, оставляю ей записку в дверях, иду во Дворец Искусств, к М<илио>ти. — «Была у Вас Аля?» — «Только что ушла». Опять домой. Час проходит. (Уже 5 ч<асов>). — Ее нет. — Дверь раскрывается. В<олькен>штейн. — «М<арина> И<вановна>, я пришел к Вам насчет пьесы, я хочу устроить.» — «Мне не до этого: Аля пропала. Оставьте меня.» — Упорствуя, расспрашивает. — Сопротивляюсь — рассказываю. Идет искать. — Жду. — Час проходит. Совсем черно. Возвращается. Во Дворце ее видели все: была и у Р<укавишнико>ва, и в канцелярии, и у цыган, и в подвалах, — все видели — нигде нет. — Садится. — (Чувствует, что в праве. Не искав, побоялся бы!)
«М<арина> И<вановна>, Вы еще увидите того поэта?» — «Нет.» — «Я думал, что Вы с ним дружны…» — «Он уехал.» — «Но будете ему писать.» (Утверждение.) — «Не знаю». (Недоуменная пауза.) — «Мне очень жаль, что так мало пришлось поговорить с ним тогда!» (Я — мысленно — с презрением: подлизывается!) — «Он мне очень понравился. И заметили ли Вы, что он совершенно похож на коненковского Паганини, под к<отор>ым он сидел? — Точно с него делан.» — Я, оживляясь: — «Коненковского Паганини я не рассмотрела: близорука, но — как странно — в первую же встречу, через 10 мин<ут> после того, как он впервые взошел в мой дом, сказала ему, что таким я вижу Паганини.» — «Значит, Коненков правильно понял Паганини». — «Так вот, если будете ему писать, напишите ему следующее.» — «Я потом думал о нем.» — «Его творчество — и декламация — и всё явление… Этот человек сведенный, судорожный, исступленный. Человек трудной жизни. Мне потом, когда я думал о нем, пришел в голову такой пример: когда Станиславский смотрит молодого актера, он первым делом говорит ему: — „Легче! Легче! — Так, распустите мускулы! — Совсем свободно.“ — „И всё?“ — „Да, — и всё. Чувствуйте: напряжение — позади, сейчас — освобождение. — Не бойтесь, что Вам даром платят жалование“. — Так вот, я думал о нем. Он не доверяет легкости. Он намеренно громоздит трудности. Ему нужны только непосильные задачи. О, ему трудно жить, — тем более, что всё это из глубины, в большой серьез…» — «Вы не так… т.е. Вы более… наблюдательны, чем я думала.»
«Жалко, что Вы не познакомили нас с ним раньше, я бы показал ему Станиславского. Это гениальный человек прежде всего.»
Благодарная за «показал бы ему», а не «показал бы его», чуть проясняюсь и прошу у него спичек.
Дает и много.
— «Но Аля?!!» — Уже 7 ч<асов>. (Ушла в 12 ч<асов>.) Обещает еще раз, после того как зайдет домой поесть (передергиваюсь — внутренне — от презрения!) еще раз пойти во Дворец. — Уходит. — Я лежу и думаю.
Думаю вот о чем: — Господи, и тогда я мучилась, пальцем очерчивала, где болит, — но какая другая боль! Та боль — роскошь, я на нее не в праве, а эта боль — насущная, то, чем живут, от чего не в праве не умереть (если Аля не найдется!) — Аля. — Сережа.
Ася — на грани, и насущное, и роскошь. Ланн — только роскошь, и вся боль от него и за него — роскошь, и сейчас Бог наказывает.
Ланн — во имя мое, могло бы быть и во имя его, но не вышло — не выйдет — ему не нужно — это у него уже есть — и даже если бы не было — ему (такой породе!) не нужно. Отношение неправильно пошло, исправилось только к концу — выпрямилось! — за день до его отъезда.
Я поняла: никакой заботы!
Холодно — мерзни, голоден — сам бери {100}, болен — умирай, я не при чем, отстраняюсь — галантно! — без горечи!
Ему нужно: несколько голов (умов) — мужских, от времени до времени — подобие любви (жесточайшая игра для обтачивания когтей против себя же!) — Или мужская дружба (критика чистого разума — планы детективных контор — и готовность — если надо — умереть друг за друга! Только не друг без друга!) — или «презренное» женское обаяние: духи — меха — и никакой грудной клетки!
Думала без горечи: пристально и стойко.
— «Если бы суждено было встретиться еще — о, замечательная встреча! — Я бы дала ему ровно столько того, что ему нужно. (— Т.е. — в моих руках — из моей кассы — грош.) — Но — Аля?!!!»
_____В 9-ом часу явление В<олькен>штейна с Алей за руку. Явление напыщенное и прохладное. Весь — сознание своего подвига и моей подлости. (Гнала от себя люто вот уже целый месяц!)
Подвел — поклонился — и вышел.
— Господа, вы ли не мастера давать! —
Молчание. Беспомощность от сознания безнадежности тотчас же следующего диалога:
— «Аля, что это значит!»
— «Марина!»
— «Оставь Марину — Марина не при чем. — Ну?!»
— «Марина!»
— «А-ля!!!»
— «Ну, я просто хотела испытать горе, — как ребенок живет без матери.»
— «Где ты была?»
— «Я целый день сидела в сугробе — и голодна, как смерть».
— «Гм…… — И никуда не заходила?»
— «Ни — ку — да».
— «Нигде-нигде не была? Ни у Скрябиных, ни у X, ни у Z, ни у цыган?»
— «Ни — где. Ходила по пустырям и горевала.»
— «А кто был во Дворце? Кто веселился с детьми М<илио>ти? Кто смотрел на шахматный турнир? Кто? — Кто — Кто?»
— «Марина, простите!»
Яростно сажаю ее посреди комнаты на табурет.
— «Так, руки вдоль колен! Так, — не двигаться! А что я горюю, что я думаю, что ты попала под автомобиль, а что Е<вгений> Л<ьвович> уехал и теперь надо любить меня вдвое, — ты об этом не думала?!» и т.д. и т.д. и т.д.
Дверь настежь: М<илио>ти.
— «М<арина> И<вановна>! Я к Вам! Я по Вас соскучился. Можно?» (Когда-то видались три раза в день, теперь раз в три в месяца. — Соседи.)
— «Очень рада! Садитесь. Кушать будете?»
— «Всё, что дадите!»
Аля: Fuss fassend! {101} — «М<арина>! Он тоже голоден как смерть.»
— «Аля, я с тобой не разговариваю!» (К М<илио>ти:)
— «Чудесно! — Два таких аппетита в доме, — мне больше ничего не нужно! Аля, разжо́ги!»
И — пошло! — Топлю, колю, пилю, сидят, едят.
— «Аля, мойся!» —
К 11-ти ч<асам> мы на улице. — Куда идти? — Пошли к А<нтоколь>ским. Съели очень много черного хлеба и ушли. Оттуда на Арбатскую площадь — посмотреть время, — уже 12 ч<асов>, — оттуда до подъезда к С<кря>биных (войти не решаемся) — оттуда — день загнан! — по домам.
Сегодня он опять зайдет за мной: неутомимый ходок, как я, мне с ним весело и блаже́нно-безразлично. Просто для не-сидения по вечерам одной там, где сидела с Вами. — Вьющаяся голова — разлетающийся полушубок — грандиозная нелепость всех замыслов — обожание нелепости, как таковой: так мы, напр<имер>, в прошлом году всю дорогу с Пятницкой до Борисоглебского говорили о каком-то баране, — сначала маленьком: бяша! бяша! — потом он уже большой и нас везет (под луной, как в Ослиной Коже — моя любимая сказка Перро! Аллея, в просвете рог луны и Ослиная Кожа в повозке. Рога у Барана — месяцем.) — потом он, везя, начинает на нас оглядываться и — скалиться! — потом мы его усмиряем, — один бок жареный (история про однаво однобокаво барана, — сказка!) — едим — и т.д. и т.д. и т.д.
В итоге, вернувшись — каждый к себе домой: хочу лечь — баран, книгу беру — шерстит — баран! печку топлю, — пахнет палёным: он же сгорбатился — и т.д. Идем вчера, смеясь, — вспоминаем. (Про другое — чистосердечно! — забыли!)
— «Да, но наш баран — все-таки не баран! И в этом наше оправдание!» — говорит он.
— «Наш апофеоз!» — поправляю я.
— «Наш баран — не просто баран!»
— «Крылатый баран!» — и — внезапно — «от нашего барана до Пегаса — один шаг!»
_____Простите за всю эту ересь!
Иду вчера и думаю: — «Я дура. — Премированная дура. Баран — поддевка — кудри. При чем тут любовь? Зачем всегда это бесплатное приложение? — Галантность? — Нет, глупость. Точно на мне свет клином сошелся.
Надо же понять, что не всякое желание другого — насущное, что есть в этой области — а может в этой области особенно — Прихоть.
А я всегда принимающая малейшую вкусовую причуду другого за смертный голод — просто дура.
И — если даже — смертный голод — голодающих — весь мир, шкура — одна.
И — точно без меня нельзя устроиться!»
_____Но есть у меня одно оправдание: я невозвратна. Не потому, что: я так решаю, а потому что что-то во мне НЕ МОЖЕТ вторично, — другие глаза и голос и та естественная преграда, к<отор>ая у меня никогда не падает — ибо ее нет! — при первом знакомстве, и неизбежно возникает во втором. Любовь. — Знакомство.
Обратный порядок.
Точно я, заплатив дань своему женскому естеству (формальному! — из корректности!) — успокаиваюсь: долг выплачен наперед, — и уж потом смотришь: кому.
— Изучаю.
— Дивлюсь. —
— Не верю.
И это так невинно, что ни один — клянусь! — ничего не помнит.
_____Об одном я не успела ни написать, ни сказать Вам, — а это важно! — Об огромном творческом подъеме от встречи с Вами. — Те стихи Вам — не в счет, просто беспомощный лепет ослепленного великолепиями ребенка — не те слова — всё не то — (я, но — не к Вам, — поняли?) — Вам нужно всё другое, — рождаться заново. Всё та же моя верно-неверная начальная лунатическая дорога. (— По которой — всегда дохожу!)
Ничего не обещаю — ибо Вам ничего не нужно! — но просто повествую Вам — как всё это письмо — ибо Вы ценитель и знаток душ! —
То, что с Вас сошло на меня (говорю как о ropе́!) — другое и по-другому скажется, чем всё прежнее.
— Спасибо Вам! — Творчески!
_____Вы уже день, как дома. А я уже три дня — как не́ дома. — Знаете, где я вчера была? — Судьба!!! — В Спасо-Болвановском!!!
— Дружок, он есть! — И действительно — за́ Москва́-рекой! — Далё-око! — Длинный, горбатый, без тротуаров и мостовых, — и без домов — одни церкви! — и везде светло, тепло! — Какая там советская Москва! — Времен Иоанна Грозного!
Мы шли со Скрябиной, — она в своей котиковой шубе, на узких, как иголки, каблуках, я тигром — в валенках, — и она всё время падала. И ка́к — мне́ — бы́ло — жа́ль!
(Не ее, конечно!)
_____Между прочим: Вам совсем не надо читать этого письма за раз, — ведь оно писано кусочками, клочечками, день за днем, — почти час за часом.
Так и читайте!
А то мне совестно, а Вам, взглянув, — наверное, безнадежно!
_____Сегодня — случайно — наткнулась на Белую стаю.
— Как жаль, что забыла еще поблагодарить! — Раскрыла: Ваш почерк. Прочла. — Задумалась. — Вы уже, наверное, не помните, что написали, я сама читала как новое.
Как меня — ужасом! — восхищает бренность.
— Кончила те стихи, над мертвым. Хотела — по-Вашему — вопросом, — вышло по-моему — ответом. — (Это мое дело на земле!)
Если это письмо будет отправлено, присоединю и стихи [792].
_____Моя главная забота сейчас: гнать дни.
Бессмысленное занятие, ибо ждет — может быть — худшее. Иногда с ужасом думаю, что — может быть — кто-н<и>б<удь> в Москве уже знает о С<ереже>, м<ожет> б<ыть> многие знают, а я — нет.
Сегодня видела его во сне, сплошные встречи и разлуки. — Сговаривались, встречались, расставались. И все время — через весь сон — его прекрасные глаза — во всем сиянии.
(Сейчас спрашиваю Алю: — «Аля, что печка?» И ее спокойный ответ: — «Печка? — Головешит!» — Так, собака, бегущая, прихрамывая, у нее — «треножит», большевики о победах — «громогласят» и т.д.)
Купила себе — случайно, как всё в моей жизни — «полушалок» (обожаю слово!), сине-черный, вязаный. Люблю его за тепло и за слово, — «в гроб с собой возьму!»
(О, мой гроб! Мой гроб!) — Как русских князей: с конем, с женой, с рабом, с броней! — И — в итоге — как Петр перед смертью: ОТДАЙТЕ ВСЕ!
Купила на улице у старухи, к<отор>ая, живя 18 лет (а м<ожет> б<ыть> 81 г<од>!) в Москве, ни разу не была на Смоленском. — «Я зря болтаться никогда не любила.» — Слушала с наслаждением. — Вот мой Потебня! — И еще завидовала: «зря болтаться», — что я другого в жизни делала?!
_____четверг
Мой друг! Я уже начинаю отвыкать от Вас, забывать Вас. Вы уже ушли из моей жизни. — После-завтра — нет, завтра! — неделя как Вы уехали. — Помните, я Вас просила: до субботы, а Вы уехали в пятницу, а мне так и осталось в памяти: суббота.
Вы — умник и отвесно глядите в души. Я бы хотела, чтобы Вы поняли: начинаю отвыкать — забыла.
Мне, чтобы жить, надо радоваться. Пока Вы были здесь — даже, когда мне было так больно, — я все-таки могла сказать себе: завтра в 6 ч<асов> (пойду — или не пойду — все равно — но: завтра в 6 ч<асов> — достоверность!)
А сейчас? — Завтра — нет, после-завтра — нет, через неделю — нет, через месяц — нет, хочется думать и попадаю в пустоту — может быть — через год, м<ожет> б<ыть> — никогда.
Чего ж тут любить — помнить — мучиться?
И вот мое трезвое, благоразумное, огнеупорное, — асбестовое — в воде не тонет и в огне не горит! — сердце, поняв, смирилось, отпустило.
От встречи с Вами у меня осталось только смутное беспокойство: надо куда-то идти: надо куда-то идти — и вот, хожу: весь день «по делам» (т.е. по трущобам — в поисках за табаком) — с Алей, вечером одна или с кем-н<и>б<удь>.
Это, конечно, Вы, Ваша память.
Куда-то идти — бесспорно — от чего-то уйти. — Если бы я знала, что Вы — что я Вам необходима — о, каждый мой час и сон летел бы к Вам! — но та́к — зря — впустую, — нет, дружочек! — много раз это со мной было: — не могу без! — и проходило, могла без! — Мое не могу без — это, когда другой так не может без.
— Это не холод и не гордыня, это, дружочек, опыт, то, чему меня научила советская Москва за эти три года — и то, что я — наперед — знала уже в колыбели.
_____Ланн. — Это отвлеченность. — Ланн. — Этого никогда не было. — Это то, что смогло уйти, следовательно: могло не приходить…
И еще: высокий воротник, лицо больного волка, мягкий голос и жесткие глаза.
Может быть, если бы я получила от Вас письмо, я бы резче поверила, что Вы были. Но вряд ли Вы напишете, и вряд ли я отошлю это письмо.
_____— Вчера Вы на секундочку воскресли: когда я, позвонив, стояла у Вашего подъезда и ждала.
(Не окончено
Не отослано.)
_____Аля, мешая угли в печке:
— М<арина>! Адские помидоры!
Вариант письма 19–20, со значительными разночтениями. Печ. по тексту НЗК-2. стр. 228–237.
В НЗК-2. стр. 237–239 записаны три ответных письма Е.Л. Ланна — от 8/21 декабря 1920 г. из Харькова, 8 января 1921 г. и 21 января 1921 г.
20-20. А.И. Цветаевой
Москва, 11-го р<усского> декабря 1920 г.
Третьего дня получила первую весть от тебя и тотчас же ответила. — Прости, если пишу все то же самое, — боюсь, что письма не доходят [793].
В феврале этого года умерла Ирина — от голоду — в приюте, за Москвой. Аля была сильно больна, но я ее отстояла. — Лиля и Вера вели себя хуже, чем животные, — вообще все отступились. Ирине было почти три года — почти не говорила, производила тяжелое впечатление, все время раскачивалась и пела [794]. Слух и голос были изумительные. — Если найдется след С<ережи> — пиши, что от воспаления легких.
О смерти Бориса [795] узнала в конце сентября, от Эренбурга. Не поверила. — Продолжала молиться.
Миронов жив, женат, дочка Марина (1 ½ г<ода>), в Иркутске, постарел и несчастен. У него умер отец.
Адр<ес> Миронова: Иркутск, Дегтевская, 21, кв<артира> 1. — Служит, голодает. — Нас помнит и любит. — Все эти годы считала его погибшим. Первая весть о нем — 2 мес<яца> назад, через его сестру Таню (замужем и едет в Ригу). — Женат на ее 17-летней подруге [796]. — Угрюм. — Та — веселая и толстая. Л<идия> А<лександровна> жива, Павлушков [797] умер — от какой-то мозговой болезни 8 мес<яцев> тому назад, в Харькове.
Мы с Алей живем все там же, в столовой. (Остальное — занято.) Дом разграблен и разгромлен. Трущоба. Топим мебелью. — Пишу. — Не служу, ибо после смерти Ирины мне выхлопотали паек, дающий возможность жить. — Служила когда-то 5 ½ мес<яца> (в 1918 г.) — ушла, не смогла [798]. — Лучше повеситься. —
Ася! Приезжай в Москву. Ты плохо живешь, у вас еще долго не наладится, у нас налаживается. — много хлеба, частые выдачи детям — и — раз ты все равно служишь — я смогу тебе (великолепные связи!) — устроить чудесное место, с большим пайком и дровами. Кроме того, будешь членом Дворца Искусств [799] (д<ом> Соллогуба), будешь получать за гроши три приличных обеда. — Прости за быт, хочу сразу покончить с этим. — В Москве не пропадешь: много знакомых и полудрузей, у меня паек, — обойдемся.
— Говорю тебе верно. —
Я Москву ненавижу, но сейчас ехать не могу, ибо это единственное место, где меня может найти — если жив [800]. — Думаю о нем день и ночь, люблю только тебя и его.
Я очень одинока, хотя вся Москва — знакомые. Не люди. — Верь на слово. — Или уж такие уставшие, что мне, с моим порохом, — неловко, а им — недоуменно.
— Все эти годы — кто-то рядом, но так безлюдно!
— Ни одного воспоминания! — Это на земле не валяется.
Митинги — диспуты — лекции — театр<альные> постановки, на эстраде — всяк кто пожелает. — Публика цирковая. — Выступаю редко, ибо во главе литературы Брюсов, к<отор>ый меня не выносит [801]. — Не напечатала ни одной строчки. — Да это все равно, мне даже спокойней.
_____Ася! — Я совершенно та же, так же меня все обманывают — внешне и внутренно — только быт совсем отпал, ничего уже не люблю, кроме содержания своей грудной клетки. — К книгам равнодушна, распродала всех своих французов — то, что мне нужно — сама напишу. — Последняя большая вещь «Царь-Девица», — русская и моя. — Стихов — неисчислимое количество, много живых записей.
Ася! — Три недели назад — стук в дверь. Открываю: высокий человек в высокой шапке. Вползающий в душу голос: Здесь живет М<арина> И<вановна> Ц<ветаева>? — Это я. — Вы меня не знаете, я был знаком с Вашей сестрой Асей в К<октебе>ле — год назад. — О! — Да — и вот…
Входит. Гляжу: что-то Борисино. (Исступленно думала о нем все последние месяцы и видела во сне.) — «Моя фамилия — Ланн» [802].
Провели — не отрываясь — 2 ½ недели. Теперь ок<оло> 10 дней, как уехал — канул! — побежденный не мной, а породой. Это был конец выплаты долга тебе.
Это первая — прежняя! — радость, первой Пасхой от человека за три года. О тебе он говорил с внимательной нежностью, рассказывал мельчайшие подробности твоего быта (термос — лампа — волоски Андрюши). — Это была сплошная бессонная ночь. — От него у меня на память: «Белая стая» Ахматовой, столбик сухих духов, и цепочка на шее. — «На Юге — Ц<ветае>ва, на Севере — Ц<ветае>ва, — куда денешься?» спрашивал он серьезно и беспомощно.
Читала твои письма к нему, через все это прошла и справилась. Мучительный и восхитительный человек! —
Его адр<ес:> Харьков, Епархиальная ул<ица>, 3. Нарком'юст. Отдел публикаций заказов. — У него почти все мои стихи. — Его стихи мне совершенно чужие, но — как лавина! непоборимые.
Ася! — Жду тебя. — Я годы — одна (людная пустошь). Мы должны быть вместе, здесь ты не пропадешь.
— Так легко умереть! — Но — странно! — о тебе я все эти годы совсем не беспокоилась — высшее доверие — как о себе. — Я знала, что ты жива.
Ася! — смерть Бориса — для меня рана на всю жизнь, огромное и страшное горе. Поверила только, когда Ланн подтвердил. Я Бориса любила как того брата, к<оторо>го у нас не было. — Пишу сухо, — поймешь!
Не называй меня никому: — Я серафим твой, — радость на время! Ты поцелуй меня нежно — в темя, И отпусти во тьму. Все мы сидели в ночи без света: Ты позабудешь мои приметы. Да не смутит тебя сей — Бог весть! Вздох, всполохнувший одежды ровность. — Может ли, друг, на устах любовниц Песня такая цвесть? Так и живи себе с миром, — словно Мальчика гладил в хору церковном. Духи и дети, дитя, не в счет! Не отвечают, дитя, за души! Эти ли руки — веревкой душат? Эта ли нежность — жжет? — Вспомни, как руки пустив вдоль тела, — Закаменев — на тебя глядела, Не загощусь я в твоем дому! Освобожу молодую совесть! — Видишь, — к великим боям готовясь, Сам ухожу во тьму. И обещаю: не будет биться В окна твои — золотая птица! [803] _____ — Ланну. —<Приписки на полях:>
Ася, дождись поездов и напиши, сколько нужно денег на отъезд, — вышлю, — Приезжай непременно. Поцелуй за меня Пра, Макса, М.И. К<узнецо>ву и ее дочку [804]. — Похожа ли на Б<ориса>? Как зовут? Буду писать тебе каждый день. Прости за протокольность письма, — так безнадежно — все сразу, — и так хочется — где поэт, написавший: но без меча — над чашами весов [805]. Обмирала над этими его стихами. — Пиши непрерывно.
Аля — не очень большая, худая, светлая, — Психея. В первом письме были ее письмо и стихи [806].
В первую же минуту после занятия Крыма дала Максу телегр<амму> через Луначарского, — неужели не дошла? Москва без заборов (сожжены) — в мешках и сапогах.
Если бы я знала, что жив, я была бы — совершенно счастлива. Кроме него и тебя — мне ничего не надо.
Каждый кусок, к<отор>ый ем — поперек горла и отчаяние, что нельзя послать тебе. Узнаю, как с пересылкой денег, — и тотчас ж пошлю. Не оставляй мысли о переезде в Москву.
Целую нежно тебя и Андрюшу. Умилялась его письмецом. В письмах буду писать все то же самое, но стихи буду присылать разные. Напиши Ланну, и пусть он тебе напишет обо мне!
Впервые — НП. стр. 41–47. СС-6. стр. 190–193. Печ. по СС-6.
21-20. Е.Л. Ланну
Москва, 29-го русск<ого> декабря 1920 г.
Дорогой Евгений Львович!
У меня к Вам большая просьба: я получила письмо от Аси — ей ужасно живется — почти голод — перешлите ей через верные руки тысяч двадцать пять денег, деньги у меня сейчас есть, но никого нету, кто бы поехал в Крым, а почтой — нельзя [807].
Верну с первой оказией: — Ради Бога! —
Адр<ес> Аси: ФЕОДОСИЯ — КАРАНТИН — ИЛЬИНСКАЯ УЛ<ИЦА>, Д<ОМ> МЕДВЕДЕВА, КВ<АРТИРА> ХРУСТАЧЕВЫХ — ей. — Шлю Вам привет.
МЦ.— Если сделаете это, известите по адр<есу> Д<митрия> А<лександровича>.
_____Только что написала эти несколько слов — как вдруг — дверь настежь — Ваше письмо! [808]
И Аля: — «Марина, Ваши голоса скрестились как копья!»
— Спасибо за память. — Как я рада, что Вы работаете — и как я понимаю Вас в этой жажде! Я тоже очень много пишу, живу стихами, ужасом за С<ережу> и надеждой на встречу с Асей. Перешлите ей, пожалуйста, вложенное письмо, — если скорая оказия, — с оказией, — или заказным. Мне необходимо, чтобы она его получила.
И разрешите мне — от времени до времени — тревожить Вас подобной просьбой, у меня никого нет в Харькове, а это все-таки на полдороге в Крым, — отсюда письма вряд ли доходят, заказных не принимают.
_____— У нас елка — длинная выдра, последняя елка на Смоленском, купленная в последнюю секунду, в Сочельник. Спилила верх, украсила, зажигала третьегодними огарками. Аля была больна (малярия), лежала в постели и любовалась, сравнивая елку с танцовщицей (я — про себя: трущобной!)
Три посещенияI. Сидим с Алей, пишем. — Вечер. — Стук в незапертую дверь. Я, не поднимая глаз: — «Пожалуйста!»
Маленький, черненький человечек. — «Закс!!! Какими судьбами? — И почему — борода?!» — Целуемся.
Мой бывший квартирант, убежденный коммунист (в 1918 г. — в Москве — ел только по карточкам) был добр ко мне и детям, обожал детей — особенно грудных — так обожал, что я, однажды, не выдержав, воскликнула: — «Вам бы, батюшка, в кормилицы идти, а не в коммунисты!»
— «Закс!» — «Вы — здесь — живете?!» — «Да.» — «Но это ужасно, ведь это похоже (щелкает пальцами) — на — на — как это называется, где раньше привратник жил?» — Аля: — «Подворотня!» — Он: «Нет». Я: — «Дворницкая? Сторожка?» Он, просияв: «Да, да — сторожка». (Польский акцент, — так и читайте, внешность, кроме бороды, корректная.)
Аля: — «Это не сторожка, это трущоба». — Он: «Как Вы можете так жить? Эта пос-суда! Вы ее не моете?» Аля — «Внутри — да, снаружи — нет, и мама — поэт». Он: — «Но я бы — проссстите! — здесь ни одной ночи не провел». — Я, невинно: — «Неужели?»
Аля: — «Мы с мамой тоже иногда уходим ночевать, когда уж очень неубрано.» Он: — «А сегодня — убрано?» Мы в один голос — твердо: — «Да».
— «Но это ужжасно! Вы не имеете права! У Вас ребенок!»
— «У меня нет прав». — «Вы целый день сидите со светом, это вредно!» — «Фонарь завален снегом!» [809] Аля: — «И если мама полезет на крышу, то свалится». — «И воды, конечно, нет?» — «Нет». — «Так служите!» — «Не могу». — «Но ведь Вы пишете стихи, читайте в клубах!» — «Меня не приглашают». — «В детских садах». — «Не понимаю детей». — «Но — но — но…» Пауза. — И вдруг: — «Что это у Вас?» — «Чернильница». — «Бронзовая?» — «Да, хрусталь и бронза». — «Это прелестная вэщщичка. — и как запущена! — О! —». «У меня все запущено!» — Аля: «Кроме души». — Закс, поглощенный: — «Это же! Это же! Это же — ценность». Я: — «Ну-у?» — «Этто художественное произведение!» — Я, внезапно озаренная (уже начинала чувствовать себя плохо от незаслуженных — заслуженных! — укоров) — «Хотите подарю?!!» — «О-о! — Нет!» Я: — «Ради Бога! Мне же она не нужна». — Аля: — «Нам ничего не нужно, кроме папы, — пауза — и царя!» Он, поглощенный чернильницей: — «Это редкая вещь». Я: — «Просто заграничная. Умоляю Вас!!!» — «Но что же я Вам дам взамен?» — «Взамен? — Стойте! — Красных чернил!» — «Но…» — «Я нигде не могу их достать. Дадите?» — «Сколько угодно, — но…» — «Позвольте я ее сейчас вымою. Аля, где щетка?»
10 минут спустя — Аля, Закс и я — (неужели меня принимают за его жену?!) — торжественно шествуем по Поварской [810], — в осторожно вытянутой руке его — ослепительного блеску — чернильница. — И никаких укоров. —
— Сияю. — Дошло!
_____II. Сидим с Алей, пишем. — Вечер. — Стук в незапертую дверь. — Я, не поднимая глаз: — «Пожалуйста!» — Входит спекулянт со Смоленского, желающий вместо табака — пшено. (Дурак!) — «Вы — здесь — живете?» — «Да». — «Но ведь это — задворки!» — «Трущоба», — поправляю я. — «Да, да, трущоба… Но ведь наверное Вы раньше…» — «Да, да, мы не всегда так жили!» — Аля, гордо: «У нас камин топился, и юнкера сидели, и даже пудель был — Джэк. Он раз провалился к нам прямо в суп». Я, поясняя: — «Выбежал на чердак и проломил фонарь». Аля: — «Потом его украли». — Спекулянт: «Но как же Вы до такой жизни дошли?» — «Садитесь, курите». (Забываю, что он табачный спекулянт. — Из деликатности — не отказывается.) — «А постепенно: сначала чердак — потом берлога — потом трущоба». — «Потом помойка», — подтверждает Аля. — «Какая у Вас развитая дочка!» «Да она с году все понимает!» — «Скажите!» — Молчание. — Потом: «Я уж лучше пойду, Вам наверное писать надо, я Вас обеспокоил». — «Нет, нет, ради Бога — не уходите. Я Вам очень рада. Вы видно хороший человек, — и мне так нужен табак!» — «Нет, уж лучше я пойду». Я, в ужасе: «Вы, может, думаете, что у меня нет пшена? Вот — мешок!» Аля: — «И еще в кувшине есть!» Он: — «Видеть-то вижу, только мамаша у Вас расстроенная». — «Она не расстроенная, она просто в восторге, она всегда такая!» — Он: — «Позвольте откланяться». — Я: — «Послушайте, у Вас — табак, у меня — пшено, — в чем дело? Я же все равно это пшено завтра на Смоленском обменяю, — только мне вместо 2-го сорта дадут хлам, труху. — Ради Бога!»
— «А почем Вы кладете пшено?»
— «На Ваше усмотрение.»
— «1 000 р<ублей>?»
— «Отлично. — А табак?» — «10.000 р<ублей>».
— «Великолепно. Берите 10 ф<унтов> пшена и дайте мне 1 ф<унт> табаку». — Явление Али с весами. — Вешаем. — «И взять-то мне не во что», — «Берите прямо в мешке». — «Но я ведь чужой человек, мешок — ценность…» — «Мешок — не ценность, человек ценность, Вы хороший человек, берите мешок!» — «Тогда позвольте мне уж вместо 1 ф<унта> предложить Вам полтора».
— «Вы меня смущаете!»
— «Ну, прошу Вас!»
Аля: — «Марина, берите!»
Я: — «Вы добры».
Он: — «Я впервые вижу такого человека».
Я: — «Неразумного?»
Он: — «Нет — нормального. Я унесу от Вас и тяжелое и отрадное впечатление».
— «Пожалуйста, только последнее!»
Улыбается: На прощание говорит: — «Помогай Вам Бог!»
Лет под 50, тип акцизного, голос вроде мурлыканья, частые вздохи.
Тоже юродивый!
_____Сияю. — Дошло! —
_____III. Сидим с Алей, пишем. — Вечер. — Дверь — без стука — настежь. Военный из комиссариата. Высокий, худой, папаха. — Лет 19.
«Вы гражданка такая-то?» — «Я». — «Я пришел на Вас составить протокол». — «Ага». Он, думая, что я не расслышала: — «Протокол». — «Понимаю».
— «Вы путем незакрывания крана и переполнения засоренной раковины разломали новую плиту в 4 №». — «То есть?» — «Вода, протекая через пол, постепенно размывала кирпичи. Плита рухнула». — «Так». — «Вы разводили в кухне кроликов». — «Это не я, это чужие». — «Но Вы являетесь хозяйкой?» — «Да». — «Вы должны следить за чистотой». — «Да, да, Вы правы». — «У Вас еще в кв<артире> 2-ой этаж?» — «Да, наверху мезонин». — «Как?» — «Мезонин». — «Мизимим, мизимим, — как это пишется — мизимим?» Говорю. Пишет. Показывает. Я, одобряюще: «Верно».
— «Стыдно, гражданка, Вы интеллигентный человек!» — «В том-то и вся беда, — если бы я была менее интеллигентна, всего этого бы не случилось, — я ведь все время пишу». «А что именно?» — «Стихи».
— «Сочиняете?» — «Да». — «Очень приятно». — Пауза. — «Гражданка, Вы бы не поправили мне протокол?» — «Давайте, напишу, Вы говорите, а я буду писать». — «Неудобно, на себя же». — «Все равно, — скорей будет!» — Пишу. — Он любуется почерком: быстротой и красотой.
— «Сразу видно, что писательница. Как же это Вы с такими способностями лучшей квартиры не займете? Ведь это — простите за выражение — дыра!»
Аля: — «Трущоба».
Пишем. Подписываемся. Вежливо отдает под козырек. Исчезает.
_____И вчера, в 10/4 вечера — батюшки светы! — опять он.
— «Не бойтесь, гражданка, старый знакомый! Я опять к Вам, тут кое-что поправить нужно».
— «Пожалуйста». — «Так что я Вас опять затрудню».
— «Я к Вашим услугам. — Аля, очисти на столе». — «М<ожет> б<ыть> Вы что добавите в свое оправдание?»
— «Не знаю… Кролики не мои, поросята не мои — и уже съедены».
— «А, еще и поросенок был? Это запишем».
— «Не знаю… Нечего добавлять».
— «Кролики… Кролики… И холодно же у Вас тут должно быть, гражданка. — Жаль!»
Аля: — «Кого — кроликов или маму?»
Он: — «Да вообще… Кролики… Они ведь все грызут».
Аля: — «И мамины матрасы изгрызли в кухне, а поросенок жил в моей ванне».
Я: — «Этого не пишите!»
Он: — «Жалко мне Вас, гражданка!»
Предлагает папиросу. Пишем. Уже ½ двенадцатого.
— «Раньше-то, наверное, не так жили»…
И, уходя: «Или арест или денежный штраф в размере 50 тысяч. — Я же сам и приду».
Аля: — «С револьвером»?
Он: — «Этого, барышня, не бойтесь!»
Аля: — «Вы не умеете стрелять?»
Он: — «Умею-то, умею, — но… — жалко гражданку!»
_____Сияю. — Дошло!
_____Милый Евгений Львович, буду счастлива, если пришлете стихи. Как жаль, что Вы так мало мне их читали!
Желаю Вам на Новый — 1921 — Год (нынче канун, кончаю письмо 31-го, с Годом!) — достаточно плоти, чтобы вынести — осуществить! — дух.
Остальное у Вас уже все есть, — да пребудет!
_____Стихи пришлю. — Вашим письмам буду всегда рада. — Не забудьте просьбу с Асей.
МЦ.Москва, 31-го декабря 1920 г., канун русского 1921-го.
<Приписка на полях:>
Письмо Асе залежалось, — на днях обеспокою Вас отдельным. Тогда перешлите [811].
Впервые — Marina Cvetaeva. Studien und materialien. стр. 171–176 (публ. И.В. Кудровой). СС-6. стр. 165–170. Печ. по СС-6.
1921
1-21. Е.Л. Ланну
Диалог:
— «Марина! Чего Вы бы больше хотели: письма от Ланна — или самого Ланна?
— Конечно, письма!
Какой странный ответ! — Ну, а теперь: письмо от папы — или самого папы?
— О! — Папы!
— Я так и знала!
— Оттого, что это — Любовь, а то — Романтизм!»
Москва, 15-го русск<ого> января 1921 г
Дорогой Евгений Львович!
Это письмо — в ответ на Ваше второе, неполученное. Вот уже два дня, как тщетно разыскиваем с Алей по всему городу товарища Шиллингера [812]. Были и в Музо [813], и в Камерном [814], и у Метнера [815], к<отор>ый ему покровительствует, засыпали Москву записками, как метель — снегом, — и — rien! {102} — ни Шиллингера, ни письма.
— Очень жаль — ценя вашу лень!
— Итак, товарищ Ланн — и отсутствующий — заставляет нас измерять Москву верстами!
— Получили ли Вы мое первое письмо — заказное? Пишу на учреждение, ибо не знаю домашнего адр<еса> — и не верю в домашние адреса! — Дома проходят, учреждения остаются.
— Получила за это время два письма от Аси, второе еще более раннее, две недели спустя занятия Крыма, — несколько строк отчаянной любви ко мне (нам!) и одиночества. — Ася! — Это поймете только Вы.
Живет одна, с Андрюшей, служит — советский обед и 1 ф<унт> хлеба на двоих — вечером чай — так чудесно и сдержанно — чай — и конечно без хлеба, ибо — если было бы с хлебом — так и было бы написано: с хлебом.
В Ф<еодосии> Макс, Пра, Майя [816], М.И. Кузнецова (вторая жена Б<ориса>) [817].
— «Есть друзья — проходят — новые…»
Что́, — не вся ли я?!
И потом — певучим возгласом: — «Марина! Ты можешь жить без меня?!»
Товарищ Ланн — дружочек! — я Вас уже просила — и еще прошу, — ради Бога! — если только есть какая-то возможность — пошлите Асе тысяч двадцать пять! Клянусь — верну, деньги у меня есть, только послать не́ через кого. Если Вы, получив мое первое письмо, уже это сделали — спасибо Вам до земли, если нет — поклон до земли: сделайте!
Вы нас мало знаете в быту: у того, кто нас любит — мы не просим, а те, кто нас не любит — не дадут. (А может быть не только вторые, — но — glissez, mortels, n'appuyez pas! {103} [818] — И эти — всегда на наивысший лад отношения — с первым любым приказчиком в кооперативе! — словом, с Асей будет то же самое, что со мной в <19>19 г. — весь город — друзья — Вавилонская башня писем — Содом дружб и любовей — и ни кусочка хлеба!
Вы нас немножко любите — по-хорошему — обращаюсь не к Вашей доброте, а к Вашей высоте: это надежнее.
_____Дорогой Евгений Львович, я была бы огорчена, если бы Вы подумали, что я пишу Вам исключительно из попрошайничества. — Это не так, но Ася сейчас — а, стойте! — гениальная формула:
…и вбитый в череп — гвоздь.Касательно слова я это не понимала, касательно человека это для меня — формула, видите — разницу?
О, слово видно меня очень любит, я всю жизнь только и делаю, что его предаю! — Ради человека!
О Вашем втором письме я узнала от Магеровского [819], он заезжал ко мне со своей новой женой. (Жена такая, что — непременно — заезжал!)
Жена, ничего не понимая в нашей «обстановке» — на всякий случай — улыбалась. Очень спокойная жена — просторная. Вы ее видели. Если бы на меня надеть хоть десятую часть ее одежды — я — клянусь Богом — была бы красивее. М<агеров>ский сияет. Вскоре после Вашего отъезда были с ним во Дворце, на Шопене. Не выдержав давки и — в упор — света, ушла. На другой день встречаемся. «Вы очень сердились на меня, что я заманила Вас на Шопена». — «О, нет, я, слушая третью вещь, сочинил даже две главы конспекта. Музыка удивительно вдохновляет во мне — мысль». — 1) Это — не Мысль, 2) Ты — чудовище. — Смолчала. —
Познакомилась с Вашим третьим мушкетером славный, лучше М<агеров>ского: человечней. Его точно ветром носит. Я понимаю, почему Вы решили, что это — Ваши друзья: никаких человеческих обязательств: М<агеров>ский — вообще не человек. А<ра>пов [820] — легковесен, — и себя не помнит! — Вам с ними хорошо.
Но все-таки иногда забредаем с Алей к М<агеров>ским, — по старой памяти. Раз даже ночевали.
_____Т.Ф. Скрябина получила паек пока на бумаге. Продолжает рубить и томить, — руки ужасные, глаза прекрасные, почти все вечера забрасываемся куда-нибудь, — все равно — куда, я устав от дня, она — от жизни, нам вместе хорошо, большое шкурно-душевное сочувствие: любовь к метели, к ослепительно-горячему питью — курение — уплывание в никуда.
— Как-то каталась с Бебутовым [821] на извозчике — сани вроде дровней — извозчик вроде ямщика — казалось, что едем не в 1 Театр РСФСР — а в Рязань — всю дорогу бредили: он — о своем, я — о своем, — и ямщик о своем, — доходили только интонации — они были ласковы — у всех — прэлэстно прокатались, — ни Бебутов, очевидно, ни я — очевидно — ни на секунду не вспомнили, что до зимы было лето, а до интонаций — любовь (?) [822] —
В <олькенштей>ном брезгую, что есть сил. — Еле здороваюсь. — В дом к себе не пускаю.
_____У меня есть для Вас маленькая (а может быть — и большая!) радость, в ней — надеюсь — потонут все неприятности — вольные и невольные — которые я — иже словом — иже делом могла Вам доставить. — Ждите. —
Андрей Белый сломал себе — в своих льдах и снегах — позвонок, лежит в лечебнице, никого не пускает — а то я бы давно выпросила у него — для Вас — Кризис Слова [823]. Обойдется — выпрошу. Есть у меня для Вас еще «Седое утро» — новая книжка Блока [824], недавно вышедшая в С<анкт->П<етер>б<урге> — и уже библиографическая редкость. Если Шиллингер объявится, перешлю с ним, как и ту — радость.
Очень много пишу — как никогда, кажется. Но это — особ статья, как и моя жизнь. Когда-нибудь — когда и если это будет необходимым — пришлю Вам всё. — Тороплюсь, человек едет завтра, пишу ночью, простите за сбивчивость.
В следующем письме — если в Вашем втором, на которое все-таки надеюсь — не прочту ничего нелестного для своей — в Вас — памяти — в следующем письме перепишу Вам отрывочек из тетрадки Али — о Вас — Любопытно. — Это она называет Мемуары. Асе она пишет о Вас: — «Он не был добрей других, но — вдохновенней».
Жду Ваших стихов. Люблю — и чту! — их все больше и больше. Оцените чуждость Вашего — мне — дарования и выведите отсюда самое лестное для себя заключение {104}. Искренний привет.
МЦ.<Приписка на полях:>
Напишите обо мне большое письмо Асе! — Дружочек! — Ради Бога! — ФЕОДОСИЯ, КАРАНТИН. ИЛЬИНСКАЯ УЛ<ИЦА>, Д<ОМ> МЕДВЕДЕВА, КВ<АРТИРА> ХРУСТАЧЕВЫХ, — ей. —
Впервые — Marina Cvetaeva. Studien und materialien. стр. 171–174 (публ. И.В. Кудровой). СС-6. стр. 171–174. Печ. по СС-6.
2-21. Е.Л. Ланну
Москва 19-го русск<ого> января 1921 г.
Дорогой Евгений Львович!
Зная меня, Вы не могли думать, что я так просто не пишу Вам — отвыкла — забыла.
Мне непрестанно / много раз {105} хотелось писать Вам, но я все время чего-то ждала, душа должна была переменить русло.
— Но так трудно расставаться! — Целых две недели мы с Алей с утра до вечера гоняли по городу, ревностно исполняя — даже отыскивая! — всякие дела. Иногда, когда бывало уж очень опустошенно, забредали к М<агеров>ским, — так — честное слово! — посещают кладбище!
(Вот, наверное, Д<митрий> А<лександрович> не думал-не гадал! Он ведь как раз тогда охаживал невесту!)
— Ну вот. — Две недели ничего не писала, ни слова, это со мной очень редко — ибо Песня над всем! — гоняя с Алей точно отгоняли Вас все дальше и дальше — наконец — отогнали — нет Ланна! — тогда я стала писать стихи — совершенно исступленно! — с утра до вечера! — потом «На Красном Коне». — Это было уже окончательное освобождение: Вы уже были — окончательно! в облаках.
_____Красный Конь написан. Последнее тире поставлено. — Посылать? — Зачем? — Конь есть, значит и Ланн есть — навек — высо́ко! [825] — И не хотелось идти к Вам нищей — только со стихами. — И не хотелось (гордыня женская и цветаевская — всегда post factum! {106}), чувствуя себя такой свободной — идти к Вам прежней Вашей!
Жизнь должна была переменить упор. — И вот, товарищ Ланн, (обращение ироническое и нежное!) опять стою перед Вами, как в день, когда Вы впервые вошли в мой дом (простите за наименование!) — веселая, свободная, счастливая. — Я. —
— Но все-таки, дружочек, принимая во внимание быстроту советскую и цветаевскую — после Вас роздых был порядочный!
БОЛЬШЕВИК [826] От Ильменя — до вод Каспийских — Плеча рванулись в ширь. Бьет по щекам твоим — российский Румянец-богатырь. Дремучие — по всей по крепкой Башке — встают леса. А руки — лес разносят в щепки. Лишь за топор взялся! Два зарева: глаза и щеки. Эх, уж и кровь добра! — Глядите-кось, как руки в боки, Встал посреди двора! Весь мир бы разгромил да проймы Жмут — не дают дыхнуть! Широкой доброте разбойной — Смеясь — вверяю грудь! И земли чуждые пытая, — Ну, какова мол новь? — Смеюсь, — все ты же, Русь святая, Малиновая кровь! 18 русск<ого> января 1921 г. _____18 л<ет>. — Коммунист. — Без сапог. — Ненавидит евреев. — В последнюю минуту, когда белые подступали к Воронежу, записался в партию. — Недавно с Крымского фронта. Отпускал офицеров по глазам. —
Сейчас живет в душной — полупоповской полуинтеллигентской к<онтр>р<еволюционной> семье (семействе!) — рубит дрова, таскает воду, передвигает 50-типудовые несгораемые шкафы, по воскресеньям чистит Авгиевы конюшни (это он называет «воскресником»), с утра до вечера выслушивает громы и змеиный шип на сов<етскую> власть слушает, опустив глаза (чудесные! 3-летнего мальчика, к<отор>ый еще не совсем проснулся!), — исполнив работу по своей «коммуне» (всё — его терминология!), идет делать то же самое к кн<язьям> Шаховским, выслушивает то же, — к Скрябиным — где не выслушивает, но ежедневно распиливает и колет дрова на четыре печки и плиту! — (наконец, поставили!) — к Зайцевым и т.д. — до поздней ночи, не считая хлопот по выручению из трудных положений — знакомых и знакомых знакомых.
Слывет дураком. Наружность: богатырская. Малиновый — во всю щеку — румянец, вихрь неистовый — вся кровь завилась! — волос, большие блестящие как бусы черные глаза, прэлэстный невинный маленький рот, нос прямой, лоб очень белый и высокий. Косая сажень в плечах, — пара — донельзя! — моей Царь-Девице [827].
Необычайная — чисто 18-тилетняя — серьезность всего существа. — Книги читает по пяти раз, доискиваясь в них СМЫСЛА, о котором легкомысленно забыл автор, чтит искусство, за стих Тютчева в огонь и в воду пойдет, — любимое — для души — чтение: сказки и былины. Обожает елку, службы, ярмарки, радуется, что еще есть на Руси «хорошие попы, стойкие» (сам в Бога не верит!)
Себя искренно и огорченно считает скверным, мучится каждой чужой обидой, неустанно себя испытывает, — все слишком легко! — нужно труднее — трудностей нет, берет на себя все грехи сов<етской> власти, каждую смерть, каждую гибель, каждую неудачу совершенно чужого человека! — помогает каждому с улицы — вещей никаких! — всё роздал и всё рассорил! — ходит в холщовой рубахе с оторванным воротом — из всех вещей любит только свою шинель, — в ней и спит, на ногах гетры и полотняные туфли без подошв — «так скоро хожу, что не замечаю!» — с благоговением произносит слово «товарищ» — а главное — детская беспомощная тоскливая исступленная любовь к только что умершей матери.
_____Наша встреча. — Мы с Т<атьяной> Ф<едоровной> [828] у одних ее друзей. Входит высокий красноармеец. Малиновый пожар румянца. Представляется — и — в упор: «Я читал Ваши стихи о Москве. Я Вас сразу полюбил за них. Я давно хотел Вас видеть. Но мне здесь сказали, что Вы мне и руки не подадите». — ? — «П<отому> ч<то> я — коммунист».
— «О, я воспитанный человек! Кроме того (невинно!) — коммунист — ведь тоже человек?» — Пауза. — «А о каких стихах о Москве Вы говорите?» — «О тех, что в Весеннем Салоне Поэтов» [829]. — Я: — «А-а»… (Помните?) — Пауза. — Он: — «Как мне Вас звать? Здесь Вас все зовут Марина». — Кто-то: — «Когда с человеком мало знакомы, его зовут по имени и отчеству».
Я: — «Зовите, как Вам удобнее — приятнее». — Он: — «Марина — это такое хорошее имя — настоящее — не надо отчества!»
Пошел меня провожать. Расстались — Ланн, похвалите, — у моего дома. На следующий день у Скрябиных читала ему Царь-Девицу. Слушал, развалясь у печки, как медведь. Провожал. — «Мне жалко Царевича, — зачем он все спал?» — «А мачеху?» — «Нет, мачеха дурная женщина».
У подъезда — Ланн, хвалите — расстались.
На следующий день (3-я встреча — все на людях!) — кончала ему у меня Царь-Девицу. Слушал, по выражению Али, как 3-летний мальчик, к<отор>ый верит, п<отому> ч<то> няня сама видала! — На этот раз — Ланн, не хвалите! — тоже расстались у подъезда, — только часов в восемь утра.
Ночь шла так: чтение — разговор о Царь-Девице — разговор о нем — долгий. Моя бесконечная осторожность, чтобы не задеть, не обидеть, — полное умолчание о горестях этих годов — его ужас перед моей квартирой — мое веселье в ответ — его желание рубить — мой отказ в ответ — предложение устроить в Крым — мой восторг в ответ.
Его рассказ о крымском походе — как отпускал офицеров (ничего не зная обо мне! о С<ереж>е!) — как защищал женщин — бесхитростный, смущенный и восторженный рассказ! — лучший друг — погиб на белом фронте. — Часа в два, усталая от непрерывного захлебывания, ложусь. — Через 5 мин<ут> сплю. Раскрываю глаза. — Темно. — Кто-то, чуть дотрагиваясь, трясет за плечо: «М<арина> И<вановна>! Я пойду». — «Борис!» — «Спите, спите!» Я, спросонья: — «Борис, у Вас есть невеста?» — «Была, но потеряна по моей вине». — Рассказ. — Балерина, хорошенькая, «очень женственная — очень образованная, — очень глубокая… и такая — знаете — широ — окая!».
Слушаю и в темноте кусаю себе губы. — Знаю наперед. — И, конечно, знаю верно: у балерины, кроме мужа, еще муж, и еще (все это — почтительным и чуть ли не благоговейным тоном) — но Б<орис> ей нужен, п<отому> ч<то> он ее не мучит. Служит ей два года (с 16-ти — по 18 лет!) в итоге видит, что ей нужны только его — ну́? — ну́ — некоторые материальные услуги… — Расстаются.
Потом — хождение по мукам: мальчик стал красавцем и коммунистом, — поищите такого любовника! И вот — в вагоне — на фронте — здесь на службе — все то же самое: только целоваться! А в это время умирает мать. —
Ланн! — Я слушала, и у меня сердце бешенствовало в груди от восторга и умиления. А он, не замечая, не понимая, вцепившись железными руками в железные кудри — тихо и глухо: — «Но я гордый, Мариночка, я никого не любил».
Курим. — Стесняется курить чужое. — «О, погодите, когда мне вышлют из Воронежа шубу…» — «Вы мне подарите сотню папирос 3-го сорта». — «Вам — 3-го сорта?!» — Глаза, вопреки на полнейшую темноту загораются так, что мне — в самом мозгу — светло. — «Мне же все равно, кроме того — Вы же сейчас у меня курите 3-й — здесь всё 3-го — кроме меня самой!».
_____Часа четыре, пятый. — Кажется, опять сплю. — Робкий голос: — «М<арина> И<вановна>, у Вас такие приятные волосы, — легкие!» — «Да?» — Пауза — и — смех! — Но какой!!! —
— «Ради Бога, тише, Алю разбудите! — Что Вы так смеетесь?» — «Я дурак!» — «Нет! Вы — чудесный человек! Но — все-таки?» — «Не могу сказать, М<арина> И<вановна>, слишком глупо!» — Я, невинно: — «Я знаю. Вам наверное хочется есть и Вы стесняетесь. Ради Бога — вот спички — там на столе хлеб, соль на полу у печки, — есть картофель». И — уже увлекаясь: — «Ради Бога!» Он, серьезно: — «Это не то!» Я, молниеносно: — «А! Тогда знаю! Только это безнадежно, — у нас все замерзло. Вам придется прогуляться, — я не виновата, — советская Москва, дружочек!».
Он: — «Мне идти?» — Я: «Если Вам нужно». Он: — «Мне не нужно, может быть Вам нужно?» — Я, оскорбление: — «Мне никогда не нужно». Он: — «Что?» — Я: — «Мне ничего не нужно — ни от кого — никогда».
— Пауза. — Он: — «М<арина> И<вановна>. Вы меня простите, но я не совсем понял». — «Я совсем не поняла». — «Вы это о чем?» — «Я о том, что Вам что-то нужно — ну что́-то — ну, в одно местечко пойти — и что Вы не знаете, где это — и смеетесь!» — Он, серьезно: — «Нет, М<арина> И<вановна>, мне этого не нужно, я не потому смеялся». — «А почему?» «Сказать?» — «Немедленно!» «Ну — словом — (опять хохот) — я дурак, но мне вдруг ужжжасно захотелось Вас погладить по голове». Я, серьезно: — «Это совсем не глупо, это очень естественно, гладьте, пожалуйста».
Ланн! — Если бы медведь гладил стрекозу — не было бы нежнее. Лежу, не двигаясь.
Гладит долго. Наконец я: — «А теперь против шерсти — снизу вверх — нет, с затылка — обожаю!» — «Так?» — «Нет, немножко ниже — так — чудесно!» — Говорим, почти громко. Он гладит, я говорю ему о своем отношении — делении мира на два класса: брюха — и духа.
Говорю долго, ибо гладит — долго.
_____Часов пять, шестой.
Я: — «Борис, Вы, наверное, замерзли, если хотите — сядьте ко мне». «Вам будет неудобно». «Нет, нет, мне жалко Вас, садитесь. Только сначала возьмите себе картошки». «М<арина> И<вановна>, я совсем не хочу есть». — «Так идите». — «М<арина> И<вановна>, мне очень хочется сесть рядом с Вами, Вы такая славная, хорошая, но я боюсь, что я Вас стесню». — «Ничуть».
Садится на краюшек. Я галантно — отодвигаюсь, врастаю в стену. Молчание. —
— «М<арина> И<вановна>, у Вас такие ясные глаза — как хрусталь и такие веселые! Мне очень нравится Ваша внешность».
Я, ребячливо: — «А теперь пойте мне колыбельную песнь» — и заглатывая уголек: «Знаете, какую? — Вечер был — сверкали звезды на дворе мороз трещал… Знаете? — Из детской хрестоматии…» (О, Ланн, Ланн!)
— «Я не знаю» — «Ну, другую, ну хоть Интернационал, — только с другими словами — или — знаете, Борис, поцелуйте меня в глаз! — В этот!» — Тянусь. — Он, радостно и громко: «Можно?!» — Целует, как пьет, очень нежно. — «Теперь в другой!» Целует. — «Теперь в третий!» — Смеется. — Смеюсь.
Так, постепенно, как помните, в балладе Goethe «Der Fischer»: «Halb zog sie ihn, halb sank er hin…» {107}
Целует легко-легко, сжимает та́к, что кости трещат.
Я: «Борис! Это меня ни к чему не обязывает?» — «Что́?» — «То, что Вы меня целуете?» — «М<арина> И<вановна>! Что Вы!!! — А меня?!» «То есть?» — «М<арина> И<вановна>, Вы не похожи на других женщин!»
Я, невинно: «Да?» — «М<арина> И<вановна>, я ведь всего этого не люблю.»
Я, в пафосе: — «Борис! А я ненавижу!» — «Это совсем не то, — так грустно потом». — Пауза. —
— «Борис! Если бы Вам было 10 лет…» — «Ну?» — «Я бы Вам сказала: Борис, Вам неудобно и наверное завидно, что я лежу. — Но Вам — 16 л<ет>?» — Он: — «Уже 18 л<ет>! Ну так вот» — «Да, 18! Ну так вот». — «Вы это к чему?» — «Не понимаете?» — Он, в ответ: «М<арина> И<вановна>! Я настоящий дурак!» Я: — «Так я скажу: если бы Вы были мальчик — ребенок — я бы просто-напросто взяла Вас к себе — под крыло — и мы бы лежали и веселились — невинно!» «М<арина> И<вановна>, поверьте, я так этого хочу!»
— «Но Вы — взрослый.» — «М<арина> И<вановна>! Я только ростом такой большой, даю Вам честное слово партийного.» —
— «Верю, — но — поймите, Борис, Вы мне милы и дороги, мне бы не хотелось терять Вас, а кто знает, я почти наверное знаю, что гораздо меньше буду Вас — что Вы гораздо меньше будете мне близки — потом. И еще, Борис, — мне надо ехать [830], все это так сложно…»
Он, — внезапно, как совсем взрослый человек — из глубины: — «М<арина> И<вановна>, я очень собранный».
(Собранный — сбитый — кабинет М<агеров>ского — Ланн!..)
Протягиваю руки.
_____Ланн, если Вы меня немножко помните, радуйтесь за меня! — Уже который вечер — юноша стоек — кости хрустят — губы легки — веселимся, болтаем вздор, говорим о России и все как надо: ему и мне.
Иногда я, уставая от нежности — «Борис! А может быть?»
— «Нет, М<арина> И< вановна>! — Мариночка! — Не надо! — Я так уважаю женщину, — и в частности Вас — Вы квалифициро́ванная женщина — я Вас крепко-крепко полюбил — Вы мне напоминаете мою мамочку — а главное — Вы скоро едете, у Вас такая трудная жизнь — и я хочу, чтобы Вы меня хорошо помнили!»
22-го русск<ого> января 1921 г.
— По ночам переписываем с ним Царь-Девицу. Засыпаю — просыпаюсь — что-то изрекаю спросонья — вновь проваливаюсь в сон. Не дает мне быть собой, веселиться — отвлекаться — приходить в восторг. — «Мариночка! Я здесь, чтобы делать дело — у меня и так уж совесть неспокойна все так медленно идет! — веселиться будете с другими!»
— Ланн! — 18 лет! — Я на 10 лет старше! — Наконец — взрослая — и другой смотрит в глаза! —
Я знаю одно: что та́к меня никто — вот уже 10 лет! — не любил. Не сравниваю — смешно! — поставьте рядом — рассмеетесь! — но то же чувство невинности — почти детства! — доверия — успокоения в чужой душе.
Меня, Ланн, очевидно могут любить только мальчики, безумно любившие мать и потерянные в мире, — это моя примета.
_____Ланн! — Мне очень тяжело. — Такое глубокое молчание. Ася в обоих письмах ничего о нем не знает, — не видала год. Последние письма были к Максу, в начале осени [831].
— Этого я не люблю, — смешно! — нет, очень люблю; просто и ласково, с благодарностью за молодость — бескорыстность, чистоту. За то, что для него «товарищ» звучит как для С<ережи> — Царь, за то, что он, несмотря на малиновую кровь (благодаря ей!) — погибает. — Этот не будет прятаться. — «И чтобы никто обо мне не жалел!» — почти нагло.
_____Ла́ннушка (через мягкое L!) — равнодушный собеседник моей души, умный и безумный Ланн! — Пожалейте меня за мою смутную жизнь!
Пишу Егорушку — страстно! — Потом — где-то вдалеке — Самозванец — потом — совсем в облаках — Жанна д'Арк [832].
Живу этим, даже не писанием, — радугой в будущее!
— Ланн, это мое первое письмо к Вам, жду тоже — первого.
Прощайте, мое привидение — видение! — Ланн.
МЦ.9-го русск<ого> февр<аля> 1921 г.
— Письмо залежалось. — Пишу еще. — Жду письма. Посылаю Коня и Блока [833].
МЦ.Впервые — Marina Cvetaeva. Studien und materialien. стр. 179–186 (публ. И.В. Кудровой). СС-6. стр. 174–181. Печ. по тексту СС-6.
3-21. Б.А. Бессарабову
31-го русского января 1921 года. <31/1 февраля>
Борюшка!
Вот Вам занятие на дорогу: учитесь читать почерк так же как душу — тогда нам с Вами никогда не расстаться.
Борюшка, такого, как Вы у меня еще никогда не было.
— Помню Ваш первый приход — в упор: — Как мне Вас называть? «Марина, какое хорошее имя, не надо отчества…».
— Умник и смелое существо.
— И мой ответ — и удивленный и одобряющий: — «Зовите как Вам удобней — как Вам приятней».
_____Борис, мне легко с Вами. Наша последняя встреча — пробный камень. Если бы я могла отойти от Вас — то только сегодня — не знаю, в каком часу утра. Но я не смогла — не отойду — я помню Ваш голос и Ваши слова — Вашу тихую — потом нежность. Над Вами и мной один закон: наши собственные человеческие недра.
Вы добры — и творчески добры: доброта как очарование, доброта — как сила. И поэтому — Борис — умоляю не будьте вьючным животным для Ш<аховс>ких и К (это — я — говорю!!!) — они этого не поймут, для них доброта — выгода и скупость, пошлите их <к> черту — в их родовые поместья — на том свете!
Человек, который может пользоваться Вами — дурак и подлец.
Дурак — ибо от Вас можно взять несравненно больше, чем силу Ваших рук, — то, что я беру: душа! —
Подлец — ибо из добровольного открытого дара делает Вам же невылазный долг.
Думайте о своей душе, Борис, не разменивайтесь на копейки добрых дел недобрым людям, единственное наше дело на земле — Душа.
Я знаю, что Вы широки: Вам ничего не жаль — на всех хватит (знаю, ибо я такая же!). Но мне вчуже обидно: Вам, Боренька, цитирую Царь-Девицу — не ковры расшивать, а дубы корчевать.
_____Встреча с Вами имеет для меня большое моральное значение: лишнее подтверждение главенства человеческого закона над всеми другими — людскими! — вера в человеческое бескорыстие, в любовь «Не во имя свое — мы одной породы, только я гибче Вашего и во мне больше горечи».
— Нужно же, чтобы первый человечий человек, которого я встретила после С<ергея> был к<оммуни>ст!
О Вашем к<оммуни>зме, Боренька, клянусь Богом — та же история, что с Ш<аховс>кими.
Вам дан величайший дар в руки, — живая душа! — а Вы отдаёте ее в никуда, тысячам, которых Вы не знаете и отдаёте не по вдохновению — выйдя на площадь — или — лбом вперёд — в бой! — а по приказу, по повестке, катясь по наклонной дороге — по расшатанным рельсам — чужих слов и воль!
Я понимаю: идти мимо дому где пожар — и бросаться, я понимаю: идти мимо дому где нет пожара — и зажечь! — но сам — один — на свой страх и совесть — без обязательства завтра и послезавтра — и так до скончания дней — тушить и поджигать.
Борис, Вы творческий человек, Вы должны быть один.
Вы скажете: Вас любят, в Вас верят. Но кого? — Кому? — к<оммуни>сту или человеку в к<оммуни>сте? Ах, Борис, любовь и вера при Вас останутся.
Хочу от Вас самого большого: упорного труда во имя свое (шкуры!) а во имя Его (Духа!). Чтоб он один был над Вами Царь и Бог.
— Хочу от Вас одиночества — роста в молчании — вечных снегов Духа! Милый мой мальчик — (простите за прорывающееся материнство, — но так очаровательно 28-ми лет от роду иметь 24-летнего сына! и такого роста еще! — Горжусь!) — милый Борюшка! — вижу как Вы читаете мое письмо: Ваш ослепительный — отвесом — лоб с крупным бараньим завитком (классический большевистский вихор! — и вихрь!) — и недоуменно — напряженно — сжатые брови.
Вы ничего не понимаете — немножко злитесь — и ничего не слышите вокруг.
Не злитесь! — осилив мой почерк, Вы осилите весь Египет с его иероглифами.
<Приписка для сестры Ольги Бессарабовой:>
«Письмо Марины не дописано и без подписи.
Это письмо очень хорошо проясняет основы наших отношений».
Впервые — Марина Цветаева — Борис Бессарабов. Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой. 1916–1925 / Вступ. статья, подгот. текста, сост. H.A. Громова, Г.П. Мельник, В.И. Холкина. — М.: Эллис Лак, 2010. стр. 31–33. Печ. по тексту первой публикации.
По одной версии, письмо (неоконченное и без подписи) случайно передала Бессарабову Анастасия Цветаева с книгой, в которую оно было вложено. Борис сообщил об этом Цветаевой, она сказала, что он может оставить письмо у себя и «что оно имеет полную силу». Бессарабов включил его в письмо к Ольге от 4 июня 1921 г.: «С этим письмом я посылаю тебе копию с письма Марины ко мне, но попавшее мне случайно, и она об этом не знает. В книге, которую мне дала читать Ася — свою вещь: „Королевские размышления“, изданные в 1915 году, принадлежащей Марине, с надписью Асе.
В таких случаях, а он один в моей жизни, я не счел возможным не прочесть его. Мой фатализм — оправдание! Копию его я шлю для этого, чтобы ты окончательно убедилась в Марине и ее отношении ко мне с первых наших встреч.
Отдавать его подожду до отъезда и думаю, что она оставит его у меня» (Указ. изд. стр. 666–667).
По другой версии (видимо, ошибочной), о которой пишет Бессарабов в воспоминаниях: «В середине февраля 1921 г. меня включили в инспекцию жел<езно>дор<ожных> войск по IV отделу ЦУПВОСО при Р.В.С.Р. для проверки и инструктажа по полит<ической> ч<асти> ж<елезно>д<орожных> войск, дислоцированных на западе. В дорогу я получил от Марины Цветаевой письмо, помеченное так: „31 русское января 1921 года“».
Подлинник этого письма находился в квартире Дмитрия (Мити) Марченко — самого близкого друга Бессарабова с гимназии (Марченко был секретарем Постышева, в начале войны пошел в ополчение и погиб). Бессарабов был мобилизован. В его отсутствие архив частично погиб (1941–1943 гг.).
Об автографе стихотворения, подаренном Цветаевой, Бессарабов писал Ариадне Эфрон в письме от 31 июля 1966 г.: «Стихотворение „Большевик“ было написано Мариной в книжечке ее стихотворений „Волшебный фонарь“, переплетенной в темно-бордовый переплет, которую она мне подарила со своим автографом — текстом стихотворения „Большевик“. Эту чудесную книжечку кто-то у меня зачитал во время моей тяжелой болезни тропической малярии».
4-21. Е.Л. Ланну
— Письмо четвертое. —Москва, 2-го февр<аля> 1921 г. Сретение.
Ланн! Ланн! — мой дорогой Ланн!
У меня от Вас три письма, — одно другого хуже. Первое про авансы (якобы мои Вам!), второе — так, петухив вместе с петухивами — и через петухива [834] (для красного словца! — не знаю!) и третье сегодня, безобразное дважды 1) со службы 2) на букву е.
Но, Ланнушка, я ему так обрадовалась! (Вы бы хоть Цветаевой писали через — а?) — особенно, когда поглядела на число: приблизит<ельно> в те же дни я писала Вам то — большое — первое настоящее, к<отор>ое д<о> с их пор лежит и ждет Шиллингера.
Дорогой мой Ланн, освободившись от Вас, думаю о Вас с любовью. Авансы вздор. Это Бог Вам дал большой аванс, с Ним и расплачивайтесь.
Ланн, — посмейтесь мне! — я хочу, чтобы Вы были не только большим поэтом для меня и мне подобных, я хочу — ну, смейтесь же, Ланн! чтобы Вы в одно утро — как Байрон — проснулись знаменитым.
Недавно я у Г<оль>дов (помните, чайный стол, веселый доктор, и Ваши четыре коня Апокалипсиса — вскачь по всем этим головам и чашкам?) — недавно я у Г<оль>дов провела чудесный вечер, одна среди множества угощающихся петухивов — с каменным Паганини [835] — Вами.
Я спрашивала: Ланн? — И Вы отвечали: — Марина!
_____Беззаботное и себялюбивое существо! Вы пишите мне: пишите! — Да «пишите», п<отому> ч<то> Вам скучно: на службе холодно, а дома все философические книги прочитаны, и вся белая мука проедена на лепешках, — и вот: — «Марина, пишите!» — А мне «пишите» то же самое, что — любите, ибо любить без писания я еще могу, но писать без любления…
Ну, словом я была умилена Вашим письмом
Красный Конь переписан — красивый — лежит и ждет оказии. По тому, как его никто (кроме Али) не понимает и не любит, чувствую, как он будет принят Вами. — Люблю его страстно. —
Сейчас люблю и пишу «Егорушку», кончила младенчество, и — с материнской гордостью: «нам уж осьмой годок пошел!» — Я не знаю, — такие пишут, я сама в таком восторге, когда пишу, я так вживаюсь и — так больно, кончая, расставаться, — ах, Ланн, при чем тут печатание и чтение с эстрады? — Это просто Божье утешение, как ребенок. И я так же здесь не при чем, как в Але.
Царь-Девица переписана. Скоро будет перепечатана на рэмингтоне, если удастся расплодить — пришлю. Это мое первое настоящее богатырское детище, (дочка!). И — молниеносная мысль: Сын — и последний — первенец!
Я помешалась на сыне. Вместе с Алей мечтаем о нем. — Егорушка. Ах, как я благодарна Богу за то, что пишу стихи, — сколько сыновей бы мне пришлось породить, чтобы вылюбить всю любовь!
_____А хотите слово — ко мне Бориса?
— Марина, ведь Вы — Москва… (Пауза.)… странноприимная!
(Из моих стихов: Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!..) [836]
_____Ланн, поздравьте меня! Мальчик выходит из партии. — Без нажима — внимательно — человечески о, как я знаю души! — защищая евреев (он — ненавидит!) — оправдывая nonchalamment {108} — декрет о вывезении наших народных ценностей за границу — шаг за шагом — капля за каплей — неустанным напряжением всей воли — ни один мускул не дрогнул! — играя! — играючи!!! — и вот — сегодня: бунтарский лоб, потупленные глаза, глухой голос: — М<арина>! а я выхожу…
Я, у печки, не подымая глаз: — Б<орис>, подумайте: выйти — легко, вернуться — трудно. Количественно Вы много потеряете: любовь миллиардов…
Сейчас поздний вечер. Жду его. — Хотите подробности? Однажды вечером я очень устала, легла на диван. Он сидел у письменного стола, переписывал. На́спех — кое-как — прикрываюсь тигром, уже сплю.
И вдруг — чьи-то руки, милая медвежья забота: сначала плэд, потом тигр, потом шинель, всё аккуратно, — (привык к окопной жизни!) там вытянет, здесь подоткнет.
И я, молниеносно: — Любит!
— Никто, никто, никто, кроме С<ережи>, сам по своей воле меня не укрывал, — за 10 л<ет> никто! — Я всех укрывала.
А этот — после З-летия фронта, митингов, гражданской, вселенской и звериной ярости — сам — никто не учил…
_____Мне от него тепло, Ланн, мне с ним благородно, люблю его по-хорошему — в ответ — благодаря и любуясь, — это настоящая Россия — Русь — крестьянский сын.
Ах, если бы та армия была: командный состав — Сережа, нижние чины — Борис!
Недавно он был — на парт<ийной> конф<еренции> — в селе Тушине (самозванческом.)
— Там, Маринушка, и земля такая — громкая!
— Некультурен. — Недавно при мне Игумнова [837], игравшего Шопена, спросил: — Это Вы свое играли? (На деревенское г — х)
И тот, сначала уязвленный: «У меня своего, вообще, нет, — Бог миловал!» — и, всмотревшись: — «Эх Вы, богатырь!»
_____Ланн, у нас в Москве появились пружинники: люди на пружинах. Делают огромные прыжки и перелетают через головы прохожих. — В саване. — Руки натерты серой. — Пружинят в моих краях: Собачья Площадка, Борисоглебский, Молчановка. Недавно в Б<орисоглеб>ском кого-то ограбили дочиста. — На углу Собачьей Площадки видели Чорта. Сидел на тумбе. Женщина, шедшая мимо, спросила: — «Что ж это ты, — святки прошли, а ты всё гуляешь?» — Ничего не ответил, — пропустил. И — только она отошла — вопль. Оглядывается: Чорт обдирает какую-то даму. — Пустил без шубы.
26 штук пружинников уже арестованы. — Достоверность. — А в народе их называют «струнниками». — «Растут-растут на струне — дорастут до неба — и с неба-то — ястребом — в прохожего.»
Хорошо? — Расскажите А<лександре> В<ладимировне> [838].
_____Знаете, Ланн, как я это вижу?
Я на Севере, Ася на Юге, посредине Вы, раскрывший руки. — Клянусь Богом, что не нарочно получилось распятие! —
Мне сегодня очень весело: от Егорушки — Вашего письма — и оттого что Б<орис> придет.
Аля его нежнейшим образом любит, — как серафим медведя например. Серафим крылат, но медведь сильнее.
Так она никого из моих друзей не любила. — Не ревнует (Вас ревновала бешено!) — встречает, ликуя: — Борюшка! Из этого заключая, что я его не слишком, а он меня очень — любит.
(Не окончено.
Не отправлено.)
Впервые — НЗК-2. стр. 250–253. Печ. по тексту первой публикации.
5-21. Е.Л. Ланну
Москва, 9-го русск<ого> февр<аля> 1921 г.
Ланнушка!
Наконец Вы получите мои письма: сразу две окказии. — Ланн, знаете Вы это слово Андрея Белого:
— Восторг перерос вселенную! [839] —
Так вот, — я так живу — Первый признак: зажатое горло. — Непрестанно зажатое горло
Я вышла из себя, я растеряла себя, докуда взору — духу — вздоху хватает — я.
Поэтому, можно меня не любить, не нужно меня любить, (я давно это бросила!), любящий меня — любит часть меня, бесконечно-малую долю! — Только любящий всё — любит — меня! Любящий меня — меня (МЕНЯ!) обкрадывает.
— Та́к, сыночек! —
Это я не к Вам, Вы были умней меня (из галантности к своему женскому естеству — иногда — глупею!) — Вы были умней меня. Вы даже не заметили, какие у меня глаза, Вы меня вдохновенно мучили.
Творческая безжалостность — беспощадность!
Помню Вас с благодарностью.
_____Ланн, мне все равно: молодость. Я брезгую бренным. Ланн, мне все равно: слава. Я выше ме́чу. — Ланн, мне все равно: Любовь. — Я лучшего стою.
У меня распахнутые руки. Последняя стена между Миром и мной — прошиблена. — Ланн, меня уже нет! — Я ЕСМЬ. —
_____Мое вдохновенное дитя, как мне сейчас с Вами легко! И как я — все-таки — счастлива то́й — минувшей трудностью.
Одного я не понимаю: что Вас, трезвого, зоркого, — ВИДЯЩЕГО! — тогда склонило к моей сознательной слепоте?
Не мужской же гонор! Ибо Вы — особенно, раз дело идет обо мне! — лучшего стоите!
— Ланн!
_____Ланн, я могу жить без Вас! — Ланн, я чудесно — чудодейственно! — живу без Вас.
Знаете слово обо мне моего Бориса:
— «Марина, Вы ведь создаете героев!» — (без пафоса, между прочим, как вещь, самое собой разумеющуюся.)
На бумаге или между двух рук моих — мне все равно — я живу, окруженная теми, кем должна быть.
Так, Ланн, Вы никогда не возьмете себя обратно.
_____Видимся с Б<орисом> каждый день.
Крутой вопрос: — «М<арина>! Мы гибнем. Должен ли я уходить из партии?»
— Вы, если я не ошибаюсь, вступили в нее, когда белые были в трех верстах от Воронежа?
— Да.
— П<отому> ч<то> все рвали партийные билеты?
— Да.
— Вы верите?
— Ни во что, кроме нашей гибели. — М<арина>! Скажите слово, и я завтра же выезжаю в Т<амбов>скую губ<ернию>. Но — мы гибнем, Марина!
— «Борис, я люблю, чтобы деревья росли прямо. — Растите в небо. Оно одно: для красных и для белых.»
_____Ланн, судите меня.
Но Ланн, говорю Вам, как перед Сережей, — я НЕ МОГЛА иначе. — Не мое дело подвигать солдата на измену — в ЧАС ГИБЕЛИ.
_____Пишу Егорушку. В нем сущность Б<ориса>: НЕВИННОСТЬ БОГАТЫРСТВА. — Борение с темной кровью. Там у меня волки, змеи, вещие птицы, пещеры, облака, стада, весь ХАОС довременной Руси! Дай мне Бог дописать эту вещь, — она меня душит!
_____Мне хорошо с Б<орисом>. Он ласков, как старший и как младший. И мне с ним ДОСТОЙНО. Мы с ним мало смеемся, это меня умиляет. — «Б<орис>, Вы не понимаете шуток!» — Я не хочу их понимать! — Скоро он приведет мне одного своего товарища — очень русского и очень высокого ростом. Приведет на явную любовь, знаем это оба и молчим. — Этот меня не обокрадет ни на щепотку радости! —
Аля его обожает: ей по сравнению с ним — тысячелетие. Если бы Вы видели их вместе! Благостный и усталый наклон ее головы и потерянный взгляд — и его малиновую кровь — рядом!
Да, еще одно слово ко мне Бориса:
— Я не хочу, чтобы Сергей — там — слишком нас проклинал!
(Говорил о необходимости устроить мою внешнюю жизнь.)
И еще — глубокой ночью, слышу сквозь сон:
— У меня две вещи на свете: Революция — и Марина.
(У С<ережи>: Россия — и Марина! — Точные слова.) — «И моим последним словом будет, конечно, Марина!»
Пишу у Зайцевых. Аля здесь учится. В доме несосвятимый холод.
Ланнушка, посылаю Вам Седое утро [840], — м<ожет> б<ыть> у Вас нет? — Скоро появится сборник автографов [841], там будут одни мои новые стихи, с и Ъ! — Тогда пришлю. —
Впервые — НЗК-2. С. 253–255. Печ. по тексту первой публикации.
6-21. Б.А. Бессарабову
Москва, 15-го русск<ого> февраля 1921 г., вторник
— День отъезда — Борюшка! — Сыночек мой!Вы вернетесь! — Вы вернетесь потому что я не хочу без Вас, потому что скоро март — Весна — Москва — п<отому> ч<то> я ни с кем другим не хочу ходить в Нескучный сад, — Вы, я и Аля — п<отому> ч<то> в Н<ескучном> с<аду> есть аллея, откуда, виден, как солнце, купол Храма Спасителя, п<отому> ч<то> мне нужен Егорушка — и никто другой!
Б<орис> — Русский богатырь! — Да будет над Вами мое извечное московское благословение. Вы первый богатырь в моем странноприимном дому.
— Люблю Вас. —
Тридцать встреч — почти что тридцать ночей! Никогда не забуду их: вечеров, ночей, утр, — сонной яви и бессонных снов — всё сон! — мы с Вами встретились не 1-го русск<ого> янв<аря> 1921 г., а просто в 1-ый день Руси, когда все были как Вы и как я!
Б<орис>, мы — порода, мы — неистребимы, есть еще такие: где-н<и>б<удь> в сибирской тайге второй Борис, где-н<и>б<удь> у Каспия широкого — вторая М<арина>.
И все иксы-игреки, Ицки и Лейбы — в пейсах или в островерхих шапках со звездами — не осилят нас, Русь: Б<ориса> — M <арину>!
Мое солнышко!
Целую Вашу руку, такую же как мою. Мне не страшно ни заноз ни мозолей, — я просто не замечаю их! — Лишь бы рука держала перо, лишь бы рука держала такую руку, как Ваша!
_____Чуть вечереет. — Скоро Вы. — Скоро отъезд.
Заработают колёса. Вы будете улыбаться. И я улыбнусь — в ответ. Я не буду плакать. Я привыкла к разлуке. — Всё мое — при мне! И вся я — при Вас!
_____Дружочек, забудьте все наши нелепые выдумки, мои дурные сны. Ваш на них ответ.
Всё это — ересь. — Я не Вам верна, а себе, — это вернее. И верная себе, верна Вам, — ибо не Вы, не я, — Дух, Б<орис>! — Наш богатырский дых!
_____Никогда не забуду: темный бульвар, мой рассказ о Егории — скамейка спящая Аля — раскинутые крылья шубы. (Где-то она?! Спаси ее Бог, равно как ее хозяина!)
Спасибо, Вам, сыночек, за — когда-то — кусок мыла, за — когда-то — кусок хлеба, за — всегда! — любовь!
И за бумагу, Борюшка, и за тетрадочки, и зато, как их сшивали, и за то, как переписывали Ц<арь> Девицу, — и за то как будили и не будили меня!
Спасибо за скрипящие шаги у двери, за ежевечернее: Можно? — за мое радостное: Входите.
Я затоплена и растоплена Вашей лаской!
И за ночь с 17-го на 18-е февраля — спасибо, ибо тогда прозвучали слова, к<отор>ые — я до Вас — слышала на земле лишь однажды. Вы — как молотом — выбили из моего железного сердца — искры!
_____До свидания, крещеный волчек! Мой широкий православный крест над Вами и мое чернокнижное колдовство.
Помните меня! Когда тронется поезд — я буду улыбаться — зна́ю себя! — и Вы будете улыбаться — зна́ю Вас! — И вот: улыбка в улыбку — в последний раз — губы в губы!
И, соединяя все слова в одно: — Борис, спасибо!
Марина.Впервые — НЗК-2. стр. 255–257.
Печ. по тексту первой публикации. Письмо сохранилось в виде чернового наброска, Борис Бессарабов, вероятно, его не видел, так как везде говорит только об одном письме.
7-21. В Редакцию <«Вестника Театра»>
<Середина февраля 1921 г.>
В ответ на заметку в № 78–79 «В<естника> Т<еатра>» [842] сообщаю, что ни «Гамлета», никакой другой пьесы я не переделываю и переделывать не буду. Все мое отношение к театру РСФСР исчерпывается предложением Мейерхольда перевести пьесу Клоделя «Златоглав» [843], на что я, — с вещью не знакомая, не смогла даже дать утвердительного ответа.
Марина Цветаева [844].Впервые — Вестник Театра. 1921. № 83/84. 23 февр. стр. 15. СС-6. стр. 197–198. Печ. по тексту СС-6.
8-21. С.Я. Эфрону
<Вторая половина февраля 1921 г.>
— Письмо к С. —Мой Сереженька! Если от счастья не умирают то — во всяком случае — каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. — Последние вести о Вас, после Э<ренбурга>, от Аси: Ваше письмо к Максу. Потом пустота. Не знаю, с чего начать. — Знаю с чего начать: то чем и кончу: моя любовь к Вам. Письмо через Э<ренбурга> пропало — Бог с ним! я ведь не знала, пишу ли я кому-нибудь. Это было
(В тетради — неокончено)
Впервые — HCT. стр. 41. Печ. по тексту первой публикации.
9-21. С.Я. Эфрону
Москва, 27-го русск<ого> февраля 1921 г.
Мой Сереженька!
Если Вы живы — я спасена.
18-го января было ровно три года, как мы расстались. 5-го мая будет 10 лет, как мы встретились.
— Десять лет тому назад. —
Але уже восемь, Сереженька!
— Мне страшно Вам писать, я так давно живу в тупом задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы — и лбом — руками — грудью отталкиваю то, другое. — Не смею. — Вот все мои мысли о Вас.
Не знаю судьбы и Бога, не знаю, что им нужно от меня, что задумали, поэтому не знаю, что думать о Вас. Я знаю, что у меня есть судьба. — Это страшно. —
Если Богу нужно от меня покорности, — есть, смирения — есть — перед всем и каждым! — но, отнимая Вас у меня, он бы отнял — жизнь, разве ему <не дописано>
А прощать Богу чужую муку — гибель — страдания, — я до этой низости, до этого неслыханного беззакония никогда не дойду. — Другому больно, а я прощаю! Если хочешь поразить меня, рази — меня — в грудь!
Мне трудно Вам писать.
Быт, — всё это такие пустяки! Мне надо знать одно — что Вы живы.
А если Вы живы, я ни о чем не могу говорить: лбом в снег!
Мне трудно Вам писать, но буду, п<отому> ч<то> 1/1 000 000 доля надежды: а вдруг?! Бывают же чудеса! —
Ведь было же 5-ое мая 1911 г. — солнечный день — когда я впервые на скамейке у моря увидела Вас. Вы сидели рядом с Лилей, в белой рубашке. Я, взглянув, обмерла: «— Ну, можно ли быть таким прекрасным? Когда взглянешь на такого — стыдно ходить по земле!»
Это была моя точная мысль, я помню.
— Сереженька, умру ли я завтра или до 70 л<ет> проживу — все равно — я знаю, как знала уже тогда, в первую минуту: — Навек. — Никого другого.
— Я столько людей перевидала, во стольких судьбах перегостила, — нет на земле второго Вас, это для меня роковое.
Да я и не хочу никакого другого, мне от всех брезгливо и холодно, только моя легко взволнов<анная> играющая поверх<ность> радуется людям: голосам, глазам, словам. Всё трогает, ничего не пронзает, я от всего мира заграждена — Вами.
Я просто НЕ МОГУ никого любить!
_____Если Вы живы — тот кто постарается доставить Вам это письмо — напишет Вам о моей внешней жизни. — Я не могу. — Не до этого и не в этом дело.
Если Вы живы — это такое страшное чудо, что ни одно слово не достойно быть произнесенным, — надо что-то другое.
Но, чтобы Вы не слышали горестной вести из равнод<ушных> уст, — Сереженька, в прошлом году, в Сретенье, умерла Ирина. Болели обе, Алю я смогла спасти, Ирину — нет.
С<ереженька>, если Вы живы, мы встретимся, у нас будет сын. Сделайте как я: НЕ помните.
Не для В<ашего> и не для св<оего> утешения — а как простую правду скажу: И<рина> была очень странным, а м<ожет> б<ыть> вовсе безнадеж<ным> ребенком, — всё время качалась, почти не говорила, — м<ожет> б<ыть> — рахит, может быть — вырождение, — не знаю. Конечно, не будь Революции —
_____Но — не будь Революции —
Не принимайте моего отношения за бессердечие. Это — просто — возможность жить. Я одеревенела, стараюсь одеревенеть. Но — самое ужасное — сны. Когда я вижу ее во сне — кудр<явую> голову и обхмызганное длинное платье — о, тогда, Сереженька, — нет утешения, кроме смерти.
Но мысль: а вдруг С<ережа> жив? И — как ударом крыла — ввысь!
Вы и Аля — и еще Ася — вот всё, что у меня за душою.
Если Вы живы. Вы скоро будете читать мои стихи, из них многое поймете. О, Господи, знать, что Вы прочтете эту книгу. — что бы я дала за это! Жизнь? — Но это такой пустяк. — На колесе бы смеялась!
Эта книга для меня священная, это то, чем я жила, дышала и держалась все эти годы. — Это НЕ КНИГА. —
Не пишу Вам подробно о смерти Ирины. Это была СТРАШНАЯ зима… То, что Аля уцелела — чудо. Я вырывала ее у смерти, а я была совершенно безоружна!
Не горюйте об Ирине, Вы ее совсем не знали, подумайте, что это Вам приснилось, не вините в бессердечии, я просто не хочу Вашей боли, — всю беру на себя!
У нас будет сын, я знаю, что это будет, — чудесный героический сын, ибо мы оба герои. О, как я выросла, Сереженька, и как я сейчас достойна Вас!
Але 8 л<ет>. Невысокая, узкоплечая, худая. Вы — но в светлом. Похожа на мальчика. — Психея. — Господи, как нужна Ваша родств<енная> порода!
Вы во многом бы ее поняли лучше, точнее меня.
Смесь лорда Ф<аунтлероя> [845] и маленького Домби [846] — похожа на Глеба [847] — мечтательность наследника и ед<инственного> сына. Кротка до безвольности — с этим упорно и неудачно борюсь — людей любит мало, слишком зорко видит, — зорче меня! А так как настоящих мало — мало и любит. Плам<енно> любит природу, стихи, зверей, героев, всё невинное и вечное. — Поражает всех, сама к мнению других равнодушна. — Ее не захвалишь! — Пишет странные и прекр<асные> стихи.
Вас помнит и любит страстно, все Ваши повадки и привычки, и как Вы читали книгу про дюйм, и потихоньку от меня курили, и качали ее на качалке под завывание: Бу-уря! — и как с Б<орисом> [848] ели розовое сладкое, и с Г<ольце>вым [849] топили камин, и как зажиг<али> елку всё помнит.
Сереженька! — ради нее — надо, чтобы Вы были живы!
Пишу Вам в глубокий час ночи, после трудного трудового дня, весь день переписывала книгу, — для Вас, Сереженька! Вся она — письмо к Вам.
Вот уже три дня, как не разгибаю спины. — Последнее, что я знаю о Вас: от Аси, что в начале мая были письма к М<аксу>. Дальше темь…
— Ну —
— Сереженька! — Если Вы живы буду жить во что бы то ни стало, а если Вас нет — лучше бы я никогда не родилась!
Не пишу: целую, я вся уже в Вас — так, что у меня уже нет ни глаз, ни губ, ни рук, — ничего, кроме дыхания и биения сердца.
Марина.Впервые — НИСП. стр. 282–284. Печ. по тексту первой публикации.
По-видимому, это письмо увез за границу И.Г. Эренбург, уехавший в Ригу 21 (22?) марта 1921 г. Поиски С.Я. Эфрона он смог предпринять лишь в июне 1921 г., и 14 июля 1921 г. Цветаева получила письмо от мужа.
С. Эфрон, находившийся в это время в Константинополе, в ответ написал письма жене и дочери (НИСП. стр. 286–289).
С.Я. Эфрон — М.И. Цветаевой<28 июня 1921 г>
— Мой милый друг — Мариночка,
Сегодня я получил письмо от Ильи Г<ригорьевича> <Эренбурга>, что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. — До этого я имел об Вас кое-какие вести от К<онстантина> Д<митриевича> <Бальмонта>, но вести эти относились к осени, а минувшая зима была такой трудной.
Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего не буду от Вас требовать — мне ничего и не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Остальное — я это твердо знаю — будет. Об этом и говорить не нужно, п<отому> ч<то> я знаю — всё что чувствую я не можете не чувствовать Вы.
Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю — сердце замирает страшно — ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. Но я суеверен — не буду говорить об этом. Все годы нашей разлуки — каждый день, каждый час — Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать.
Радость моя, за все это время ничего более страшного (а мне много страшного пришлось видеть) {109}, чем постоянная тревога за Вас, я не испытал. Теперь будет гораздо легче — в марте Вы были живы.
— О себе писать трудно. Все годы, что мы не с Вами — прожил, как во сне. Жизнь моя делится на две части — на «до» и «после». «До» — явь, «после» — жуткий сон, хочешь проснуться и нельзя. Но я знаю — явь вернется.
Для Вас я веду дневник (большую и самую дорогую часть дневника у меня украли с вещами) — Вы будете всё знать, а пока знайте, что я жив, что я все свои силы приложу, чтобы остаться живым и знаю, что буду жив. Только сберегите Вы себя и Алю.
— Перечитайте Пьера Лоти. В последнее время он стал мне особенно понятен. Вы поймете — почему.
Меня ждет Ваше письмо — И<лья> Г<ригорьевич> не хотел мне его пересылать, не получив моего точного адреса. Буду ожидать его с трепетом. Последнее письмо от Вас имел два года тому назад. После этого — ничего.
— Спишитесь с Максом. Он всё обо мне знает. (Идут зачеркнутые слова: я же — или я не — знал, что Вам — последнего не разбираю.) — Сейчас комната, в которой я живу полна народу. Шумят и громко разговаривают и потому писать невозможно. Как только получу ответ от И<льи> Г<ригорьевича> с Вашим письмом — напишу подробно и много. Хочу отправить это письмо сейчас же, чтобы Вы поскорее получили его. Кроме того, даю еще о себе знать другим путем. И<лья> Г<ригорьевич> пишет, что Вы живете все там же. Мне приятно, что я могу себе представить окружающую Вас обстановку.
— Что мне Вам написать о своей жизни? Живу изо дня в день. Каждый день отвоевывается, каждый день приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу. А так — все вокруг очень плохо и безнадежно. Но об этом всем расскажу при свидании.
Очень мешают люди меня окружающие. Близких нет совсем. Большим для меня отдыхом были мои наезды к Максу. С Пра и с ним за эти годы я совсем сроднился и вот с кем я у него встречался. (Эти слова зачеркнуты, разобрала.)
— Надеюсь, что И<лья> Г<ригорьевич> вышлет мне Ваши новые стихи. Он пишет, что Вы много работаете, а я ничего из Ваших последних стихов не знаю. Простите, радость моя, за смятенность письма. Вокруг невероятный галдеж. Сейчас бегу на почту.
Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля — последнее и самое дорогое, что у меня есть. Храни Вас Бог.
Ваш С. С.Я. Эфрон — A.C. Эфрон28 июня 1921 г.
Родная моя девочка!
Я получил письмо от И<льи> Г<ригорьевича>. — Он пишет, что видел тебя и передал мне те слова, что ты просила сказать мне от твоего имени. Спасибо, радость моя — вся любовь и все мысли мои с тобою и с мамой. Я верю — мы скоро увидимся и снова заживем вместе, с тем, чтобы никогда больше не расставаться.
За все время, как мы с тобой не виделись — я получил от тебя два письма. — одно из них с карточкой. Эти письма и карточка всюду ездят со мною. Попроси маму, если это не особенно трудно — сняться с тобою вместе и переслать мне фотографию. Я тебя оставил совсем маленькой и мне бы очень хотелось видеть какой ты стала.
Береги себя и маму.
Напишу тебе гораздо больше в следующем письме, а это тороплюсь отправить скорее на почту, чтобы оно пошло сегодня же. Благословляю и целую тебя крепко.
Твой папа.10-21. С.М. Волконскому
<Март 1921?>
Дорогой Сергей Михайлович!
Вот то́, что мне удалось узнать в Лавке Писателей [850]. Издатель из Риги еще не приехал. Редакц<ионный> Комитет состоит из Бердяева, Зайцева и Осоргина. Первого Вы знаете, второй и третий — люди безупречные и достаточно-культурные. Я говорила им о Фижмах [851]. Тон приблизительно был таков: «Эх, господа, господа, вы вот снабжаете заграницу Новиковым и К0 (NB! К0 — они), а знаете ли Вы такую замечательную вещь „Фижмы“» — и т.д. Немножко рассказала. Спросили о длине вещи, я сказала печатный лист. (Та́к?) Не набралось бы несколько таких рассказов? — Пока один. — Тогда можно поместить в альманахе [852]. Но хорошо бы иметь на руках вещь. —
И вот, дорогой С ергей М<ихайлович>, просьба: если Вам не жалко отдавать Фижмы в альманах (мне — жалко!) не могли бы Вы их держать наготове, чтобы к приезду рижского издателя представить в Редакц<ионный> Комитет? (Не решаюсь предложить Вам свои услуги по переписке, — сама и всегда страшусь выпус<кать?> вещь из рук — хотя бы в самые любящие.)
Об этом его приезде буду знать, предупрежду Вас. А другие Ваши книги цельные? Переписаны ли они? Но — когда начинаешь думать — всё жалко!
Посылаю Вам прежних-времен чаю: противоядие от советских полезных напитков. Если у Вас уже есть, пусть будет еще. Все вечера читаю Художественные отклики, и уже с утра — жду вечера.
МЦ.Впервые — НСТ. стр. 13. Печ. по тексту первой публикации.
11-21. М.А. Волошину
Москва, 14-го русск<ого> марта 1921 г.
Дорогой Макс!
Только сегодня получила твое письмо, где ты мне пишешь о Соне. В настоящую минуту она уже должна быть на воле [853], ибо еще вчера (знала раньше из Асиных писем) Б.К. 3<айц>ев [854] был у К<аме>нева [855] и тот обещал телеграфировать. Речь была также об А<делаиде> К<азимировне> [856]. — Дело верное, Б<орис> К<онстантинович> поручился.
Обо мне ты уже наверное знаешь от Аси [857], повторяю вкратце: бешено пишу, это моя жизнь. За эти годы, кроме нескольких книг стихов, пьесы: «Червонный Валет» (из жизни карт), «Метель» (новогодняя харчевня в Богемии, 1830 г. — случайные), «Приключение» (Казанова и Генриэтта), «Фортуна» (Лозэн-младший и все женщины). «Конец Казановы» (Казанова 73 лет и дворня, Казанова 73 л<ет> — и знать, Казанова 73 лет — и девочка 13 л<ет>. Последняя ночь Казановы и столетия). — Две поэмы: Царь-Девица — огромная — вся сказочная Русь и вся русская я, «На Красном коне» (Всадник, конь красный как на иконах) и теперь «Егорушка» — русский Егорий Храбрый, крестьянский сын, моя последняя страсть. — Вся довременная Русь. — Эпопея.
Это моя главная жизнь. О людях — при встрече. Много низости. С<ережа> в моей жизни — как сон.
О тех, судьбы которых могут быть тебе дороги: А. Белый за́ городом, беспомощен, пишет, когда попадает в Москву, не знает с чего начать, вдохновенен, затеял огромную вещь — автобиографию — пока пишет детство [858]. — Изумительно. — Слышала отрывки в Союзе Писателей. — Я познакомила с ним Ланна. Это было как паломничество, в тихий снежный день — куда-то в поля.
Из поэтов, кажется, не считая уехавшего Б<альмон>та [859], не служили только мы с ним. (Еще П<астер>нак.) Есть у нас лавка писателей: Б<ердяе>в, Ос<ор>гин, Гр<иф>цов, Дж<ивеле>гов [860], — всех дешевле продают, сочувственны, человечны. Сейчас в Москве миллиард поэтов, каждый день новое течение, последнее: ничевоки.
Читаю в кафэ, из поэтов особенно ни с кем не дружу, любила только Б<альмон>та и Вячеслава [861], оба уехали, эта Москва для меня осиротела. Ф. С<оло>губ в П<етербур>ге не служит, сильно бедствует [862], гордец. Видела его раз на эстраде — великолепен. Б<рю>сов — гад, существо продажное (уж и покупать перестали, — д<олжно> б<ыть> дешево просит!) и жалкое, всюду лезет, все издеваются. У него и Адалис [863] был ребенок, умер.
Сейчас в Москве М<андельшта>м, ко мне не идет, пишет, говорят, прекрасные стихи. На днях уехал за границу Э<ренбур>г, мы с ним дружили, он был добр ко мне, хотя в нем мало любви. Прощаю ему всё за то, что его никто не любит. Скоро уезжают 3<ай>цевы. Какой она изумительный человек! [864] Только сейчас я ее увидела во весь рост.
— Москва пайковая, деловая, бытовая, заборы сняты, грязная, купола в Кремле черные, на них вороны, все ходят в защитном, на каждом шагу клуб — студия, — театр и танец пожирают всё. — Но — свободно, — можно жить, ничего не зная, если только не замечать бытовых бед.
Я, Макс, уже ничего больше не люблю, ни-че-го, кроме содержания человеческой грудной клетки. О С<ереже> думаю всечасно, любила многих, никого не любила.
Нежно целую тебя и Пра. Лиля и Вера в Москве, служат, здоровы, я с ними давно разошлась из-за их нечеловеческого отношения к детям, — дали Ирине умереть с голоду в приюте под предлогом ненависти ко мне. Это — достоверность. Слишком много свидетелей.
Ася Ж<уков>ская вышла замуж за еврея-доктора [865]. С Ф<ельдштей>нами не вижусь, были в прошлом году в большой передряге.
Милый Макс, буду бесконечно рада, если напишешь мне через <пропуск в рукописи>, тогда очень скоро получу письмо.
Передай Пра, что я ее помню и люблю и мечтаю о встрече с ней — Такой второй Пра нету!
М.— Сейчас в М<оскве> Бялик [866] — Еврейский театр «Габима» [867], реж<иссер> — Станиславский. Играют на древнееврейском.
<На полях и пустых местах:>
Дружу еще со С<тепу>ном [868] и В<олкон>ским. Ст<еп>ун за городом, пишет роман, В<олкон>ский бедствует и пишет замечательную книгу: «Воспоминания», другая Д<екабрис>ты уже готова [869].
Нежно-нежно поцелуй за меня А<делаиду> К<азимировну> и Е<вгению> К<азимировну> [870].
Только что узнала, что Вера Э<фрон> через месяц ожидает ребенка [871]. Эва с детьми за границей [872].
Посылаю тебе 10 экз<емпляров> Репина [873] — м<ожет> б<ыть> понадобятся?
Впервые полностью — Поэт и время. стр. 92–94. Ранее частично — в кн.: Саакянц А. стр. 278. СС-6. стр. 63–64. Печ. по НИСП. стр. 284–286.
12-21. М.И. Кузнецовой
16-го русск<ого> марта 1921 г. — Москва
Дорогая Мария Ивановна!
Помню и люблю Вас. О Борисе горевала и горюю, смерти его не верю и ее не принимаю, — приходится верить в бессмертие души! [874]
Приветствую и люблю Вашу дочку [875], — дай Бог ей счастья! — Пришлите, если сможете, два словечка о себе и о ней.
Аля большая, худая, — белокурый С<ережа>, похожа на мальчика, помнит, как мы с ней ночевали у Вас, — пестрая шаль, беспорядок, высота, наш общий смех перед сном. Б<ориса> помнит ясно, — как они играли в шахматы и как ели какое-то розовое сладкое.
— Ах! —
Жалко Б<ориса>. Больше, чем могу сказать, в нем я потеряла самого настоящего брата, не могу смириться. Целую Вас нежно. Вас и Ирину.
МЦ.Вера Э<фрон>, загубившая, выбросившая на улицу мою Ирину, после 7-летних колебаний сошлась с М.С. Ф<ельдштейном>, а через месяц ожидает ребенка. Эва с детьми за границей. Ася Ж<уковская> вышла замуж за С<ерей>ского [876] тоже ожидает.
Впервые — НП. стр. 49–50. СС-6. стр. 199–200. Печ. по СС-6.
13–21. С.М. Волконскому
Москва, 28-го русск<ого> марта 1921 г., суббота
Дорогой С<ергей> М<ихайлович>!
Только что вернулась с Алей из Вашего сжатого загроможденного пер<еулка>, точно нарочно такого, чтобы крепче держал мою мысль. Шли темной Воздвиженкой — большими шагами — было почти пусто — от этого — чувство господства и полета.
Сейчас Аля спит, а я думаю.
Вам (не зная и не ведая, а главное: не желая) удалось то, чего не удавалось д<о> с<их> п<ор> никому: оторвать меня не от себя (никогда не была привержена и — мог всякий!) а от своего. Для меня стихи дом, «хочу домой» — с чужого праздника, а сейчас «хочу домой» — в Вашу книгу. Перемещение дома.
И есть еще разница, существенная.
Любимые книги, задумываюсь, те любимые без <сверху: от> которых в гробу не будет спаться: M<ada>me de Staël — Коринна, письма M<ademois>elle de Lespinasse [877], записи Эккермана о Гёте… Перечисляю: ни одного литературного произведения, всё письма, мемуары, дневники, не литература, а живое мясо (души!). Человек без кожи — вот я. (Уже само слово я…) Под этим знаком — многое сходило.
С<ергей> М<ихайлович>, немудрено в дневнике Гонкуров дать живых Гонкуров, в Исповеди Руссо — дать живого Руссо, но ведь Вы даете себя — вопреки.
(Не есть ли это закон вопреки?)
Ваша сущность всё время пробивает Вашу броню, всё время — выпады, вылазки, скобки, живой голос.
Простите и не примите за дерзость: мне горько, что всегда «по поводу», о как бы мне хотелось Вас — вне театра, вне — Далькроза [878], вне, без, Вас наедине с собой, Вас — Вас. «Разговоры» я уже начинаю вспоминать как покинутый рай — по сравнению с отрешенностью «Откликов» [879]. И как показательно, что Вы из двух книг любите именно эту. И как, поняв, не преклониться?
_____О искус всего обратного мне! Искус преграды (барьера). Раскрываю книгу: Театр (чужд), Танец (обхожусь без — и как!), Балет (условно — люблю, и как раз Вы — не любите). Но как Вы сразу — легчайшей оговоркой — усмиряете весь мой польский мятеж — еще до вспышки.
Я, над первой строкой [880]:
— Не любить балета — это не любить (ряд перечислений и, собирательное:) ни той Франции, ни той России!
И сразу — в ответ Ваш медлительный, такой спокойный, голос:
— Кто же не любит…
Читаю дальше:
— Но когда вспомните загорелую крестьянку… трагическую героиню…
Слышу голос:
— Перед судом природы. —
И — освобожденно и блаженно — вздохнув, читаю дальше.
(Сейчас Аля — мне: «До свидания, Марина!» и я — ей, не отрываясь: — «Спокойной ночи!» — Белый день! — Смеемся обе.)
_____Музыка.
Есть у Вас в главе о Музыке (Существо) [881] — такая фраза:
— Конечно, вездесущее достигнутое не победою над пространством, а отказом от пространства…
Читаю сначала в точном применении к Музыке. — Формула.
Потом уцелевают три слова: Победа путем отказа.
Дальше (стр<аница> 134 — Материал [882], в самом конце)
— Что такое полярность с ее распределенным притяжением перед расстилающейся бесконечностью неизмеримых заполярностей.
Два впечатления, слуховое и зрительное.
Читая, слышишь голос вопрошающего — ушами — живой — в комнате. Кто-то, кто не тебя, но при тебе, самого себя спрашивает. Вопрос, постепенно (слово за словом!) переходящий в возглас: в голосовой вывод.
Второе впечатление (запечатление) зрительное. Дорогой С<ергей> М<ихайлович>, если у Вас есть в доме книга, возьмите ее в руки, раскройте на 134 стр<анице>, посмотрите в конце…
Это не наваждение, это наглядная — воочию — достоверность. Сами слова — неизмеримые пространства (вроде тех по которым Снежная Королева везла Кая) [883] сам вид слов. (Широта и долгота.) Вид слов здесь есть их смысл.
_____Вы орудие того, о чем Вы пишете. Не Вы это пишете, это (то) Вами пишет.
_____Подземные ходы мысли. Шахтер, слушающий голос земли, которую роет, которая хочет, чтобы из нее вырыли руду. (Или — голос руды?)
Отсутствие произвола — власть над предметом путем подчинения ему, — ах, поняла: Победа путем отказа!
_____Но книгу, к<отор>ую я от Вас хочу — Вы ее не напишите, ее бы мог написать кто-нибудь из Ваших учеников, при к<отор>ом Вы бы думали вслух. (Мысленно: только я!) Goethe сам бы не написал книги о нем Эккермана.
_____Породы Гёте — и горечь та же — в броне. И щедрость та же — только в радости. (У людей — наоборот!) И то же слу́шание природы, послушание ей. После Вашей книги хочется (можно бы — должно бы) читать только Гёте.
_____Гёте. Целый день сегодня силилась вспомнить одно стихотворение, прочитанное мною случайно, на какой-то обертке, вспоминала, восстанавливала, за́ново писала, — наконец восстановила:
Goethe nimmt Abschied von einer Landschaft und einer Geliebten {110}
In eines Sommerabends halbem Licht Sah er zum weinenden und letzten Male Hinab aufwiesen, Wälder, Berg' und Thale. Er stand mit wetterleuchtendem Gesicht. Noch einmal warf sich wie ein wunder Riese Ihm das gelebte Leben an die Brust, Dann löste leicht und lächelnd er — auch diese Umarmung, seiner Gottheit schon bewusst {111}.<Вдоль левого поля, напротив первой строфы:> Hinab — auf Berge? {112}
_____Знаю одно: Вы бы жили на классическом «острове», Вы бы всё равно думали свои мысли, и так же бы их записывали, а если бы нечем и не на чем, произносили бы вслух и отпускали обратно.
Вы бы все равно, без Далькроза и др. были бы тем же, нашли, открыли бы — то же. (Законы Ритма вы бы открыли в движущейся ветке и т.д.) Не отрицаю этим <пропуск одного-двух слов> в Вашей жизни X, Y, Z: ценность спутничества — до (два шахтера — находят жилу). Но Вы ведь всё это уже знали, между Вами и Миром нет третьего, природа Вам открывается не путем человека.
_____Боюсь, Вы подумаете: бред.
Да, но во-первых: если бред, то от Вашей же книги, не от соседней на столе (автор моего «бреда» — Вы!) а во-вторых: только на вершине восторга человек видит мир правильно, Бог сотворил мир в восторге (NB! человека — в меньшем, оно и видно), и у человека не в восторге не может быть правильного видения вещей.
_____Боюсь, Вы скажете: кто тебя поставил судьей, кто дал тебе право — хотя бы возносить меня до неба? Ведь и на это нужно право.
Задумываюсь: — на славословье?
Высказанная похвала — иногда нескромность, даже наглость (похвалить можно только младшего!) — но хвала (всякое дыхание да хвалит Господа)? [884]
Хвала — долг. Нет. Хвала — дыханье.
_____И Вы же должны понять, что я не «хвалю» а — потрясена?!
_____Сейчас — ночь со вторника на среду — вспоминала, сколько дней назад я Вас видела, верней: сколько дней я Вас не видела. Считаю: Благовещенье — затмение — суббота 28-го ст<арого> марта Ваш приход — сегодня что́? 31-ое. — Три дня.
Мое первое чувство было — недели две, по тем верстам и верстам вслед за Вашей мыслью и моей мысли к Вам.
Боюсь, Вы подумаете: нищий.
С<ергей> М<ихайлович>, я не от нищенства к Вам иду, а от счастья.
_____Впервые — HCT. стр. 13–17. Печ. по тексту первой публикации с использованием переводов.
14-21. С.М. Волконскому
Ночь со среды на четверг 31/13 на 1/14 марта-апреля 1921 г.
Дорогой С<ергей> М<ихайлович>, живу благодаря Вам изумительной жизнью. Последнее что я вижу засыпая и первое что я вижу просыпаясь — Ваша книга.
Знаете ли Вы, что и моя земная жизнь Вами перевернута? Все с кем раньше дружила — отпали. Вами кончено несколько дружб. (За полнейшей заполненностью и ненадобностью.) Человек с которым встречалась ежедневно с 1-го января этого года [885] — вот уже больше недели, как я его не вижу {113}. — Чужой. — Не нужно. — Отрывает (от Вас). У меня есть друг: Ваша мысль.
_____Вы сделали доброе дело: показали мне человека на высокий лад.
_____Есть много горечи в этом. Ухватившись за лоб, думаю: я никогда не узнаю его жизни, всей его жизни, я не узнаю его любимой игрушки в три года, его любимой книги в тринадцать лет, не узнаю как звали его собаку. А если узнаю — игрушку — книгу — собаку, другого не узнаю, всего не узнаю, ничего не узнаю. Потому что — не успею.
Думаю дальше: четыре года живу в Сов<етской> России (всё до этого — сон, не в счет!) я четыре года живу в сов<етской> Москве, четыре года смотрю в лицо каждому, ища лица. И четыре годы вижу морды (хари) —
С<ергей> М<ихайлович>, если бы я завтра узнала, что Вы завтра же уезжаете за границу, я бы целый день радовалась, как могла бы радоваться только въезду [886]. Клянусь! Весь день бы радовалась, а вечером бы — молниеносная проверка, и: а вечером бы закрыла Вашу книгу с тем чтобы никогда больше не раскрывать.
_____Сегодня у Т.Ф. С<крябиной> [887] — вопрос, мне, ее матери [888]: — «Dites-moi donc un peu, Madame, pouvez-Vous me dire — а́ quoi cela est bon — la vie? Cette masse de souffrances..» {114}
И мне стало стыдно в эту минуту — за свое восхищение от земли.
_____Быть мальчиком твоим светлоголовым… [889]
(1-го русск<ого> апреля 1921 г., четверг) _____Я: — «Аля, как ты думаешь — который час?»
Аля: — «Два часа ровно, потому что бабка исповедоваться пошла. Марина! Мы живем по чужим исповедям!»
_____— М<арина>! Что Бог сделал с собаками! Создал их и не кормит, сделал их какими-то нищухами, побирухами. А если бы он их всех сделал породистыми, тогда бы и породы не было, п<отому> ч<то> порода — от сравнения.
Значит, чтобы была порода, нужна не-порода.
_____Занесли Вам с Алей противоядия от полезных советских смесей (хлебных и чайных) — и немножко письменных принадлежностей.
Не была на Вашей лекции только потому что сговорилась идти с Т<атьяной> Ф<едоровной>, а у нее сейчас дома всякие горести и беды. Читаю Отклики. Спасибо.
МЦ.Продолжение большого письма
(конечно неотосланного)
Суббота, 9-тый — по новому час. Только что отзвонили колокола. Сижу и внимательно слушаю свою боль. Суббота — и потому что в прошлый раз тоже была суббота, я невинно решила, что Вас жду.
Но слушаю не только боль, еще молодого к<расноармей>ца [890] (к<оммуни>ста), с которым дружила до Вашей книг и, в к<отор>ом видела и Сов<етскую> Р<оссию> и Св<ятую> Русь, а теперь вижу, что это просто зазнавшийся дворник, а прогнать не могу. Слушаю дурацкий хамский смех и возгласы, вроде: — «Эх, чорт! Что-то башка не варит!» — и чувствую себя оскорбленной до заледенения, а ничего поделать не могу.
О Боже мой, как страшна и велика власть человека над человеком! Постоянное воскрешение и положение во гроб! — Ничего не преувеличиваю, слушаю внимательно, знаю: если бы Вы сейчас вошли (к<оммуни>ст только что получил письмо от товарища и читает мне вслух: «Выставка птицеводства и мелкого животноводства…» Это товарищ его приглашает на Пасху.) <фраза не окончена>
_____Краткий ход истории с Вами каждого настоящего.
Сначала имя — отдаешь ему дань невольно: настораживаешься. Потом голос; особость, осмысленность, сознательность произношения — точно человек хочет дойти помимо смысла слова, — одним произношением и интонацией: быть понятым иностранцем. Дать смысл через слух (звук). — Вслушиваешься. — Потом — суть: остро́, точно, то. Вдумываешься, вчувствовываешься, в — в — в — И уже имя — исходная точка — забыто, торжествует суть, побеждает суть.
А потом, когда очнешься: ведь это тот самый В<олкон>ский, внук того Волконского, и сразу 1821 г. — 1921 г. — и холод вдоль всего хребта: судьба деда — судьба внука: Рок, тяготеющий над Родом. (Сыновья в наследство судьбы не получают, — только внуки. Точно роду (или <пропуск одного-двух слов>). Передышка сына, чтобы снова собраться с силами.)
С<ергей> М<ихайлович>, я ничего не знаю то́чно, я ведь ничего о Вашей жизни не знаю, кроме того, что́ Вы пожелали сказать о ней — всем — в книгах, но по всему Вас — сейчас — (и по всему сейчас) чувствую, какими были для Вас годы 1917 г. — 1921 г.
И, глубоко́ задумавшись:
Чита [891] — или Москва 1917 г. — 1921 г.? — Еще вопрос.
_____Еще об одном думаю, идя назад в неведомую мне Вашу жизнь.
Рождается человек. Получает громкое имя. Несет его. (Приучается нести его тяжесть.) Столкновение Рода и Личности. Неслыханное счастье (не носителю — миру!) — личности в породе, породы в личности. Первый полет за пределы гнезда. О Гнезде умолчу — ибо НЕ ЗНАЮ, но не умолчу о катастрофе такого «за-пределы».
Князь — и пишет! в этом есть что-то нестерпимое. Мало, что князь, еще и писатель. (И Пушкину бы не простили — раз не простили даже камер-юнкера.) И сразу: либо плохой князь, либо плохой писатель. О князе спорить не приходится — значит плохой писатель.
Простив (проглотив) рождение — второе рождение (в духе) уже не прощают — давятся. Чувствуют себя обокраденными. (Та́к поэту, например, не позволяют писать прозу: мы сами прозаики!) Когда князь занимается винными подвалами и лошадьми — прекрасно, ибо освящено традицией, если бы князь просто стал за прилавок — прекрасно меньше, но зато более радостно (подсознательно: сдал, наш, тоже…) но — художественное творчество, т.е. второе (нет, первое!) величие, второе княжество.
С<ергей> М<ихайлович>, м<ожет> б<ыть> я ошибаюсь, но я хочу чтобы Вы знали о чем я думаю все эти дни принадлежащие Вам и проходящие без Вас.
Впервые — НСТ. стр. 17–20. Печ. по тексту первой публикации.
15-21. С.М. Волконскому
<Апрель 1921 г.>
Дорогой С<ергей> М<ихайлович>
Это — document humain {115}, не больше.
Могу, записав, оставить в тетрадке, могу вовсе не записывать. Важно, чтобы вещь была осознана — произнесена — внутри. Закрепление путем — даже вслух произнесенного слова — уже вторичное.
(Prière mentale.) {116}
А дальнейшее — из рук в руки (из уст — в уши) человеку — о, от этого так легко отказаться!
_____Ни один человек, даже самый отрешенный не свободен от радости быть чем-то (всем!) в чьей-нибудь жизни, особенно когда это — невольно.
Этот человек — Вы, жизнь — моя.
_____Это началось с первого дня как я Вас увидела: redressement {117} всего моего существа.
Как дерево — к свету, точнее не скажу
Всё, что во мне было исконного, всё заметенное и занесенное этими четырьмя годами одинокой жизни — среди низостей и <пропуск одного слова> — встало.
Невольно — один за другим — отстали — отпали — внизу остались — все «друзья». Я стала я.
Это и значит — любить Вас.
_____(Письмо осталось в тетради.)
Впервые — HCT. стр. 28. Печ. по тексту первой публикации.
16-21. A.A. Ахматовой
Москва, 26-го русского апреля 1921 г.
Дорогая Анна Андреевна!
Так много нужно сказать — и так мало времени! Спасибо за очередное счастье в моей жизни — «Подорожник» [892]. Не расстаюсь, и Аля не расстается. Посылаю Вам обе книжечки [893], надпишите.
Не думайте, что я ищу автографов, — сколько надписанных книг я раздарила! — ничего не ценю и ничего не храню, а Ваши книжечки в гроб возьму — под подушку!
Еще просьба: если Алконост [894] возьмет моего «Красного Коня» (посвящается Вам) — и мне нельзя будет самой держать корректуру, — сделайте это за меня, верю в Вашу точность.
Вещь совсем маленькая, это у Вас не отнимет времени.
Готовлю еще книжечку: «Современникам» [895] — стихи Вам, Блоку и Волконскому. Всего двадцать четыре стихотворения. Среди написанных Вам есть для Вас новые.
Ах, как я Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высоко от Вас! Если были бы журналы, какую бы я статью о Вас написала! — Журналы — статью — смеюсь! — Небесный пожар!
Вы мой самый любимый поэт, я когда-то — давным-давно — лет шесть тому назад — видела Вас во сне, — Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьянную, с серебром — «Словеса золотые», — какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее — обратное!) — и — проснувшись — я знала, что Вы ее напишете.
Мне так жалко, что все это только слова — любовь — я так не могу, я бы хотела настоящего костра, на котором бы меня сожгли.
Я понимаю каждое Ваше слово: весь полет, всю тяжесть. «И шпор твоих легонький звон» [896], — это нежнее всего, что сказано о любви.
И это внезапное — дико встающее — зрительно дикое «ярославец» [897]. — Какая Русь!
Напишу Вам о книге еще.
Как я рада им всем трем — таким беззащитным и маленьким! Четки — Белая Стая — Подорожник. Какая легкая ноша — с собой! Почти что горстка пепла.
Пусть Блок (если он повезет рукопись) покажет Вам моего Красного Коня. (Красный, как на иконах.) — И непременно напишите мне, — больше, чем тогда! Я ненасытна на Вашу душу и буквы.
Целую Вас нежно, моя страстнейшая мечта — поехать в Петербург. Пишите о своих ближайших судьбах, где будете летом, и всё [898].
Ваши оба письмеца ко мне и к Але — всегда со мной.
МЦ.Впервые — Новый мир. 1969. № 4. стр. 189–190. СС-6. стр. 200–201. Печ. по СС-6.
17-21. М.А. Кузмину
Дорогой М<ихаил> А<лексеевич>,
Мне хочется рассказать Вам две мои встречи с Вами, первую в январе 1916 г., вторую — в июне 1921 г. Рассказать как совершенно постороннему, как рассказывала (первую) всем, кто меня спрашивал: — «А Вы знакомы с Кузминым?»
— Да, знакома, т.е. он наверное меня не помнит, мы так мало виделись, только раз, час, и было так много людей… Это было в 1916 г., зимой, я в первый раз в жизни была в Петербурге. Я дружила тогда с семьей К<аннегисе>ров (Господи, Леонид!) [899]. Они мне показывали Петербург. Но я близорука — и был такой мороз — и в Петербурге так много памятников — и сани так быстро летели — всё слилось, только и осталось от П<етербур>га, что стихи Пушкина и Ахматовой. Ах, нет: еще камины! Везде куда меня приводили огромные мраморные камины, — целые дубовые рощи сгорали! — и белые медведи на полу (белого медведя — к огню! — чудовищно!) и у всех молодых людей проборы — и томики Пушкина в руках — и налакированные ногти [900], и налакированные головы — как черные зеркала… (Сверху — лак, а под лаком д---к!)
О, как там любят стихи! В П<етербурге> <пропуск одного слова> любят стихи. Я за всю свою жизнь не сказала столько стихов, сколько та́м, за две недели. И там совершенно не спят. В 3 ч<аса> звонок по телефону. — «Можно придти?» — «Конечно, конечно, у нас только собираются». И так — до утра. Но Северного сияния я, кажется, там не видала.
— То есть…
— Ах, да, это не там Северное сияние, — Северное сияние в Лапландии, — там белые ночи. Нет, там ночи обыкновенные, т.е. белые, но как и в Москве — от снегу.
— Вы хотели рассказать о Кузмине…
— Ах, да, т.е. рассказывать собственно нечего, мы с ним трех слов не сказали. Скорее как видение…
— Он очень намазан?
— На-мазан?
— Ну, да: намазан, накрашен…
— Да не-ет!
— Уверяю Вас…
— Не уверяйте, п<отому> ч<то> это не он. Вам кого-нибудь другого показали.
— Уверяю Вас, что я его видел в Москве на —
— В Москве? Так это он для Москвы, он думает, что в Москве так надо — в лад домам и куполам, а в Петербурге он совершенно природный: мулат или мавр [901].
Это было так. Я только что приехала. Я была с одним человеком, т.е. это была женщина [902]. — Господи, как я плакала! — Но это неважно. Ну́, словом, она ни за что не хотела, чтобы я ехала на этот вечер и потому особенно меня уговаривала. Она сама не могла — у нее болела голова — а когда у нее болит голова — а она у нее всегда болит — она невыносима. (Темная комната — синяя лампа <пропуск одного-двух слов> мои слезы…) А у меня голова не болела — никогда не болит! — и мне страшно не хотелось оставаться дома) 1) из-за Сони, во-вторых п<отому> ч<то>там будет К<узмин> и будет петь.
— Соня, я не поеду! — Почему? Я ведь все равно — не человек. — Но мне Вас жалко. — Там много народу, — рассеетесь. — Нет, мне Вас очень жалко. — Не переношу жалости. Поезжайте, поезжайте. Подумайте, Марина, там будет Кузмин, он будет петь. — Да — он будет петь, а когда я вернусь, Вы будете меня грызть, и я буду плакать. Ни за что не поеду! — Марина! —
Голос Леонида: — М<арина> И<вановна>, Вы готовы? Я, без колебания: — Сию секунду!
_____Большая зала, в моей памяти Galerie aux glaces {118}. И в глубине, через эти все паркетные пространства — как в обратную сторону бинокля — два глаза. И что-то кофейное. — Лицо. И что-то пепельное. — Костюм. И я сразу пон<имаю?>: Кузмин. Знакомят. Всё от старинного француза и от птицы. Невесомость. Голос, чуть надтреснут, в основе — глухой, посредине — где трещина — звенит. Что́ говорили не помню. Читал стихи. Запомнила в начале что-то о зеркалах [903] (м<ожет> б<ыть> отсюда — Galerie aux glaces). Потом:
Вы так близки мне, так родны, Что будто Вы и нелюбимы. Должно быть так же холодны В раю друг к другу серафимы. И вольно я вздыхаю вновь, Я детски верю в совершенство. Быть может… (большая пауза) …это не любовь?… Но так… (большая, непомерная пауза) похоже (маленькая пауза)и почти что неслышно, отрывая, на исходе вздоха:
…на блаженство! [904]Было много народу. Никого не помню. Никого не помню. Нужно было сразу уезжать. Только что приехала — и сразу уезжать! (Как в детстве, знаете?) Все: — Но М<ихаил> А<лексеевич> еще будет читать… Я, деловито: — Но у меня дома подруга. — Но М<ихаил> А<лексеевич> еще будет петь. Я, жалобно: — Но у меня дома подруга. (?) Легкий смех, и кто-то, не выдержав: — Вы говорите та́к, точно — у меня дома ребенок. Подруга подождет. — Я, про себя: — Черта с два! Подошел сам Кузмин. — Останьтесь же, мы Вас почти не видели. — Я, тихо, в упор: — М<ихаил> А<лексеевич>, Вы меня совсем не знаете, но поверьте на слово — мне все верят — никогда в жизни мне так не хотелось остаться как сейчас и никогда в жизни мне так не было необходимо уйти — как сейчас. М<ихаил> А<лексеевич> дружески: — «Ваша подруга больна?» Я, коротко: Да, М<ихаил> А<лексеевич>. — «Но раз Вы уж все равно уехали…» — «Я знаю, что никогда себе не прощу, если останусь — и никогда себе не прощу, если уеду…» — Кто-то: — Раз все равно не простите — так в чем же дело?
— Мне бесконечно жаль, господа, но…
_____Было много народу. Никого не помню. Помню только К<уз>мина: глаза.
Слушатель: — У него, кажется, карие глаза?
— По-моему черные. Великолепные. Два черных солнца. Нет, два жерла: дымящихся [905]. Такие огромные, что я их, несмотря на близорукость, увидела за сто верст, и такие чудесные, что я их и сейчас (переношусь в будущее и рассказываю внукам) — через пятьдесят лет — их вижу. И голос слышу, глуховатый, которым он произносит это: «Но та́к — похоже…» И песенку помню, которую он спел, когда я уехала… — Вот.
— А подруга?
— Подруга? Когда я вернулась, она спала.
— Где она теперь?
— Где-то в Крыму. Не знаю. В феврале 1916 г., т.е. месяц с чем-то спустя, мы расстались. Почти что из-за Кузмина, т.е. из-за М<андельшта>ма, который не договорив со мной в Петербурге приехал договаривать — в Москву. Когда я пропустив два (мандельштамовых) дня, к ней пришла — первый пропуск за годы — у нее на постели сидела другая: очень большая, толстая, черная [906]. — Мы с ней дружили полтора года. Ее я совсем не помню, т.е. не вспоминаю. Знаю только, что никогда ей не прощу, что тогда не осталась.
14-го июня 1921 г. — Вхожу в Лавку Писателей, единственный слабый источник моего существования [907]. Робко, кассирше: — «Вы не знаете: как идут мои книжки?» (Переписываю, сшиваю и продаю.) Пока она осведомляется, я pour me donner une contenance {119}, перелистываю книги на прилавке. Кузмин: Нездешние вечера [908]. Открываю: копьем в сердце: Георгий! [909] Белый Георгий! Мо́й Георгий, которого пишу два месяца: житие. Ревность и радость. Читаю: радость усиливается, кончаю — <пропуск двух-трех слов>. Всплывает из глубины памяти вся только что рассказанная встреча.
Открываю дальше: Пушкин мой! все то, что́ вечно говорю о нем — я. И наконец Goethe, тот, о котором говорю судя современность: Перед лицом Goethe [910] —
Прочла только эти три стиха. Ушла, унося боль, радость, восторг, любовь — всё, кроме книжки, которую не могла купить, п<отому> ч<то> ни одна моя не продалась. И чувство: О, раз еще есть такие стихи!
Точно меня сразу (из Борисоглебского пер<еулка> 1921 г.) [911] поставили на самую высокую гору и показали мне самую далекую даль.
_____Внешний повод, дорогой М<ихаил> А<лексеевич>, к этому моему письму — привет, переданный мне от Вас г<оспо>жой Волковой [912].
_____ (Письмо оставшееся без ответа.)Впервые — Полякова С. стр. 110–114. СС-6. стр. 207–211. Печ. по HCT. стр. 32–35 (письмо, «написанное в тетрадку»).
О получении письма Цветаевой Кузмин сделал запись в начале июля в дневнике за 1921 г. (Минувшее. Ист. альманах. 13. М.; СПб.: Athentum; Феникс, 1993. стр. 467). Отличается ли текст «записанного в тетрадку» письма Цветаевой от текста письма, полученного Кузминым, нам неизвестно (последнее, по-видимому, не сохранилось).
Публикуемое письмо являет собой как бы прообраз очерка «Нездешний вечер», написанного в 1936 г. и посвященного памяти М.А. Кузмина. В письме, как и в очерке, описывается история знакомства с Кузминым на петербургской квартире известного судостроителя А. Каннегисера.
18-21. С.М. Волконскому
<Июнь 1921 г.>
Дорогой С<ергей> М<ихайлович>
Сейчас я пережила один из самых сильных страхов моей жизни (исключая страх за чужую жизнь) — и по Вашему поводу. Все эти дни я была занята, не переписывала, совесть грызла, точно я совершаю низость, наконец сегодня, в З ч<аса> ночи, докончив большое письмо Але — сажусь. Первое слово на белой равнине листа — и сразу облегчение. Переписывала с З ч<асов> до 5½ ч<асов> — пять страниц [913]. Совсем светло. Радуюсь, что 5 стр<аниц> и что восход — и вдруг: где же I гл<ава>? Странно, что-то давно не вижу. Раскрываю одну папку — нет, другую — нет, перерываю шкаф от письм<енного> стола — нет, книжный шкафчик — нет, все книги на книжном шкафу — нет, постепенно леденею. Роюсь — уже безнадежно — в валиках кресла — нет, и сразу: «Ну да, конечно, — это Бог меня наказал зато, что я не переписывала и — с детства привычка — трижды: „St. Antoine de Padoue, faites-moi trouver ce que j'ai perdu…“» {120}
И снова: стол, шкафы, вышки шкафов, папка, кресло, отодвигаю диван, ищу под подушкой — нет, нет, и нет. И: никогда не поверит, что я только сегодня хватилась, уверен будет, что я нарочно затягивала переписку, чтобы дольше не сказать… Но что же я скажу? — Потеряла? — Но она в комнате. — Исчезла? — Он не верит в чудеса, да и я не верю. Да и как такую вещь сказать, каким голосом?
Вы никогда не поймете моего тихого ужаса. Если когда-нибудь теряли доверенную Вам рукопись — поймете. Иначе — нет.
Сейчас 8 ч<аса>, я только что нашла. Чувство как после страшного сна, еще не верится.
Держу, прижав к груди.
_____Божья Матерь Казанская, спасибо!
Впервые — НСТ. стр. 30. Печ. по тексту первой публикации.
19-21. A.A. Чаброву
<Июнь 1921 г.>
Алексей Александрович! Вечером мне уже недостает Вас, моему волнению — Вашего. Душа с двух раз — привыкла. Сейчас мне никто не нужен, все лишние. Моя пустыня заселена: кони, крылья. Но Вы са́м — из них. В Вас ровно столько человеческого, сколько мне сейчас нужно: меньше было бы скудно, больше — трудно. Когда я́ с Вами, я — впервые за́ три года — не делаюсь Вами, не расстаюсь с собой. Я, с Вами — одна в комнате, думаю вслух (как часто это делаю в жизни). (А! поймала себя: «в жизни» — стало быть это не в жизни? — Проверяю себя. — Не в жизни.) Думаю вслух, а о Вас — не думаю.
При моей 1) учтивости 2) хищности (а другого заполучаешь только им же. Я — по крайней мере, Наталья Гончарова, напр<имер>, Пушкина — собой. Как Лиля Брик — Маяковского. Собой, т.е. пустотой (красотой)) [914] — итак: при моей учтивости и хищности это думанье вслух — всецело от Вас. При всем желании не могу сосредоточиться на Вас, п<отому> ч<то> «на Вас» это уже — другой, а здесь, — ни меня ни Вас: одно́: — что́? (М<ожет> б<ыть> это и есть дружба? П<отому> ч<то> любовь определенно два, двое — которые друг в друга ломятся и друг о друга расшибаются: рог о рог и лоб о лоб.)
Если двое, сговорившись идти направо, захотят обмануть друг друга, они оба повернут налево — и опять совпадут. (Мы.)
Отношение которое может изумительно изощриться. У нас Вами, кажется, одно мастерство.
Впервые — НСТ. стр. 39. Печ. по тексту первой публикации.
Заголовок в тетради: «Отрывок письма к Чаброву».
20-21. Е.Л. Ланну
Москва, 16 русск<ого> июня 1921 г.
Мой дорогой Ланн! Только что проснулась: первые птицы. Только что видела во сне: сначала Бориса [915], потом С<ережу>.
С Б<орисом> смеялась (привычная дорога моей нежности к нему), а С<ережу> я только видела: он лежал в госпитале. Помню сестру милосердия и тампоны ваты. Каждую ночь вижу С<ережу> во сне, и когда просыпаюсь, сразу не хочу жить — не вообще, а без него.
Самое точное, что могу сказать Вам о себе: жизнь ушла и обнажила дно, верней: пена ушла.
_____Я уже почти месяц, как без Али [916], — третье наше такое долгое расставание. В первый раз — ей еще не было года; потом, когда я после Октября уезжала, вернее увозила — и теперь.
Я не скучаю по Але, — я знаю, что ей хорошо, у меня разумное и справедливое сердце, — такое же, как у других, когда не любят. Пишет редко: предоставленная себе, становится ребенком, т.е. существом забывчивым и бегущим боли (а я ведь — боль в ее жизни, боль ее жизни). Пишу редко: не хочу омрачать, каждое мое письмо будет стоить ей нескольких фунтов веса, поэтому за почти месяц — только два письма.
И потом: я так привыкла к разлуке! Я точно поселилась в разлуке.
Начинаю думать — совершенно серьезно — что я Але вредна. Мне, никогда не бывшей ребенком и поэтому навсегда им оставшейся, мне всегда ребенок — существо забывчивое и бегущее боли — чужд. Все мое воспитание: вопль о герое. Але с другими лучше: они были детьми, потом все позабыли, отбыли повинность, и на слово поверили, что у детей «другие законы». Поэтому Аля с другими смеется, а со мной плачет, с другими толстеет, а со мной худеет. Если бы я могла на год оставить ее у Зайцевых, я бы это сделала, — только знать, что здорова!
Без меня она, конечно, не будет писать никаких стихов, не подойдет к тетрадке, потому что стихи — я, тетрадка — боль.
Это опыт, пока, удается блистательно.
_____Когда-нибудь, милый Ланн, соберусь с духом, пришлю Вам стихи за эти последние месяцы, стихи, которые трудно писать и немыслимо читать [917] (Мне — другим.) — Пишу их, потому что, ревнивая к своей боли, никому не говорю про С<ережу>, — да не́кому. У Аси достаточно своего, и у нее не было С<ережи>.
Эти стихи — попытка проработаться на поверхность, удается на полчаса.
_____— Вчера отправили с В<олкон>ским его рукопись «Лавры» [918], — весом фунтов в 8, сплошь переписанную моей рукой. — «Спасибо Вам, что помогли мне отправить мое „дитё“»! — Любит он эту рукопись, действительно, как ребенка, — но как ребенок. Теперь буду переписывать «Странствия», потом «Родину». Это мое послушание. В лице В<олкон>ского я люблю Старый Мир, который так любил С<ережа>. Эти версты печатных букв точно ведут меня к С<ереже>. Отношение с В<олкон>ским нечеловеческое, чтобы не пугать: литературное. — Amitié littéraire {121}.
Любуюсь им отрешенно, с чувством, немножко похожим на:
Die Sterne, die begehrt man nicht — Man freut sich ihrer Pracht! {122} [919]Зимой он будет в П<етрограде>, я не смогу заходить, он забудет.
_____Ася живет на Плющихе [920], под окном дерево и Москва-река. Воют и ревут поезда. Нищенская, веселая, растравительная, героическая комната. Дружно бедствуем: пайка не было с марта. Андрюша в компрессах, жесткий бронхит. Ребячливость, вдохновленность, умственная острота и эмоциональная беспомощность, щедрость — все Борисово. Прелестный мальчик, которого мне безумно жаль. Но говорить об этом не стоит: здесь нужны не слова, а молоко, хлеб и т.д.
Вот, милый Ланн, и все, что могу Вам рассказать. — Ах, да! — Сейчас по Москве ходит книга с моими стихами, издалека [921]. А<лександра> В<ладимировна> [922] бы порадовалась.
_____Думая о Вас, вижу Вас первой ступенью моего восхождения после стольких низостей, В<олкон>ский — вторая, дальше людей уже нет, — совсем пусто.
К Вам к единственному — из всех людей на земле — идет сейчас моя душа. Что-то связывает Вас с Б<орисом> и с С<ережей>, Вы из нашей с Асей юности — то́й жизни!
Не спрашиваю Вас о том, когда приедете и приедете ли, мне достаточно знать, что я всегда могу окликнуть Вас.
— Мое последнее земное очарование!
Впервые — Marina Cvetaeva. Studien und materialien. стр. 186–188 (публ. И.В. Кудровой). СС-6. стр. 181–183. Печ. по тексту СС-6.
21-21. А.С.Эфрон
Москва, русск<ого> июня 1921 г.
Дорогая моя Алечка!
Завтра — неделя, как ты уехала [923]. Пишу тебе второе письмо.
Ты единственный человек — кроме С<ережи> — которому я предана навек. Кроме тебя и С<ережи> — кажется — никого не люблю. В В<олкон>ском [924] я люблю весь старый мир, — понимаешь? Это больше или меньше, чем человек, — почти что идея.
А с тобой мне хорошо и в духе и в быту, мы идем с тобой одним шагом, ты мне никогда не мешаешь, — нет провалов — и если ты в деревне еще научишься умываться и быстро двигаться — я совсем буду счастлива.
Перечитываю твою толстую черную тетрадь, — сколько любви, сколько жизни! Вся наша чердачная эпопея встает.
Живу, как всегда: почти что не отрываюсь от письменного стола, иногда хожу на рынок с Андрюшей [925], — редко, — безденежье. Но все мы сыты: Б<орис> [926] приносит хлеба, Асины [927] знакомые — щепок.
_____Аля, две ночи подряд ночую с серой кошкой, — вернее она со мной ночует, я вовсе не хочу, но она упорствует и лезет. Забрела к нам случайно, Андрюша угостил ее мертвой мышью (утопилась в ведре, Андрюша выловил и потом отогревал на сковородке, — не ожила!) — кошка решила, что здесь каждый день мертвые мыши и упорно живет: лезет во все кастрюльки и раздирает когтями мой последний (голубой на кресле) платок.
Ася с Андрюшей скоро переезжают, будут жить на Плющихе, Ася нашла службу, скоро будет получать паёк. Пока дружно съедаем твой хлеб (бедная Аля!) — который изредка получаем у Курочкина [928].
Растроганно вспоминаю нашу прогулку в Зоологический, без тебя туда не пойду.
_____Бывает Б<орис>. Хочет жить у нас, чтобы было тепло. Думаю о тебе и соглашаюсь. Но предупреждаю, что наша с тобой жизнь замкнутая. Это союз против всех, я этого не хотела, так вышло. Ася уверена, что я тебя ревную ко всем, это неверно, — разве я тебя ревную к В<олкон>скому? Нет, я счастлива, что ты его любишь, потому что и я его люблю. И к детям тебя не ревную, — рада, что развлекаешься. Я только была бы огорчена, если бы ты любила нечто заведомо мне чуждое, но этого не может быть: чуждо мне только не настоящее. А у тебя тонкий нюх.
Я совсем не знаю твоей жизни, потому пишу тебе о тебе и о себе. Когда ты мне напишешь, я буду видеть и дом, и сад, и поле — и тебя во всем этом, пока вижу только тебя.
Поцелуй за меня милых В<еру> А<лексеевну> [929] и Наташу [930], поклонись Б<орису> К<онстантиновичу> [931]. (Аля, вычесывают ли тебя?!)
У нас дожди и грозы, но мне все равно: стена перед глазами и бумага под рукой — всё те же!
Целую тебя нежно и крещу. В<олкон>ский просит кланяться и спраши <часть текста утрачена>.
МЦВпервые — НИСП. стр. 289–290. Печ. по тексту первой публикации.
22-21. Е.О. Волошиной
Москва, 17-го р<усского> авг<уста> 1921 г.
Дорогая моя Пра!
Постоянно, среди окружающей низости, вспоминаю Вашу высь, Ваше веселье, Ваш прекрасный дар радоваться и радовать других.
Люблю и помню Вас. Коктебель 1911 г. — счастливейший год моей жизни, никаким российским заревам не затмить того сияния.
Вы один из тех трех-четырех людей, которых носишь с собой повсюду, вечно ставлю Вас всем в пример. Если бы Вы знали, что это за поколение.
_____Пишу, справляю быт, рвусь к С<ереже>. Получила от него большое письмо, пишет: с Пра и Максом я сроднился навсегда [932]. Спасибо Вам за него. Скоро напишу еще. Нежно целую Вас.
МЦ.Хожу в двух Вами подаренных кафтанах: несокрушимые!
Впервые — СС-6. стр. 81. Печ. по тексту первой публикации.
23-21. A.A. Ахматовой
<17-го р<усского> авг<уста> 1921>
Письмо к Ахматовой (После смерти Блока)Дорогая Анна Андреевна! Мне трудно Вам писать. Мне кажется — Вам ничего не нужно. Есть немецкое слово Säule {123} — по-русски нет — такой я Вас вижу: прекрасным обломком среди уцелевших деревьев. Их шум и Ваше молчание — что́ тут третьему? И все-таки пишу Вам, потому что я тоже дерево: бренное, льну к вечному. Дерево и людям: проходят, садятся (мне под тень, мне под солнце) — проходят. Я — пребываю. А потом меня срубят и сожгут и я буду огонь. (Шкафов из меня не делают.)
______Смерть Блока. Еще ничего не понимаю и долго не буду понимать. Думаю: смерти никто не понимает. Когда человек говорит: смерть, он думает: жизнь. Ибо, если человек, умирая, задыхается и боится — или — наоборот — <пропуск одного слова> то всё это: и задыхание — и страх и <пропуск одного слова> жизнь. Смерть — это когда меня нет. Я же не могу почувствовать, что меня нет. Значит, своей смерти нет. Есть только смерть чужая: т.е. местная пустота, опустевшее место (уехал и где-то живет), т.е. опять-таки жизнь, не смерть, немыслимая пока ты жив. Его нет здесь (но где-то есть). Его нет — нет, ибо нам ничего не дано понять иначе как через себя, всякое иное понимание — попугайное повторение звуков.
Я думаю: страх смерти есть страх бытия в небытии, жизни — в гробу: буду лежать и по мне будут ползать черви. Таких как я и поэтому нужно жечь.
Кроме того — разве мое тело — я? {124}. Разве оно слушает музыку, пишет стихи и т.д.? Тело умеет только служить, слушаться. Тело — платье. Какое мне дело, если у меня его украли, в какую дыру, под каким камнем его закопал вор?
Чорт с ним! (и с вором и с платьем).
_____Смерть Блока.
Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил {125}. Мало земных примет, мало платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо-посмертным (в нашей любви). Ничего не оборвалось, — отделилось. Весь он — такое явное торжество духа, такой воочию — дух, что удивительно, как жизнь вообще — допустила? (Быть так в нем — разбитой!)
Смерть Блока я чувствую как вознесение.
Человеческую боль свою глотаю: для него она кончена, не будем и мы думать о ней (отождествлять его с ней). Не хочу его в гробу, хочу его в зорях. (Вытянувшись на той туче!)
_____Но так как я более человек, чем кто-либо, так как мне дороги все земные приметы (здесь — священные), то нежно прошу Вас: напишите мне правду о его смерти. Здесь дорого всё. В Москве много легенд, отталкиваю. Хочу правды о праведнике.
_____Моя Радость! {126} Жизнь сложна. Рвусь, п<отому> ч<то> теперь знаю, что жив — 1-го июля письмо, первое после двух лет молчания. Рвусь — и весь день обслуживаю чужих. Не могу жить без трудностей — не оправдана. Чувство круговой поруки: я — здесь — другим, кто-то — там — ему {127}. Разговоры о том, как и что «загнать», сумасшедшие планы, собственная зависимость и беспомощность, чужие жизни, к<отор>ые нужно устраивать, ибо другие еще беспомощнее (я, по крайней мере, веселюсь!) целый день чужая жизнь, где я м<ожет> б<ыть> и не так необходима. Сейчас у меня живут двое [933]. Целый день топлю, колю, кормлю. Недавно — случай. Отупев и озверев от вечного варенья каш, прошу одного из своих — как бы сказать? — неуходящих гостей поварить за меня — раз все равно сидит и глядит в огонь — той же печки [934]. И, изумленная гениальной простотой выхода, иду в свою комнату писать. — Час или сколько? — И вдруг: запах, сначала смутный, т.е. не доходящий до сознания, верней, доходящий как легкая помеха: чем-то гадким (но когда же — за годы — хорошим??). Запах (а м<ожет> б<ыть> сознание) усиливается. Резко. Непереносимо. И — озарение: что-то горит! И — уже откровение: кастрюля горит, сама, одна!
Вбегаю в столовую (как прежде называлось, ныне — лесопильня и каменоломня, а в общем пещера). У печки, на обломке, мой кашевар.
— Что́ это? — Мечтательный взмах палестинских глаз. — «Я не знаю». — Да ведь — каша горит! Всё дно сгорело! Да ведь каши-то уж никакой и нет, всё сгорело, всё, всё! — Я не знаю: я мешал. — А воды не подливали? — «Нет. Вы не сказали. Вы сказали: мешайте. Я мешал». В руке — обломок, верней остаток ложки, сгоревшей вместе с кашей и кастрюлей — у него в руке.
_____СИДЕЛ И МЕШАЛ.
_____О том же М<индли>не (феодосийский семнадцатилетний женатый поэт). В<олькенш>тейн с еще кем-то, проходя ко мне: — Всё как следует. И дежурный варит кашу.
(Он-то — «дежурный» — в другом смысле, а я — как солдат, деньщик.)
_____Пишу урывками — как награда. Стихи — роскошь. Вечное чувство, что не вправе. И — вопреки всему — благодаря всему — веселье, только не совсем такое простое — как кажется.
_____Посылаю Вам шаль.
— Аля, послать Ахматовой? — Конечно, Марина! Вы породы шально́й, а не ша́льной. — Дорогая моя ша́льная порода, носите, если понравится [935]. Я для Вас не только шаль — шкуру с плеч сдеру!
Целую нежно. Пишите
МЦ17-го р<усского> авг<уста> 1921 г.
Впервые — HCT. стр. 51–54. Печ. по тексту первой публикации.
Переписывая письмо в тетрадь, Цветаева сделала приписку: «(Эгоцентризм письма, происходящий не от эгоизма, а от бесплотности отношений: Блока видела три раза — издали — Ахматову — никогда. Переписка с тенями. — 1932 г. И даже не переписка, ибо пишу одна.)»
24-21. A.A. Ахматовой
31-го русского августа 1921 г.
Дорогая Анна Андреевна! Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неопровержимей [936]. Пишу Вам об этом, потому что знаю, что до Вас все равно дойдет — хочу, чтобы по крайней мере дошло верно. Скажу Вам, что единственным — с моего ведома — Вашим другом (друг — действие!) — среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка бродивший по картонажу «Кафе Поэтов» [937].
Убитый горем — у него, правда, был такой вид. Он же и дал через знакомых телеграмму с запросом о Вас, и ему я обязана второй нестерпимейшей радостью своей жизни (первая — весть о Сереже [938], о котором я ничего не знала два года). Об остальных (поэтах) не буду рассказывать — не потому, что это бы Вас огорчило: кто они, чтобы это могло Вас огорчить? — просто не хочется тупить пера.
Эти дни я — в надежде узнать о Вас — провела в кафе поэтов — что́ за уроды! что́ за убожества! что́ за ублюдки! Тут всё: и гомункулусы, и автоматы, и ржущие кони, и ялтинские проводники с накрашенными губами.
Вчера было состязание: лавр — титул соревнователя в действительные члены Союза. Общих два русла: Надсон и Маяковский. Отказались бы и Надсон и Маяковский. Тут были и розы, и слезы, и пианисты, играющие в четыре ноги по клавишам мостовой… и монотонный тон кукушки (так начинается один стих!), и поэма о японской девушке, которую я любил (тема Бальмонта, исполнение Северянина) —
Это было у моря, Где цветут анемоны…И весь зал хором:
Где встречается редко Городской экипаж… [939]Но самое нестерпимое и безнадежное было то́, что больше всего ржавшие и гикавшие — сами такие же, — со вчерашнего состязания.
Вся разница, что они уже поняли немодность Северянина, заменили его (худшим!) Шершеневичем [940].
На эстраде — Бобров, Аксенов, Арго, Грузинов [941]. Поэты.
_____И — просто шантанные номера…
_____Я, на блокноте, Аксенову: «Господин Аксенов, ради Бога, — достоверность об Ахматовой». (Был слух, что он видел Маяковского.) «Боюсь, что не досижу до конца состязания».
И учащенный кивок Аксенова. Значит — жива.
_____Дорогая Анна Андреевна, чтобы понять этот мой вчерашний вечер, этот аксеновский — мне — кивок, нужно было бы знать три моих предыдущих дня — несказа́нных. Страшный сон: хочу проснуться — и не могу. Я ко всем подходила в упор, вымаливала Вашу жизнь. Еще бы немножко — я бы словами сказала: «Господа, сделайте так, чтобы Ахматова была жива!»… Утешила меня Аля: «Марина! У нее же — сын!»
_____Вчера после окончания вечера просила у Боброва командировку: к Ахматовой. Вокруг смеются. «Господа! Я вам десять вечеров подряд буду читать бесплатно — и у меня всегда полный зал!»
Эти три дня (без Вас) для меня Петербурга уже не существовало, — да что Петербурга… Вчерашний вечер — чудо: «Стала облаком в славе лучей» [942].
На днях буду читать о Вас [943] — в первый раз в жизни: питаю отвращение к докладам, но не могу уступить этой чести другому! Впрочем, всё, что я имею сказать, — осанна!
Кончаю — как Аля кончает письма к отцу:
Целую и низко кланяюсь.
МЦ.Впервые — Новый мир. 1969. № 4. стр. 189–191. СС-6. стр. 201–203. Печ. по СС-6.
25-21. Е.О. Волошиной
Москва, 10-го р<усского> сентября 1921 г.
Дорогая моя Пра!
Аля спит и видит Вас во сне. Ваше письмо перечитываем без конца и каждому ребенку в пустыре, в котором она гуляет, в случае ссоры победоносно бросает в лицо: «Ты хотя меня и бьешь, а зато у меня крестная мать, которую воспитывал Шамиль!» [944] — «Какой Шамиль?» — «А такой: кавказский царь, на самой высокой горе жил. — Орел!»
Как мне бесконечно жаль, дорогая Пра, что Вы сейчас не с нами! Вы бы уже одним видом поддерживали в Але геройский дух, который я вдуваю в нее всей силой вздоха и души.
Пишите нам! Надеюсь, что это письмо Э.Л. Миндлин Вам передаст собственноручно, он много Вам о нас расскажет [945]. С<ережа> жив, далеко. Целую Вас нежно, люблю.
МаринаВпервые — СС-6. стр. 82. Печ. по тексту первой публикации.
26-21. Е.Л. Ланну
Москва, 10-го р<усского> сент<ября> 1921 г.
Дорогой Ланн!
Направляю к Вам Эмилия Львовича Миндлина, он был мой гость в течение месяца, мы с ним дружили [946], он мне во многом помогал, будьте милы — приютите его, если понадобится. — Сейчас ведь круговая порука. Ланн!
Живу мечтой и надеждой на встречу с Сережей. Эмилий Львович Вам обо всем расскажет.
Тороплюсь. — Сейчас Аля бешено играет на шарманке: новый обряд проводов.
Вспоминаю Вас с благодарностью (хотела было написать: с нежностью. — Благодарность точнее!)
Ася живет очень трудно и благородно. Мы обе — Ваши друзья навсегда.
Марина.— Аля целует. —
Впервые — Marina Cvetaeva. Studien und materialien. стр. 188 (публ. И.В. Кудровой). СС-6. стр. 183. Печ. тексту СС-6.
27-21. И.Г. Эренбургу
Москва, 21-го русск<ого> Октября 1921 г.
Мой дорогой Илья Григорьевич!
Передо мной Ваши два письма: от 5-го сентября и от 20-го Октября. Получила их сегодня у Изабеллы Григорьевны [947]. Там больной мальчик [948], уныние и безумный беспорядок: немножко лучше, чем у меня!
Если Вам хочется их видеть, зовите сильнее: впечатление подавленной воли.
Писала Вам недавно (письмо С<ереже> помечено двенадцатым №), дела мои, кажется (суеверна!) хороши [949], но сегодня я от Ю<ргиса> К<азимировича> [950] узнала, что до Риги [951] — с ожиданием там визы включительно — нужно 10 миллионов. Для меня это все равно что: везите с собой Храм Христа Спасителя. — Продав С<ережи>ну шубу (моя ничего не стоит), старинную люстру, красное дерево и 2 книги (сборничек «Версты» и «Феникс» (Конец Казановы) — с трудом наскребу 4 миллиона, — да и то навряд ли: в моих руках и золото — жесть, и мука — опилки. Вы должны меня понять правильно: не голода, не холода, не <…> я боюсь, — а зависимости. Чует мое сердце, что там на Западе люди жестче. Здесь рваная обувь — беда или доблесть, там — позор. (Вспоминаю, кстати, один Алин стих, написанный в 1919 г.:
Не стыдись, страна Россия! Ангелы всегда босые… Сапоги сам Черт унес. Нынче страшен, кто не бос! [952]Примут за нищую и погонят обратно. — Тогда я удавлюсь.
— Но поехать я все-таки поеду, хоть бы у меня денег хватило ровно на билет.
Документы свои я, очевидно, получу скоро. К<оммуни>ст, к<отор>ый снимал у меня комнату (самую ужасную — проходную — из принципа!) [953] уехал и не возвращается. Увез мой миллион и одиннадцать чужих. Был мне очень предан, но когда нужно было колоть дрова, у него каждый раз болел живот. У меня было впечатление, что я совершенно нечаянно вышла замуж за дворника: на каждое мое слово отвечал: «ничего подобного» и заезжал рукой в лицо. Я все терпела, потому что все надеялась, что увезет: увез только деньги. — Ваших я не трогала, оставляю их на последнюю крайность!
Аля сопутствует меня {128} повсюду и утешает меня юмористическими наблюдениями. Это мой единственный советчик.
_____Если уеду, не имея ни одного адр<еса>, пойду в Риге к Вашему знакомому, на к<оторо>го раньше отправляла письма, у меня есть несколько золотых вещей, может быть поможет продать.
В доме холодно, дымно — и мертво, потому что уже не живешь. Вещи враждебны. Все это, с первой минуты моего решения, похоже на сон, крышка которого — потолок.
Единственная радость — стихи. Пишу как пьют, — и не вино, а воду. Тогда я счастливая, уверенная <…>
Стихи о каторге Вами у меня предвосхищены, это до того моё [954] <…>
Вот Вам в ответ стих, написанный, кажется, в марте, и не об этом, — но об этом:
На што мне облака и степи
И вся подсолнечная ширь!
Я — раб, свои взлюбивший цепи,
Благословляющий Сибирь!
Эй вы, обратные по трахту!
Поклон великим городам.
Свою застеночную шахту
За всю свободу не продам!
Привет тебе, град Божий Киев!
Поклон, престольная Москва!
Поклон, мои дела мирские!
Я сын, не помнящий родства.
Не встанет любоваться рожью
Покойник, возлюбивший гроб.
Заворожил от света Божья
Меня верховный рудокоп.
Просьба: не пишите С<ереже>, что мне так трудно, и поддерживайте в нем уверенность, что мы приедем. Вам я пишу, потому что мне некому все это сказать и потому что я знаю, что для Вас это только иллюстрация к револ<юционному> быту Москвы 1921 года.
На Арбате 54 гастр(ономических) магазина, — считали: Аля справа, я слева.
Спасибо за все. — Целую.
М.Письмо за № 12 отослано по старому адр<есу>:
Chaussée de Waterloo 1385 (?)
Теперь буду писать часто. Там я писала о «Лике Войны» [955] — Прекрасная книга.
Впервые — Звезда. 1992.№ 10. стр. 16–19 (публ. Е.И. Лубянниковой). СС-6. стр. 211–213. Печ. по СС-6.
28-21. М.А. Волошину
Москва, 7-го р<усского> ноября 1921 г.
Мой дорогой Макс!
— Оказия в Крым! — Сразу всполошилась, бросила все дела, пишу.
Во-первых — долг благодарности и дань восторга — низкий поклон тебе за С<ережу> [956]. — 18-го января 1922 г. (через два месяца) будет четыре года, как я его не видела. И ждала его именно таким. Он похож на мою мысль, поэтому — портрет точен. Это моя главная радость, лучшее, что имею, уеду — увезу, умру — возьму.
Получив твои письма, подняли с Асей бурю [957]. Ася читала и показывала их всем, в итоге дошло до Л<уначар>ского, пригласил меня в Кремль. С Кремлем я рассталась тогда же, что и с Сережей, часто звали пойти, я надменно отвечала: «Сама поведу». — Шла с сердцебиением. Положение было странно, весь случай странен: накануне дочиста потеряла голос, ни звука, — только и! (вроде верхнего си (si) Патти!) [958]. Но не пойти — обидеть, потерять право возмущаться равнодушием, упустить Кремль! — взяла в вожатые В<олькен>штейна («Калики» — услужливая академическая бездарность) [959].
После тысячи недоразумений: его ложноклассического пафоса перед красноармей<цем> в будке (никто не понимал моего шепота: явления его!) и пр. — зеленый с белым Потешный дворец. Ни души. После долгих звонков — мальчишка в куцавейке, докладывает. Ждем. Большая пустая белая дворянская зала: несколько стульев, рояль, велосипед. Наконец, через секретаря: видеться вовсе не нужно, пусть т<овари>щ напишет. Бумаги нет, чернил тоже. Пишу на чем-то оберточном, собственным карандашом. Доклад, ввиду краткости, слегка напоминающий декрет: бонапартовский, в Египте. В<олькен>штейн (муж Сони) [960] через плечо подсказывает. Я злюсь. — «Соню! Соню-то!». Я: — «А чччерт! Мне Макс важней!». — «Но С<офья> Я<ковлевна> — женщина и моя бывшая жена!». — «Но Макс тоже женщина и мой настоящий (indicatif present) {129} друг!». Пишу про всех, отдельно Судак и отдельно К<окте>бель. Дорвалась, наконец, до Вас с Пра: «больные, одни в пустом доме»… — и вдруг иронический шип В<олькен>штейна: «Вы хотите, чтоб их уплотнили? Если так, Вы на верном пути!». Опомнившись, превращаю эти пять слов в тайнопись. Доклад кончен, уже хочу вручить мальчишке и вдруг: улыбаюсь, прежде чем осознаю! Упоительное чувство: «en présence de quelqu'un» {130}. Ласковые глаза: «Вы о голодающих Крыма? Всё сделаю!». Я, вдохновенным шипом: — «Вы очень добры». — «Пишите, пишите, все сделаю!». Я, в упоении: «Вы ангельски добры!». — «Имена, адреса, в чем нуждаются, ничего не забудьте — и будьте спокойны, в_с_ё б_у_д_е_т_ с_д_е_л_а_н_о!». Я, беря его обе руки, самозабвенно: «Вы ц<арст>венно добры!». Ах, забыла! На мое первое «добры» он с любопытством, верней любознательностью, спросил (осведомился): — «А Вы всегда так говорите?» и мой ответ: «Нет, только сегодня, — потому что Вы позвали!» — Ласков, как сибирский кот (не сибирский ли?), люблю нежно. Говорила с ним в первый раз. — Ася все эти дни вела денежную кампанию, сейчас столько богатых! все торгуют. Кажется, на твою долю выпадает м<иллио>н, от нас с Асей только сто т<ысяч> (сверх м<иллио>на), я знаю, что это — ничто, это мы, чтоб устыдить наших богатых сотоварищей, нужно действовать самыми грубыми средствами: оглушать, — тогда бумажники раскрываются. — Дай Бог, чтоб все дошло и чтоб это вас с Пра немножко вызволило [961].
_____М.И. К<узнецо>ва, наконец, устроилась, — в Летучей Мыши [962]. Играет «Женщину-змею» (подходит? у нее ведь змеиные глаза!). С Майей [963] вижусь редко: дружит с Акс<еновым> (рыжая борода) и Бобровым с к<оторы>ми не дружу. Меня почему-то боится. А я вся та́к в С<ереже>, что духу нет подымать отношения. Все, что не необходимо, — лишне. Так я к вещам и к людям. Согласен ли? Я вообще закаменела, состояние ангела и памятника, очень издалека. Единственное мое живое (болевое) место — это С<ережа>. (Аля — тот же С<ережа>.) Для других (а все — другие!) делаю, что могу, но безучастно. Люблю только 1911 г. — и сейчас, 1920 г. (тоску по С<ереже> — весть — всю эпопею!). Этих 10-ти лет как не было, ни одной привязанности. Узнаешь из стихов. Любимейшие послать не решаюсь, их увез к С<ереже> — Э<ренбур>г. Кстати, о Э<ренбур>ге: он оказался прекрасным другом: добрым, заботливым, не словесником! Всей моей радости я обязана ему [964]. — Собираюсь. — Обещают. Это моя последняя ставка. Если мне еще хочется жить здесь, то из-за С<ережи> и Али, я та́к знаю, что буду жить еще и еще. Но С<ережу> мне необходимо увидеть, просто войти, чтоб видел, чтоб видела. «Вместо сына», — так я бы это назвала, иначе ничто не понятно.
О М<оск>ве. Она чудовищна. — Жировой нарост, гнойник. На Арбате 54 гастр<ономических> магазина: дома извергают продовольствие. Всех гастр<ономических> магаз<инов> за последние три недели 850. На Тверской гастрономия «L'Estomac» {131} — Клянусь! — Люди такие же, как магазины: дают только за деньги. Общий закон беспощадность. Никому ни до кого нет дела. Милый Макс, верь, я не из зависти, будь у меня миллионы, я бы все же не покупала окороков. Все это слишком пахнет кровью. — Голодных много, но они где-то по норам и трущобам, видимость блистательна.
Макс, а вот веселая история: в Тифлисе перед б<ольшеви>ками были схоронены на кладбище шесть гробов с монпасье. Священники пели, родные плакали. А потом б<ольшеви>ки отрыли и засадили и священников, и родных. — Достоверность. —
_____О литераторах и литературе я тебе уже писала. Та же торговля. А когда не торгующие (хотя и сидящие за прилавком) как Бердяев открывают рот, чтобы произнести слово: Бог, у меня всю внутренность сводит от скуки, — не потому, что Бог, а потому, что мертвый Бог, не растущий, не воинствующий, тот же, что, скажем, в 1903 г., — Бог литературных сборищ.
_____Только что письмо от Э<ренбур>га: почтой из Берлина. Шло десять дней. Утешает, обнадеживает, С<ережа> в Праге, учится, Э<ренбур>г обещает к нему съездить. Завтра отправляю письмо С<ереже>, буду писать о тебе. Писала ли я тебе в прошлый раз (письмо с М<инд>линым) о большой любви С<ережи> к тебе и Пра: «Мои наезды в К<окте>бель были единственной радостью всех этих лет, с Максом и Пра я совсем сроднился». Спасибо тебе. Макс, за С<ережу> — за 1911 г. и 1920 г.!
Какова будет наша следующая встреча?
Думаю, не в России. — Хочешь в Париже? На моей Rue Bonaparte? [965] —
_____Герцыкам посылаю другие стихи, если доведется — прочти [966]. Лучшей моей вещи ты не знаешь, «Царь-Девицы». — У меня выходят две книжки: «Версты» (стихи) и «Феникс» (конец Казановы, драматическая сцена) [967]. В случае моего отъезда их перешлет тебе Ася. Ася живет очень трудно, — хуже меня! Героична, совсем забыла: я. Всем настоящим эти годы во благо! —
Поцелуй за меня Пра, прочти ей мое письмо, не пишу ей отдельно [968], потому что нет времени, поздно предупредили. Будь уверен, милый Макс, что неустанно с Асей будем измышлять всякие способы помочь Вам с Пра. Живя словом, презираю слова. Дружба — дело.
Обнимаю и целую тебя и Пра.
М.Впервые — ЕРО. стр. 180–183 (публ. В.П. Купченко). Печ. по НИСП. стр. 291-294
29-21. <Н.А. Нолле-Коган>
<Декабрь 1921 года> [969]
Дорогая Н<адежда> А<лександровна>, я всё ждала, что Вы придете, во вторник говорила: в среду, в среду: в четверг… Но уже неделя прошла, как мы были у Вас с Алей [970]. Вы никогда не придете.
Молодой человек, имени которого я не знаю, передал мне Ваши слова, из которых я поняла, что я Вами внутренне принята. М<ожет> б<ыть> сейчас Вам в Вашей жизни ничего не нужно нового, новое всегда — чужое, тогда пусть так и останется.
Я очень робка.
(Предыдущий абзац в скобках, очевидно я решила предпосылку невозможности — отставить).
Мне бы очень хотелось Вас видеть и именно чтобы Вы ко мне пришли, я так часто эти дни глядела на дверь и думала: как это будет? и всё слушала шаги — как некое чудо, которого ждала и не дождалась.
Я бы Вам тогда дала новые стихи, захватите книжечку.
Но м<ожет> б<ыть> Вам сейчас в Вашей жизни ничего не нужно нового, новое всегда — чужое, тогда пусть так и останется.
Стихи я Вам тогда пришлю письмом.
МЦНа случай, если бы Вам захотелось придти, прошу, напишите заранее несколько слов, чтобы я наверное была дома.
Адр<ес> мой: Борисоглебский пер<еулок>.
д<ом> 6 кв<артира> 3
Впервые — HCT. стр. 65. Печ. по тексту первой публикации.
1922
1-22. Е.Ф. Никитиной
Милая Евдокия Федоровна! [971]
Отдаю «Конец Казановы» в «Созвездие» [972], сегодня получила 2 м<иллиона> аванса (расценка — 7 т<ысяч> строка).
То же издательство покупает у меня «Матерь-Верста» (стихи за 1916 г.) [973], имеющиеся у Вас в двух ремингтонных экз<емплярах>. Очень просила бы Вас передать их представительнице издательства Зинаиде Ивановне Шамуриной, если нужно — оплачу ремингтонную работу.
Остающаяся у Вас «Царь-Девица» [974] полученным мною авансом в 5 милл<ионов> не покрыта, поэтому считаю себя вправе распоряжаться рукописями, данными Вам на просмотр.
С уважением
М. ЦветаеваМосква, 22-го января 1922 г.
Впервые — НП. стр. 51. СС-6. стр. 216. Печ. по СС-6.
2-22. И.Г. Эренбургу
Москва, 11/24-го февраля 1922 г.
Мой дорогой!
Эти дни у меня под Вашим знаком, столько надо сказать Вам, что руки опускаются!
Или же — правая к перу! — Стихотворному, — ибо не одним пером пишешь письмо и стихи.
И весомость слов — иная.
Хочется сказать нелепость: стихотворное слово столь весомо, что уже не весит, по таким векселям не дано платить в жизни: монеты такой нет.
А многое из этого, что мне НАДО сказать Вам, уже переросло разговорную речь.
Не: пытаюсь писать Вам стихи [975], а: пытаюсь Вам стихов не писать. (Сейчас увидите, почему.)
Знаете, раньше было так: иногда толчком в грудь:
Свинья! Ни одного стиха человеку, который — человеку, которому…
И внимательное (прослушав) — «Не могу. Не ясно». — И сразу забывала.
_____Стихи к Вам надо мной как сонм. Хочется иногда поднять обе руки и распростать дорогу лбу. — Стерегущий сонм. — И весьма разномастный. (Что э́то — птицы — я знаю, но не просто: орлы, сокола, ястреба, — пожалуй что из тех:
Птицы райские поют, В рай войти нам не дают… [976]— Лютые птицы!)
И вот, денно и нощно, чаще всего с Алей рядом, поздними часами одна — переплеск этих сумасшедших крыльев над головой — целые бои! — ибо и та хочет, и та хочет, и та хочет, и ни одна дьяволица (птица!) не уступает и вместо одного стиха — три сразу (больше!!!) и ни одно не дописано. Чувство: СОВЛАДАТЬ!
Чтоб самоё не унесли!
_____Мой родной!
_____Отъезд таков: срок моего паспорта истекает 7-го Вашего марта, нынче 24-ое (Ваше) февраля, Ю<ргис> К<азимирович> [977] приезжает 2-го В<ашего> марта, если 3-го поставит длительную литовскую визу и до 7-го будет дипл<оматический> вагон — дело выиграно. Но если Ю<ргис> К<азимирович> задержится, если между 3-ьим и 7-ым дипл<оматический> вагон не пойдет — придется возобновлять визу ЧК, а это грозит месячным ожиданием. Кроме того, <конец письма утерян>
Впервые — Звезда. 1992. № 10. стр. 16–19 (публ. Е.И. Лубянниковой). СС-6. стр. 213–214. Печ. по СС-6.
3-22. И.Г. Эренбургу
Заложенное в тетрадку начало письма к Э<ренбур>гу:Москва, 1-го нов<ого> марта 1922 г.
Мой дорогой!
Сегодня у меня блаженный день: никуда не ходила, шила тетрадку для Егорушки (безумно-любимую вещь, к которой рвусь уж скоро год [978]) и писала стихи. И теперь, написав С<ереже>, пишу Вам. — Все счастья сразу! — Как когда слушаешь музыку. (Там — все реки сразу.) Писала стихи Масляница, трепаные как она сама.
Сегодня за моим столом — там, где я сейчас сижу, сидел Чабров. Я смотрела на него сверху: на череп, плечо, пишущую руку — и думала: так я буду стоять над пишущим Э<ренбур>гом и тоже буду думать свое.
Чабров мой приятель: умный, острый, впивающийся в комический бок вещей (особенно мировых катастроф!) прекрасно понимающий стихи, очень причудливый, любящий всегда самое неожиданное — и всегда до страсти! — лучший друг покойного Скрябина.
Захожу к нему обычно после 12 ч<асов> ночи, он как раз топит печку, пьем кофе, взаимоиздеваемся над нашими отъездами (— Ну, как Ваш? — А Ваш — как?) никогда не говорим всерьез, оба до задыхания ненавидим русскую интеллигенцию. Но он — дворянин, умеющий при необходимости жить изнеженной жизнью {132}, а я? кто́ я́? даже не богема.
У него памятное лицо: глаза как дыры (гиэна или шакал), голодные и горячие, но не тем (мужским) — бесовским! жаром, отливающий лоб и оскал островитянина. При изумительном — как говорят — сложении (С<ережа> видел его в Покрывале Пьеретты [979] — Арлекином, говорил — гениален (пантомима)) при изумительной выразительности тела одет изо дня в день в ту же коричневую куцую куртку, не от безденежья, а от безнадежности. Мы с ним друг друга отлично понимаем: à quoi bon? {133}
_____ (Письмо не кончено)Впервые — HCT. стр. 81–82. Печ. по тексту первой публикации.
4-22. В ЦЕКУБУ
Москва 16 марта 1922 г.
В Ц<Е>КУБУ [980] Марины Ивановны Цветаевой-Эфрон ЗаявлениеСостоя в списке первых 17 работников науки и искусства, которым был назначен в Москве 2 года назад академический паек, я полагала, что имею все основания к включению меня в списки научных работников согласно декрета СНК 6-го декабря 1921 г. и обратилась в МосКУБУ с просьбой меня зарегистрировать и выдать удостоверение, представляющее мне жилищные льготы.
МосКУБУ мне предложила представить за подписью П.С. Когана [981] и 2 других профессоров сведения, определяющие мою квалификацию как научной работницы в области литературы. Сведения эти были мною МосКУБУ доставлены. Однако вслед затем МосКУБУ в регистрации мне отказала и жилищное удостоверение не выдала.
В виду того, что состою в списках ЦЕКУБУ прошу Вашего предписания МосКУБУ о немедленной выдаче мне удостоверения не позже 17-го марта.
В случае невыдачи мне вместе с моей 9-летней дочерью [982] грозит выселение из квартиры.
<М.И. Цветаева>Впервые — Русская мысль. Париж. 2000. 12–18 сент. Публ. А. Галушкина. Печ. по тексту первой публикации.
5-22. П.Н. Зайцеву
<Март 1922? >
Милый г. Зайцев
Нельзя ли устроить мне заочно удостоверение на академический паек (апрельский).
Ведь в прошлый раз меня ведь тоже лично не было?
«Гос<ударственное> Изд<ательство> свид<етельствует>, что такая-то, проживающая там-то (Борисоглеб<ский> пер<еулок> 6, кв<артира> 3) имеет право на акад<емический> паек (апрель)» [983].
Если это возможно, передайте эту бумажку Шенгели [984].
Буду Вам очень обязана.
Привет.
МЦ.Дело в том, что я лично не имею времени зайти.
Впервые — СС-6. стр. 217. Печ. по тексту первой публикации.
6-22. И.Г. Эренбургу
Запись письма к Э<ренбургу><21 мая 1922 г.>
Тогда, в 1918 г., Вы отметали моих Дон-Жуанов («плащ», не прикрывающий и не открывающий), теперь, в 1922 г. — моих Царь-Девиц и Егорушек (Русь во мне, то есть вторичное) [985].
И тогда и теперь Вы хотели от меня одного: меня, т.е. костяка, вне плащей и вне кафтанов, лучше всего — ободранную.
Замысел, фигуры, выявление через, всё это для Вас было более или менее бутафорией.
Вы хотели от меня главного, без чего я — не я.
Сегодня Вы говорили мне о ПОРОДЕ стихов, это внешнее, без этого Вы не могли, по-настоящему Вы, сами того не ведая {134}, говорили о моей душе и жизни, и Вы говорили мне, т.е. я это слышала: «Я люблю Вас только в большие часы, перед лицом смерти, перед лицом — да второго „перед лицом“ и нет».
Я Вас ни разу не сбила (себя — постоянно — и буду), Вы оказались зорче меня.
Тогда, в 1918 г., и теперь, в 1922 г., Вы были жестоки: — ни одной прихоти! (даже в этом!).
Стало быть — надо убить.
Вы правы.
Блуд (прихоть) в стихах ничуть не лучше блуда (прихоти, своеволия) в жизни. Другие — впрочем, два разряда — одни, блюстители порядка: — «В стихах — что угодно, только ведите себя хорошо в жизни», вторые (эстеты): «Всё, что угодно в жизни — только пишите хорошие стихи». И Вы один: — «Не блудите ни в стихах ни в жизни. Этого Вам не нужно».
Вы правы, потому что я к этому, молча, иду.
<Вдоль левого поля, на первой странице письма:>
NB! Ни одно из слов взятых в кавычки Э<ренбур>гом не сказано и сказано быть не могло. Нужно было быть мной чтоб из этого равнодушного циника, цинического игрока (словами и смыслами) сделать лирика, нет, больше: стоика, — и та́к — от лирика и от сто́ика — страдать. 1932 г.
_____В какой-то области я Вам даже Вы не говорю. Вы у меня без местоимения. Вот что-то — нечто — сила — движение — я по дороге — удар — не в меня — но принят мной {135}.
_____В другой — духовно-душевной, что ли? — Вы собеседник, тот не только от кого идет, но и к кому идет. Спор (согласие) двух голосов.
Но есть еще третье: там где Вы — Э<ренбур>г, который — и названия Ваших книг, и отрывочные рассказы из Вашей жизни (постепенное обрастание Вас одеждами) — рассказы кого-то о Вас.
И — внезапно: что́ — последнее, основное? Костяк — не рассасывающееся — или пустота, <пропуск одного слова>. То обо что разбиваешься — или то, в чем пропадаешь? Имянно́е (то, что создает имя: то́ именно) или безымянное? Это я не о Вас, это я закона ищу.
Я думала — три, но есть еще Вы: с трубкой, т.е. только трубка. Когда я думаю о том кто курит трубку и любит дождь (а м<ожет> б<ыть> приписываю?) мне кажется, что с таким хорошо путешествовать и не расставаться.
Но этот уже книг не пишет, и с ним-то именно и придется расстаться, п<отому> ч<то> всё остальное: безымянную силу, голос, книги (написанные и ненаписанные) я унесу с собой — не жестом захвата —
Но об этом я уже писала.
_____Разговор.
— Аля, как ты думаешь, как себя будет чувствовать С<ережа>, когда приедет?
— Если Э<ренбур>г нас не выгонит [986].
Я: — Наверное не выгонит. Но что мы будет делать с утра?
Аля: — С вечера закажем три завтрака.
_____21-го мая 1922 г. — Устала.
Впервые — HCT. стр. 86–87. Печ. по тексту первой публикации.
7-22. А.Н. Толстому
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО [987]Алексей Николаевич!
Передо мной в № 6 приложения к газете «Накануне» письмо к Вам Чуковского [988].
Если бы Вы не редактировали этой газеты, я бы приняла свершившееся за дурную услугу кого-либо из Ваших друзей.
Но Вы редактор, и предположение падает.
Остаются две возможности: или письмо оглашено Вами по просьбе самого Чуковского, или же Вы это сделали по своей воле и без его ведома [989].
«В 1919 г. я основал „Дом Искусств“; устроил студию (вместе с Николаем Гумилевым), устроил публичные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа [990], Добужинского [991], устроил общежитие на 56 человек, библиотеку и т.д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают, — эмигранты, эмигранты! Дармоедствовать какому-нибудь Волынскому [992] или Чудовскому [993] очень легко: они получают пайки, заседают, ничего не пишут, и поругивают Советскую власть…» — «…Нет, Толстой, Вы должны вернуться сюда гордо, с ясной душой. Вся эта мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней извинялись или чувствовали себя виноватым». (Курсив, очевидно, Чуковского.)
Если Вы оглашаете эти строки по дружбе к Чуковскому (просьбе его) — то поступок Чуковского ясен: не может же он не знать, что «Накануне» продается на всех углах Москвы и Петербурга! [994] — Менее ясны Вы, выворачивающий такую помойную яму. Так служить — подводить.
Обратимся к второму случаю: Вы оглашаете письмо вне давления. Но у всякого поступка есть цель. Не вредить же тем, четыре года сряду таскающим на своей спине отнюдь не аллегорические тяжести, вроде совести, неудовлетворенной гражданственности и пр., а просто: сначала мороженую картошку, потом не мороженую, сначала черную муку, потом серую…
Перечитываю — и:
«Спасибо Вам за дивный подарок — „Любовь книга золотая“ [995] — Вы должно быть сами не понимаете, какая это полновесная, породистая, бессмертно-поэтическая вещь. Только Вы один умеете так писать, что и смешно и поэтично. А полновесная вещь — вот как дети бывают удачно-рожденные: поднимешь его, а он — ой, ой какой тяжелый, три года (?), а такой мясовитый. И глупы все — поэтически, нежно-глупы, восхитительно-глупы. Воображаю, какой успех имеет она на сцене. Пришлите мне рецензии, я переведу их и дам в „Литературные записки“ [996] (журнал Дома Литераторов) — пускай и Россия знает о Ваших успехах»
Но желая поделиться радостью с Вашими Западными друзьями, Вы могли бы ограничиться этим отрывком.
Или Вы на самом деле трехлетний ребенок, не подозревающий ни о существовании в России Г.П.У. (вчерашнее Ч.К.), ни о зависимости всех советских граждан от этого Г.П.У. ни о закрытии «Летописи Дома Литераторов» [997], ни о многом, многом другом…
Допустите, что одному из названных лиц после 4½ лет «ничего-не-деланья» (от него, кстати, умер и Блок) захочется на волю, — какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануновское письмо?
Новая Экономическая Политика, которая очевидно является для Вас обетованною землею, меньше всего занята вопросами этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу.
Алексей Николаевич, есть над личными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями — круговая порука ремесла, круговая порука человечности.
За 5 минут до моего отъезда из России (11-го мая сего года) ко мне подходит человек: коммунист, шапочно-знакомый, знавший меня только по стихам. — «С вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего».
Жму руку ему и не жму руки Вам.
Марина ЦветаеваБерлин, 3-го июня [998] 1922 г.
Впервые — Голос России. Ежедневная газета. Берлин. 1922. 7 июня. СС-6. стр. 217–219. Печ. по СС-6.
8-22. А.Г. Вишняку
Девять писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым — полученным [999]17-го июня 1922 г.
— Письмо первое —Две тщетности — на сон грядущий. (Это наш с Вами час, днем мы — ремесленники.)
Мой родной! Книга, которая сейчас — Вашей рукой — врезалась в мою жизнь — НЕ случайна. Услышав — обмерла {136}.
Вы сами не знаете — Вы ничего не знаете! — до чего всё ПРАВИЛЬНО.
Но Вы ничего не знаете, Вы только очень чутки (не СОЧУВСТВЕННО, — как зверь: всем востромордием!) — в какие-то минуты Вы безошибочны.
Я не преувеличиваю Вас, всё это в пределах темнот (которые беспредельны!) — и мехов (шепото́в, бормото́в и т.д.). — Пока. —
Я знаю Вас, Вашу породу, Вы больше вглубь (и не отвес, а винт), чем ввысь. А вглубь — это ночь. Уносит — рассвет, уводит — закат, ночь втягивает и погружает. Тонет сама. Поэтому мне с Вами хорошо без света: в голосах (как в мехах!), я бы сказала: в голосовых настороженностях. Это не переутонче́ние: я просто точна.
Поэтому во все ТАКИЕ часы Вашей жизни (срок полгода!) Вы будете — со мной.
Есть люди страстей — чувств — Вы человек дуновений. Мир Вы воспринимаете накожно: это не меньше чем: душевно. Через кожу (ощупь, пять чувств) Вы воспринимаете и чужие души, и это, может быть, верней. Ибо в своей области Вы — виртуоз (попутная мысль: забалу́ю?) Вам не надо всей руки в руке, достаточно и рукава.
Поэтому Вы так дома в некоторых моих стихах (НЕ на Красном Коне!). — Чуткость на умыслы. —
Я не преувеличиваю Вас в своей жизни — Вы легки даже на моих пристрастных (милосердных! неправедных!) весах. Я даже не знаю, есть ли Вы в моей жизни? В просторах души моей (слово Кн. Волконской о В. Соловьеве) [1000] — нет. Но в том: ВОЗЛЕ ДУШИ, в каком-то МЕЖДУ, во всем предсонном, во всем где «я — не я и лошадь не моя» — там Вы не только есть, только Вы́ и есть. (Сейчас!)
Вы слегка напоминаете мне одного моего друга — пять лет назад — благодаря которому я написала много лишних стихов, враждебных всем как НЕ МОИ и близких только — всей его породе. [1001]
Но я не хочу сейчас говорить о нем, я его давно и совсем забыла, я хочу сейчас радоваться Вам и тем темным словам (силам) которые Вы из меня выколдовываете.
Последние годы я жила такой другой жизнью, так КРУТО, так СКУПО, в таких ледяных задыханиях, что сейчас — руки развожу: я???
Мне нежно от Вас как от меха. (Другие будут говорить Вам о Ваших высоких духовных качествах, еще другие — о прекрасном телосложении. — Может быть! — А для меня — мех.)
Но мех — разве меньше? Мех: ночь — логово — звезды — вой — и опять просторы.
Логос и логово. (Я — к Вам, и я — к Белому, кроме того — оцените цинизм! — неплохое название для статьи. Но я не пишу статей!)
— Мой нежный! — (От присутствия которого мне нежно: дающий мне быть нежной)
— Не окончено —Впервые — HCT. стр. 91–92. Печ. по тексту первой публикации.
9-22. А.Г. Вишняку
19-го нов<ого> июня 1922 г.
— Ночь вторая —Вино высвобождает во мне женскую сущность (самое трудное и скрытое во мне!).
Женская сущность — это жест (прежде чем подумать!). Зоркость не убита, но блаженное право на слепость.
— Мой нежный (от которого МНЕ —) всей моей двуединой, двуострой сущностью хочу к Вам — в Вас: как в ночь. — Стихи и сон! — (Ваши слова, всё помню!) Как многие увидели во мне — только стихи!
Помню еще слова: нежность и жадность, всё помню и беру Вас с собой в свой еженощный сон — благословенный.
Вы для меня ночь, вся ночь: от шарлатанств ее — до откровений — самый тайный — самый темный дом моей души.
Всё через душу, дружок, — и всё обратно в душу. (Самопитающийся фонтан.) Только шкуры — нет, как и: только души. Вы это знаете, с Вашей звериной ощупью. — Мой сплошной мох! (не только зверь, — и хвоя).
А если в окрасках: Вы — карий: Как Ваши глаза.
Мой маленький, таких писем я не писала никому {137}. Всё знаю: и Вашу поверхностность, и легковесность, и пустоту (ибо Вы — пусты) но Ваша земная поверхность (шкурная восприимчивость к душе другого!) мне дороже других душ.
За Вашей пустотой — пусто́ты (отроческих глаз, — недаром ОТРОК — Вам [1002], и недаром от Вас — Флорентийские Ночи!)
И Вы думаете, я не поняла нынче: «которое же из трех?» и — нечто между безнадежностью и позабавленностью — (люблю в Вас <пропуск одного слова> — Ваше: — «Да я не о том! Совсем не о том!»
Мое дитя (позвольте та́к!) — мой мальчик! Если я иногда не отвечаю в упор, то потому, что иных слов в иных стенах не терпит воздух. (Стены — всё терпят <фраза не окончена>
Знайте, что я, словесница, в большие часы жизни — тот спартанец с лисенком [1003]: помните? (Позвольте повеселиться: с целым выводком лисенят!)
Не знаю, залюблены ли Вы в жизни — скорей всего: да. Но знаю — (и пусть в тясячный раз слышите!) — Что ТА́К никогда, никто…
И на каждый тысячный есть свой тысяча-первый раз.
(От Флорентийских ночей до Шехерезады — а? И еще Саул над Давидом [1004]. Ликую от ПРАВИЛЬНОСТИ всего!)
_____Мой маленький. Сейчас 4-тый час ночи, мне блаженно до растравы, я с Вами, лбом в плечо, я невинна, я бы все свои стихи (бывшие и будущие) отдала Вам: не как стихи, — как вещь которая Вам нравится!
— И еще одну чудовищность — хотите?
Помните Ваши слова, взволновавшие меня (болевым!)… «и жестокая». Слушайте внимательно: не могу сейчас иных рук, НЕ МОГУ, могу без ВАШИХ, не могу: НЕ Ваших!
Верность: невозможность иначе. Остальное вопрос воспитанности, — воли — Мартина Лютера и житейских соображений (не сбережений ли? Тот же Лютер!) [1005]
Как видите, учусь на Вас.
_____Будьте бережны и осторожны. Моя жизнь — не моя, следовательно: не Ваша.
Только жажда моя — Ваша.
И возьмите меня как-нибудь на целый вечерок с собой: я по Вас соскучилась.
Впервые — HCT. стр. 93–94. Печ. по тексту первой публикации.
10-22. А.Г. Вишняку
— Ночь третья —20-го июня 1922 г., 4½ ч<аса> утра
(а в 2 ч<аса> расстались!)
Жесточайшая расплата за голодный час с Вами. Хватит духу — расскажу. Жизнь жестоко мстит за мое первое «во имя свое». Но этим я заработала право на всю себя к Вам. Теперь я поняла: всё как нужно. Начав — нужно было кончить. Так я обре<ла?> право на Вас в моей жизни, теряя — быть может — Вас.
Это очень жестоко: я не знала не хочу, потому что не знала хочу, мне всё было — равно́. А теперь, распахнув руки (не крылья, но не меньше <фраза не окончена>
Мой мальчик, мой мальчик родной, темно-каряя моя радость, мой бедный спорный дом! — Поймите, между тем часом и этим неполных три часа. Как я хотела быть с тобой, вылежаться на твоей груди за все эти дни и ночи. Губами вглубь.
Когда я сидела с Вами на той бродяжной скамейке («галантность», «воспитанность») у меня душа разрывалась от нежности, мне хотелось взять твою руку к губам, держать, так, долго — та́к долго… Губами — руке: — Спасибо за всё.
Но ты видишь: мы расстались почти сурово. (Первые птицы! Мой с Вами час!) Я могу без тебя, я не девочка и не женщина, мне не нужны ни куклы ни мужчины. Это я и раньше знала. Теперь я знаю одно: то, чего не хотела — и то, чего не хотела знать.
Может быть ты скажешь: — Такой мне тебя не нужно. Иду и на это. На одно не пойду: ложь. Я хочу, чтобы ты любил меня всю, какая я есть. Это единственное средство (быть любимой — или нелюбимой).
Чувствую себя Вашей, как никогда ничьей. Уже не боюсь слов. Когда возобновятся все ваши перекрестные крутежи, я все равно от тебя уйду (из тебя — уйду). Уйду от робости, недоумения, — о боли моей ты не будешь знать.
Мой век с Вами — час. И мне нужно от Вас только одного: Вашего разрешения: вот этих слов: «Люби меня как хочешь и как не хочешь: всей собой!» — Я ведь говорю не о жизни, не о ходе дней, — какое время вместит любовь? Я говорю о разрешении на ВНУТРЕННИЙ разбег, ибо и его могу сдержать. Сдерживаю. (Уже не сдерживаю!)
Мне нужно от Вас: моя свобода к Вам. Мое доверие. — И еще знать, что Вам от этого не смутно.
_____
Небо совсем светлое. Над колоколенкой слева — заря. Это невинно и вечно. Я тебя люблю сейчас как могла бы любить твоего сына. Хочу только: головой в плечо.
Не думай, что я миную в тебе простое земное. Люблю тебя всего — понял? — с глазами, с руками, с повадками, с твоей исконной ленью, с твоими огромными возможностями тоски, со всей твоей темной (вне<?>) бездной: жаления, страдания, отдачи. — Что это не на меня идет — ничего. Я для себя от тебя хочу ТАК многого, что ничего не хочу. (Лучше не начинать!)
Только знай — мой нежданный, недолгий гость — мой баловень! — что никто и никогда тебя та́к — (не так сильно, а так именно). И что я отступив от тебя, уступив тебя: как всякого — жизни, как всякому — дорогу <пропуск одного слова>, никогда от тебя не отступлюсь.
— У нас с вами неверные встречи. Я сейчас совсем спокойна, как мертвая, и в этой полной ясности утра и души говорю тебе: с тобой мне нужны все тесно́ты логова и все просторы ночи. Все тесно́ты и просторы ночи. Чтоб я, вжавшись в твое плечо, могла прослушать всего тебя.
_____Какое бесправье — земная жизнь! Какое сиротство!
Жму твою руку к губам. Пиши мне. Пиши больше. Буду спать с твоими письмами как спала бы с тобой. Мне необходимо от тебя что-нибудь живое.
Всё небо в розовых раковинах. Это самый нежный час. И что-то уже отлегло: начало письма. Растворилось в тебе.
У меня странное чувство: вслушайся внимательно: точно что-то взято́ у тебя. — Спи спокойно. Первые шаги на улице, наверное рабочий. — И птицы. —
Аля спит.
М. _____Мой нежный! [1006]
Несколько слов в Ваш утренний сон: ночью рука от нежности все-таки не удержала пера!
У меня к Вам еще два блаженных камня — колеблюсь — нужно, чтоб знали, но — если Вы человек — Вам не может не сделаться больно.
Буду ждать. Не камни: две ЛЮТЫЕ мечты, неосуществимые в сей жизни, исконная жажда моего существа, самая тайная, семижды семью печатями запечатанная.
Теснейше связаны: нет одной без другой, — по замыслу.
То для чего я на свет родилась.
<Вдоль правого поля, напротив последних трех абзацев:> Какая детская загадка! Вроде: два конца, два кольца…
_____Кто знает? — Было однажды у Вас — при мне — слово, которое уж тогда ожгло меня болью. (Не забудьте: живу наперед!)
Когда-нибудь это письмо будет для Вас так же ясно, как эти буквы, в тот час, когда эта моя жажда станет Вашей.
_____В моих руках — в Ваших руках — всё.
М.Рассвет какого-то июньского дня, суббота.
_____(Только у большого человека такое письмо не вызовет самодовольной улыбки. У большого-вообще и у большого в любви (Казановы, от меньшего — ПЛАКАВШЕГО!).)
_____Впервые — HCT. стр. 94–96. Печ. по тексту первой публикации.
11-22. А.Г. Вишняку
25-го нов<ого> июня 1922 г., воскресенье
Дружочек!
Рвусь сейчас между двумя нежностями: Вами и солнцем. Две поверхности: песчаная — этого листа, и каменная — балкона. От обеих — жар, на обеих — без подушки, на обеих — закрыв глаза.
И не перо одолевает, а Вы, — ибо стихов я сейчас не пишу. (Писала пол-утра!)
— Солнышко! Радость! Нежность! — Вчера не горел свет, и я руки себе грызла от желания писать Вам.
(Не путайте моих утренних, дневных, вечерних писем — с ночными! Все разные, все — я, но больше всего я — та́, те. С Вами).
У меня были такие верные — в упор — слова к Вам. Это был мой час с Вами, который у меня украли, с клочьями вырвали. Лежала — и воспитанно скрежетала.
— Дура? —
_____Я сейчас поняла: с Э<ренбургом> у меня было Р, моя любимая (мужественность!) буква: дружба, герой, гора, просторы, разлука: всё прямое во мне.
А с Вами: шепота, щека, щебеты <пропуск одного слова> и — больше всего — ЖИЗНЬ, до безумия глаз мною сейчас любимое слово: в каждом стихе Жизнь.
И в этом: «дружочек!»
<Вдоль правого поля:> А все девять писем вместе с десятым, невернувшимся — попытка жить.
_____Мой родной, знаю, что это безобразие с утра: любовь — вместо рукописей! Но это со мной ТАК редко, ТА́К никогда — я всё боюсь, что это мне во сне снится, что проснусь — и опять: герой, гора…
— Радость! —
_____А вчера весь вечер я Вами любовалась — честное слово: до умиления! Такая внезапная мужественность: стихи — мои, проза — моя, пьесы — мои, и ни одной секундочки — соба́-ака! — (как ругательство!) — внимания ко мне, имя которой для Вас ДОЛЖНО сейчас звучать как: мое!
Я знаю, история синицы и журавля. Но, увлеченный синицей (целыми стаями синиц, т.е. стихов) в руках — не прогадайте журавля — в руках же!
— Смеюсь. — Ничего не прогадаете: mit Haupt und Hauch und Haut und Haar {138}.
— Вы не устали слушать? — Пишу сразу три стиха. Ну и книга же будет! (Продам Гуковскому [1007].)
Впервые — HCT. стр. 97–98. Печ. по тексту первой публикации.
12-22. А.С. Ященко
Многоуважаемый г<осподин> Ященко,
Простите за невежливое молчание: молчала нечистая совесть. То, что начала писать, потеряла переезжая, во второй раз начинать не хотелось [1008]. Теперь начала, но много других работ, постараюсь прислать скоро, только особенно не рассчитывайте: сама тема далека: я, собственная жизнь. Шлю привет и прошу не сердиться.
М. Цветаева.26-го июня 1922 г.
Впервые — В кн.: Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921–1923. Париж: YMCA-Press, 1983. стр. 157–158. СС-6. стр. 220. Печ. по СС-6.
13-22. А.Г. Вишняку
— Письмо пятое [1009] —26-го июня 1922 г., ночь
Родной!То, что сегодня слетело на пол и чего Вы даже не увидели, было ненаписанное письмо к П<астернаку> [1010].
Вы сейчас ложитесь. Боже, до чего я умиляюсь всеми земными приметами в Вас: усталостью (тигрино-откровенным зевком!) зябкостью («не знаю почему — зубы стучат!» — у подъезда) внезапной (но еженощной!) ночной прожорливостью (в Prager-Diele — шницель).
— «Но Вы из меня делаете какое-то животное!»
— Не знаю. Люблю таким.
И еще — меня сейчас осенило — Вы добры́. Это не пустое слово. Вам часто жаль, т.е. больно, болевая возбудимость в Вас не меньше радостной. В этом мы похожи.
Мой родной мальчик, беру в обе ладони Вашу дорогую головочку, какие у Вас нежные волосы, стою над Вами как над маленьким. — Сколько у нас с вами могло бы быть. (NB! маленьких?)
Теперь слушайте, это настоящая жизнь.
Вы лежите, я вхожу, сажусь на край, беру к губам руку, вгребаюсь, любуюсь, люблю. За окном — большая жизнь, чужая, нам нет дела, всё проще простого: Вы, я. И целая ночь впереди:
Я Вам рассказываю — всякие нелепости, смеемся ничего любовного! — ночь наша, что́ хотим то и делаем. Но ночь еще своя, собственная, со своими законами, и вот — через смех, произвол, пену — ПРАВДА: единственная: губы к губам.
Вы прелестно целуете (уничтожьте мои письма!) без натиска — нежно <пропуск двух-трех слов> настойчиво и осторожно, с каждой сотой секунды глубже, как человек, который хочет пить — и не сразу…
Некое душевное изящество, выдержка, — до поры.
С Вами не смутно (тяжелой смутой) — нежно, очень нежно, еще нежней, сверх-сил-нежно (игра: холодно, теплей, еще теплей, совсем тепло, — до «горит» у нас с Вами не доходило!).
<Вдоль левого поля:> Любовная любовь — вода, небесная — огонь. (В пояснение: вода: влажное начало, ил. Огонь: ничего не растет и всё сгорает.) 1932 г.
Плывешь. Вы невинны (радостью). Вы не сопреступник, не соубийца души, тьмы Вы сюда не вносите — только темно́ты.
Как я бы хотела, как я бы хотела — ведь это нежнейшее, что есть — Вашего засыпания, какой-нибудь недоконченной фразы, всего предсонного с Вами! — Чтобы лучше любить! Ибо тогда души безоружны и явнее всего.
Милый друг, я только в самом начале любви к Вам — любови! — еще ничего не было, я только учусь, вслушиваюсь.
Я бы хотела многих Ваших слов, никогда не скажу. Чувство: ничего не опережать, заострить внимание и вглубь (себя, другого). Из этого может вырасти огромное — при бережности. Бережность, это Ваше слово, помню и благодарю.
Ведь всякую встречу можно повернуть самовольно (исказить!) эта встреча да будет по замыслу, не Вашему, не моему, самой любви, самой судьбы. — Если ей вообще быть суждено! —
Будет час: у меня встанет к Вам неутолимая жажда — ах, знаю! — но это еще не скоро, и от Вас не зависит. Это — этап.
Не обманывайтесь внешними признаками: руки и губы нетерпеливы, это — дети, им НУЖНО давать волю (чтобы не мешали!) но главное не в них: душа, вначале опережающая, в середине запаздывает: или недолет или перелет, ибо она не наша <сверху: здешняя> и не соизмеряется.
— Спокойной ночи. Прочтите это письмо на́ ночь, и тут же — сонно-выпадающим от сна карандашом — несколько слов мне. НЕ ДУМАЯ. — Буду любить и беречь.
Сегодня в кафэ мне на секунду было очень больно, Вы невинны, это я́ безмерна, Вам этого не нужно знать.
Спите. Не хочу ввинчиваться в Вас как штопор, не хочу розни, ничего не хочу хотеть. Если всё это — замысел, а не случайность, не будет ни Вашей воли, ни моей, вообще — в какие-то минуты — ни Вас ни меня. Иначе — бессмысленно: МИЛЫХ — сколько угодно.
Я хочу — ЧУДА.
MВпервые — HCT. стр. 98–99. Печ. по тексту первой публикации.
14-22. Б.Л. Пастернаку
Берлин, 29 нов<ого> июня 1922 г.
Дорогой Борис Леонидович!
Пишу Вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега.
Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней, — что уцелеет? [1011]
И вот, из-под щебня:
Первое, что я почувствовала — пробегом взгляда: спор. Кто-то спорит, кто-то сердится, кто-то призывает к ответу: кому-то не заплатила. — Сердце сжалось от безнадежности, от ненужности. — (Я тогда не прочла еще ни одного слова.)
Читаю (всё еще не понимая — кто), и первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит: отброшен. (И — мое: несносно: «Ну да, кто-то недоволен, возмущен! О, Господи! Чем я виновата, что он прочел мои стихи!») — Только к концу 2-ой стр<аницы>, при имени Татьяны Федоровны Скрябиной — как удар: Пастернак!
Теперь слушайте:
Когда-то (в 1918 г., весной) мы с Вами сидели рядом за ужином у Цейтлинов [1012]. Вы сказали: «Я хочу написать большой роман: с любовью, с героиней — как Бальзак». И я подумала: «Как хорошо. Как точно. Как вне самолюбия. — Поэт».
Потом я Вас пригласила: «Буду рада, если» — Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется [1013].
_____Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева (?) — «потому что в доме совсем нет хлеба». — «А сколько у Вас выходит хлеба в день?» — «5 фунтов». — «А у меня 3. — Пишете?» — «Да (или нет, не важно)». — «Прощайте». — «Прощайте».
(Книги. — Хлеб. — Человек.)
_____Зимой 1920 г., перед отъездом Эренбурга, в Союзе писателей читаю Царь-Девицу, со всей робостью: 1) рваных валенок, 2) русской своей речи, 3) явно-большой рукописи. Недоуменный вопрос — на круговую: «Господа, фабула ясна?» И одобряющее хоровое: «Совсем нет. Доходят отдельные строчки».
Потом — уже ухожу — Ваш оклик: «М<арина> И<вановна>!» — «Ах, Вы здесь? Как я рада!» — «Фабула ясна, дело в том, что Вы даете ее разъединенно, отдельными взрывами, в прерванности…»
И мое молчаливое: Зо́рок. — Поэт.
_____Осень 1921 г. Моя трущоба в Борисоглебском переулке. Вы в дверях. Письмо от И<льи> Г<ригорьевича>. Перебарывая первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) — расспросы: — «Как живете? Пишете ли? Что́ — сейчас — Москва?» И Ваше — как глухо! — «Река… Паром… Берега ли ко мне, я ли к берегу… А может быть и берегов нет… А может быть и —»
И я, мысленно: Косноязычие большого. — Темно́ты.
_____11-го (по-старому) апреля 1922 г. — Похороны Т.Ф. Скрябиной. Я была с ней в дружбе 2 года подряд, — ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся на деле и в беседе, мужская, вне нежности земных примет.
И вот провожаю ее большие глаза в землю.
Иду с Коганом [1014], потом еще с каким-то, и вдруг — рука на рукав — как лапа. Вы. — Я об этом тогда писала Эренбургу. Говорили о нем, я просила Вас писать ему, говорила о его безмерной любви к Вам, Вы принимали недоуменно, даже с тяжестью: «Совсем не понимаю за что… Как трудно…» (Мне было больно за И<лью> Г<ригорьевича>, и этого я ему не писала.) — «Я прочла Ваши стихи про голод…» [1015] — «Не говорите. Это позор. Я совсем другого хотел. Но знаете — бывает так: над головой — сонмами, а посмотришь: белая бумага. Проплыло. Не коснулось стола. А это я написал в последнюю минуту: пристают, звонят, номер не выйдет…»
Потом рассказывали об Ахматовой. Я спросила об основной ее земной примете. И Вы, вглядываясь:
— Чистота внимания. Она напоминает мне сестру.
Потом Вы меня хвалили [1016] («хотя этого говорить в лицо не нужно») за то, что я эти годы все-таки писала, — ах, главное я и забыла! — «Знаете, кому очень понравилась Ваша книга? — Маяковскому».
Это была большая радость: дар всей чужести, побежденные пространства (времена?)
Я — правда — просияла внутри.
_____И гроб: белый, без венков. И — уже вблизи — успокаивающая арка Девичьего монастыря: благость.
И Вы… «Я не с ними, это ошибка, знаете: отдаете стихи в какие-то сборники…»
Теперь самое главное: стоим у могилы. Руки́ на рукаве уже нет. Чувствую — как всегда в первую секундочку после расставания — плечом, что Вы рядом, отступив на шаг.
Задумываюсь о Т<атьяне> Ф<едоровне>. — Ее последний земной воздух. — И — толчком: чувство прерванности, не додумываю, ибо занята Т<атьяной> Ф<едоровной> — допроводить ее!
И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: исчезновение.
Это мое последнее видение Вас. Ровно через месяц — день в день — я уехала. Хотела зайти, чтобы обрадовать Э<ренбур>га живым рассказом о Вас, но чувство, что: чужой дом — наверное, не застану и т.д.
Мне даже стыдно было потом перед Эренбургом за такое слабое рвение во дружбе.
_____Вот, дорогой Борис Леонидович, моя «история с Вами», — тоже в прерванности.
Стихи Ваши я знаю мало: раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали, книги Вашей не видела.
То, что мне говорил Эренбург — ударяло сразу, захлестывало: дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь.
Бег по кругу, но круг — с мир (вселенную!). И Вы — в самом начале, и никогда не кончите, ибо смертны.
Всё только намечено — остриями! — и, не дав опомниться — дальше. Поэзия умыслов — согласны?
Это я говорю по тем 5, 6-ти стихотворениям, которые знаю.
_____Скоро выйдет моя книга «Ремесло» [1017], — стихи за последние полтора года. Пришлю Вам с радостью. А пока посылаю две крохотные книжечки, вышедшие здесь без меня — про́сто чтобы окупить дорогу: «Стихи к Блоку» и «Разлука» [1018].
Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь [1019].
Здесь ни с кем не дружу, кроме Эренбургов, Белого и моего издателя Геликона [1020].
Напишите, как дела с отъездом: по-настоящему (во внешнем ли мире: виз, анкет, миллиардов) — едете? [1021] Здесь очень хорошо жить: не город (тот или иной) — безымянность — просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете.
Жму Вашу руку. — Жду Вашей книги [1022] и Вас.
М.Ц.Мой адрес: Berlin-Wilmersdorf, Trautenaustrasse, 9. Pension «Trauten-au-Haus».
Впервые — НП. стр. 266–270. СС-6. стр. 222–225. Печ. по: Души начинают видеть. стр. 13–16.
15-22. Л.О. Пастернаку [1023]
Многоуважаемый г<осподин> Пастернак,
Не откажите в любезности переслать это письмо Вашему сыну. Я бы никогда не решилась беспокоить Вас такой просьбой, если бы не указание в письме самого Бориса Леонидовича. С совершенным уважением
M. Цветаева.Берлин, 29-го нов<ого> июня 1922 г.
Впервые — НП. стр. 251.СС-6. стр. 294. Печ. по СС-6.
16-22. А.Г. Вишняку
30-го нов<ого> июня 1922 г., ночь [1024]
Мой дорогой друг!— Ибо сейчас обращаюсь к другу. —
Мой дорогой друг! — Хотите правду о себе, которой Вы от любящей никогда не услышите? Мы сейчас сидели за столиком, Вы слушали стихи, и музыку, и меня. Сейчас я дома и одна и думаю и первая мысль: это человек ПРЕЖДЕ ВСЕГО — наслаждения. О, не думайте: я беру это слово во всей его тяжести, и оттого что я его та́к беру — мне почти что больно (ибо это — неизлечимо).
Не наслаждение: женщины, вино и прочее простое, а: дерево, музыка, свет. Всё доходит, но исключительно через шкуру, точно души никогда и не было. (Ваша шкура — медиум). Всё Вас гладит, всё по Вас — как ладонь. Мне любопытно: ЧЕМ Вы слушаете Бетховена?
(Не говорите: не люблю, боюсь слишком явной расщелины, ибо бетховенское: Durch Leideen — Freuden [1025] — мое первое и последнее на земле и на не-земле!)
Ладонь — люблю, вся жизнь — в ладони. Но поймите меня! Нельзя — только ладонь.
Стихи Вы любите — даже не как цветы: как духи. Разрывается у Вас от них душа? Боль, — что она в Вашей жизни? (В моей — ВСЁ.)
Мой родной! Если бы это окончательно было так — и завтра! — я бы нынче не тянулась к Вам как тянусь. Я хочу для Вас страдания, но не грубого, как те явные чудеса, не поленом по голове бьющего (ибо тогда человек тупеет: обрубок, бык), а такого: по жилам как по стру́нам. Как смычок. И чтобы Вы за этот смычок — отдали последнюю душу! — Чтоб Вы умели жить в нем, поселились в нем, чтоб Вы дали ему в себе волю, чтоб Вы не разделывались с ним в два счета: «больно — не хочу».
Чтобы Вы, сплошная кожа, в какие-то часы жизни стояли — без кожи.
Я не хочу, чтобы Вы — такой — такой — такой — в искусстве, миновали что бы то ни было «потому что тяжело». Вы не любите (НЕ ХОТИТЕ) Достоевского и Вам чужд Врубель — пусть это будет сила в Вас, а не слабость, преодоление через знание, а не закрывание глаз. Я не хочу Вас слабым, потому что не смогу Вас любить.
Будьте слабым в личных проявлениях, в маленьких пристрастиях, но не переносите этого на большое, слабости не терпящее. Вспомните, что эпикурейцы из всех искусств жизни лучше всего умели: УМИРАТЬ. Эпикурейство обязывает.
Будьте
_____Это слово случайно осталось последним. Прервала жизнь. Это слово не случайно осталось последним.
_____Я Вас бесконечно (по линии отвеса, ибо иначе Вы этого принять не можете, не вдоль времени, а вглубь не-времени) — бесконечно, Вы мне дали так много: всю земную нежность, всю возможность нежности во мне, Вы мой человеческий дом на земле, сделайте та́к чтобы Ваша грудная клетка (дорогая!) меня вынесла, — нет! — чтобы мне было просторно в ней, РАССШИРЬТЕ ее — не ради меня: случайности, а ради того, что через меня в Вас рвется.
_____Беру тебя за головочку (я стою́, ты выше меня, тянусь) смотрю на <под строкой: в> тебя, потом, не отпуская рук, сама подставляю голову. И потом, чуть запрокинув: на́.
Возьми меня с собой спать, в самый сонный сон, я буду лежать очень тихо: только сердце (которое у меня — очень громкое!). Слушай, я непременно хочу проспать с тобой целую ночь — как хочешь! — иначе это будет жечь меня (тоска по тебе, спящем) до самой моей смерти. Ты ведь знаешь, что́ мне здесь важно.
_____Поцелуй за меня мою вторую мечту.
М.Впервые — HCT. стр. 99–101. Печ. по тексту первой публикации.
17-22. А.Г. Вишняку
2-го нов<ого> июля 1922 г., ночь [1026]
Милый друг!
Как Вы похожи на Ваше письмо! (Читала его более внимательно, чем Вы — писали.) — Линия наименьшего сопротивления.
Мне нравится Ваше письмо, перечитывала его за два дня — четыре раза (часы, конечно, знаете).
Я бы одно только хотела знать: для меня ли Вы его писали, или для себе, или Вы в письме плывете: не гребя, на спине. Как это у Вас еще хватило сил держать перо? (Не силы — действенности!)
Некоторые места, которых сразу не поняла (почерка), так и остались темными. Косноязычия в письме нет, оно плавное: слово за словом. А Вы уже вообразили, что тонете в море?
Вы любите слова, Вы к ним нежны и они к Вам благодарны: льнут. Во мне, думаю, Вы любите главным образом слово, через слово и душу. Бывает, что через душу — слово. Я бы предпочитала единовременность и единоглавенство (хорошее слово? — выдумала — и по Вашему поводу! Подарите мне за него мундштук — только не белый. А свой вчера сходя с автомобиля — каталась с Белым — потеряла {139} [1027]. Непременно подарите! — Список растет.)
Вчера я с иронической рыцарственностью Вас защищала, это меня услаждало, гладило по́ сердцу, хотя и знаю, что:
…за добрые дела Лозен, не любят! [1028]Кстати, кажется продаю Фортуну Гике [1029].
Есть нежные слова в Вашем письме, тоже гладящие по́ сердцу, по всему верху груди́ — ладонью. С таким письмом хорошо спать. — Спасибо.
По Вас не скучаю — пока, но (знаю себя) через три дня бы заскучала. Потом — Вы дома, очень думать о Вас значило бы — и Вас заставлять думать, т.е. и́з дому — уводить (не самомнение, первая гадалка скажет!) а я против даже самого нежного насилия.
А если сами думаете обо мне — Вам меня уводить не приходится.
Хочу Ваших писем. Продолжайте. Письмо — испытание.
«…нежность на исходе» (от растраты). Это чудесно и правильно. И, смотрите: от «на исходе» — неизбывность, чем больше даешь, тем больше остается, закон правильный даже в мире внешнем. (Я, напр<имер>, раздающая НАПРАВО и НАЛЕВО — в самом злободневном — партийном — смысле! — стихи из Ремесла (NB! ВАШЕГО) и отчаивающаяся когда-либо до конца избыть.) Я бы хотела прочесть Ваши стихи. — Дадите? — Прочту внимательно и скажу правду. (Оттого, верно, и не́ дал! 1932 г.)
_____Вы, конечно, из лени, не напишите мне ни строчки, Вы вроде Али, которую нужно соблазнять неграми или хватать за загривок: пиши! Днем — море, вечером — сон.
Когда я уеду — и вот, не знаю, что́ дальше. Вижу себя, глядящую — согласно Вашему определению — вполоборота, через плечо, но не на Вас: на себя — эту.
______Моя нежность! Завтра или послезавтра спрошу Вас, что́ в точности Вы делали во втором часу ночи, нынче, в воскресенье.
Помню Ваши утренние волосы: кудрявые, и дневные: проборные, и ночные: лохматые, — самые милые! И всю Вашу небрежную (не бережете!) нежность. Но слишком думать о Вас нельзя.
_____Спокойной ночи. — Если Вам сейчас снится хороший сон — то, конечно, моей милостью.
Впервые — HCT. стр. 101–103. Печ. по тексту первой публикации.
Поздняя приписка: <Поперек страницы, перед началом письма:> NB! Думаю, что между 30 т<ым> нов<ого> июня и 2ым нов<ого> июля — либо письмо Б<ориса> П<астернака>, либо письмо к Б<орису> П<астернаку>, либо усиление дружбы с Белым. Слишком явный — солнцеворот (от корреспондента!). — Проверить. — (1932 г.).
18-22. А.С.Ященко
Берлин, 6-го июля 1922 г.
Многоуважаемый г<осподин> Ященко!
(Простите, забыла отчество)
Не нужна ли Вам для Вашей Книги статья о Пастернаке (о его книге стихов «Сестра моя — Жизнь») [1030] — Только что кончила, приблизительно ½ печатн<ых> листа. Сократить, говорю наперед, никак не могу.
Если она Вам окажется нужна, ответьте, пожалуйста, на три следующие вопроса:
1) КОГДА ПОЙДЕТ? (Мне важно, чтобы поскорее, чтобы моя рецензия была первой)
2) МОГУ ЛИ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОЛНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ТЕКСТА?
3) СМОГУ ЛИ Я, ХОТЯ БЫ У ВАС, В РЕДАКЦИИ, ПРОДЕРЖАТЬ КОРРЕКТУРУ? (Абсолютно важно!)
4) ПЛАТИТЕ ЛИ, И ЕСЛИ ПЛАТИТЕ, СКОЛЬКО?
(И сразу ли?) —
_____Будьте милы, ответьте мне поскорей, это моя первая статья в жизни — и боевая. Не хочу, чтобы она лежала.
Было бы мило, если бы ко мне прислали с ответом Гуля [1031]. Я его очень люблю.
И напишите мне свое имя и отчество.
Привет.
M Цветаева.Trautenaustrasse, 9
Pension «Haus Trautenau».
Я свою автобиографию [1032] пишу через других, т.е. как другие себя, могу любить исключительно другого.
Впервые — в кн.: Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921–1923. стр. 157–158. СС-6. стр. 220. Печ. по СС-6
19-22. А.Г. Вишняку
9-го нового июля 1922 г., ночь
— Письмо девятое, последнее — Мой родной,Сегодня наши мысли врозь, Вы берете в сон — другую, я — целое небо.
От стихов (напряжения) мне страшно захотелось спать, я ждала Ваших шагов, мне не хотелось, чтобы я когда-нибудь — в будущем — смогла сказать себе, что хоть раз пропустила Вас по своей вине, я взяла подушку и легла — головой в дверях балкона. Подымаю глаза: две створки двери — и всё небо. Шагов было много, я скоро перестала слушать, где-то играла музыка, я вдруг почувствовала свою низость (всех годо́в и последних дней!) я знаю, что я не такая, — это только потому, что я пытаюсь — жить.
Жить — это кроить и неустанно кривить и неустанно гнуться и уступать — и не одна вещь не стоит (да и не сто́ит! простите эту грустную, серьезную игру слов) всё на мягких ногах, как тот идол, а когда хочешь выправить (не жить — быть!) — весь хребет трещит, разрыв (не с человеком, — только души!).
Мой родной, я совсем не знаю, доходит ли. Я еще полна этим пустым небом. Оно плыло́, я лежала неподвижно, я знала, что я, лежащая, пройду, а оно, плывущее, останется. (Небо плывет вечно и безостановочно: с тех пор как земля и раньше чем земля, а я — всё прохожу: вечно и безостановочно. Я — это все те которые так лежали и смотрели, лежат и смотрят, будут лежать и смотреть: видите — я тоже бессмертно!).
И вспомнила утро: недоуменно, вне негодования. Это просто была не я. Разве я — могу кроить и рассчитывать. Нет, это жизнь за меня старается. Я могу — да́ — рваться (как ребенок: к тебе) — разрываться — но дальше!.. Все исхищрения, все лоскутья (урезки!) — как не завести рук за спину?
Разве нужно — в таком осуществлении — такой ценой?
Друг, должно быть небо — и для любви.
Знайте, не раскаяние и не угрызение, ни от чего не отказываюсь, пока под веками и на пороге губ.
Простите меня за мои сегодняшние слова и помыслы, я была не в уме.
Друг, Вы сегодня не пришли, потому что писали письма, мне уже не больно от таких вещей — приучили — (Вы — и все, Вы ведь тоже «бессмертны»! — как та лежащая: глядящая я) — когда Вы когда-нибудь, на досуге перечтете мои записные книжки — не только ради формулы и анекдота — когда Вы иначе, меня живую ища, перечтете — Вы за́ново увидите нашу встречу. Думаю, в жизни со мной поступали обычно, а я чувствовала необычно, поэтому никого не сужу. От Вас как от близкого я видела много боли, как от чужого — только доброту, никогда не чувствовала Вас ни тем, ни другим, боролась в себе за каждого — значит: против каждого.
Это скоро кончится — чую уйдет назад, под веки, за губы — Вы ничего не потеряете, стихи останутся. Жизнь прекрасно разрешит задачу, Вам не придется стоять распятием (да простит мне Бог и Ваше чувство меры — непомерность сравнения!).
Родной! Вне милых бренностей: ревностей, нежностей, верностей, — вот та́к, под пустым небом: Вы мне дороги. Но мне с Вами просто нечем было дышать.
Я знаю, что в большие часы жизни (когда Вам станет дышать нечем, как зверю задохнувшемся в собственном меху) — минуя мужские дружбы, женские любови и семейные святыни — придете ко мне. По свою бессмертную душу.
А теперь — спокойной ночи.
Видите, небо рознит меня не с Вами, только <фраза не окончена>
Целую Вашу черную головочку.
М.Впервые — НСТ. стр. 103–104. Печатается по тексту первой публикации.
31 июля 1922 г. Цветаева с дочерью уехала из Берлина в Прагу. А.Г. Вишняк провожал их. На вокзале Цветаева передала ему письмо, остающееся неизвестным.
20-22. Л.Е. Чириковой
Мокрые Псы, 4-го нов<ого> авг<уста> 1922 г.
Дорогая Людмила Евгеньевна!
Пока — два слова. Еще не устроились, живем в Мокрых Псах, в чужой комнате. Нынче переезжаем к леснику. Это очень высоко, совсем в горах, в солнечную погоду будет прекрасно.
Людей — никого.
Я всегда радуюсь новому, буду играть (сама с собой и сама для себя) — лесную сказку с людоедом-лесником и ручными ланями.
_____Ваших видела два раза. Вы не похожи ни на сестру, ни на брата, Вы старше (внутренно), более выявлены [1033].
Ходили с Вашим братом нынче к леснику (С<ережа> боялся), а вчера вечером были у них в гостях и я съела все вишни из-под наливки.
Эти деньги — мой немецкий остаток, постепенно перешлю Вам все, если можно — купите мне в Salamander {140} Bergschuhe {141}, 38 номер. (Желтые, грубоватые, довольно низкий каблук) [1034].
Пусть они будут у Вас, с С<ережи>ными. И — покорнейшая просьба — обменяйте там же С<ереж>ины башмаки на 45 номер, в 46-ом он утонет. Словом, возьмите на номер меньше, той же формы.
Простите за поручение, больше не буду утруждать. Целую нежно. Пишите на С<ережу>: Praha VIII, Libeň Swobodarna, Herrn Sergius Efron (для меня) [1035].
Долг (чешскими) перешлю на днях.
МЦ.<Приписка на полях:>
Если есть деньги, купите мне башмаки (Bergschuhe, с языком!) сразу, сколько бы ни стоили. Деньги (герм<анские>) перешлю в течение недели.
Впервые — Новый журнал. 1976. № 124. стр. 144. СС-6. стр. 301–302. Печ. по СС-6.
21-22. Л.Е. Чириковой
Прага, 16-го августа 1922 г.
Дорогая Людмила Евгеньевна!
Посылаю Вам наконец 25 крон долгу, ради Бога простите за задержку [1036].
Посылаю Вам одновременно доверенность на получение с Каплуна остающихся 5 тыс<яч> за «Царь-Девицу» [1037]. — Выцарапайте, ибо еще через месяц они уж ничего не будут стоить [1038]. На эти деньги (5 т<ысяч> 600, с пересланными) купите мне, если возможно, вязаное платье и Bergschuhe, коричневые, как у Вас, с языком, № 38. Платье покупайте по возможности темное, хорошо бы без немецкой тальи, мерьте на себя.
И — чтобы уж окончательно Вас убить — возьмите из красильни (Trautenaustr<aße> [1039], с правой стороны, не доходя Prager Platz'a) мое корич<невое> платье из краски, деньги (220 м<арок>) я Вам оставила.
А Сережины башмаки (№ 45 вместо 46-го) будут последним комом земли на Вашу могилу.
_____Всё еще живем с Алей у лесника. Часто видаю Ваших, как-то в грозу ночевала с Валентиной Евгеньевной, говорили до позднего часа. Мечтаем с ней на Рождество поехать в Вену [1040].
Аля худеет и хорошеет, играет с детьми лесника и огромной лягавой {142} собакой, «Löwe».
Тихо и верно обзавожусь сковородками и кастрюльками: чешские Kneblich'и [1041] (сырое тесто, на всякий случай если Вы забыли) — чудовищны.
Сережа больше в Праге, ищем две комнаты поближе к городу. Здесь страшные грозы и грозные (от грязи) дороги.
Адр<ес>для писем:
Prag Praha VIII
Libeň Swobodarna
Herr S. Efron (для М.Ц.)
Целую Вас нежно. Гор Вам не простила.
МЦ.Впервые — Письма к Л.Е. Чириковой-Шнитниковой. стр. 8–9. Печ. по тексту первой публикации.
22-22. Л.Е. Чириковой
Чехия, у лесника, кажется 21-го августа 1922 г.
Дорогая Людмила Евгеньевна!
Спасибо за прелестное письмо: веселилась, а под конец задумалась.
Жизнь очень жестока, помню это каждый день и час, а когда забываю — напоминает обухом по голове (Хотя я не бык.)
Мне нравится в Вас, что Вы, внешне очень женственная, с душой своей обращаетесь круто, хотела сказать: по-мужски, — но — зачем льстить за глаза?! (Не Вам, конечно, а мужчинам. — И слово поганое)!
Дружочек, нежно Вас люблю, уже уезжая из Берлина говорила — не Вам — что с Вами в Чехии мне было бы гораздо радостнее. Мы бы с Вами лазили по всем этим кручам, коверкали бы чешский [1042], слушали бы их заунывные плясовые (похоронные!), — вообще бы веселились.
С<ережа>, приезжая, или спит или учит чешский, Аля гоняет собак, у меня нет спутника.
Главная радость — писание. Пишу большую сказку, жуткую и чудную [1043]. Но много времени уходит на готовку: готовлю на спиртовке, всё время выгорает, целый день перемываем всё те же три миски и три кастрюли, — нет воды, каждая капля на учете — к вечеру без головы. Не рассказывайте этого никому: будут злорадствовать. Всё дело, конечно, в деньгах, мне скоро 30 лет и я в первый раз в жизни задумалась над деньгами: насколько проще!
С<ережа> ищет 2 комнаты: в одной невозможно: я не могу не писать вслух, и ему трудно. Сегодня они с Алей принесло мне ВЕДРО поганок, которые заставили изжарить и которые потом отказались есть. — Я неистовствовала. —
Радуюсь «Царь-Девице». — Как наш дорогой Каплун? Согласен ли платить?
Целую Вас нежно. Поцелуйте Александру Владимировну [1044]. И непременно пойдите с Геликоном [1045] (Bambergerstr<aße>, 7 — недалёко!) в Луна-Парк [1046]. — Это моё завещание.
МЦ.<На полях:>
Геликону я об этом уже написала. Когда увидитесь, напомните ему, что я жду от него Библию [1047].
Впервые — Письма к Л.Е. Чириковой-Шитниковой. стр. 9–10. Печ. по тексту первой публикации.
23-22. П.Б. Струве
21-го сентября 1922 г.
Многоуважаемый Петр Бернардович [1048],
Месяца два тому назад мною были переданы в Редакцию «Русской Мысли» стихи [1049]. Хотела бы знать о их судьбе и, если они приняты, получить гонорар. В «Воле России» я получала 2 кр<оны за> строчку.
Одно стихотворение, как я уже говорила Вашему сыну, отпадает, ибо было напечатано Эренбургом в «Портретах русских поэтов» [1050]. («Ох грибок ты мой, грибочек…») Могу, если нужно, заменить его другим.
Податель сего письма, мой добрый знакомый Виталий Васильевич Зуев, живущий так же как и я, во Вшенорах, любезно взялся зайти в Редакцию. — Я в городе бываю редко и, к сожалению, всё в Ваши неурочные часы. Глеб Петрович [1051] предупреждал меня, что Вы очень заняты.
Прошу передать ответ и — если полагается — гонорар вышеназванному моему знакомому.
Простите за беспокойство. Шлю привет. — Когда-нибудь, надеюсь, познакомимся лично.
Марина ЦветаеваВпервые — ВРХД. 1991. № 162/163. стр. 265 (публ. М. Ракович). СС-6. стр. 311. Печ. по СС-6.
24-22. Л.Е. Чириковой
Мокропсы, 7-го нового Октября 1922 г.
Дорогая Людмила Евгеньевна!
Давно Вам не писала и давно Вы мне не писали. Видела после приезда Валентину Евгеньевну: поправилась и похорошела [1052]. Застала ее. склоненной над огромным чайником, к<оторый> никак не хотел вскипеть. Теперь все Ваши уже кажется на новой квартире.
А мы уж опять в новой комнате, — 3-ьей за 2 месяца! Живем у лавочника по фамилии Соска, в чердачном узилище, за к<отор>ое платим 300 крон. Сережа сдал экзамены и переехал к нам, но деревенские радости сейчас сомнительны: дожди, дожди, дожди, не дороги — потоки! Не потоки, — потопы! Калош нет. В 5 ч<асов> темно. Топим печку. Готовим. Нищенствуем. Иждивение мое урезали на сто крон и совсем хотели выбросить. Ваш отец героически отстаивает [1053].
С отъезда из Берлина не заработала ни кроны: с глаз долой — из сердца вон! Мой друг Геликон на 2 моих деловых письма не отвечает ни строки [1054].
Милая Людмила Евгеньевна, обращаюсь к Вам с просьбой: не могли ли бы Вы куда-нибудь пристроить мои новые стихи? Может быть Сполохи [1055] возьмут? (Но так, чтоб заплатили: СЛАВЫ мне не нужно! Стара!) Понаведайтесь, тогда пришлю. Ибо положение наше плачевно. — Только не разглашайте! —
О всей этой длинной, грязной, невылазной зиме думаю с кротким ужасом. О Праге и думать нечего: комнат совсем нет. Утешаюсь только стихами.
В<алентина> Е<вгеньевна> передавала, что Каплун уже извещен о «номере» с Ц<арь>-Дев<ицей> [1056]. — Напишите подробно: очень ли зол и окончательно ли безнадежны те последние 5 тыс<яч>? И что с корректурой? Почему не шлет? Он тоже не ответил на письмо. Пишите о себе. Вспоминаю Вас с нежностью. Если увидите А<лександру> В<ладимировну> [1057] передайте ей мой горячий привет. — Хорош ли Берлин осенью? Пишите. Целую.
МЦ<На полях:>
Аля худеет и худеет, — половина берлинской!
Сережа окончательно стал привидением: экз<амены> извели! Шлет Вам самый нежный привет. Аля целует.
Впервые — Письма к Л.Е. Чириковой-Шнитниковой. стр. 10–11. Печ. по тексту первой публикации.
25-22. Л.Е. Чириковой
Мокропсы, 16-го нов<ого> Октября 1922 г.
Дорогая Людмила Евгеньевна,
Будьте моим спасательным кругом: пойдите с этим письмом к Абраму Григорьевичу Вишняку, передайте ему его в руки, настойте, чтобы прочел при Вас и добейтесь ответа.
(Письмо прочтите!)
Адр<ес> его: Bambergerstr<aße> 7, угловой дом с Pragerstr<aße>, на окне огромная вывеска — Геликон — сразу в глаза бросается.
Бывает он в из<дательст>ве, по-моему, около 12½ дня, а потом вечером, от 5-ти до 6-ти. — Так, по крайней мере, бывал раньше.
К сожалению, забыла № его телеф<она>, а то можно было бы позвонить, чтоб не ходить даром. Но лучше, чтобы какой-н<и>б<удь> мужчина позвонил, если Вы назовете себя, он сразу свяжет со мной.
Письма ни за что в из<дательст>ве не оставляйте: важно, чтобы оно было передано ему в руки.
_____Все это очень конспирационно, когда-нибудь, при встрече, объясню. Будьте милы, но тверды. Можете, между прочим, вскользь бросить, что может быть скоро сама буду в Берлине (не собираюсь — исключительно на предмет устрашения!) — но что не наверное — и что рукописи убедительно прошу переслать.
Ради Бога, не перепутайте писем и не дайте ему, вместо его — своего!
Получили ли Вы мое последнее письмо? Вы кажется тогда были в Гамбурге.
Очень ли свирепствует Каплун? Напишите подробно! — Что с Царь-Девицей?
Скоро напишу еще.
Целую нежно.
МЦ.Обставить можно очень изящно: «М<арина> И<вановна> знает, как Вы заняты, и боится, что за другими делами опять не удосужитесь ей ответить…» и т.д.
Опишите всю встречу подробно!
_____Между его трогательными проводами тогда — помните? — и теперешним поведением (упорное молчание на деловые письма) не лежит ничего.
Я, по крайней мере, не оповещена. — Догадываюсь. — Это жест страуса {143}, прячущего голову — и, главное ОТ МЕНЯ, к<отор>ая от высокомерия так — всегда — всё — наперед прощает!
Впервые — Русская мысль. Париж. 1991. 10 мая (публ. Л.А. Мнухина) СС-6 стр. 302–303. Печ. по СС-6.
26-22. A.A. Тесковой
Мокропсы, 2/15-го ноября 1922 г.
Милостивая государыня,
Простите, что отвечаю Вам так поздно, но письмо Ваше от 2-го ноября получила только вчера — 14-го.
Выступать на вечере 21-го ноября я согласна [1058]. Хотелось бы знать программу вечера.
С уважением
Марина ЦветаеваАдр<ес>: Praha VIII
Libeň Swobodárna
M<onsieu>r Serge Efron (для М<арины>Ц<ветаевой>) [1059]
Впервые — Цветаева M. Письма к А. Тесковой. Прага: Academia, 1969. (публ. В. Морковина). Письма напечатаны с купюрами, составившими почти треть издания. СС-6. стр. 334. Печ. по кн.: Письма к Анне Тесковой. стр. 13.
27-22. Л.Е. Чириковой
Мокропсы, 3-го нов<ого> ноября, 1922 г.
Моя дорогая Людмила Евгеньевна,
Бесконечное спасибо за всё, — вчера прибыли первые геликоновы грехи: книжка Ахматовой — и покаянное письмо [1060].
Глубоко убеждена, что я в этом покаянии не при чем. — Вы были тем жезлом Аарона(?) [1061], благодаря коему эта сомнительная скала выпустила эту сомнительную слезу.
— В общем: крокодил. А впрочем — чорт с ним!
Вы мне очень помогли, у меня теперь будут на руках мои прежние стихи, к<отор>ые всем нравятся.
С новыми (сивиллиными словами) я бы пропала: никому не нужны, ибо написаны с того брега: с неба!
_____Давайте говорить о Вас.
Вы уезжаете [1062]. — Рукоплещу. — Но есть два уезда: от — и: к. Предпочла бы первое: это благородный жест: женщина как я ее люблю. Не отъезд: отлет.
Если же к — или: с — что ж, и это надо, хотя бы для того, чтобы потом трижды отречься, отрясти прах.
Душа от всего растет, больше всего же — от потерь.
Вы — настоящий человек, к тому же — юный, я с первой встречи любовалась этим соединением, люди ошибаются, когда что-либо в человеке объясняют возрастом: человек рождается ВЕСЬ! Заметьте, до чего мы в самом раннем возрасте и — через года и года! — одинаковы, любим все то же. Какая-то непреходящая невинность.
Но люди замутняют, любовь замутняет, в 20 л<ет> думаешь: новая душа проснулась! — нет, просто старая праматерина Евина плоть. А потом это проходит, и в 60 л<ет> ты под небом всё тот же — всё та же — что в 6 л<ет>. (Мне сейчас — 600!)
Так или иначе, от кого бы и к кому бы (от чего бы и к чему бы, п<отому> ч<то> Ваша судьба в чувствах, а не в людях!) — от чего бы и к чему бы Вы не ехали — Вы едете в свою же душу (Ваши события — все внутри), кроме того в вечный город, та́к много видевший и поглотивший, что поневоле все остро-личное стихнет, преобразится.
У Вас будет Сэна, мосты над ней, туманы над ней: века над ней. Tombeau des Invalides {144}, — Господи: Версаль в будни, когда никого нет. Версаль с аллеями, с прудами, с Людовиками!
Я жила в Париже, — давно, 16-ти лет, жила одна, сурово, — это был скорей сон о Париже, чем Париж. (Как вся моя жизнь — сон о жизни, а не жизнь!)
Пойдите в мою память на Rue Bonaparte, я там жила: 59-bis. Жилище выбрала по названию улицы, ибо тогда (впрочем, это никогда не пройдет!) больше всех и всего любила Наполеона.
Rue Bonaparte — прелестная: католическая и монархическая (légitimiste!) {145} — в каждом доме антикварная лавка.
Хорошо бы, если бы Вы там поселились: по плану — между площадями St. Germain des Prés и St. Germain d'Auxerrois, на самой Сэне, — Латинский квартал.
И, что особенно должно привлечь Вас — в каждом окошке по 110-летнему старику и 99-тилетней старушке.
Впервые — Новый журнал. 1976. № 124. С. 144–146. СС-6. стр. 303–304. Печ. по СС-6.
28-22. П.П. Сувчинскому
Милый Петр Петрович [1063],
— Мы с Вами немножко знакомы. — Обращаюсь к Вам с просьбой: сообщите, пожалуйста, адрес Ильина [1064] — Сергею Михайловичу Волконскому. Он его тщетно разыскивает всюду.
Адр<ес> кн<язя> Волконского:
Paris B<oulevar>d des Invalides
Rue Duroc, 2.
Простите, что так мало Вас зная — уже прошу, но мне о Вас много рассказывал Чабров [1065]. Шлю Вам привет.
Скоро выйдут две моих новых книги: «Царь-Девица» и «Ремесло». — Тогда пришлю.
Марина Цветаева5-го но<вого> ноября
Прага, 1922 г.
<Приписка на лицевой стороне открытки:>
Здесь я живу и буду жить всю зиму. — Последний дом в деревне —
«Как одинок последний дом в деревне, — Как будто он — последний в мире дом!» [1066] (Rilke)Впервые — Revue des Études slaves. Paris. 1992. XIV/2. стр. 184 (публ. Ю. Клюкина, В. Козового и Л. Мнухина). СС-6. стр. 314. Печ. по СС-6.
29-22. Б.Л. Пастернаку
Мокропсы, 19 нов<ого> ноября 1922 г. [1067]
Мой дорогой Пастернак!
Мой любимый вид общения — потусторонний: сон: видеть во сне.
А второе — переписка. Письмо как некий вид потустороннего общения, менее совершенное, нежели сон, но законы те же.
Ни то, ни другое — не по заказу: снится и пишется не когда нам хочется, а когда хочется письму — быть написанным, сну — быть увиденным. (Мои письма — всегда хотят быть написанными!)
Поэтому — с самого начала: никогда не грызите себя (хотя бы самым легким грызением!), если не ответите, и ни о какой благодарности не говорите, всякое большое чувство — самоцель.
Ваше письмо я получила нынче в 6½ час<ов> утра, и вот в какой сон Вы попали. — Дарю Вам его. — Я иду по каким-то узким мосткам. — Константинополь. — За мной — девочка в длинном платье, маленькая. Я знаю, что она не отстанет и что ведет — она. Но так как она маленькая — она не поспевает, и я беру ее на руки: через мою левую руку — полосатый шелковый поток: платье.
Лесенка: подымаемся. (Я, во сне: хорошая примета, а девочка — диво, дивиться.) Полосатые койки на сваях, внизу — черная вода. Девочка с бешеными глазами, но зла мне не сделает. Она меня любит, хотя послана не затем. И я, во сне: «Укрощаю кротостью!»
И — Ваше письмо. Мне привез его муж из Свободарни [1068] (русское студенческое общежитие в Праге). Они вчера справляли годовщину — ночь напролет — и муж приехал с первым утренним поездом.
И то́ письмо [1069] я получила та́к. Раз — случайность, два — подозрение на закон.
_____У Вас прекрасный почерк: го́ните версту! И версты — и гривы — и полозья! И вдруг — охлест вожжи!
Сломя голову — и головы не ломает!
Прекрасный, значительный, мужественный почерк. Сразу веришь.
Вашего письма я сначала не поняла: радость и сон затмевали, — ни слова! (Кстати, для меня слово — передача голоса, отнюдь не мысли, умысла!) Но голос слышала, потом рассвели (рассвет) слова, связь. — Я все поняла. —
Знаете, что осталось в памяти? Ледяной откос — почти отвес — под заревом (Ваше бессмертие!) — и голова в руках, — уроненная.
Теперь слушайте очень внимательно: я знала очень многих поэтов, встречалась, сидела, говорила, и, расставаясь, более или менее знала (догадывалась) — жизнь каждого из них, когда меня нет. Ну, пишет, ну, ходит, ну, (в Москве) идет за пайком, ну, (в Берлине) идет в кафе и т.д.
А с Вами — удивительная вещь: я не мыслю себе Вашего дня. (А сколько Вы их прожили — и каждый жили, час за часом!) Вы у меня в жизни не умещаетесь, очевидно — простите за смелость! — не в ней / Вы в ней не / не Вы в ней живете, Вас нужно искать, следить где-то еще. И не потому, что Вы — поэт и «ирреальны», — и Белый поэт, и Белый «ирреален», — нет: не перекликается ли это с тем, что Вы пишете о дельтах, о прерывности Вашего бытия. Это, очевидно, настолько сильно, что я, не зная, перенесла это на быт. Вы точно вместо себя посылаете в жизнь свою тень, давая ей все полномочия.
_____«Слова на сон» [1070]. Тогда было лето, и у меня был свой балкон в Берлине. Камень, жара, Ваша земная книга на коленях. (Сидела на полу.) — Я тогда десять дней жила ею, — как на высоком гребне волны: поддалась (послушалась) и не захлебнулась, хватило дыхания ровно на то восьмистишие, которое — я так счастлива — Вам понравилось. —
От одной строки у меня до сих пор падает сердце.
_____Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча — над. — Закинутые лбы! —
Но сейчас расстаются на слишком долго, поэтому хочу — ясно и трезво: на сколько приехали, когда едете. Не скрою, что рада была бы посидеть с Вами где-нибудь в Богом забытом (вспомянутом) захудалом кафе, в дождь. — Локоть и лоб. — Рада была бы и увидеть Маяковского. Он, очевидно, ведет себя ужасно, — и я была бы в труднейшем положении в Берлине. — Может быть, и буду. —
Как встретились с Эренбургом? Мы с ним раздружились, но я его нежно люблю и, памятуя его великую любовь к Вам, хотела бы, чтобы встреча была хорошая.
Лучшее мое воспоминание из жизни в Берлине (два месяца) — это Ваша книга и Белый. С Белым я, будучи знакома почти с детства, по-настоящему подружилась только этим летом. Он жил, как дух: ел овсянку, которую ему подавала хозяйка, и уходил в поля. Там он мне, однажды, на закате чудно рассказывал про Блока. — Так это у меня и осталось. — Жил он, кстати, в поселке гробовщиков и, не зная этого, невинно удивлялся: почему все мужчины в цилиндрах, а все дамы с венками на животах и в черных перчатках [1071].
_____Я живу в Чехии (близь Праги), в Мокропсах, в деревенской хате. Последний дом в деревне. Под горой ручей — таскаю воду. Треть дня уходит на топку огромной кафельной печки. Жизнь мало чем отличается от московской, бытовая ее часть, — пожалуй, даже бедней! — но к стихам прибавились: семья и природа. Месяцами никого не вижу. Все утра пишу и хожу: здесь чудные горы.
Возьмите у Геликона (Вишняка) стихи, присланные в «Эпопею», это и есть моя жизнь [1072].
А Вам на прощание хочу переписать мой любимый стих, — тоже недавний, в Чехии:
Это пеплы сокровищ: Утрат, обид. Это пеплы, пред коими В прах — гранит. Голубь голый и светлый, Не живущий четой. Соломоновы пеплы Над великой тщетой. Беззакатного времени Грозный мел. Значит, Бог в мои двери — Раз дом сгорел! Не удушенный в хламе, Снам и дням господин, Как отвесное пламя Дух — из ранних седин! И не вы меня предали, Годы, в тыл! Эта седость — победа Бессмертных сил.Была бы счастлива, если бы прислали новые стихи. Для меня все — новые: знаю только «Сестру мою Жизнь».
А то, что Вы пишете о некоторых совпадениях, соответствиях, догадках — Господи, да ведь это же — не сшибанье лбом! Мой лоб, когда я писала о Вас, был закинут, — и естественно, что я Вас увидела.
М.Ц.Пастернак, у меня есть к Вам просьба: подарите мне на Рождество Библию: немецкую, непременно готическим шрифтом, не большую, но и не карманную: естественную. И надпишите. Тщетно вот уже 4 месяца выпрашиваю у Геликона!
Буду возить ее с собой всю жизнь.
Впервые — НП. стр. 271–276. Печ. по: Души начинают видеть. стр. 23–27. Вариант текста: HCT. стр. 148–150 (см. ниже письмо 29а-22.) и Души начинают видеть. стр. 22–23 (см. письмо 296-22).
29а-22. Б.Л. Пастернаку
<Ок. 19 ноября 1922 г.>
Мой любимый вид общения — потусторонний: сон. Письмо как некий вид потустороннего общения. Последнее, что я бы хотела удержать — голос. Письмо — не слова, а голос. (Слова мы подставляем!)
Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой — А <рисунок арки> В — чем выше — (дальше) — тем лучше: дольше. Совершенная встреча: А и В на одном уровне и разгон (ввысь) один и тот же: неизбежно встретятся. Здесь есть какой-то закон, наверное даже простой. Но тем не менее — захудалое, Богом заброшенное (вспомянутое!) — кафэ, — лучше в порту (хотите?), с деревянными залитыми столами, в дыму, — локти и лоб — Но я свои соблазны оставляю тоже в духе.
_____Сейчас расстаются на слишком долго, поэтому хочу — ясными и трезвыми словами — знать: насколько и когда. Потому что я — так или иначе — непременно приеду. Теперь признаюсь в одной своей дурной страсти: искушать людей (испытывать) непомерной своей правдивостью: небывалой: как внутри — так вовне, в точности. Соблазн правдой. — Кто вынесет? — Особенно если эта правда в данный час: Осанна! Я не умеряю своей души (только жизнь!). А так как душа — это никогда «я» а всегда «ты» (верней — то!) — то у партнёра или опускаются руки (трусливое «да ведь я не такой»), или земля ходит под ногами, — и тогда уже я на землю и ноги на мне. Принимаю и это.
Я знаю, что в жизни надо лгать. Но мои встречи не в жизни, а в духе, где уже всё победа. Моя вина — ошибка — грех, что стредства-то я беру из жизни. Так ведя встречу нужно просто молчать: ВСЁ внутри. Ведь человек не может вынести. «Я — не Бог!»
А потом меня обвиняют в <пропуск одного слова>. Это не забвение: Бог перестал брезжиться (прорываться!) сквозь тебя, ты темный, плотный, свет ушел — и я ушла.
К чему сейчас всё это говорю? А вот: Вы сейчас мой любимый русский поэт, и мне нисколько не стыдно сказать, что только для Вас и именно для Вас сяду в вагон и приеду. — Ездят же, чтобы купить себе пальто! — Вы не меньше пальто!
<Небольшой пробел в тетради>
Впечатление об его ирреальности: никогда не поверю, что Вы есть. Вы есть временами, потом Вас нет.
То, что Вы пишете о себе (русло, накл<онная> плоск<ость>) — правильно: <стрелка к концу предыдущего абзаца>
Вы — слушайте внимательно — как сон, в который возвращаешься (возвр<атные>, повт<орные> сны) — а где сон был, пока тебя не было. / Не сон: действующее лицо сна. Или как город: уезжаешь — и его нет, он будет, когда ты вернешься.
Пастернак — и сон, этого я еще не написала. Так — в жизни — я Вас не пойму, не охвачу, буду ошибаться, нужен другой подход — сонный. Разрешите вести встречу так: ПОВЕРЬТЕ, разрешите и отрешитесь.
Не думайте: мне всё важно в Вашей жизни: вплоть до нового костюма и денежных дел, я не занимаюсь лизанием сливок (с меня их всегда лизали: подыхай, живи как хочешь, будь прохвост<ом> — только пиши хорошие стихи!) но — пока я Вам в реальной жизни не нужна — будем жить в <пропуск одного слова>. А если бы — как пример — Вам нужно было бы приехать в Прагу, я бы узнала нынешнюю валюту и
<оборвано>
Впервые — Души начинают видеть. стр. 22–23. Печ. по тексту первой публикации.
29б-22. <Б.Л. Пастернаку>
…Мой любимый вид общения — потусторонний: сон. Я на полной свободе.
…Письмо не слова, а голос. (Слова мы подставляем.)
Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбами. Две глухие стены. (Брандмауэра, а за ними — Brand! {146} Та́к не проникнешь. Встреча должна быть аркой, еще лучше — радугой, где под каждым концом — клад. (Où l'are en ciel a posé son pied…) {147}
Но тем не менее — захудалое, Богом заброшенное (вспомянутое!) — кафэ, — лучше в порту (хотите? Nordsee!) {148}, с деревянными залитыми столами, в дыму, — локти и лоб —
Но я свои соблазны оставляю тоже в духе.
_____Сейчас расстаются на слишком долго, поэтому хочу — ясными и трезвыми словами — знать: на сколько — и когда. Потому что я — так или иначе — приеду. Теперь признаюсь Вам в одной своей дурной страсти: искушать людей (испытывать) непомерностью своей правдивости. Давать вещь та́к, как она во мне и во вне {149} — есть. Испытание правдой. — Кто вынесет? — Особенно если эта правда в данный час, — Осанна! Моя Осанна! Осанна моего данного (вечного) часа. Я не умеряю своей души (только — жизнь!). А так как душа — это никогда: я, всегда: ты (верней — то) — то у другого или руки опускаются (трусливое, хотя тоже правдивое: «да ведь я не такой») или земля ходит под ногами, а на земле — я́ и ноги по мне. Принимаю и это.
Я знаю, что в жизни надо лгать (скрывать, кроить, кривить). Что без кройки платья не выйдет. Что только устрашишь другого потоком ткани. Что в таком виде это не носко — и даже невыносимо. Но мои встречи не в жизни, вне жизни, и — горький опыт с первого дня сознания — в них я одна (как в детстве «играю одна»).
Потому что ни другому, ни жизни резать не даю. Моя вина — ошибка — грех, что средства-то я беру из жизни. Так ведя встречу нужно просто молчать: ВСЁ внутри. Ведь человек не может вынести. (Я бы могла, но я единственный из всех кого встретила — кто бы могла! Я всему большому о себе верю. Только ему. Нет — слишком большого!)
А потом меня обвиняют в жестокости. Это не жестокость. Свет перестал брезжиться (пробиваться) через тебя, через эту стену — тебя, ты темный, плотный, свет ушел — и я ушла.
К чему сейчас всё говорю? А вот. (Соблазн правдой!) — Вы сейчас мой любимый русский поэт, и мне нисколько не стыдно сказать Вам, что только для Вас и именно для Вас сяду в вагон и приеду. — Ездят же, чтобы купить себе пальто.
Никогда не поверю, что Вы есть. Вы есть временами, потом Вас нет (Ваше исчезновение на кладбище.)
То, что Вы пишете о себе (русло, наклон, плоскость) правильно. Вы — слушайте внимательно — как сон, в который возвращаешься (возвратные, повторные сны). Не сон, действующее лицо сна. — Или как город: уезжаешь — и его нет, он будет, когда ты вернешься.
Та́к, в жизни я Вас наверное не пойму, не соберу, буду ошибаться, нужен другой подход — разряд — сонный. Разрешите вести встречу та́к: поверьте! Разрешите и отрешитесь.
Не думайте: мне всё важно в Вашей жизни: вплоть до нового костюма и денежных дел — я ведь насквозь-сочувственна! и в житейских делах проще простого (родней родного!), быт — это ведь общий враг, в каждом костюмном деле мы — союзники! Я не занимаюсь лизанием сливок (с меня их всегда лизали: оставляя мне обездушенную сыворотку быта, топя меня в ней! Подыхай, т.е. живи как хочешь, будь прохвостом — только пиши хорошие стихи, а мы послушаем (полижем!)) но — пока я Вам (о чем очень, глубже, чем Вы думаете, горюю) в бытовой жизни не нужна — будем жить в внебытовой. Но если бы Вам — предположение — почему-либо понадобилось приехать в Прагу, я бы узнала нынешнюю валюту, и гостиницу — и всё чего не знаю.
Вариант письма 29а-22: HCT стр. 148–150.
Письму здесь предшествует запись: «Из письма к Б.П.
(NB! Обе черновые Мо́лодца приходятся посредине зеленой с черным тетради, т.е. тогда Б.П. еще не уехал.)»
30-22. Р.Б. Гулю
Мокропсы, 12-го нов<ого> декабря 1922 г.
Милый Гуль,
Простите, забыла Ваше отчество, непременно сообщите. Посылаю Вам три стиха: «Река» и два «Заводские», последние неделимы, непременно должны идти вместе, для Вашего «Железного века» они, очевидно, длинны, — берите «Реку» [1073]. Может быть во 2 номер бы вместились? Словом, смотрите сами. Очень бы мне хотелось, чтобы Вы пристроили их теперь же. У меня столько стихов разослано, — и в Польшу [1074], и в Париж, — все просят — а пошлешь — как в прорву: устала переписывать. Гонорар, если сумеете выцарапать таковой (а это куда трудней, по-моему, чем писать, переписывать, набирать, брошюровать и т.д.!) — передайте, пожалуйста, Глебу Струве [1075]: моя страстная мечта — немецкие Bergschuhe, и жена Струве [1076] была так мила, что обещала мне их купить, если будут деньги. Посылала на этот предмет и Глебу Струве стихи — для «Романтического Альманаха».
Простите, что так тяжеловесно вступаю в письмо (ибо письмо — путь!), помню, что одна из моих главенствующих страстей — ходьба — и Ваша страсть, поэтому надеюсь не только на Ваше прощение, но и сочувствие (Bergschuh'ам!).
— Дружочек, мне совсем не о гонорарах и сапогах хотелось бы Вам писать, мы с Вами мало дружили, но славно дружили, сапоги и гонорары — только для очистки моей деловой совести, чтобы ложась нынче в 3-ем или 4-ом часу в кровать (на сенной мешок, покрытый еще из сов<етской> России полосатой рванью!), я бы в 1001 раз не сказала себе: снова продала свою чечевичную похлебку (Bergschuhe!) за первенство (Лирику!).
Еще два слова о стихах. 1) Умоляю, правьте корректуру сами. 2) Будьте внимательны к знакам, особенно к тире — (разъединит<ельным> и — (соедин<ительным>). 3) В 1 стихотв<орении> «Заводские» — в строчке «В надышанную сирость чайной» — непременно вместо СИРОСТЬ напечатают СЫРОСТЬ, а это вздор. В 6-ом четверостишии третья строка перерублена:
Скончания. — Всем песням насыпь.Так и быть должно. Во втором стихотворении прошу проставить ударение: Трудноды́шащую, ё в слове ошмёт, Тот с большой буквы. Стихотворение «Река». В первой строчке 5-го четверостишия непременно ГОРНИЙ, а не ГОРНЫЙ. Потом, один раз: «в ГОРДЫЙ час трубы», другой раз: «в ГОЛЫЙ час трубы», чтоб не перепутали. Наконец, в этом же стихотворении (последняя стр<ока>, первое четверостишие) заклинаю: курсивом слова: ТОЙ… и: ТОТ. Оба подчеркнуты. И оба с маленькой буквы.
Предвосхищаю, поскольку могу, все опечатки. У меня очень ясно написано, но у меня роковая судьба.
_____Читала в Руле, что вышла моя «Царь-Девица» [1077]. Голубчик, не могли ли бы Вы деликатным образом заставить моего из<дате>ля Соломона Гитмановича Каплуна [1078] прислать мне авторские экз<емпляры>). Геликон [1079] мне давал 25, хорошо бы раньше узнать, сколько обычно дает Каплун («Эпоха»). Получив, тотчас же вышлю Вам, клянусь Богом, что между услугой, о к<отор>ой прошу, и обещанием — никакой связи, кроме внешней: подарю Вам также свое «Ремесло», когда выйдет (???) [1080], — я помню, как Вы тогда всем существом слушали стихи: так же, как я их писала.
_____О себе в этом письме не хочется писать ничего, напишу Вам отдельно. Скажу только, что кончаю большую вещь (в стихах), к<отор>ую страстно люблю и без к<отор>ой осиротею [1081]. Пишу ее три месяца. Стихи писала всего месяц — летом — потом обуздала себя и вот за три месяца ни одного стиха, иначе большая вещь не была бы написана. Не пишу Вам ее названия из чистого (любовного) суеверия. Пока последняя точка не будет поставлена —
Очень беспокоюсь о своем «Ремесле», Геликон молчит как гроб: не прогорел ли? Посылала ему стихи для «Эпопеи» — то же молчание [1082]. Вообще, у меня в Берлине, с отъездом Л.Е. Чириковой, нет друзей: никого.
Берлинских стихов сейчас печатать не буду: тошно! Это еще не переборотая слабость во мне: отвращение к стихам в связи с лицами (никогда с чувствами, ибо чувства — я!) — их вызвавшими. — Так что не сердитесь. Если Вам этот стих (с казармами) мил, пришлю Вам его в следующем письме, только не печатайте.
Прозы у меня сейчас готовой (переписанной) нет, есть записные книги (1917–1920 г.) не личного, но и не обществ<енного> характера: мысли, наблюдения, разговоры, револ<юционный> быт, — всякое. Геликон очень их просил у меня для отдельной книги. Напишите подробнее: какая проза? Куда? И верное ли дело? Тогда бы прислала, только не сейчас. — Шлю Вам привет, спасибо, что вспомнили. Пишите о себе: жизни и писаниях.
Сережа и Аля шлют привет.
МЦ.<Приписка на полях:>
Praha VIII
Libeň Swobodarna
M-r Serge Efron (для МЦ.)
Впервые — Новый журнал. 1959. № 58. стр. 169–171. СС-6. стр. 515–516. Печ. по СС-6.
31-22. Р.Б. Гулю
Мокропсы, 21-го нов<ого> дек<абря> 1922 г.
Дорогой Гуль,
Вот Вам Царь-Девица с 16-ью опечатками — и письмо к Каплуну. Если найдете возможным — передайте лично («с оказией», не говорите, что прислано на Ваше имя), если нет — отправьте почтой, непременно заказным, чтоб потом не отговаривался. Деньги на марку (ибо знаю, что их у Вас нет, ибо Вы порядочный человек) Вы может быть возьмете из гонорара за «Заводские» (если приняты).
Теперь, следующее: если Каплун наотрез откажется (письмо прочтите!) — нельзя ли будет поместить мой перечень опечаток в ближайшем № «Русской Книги». Можно — чтобы не ожидать Каплуна — 1) не упоминать из<дательст>ва, просто «Царь-Девица», 2) в крайнем случае — взять вину на себя: «книга шла без моей корректуры».
УЛОМАЙТЕ или УМОЛИТЕ Ященку!
Можно сделать и по-другому, по-ященковски: авт<обиогра>фия под углом опечаток, очень весело, — блистательно! Некий цветник бессмыслиц. (У меня — сокровищница, особенно из времен советских!) и кончить «Царь-Девицей» [1083].
Кстати, прочла во вчерашнем Руле отзыв Каменецкого [1084]: умилилась, но — не то! Барокко — русская речь — игрушка — талантливо — и ни слова о внутренней сути: судьбах, природах, героях, — точно ничего, кроме звону в ушах не осталось. — Досадно! —
Не ради русской речи же я писала!
Если знакомы с К<амене>цким — ему не передавайте, этот человек явно хотел мне добра, будьте другом и не поселите вражды.
_____Посылаю одновременно и книгу для Пастернака [1085], простите за хлопоты, — видите, как трудно со мной дружить!
Жду скорейшего ответа. Вы Ященку знаете, а я нет: вдруг он не только откажется, но еще и будет смеяться надо мной с Каплуном.
Тогда я буду посрамлена.
— Будьте осторожны. —
Милый Гуль, еще не поздно со мной раздружиться: это меня нисколько не обидит, а Вас, может, освободит от многой лишней возни, — пока я в Праге, а Вы в Берлине. (Простите за «я» на 1-ом месте, иначе фраза не звучит!)
Жму руку.
МЦ.<Приписка на полях:>
Адр<ес>: Praha II
Vyšhegradska 16
Méstski Hudobinec {150}
P.S. Efron (МЦ.)
Впервые — Новый журнал. 1959. № 58. стр. 171–172. СС-6. стр. 517–518. Печ. по СС-6.
1923
1-23. Р.Б. Гулю
Мокропсы, 4/17 января 1923 г.
Дорогой Гуль,
Так как Вы мне больших писем не пишете, я решила писать Вам маленькие открыточки. — Хороша Прага? [1086] — К сожалению, я живу в Мокропсах (о, насмешка! — Горних!) Спасибо за письмо, хотя маленькое и на ремингтоне: люблю большие и от руки. — Дошла ли до Вас, наконец, моя Царь-Девица? Были посланы две, — вторая Пастернаку. Что он? Все спрашиваю о нем приезжающих, — никто не видел.
Спасибо за устройство стихов. Как встречали Новый Год? Мы дважды — и чудесно.
Ну, жду обещанного письма! — Да, Эр<енбур>га ни о чем, касающемся меня, не просите, мы с ним разошлись! Привет.
МЦ.Впервые — Новый журнал. 1959. № 58. стр. 175. СС-6. стр. 518. Печ. по тексту СС-6.
2-23. М.С. Цетлиной
Прага, 9-го нов<ого> января 1923 г.
Милая Мария Самойловна,
Очень жалею, что не получила Вашего первого письма, — будьте уверены, что ежели бы получила, ответила бы сразу. — У меня о Вас и о Михаиле Осиповиче [1087] самая добрая память. —
Жалею еще и потому, что у меня в данный час почти все стихи розданы: скоро выходит моя книга «Ремесло», а написанные после нее размещены по различным берлинским альманахам [1088].
Посылаю Вам пока «Рассвет на рельсах». Если подойдут, очень просила бы известить.
Стихов у меня за последний год мало, пишу большие вещи [1089].
Есть драматическая сценка «Метель» [1090], — в стихах: новогодняя ночь, харчевня, Богемия — и встреча в этой метели — двух. Не зная места, уделенного в «Окне» стихам, — сейчас не посылаю.
_____Недавно закончила большую русскую вещь — «Мо́лодец». И вот, просьба: не нашлось ли бы в Париже на нее издателя? [1091] — Сказка, в стихах, канва народная, герой — упырь. (Очаровательный! Насилу оторвалась!)
Одно из основных моих условий — две корректуры: вся вещь — на песенный лад, много исконных русских слов, очень важны знаки.
Недавно вышла в Берлине (к<нигоиздательст>во «Эпоха») моя сказка «Царь-Девица» — 16 опечаток, во многих местах просто переставлены строки. Решила такого больше не терпеть, тем более, что и письменно и устно заклинала издателя [1092] выслать вторую корректуру.
_____«Мо́лодца» можно (и по-моему — нужно) было бы издать с иллюстрациями: вещь сверх-благодарная.
Жаль, что не могу Вам выслать «Царь-Девицы», те немногие эк<емпляры>, высланные из<дательст>вом, уже раздарила.
А в Берлине «Мо́лодца» я бы печатать не хотела из-за несоответствия валюты: живя в Праге, работать на марки невозможно.
Простите, что затрудняю Вас просьбой, но в Париже у меня у никого, кроме Бальмонтов [1093], нет, а зная их хронически трудный быт, обращаться к ним не решаюсь.
_____Вы спрашиваете о моей жизни здесь, — могу ответить только одно: молю Бога, чтоб вечно так шло, как сейчас.
Сережа учится в университете и пишет большую книгу о всем, что видел за четыре года революции [1094], — книга прекрасна, радуюсь ей едва ли не больше, чем собственным.
Але 10 лет, большая, крепкая, с возрастом становится настоящим ребенком, сейчас наслаждается природой и свободой, — живем за городом, в деревенской хате [1095].
— Вот и все пока. —
Шлю сердечный привет Вам и Михаилу Осиповичу.
Марина Цветаева.Впервые — в кн.: Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана. М.: Книга, 1989. стр. 366–367 (публ. Е.И. Лубянниковой). СС-6. стр. 547–548. Печ. по СС-6.
3-23. Л.Е. Чириковой
Прага [1096], 24го нов<ого> янв<аря> 1923 г.
Дорогая Людмила Евгеньевна,
Всё дело в том, что у меня до сих пор не было Вашего записанного адреса [1097] (и у меня тоже) {151}: мне говорили, и я забывала (и я тоже!). Разыщите Бальмонта, — если недалеко загородом — съездите, это очаровательные (и я тоже) люди, (он, жена и дочь [1098]) расскажите о нас с Алей (и обо мне тоже), вообще — подружитесь, — стоит. — Вашу открыточку на Новый Год получили, спасибо. Новый (старый-новый!) Год, кстати, встречали у Ваших [1099]. (И я тоже) Мы очень дружны, часто видимся [1100].
Пока — нежно Вас целую (и я тоже) и жду открыточки (и я тоже).
(СЭ.) МЦPraha II Vyšegradska, 16
Mêstsky Hudobines.
Видали ли Царь-Девицу? (А меня?!)
P.S. С Геликоном — опять война!
Впервые — Письма к Л.Е. Чириковой-Шнитниковой. стр. 15. Печ. по тексту первой публикации.
4-23. М.С. Цетлиной
Moкропсы, 31-го нов<ого> января 1923 г.
Милая Мария Самойловна,
Пишу Вам с больной рукой, — не взыщите, что плохо. Получила недавно письмо от князя С.М. Волконского: писателя, театр<ального> деятеля, внука декабриста. Он сейчас в Париже. И вспомнила поэму Михаила Осиповича о декабристах [1101]. И подумала, что вас непременно надо познакомить.
Сергея Михайловича я знаю с рев<олюционной> Москвы, это из близких мне близкий, из любимых любимый [1102]. Человек тончайшего ума и обаятельнейшего обхождения. Неизбывная творческая природа. Пленительный собеседник. — Живая сокровищница! — Памятуя Вашу и Михаила Осиповича любовь к личности, я подумала, что для вас обоих Волконский — клад. Кладом и кладезем он мне пребыл и пребывает вот уже три года. Встреча с ним, после встречи с Сережей, моя главная радость за границей.
Недавно вышла книга С<ергея> Мих<айловича> — «Родина», в феврале выходят его: «Лавры» и «Странствия». О его «Родине» я только что закончила большую статью, которой Вам не предлагаю, ибо велика: не меньше 40 печатных страниц! [1103]
— А может быть вы давно знакомы и я рассказываю Вам вещи давно известные! —
Адр<ес> Сергея Михайловича: B<oulevard> des Invalides, 2, rue Duroc, живет он, кажется, в Fontainebleau, по крайней мере осенью жил.
Если пригласите его к себе, попросите захватить что-нибудь из «Лавров». Это книга встреч, портретов. — Он прекрасно читает. — Приглашая, сошлитесь на меня, впрочем он наверное о Вас знает, и так придет.
И — непременно — если встреча состоится, напишите мне о впечатлении. Это моя большая любовь, человек, которому я обязана может быть лучшими часами своей жизни вообще, а уж в Сов<етской> России — и говорить нечего! Моя статья о нем называется «Кедр» (уподобляю).
_____«Метель» свою Вам послала. Живу сама в метели: не людской, слава Богу, а самой простой: снежной, с воем и ударами в окна. Людей совсем не вижу. Я стала похожей на Руссо: только деревья! [1104] Мокропсы — прекрасное место для спасения души: никаких соблазнов. По-чешски понимаю, но не говорю, объясняюсь знаками. Язык удивительно нечеткий, все слова вместе, учить не хочется. Таскаем с Алей из лесу хворост, ходим на колодец «по воду». Сережа весь день в Праге (универс<итет> и библиотека), видимся только вечером. — Вот и вся моя жизнь. — Другой не хочу. — Только очень хочется в Сицилию. (Долго жила и навек люблю!) [1105] — Шлю сердечный привет Вам и Михаилу Осиповичу.
МЦ.В феврале выходит моя книга стихов «Ремесло», пришлю непременно.
Впервые — Новый журнал. 1991. стр. 219–221. № 183 (публ. М.И. Белкиной). СС-6. стр. 548–549. Печ. по СС-6.
5-23. Р.Б. Гулю
Мокропсы, 9-го нов<ого> февраля 1923 г.
Мой милый и нежный Гуль! (Звучит, как о голубе.)
Две радости: Ваше письмо и привет от Л.М. Э<ренбург> [1106], сейчас объясню, почему.
Летом 1922 г. (прошлого!) я дружила с Э<ренбу>гом и с Геликоном [1107]. Ценности (человеческие) не равные, но Г<елико>на я любила, как кошку, Э<ренбур>г уехал на́ море, Г<елико>н остался. И вот, в один прекрасный день, в отчаянии рассказывает мне, что Э<ренбур>г отбил у него жену. (Жена тоже была на море.) Так, вечер за вечером — исповеди (он к жене ездил и с ней переписывался), исповедь и мольбы всё держать в тайне. — Приезжает Э<ренбур>г, читает мне стихи «Звериное тепло» [1108], ко мне ласков, о своей любви ни слова! Я молчу. — Попеременные встречи с Э<ренбур>гом и с Г<елико>ном. Узнаю от Г<елико>на, что Э<ренбур>г продает ему книгу стихов «Звериное тепло». Просит совета. — Возмущенная, запрещаю издавать. — С Э<ренбур>гом чувствую себя смутно: душа горит сказать ему начистоту, но, связанная просьбой Г<елико>на и его, Э<ренбур>га, молчанием — молчу. (Кстати, Э<ренбур>г уезжал на́ море с голово́й-увлеченной мной. Были сказаны БОЛЬШИЕ слова, похожие на большие чувства. Кстати, неравнодушен ко мне был и Г<елико>н).
Так длилось (Э<ренбур>г вскоре уехал) — исповеди Г<елико>на, мои ободрения, утешения: книги не издавайте, жены силой не отнимайте, пули в лоб не пускайте, — книга сама издастся, жена сама вернется, — а лоб уцелеет. — Он был влюблен в свою жену, и в отчаянии.
Уезжаю. Через месяц — письмо от Э<ренбурга>, с обвинением в предательстве: какая-то записка от меня к Г<елико>ну о нем, Э<ренбур>ге, найденная женой Г<елико>на в кармане последнего. (Я почувствовала себя в помойке.)
Ответила Э<ренбур>гу в открытую: я не предатель, низости во мне нет, тайну Г<елико>на я хранила, п<отому> ч<то> ему обещала, кроме того: продавать книгу стихов, написанных к чужой жене — ее мужу, который тебя и которого ты ненавидишь — низость. А молчала я, п<отому> ч<то> дала слово.
Э<ренбур>г не ответил и дружба кончилась: кончилась с Г<елико>ном, к<отор>ый после моего отъезда вел себя со мной, как хам: на деловые письма не отвечал, рукописей не слал и т.д. — «Тепло», конечно, издал.
Так, не гонясь ни за одним, потеряла обоих.
_____Привет от Л.М. Э<ренбург> меня искренне тронул: убежденная, что и она возмущена моим «предательством», я ей ни разу не писала. Она прелестное существо. К любови Э<ренбур>га (жене Г<елико>на) с первой секунды чувствовала физическое (неодолимое!) отвращение: живая плоть! Воображаю, как она меня ненавидела за: живую душу!
Все это, Гуль, МЕЖДУ НАМИ.
_____Только что кончила большую статью (апологию) о книге С. Волконского «Родина». Дала на прочтение в «Русскую Мысль», если Струве не примет — перешлю Вам с мольбой пристроить. Книга восхитительная, о ней должно быть услышано то, что я сказала. Пока усердно не прошу, п<отому> ч<то> еще надеюсь на Струве. Статья в 22 стр<аницы> большого (журнального) формата, приблиз<ительно> 1 1/6 печатного) лист<а> в 40 тыс<яч> букв [1109]. На урезывание не согласна: писала как стихи.
Готовлю к апрелю книгу прозы (записей) [1110]. Вроде духовного (местами бытового) дневника. Г<елико>н, читавший в записных книгах, когда-то рвал ее у меня из рук. Необходимо подготовить почву, — кто возьмет? Если увидитесь с Г<елико>ном — оброните несколько слов, не выдавая тайны. Мне ему предлагать — немыслимо. Думаю кончить ее к 20-ым числам апреля. Если бы нашелся верный издатель, приехала бы в начале мая в Берлин. Словом, пустите слух. Книга, думаю, не плохая. — Тогда бы весной увиделись, погуляли, посидели в кафе, я бы приехала на неделю — 10 дней, Вы бы со мной слегка понянчились.
Совсем ничего не знаю о «Веке Культуры», купившем у меня книгу стихов «Версты» I (т.е. купили «Огоньки» [1111] и перепродали в Данциг). В Берлине ли издатель? Очень, очень прошу сообщить мне его адр<ес>!
_____Bergschuhe (милый, что помните!) — увы! — пролетели. Деньги тогда залежались, потом цены вздорожали. Куплю, когда приеду. Пока хожу в мужских башмаках, — здесь как на острове!
Привезу весной и свою рукопись «Мо́лодец». И стихи есть, — целых четыре месяца не писала.
_____Ваше отвращение к H.A. Б<ердяе>ву я вполне делю [1112]. Ему принадлежит замечательное слово: «У Вас самой ничего нет: неразумно давать». (Собирали на умирающего — мох и вода! — с голоду М. Волошина, в 1921 г., в Крыму.) Чувствую, вообще, отвращение ко всякому национализму вне войны. — Словесничество. — В ушах навязло. Сло́ва «богоносец» не выношу, скриплю. «Русского Бога» топлю в Днепре, как идола.
Гуль, народность — тоже платье, м<ожет> б<ыть> — рубашка, м<ожет> б<ыть> — кожа, м<ожет> б<ыть> седьмая (последняя), но не душа.
Это все — лицемеры, нищие, пристроившиеся к Богу, Бог их не знает, он на них плюет. — Voilà {152} —
_____В Праге проф<ессор> Новгородцев [1113] читает 20-ую лекцию о крахе Зап<адной> культуры, и, д_о_к_а_з_а_в(!!!) указательный перст: Русь! Дух! — Это помешательство. — Что с ними со всеми? Если Русь — переходи границу, иди домой, плетись.
_____А у нас весна: вербы! Пишу, а потом лезу на гору. Огромный разлив реки: из середины островки деревьев. Грохот ручьев. Русь или нет, — люблю и никогда не буду утверждать, что у здешней березы — «дух не тот». (Б. Зайцев, — если не написал, то напишет.) Они не Русь любят, а помещичьего «гуся» — и девок.
Я скоро перестану быть поэтом и стану проповедником: против кривизн. Не: не хочу людей, а не могу людей, повторяя чью-то изумительную формулу: je vomis mon prochain {153}.
_____Очень радуюсь Вашему отзыву [1114], куда меньше — айхенвальдовскому [1115]. Я не знала, что К<амене>цкий в Руле — он. Я думала, он зорче. Это л_ю_б_и_т_е_л_ь письменности, не любовник! Но любопытно прочесть, у меня с ним по поводу Ц<арь->Д<еви>цы был любопытный часок. Когда-нибудь расскажу.
Кончаю, пишите чаще и больше. Как ваш друг? Поправляется ли? Выходит ли Ваша книга об эмиграции? [1116]
Не забудьте, что история с Э<ренбургом> и Г<еликоном> — между нами.
Крепко жму руку, привет от Сережи и Али. — Спасибо. —
МЦ.<Приписка на полях:>
Получила от Пастернака книгу [1117]. Прочла раз и пока перечитывать не буду, иначе напишу, и Вам придется помещать.
Praha II
Vyšhehradska, 16
Mêstsky Hudobinec {154}
M-r S. Efron
(для МЦ.)
Впервые — Новый журнал. 1959. № 58. стр. 172–174 (с купюрами). Полностью — Новый журнал. 1986. M 165. стр. 275–278. СС-6. стр. 519–521. Печ. по тексту СС-6.
6-23. Б.Л. Пастернаку
<Ок. 10 февраля 1923 г.>
Я сейчас в первый раз в жизни понимаю, что́ такое поэт. Я видала людей, которые прекрасно писали стихи, писали прекрасные стихи. А потом жили, вне наваждения, вне расточения, копя всё в строчки: не только жили: нажив<али>. И достаточно нажив<шись>, позволяли себе стих. — Честное слово! — И они еще были хуже других, ибо зная что́ им стихи сто́ют (месяцы и месяцы воздержания! Месяцы и месяцы жильничества! — Не-бы-ти-я), требовали за них с окружающих непомерной платы: кадил, коленопрекл<онения>, памятников за́живо. И у меня никогда не было соблазна считать их правыми, я галантно кадила — и отходила. Я ведь без конца поэтов знала! И больше всего любила, когда им просто хотелось есть или просто болел зуб: это человечески сближало. Я была нянькой при поэтах, — совсем не поэтом! и не Музой! — молодой (иногда трагической!) нянькой. — Вот. — С поэтами я всегда забывала, что я — поэт.
Но я, Пастернак, устала нянчиться. Из моих выкормышей никогда ничего не получ<алось>, кроме строчек. Вы же знаете как этого мало.
Вы — Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт, т.е. судьба, свершающаяся <вариант: разворачивающаяся> на моих глазах, и я так же спокойно (уверенно) говорю — Пастернак, как Байрон, как Лермонтов. Ни о ком не могу сказать сейчас: я его современник, если скажу — польщу, пощажу, солгу. И вот, Пастернак, я счастлива быть Вашим современником. Читайте это так же отрешенно, как я пишу: дело не в Вас и не во мне, это уже почти безлично, и Вы это знаете. Исповедуются не священнику, а Богу. Исповедуюсь (не каюсь, а воскаждаю!) не Вам, а Духу в Вас. Он больше Вас, но Вы настолько велики, что это знаете.
Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот ожидание поезда на нашей крохотной станции. Я приходила рано, в начале темноты, когда фонари загорались. (Повороты рельс) Ходила взад и вперед по темной платформе — далёко! И было одно место, фонарный столб — без света — это было место встречи, я просто вызывала сюда Вас, и долгие бо́к о бок беседы — бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Goethe, и на Кавказ. (Единственное место в России, где я мыслю Гёте.)
Я не скажу, что Вы мне необходимы. Вы в моей жизни необходимы, как тот фонарный шест. / Куда бы я не думала, я Вас не миную. / Фонарь всюду будет со мной, встанет на всех моих дорогах. Я выколдую фонарь.
Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что Вы этого ничего не знаете, не смущалась и тем, что всё это без Вашего ведома <вариант: соизволения>. Я не волей своей вызывала Вас, если хочешь — можно и расхотеть, хотенье — вздор. Что-то во мне хотело. Я то <оборвано>
«На вокзал» и к Пастернаку было тождественно. Я не на вокзал шла, а к Вам. И поймите, никогда нигде вне этой асфальтовой дороги. Уходя со станции, я просто расставалась: зрело и трезво. И никогда нарочно не шла. Когда прекратились (необходимые) поездки в Прагу, кончились и Вы.
Рассказываю Вам всё это, п<отому> ч<то> прошло.
Нет, впрочем лгу! Еще о союзничестве. Когда я кому-нибудь что-нибудь рассказ<ывала> и другой не понима<л>, первая мысль: Пастернак. Надежная, спокойная. Как домой шла. Как на костер шла. Вне проверки. Я например знаю о Вас, что Вы — из всех — любите Бетховена (даже больше Баха!), что Вы больше стихов любите Музыку, что Вы «искусства» не любите, что Вы не раз думали о Паганини и хотели писать о нем, что Вы католик (как духовный строй, порода) а не православный. Пастернак, я читаю в Вас, но я, как Вы, не знаю Вашей последней страницы.
Мне хочется сказать Вам, и Вы не расс<ердитесь> и не откре́ститесь, п<отому> ч<то> Вы мужественны и бескорыстны, что в Вашем творчестве больше Гения, чем поэта (гения, того, что над поэтом), поэт побежден Гением, сдался ему на гнев и на милость, согласился быть глашатаем, отрешился. (Только низкая корыстная гордыня может сражаться с ангелом! «Самоутверждение» — когда все дело: в самосожжении!)
Еще, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не схоронили, а сожгли.
_____Ваша книга. Пастернак, у меня к Вам просьба. «Так начинаются цыгане» [1118], посвятите это стихотворение мне. (Мысленно.) Подарите. Чтоб я знала, что они мои. Чтоб никто не смел думать, что они его. И есть крик, вопиюще мой: Это я, а не Вы — пролетарий! [1119] Пастернак, есть тайный шифр. Вы — сплошь шифрованны. Вы безнадежны для «публики». Вы — царская переп<иска>, или полководческая. Вы — переписка Пастернака с его Гением. Если Вас будут любить, то из страха: одни быть обвиненными в «некультурности», другие, <пропуск одного слова>, чуя. Но знать… Да и я Вас не знаю, п<отому> ч<то> и Пастернак часто сам не знает, что ему диктует его Гений, Пастернак пишет буквы, а потом — в прорыве ночного прозрения — на секунду осознает, чтоб утром забыть.
А есть другой мир, где Ваша тайнопись — детская пропись. Горние Вас читают, шутя. Поднимите голову ввысь: там — Ваши читатели. «Политехнический зал» [1120].
_____Ремесло. — Мо́лодец. — «Женск<ое> ничтож<ество>». — Беседа с Вашим гением — о Вас.
А теперь, Пастернак, просьба: не уезжайте в Р<оссию>, не повидавшись со мной. Россия для меня = un grand peut-être {155} [1121], почти тот-свет. Знай я, что Вы в Австралию, к змеям, к прокаженным, мне бы не было страшно, я бы не окликала. Но в Россию — окликаю. Итак, Пастернак, предупредите, я приеду. Внешне — по делам, честно — к Вам: по Вашу душу, проститься. Вы уже однажды так исчезли — на Дев<ичьем> Поле [1122], на кладбище: изъяли себя из… Просто: Вас не стало.
Памятуя, боюсь — и борюсь за: что? да просто рукопожатие.
Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, не мыслится мне оно, слишком похоже на сон: по той свободе, которая у меня к Вам, по той беззаветности (освежите первичный смысл), по той несомненности, по той СЛЕПОТЕ.
Я бы могла написать книгу наших встреч, только восстановляя, вне вымысла. Знаю, что было. Так, удостоверенная в бытии, сомневаюсь в существовании: просто Вас нету.
Больше просить об этом не буду, только если не исполните (под каким бы то ни было предлогом) — рана на жизнь.
Не отъезда я Вашего боюсь, а: исчезновения.
_____Вы пишете: «не хочу о себе», и я говорю: не хочу о себе. Стало быть — именно о Вас. Вам плохо, п<отому> ч<то> Вы с людьми. — И всё. — С деревьями Вы были бы счастливы. Не знаю Ваших дел, но — уезжайте на волю.
Да, одно темное место в Вашем письме. Вы думаете, что я «по причинам гор<ьким> и стесн<ительным>» вне Берлина? Дружочек, я Бога молю всегда жить — как я живу: я раз в месяц в Праге, остальные дни — <оборвано>.
Единственная моя горечь, что я в Берлине не дождалась Вас.
Никогда не слушайте суждений обо мне людей: я многих задела (любила и разлюбила, нянч<ила> и бросила) — для людей расхождение ведь вопрос самолюбия. За два месяца в Берлине <оборвано>
Единственное, чего люди не прощают, это что без них обходятся. Не слушайте. Если Вам что-либо в моей жизни интересно — сама расскажу.
_____Пишите чаще. Без оклика — никогда не напишу. А писать мне Вам / Писать — входить без спросу. Вы же, когда бы обо мне ни думали, знайте, что Ваша мысль — всегда в ответ: мой дом Вам настежь / сам к Вам идет / всегда на полдороге к Вам — где уж тут: стук в дверь: раз навсегда сорвана.
_____Сколько Вам лет? Я, когда меня спрашивают, всегда с гордостью говорю 17, и одумавшись — 20, кажется. Вдохн<овенно> вру, что «Сестру мою Жизнь» Вы написали 13-ти — pour épater le bourgeois {156}. — Лет 27?
Впервые — Души начинанают видеть. стр. 29–33. Печ. по тексту первой публикации. Вариант текста — HCT. стр. 117–121 (письмо 6а-23) и Души начинанают видеть. стр. 33–38 (письмо 66–23).
6а-23. Б.Л. Пастернаку
<Около 10 февраля 1923 г.>
Я сейчас в первый раз в жизни понимаю, что́ такое поэт (стою перед лицом поэта). Я видала людей, которые прекрасно писали стихи, писали прекрасные стихи. А потом жили, вне наваждения, вне расточения, копя всё в строчки: не только жили: наживали (-лись). И достаточно нажив, позволяли себе стихи (как маленький чиновник — поездку на дачу — после целой департаменской зимы). И, естественно — месяцы и месяцы жильничества (лучше бы — жульничества!) скопидомства (-душства) — небытия! — т.е. зная, что им стихи сто́ят, в какую копеечку им самим влетели, и естественно, говорю, требовали за них с окружающих непомерной платы: кадил, коленопреклонения, памятников за́живо, множа то малое, что́ дали на всё в чем себе отказали и этот счет предъявляя.
И я, жалея в них нищих, галантно кадила — и отходила. Я ведь многих, многих поэтов знала. И больше всего любила, когда им просто хотелось есть — или просто болел зуб: это человечески сближало. Я была нянькой при поэтах, — совсем не поэтом — и не Музой! — молодой (иногда трагической!) нянькой. — Вот. — С поэтами я всегда забывала, что я — поэт. А они, можно сказать — и не подозревали.
Вы — Пастернак, в полной чистоте сердца — мой первый поэт, т.е. судьба разворачивающаяся на моих глазах, и я так же спокойно <пропуск одного слова> говорю Пастернак — как Байрон. Ни о ком не могу сказать сейчас: я его современник, если скажу — польщу, пощажу, солгу. И вот, Пастернак, я счастлива быть Вашим современником. Читайте это так же отрешенно, как я пишу: дело не в Вас и не во мне, это безлично, и Вы это знаете. Исповедуются не священнику, а Богу. Исповедуюсь (не каюсь, а воскаждаю) не Вам, a Daemon'у {157} в Вас. Он больше Вас, но Вы настолько велики, что это знаете.
Последний месяц этой осени я <пропуск одного слова> провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, — и вот, на нашей крохотной станции — ожидание поезда. Я приходила рано, в начале темноты, когда фонари загорались. (Повороты рельс.) Ходила взад и вперед по темной платформе — далё-ёко! И было одно место, фонарный столб — без света — это было место встречи (конец платформы), я просто вызывала сюда Вас, и долгие бо́к о́ бок беседы, никогда не садясь, всегда на ногах.
В два места я бы хотела с Вами: в Weimar, к Goethe, и на Кавказ (единственное место в России, где я мыслю Гёте.)
Я не скажу, что Вы мне необходимы. Вы в моей жизни необходны, как тот фонарный шест, — который всегда встанет, на всех моих путях. В начале темноты, в конце платформы.
Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что Вы этого ничего не знаете — видите, не писала же, и не написала бы никогда, если бы не Ваше письмо, — не потому что тайна, а потому что Вы всё это сами знаете — может быть только с другого конца: по ту сторону платформы. (Там где кончается платформа начинается Пастернак. Формула той платформы. Той осени. Меня той осени.)
«Хочу» — можно и расхотеть, хочу — вздор. У меня и в детстве не было хотений.
«На вокзал» было: к Пастернаку, я не на станцию шла, а на свидание (надежнее всех, на которые когда-либо… Впрочем, мало ходила: не снисходила: пальцев одной руки хватит… Но об этом потом — тогда́ — или никогда)… Вы были моим счастливым свиданием, Пастернак.
И, заметьте: никогда нигде кроме той асфальтовой дороги. Уходя с вокзала я просто расставалась: сразу и трезво — как в жизни. Я Вас никогда не брала с собой домой. И никогда нарочно не шла. Когда прекратились поездки в Прагу, кончились и Вы (встречи).
Рассказываю Вам всё это, п<отому> ч<то> в Прагу больше не езжу (раз в месяц, за иждивением — и днем, уничтожающим: начало темноты, смысл фонаря — и бесконечность за концом платформы, оказывающимся всего только шахматами полей).
Теперь о союзничестве. Когда я кому-нибудь что-нибудь говорю и другой не понимает (всегда: никогда!) первая мысль: Пастернак. Не мысль: оборот головы. Как полководец за подкреплением. Ссылаясь.
Как домой иду. Как на костер иду. Вне проверки. Я например знаю, что Вы из всех — любите Бетховена (даже больше Баха), что Вы больше стихов любите музыку, что Вы «искусства» не любите, что Вы не раз думали о Паганини и хотели писать о нем, что Вы католик, а не православный. Пастернак, я читаю Вас, но я, как Вы, не знаю Вашей последней страницы.
Мне хочется сказать Вам — и Вы не рассердитесь и не расстроитесь, ибо Вы мужественны и бескорыстны — что в Вашем творчестве больше Гения, чем поэта, сдавшегося ему на гнев и на милость. (Только низкое себялюбие может сражаться с ангелом! «Самоутверждение» — когда всё дело: в самосожжении!)
Еще, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не зарыли, а сожгли.
_____Ваша книга. Пастернак, у меня к Вам просьба. «Так начинаются цыгане» — посвятите это стихи (мысленно) мне. Подарите. Чтоб я знала, что они мои. Подтвердите право на владение. И есть крик, вопиюще-мой: — Это я, а не Вы — пролетарий (который кстати всегда произношу та́к:
— Нет, не вы, — это я́ — пролетарий!)
Пастернак, есть тайный шифр. Вы — сплошь шифрованы. Вы безнадежны для «публики». Если Вас будут любить, то из страха: одни — отстать, другие — быть обвиненными в отсталости, третьи (уже исключение) — как звери Орфея [1123], повинуясь, т.е. тоже из страха. Но знать (понимать)… Да и я Вас не знаю, да и Вы себя не знаете, Пастернак, мы тоже звери перед Орфеем, только Ваш Орфей — Пастернак: вне Вас.
А есть другой мир, где Ваша (наша) тайнопись — детская пропись. С Вас там начинают (первая ступень). Пастернак, подымите голову! Выше! Та́м — Ваш «Б<ольшой> Политехнический зал».
_____Ремесло. — Мо́лодец. — «Женск<ое> ничтож<ество>». — Беседа с Вашим гением — о Вас.
А теперь, Пастернак, просьба: неуезжайте в Р<оссию>, не повидавшись со мной. Россия для меня — un grand peut-être, почти тот-свет. Знай я, что Вы в Австралию, к змеям, к прокаженным — мне бы не было страшно, я бы не просила. Но в Россию — окликаю. Итак, Пастернак, предупредите, я приеду. Внешне — по делам, честно — к Вам: по Вашу душу, проститься. Вы уже однажды так исчезли — на Дев<ичьем> Поле, на кладбище: изъяли себя из… Просто: Вас не стало.
Пастернак, я привыкла терять, меня не удивишь, меня обратным удивишь. Удивите! (удачей). Пусть хоть раз не сбудется судьба. Нынче в первый раз боюсь — и борюсь за: что́? да за просто рукопожатье.
Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, слишком похоже на сон: по той свободе, которая у меня к Вам, по той беззаветности (освежите первичный смысл), по той несомненности, по той слепости. Сплю на оба глаза, а м<ожет> б<ыть> — «Спи, глазок, спи другой…», а про третий — забыла.
Я бы могла написать книгу наших встреч, не написать: записать. Знаю, что — было. Так, удостоверенная в таком Вас, сомневаюсь в простом Вас: простого Вас, да просто: Вас нет.
Больше просить об этом не буду, только если не исполните (под каким бы то ни было предлогом) — рана на жизнь.
Не отъезда я Вашего боюсь, а исчезновения (пропаде́ния).
_____Вы пишете: «не хочу о себе», и я говорю: не хочу о себе. Стало быть — именно о Вас. Вам плохо, потому что Вы с людьми. — И всё. — С деревьями Вы были бы счастливы. Не знаю Ваших дел, но — уезжайте на волю.
Да, одно темное место в Вашем письме. Вы думаете, что я «по причинам гордости и стесненности» <пропуск двух-трех слов> Дружочек, я Бога молю всегда жить — как я живу: я раз в месяц в Праге, все остальные двадцать девять — я на горе, с можжевеловым кустом, который — Вы. Единственная моя горечь — что я в Берлине не дождалась Вас.
Никогда не слушайте суждений обо мне людей: я многих задела (любила и разлюбила, няньчилась и бросила) — для людей расхождение ведь вопрос самолюбия. За два месяца в Берлине <фраза не окончена>. Единственное, чего люди не прощают, это что ты без них, в конце концов — обошелся. Не слушайте. Если Вам что-либо в моей жизни нужно знать, — сама расскажу.
_____Пишите чаще. Без оклика — никогда не напишу. А писать мне Вам <фраза не окончена>. Писать — входить без спросу. Вы же, когда бы обо мне ни думали, знайте, что думаете — в ответ: мой дом — весь — на полдороге к Вам: у самого порога, которого между нами — нет. Где уж тут стук в дверь: раз навсегда сорвана.
Впервые — HCT. стр. 117–121. Печ. по тексту первой публикации. См. варианты: Души начинают видеть. стр. 29–38.
6б-23. Б.Л. Пастернаку
Мокропсы, 10 нов<ого> февраля 1923 г.
Пастернак!
Вы первый поэт, которого я — за жизнь — вижу {158}. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы первый поэт, чьи стихи меньше него самого, хотя больше всех остальных. Пастернак, я много поэтов знала: и старых и малых, и не один из них меня помнит. Это были люди, писавшие стихи: прекрасно писавшие стихи, или (реже) писавшие прекрасные стихи. — И всё. — Каторжного клейма поэта я ни на одном не видела: это жжет за версту! Ярлыков стихотворца видала много — и разных: это впрочем легко спадает, при первом дуновении быта. Они жили и писали стихи (врозь) — вне наваждения, вне расточения, копя всё в строчки — не только жили: наживались. И достаточно нажившись, разрешали себе стих: маленькую прогулку ins Jenseits {159}. Они были хуже не-поэтов, ибо зная, что́ им стихи стоют (месяцы и месяцы воздержания, скряжничества, небытия!), требовали за них с окружающих непомерной платы: кадил, коленопреклонения, памятников заживо. И у меня никогда не было соблазна им отказать: галантно кадила — и отходила. И больше всего я любила поэта, когда ему хотелось есть или у него болел зуб: это человечески сближало. Я была нянькой при поэтах, ублажительницей их низостей {160}, — совсем не поэтом! и не Музой! — молодой (иногда трагической, но всё ж:) — нянькой! С поэтом я всегда забывала, что я — поэт. И если он напоминал — открещивалась.
И — забавно — видя, как они их пишут (стихи), я начинала считать их — гениями, а себя, если не ничтожеством — то: причудником пера, чуть ли не проказником. «Да разве я поэт? Я просто живу, радуюсь, люблю свою кошку, пла́чу, наряжаюсь — и пишу стихи. Вот Мандельштам, напр<имер>, вот Чурилин [1124], напр<имер> — поэты». Такое отношение заражало: оттого мне всё сходило — и никто со мной не считался, оттого у меня с 1912 г. (мне было 18 лет) [1125] по 1922 г. не было ни одной книги, хотя в рукописях — не менее пяти [1126]. Оттого я есмь и буду без имени. (Это, кстати, огорчает меня чисто внешне: за 7 мес<яцев>, как я из Берлина, заработала в прошлом месяце 12 тыс<яч> герм<анских> марок, неустанно всюду рассылая. Живу на чешском иждивении, иначе бы сдохла!) [1127]
Но вернемся к Вам. Вы, Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт за жизнь. И я так же спокойно ручаюсь за завтрашний день Пастернака, как за вчерашний Байрона. (Кстати: внезапное озарение: Вы будете очень старым, Вам предстоит долгое восхождение, постарайтесь не воткнуть Регенту палки в колесо!) [1128] — Вы единственный, современником которого я могу себя назвать — и радостно! — во всеуслышание! — называю. Читайте это так же отрешенно, как я это пишу, дело не в Вас и не во мне, я не виновата в том, что Вы не умерли 100 лет назад, это уже почти безлично, и Вы это знаете. Исповедываются не священнику, а Богу. Исповедуюсь (не каюсь, а воскаждаю!) не Вам, а Духу в Вас. Он больше Вас — и не такое еще слышал! Вы же настолько велики, что не ревнуете.
Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот, ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперед по темной платформе — далеко! И было одно место — фонарный столб — без света, сюда я вызывала Вас. — «Пастернак!» И долгие беседы бок-о́-бок — бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Goethe, и на Кавказ (единственное место в России, где я мыслю Goethe!).
Я не скажу, что Вы мне необходимы, Вы в моей жизни необходны, куда бы я ни думала, фонарь сам встанет. Я выколдую фонарь.
Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что всё это без Вашего ведома и соизволения. Я не волей своей вызывала Вас, если «хочешь» — можно (и должно!) расхотеть, хотенье — вздор. Что-то во мне хотело. Да Вашу душу вызвать легко: ее никогда нет дома!
«На вокзал» и: «К Пастернаку» было тождественно. Я не на вокзал шла, а к Вам. И поймите: никогда, нигде, вне этой асфальтовой версты. Уходя со станции, верней: садясь в поезд — я просто расставалась: здраво и трезво. Вас я с собой в жизнь не брала. И никогда нарочно не шла. Когда прекратились (необходимые) поездки в Прагу, кончились и Вы.
Рассказываю, потому что прошло.
И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми «косыми ливнями» [1129] — это будет: мой вызов, Ваш приход.
_____Еще о союзничестве. Когда я кому-нибудь что-нибудь рассказываю и другой не понимает, первая мысль (ожог!) — Пастернак! И за ожогом — надежность. Как домой шла, как на костер шла: вне проверки.
Я например знаю о Вас, что Вы — из всех — любите Бетховена (даже больше Баха!), что Вы страстней стихов подвержены Музыке, что Вы «искусства» не любите, что Вы не раз думали о Паганини и хотели (и еще напишете!) о нем, что Вы католик (как духовный строй, порода), а не православный. Пастернак, я читаю в Вас, но я, как Вы, не знаю Вашей последней страницы. — Брезжится, впрочем, монастырь. —
Мне хочется сказать Вам, и Вы не рассердитесь и не откреститесь, потому что Вы мужественны и бескорыстны, что в Вашем творчестве больше Гения, чем поэта (Гения — за плечом!), поэт побежден Гением, сдается ему на гнев и на милость, согласился быть глашатаем, отрешился. (Только низкая корысть может сражаться с ангелом! «Самоутверждение» — когда всё дело: в самосожжении!)
Еще, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не схоронили, а сожгли.
_____Ваша книга [1130]. Пастернак, у меня к Вам просьба. «Так начинаются цыгане» — посвятите эти стихи мне [1131]. (Мысленно.) Подарите. Чтобы я знала, что они мои. Чтобы никто не смел думать, что они его.
Пастернак, есть тайный шифр. Вы — сплошь шифрованны, Вы безнадежны для «публики». Вы царская перекличка, или полководческая. Вы переписка Пастернака с его Гением. (Что тут делать третьему, когда всё дело: вскрыв — скрыть!) Если Вас будут любить, то из страха: одни, боясь «отстать», другие, зорчайшие — чуя. Но знать… Да и я Вас не знаю, никогда не осмелюсь, потому что и Пастернак часто сам не знает, Пастернак пишет буквы, а потом — в прорыве ночного прозрения — на секунду осознаёт, чтобы утром опять забыть.
А есть другой мир, где Ваша тайнопись — Детская пропись. Горние Вас читают шутя. Закиньте выше голову — выше! — Там Ваш «Политехнический зал».
_____Воскадив, начну каяться. — Блаженным летом 1922 (скоро год!), когда я получила Вашу книгу, мой первый жест был, закрыв последнюю страницу, распахнуть свое «Ремесло» на первой и — черным по белу: Ваше имя. — Тут начинается низость. Я тогда дружила с Геликоном, влюбленным (пожимаю плечами) в мои стихи. Это было черное бархатное ничтожество, умилительное, сплошь на ш (Господи, ведь кот по-французски — chat! Только сейчас поняла!) Ну, вот. Посвятить мимо его кошачьего замшевого носа «Ремесло» другому, да еще полубогу (каковым Вас, скромно и во всеуслышание, считаю) — у меня сердце сжималось! «Слабость на-аша… Глупость на-аша»… (Песенка. Вспомните напев!) И, скрепя сердце, не проставила. Так и оставила пустой лист.
(Геликон, конечно, через неделю после моего отъезда, меня предал и продал: как кот: коты на могилах не умирают!)
Теперь, осознавая, думаю: правильно. Геликон — не в счет, но «Ремесло» уже вчерашний день. Я же к Вам иду только с завтрашним. Так, спокойно и вне пафоса, просто знаю: следующая книга не может быть не Вам. Ведь посвящение — крещение корабля.
_____(Кстати, это письмо — беседа с Вашим Гением о Вас, Вы не слушайте.)
_____А теперь, Пастернак, просьба: не уезжайте в Россию, не повидавшись со мной. Россия для меня — un grand peut-être, почти тот свет. Уезжай Вы в Гваделупу, к змеям, к прокаженным, я бы не окликнула. Но: в Россию — окликаю. — Итак, Пастернак, предупредите, я приеду. Внешне — по делам, честно — к Вам: по Вашу душу: проститься. Вы уже однажды так исчезли — на Дев<ичьем> Поле [1132], на кладбище: изъяли себя из… Вас просто не стало. Помятуя, боюсь — и борюсь за: что? Да просто рукопожатие. Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, не мыслится мне оно, слишком похоже на сон по той беззаветности (освежите первичность слова!), по той несомненности, по той слепоте, которая у меня к Вам.
Я бы могла написать книгу наших встреч, только восстановляя, вне вымысла. Так удостоверенная в бытии, сомневаюсь в существовании: просто Вас нету. Больше просить об этом не буду, но ответа жду.
Больше просить об этом не буду, только если не исполните (под каким бы то ни было предлогом) — рана на жизнь.
Не отъезда я Вашего боюсь, а исчезновения.
_____Два раза в Вашем письме: «тяжело». — Только потому, что Вы с людьми: Вы летчик! Идите к богам: к деревьям. Это не лирика; это врачебный совет. Живут же за городом, а в Германии это легче, чем где бы то ни было. У Вас будут книги, тетради, деревья, воздух, достоинство, покой. — Да, одно темное место в Вашем письме: Вы думаете, что я по причинам «горьким и стеснительным» живу вне Берлина? Да Берлин меня сплошь обокрал, я уехала нищая, с распиленными хрящами и растянутыми жилами [1133]. Люди пера — проказа! Молю Бога всегда так жить, как живу: колодец часовенкой, грохот ручьев, моя собственная скала, козы, все породы деревьев, тетради, не говоря уж о С<ереже> и Але, единственных, кроме Вас и кн<язя> С. Волконского, мне дорогих!
Единственная моя горечь, что я в Б<ерли>не не дождалась Вас. — Если Вы не уедете раньше, думаю приехать в начале мая [1134]. —
Никогда не слушайте суждений обо мне людей (друзей!), я многих задела (любила и разлюбила, нянчила и выронила) — для людей расхождение ведь вопрос самолюбия, которое, кстати, по-мужски и по-божески — щажу. — Не слушайте. — Скажу хуже, пуще — но верней!
_____Вы получите от меня еще два письма: одно о Ваших и моих писаниях, другое — со стихами к Вам. Потом я замолчу. Без оклика — никогда не напишу. Писать — входить без стуку. Мой же дом всегда на полдороге к Вам. Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль — всегда в ответ. Где уж тут: стук в дверь: раз навсегда сорвана!
_____Засим, Пастернак, до свидания. — Да, еще Вы должны подарить мне Библию, не из Ваших рук не возьму.
МЦ.<На полях:>
Praha II, Vyšehradska tr. 16, Mestsky Hudobinec. Mr S. Efron (для M.Ц.)
Худобинец — значит: убежище для нищих, прохудившихся: богадельня!
Впервые — ВРХД. 1979. № 128. стр. 169–174 (публ. В. Швейцер), по копии из архива А. Крученых. Печ. по кн.: Души начинают видеть. стр. 33–38.
7-23. Б.Л. Пастернаку
Мокропсы, 11 нов<ого> февраля 1923 г.
Дорогой Пастернак,
Это письмо будет о Ваших писаниях и — если хватит места и охота не пропадет! — немножко и о своих. Ваша книга ожог [1135]. Та ливень [1136], а эта ожог: мне было больно, и я не дула. (Другие — кольдкрэмом мажут, картофельной мукой присыпают! — Под-ле-цы!) — Ну, вот, обожглась и загорелась, — и сна нет, и дня нет. Только Вы. Вы один. Я сама — собиратель, сама не от себя, сама всю жизнь от себя (рвусь!) и успокаиваюсь только, когда уж ни одной зги моей — во мне. Милый Пастернак, — разрешите перескок: Вы — явление природы. — Сейчас объясню, почему. Проверяю на себе: никогда ничего не беру из вторых рук, а люди — это вторые руки, поэты — третьи. Стало быть, Вы не человек и не поэт, а явление природы. Чистейшие первые руки. Бог по ошибке создал Вас человеком, оттого Вы так и не вжились — ни во что! И — конечно — Ваши стихи не человеческие: ни приметы. Бог задумал Вас дубом, а сделал человеком, и в Вас ударяют все молнии (есть — такие дубы!), а Вы должны жить. (— На дубе не настаиваю: сама сейчас в роли дуба и сама должна жить, но — мимо!)
Пастернак, чтобы не было ни ошибки, ни лжи: люди — вторые руки, но: народы, некоторые, в очень раннем детстве, дети и поэты — без стихов, это первые руки! Вы — поэт без стихов, т.е. так любят, так горят и так жгут — только не пишущие, пишущие раз, — восьмистишие за жизнь, не ремесленники (пусть гении!) пера.
— Почему каждые Ваши стихи звучат, как последние? «После этого он больше не писал».
Начинаю догадываться о какой-то Вашей тайне. Тайнах. Первая: Ваша страсть к словам — только доказательство, насколько они для Вас средство. Страсть эта — отчаяние сказать. Звук Вы любите больше слова, и шум (пустой) больше звука, — потому что в нем всё. А Вы обречены на слова, и как каторжник изнемогая… Вы хотите невозможного, из области слов выходящего. То, что Вы поэт — промах. (Божий — и божественный!)
Вторая: Вы не созерцатель, а вершитель, — только дел таких нет здесь. Не мыслю Вас: ни воином, ни царем. (Но все ослепительнее встает Ваша католическая сущность, — проповедника-монаха. Клянусь: не внешние приметы!) И оттого, что дел нет, — вся бешеная действенность в стихи: ничто на месте не стоит.
А знаете, Пастернак. Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего станет не нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь Ваше «тяжело» — только оттого, что Вы пытаетесь: вместить в людей, втиснуть в стихи. Разве Вы не понимаете, что это безнадежно, что Вы не протратитесь. (Ваша тайная страсть: протратиться до нитки!) — Слушайте, Пастернак, здраво и трезво: в этом веке Вам дана только одна жизнь, столько-то лет, — хоть восемьдесят, но мало. (Не для накопления, а для протраты.) Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь. Пена вдохновения превратится в пену бешенства, Вам надо отвод: ежедневный, чуть ли не ежечасный. И очень простой: тетрадь.
Лирические стихи (то́, что называют) — отдельные мгновения одного движения: движение в прерывности. Помните, в детстве вертящиеся калейдоскопы? Или у Вас такого не было? Тот же жест, но чуть продвинутый: скажем — рука. Вправо, чуть правей, еще чуть и т.д. Когда вертишь — движется. Лирика — это линия пунктиром, издалека — целая, черная, а вглядись: сплошь прерывности между …… точками — безвоздушное пространство: смерть. И Вы от стиха до стиха умираете. (Оттого «последнесть» каждого стиха!)
В книге (роман ли, поэма, даже статья!) этого нет, там свои законы. Книга пишущего не бросает, люди — судьбы — души, о которых пишешь, хотят жить, хотят дальше жить, с каждым днем пуще, кончать не хотят! (Расставание с героем — всегда разрыв!) А ведь у Вас есть книга прозы, и я ее не знаю [1137]. Чье-то детство. Не приснилось же? Но глазами ее не видела. Не Вы ли сами обмолвились в Москве? Вроде Лилит [1138]. Кажется, и Геликон говорил. Не забудьте написать.
Теперь о книге вплотную. Сначала наилюбимейшие цельные стихи. До страсти: Маргарита. «Облако. Звезды. И сбоку…», «Я их мог позабыть» (сплошь) [1139], — и последнее [1140]. Жар (ожог) — от них.
Вы вторую часть книги называете «второразрядной». — Дружочек, в людях я загораюсь и от шестого сорта, здесь я не судья, но — стихи! «Я их мог позабыть» — ведь это вторая часть!
Я знаю, что можно не любить, ненавидеть книгу — неповинно, как человека. Зато, что написано тогда-то, среди тех-то, там-то. Зато, что это написано, а не то. — В полной чистоте сердца, не осмеливаясь оспаривать, не могу принять. В этой книге несколько вечных стихов, она на глазах выписывается, как змея выпрастывается из всех семи кож. Может быть, за это Вы ее и не любите. Какую книгу свою Вы считаете первой и — сколько — считаете написали?
14 нов<ого> февраля
Письмо залежалось. Мне его трудно писать. Всё, что я хочу сказать Вам — так непомерно! Возвращаясь к первой его части, верней к тому, уже отделанному (письма мои к Вам — перерывы в том непрерывном письме моем к Вам, коим являются все мои дни после получения книги. Как Вы долго звучите, — пробив!)… Возвращаясь к «единственному поэту за жизнь» и страстнейше проверив: да! Один раз только, когда я встретилась с Т. Чурилиным («Весна после смерти»), у меня было это чувство: ручаюсь за завтра, — сорвалось! Безнадежно! Он замучил своего гения, выщипывая ему перья из крыл. (А Вы́ — бережны?) Ни от кого: ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от Белого, ни от Кузмина я не жду иного, чем он сам. (Ничего, кроме него.) — Любя, может быть, страстно! — (Завершение, довершение: до, за — предел!) Я же знаю, что Ваш предел — Ваша физическая смерть.
Ваша книга. Большой соблазн написать о ней. А знаете, есть что-то у Вас от Lenau [1141]. (Почему в родстве неуклонно встает — германское?) Вы его когда-нибудь читали?
Dunkle Zypressen! Die Welt ist gar zu lustig, — Es wird doch alles vergessen! {161} [1142]Не Ваши? — Особенно вторая строка. — И Вы сами похожи на кипарис.
Но мешаете писать — Вы же. Это прорвалось как плотина — стихи к Вам. И я такие странные вещи из них узнаю. Швыряет, как волны. Вы утомительны в моей жизни, голова устает, сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, опрокинутая всей этой черепной, междуреберной разноголосицей: срок, чувств, озарений, — да и просто шумов! Прочтете — проверьте. Что-то встало, и расплылось, и кончать не хочет, — а я унять не могу. Разве от человека такое бывает?! Я с человеком в себе, как с псом: надоел — на цепь. С ангелами (аггелами!) играть труднее [1143].
Вы сейчас (в феврале этого года) вошли в мою жизнь после большого моего опустошения: только что кончила большую поэму [1144] (надо же как-нибудь назвать!), не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня, — расстались, как разорвались! — и я, освобожденная, уже радовалась: вот буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу записей, — исподволь — и всё так хорошо пойдет.
И вдруг — Вы: «дикий, скользящий, растущий»… (олень? тростник?) с Вашими вопросами Пушкину, с Вашим чертовым соловьем, с Вашими чертовыми корпусами и конвоирами! [1145] —
(И вот уже стих: С аггелами — не игрывала!) [1146]
— Смеюсь, это никогда не перейдет в ненависть. Только трудно, трудно и трудно мне будет встретиться с Вами в живых, при моем безукоризненном голосе, столь рыцарски-ревнивом к моему всяческому достоинству.
Пастернак, я в жизни — волей стиха — пропустила большую встречу с Блоком (встретились бы — не умер!), сама — 20-ти лет — легкомысленно наколдовала: «И руками не потянусь» [1147]. И была же секунда. Пастернак, когда я стояла с ним рядом, в толпе, плечо с плечом (семь лет спустя!), глядела на впалый висок, на чуть рыжеватые, такие некрасивые (стриженый, больной) — бедные волосы, на пыльный воротник заношенного пиджака. — Стихи в кармане — ру́ку протянуть — не дрогнула. (Передала через Алю, без адреса, накануне его отъезда.) [1148] Ах, я должна Вам всё это рассказать, возьмите и мой жизненный (?) опыт: опыт опасных — чуть ли не смертных — игр.
Сумейте, наконец, быть тем, кому это нужно слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим (читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!), чтобы сквозь Вас — как сквозь Бога — ПРОРВОЙ!
Ведь знаете: И́СКОСА — всё очень просто, мое «в упор» всегда встречало ИСКОСА, робкую людскую кось. Когда нужно было слушать — приглядывались, сбивая меня с голосу.
— Устала. — И лист кончается. — Стихи пришлю, только не сейчас.
М.Ц.Впервые — Новый мир. 1969. № 4. стр. 194–196 (первая часть); НП (вторая часть). стр. 280–282; СС-6. стр. 233–236. Печ. по кн.: Души начинают видеть. стр. 39–43.
8-23. Б.Л. Пастернаку
Прага, 15 нов<ого> февраля 1923 г.
Долетела Ваша открытка с ответными крышами [1149]. — А все-таки я Вас с крышами перекричу! — Нате, любуйтесь!
Недоразумение выяснилось: письма просто встретились (разминулись). С Э<ренбур>гом у нас вышло наоборот, т.е. не с письмами вышло, а с людьми!
Пишу Вам после долгого трудового дня, лягу и буду утешаться «описью Вашего стихотворного имущества», — поразительно утешает от всех других имуществ: наличности их и отсутствия!
До свидания. Еще одно письмо за мной: стихи.
М.Ц.Впервые — НП. стр. 276. Печ. по кн.: Души начинают видеть. стр. 43 (с уточнением даты).
9-23. Р.Б. Гулю
Мокропсы, 17-го нов<ого> фев<раля> 1923 г.
Милый Гуль,
Отправляю одновременно письмо к Геликону: получила от него покаянную телеграмму (сравнимо только с объяснениями в любви по телефону!) — и по свойственному мне мужскому великодушию и женской низости — пожалела, т.е.: спросила в упор 1) хочет ли он еще эту книгу 2) сколько — применительно к кронам — заплатит за лист 3) когда издаст. Предупредила, что есть возможность другого издателя и что не настаиваю ни на чем, кроме быстрого ответа.
А Вам на Ваши вопросы отвечаю следующее:
1) Книга записей (быт, мысли, разговоры, сны, рев<олюционная> Москва, — некая душевная хроника) 2) объединена годами (от 1917 г. по конец 1918 г.) и моей сущностью: ВСЁ, В ИТОГЕ, ПРИХОДИТ К ОДНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ 3) от 4 до 5-ти печат<ных> листов (в пресловутых 40 тыс<яч> букв лист), но сама книга выйдет больше, ибо много коротких записей, часто начинаю с красной строки. Вообще необходимо некое бумажное приволье.
Цен не знаю абсолютно, но хотела бы, чтобы плата за книгу и на чешском языке что-нибудь значила. Т.е.: хорошо бы издатель определил в кронах, независимо от срока заключения договора и тех или иных колебаний герм<анской> марки. — Вам ясно? — Сколько бы он сегодня дал в марках, переведенных на кроны? И за эти кроны держаться. (Это не значит, что я прошу чешской расценки, это немыслимо, кроны — некий критерий.)
Прожду геликонова ответа дней семь-восемь, — засим уполномачиваю Вас вступать в переговоры. (Извещу срочно.)
Книга готова будет — самое раннее — к началу апреля. Раньше не берусь. (К первым числам.) Но если дело наладится, пришлю несколько тетрадей на просмотр.
Итог: если это удобно, понаведайтесь сейчас (это полезно и для переговоров с Г<елико>ном) — если не удобно — ждите моего ответа, точного и срочного.
— Милый Гуль, я Вам очень надоела?
_____Как я жалею, что Вы сейчас в Б<ерли>не! Не здесь! (Я ведь помню Вашу страсть к просторам!) Я сегодня полдня была на горе, еще рыжей от осеннего листа (некоторые деревья так и простояли!) Нет чувства, что была зима: очень долгое северное лето. А теперь все начинается: начало, которому не предшествовал конец! И буйно начинается: два ветра, ледяной и летний, с ног сбивает!
Гуль, непременно, хоть раз, когда я буду в Берлине, мы с Вами поедем за город — на целый день!
Я страшно радуюсь своему приезду. (Приеду, очевидно, раньше мая.) Дней на десять.
А пока привет и робкая просьба не сердиться.
МЦ.Впервые — Новый журнал. 1959. № 58. стр. 175–176. СС-6. стр. 521–522. Печ. по тексту СС-6.
10-23. П.Б. Струве
<Январь — февраль 1923 г.> [1150]
Милый Петр Бернардович,
Очень жалею, что не застала, мне сказали, что Вы принимаете по вторникам, в 6 ч<асов>.
Оставляю у вас статью о книге Волконского «Родина» [1151], не знаю, подойдет ли для Русской Мысли (если она будет выходить). Очень хотела бы, чтобы Вы просмотрели ее поскорее, у меня др<угого> экземпляра нет, а в случае, если Русская Мысль не примет, мне надо стучаться в другие места [1152].
Простите за почерк — замерзла.
Шлю привет.
М ЦветаеваВпервые — ВРХД. 1991.№ 162/163. стр. 266 (публ. М. Ракович). СС-6. стр. 312. Печ. по СС-6.
11-23. Б.Л. Пастернаку
<Конец февраля 1923 г.>
Любезность или нежелание огорчить? Робость <вариант: глухота> — или нежелание принять?
А знаете, как это называется? Соблазн избытком. Из всех за жизнь — только один вместил: 61 г. от роду и — очевидно — миллиардер, т.е. привыкший [1153].
А у Вас же великолепный выход: что́ превышает — пусть идет на долю Гения. Он вместит (бездонен).
Это не игра, п<отому> ч<то> на игру нужен досуг. Я же задушена насущностями, от стихов до вынесения помоев, до глубокой ночи. Это кровное. Если хотите: кровная игра. Для меня всегда важно прилагательное.
Отношение к Вам я считаю срывом, — м<ожет> б<ыть> и ввысь. (Вряд ли.)
_____Я не в том возрасте, когда есть человеч<еские> ист<ины>.
_____Я не тот (я другой!) — тогда радуюсь. Но чаще не тот — просто никто. Тогда грущу и отступаюсь.
Впервые — Души начинают жить. стр. 44. Печ. по тексту первой публикации.
12-23. Р.Б. Гулю
Мокропсы, ночь с 5-го на 6-ое нов<ого> марта 1923 г.
Мой милый Гуль,
Спасибо нежное за письмо. «Нов<ую> Русск<ую> Книгу» получила, за отзыв благодарить было бы нескромностью, — не для меня же, но не скрою, что радовалась [1154].
Два слова о делах. Геликон ответил, условия великолепные… но: вне политики. Ответила в свою очередь. Москва 1917 г. — 1919 г. — что́ я, в люльке качалась? Мне было 24–26 л<ет>, у меня были глаза, уши, руки, ноги: и этими глазами я видела, и этими ушами я слышала, и этими руками я рубила (и записывала!), и этими ногами я с утра до вечера ходила по рынкам и по заставам, — куда только не носили!
ПОЛИТИКИ в книге нет: есть страстная правда: пристрастная правда холода, голода, гнева, Года! У меня младшая девочка умерла [1155] с голоду в приюте, — это тоже «политика» (приют большевистский).
Ах, Геликон и К°! Эстеты! Ручек не желающие замарать! Пишу ему окончательно, прошу: отпустите душу на покаяние! Пишу, что жалею, что не он издаст, но что калечить книги не могу.
В книге у меня из «политики»: 1) поездка на реквизиц<ионный > пункт (КРАСНЫЙ), — офицеры-евреи, русские красноармейцы, крестьяне, вагон, грабежи, разговоры. Евреи встают гнусные. Такими и были. 2) моя служба в «Наркомнаце» (сплошь юмор! Жутковатый). 3) тысяча мелких сцен: в очередях, на площадях, на рынках (уличное впечатление от расстрела Царя, напр<имер>), рыночные цены, — весь быт револ<юционной> Москвы. И еще: встречи с белыми офицерами, впечатления Октябр<ьской> Годовщины (первой и второй), размышления по поводу покушения на Ленина, воспоминания о неком Каннегисере (убийце Урицкого). Это я говорю о «политике». А вне — всё: сны, разговоры с Алей, встречи с людьми, собственная душа, — вся я. Это не политическая книга, ни секунды. Это — живая душа в мертвой петле — и все-таки живая. Фон — мрачен, не я его выдумала.
_____Если увидитесь с Геликоном — спросите: берет ли. Боюсь, опять сто лет протянет с ответом. Если не возьмет — Манфреду [1156]. Геликон давал ¼ фунта, — жаль, — но что́ делать! Если Геликон не берет, сговаривайтесь с Манфредом. Старайтесь 3 долл<ара>, говорите — меньше не согласна. Книга будет ходкая, ручаюсь.
И — НЕПРЕМЕННО — 1) корректуру 2) лист с опечатками, не вкладной, а на последней стр<анице> 3) никаких рисунков на обложке, — чисто. Но об этом еще спишемся.
_____«Ремесло» пришлю, как только получу от Геликона. (Пока получила только пробный экз<емпляр>.)
О «плоти» в следующем письме. Молчащая плоть, — это хорошо. Но обычно она вопиет. У меня в Ремесле стих есть:
«Где плоть горластая на нас: добей!» [1157]— Прочтёте. —
МЦ.До свидания, мой милый, нежный Гуль. Мне сегодня вечером (З½ ч<аса> утра!) хочется с Вами поцеловаться.
<Приписка на полях:>
«Стругов» [1158] еще нет, — хорошо бы!
Впервые — Новый журнал. 1959. № 58. стр. 176–177. СС-6. стр. 523–524. Печ. по тексту СС-6.
13-23. Б.Л. Пастернаку
Прага, 8 нов<ого> марта 1923 г.
Дорогой Пастернак,
Со всех сторон слышу, что Вы уезжаете в Россию (сообщают наряду с отъездом Шкапской [1159]). Но я это давно знала, — еще до Вашего выезда!
Письмо Ваше получила, Вы добры и заботливы. Оставьте адрес, чтобы я могла переслать Вам стихи. «Ремесло» пришлю тотчас же, как получу. Уже писала Геликону. Может быть, застанет Вас еще в Берлине.
— Что еще? — Поклонитесь Москве.
Еще раз спасибо за внимание и память, и — от всей души — добрый путь!
М.Ц.Впервые — НП. стр. 283. Печ. по кн.: Души начинают видеть. стр. 46 (с уточнением даты).
14-23. Б.Л. Пастернаку
9 марта 1923 г.
<В углу листа:>
Посвящение Февраля. Крыло Вашего отлета.
Пишу Вам в легкой веселой лихорадке (предсмертной, я не боюсь больших слов, п<отому> ч<то> у меня большие чувства). Пастернак, я не приеду. (У меня болен муж, и на визу нужно 2 недели. Если бы он был здоров, он бы м<ожет> б<ыть> сумел что-нибудь устроить, а так я без рук.) На визу нужно две недели (разрешение из Берлина, свидетельство о тяжелой болезни родственника, здешняя волокита). У меня здесь (как везде) ни друзей, ни связей. Я уже неделю назад узнала от Л.М. Эренбург о Вашем отъезде: собирается… Но сборы — это месяцы! Кроме того, я не имела Вашего письменного разрешения, я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки и ждала. Теперь знаю, но поздно. Пишу Вам вне расчета и вне лукавства и вне трусости. (Объясню!) — С получения Ваших «Тем и Варьяций», нет, — раньше, с известия о Вашем приезде, я сразу сказала: Я его увижу. С Вашей лиловой книжечки я это превратила в явь, т.е. принялась за большую книгу прозы [1160] (переписку!) рассчитав ее окончание на ½ апреля. Работала все дни, не разгибая спины. — Гору сдвинуть! — Какая связь? Ясно. Так вскинуться я не вправе (перед жизненной собой!). У меня (окружающих) очень трудная жизнь, с моим отъездом — весь чертов быт на них. Мне встречу с Вами нужно было заработать (перед собой). Это я и делала. Теперь поздно: книга будет, а Вас нет. Вы мне нужны, а книга нет.
Еще последнее слово: не из лукавства (больше будете помнить, если не приеду, НЕ больше, — ложь! Этот романтизм я переросла, как и Вы.) не из расчета (слишком буду помнить, если увижу! Больше, чем я сейчас — нельзя!) и не из трусости (разочаровать, разочароваться).
Все равно, это чудовищно, — Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18-го целый день (ибо не знаю часа отъезда) буду провожать Вас, — пока души хватит.
Не приеду, п<отому> ч<то> поздно, п<отому> ч<то> я беспомощна, п<отому> ч<то> Сло́ним [1161] например достанет разрешение в час, п<отому> ч<то> это моя судьба — потеря.
_____А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду ЖИТЬ этим все два года напролет. И если за эти годы умру, это (Вы!) будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю, 16-ти лет 2 года подряд, день <в> день, час в час, любила Герцога Рейхштадтского (Наполеона II) [1162], любила сквозь всё и всех, слепая жила. Пастернак, я себя знаю. Вы — мой дом, к Вам я буду думать домой, каждую секунду, я знаю. Сейчас Весна <оборвано>
(У меня много записано в тетрадке о Вас эти дни. Когда-нибудь пришлю.) Сейчас у меня мысли путаются: как перед смертью: ВСЁ нужно сказать.
Предстоит огромная Бессонница Весны и Лета, я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами будет — Вы. Теперь мгновенная самооборона: как с этим жить? Ведь бесконечные вечера, костры, рассветы, я себя знаю, я заранее в ужасе. Тогда, летом я это остановила, перерубила отъездом в другую страну, все это осталось на каменном отвесе берлинского балкона и в зап<исных> к<нижках>. Но сейчас я никуда не уеду, никуда не уйду. Это (Вы) уже поселилось в моей жизни (не только во мне!), приобрело оседлость.
Теперь, резко: что́ именно? В чем дело! Я честна и ясна: СЛОВА — клянусь! — для этого не знаю. (Перепробую все!) Насколько — не знаю, увидите из февральских стихов. Самое точное: непрерывная и все…. устремление души, всего существа. К одному знаменателю. Ясно? Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, выходом. Вам ясно? Законным. Ведь лютейшего соблазна и страшнейшей безнаказанности нет: расстояние! / пространство.
_____А теперь просто: я живой человек и мне ОЧЕНЬ больно. Где-то на высотах себя — нет, в глубине, в сердцевине — боль. Эти дни (сегодня 9-ое) до Вашего отъезда я буду очень мучиться.
_____Февраль 1923 г. в моей жизни — Ваш. Делайте с ним, что хотите.
_____П<астерна>к, два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг — по-безумному! — начинаю верить!) Буду присылать Вам стихи. О Вас, поэте, буду говорить другим: деревьям и, если будут, друзьям. Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда остается одно: о себе к Вам (в упор) то, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела.
Слово о Вашей — мысли навстречу моей вечной остается в силе. Другое, которое Вам было неприятно, должна истолковать: Сумейте, означало не выучит<есь>, «Сделайте чудо, наконец» — увы относ<илось> ко мне, а не к Вам. Т.е. после стольких не-чудес, вот оно, наконец, чудо! (Которого хочу!) …Мы еще ни о чем не говорили. В Веймаре будет долгий разговор.
Непосредственно после этого письмы {162} Вы получите другое, со стихами [1163]. Сделайте мне радость, прочтите их только в вагоне, когда поезд тронется. Вторая просьба: оставьте верный адрес.
— Наши письма опять разминулись, открытка была в ответ на первое [1164]. Я тогда не поняла «До скорого свидания», — теперь ясно, но поздно.
Впервые — Души начинают видеть. стр. 46–49. Вариант — HCT. стр. 125–128 (без указания адресата). См. текст ниже. Печ. по тексту первой публикации.
14а-23. <Б.Л. Пастернаку>
<9 марта 1923 г.>
Посвящение Февраля.
_____Крыло Вашего отлета (большое косое облако в вечер того дня).
_____Пишу Вам в легкой веселой лихорадке (казалось бы — предотъездной, но — предсмертной (я не боюсь больших слов, потому что у меня большие чувства: вернее: не слова у меня большие, а — чувства). Пастернак, я не приеду. У меня болен муж, и на визу нужно две недели. Если бы он был здоров, он бы м<ожет> б<ыть> сумел что-нибудь устроить, а та́к я без рук.) На визу нужно две недели (разрешение из Берлина, свидетельство о тяжелой болезни родственника (где его, где — ее — взять??) — здешняя волокита. У меня здесь (как везде) ни друзей ни связей. Я уже неделю назад узнала от Л.М. Э<ренбург> о Вашем отъезде: собирается… Но сборы — это месяцы! Кроме того, у меня не было Вашего письменного разрешения, я не знала, нужно Вам или нет, я просто опустила руки и ждала. Теперь знаю, но поздно. Пишу Вам вне лукавства и расчета и вне трусости (объясню). С получения Ваших Тем и Варьяций, нет раньше, с известия о Вашем приезде, я сразу сказала: Я его увижу {163}. С той лиловой книжечки я это превратила в явь, т.е. принялась за большую книгу прозы (Земные приметы, вроде дневника) т.е. переписку, рассчитав ее окончание на половину апреля. Работала не разгибая спины, все дни. — Гору сдвинуть! — Какая связь? Ясно. Так вскинуться я не вправе (перед жизненной собой!). У меня (окружающих) очень трудная жизнь, с моим отъездом — весь чертов быт на них. Но я <фраза не окончена>. Мне встречу с Вами нужно было заработать (перед собой). Это я и делала. Теперь поздно: книга будет, а Вас — нет. Вы мне нужны, а книга нет.
Еще последнее слово: не из лукавства (больше будете помнить, если не приеду, не больше — ложь! Этот романтизм я переросла, как и Вы.) не из расчета (слишком буду помнить, если увижу! — Больше, чем я сейчас — нельзя!) и не из трусости (разочаровать, разочароваться).
Всё равно, это чудовищно, — Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18-го целый день (ибо не знаю часа отъезда) буду провожать Вас, — пока души хватит.
Не приеду, потому что поздно, потому что я беспомощна, потому что Слоним например достанет разрешение в час, потому что это моя судьба — потеря.
_____А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду ЖИТЬ этим все два года напролет. И если за эти годы умру, это (Вы!) будет моей предпоследней {164} мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю, я 16-ти лет 2 года подряд, день в день, час в час, любила Герцога Рейхштадтского (Наполеона II), любила сквозь всё и всех, слепая жила. Пастернак, я себя знаю.
Вы — мой дом, в Вас я буду думать домой, каждую секунду, я знаю. Сейчас весна. (У меня много записано в тетрадке о Вас эти дни. Когда-нибудь пришлю.) Сейчас у меня мысли путаются: как перед смертью: ВСЁ нужно сказать.
Предстоит огромная бессонница Весны {165} и Лета, я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами, будет — Вы. Теперь мгновенная самооборона: как с этим жить? Ведь бесконечные вечера, костры, рассветы, — здесь русские всё время жгут костры — я себя знаю, я заранее в ужасе. Тогда, летом я это остановила, перерубила отъездом в другую страну, всё то осталось на каменном отвесе берлинского балкона и в записных книжках. Но сейчас я никуда не уеду, никуда не уйду. Всё это (Вы) уже во мне. Пастернак, я доехала.
Теперь, резко: что́ именно? В чем дело! Я честна и ясна: СЛО́ВА — клянусь! — для этого не знаю. (Перепробую все!) Насколько — не знаю — увидите из февральских стихов. Знаю только, что встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, выходом, — Вам ясно? Законным. Ведь лютейшего соблазна и страшнейшей безнаказанности {166} нет: пространства!
_____А теперь просто: я живой человек и мне ОЧЕНЬ больно. Где-то на высотах себя — нет, в глубине, в сердцевине — боль. Эти дни (сегодня 9-ое) до Вашего отъезда я буду очень мучиться.
(9-18-ое — девять дней, девять дён — досмертья.)
_____Февраль 1923 г. в моей жизни — Ваш. Делайте с ним, что хотите.
_____Пастернак, два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг — по-безумному! — начинаю верить!) Буду присылать Вам стихи. О Вас (поэте) буду говорить другим: деревьям и, если будут, друзьям. Ни от одного слога не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда остается одно: о себе к Вам (в упор) то, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела. Это будут — стихи.
Слово о Вашей — мысли навстречу моей вечной {167} остается в силе. Другое, которое Вам было неприятно, должна истолковать: «Сумейте» значит «выучитесь» — «Сделайте чудо, наконец» — увы относится ко мне, а не к Вам, т.е. будьте концом этого наконца́ — после стульких не-чудес будьте чудом — Вы.
…Мы еще ни о чем не говорили. В Веймаре будет долгий разговор.
_____Непосредственно после этого письмы Вы получите другое, со стихами. Сделайте мне радость, прочтите их только в вагоне, когда поезд тронется. Чтобы я с Вами простилась — последней. Вторая просьба: оставьте верный адрес.
— Наши письма опять разминулись, открытка была в ответ на первое. Я тогда не поняла «до скорого свидания», — теперь ясно, но поздно.
Впервые — HCT. стр. 125–128. Печ. по тексту первой публикации.
14б-23. Б.Л. Пастернаку
Мокропсы, 9 нов<ого> марта 1923 г.
Дорогой Пастернак,
Я не приеду, — у меня советский паспорт и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине, и нет связей, чтобы это осилить, — в лучшем случае виза длится две недели. (Тотчас же по получении Вашего письма навела точнейшие справки.) Если бы Вы написали раньше, и если бы я знала, что Вы так скоро едете… Неделю тому назад — беглое упоминание в письме Л.М. Э<ренбург>: Пастернак собирается в Россию… Потом пошло: и тот и другой, все вскользь, без обозначения срока.
Милый Пастернак, у меня ничего нет, кроме моего рвения к Вам, это не поможет. Я всё ждала Вашего письма, я не смела действовать без Вашего разрешения, я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки. (Пишу Вам в веселой предсмертной лихорадке.) Теперь знаю, но поздно.
С получения Ваших «Тем и Вариаций» — нет, раньше, с известия о Вашем приезде, я сказала: я его увижу. С Вашей лиловой книжечки это ожило, превратилось в явь (кровь), я принялась за большую книгу прозы (переписку!), рассчитав окончание ее на середину апреля. Работала все дни, не разгибая спины. Какая связь? Ясно. Та́к вскинуться я не вправе (перед жизненной собой!). У меня (окружающих) очень трудная жизнь. С моим отъездом — весь чертов быт на них. Я ревностно принялась. Теперь поздно: книга будет, а Вы — нет. Вы мне нужны, а книга — нет.
Еще последнее слово: не из лукавства (больше будете помнить, если не приеду. Не больше, — ложь!), не из расчета (слишком буду помнить, если увижу! Все равно слишком — и больше — нельзя!) и не из трусости (разочаровать, разочароваться).
Все равно, это чудовищно — Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18-го целый день (ибо не знаю часа!) буду провожать Вас — пока души хватит.
Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощна, потому что Марк Слоним, напр<имер>, достает разрешение в час, потому что это моя судьба — потеря.
_____А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду жить этим все два года напролет. И если за эти годы умру (не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой (ходила справляться о визе у только что ездивших) — шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас, нет, не Вас, о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, — ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! (Простите за такой взрыв правды, пишу, как перед смертью.)
Предстоит огромная бессонница Весны и Лета, я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами, будет — Вы. Как с этим жить? Дело не в том, что Вы — там, а я — здесь, дело в том, что Вы будете там, что я никогда не буду знать, есть Вы или нет. Тоска по Вас и страх за Вас, дикий страх, я себя знаю.
Пастернак, это началось с «Сестры», я Вам уже писала. Но тогда, летом, я это остановила, перерубила отъездом в другую страну, в другую жизнь, а теперь моя жизнь — Вы, и мне некуда уехать.
Теперь, резко: что́ именно? В чем дело? Я честна и ясна, сло́ва — клянусь! — для этого не знаю. (Перепробую все!) Насколько не знаю — увидите из февральских стихов. Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, законным, — Вам ясно? Выдохом! Я бы (от Вас же!) выдышалась в Вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства: чувства, уже исключающие понятие меры! — И я говорю меньше, чем есть.
А теперь просто: я живой человек и мне очень больно. Где-то на высотах себя — лед (отрешение!), в глубине, в сердцевине — боль. Эти дни (сегодня 9-ое) до Вашего отъезда я буду очень мучиться.
Пастернак, два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг — по-безумному! — начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно. — Буду присылать Вам стихи и всё, что у меня будет в жизни. О Вас, поэте, я буду говорить другим. Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда останется одно: о себе к Вам (в упор), то́, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела. Пастернак, если Вам вдруг станет трудно — или не нужно, — ни о чем не прошу, а этого требую: прервите. Тогда загоню вглубь, прерву, чтобы под землей тлело, — как тогда, в феврале, стихи.
Сейчас 2 ч<аса> ночи. — Пастернак, Вы будете живы? — Два года — что́ это? Я не понимаю времени, я понимаю только Пространство. Я сейчас шла по отвесу горы, вижу пролетом поезд, я подумала: вот! Пастернак, ни одного поезда не будет за эти… постойте: 730 дней! — чтобы я <оборвано>
_____Ваша изящная передача… И виду не подав! — Теряюсь. — «За позволенье думать, что обращаясь к Вам, Вам же отвечаю…» И еще, не забыла ли я? Нет, не забыла, если я забуду, мысль моя к Вам — не забудет.
А то, от чего Вы открещиваетесь, надо читать так: «Сделайте чудо (у меня: „сумейте“), будьте наконец тем»… «Наконец» — не к Вам, так, с пера сорвалось.
Вы не бойтесь. Это одно́ такое письмо. Я ведь не глупей стала — и не нище́й, оттого что Вами захлебнулась. Вам не только моя оценка тяжела, но и мое отношение, Вы еще не понимаете, что Вы — одаривающий. Буду в меру. В стихах — нет. Но в стихах Вы простите.
Мой Пастернак, я может быть вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, — благодаря Вам! Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчаний. А у меня ведь — только перо!
_____Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите — и страх, что поверив, отшатнетесь. Я знаю, дело внешней меры. Внешней безмерностью не только грешу. Внешне — мне всё слишком много: и от другого и — особенно! — от себя. Мое горе с Вами в том (уже горе!), что слово для меня ВПЛОТЬ — чувство: наивнутреннейшее. Если бы мы с Вами встретились, Вы бы меня не узнали, сразу бы отлегло. В слове я отыгрываюсь, как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудности этого. — Вам ясно? — В жизни я безмерно-дика, из рук скольжу.
_____Пастернак, сколько у меня к Вам вопросов! Мы еще ни о чем не говорили. В Веймаре будет долгий разговор.
_____Перо из рук… Уже выходить из княжества слов… Сейчас лягу и буду думать о Вас. Сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми. Из княжества слов — в княжество снов.
Пастернак, я буду думать о Вас только хорошее, настоящее, большое. — Как через сто лет! — Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей жизни принадлежат Вам! Как все мои стихи.
Завтра утром допишу. Сейчас больше трех и Вы давно спите. Я с Вами всю ночь говорила сонным.
М.Ц.10 нов<ого> марта, утром:
Целая страница еще впереди, — целый белый блаженный лист — на всё! Теперь пойдут просьбы: во-первых, освободите меня в обращении от отчества: я родства непомнящий! во-вторых, подарите мне Ваше прекрасное имя: Борис (княжеское!), чтобы я на все лады — и всем деревьям, — и всем ветрам! Злоупотреблять им не буду. В-третьих (бытовое), пойдите по приезде к H.A. К<оган> (жене П<етра> С<еменовича>, матери Блоковского мальчика) и расскажите ей обо мне — что знаете. Скажите, что писала ей много раз и никогда не получала ответа. Скажите, что я ее и Сашу (сына) помню и люблю, дайте мой адрес. Да, еще очень важное: я переслала (т.е. Геликон) Н<адежде> А<лександровне> — для сестры — четыре доллара. Дошли ли? Если не забудете, попросите Н<адежду> А<лександровну> передать сестре, что я ей писала бесконечное число раз и также в ответ — ни звука… Теперь еще, Пастернак, родной, просьба: не захватите ли Вы с собой три книжки моего «Ремесла» (возьмите у Геликона, объяснив) — все три сдала бы Н<адежда> А<лександровна>: один ей, другой — моей сестре, третий — Павлику Антокольскому — мы с ним дружили в детстве (в начале революции).
О «Ремесле». Вчера, только что получив Ваше письмо, Вам его выслала, — свой экземпляр, пробный, немножко замурзанный, простите, другого не было. Очень хочу, чтобы Вы мне написали о «Переулочках», что́ встает? Фабула (связь) ни до кого не доходит, — только до одного дошла: Чаброва, кому и посвятила, но у него дважды было воспаление мозга! Для меня вещь ясна, как день, всё сказано. Другие слышат только шумы, и это для меня оскорбительно. Это, пожалуй, моя любимая вещь, написанная, мне важно и нужно знать, как — Вам. Доходят ли все три царства и последний соблазн? Ясна ли грубая бытовая развязка?
Одной моей вещи Вы еще не знаете. «Мо́лодца». Жила ею от Вас (осени) до Вас же (февраля). Прочтя ее, Вы может быть многое уясните. Это лютая вещь, никак не могла расстаться. Еще из просьб: присылайте стихи, это мне такое же освобождение, как собственные. Живописуйте быт, где живете и пишете, Москву, воздух, себя в пространстве. Это мне важно, я могу устать (от счастья!) думать в «никуда». — Фонарей и улиц много! — Когда мне дорог человек, мне дорога вся его жизнь, самый нищенский быт — драгоценен! И формулой: Ваш быт мне дороже чужого бытия!
Вчера вечером (я еще не распечатывала Вашего письма, в руке держала), вопль моей дочери: — «Марина, Марина, идите!» (я мысленно: небо или собака?) Выхожу. Вытянутой рукой указывает. Пол-неба, Пастернак, в крыле, крыло в пол-неба, — невиданное! Слов таких нет для цвета! Свет, ставший цветом! И мчит, запахнув пол-неба. И я, в упор: «Крыло Вашего отъезда!»
Такими знаками и приметами буду жить.
_____Посылаю стихи «Эмигрант». Хочу, чтобы прочли их еще в Берлине. Остальные (от первого до последнего) будут в письме, которое высылаю следом. Их, — это моя нежная и настойчивая просьба, — Вы прочтете только в вагоне, когда поезд тронется.
_____Если будут очень ругать за «белогвардейщину» в Москве, — не огорчайтесь. Это мой крест. Добровольный. С Вами я вне.
Последние слова: будьте живы, больше мне ничего не нужно.
М.Ц.— Оставьте адрес. —
ПриложениеСТИХИ К ВАМ:
1. Гора
Не надо ее окликать: Ей отдых — что воздух. Ей зов Твой — раною по рукоять. До самых органных низов Встревожена, в самую грудь Пробужена, бойся, с высот Своих сталактитовых (— будь!) Пожалуй — органом вспоет. А справишься? Сталь и базальт — Гора, но лавиной в лазурь На твой серафический альт Вспоет — полногласием бурь. — И сбудется! — Бойся! — Из ста На сотый срываются… — Чу! На оклик гортанный певца Органною бурею мщу!7 нов<ого> февраля 1923 г.
2
Нет, правды не оспаривай! Меж кафедральных Альп То бьется о розариум Неоперенный альт. Девичий и мальчишеский: На самом рубеже. Единственный из тысячи — И сорванный уже. В само́м истоке суженный: Растворены вотще Сто и одна жемчужина В голосовом луче. Пой, пой, — миры поклонятся! Но Регент: «Голос тот Над кровною покойницей: Над Музою поет! Я в голосах мальчишеских Знаток…» — и в прах и в кровь, Снопом лучей рассыпавшись О гробовой покров. Нет, сказок не насказывай: Не радужная хрупь: Кантатой Метастазовой Разыгранная грудь. Клянусь дарами Божьими: Своей душой живой! — Что всех высот дороже мне Твой срыв голосовой!8 нов<ого> февраля
3. Эмигрант
Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами, Дамами, Думами, Не слюбившись с Вами, не сбившись с вами Неким — Шуманом пронося под полой весну: Выше! и́з виду! Соловьиным тремоло на весу — Некий — избранный Боязливейший, ибо взяв на дыб — Ноги лижете! Заблудившийся между грыж и глыб Бог в блудилище! Лишний! Вышний! Выходец! Вызов! Ввысь Не отвыкший… Виселиц Не принявший… В рвани валют и виз Веги — выходец.9 нов<ого> февраля
_____(NB! После «неким» — задержка дыхания — и: Шу́маном.)
4
Выше! Выше! Лови — летчицу! Не спросившись лозы отческой — Нереидою по—лощется, Нереидою в ла—зурь! Лира! Лира! Хвалынь синяя! Полыхание крыл в скинии! Над мотыгами и́ спинами Полыхание двух бурь! Муза! Муза! Да как смеешь ты? Только узел фаты веющей! Или ветер станиц — шелестом О страницы — и смыв, взмыл… И покаместь — счета — кипами, И покаместь — сердца — хрипами Закипание — до — кипени Двух вспененных — крепись! — крыл. Так, над вашей игрой крупною, (Между трупами — и́ — куклами!) Не общупана, не́ куплена, Полыхая и пля—ша— Шестикрылая, ра—душная, Между мнимыми — ниц! — сущая, Не задушена вашими тушами: Ду—ша!10 нов<ого> февраля
5
Из недр — и на ветвь… рысями! Из недр — и на ветр… свистами! Гусиным пером писаны? Да это стрела скифская! Крутого крыла грифова Последняя зга — Скифия! Сосед, не спеши! Нечего Спешить, коли час — тысячный… Разменной стрелой встречною Когда-нибудь там — спишемся… Вели—кая — и — тихая Меж мной и тобой — Скифия… И спи, молодой, смутный мой Сириец, стрелу смертную Кимвалами и лютнями Глуша… Не ушам смертного (Единожды в век слышимый) Эпический бег — Скифии!11 нов<ого> февраля
6
Колыбельная
Как по синей по степи́ Да из звездного ковша Да на лоб тебе да… — Спи, Синь подушками глуша. Дыши да не дунь, Гляди да не глянь, Волынь-криволунь, Хвалынь-колывань. Как по льстивой по трости́, Ро́сным бисером плеща, Заработают персты… (Шаг — подушками глуша:) Ложи — да не двинь, Дрожи — да не грянь. Волынь-перелынь, Хвалынь-завирань. Как из моря из Каспий- ского — синего плаща, Стрела свистнула да… (спи, Кровь — подушками глуша…) Лови — да не тронь, Тони — да не кань. Волынь-перезвонь, Хвалынь-целовань.13 нов<ого>февраля
7
Богиня Иштар
(Луны и Войны.
Ее, по словам Персов, чтили Скифы.)
От стрел и от чар, От гнезд и от нор, Богиня Иштар, Храни мой шатер: Братьев, сестер. Руды моей вар, Вражды моей чан, Богиня Иштар, Храни мой колчан… (Взял меня — хан!) Чтоб не́ жил кто стар Чтоб не́ жил кто хвор Богиня Иштар Храни мой костер (Пламень востер!) Чтоб не́ жил кто стар Чтоб не́ жил кто зол Богиня Иштар Храни мой котел (Зарев и смол!) Чтоб не́ жил — кто стар, Чтоб нежил — кто юн! Богиня Иштар Стреми мой табун В тридевять лун!14 нов<ого> февраля
8
Лютня
Лютня! Безумица! Каждый раз, Царского беса вспугивая: — «Перед Саулом-Царем кичась…» (Да не струна ж — а судорога!) Лютня! Ослушница! Каждый час, Струны стрелой натягивая: — «Перед Саулом-Царем кичась — Не заиграться б с аггелами!» Горе! Как рыбарь какой стою Перед пустой жемчужницею. Это же оловом соловью Глотку залить… да хуже еще: Это — бессмертную душу — в пах Первому добру мо́лодцу… Это — но хуже, чем в кровь и в прах: Это — срываться с голосу! И сорвалась же! — Иди, будь здрав, Бедный Давид… — Есть пригороды! Перед Саулом-Царем играв С аггелами — не игрывала!14 февраля
9
Азраил
I
От руки моей не взыгрывал, На груди моей — не всплакивал… Непреложней и незыблемей Опрокинутого факела: Над душой моей — в изглавии, Над страдой моей — в изножий… (От руки моей не вздрагивал, — Не твоей рукой — низложена!) Азраил! В ночах без месяца И без звезд — дороги скошены. В этот час тяжело-весящий Я тебе не буду ношею… Азраил! В ночах без выходов И без звезд: личины сорваны! В этот час тяжело-дышущий Я тебе не буду прорвою… А потом — перстом — как факелом Напиши в рассветных серостях О жене, что назвала тебя Азраилом — вместо Эроса!II
(последнее)
Оперением зим Овевающий шаг наш валок — Херувим Марий годовалых! В шестикнижие крыл Окунающий лик как в воду — Гавриил — Жених безбородый! И над трепетом жил, И над лепетом уст виновных: Азраил — Последний любовник.17 нов<ого> февраля 1923 г.
М.Ц.Впервые — НП. стр. 283–290. Печ. по кн.: Души начинают видеть. стр. 49–62.
15–23. Р.Б. Гулю
Мокропсы, 11-го нов<ого> марта 1923 г.
Мой дорогой Гуль!
Мои мысли «в великом расстрое» (так мне однажды сказала цыганка на Смоленском, — прогадала ей последнюю тыщонку!)
Уезжает мой поэт — из всех любимый — Пастернак, конечно — и я даже не могу поехать к нему проститься: нет умирающего родственника в Берлине, и к 18-му не выдумаешь [1165]. Я в большой грусти (видите, умею, и чаще и пуще, чем думаете! Это я о Вашем отзыве говорю!) — и у меня единственное утешение 1) что это всю мою жизнь так 2) «Gespräche mit Goethe» {168} Эккермана. Эту книгу я умоляю Вас купить на прилагаемую «валюту» и передать Пастернаку до его отъезда. (Уезжает 18-го, так пишет.)
Думаю, есть много изданий. У меня в Москве было чудесное, Вы сразу узнаете: увесистый том, великолепный шрифт (готический), иллюстрации (Веймар, рисунки Гёте и т.д.). Я бы не знаю как просила Вас разыскать именно это, это отнюдь не редкость, издание не старинное. Меньше всего я бы хотела Reclam-Ausgabe {169} (вроде нашей Универсальной). Думаю, ведь можно в магазинах по телеф<ону> справиться?
Ecckermann Gespräche mit Goethe. Книга должна быть большая, есть выдержки, это не имеет смысла.
Очень хотелось бы мне еще ему старого Гёте, хороший портрет. Есть такие коричневые — не гравюры, но вроде. Но не знаю, хватит ли денег. (Около 15 герм<анских> тысяч, кажется?) Во всяком случае — Эккерман на первом месте. Если бы — совершенно не знаю Ваших цен — денег не хватило, умоляю, доложите из своих. Верну тотчас же.
_____Еще: ничего не знаю о П<астернаке> и многое хотела бы знать. (МЕЖДУ НАМИ!) Наша переписка — ins Blaue {170}, я всегда боюсь чужого быта, он меня большей частью огорчает. Я бы хотела знать, какая у Пастернака жена («это — быт?!» Дай Бог, чтобы бытие!), что́ он в Берлине делал, зачем и почему уезжает, с кем дружил и т.д. Что́ знаете — сообщите.
И — непременно — как передавали книгу, что он сказал, были ли чужие. Самое милое, если бы Вы отвезли ему ее на вокзал, тогда бы я знала проводы. Но 1) просить не смею (хотя для Вас, писателя, такой отъезд любопытен: человек уезжает от «хорошей жизни», сто́ит задуматься!) 2) может быть у Вас привычка опаздывать на вокзал? Тогда мой Эккерман провалится! — Нужно было бы точно узнать время поезда.
Передавая, скажите только, что вот я просила… Можете не говорить что́ (назв<ание> книги), я всегда боюсь смущения другого, некой неизбежной секунды НЕЛЕПОСТИ в комнате. Вокзал для всяких чувств благоприятней (видите, какая я лисица!)
И, чтобы кончить об этом (во мне-то — только начинается!), милый Гуль, не откладывайте! Отсылаю письмо 12-го (в понедельник), дойдет не раньше 16-го, у Вас всего один день на всё. Буду ждать Вашего ответа больше, чем с нетерпением, меньше, чем с исступлением, что-то среднее, но с меня хватит.
_____Вторая печаль (следствие) — осточертела книга [1166]. С 9-го (день, когда узнала об отъезде) бросила, рука не тянется. Страшно огорчена: все время гуляю: проскваживаю на мокропсинских горах голову и сердце! Но пишу стихи — опять засоряются. Мутит меня и Геликон (наглец!) не отвечая, берет или нет. Но все-таки, конечно, переборю и примусь. Книга любопытная, очень ясны две стихии: быт (т.е. Революция) и БЫТИЕ (я). Не сочтите за наглость — бытие, это то́, как должно быть, нужно же хоть один угол в мире — неискаженный!
А Ваш Манфред — как? Не боится «белогвардейщины»? Черной сотни в книге нет, но есть белое бешенство. В России (если большевики не окончательно об'о́вчели (овца)) — навряд ли пропустят. А куда-нибудь в Болгарию отдавать — они всю Психею (меня то есть) выбросят. — Затрудняюсь. —
_____Ну, Гуль мой дорогой, до свидания. Читали ли Вы «Родину» Волконского? У меня о ней большая статья где-то гуляет, м<ожет> б<ыть> Глеб Струве возьмет в «Р<усскую> М<ысль>». Если увидите «Родину» — прочтите, это ЧУДЕСНАЯ книга, такой нет второй.
Геликон, наглец, «Ремесло» не шлет, свой единственный экз<емпляр> я отослала Пастернаку в дорогу. Как только получу — первая книга Вам. В следующем письме напишу Вам об одном своем невеселом и невольном жульничестве, — сама удивлена.
Ради Бога, подробно и поскорее — о книге и об отъезде.
Ваша неустанная просительница
МЦ.<Приписка на полях:>
В КРАЙНЕМ случае берите Reclam-Ausg<abe>, хотя все сделайте, чтобы достать хорошее изд<ание>.
Адр<ес>: Пастернака: Berlin — W. 15 Fasanenstrasse 41III в/v. Versen.
Впервые — Новый журнал. 1959. № 58. стр. 178–179. СС-6. стр. 524–526. Печ. по СС-6.
16-23. М.С. Цетлиной
Прага, 11-го нов<ого> марта 1923 г.
Милая Мария Самойловна,
У меня к Вам просьба: не могли бы Вы попросить «Звено» о высылке мне гонорара за «Метель» [1167]. (Хотелось бы и оттиск.)
Скоро Пасха и мне очень нужны деньги. Простите, что обращаюсь к Вам, но в «Звене» я никого не знаю.
Если бы Вас не затруднило, сообщите им, пожалуйста, мой адрес:
Praha, II, Vyšehradska tř<ida> 16
Mêstsky Hudobinec
S. Efron
«Ремесло» мое уже отпечатано, но Геликон [1168] почему-то в продажу не пускает. Прислал мне пробный экз<емпляр> [1169] книга издана безукоризненно. Как только получу, пришлю.
А пока — сердечный привет Вам и Михаилу Осиповичу. — Как Вам понравился Сергей Михайлович? [1170]
Шлю привет.
МЦ.Впервые — в кн.: Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана. М.: Книга, 1989. стр. 368 (публ. Е.И. Лубянниковой). СС-6. стр. 549. Печ. по СС-6.
17-23. Р.Б. Гулю
Мокропсы, 28 нов<ого> марта 1923 г.
Дорогой Гуль,
Это письмо Вы получите через Катерину Исааковну Еленеву [1171], мою приятельницу и сподвижницу по Мокропсам.
Очень рада была бы, если бы вы друг другу понравились. Это возможно, ибо мне — вы нравитесь оба.
Посылаю Вам «Ремесло». И нежную благодарность за Эккермана [1172]. Ваше письмо прочла поздно вечером на станции, под фонарем. Душа закипела от Вашей любови к быту: моя извечная ненависть! За прочность в мире тоже не стою. Где прочно — там и рвется. (Это я, впрочем, из злобы!)
О книге: сейчас не пишу, думаю бросила на все лето. Сейчас погибаю от стихов: рук не хватает!
Пишу в грозу, — первую, почти в темноте: от молнии до молнии!
Книгу (возвращаясь к делам) закончу к осени. Если раньше — пришлю.
— Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности — людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними бы я умерла.
Если что и люблю здесь — то отражения (если принимать их за сущность, получается: искажения). Это я Вам пишу, чтобы Вы со мной раздружились, потому что я люблю, чтобы меня любили из-за меня самой, — не терплю заместителей! (Себя — в толковании другого!)
_____Спешу. Кончаю. Убеждена, что не раздружитесь. Не сердитесь за волокиту с книгой, — здесь виновны стихи (Весна и стихи!)
МЦВпервые — Новый журнал. 1959. № 58. стр. 180. СС-6. стр. 526–527. Печ. по СС-6.
18-23. Б.Л. Пастернаку
<Конец марта 1923 г.>
Я терпелива, и свидания буду ждать, как смерти. / Я <в> Вас знаю только Вашу душу. / Умею любить Вселенную в розницу: позвездно и погнездно, но это величайший соблазн, — раз в жизни: оптом, в собирательном стекле — чего? — ну глаз. (Как всю Музыку в мире в одной органной ноте голоса.) Нужно быть терпеливым, великодушным, пожалуй старым, старше возраста. Только старик (тот, кому ничего не нужно) умеет взять, принять всё, т.е. дать другому возможность быть. Открещиваться и принимать вздох (выдох!) за вексель — дело наглой и подозрительной молодости. / Последняя реплика — «При чем тут я?!» («Не по адресу»). А здесь, волей неволей, приходится говорить о поэте. Миллиард за жизнь прочитанных книг. — Так? — И очень много написанных. Откуда же чудо первичного волнения? Почему это ударило, а не соседнее. У каждого поэта только один читатель и Ваш читатель — я. Теперь, внимание: я же не слепая и не глухая, Ваше признание меня (поэта) до меня доходит, я же не открещиваюсь: Вы поэт, Вы видите будущее. Хвалу сегодняшнему дню я отношу за счет завтрашнего, я спокойно принимаю, раз Вы верите — это будет (следовательно есть!). Вы видите землю насквозь, Вы видите цветок в семени. Никогда не расцветающий здесь, здесь прорастание в земле <вариант: сквозь землю>, цвет — завтра и там.
Ничья хвала и ничье признание мне не нужно, кроме Вашего, руку на сердце положа. — О не бойтесь моих безмерных слов, их вина в том, что они еще слова, т.е. не могут еще быть только чувствами. Когда я окончательно поверю в Вас, я перестану Вам писать.
_____Я очень спокойна. Никакой лихорадки. Я блаженно провожу свои дни. Это в первый раз за жизнь не наваждение, — а <пропуск одного слова> не чара, а знание. Не рассмотрите в этом превышения прав, раз, — упокоения в себе, два. Кроме Элизиума, есть еще земной милый сад с тростинками, с хворостинками, с шерстинками птиц и зайцев, — лбом в Элизиум, ногами на земле. Поэтому покойно, упокоено только мое главенствующее. А ногам — для того чтобы прямо идти — нужна рука — протянутая навстречу. — Хочу Ваших писем. —
Впервые — Души начинают видеть. стр. 64–65. Печ. по тексту первой публикации.
19-23. Б.Л. Пастернаку
<Конец марта 1923 г.>
Не живя с <Вами>, я всю жизнь буду жить не с теми, но мне не важно с кем: кем. Живя <Вами>, я всю жизнь буду жить — ТЕМ!
_____Знаете, как это бывает. Предположим Вы ставите вопрос, сгоряча — перв<ым> движ<ением> — нет, потом — глубже: да, потом еще глубже: нет, глубже глубокого: да… (Не четыре ступени — сорок!) И, конечное: да.
Так и с Вашим вопросом (ибо не утверждение, а вопрос, в утверждении — вопрос!) о сестре [1173]. (Уже сейчас не помню, что́ сгоряча, м<ожет> б<ыть> и да, важна смена!) Как с лестницы. Но в Вашем вопросе я не вглубь шла, а ввысь.
_____Воз<действие> одного на другого. Душа ищет знака, повел<евающего> быть, (скала — жезла Ааронова <вариант: Моисеева>).
_____Думаю, что из упорства никогда не скажу Вам того слова. Из упорства. Из суеверия. (Самого пустого, ибо вмещает всё, самого страшного!) Его можно произносить по пустякам, когда это заведомо — гипербола. Его можно дарить, как червонец — нищему. В больших случаях — тишина и осторожн<ость>. Не п<отому> ч<то> Крёзу моего червонца мало, а п<отому> ч<то> он его сам наперед взял.
Я ничего не могу Вам подарить, п<отому> ч<то> это было бы взлом<ом> в Вашу же сокровищницу.
_____Еще: дарить: хотя бы душу! — отделять: душа часть меня, есть кость. Предпочитаю ничего Вам не дарить, не говорить — об этом.
_____Сегодня вечером, холодя себе весь левый сердечный бок промерзлой стеной весеннего вагона (сидела у окна) думала: этого жизнь мне не даст: Вас рядом. Даст чехов, немцев, студентов, гениев, еще кого-то, еще кого-то: —— она мне не даст.
_____Ну, а в минуту смерти: кто встанет?
_____Думаю, (вне Вас и вне себя) в предсмертную секунду (последнюю до) — та рука, в секунду посмертную (первейшую, первую по) моя, эта.
_____По спокойствию и по безнадежности знаю: <оборвано>
_____— «Не ждите ни меня, ни моих писем» [1174]… Милый друг, я буду ждать Ваших дел, это же Ваше лучшее письмо ко мне: письмо к Миру!
_____— Ах, Вы и это слово писать задумыв<аетесь>? Для меня все слова малы, с рождения, всегда. И за малейшее из них я так: из недр — благодарна. Я и не такие выслушивала, молча, не отвечая на них, как не отвечают на вздох. Для меня они все малы, я ни одного не боюсь, другой у меня ни за одно не отвечает / я ни на одно не отвечаю.
_____Не бойтесь. Я не кредитор. Я и свои и чужие забываю, раньше, чем другой успеет забыть. Я не даю забывать — другому. (Т.е. эту роскошь оставляю за собой!)
_____Я дружбу ставлю выше любви: не я ставлю, стоит выше, просто: дружба стоит, любовь — в лежку.
Horizontales und Wertikales Handwerk {171} [1175].
_____Всё в мире меня затрагивает больше, чем моя личная жизнь.
_____Сестра, это отсутствие страдания (не ее, от нее!). — Не будете. —
_____На моей горе растет можжевельник. Каждый раз сходя я о нем забываю, каждый раз, всходя я его пугаюсь: человек! потом радуюсь: куст <вариант: Вы>. Задумываюсь о Вас и, когда прихожу в себя — его нет, позади, миновала. Я его еще ни разу близко не видела. Я думаю, что это Вы.
_____Можжевельник двуцветный: снизу голубой, сверху зеленый. В памяти моей он черный.
_____Нам с Вами важно условиться, договориться, и — сговорившись — держать. Ведь обычно проваливается, п<отому> ч<то> оба ненадежны. Когда один надежен — уже надежда на удачу. А мы ведь надежны оба, Вы и я.
_____Со мной сумел (вместил и ограничил) только один, вдвое старше Вас [1176]. Вместил, ибо бездонен, ограничил — ибо не выносит женщин и этим всю женскую роль с меня снял. (Ограничил, т.е. освободил от.) Ту роль, которую я, с чисто мужской корректностью, все-таки почему-то играть себя считала обязанной.
_____Мой дом — лбы, а не сердца.
Впервые — Души начинают видеть. стр. 65–68. Печ. по тексту первой публикации.
20-23. Л.Е. Чириковой
Мокропсы, 4-го нов<ого> апреля 1923 г.
Моя дорогая Людмила Евгеньевна,
Посылаю Вам 20 фр<анков> с следующей мольбой: купите на них шоколаду и отнесите его сама, лично, пораньше утром, чтобы застать, по следующему адресу: B<oulevar>d des Invalides, 2, Rue Duroc (chez Beaumont) — Сергею Михайловичу Волконскому. Это моя лучшая дружба за жизнь, умнейший, обаятельнейший, стариннейший, страннейший и — гениальнейший человек на свете. Ему 63 года. Когда Вы выйдете от него, Вы забудете, сколько Ва́м. И город забудете, и век, и число.
Цветов не покупайте: он любит шоколад.
Вторая просьба: не могли ли бы Вы что-нибудь устроить ему со шведскими переводами? В его книге «Родина» (1860–1921 г.) много для иностранцев любопытного. (Книга восхитительна, Ваш отец в восторге, все Ваши читают.) [1177]
Моя дорогая умница, моя нежная умница, мне никогда не стыдно Вас просить, мне только жаль, что Вы никогда у меня ничего не просите.
_____Ваше очаровательное письмо получила. Я вас очень люблю, знайте это, Вы во всем настоящая, я всегда говорю С<ереже> — «Если бы Л<юдмила> Е<вгеньевна> здесь была, я была бы вдвое счастливее!»
Мужская дружба с женщиной, — что́ лучше?!
_____Не писала, потому что завалена работой: переписываю огромную книгу прозы [1178]. Глаза болят. (Печатным шрифтом!) Было много разных корректур. В промежутках — стихи, которые хотят быть написанными! День летит, дни летят.
_____Подружитесь с Волконским! Он очень одинокий человек, я с ним умела, и Вы с ним сумеете. Это большая духовная ценность, у него мало друзей. Познакомилась я с ним в Москве, в январе 1920 г., и люблю его, как в первый день.
Я знаю, что идти к чужому трудно — но Вы же героиня! Вы же не ищете легкого! И, только переступив порог, — Вы сразу поймете.
_____В следующий раз — больше, о весне, о Вас, о себе, обо всем. — С Вашими дружу, особенно с Е<вгением> Н<иколаевичем>. Пасху верно будем встречать вместе.
Целую нежно.
МЦ.P.S. Только не откладывайте! Шоколад долженствует изобразить пасхальное приветствие.
<Приписка на полях:>
P.S. Шоколад купите плитками, в коробках дорого.
Впервые — Новый журнал. 1976.№ 124. стр. 146–147. СС-6. стр. 304–305. Печ. по СС-6.
21-23. Л.Е. Чириковой
Прага, 27/30-го нов<ого> апреля, 1923 г.
Моя дорогая Людмила Евгеньевна,
Пишу Вам в Праге, посему карандашом. (Без пристанища.) Спасибо бесконечное за поход к Волконскому, когда не знаешь другого, он — отвлеченность, а ради отвлеченности лишний раз веками не взмахнешь. Вы поверили мне на́ слово, что В<олконский> — есть. Спасибо.
Спасибо еще зато, что поняли, увидели, проникли (в сущность иногда трудней, чем в дом, — даже запертой!). Он очень одинокий человек: уединенный дух и одинокая бродячая кость. Его не надо жалеть, но над ним надо задуматься. Я бы на Вашем месте дружила: заходила иногда, заводила, — он любит мрачные углы, подозрительные закоулки — tout comme Vous {172}.
Он отлично знает живопись, и как творческий дух — всегда неожиданен. Его общепринятостями (даже самыми модными!) не собьешь.
И вообще это знакомство, которое стоит длить. Это последние отлетающие лебеди того мира! (NB! Если С<ергей> М<ихайлович> лебедь, то — черный. Но он скорей старый орел.)
_____А мы судимся. Да, дитя мое, самым мрачным образом. Хозяева подали жалобу, староста пришел и наорал (предлог: сырые стены и немытый пол) и вот завтра в ближайшем городке — явка. Мы всю зиму прожили в этой гнилой дыре, где несмотря на ежедневную топку со стен потоки струились и по углам грибы росли, — и вот теперь, когда пришло лето, когда везде — рай, — «Испортили комнату, — убирайтесь на улицу». С<ережа> предстоящим судом изведен, издерган, я вообще устала от земной жизни. Руки опускаются, когда подумаешь, сколько еще предстоит вымытых и невымытых полов, вскипевших и невскипевших молок, хозяек, кастрюлек и пр.
Денег у меня никогда не будет, мне нужно мно—о—го: откупиться от всей людской низости: чтобы на меня не смел взглянуть прохожий, чтобы никогда, нигде не смел крикнуть кондуктор, чтобы мне никогда не стоять в передней, никогда и т.д.
На это не заработаешь.
_____Ах, как мне было хорошо в Б<ерлине>, как я там себя чувствовала человеком и как я здесь хуже последней собаки: у нее, пока лает, есть право на конуру и сознание конуры. У меня ничего нет, кроме ненависти всех хозяев жизни; за то, что я не как они. Но это шире крохотного вопроса комнаты, это пахнет жизнью и судьбой. Это нищий — пред имущими, нищий — перед неимущими (двойная ненависть), один перед всеми и один против всех. Это душа и туши, душа и мещанство. Это мировые силы столкнулись лишний раз! Не умею жить на свете!
_____Вы верите в другой мир? Я — да. Но в грозный. Возмездия! В мир, где царствуют Умыслы. В мир, где будут судимы судьи. Это будет день моего оправдания, нет, мало: ликования! Я буду стоять и ликовать. Потому что там будут судить не по платью, которое у всех здесь лучше, чем у меня, и за которое меня в жизни так ненавидели, а по сущности, которая здесь мне и мешала заняться платьем.
Но до этого дня — кто знает? — далёко, а перед глазами целая вереница людских и юридических судов, где я всегда буду неправой.
_____30-го нов<ого> апреля 1923 г.
Продолжаю письмо уже в Мокропсах. (Еще в Мокропсах! Toujours {173} Мокропсах!). Знаете, чем кончился суд? С<ережа> поехал с другим студентом (переводчиком), хозяин (обвинитель) студента принял за адвоката, испугался и шепотом попросил судью — попросить «пана Се́ргия» почаще мыть пол в комнате…» а то — «блэхи» (блохи)!!! Судья пожал плечами. «Адвокат», учтя положение, заявил, что полы чисты как снег.
Судья махнул рукой. Этим и кончилось. Первым (в Мокропсы) вернулся хозяин: в трауре, в цилиндре, — вроде гробовщика. Мрачно и молча поплелся к себе, переоделся и тут же огромной щеткой стал мыть одно учреждение (как раз под моим окном) — в сиденье которого потом, неизвестно почему, вбил два кола. (М<ожет> б<ыть>, он считает нас за упырей? Помните, осиновый кол!) Этим и кончилось.
(Цель обвинения была, ввиду сезона, выселить нас и взять вместо 220 кр<он> — 350, а то больше!)
Все ваши принимали самое горячее участие в нашем суде и судьбе: и советовали, и направляли, Е<вгений> Н<иколаевич> написал мне письмо к некому Чапеку (переводчику) [1179], — было очень трогательно.
Вся деревня на нашей стороне, а это больше, чем Париж, когда живешь в деревне!
Получила нынче письмо от моего дорогого С<ергея> М<ихайловича>. Пишет, что был у Вас, очень доволен посещением. Утешьте его de vive voix {174} (Вы меня заражаете Францией!) в истории с Лукомским [1180], если ее знаете. Последний ведет себя как негодяй, прислал С<ергею> М<ихайловичу> наглейшее письмо с упреками в неблагодарности, с попреками гостеприимством и пр<очими> прелестями. Заведите речь, просто как художник, упомяните имя Л<уком>ского, он Вам расскажет. (На меня не ссылайтесь!) Вам будет забавно послушать.
Л<уком>ского я видела раз в Берлине: фамильярен, аферист и сплетник.
Нынче еду в Прагу на Штейнера [1181]. (Вы кажется о нем слышали: вождь всей антропософии, Ася Белого [1182] была его любимейшей ученицей.) Хочу если не услышать, то узреть. По более юным снимкам у него лицо Бодлера, т.е. Дьявола.
У нас дожди, реки, потоки. Весна тянется третий месяц, нудная. Пишу и этим дышу. Но очень хочется вон; прочь, — только не знаю: из Мокропсов или с этого света?
Целую нежно. Пишите.
МЦ.Еще раз: горячее спасибо за С<ергея> М<ихайловича>.
<Приписка на полях:>
P.S. Похудела ли Цетлиниха? [1183]
Впервые — НЖ. 1976. № 124. стр. 147–150. СС-6. стр. 305–308. Печ. по СС-6.
22-23. М.А. и Е.О. Волошиным
10-го нов<ого> мая 1923 г.
Мои дорогие Макс и Пра! [1184]
Пока только скромная приписка [1185]: завтра (11-го нов<ого> мая) — год, как мы с Алей выехали из России, а 1-го августа — год, как мы в Праге. Живем за́ городом, в деревне, в избушке, быт более или менее российский, — но не им живешь! Сережа очень мало изменился, — только тверже, обветреннее. Встретились мы с ним, как если бы расстались вчера. Живя не-временем, времени не боишься. Время — не в счет: вот все мое отношение к времени!
Я много раз тебе писала из Москвы, Макс, но ты все жаловался на мое молчание. Пишу и на этот раз без уверенности, увы, что дойдет! Откликнись возможно скорей, тогда в тот же день напишу тебе и Пра обо всем: о жизни, стихах, замыслах <не дописано>.
Ах, как бы мне хотелось послать тебе и дорогой Пра книги! — «Разлуку», «Стихи к Блоку», «Царь-Девицу», «Ремесло» [1186]. Не знаю, как осуществить. Оказии отсюда редки. — Живой повод к этому письму — твой живой голос в «Новой Книге» [1187]. Без оклика трудно писать. Другой постепенно переходит в область сновидения (единственной достоверности!) — изымается из употребления! — становится недосягаемостью. — Тебе ясно? — Это не забвение, это общение над, вне… И писать уже невозможно.
Но ты, не зная, окликнул, и я радостно откликаюсь. Здесь (и уже давно в Берлине) были слухи, что Вы с Пра в Москве. — Почему не выбрались? — (Праздный вопрос, то же, что «почему не сдвинули горы?»).
Целую тебя и Пра, люблю нежно и преданно обоих, напиши, Макс, доходят ли посылки и какие?
МЦ.<На полях:>
— Аля растет, пустеет и простеет. Ей 10½ лет, ростом мне выше плеча. Целует тебя и Пра.
Впервые — ЕРО. стр. 184 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 83–84. Печ. по НИСП. стр. 302–303.
23-23. Р.Б. Гулю
Прага, 27-го нов<ого> мая 1923 г.
Милый Гуль,
Вы не ответили мне на мою записочку и на «Ремесло», но я кажется не ответила Вам на последнее письмо, так что мы квиты. Теперь слушайте внимательно.
Я снова принялась за книгу и скоро ее кончу. Теперь целый ряд вопросов, требующих самых точных ответов.
1) Жив ли еще Манфред? {175}
2) Не подался ли сильно влево? {176}
3) Возьмет ли он книгу в 450 (большого, журнального формата) страниц? Не разъединяя ее на два тома. (Есть свои причины.)
4) Сколько это будет печатных листов и, посему, долларов? {177}
5) Может ли он мне обещать (на бумаге!) корректуру не только типографскую, но и ремингтонную. (Рукопись у меня с обеих сторон листа, и переписка на ремингтоне необходима.)
6) Могу ли я, по отпечатании издательством на ремингтоне, получить обратно свою рукопись, по которой и буду проверять, ибо многое у меня — из черновых тетрадей, может статься, что и не замечу пропуска.
7) Во скольких экземплярах, он собирается выпускать? Я продам на одно издание, не на столько-то лет.
Вот, Гуль, вопросы. Ответы на них необходимы, иначе нет пороху доканчивать работу.
_____Книга моя будет называться «Земные Приметы», и это (весна 1917 г. — осень 1919 г.) будет I т<ом>. За ним последует II т<ом> — Детские Записки — который может быть готов также к осени. Теперь слушайте еще внимательнее, это важно.
«Земные Приметы» I т<ом> (1917–1919 г.) то, что я сейчас переписываю — это мои записи, «Земные Приметы» II т<ом> (1917–1919 г.) — это Алины записи, вначале записанные мной, потом уже от ее руки: вроде дневника. Такой книги еще нет в мире. Это ее письма ко мне, описание советского быта (улицы, рынка, детского сада, очередей, деревни и т.д. и т.д.), сны, отзывы о книгах, о людях. — точная и полная жизнь души шестилетнего ребенка. Можно было бы воспроизвести факсимиле почерка. (Все ее тетрадки — налицо.)
Возьмет ли такую книгу Манфред? Пойдет она под моим именем: «Земные Приметы». Т<ом> II (Детские записи).
Если Манфред не возьмет, издам просто, как «Детские Записи», чтобы не путать.
Эта книга будет меньше той, стр<аниц> 250, думаю. Хотела сначала поместить в одном томе, но 450 моих + 250 Алиных, — это уже идет в безмерное и не умещается не только в сердце, но и в руках.
Расскажите все это Манфреду, но расскажите как следует, чтобы он ясно понял, в чем дело. Меня эта неопределенность мучит: работа (переписка) трудная и нудная, у меня плохое зрение, кроме того хочется писать стихи, и если все это так, впустую — руки опускаются!
Книга, Гуль, не черносотенная, она глубоко-правдива и весьма противоречива: отвергнутая в Госиздате, она так же была бы отвергнута в из<дательст>ве Дьяконовой [1188]. (Черносотенном?) Это книга живой жизни и правды, т.е. политически (т.е. под углом лжи!) заведомо проваливается. В ней есть очаровательные к<оммуни>сты и безупречные б<елогвар>дейцы, первые увидят только последних, и последние — только первых. Но Манфред не прогорит, это ему скажите. На эту книгу набросятся из дурного любопытства: как читают чужие письма. «Тираж» обеспечен и ругань критики тоже. И то и другое издательствам не во вред.
Итак, милый Гуль, ответьте мне по всем моим пунктам. Не пишите: приедете — увидите. Это мне не годится. Та́к ни за что не поеду, мне в Берлине нечего делать, а в Праге — весьма много. Передо мной лето, т.е. отсутствие плиты, т.е. свобода, надо употребить его во благо.
Рукопись (I т<ом> «Земных Примет») для переписки на ремингтоне могла бы представить через 2 недели, maximum — три. Ведь переписать 450 стр<аниц> на ремингтоне (это, каж<ется>, называется не ремингтон? Машинка?) — тоже не день, особенно с моими знаками, красными строками и пропусками.
Да, еще: обложка — без картинки! Только буквы. Настаиваю. Земные приметы мои все внутри, внешних не надо.
_____Переписываюсь с Л.М. Э<ренбург>, которую люблю нежно. Слышала о новой книге Э<ренбурга>, еще не читала [1189]. Единственное, что читаю сейчас — Библию. Какая тяжесть — Ветхий Завет! И какое освобождение — Новый!
Месяц писала стихи и была счастлива, но вид недоконченной рукописи приводит в уныние. Пришлось оторваться. К осени у меня будет книга стихов, в нее войдут и те, что я Вам читала в Берлине. Как Геликон? Не уехал ли в Россию? Не слыхали ли чего о Пастернаке? Кто из поэтов (настоящих) в Берлине? Читали ли «Тяжелую Лиру» Ходасевича [1190] и соответствует ли ей (если знаете)статья в «Совр<еменных> Записках» Белого? [1191] — Что Вы сами делаете? Вышла ли Ваша книга? — Вот видите, сколько вопросов!
(Да! NB! 450 стр<аниц>. Страницу я считаю приблизит<ельно> 32–34 строчки, причем в каждой, в среднем, думаю, 42 буквы. — Много коротких строк!)
Пишите обо всем. Шлю привет.
МЦАдр<ес>: Praha II
Vyšehradska tř<ida> 16
Mêstsky Chudobinec, — S. Efron (мне.)
Впервые — Новый журнал. 1959. № 58. стр. 180–183, с сокращениями. Полностью — Новый журнал. 1986. № 165. стр. 279–281. СС-6. стр. 527–529. Печ. по СС-6.
24-23. М.С. Цетлиной
Чехия, Мокропсы, 31-го нов<ого> мая 1923 г.
Милая Мария Самойловна,
Ваше «Окно» великолепно: в первую зарю Блока, в древнюю ночь Халдеи. Из названного Вам ясно, что больше всего я затронута Гиппиус и Мережковским [1192].
Гиппиус свои воспоминания написала из чистой злобы, не вижу ее в любви, — в ненависти она восхитительна. Прочтя первое упоминание о «Боре Бугаеве» [1193] (уменьшительное здесь не случайно!) я сразу почуяла что-то недоброе: очень уж ласково, по-матерински… Дальше-больше, и гуще, и пуще, и вдруг — озарение: да ведь это она в отместку за «лорнет», «носик», «туфли с помпонами», весь «Лунный друг» в отместку за «Воспоминания о Блоке», ей пришлось за́свежо полюбить Блока, чтобы насолить Белому! И как она восхитительно справилась: и с любовью (Блоком) и — с бедным Борей Бугаевым! Заметьте, все верно, каждая ужимка, каждая повадка, не только не на́лгано, — даже не прилгано! Но так по-змеиному увидено, запомнено и поведано, что даже я, любящая, знающая, чтящая Белого, Белому преданная! — не могу, читая, не почувствовать к нему (гиппиусовскому нему!) отвращения — гиппиусовского же!
Это не пасквиль, это ланцет и стилет. И эта женщина — чертовка.
_____В Мережковском меня больше всего трогает интонация. Я это вне иронии, ибо интонации — как зверь — верю больше слова. О чем бы Мережковский ни писал, — о Юлиане, Флоренции, Рамзесе, Петре, Халдее ли [1194], — интонация та же, его, убедительная до слов (т.е. опережая смысл!) Я Мережковского знаю и люблю с 16 л<ет>, когда-то к нему писала (об этом же!) и получила ответ, — милый, внимательный, от равного к равному, хотя ему было тогда 40 л<ет> (?) и он был Мережковский, а мне было 19 лет — и я была никто [1195]. Если увидитесь с ним — напомните. Теперь Аля читает его Юлиана и любит те же места и говорит о нем те же слова.
_____Мило, сердечно, любовно-по-ремизовски — «Однорукий Комендант» [1196]. — Вся книга хороша. — Непременно пришлите вторую! (Равнодушие просит, затронутости требует. NB! Я очень дурно воспитана.)
_____Напишите мне про Гиппиус: сколько ей лет, как себя держит, приятный ли голос (не как у змеи?! Глаза наверное змеиные!) — бывает ли иногда добра? И про Мережковского.
Посылаю Вам «Поэму заставы» [1197], если не подойдет — пришлю другие стихи. Только напишите скорей, чтобы мне успеть. Спасибо за безупречную корректуру [1198]: с Вами я всегда спокойна! Если «Застава» не подойдет, напишите, что́ (по теме) предпочитает и от чего (по теме же!) отталкивается «Окно». Та́к — трудно. А «Заставу» Вам даю, как на себя очень похожее. (Может быть предпочитаете не похожее??)
Целую Вас, привет Михаилу Осиповичу. Видитесь ли с моим дорогим Волконским?
МЦ.<Приписка на полях:>
Мне очень стыдно, что я так долго не благодарила Вас за щедрый гонорар.
Впервые — с небольшими сокращениями — в кн.: «Марина Цветаева об искусстве». М.: Искусство, 1991. стр. 385–367. Полностью — СС-6. стр. 549–551. Печ. по СС-6.
25-23. <А.В. Бахраху>
<Конец весны 1923 г.>
Из письма
— «Почему — мне?» Руку на́ сердце положа — случайность. Я как луч и как нищий стучусь во все окна. Или: я как луч и как вор вхожу во все окна. Дорога луча. Луч идет пока его не примет взгляд. Луч шел. Ваше дело — остановить. Тогда окажется: луч шел к Вам. Будьте — тем.
И вот, первая обида уже сменяется в Вас чем-то вроде жалости, не торопитесь: луч и без взгляда и после взгляда. Луч — сам взгляд! Я не ищу людей, но я не хочу этого упрека Богу из собственных уст: — Зачем ты послал меня на́ землю жить раз среди живущих я не встретила ни одного живого. — Поэтому и пытаюсь. И встречала: больше собеседников, чем друзей, больше лбов, чем сущностей. (И меньше всего — душ.)
Есть еще то́ хорошее в Вас для меня (во мне для Вас — всё!) — Вы не притча во языцех, имя меня отталкивает (в жизни), та́к я из ложной гордости и заранее-безнадежности пропускала главные человеческие события в моей жизни — и буду пропускать отыгрываясь на не-именах, которые — не случайно не став именами, ибо имя — не выслуга, а заслуга и ничем не покупается, кроме истинной ценности: не покупается, а рождается — итак: отыгрываясь на не-именах, которые большей частью оказывались ничем. Пропуская (упуская) больших, останавливала — мелочь, так: Иксу отдавала то́, что отродясь принадлежало Блоку. Или — Богу.
Есть еще то́ хорошее в Вас для меня (хорошо — первое хорошее!) — Вы, если не ошибаюсь, из мира музыки, мира высшего моего: то, чем я кончаю — с этого у вас начинают, есть надежда быть по́нятым.
Впервые — HCT. стр. 158–159. Печ. по тексту первой публикации.
26–23. М.С. Цетлиной
Мокропсы, 8-го июня 1923 г.
Милая Мария Самойловна,
Посылаю Вам два стиха: «Деревья» и «Листья», пишу и сама чувствую юмор: почему не «Ветки», «Корень», «Ствол» и т.д. И еще просьбу: если «Заставу» [1199] не берете — по возможности, пристройте, а если невозможно — по возможности верните. Я не из лени, — у меня очень устают глаза, я переписываю книгу прозы [1200] (печатными буквами!) и к концу вечера всюду вижу буквы (это вместо листьев-то!).
И еще просьба: мне бы очень хотелось знать, что́ — вообще — предпочитает «Окно»: куда выходит (не: когда выходит?) — на какие просторы? Ближе к делу: природу, Россию, просто — человеческое? Мне достаточно малейшего указания, в моем мире много рек, назовите свою. Я знаю, что это трудно, что издательская деликатность предпочитает «авторам не указывать», но если автор, на беду, тоже оделен этим свойством — тогда ни сойтись, ни разойтись.
Это я говорю о что́ стихов. Относительно ка́к, — увы, будет труднее. Я знаю, что «Ремесло» меньше будет нравиться, чем «Фортуна», напр<имер>, и стихи тех годов, но я не могу сейчас писать стихи тех годов, и «Фортуна» мне уже не нужна [1201]. Мне бы очень хотелось знать, совершенно безотносительно помещения, что Вы чувствуете к моим новым стихам.
_____Искренне тронута Вашим денежным предложением и отвечу Вам совершенно непосредственно. В месяц я имею 400 франков на себя и Алю, причем жизнь здесь очень дорога. (Наша хибарка, напр<имер>, в лесу, без воды, без ничего — 250 крон + 40 за мытье пола.) Жить на эти деньги, вернее: существовать на эти деньги (на франц<узскую> валюту 400 фр<анков> можно, но жить на эти деньги, т.е.: более или менее одеваться, обуваться, обходиться — нельзя. Прирабатываю я гроши, бывает месяцами — ничего, иногда 40 крон («Русская мысль», 1 крона строчка) [1202]. В долги не влезаю, т.е. непрерывно влезаю и вылезаю. Самое обидное, что я на свою работу отлично могла бы жить, неизданных книг у меня множество, но нет издателей, — все они в Германии и платят гроши. — Переписка не оправдывается! —
Вот точная картина моего земного быта. Определить ее «острой нуждой» руку на́ сердце положа — не могу (особенно после Москвы 19-го года!) Я бы сказала: хронический недохват.
Чего мне всегда не хватало в жизни, это (хотя я и не актриса!) — импрессарио, человека, лично заинтересованного, посему деятельного, который бы продавал, подавал… и не слишком предавал меня!
Здесь много литераторов и все они живут лучше меня: знакомятся, связываются, сплачиваются, подкапываются, — какое милое змеиное гнездо! — вместо детского «nid de fauvettes» — «nid de viperes» {178}. Есть прямо подозрительные личности. Если бы до них дошло, что я получила от Вас субсидию, они бы (випэры!) сплоченными усилиями вычли из моего «иждивения» ровно столько же, сколько бы я получила. Я даже не пометила 40 кр<он> за прошлый месяц от Струве [1203] (анкетный лист), ибо знаю, что получила бы на 40 кр<он> меньше.
Кроме того — и самое важное! — когда я Вам деньги верну??? Ну, продам книгу прозы, но ведь это будут гроши. Не до России (где у меня был дом на Полянке!) [1204] — а когда Россия???
_____Простите, что беспокою Вас своими бытовыми бедами, — у Вас без меня достаточно забот. Больной ребенок, — ведь больнее этого и тяжелее этого нет ничего. Алина болезнь в 1920 г. была худшим временем моей жизни, единственные месяцы, когда я не писала стихов [1205].
Но Ваша дочка (Анжелика?) [1206] конечно поправится и Вы поедете с нею в какое-нибудь прекрасное место, наверное к морю, где она в полосатой фуфайке будет играть в песке. Боль забывается, — особенно детьми!
_____Аля огромная, вид 12-летней (10 лет), упрощается с каждым днем. С.М. В<олконский> говорит о ней: Аля начала с vieillesse qui sait {179} и неуклонно шествует к jeunesse qui peut {180}. — Что ж! У каждого своя дорога. — Боюсь только, что к 20-ти годам она все еще будет играть в куклы. (Которых ненавидела, ненавижу и буду ненавидеть!) Умственное развитие ее, впрочем, блестяще, но живет она даже не детским, а младенческим!
Нынче еду в Прагу — заседание по делу патриарха Тихона [1207]. Ненавижу общественность: сколько лжи вокруг всякой правды! Сколько людских страстей и вожделений! Сколько раздраженной слюны! Всячески уклоняюсь от лицезрения моих ближних в подобных состояниях, но не показываться на глаза — быть зарытой заживо. Люди прощают всё, кроме уединения.
_____Кончаю. Вашей дочке быстрого и полного выздоровления, Вам — покоя. Вам обеим — веселого отъезда. — Что Ваши старшие дети? [1208] Привет Михаилу Осиповичу. Вам — поцелуй и благодарность.
Впервые — Новый журнал. 1991. № 183. стр. 221–223 (публ. М. Белкиной). СС-6. стр. 551–553. Печ. по СС-6.
27-23. A.B. Бахраху
Мокропсы, 9-го нов<ого> июня 1923 г. (20 апреля)
Милый г<осподин> Бахрах,
Вот письмо, написанное мною после Вашего отзыва (месяца два назад?) — непосредственно в тетрадку [1209]. Сгоряча написанное, с холоду непосланное, — да вот и дата: 20-ое апреля!
Я не знаю, принято ли отвечать на критику, иначе как колкостями — и в печати.
Но поэты не только не подчиняются обрядам — они творят их! Позвольте же мне нынче, в этом письме, утвердить обряд благодарности: критику — поэта. (Случай достаточно редкий, чтобы не слишком рассчитывать на последователей!)
Итак: я благодарна Вам за Ваш отзыв в «Днях». Это — отзыв во всем первичном смысле слова. (Пушкин: «В горах — отзы́в!»…) Вы не буквами на букву, Вы сущностью на сущность отозвались. Благодарят ли за это? Но и благодарность — отзыв! Кроме того, Вы вроде писали не для меня, — так и я пишу не «для Вас», хотя и к Вам.
Я не люблю критики, не люблю критиков. Они в лучшем случае производят на меня впечатление неудавшихся и посему озлобленных поэтов [1210]. (И как часто они пишут омерзительные стихи!) Но хвала их мне еще неприемлемей их хулы: почти всегда мимо, не за то [1211]. Так, напр<имер>, сейчас в газетах, хваля меня, хвалят не меня, а Любовь Столицу [1212]. Если бы я знала ее адрес, я бы отослала ей все эти вырезки. Это не я.
(Добрососедская статья некоего Мочульского напр<имер>, в парижском «Звене» — «Женская поэзия», об Ахматовой и мне [1213]. Если попадется — прочтите, посмейтесь и пожалейте!)
— Ваша критика умна. Простите за откровенность. У Вас редчайший подход между фотографией (всегда лживой!) и отвлеченностью. Вы берете то среднее, что и составляет сущность поэта: некую преображенную правду дней. Вы вежливы, вне фамильярности: неустанно на Вы. У Вас хороший вкус: не «поэтесса» (слово, для меня, полупочтенное) — а поэт.
Вы доверчивы, у Вас хороший нюх: та́к, задумавшись на секунду: кунштюк или настоящее? [1214] (Ибо сбиться легко и подделки бывают гениальные!) — Нет, настоящее. Утверждаю, Вы правы. Так, живя стихами с — да с тех пор как родилась! — только этим летом узнала от своего издателя Геликона, что́ такое хорей и что такое дахтиль. (Ямб знала по названию блоковской книги [1215], но стих определяла как «пушкинский размер» и «брюсовский размер».) Я живу — и следовательно пишу — по слуху, т.е. на веру, и это меня никогда не обманывало. Если бы я раз промахнулась — я бы вся ничего не стоила!
_____— Что́ еще? — Ах, пожалуй главное! Спасибо Вам сердечное и бесконечное зато, что не сделали из меня «style russe» {181}, не обманулись видимостью, что, единственный из всех за последнее время обо мне писавших, удостоили, наконец, внимания СУЩНОСТЬ, то́, что вне наций, то́, что над нацией, то́ что (ибо все пройдет!) — пребудет.
Спасибо Вам за заботливость. — «Куда дальше? В Музыку, т.е. в конец?» [1216] — А если и так, не лучший ли это из концов и не конца ли мы все, в конце концов, хотим. Бытие в Небытии — вот музыка! Блаженная смерть! Будьте верным пророком!
_____А что за «Ремесло»? Песенное, конечно. Смысл, забота и радость моих дней. Есть у К. Павловой изумительная формула:
«О ты, чего и святотатство Коснуться в храме не могло — Моя напасть, мое богатство. Мое святое ремесло!» [1217]Эпиграф этот умолчала, не желая, согласно своей привычке, ничего облегчать читателю, чтя читателя.
Ах, еще одна благодарность! За «Посмертный Марш» (мой любимый стих во всей книге), за явный — раз Вы в «Днях»! — взлет над злободневностью, зато, что сердце Ваше (слух!) подалось на оборванность последних строк: в лад падало [1218].
_____Здесь письмо кончается — и начинается другое:
9 нов<ого> июня 1923 г.
Напомнила мне о Вас Л.М. Эренбург, в недавнем письме. Пишет, что Вы читаете мою «Психею». И вот, в ответ, просьба: попросите Гржебина [1219] или его заместителя, чтобы прислал мне авторские, — не помню условия — настаивайте на 25 экз<емплярах>. Я и не знала, что книга вышла, и уже в ужасе от предполагаемых опечаток. Корректура моя была безупречна, за дальнейшее не отвечаю.
И еще просьба: найдите мне издателя на книгу прозы «Земные Приметы», — московские записи 1917 г. — конец <19> 19-го г [1220]. Здесь Москва, Революция, быт, моя дочь Аля, мои сны, мысли, наблюдения, встречи, — некий дневник души и глаз. Книга большая: около 450 печ<атных> страниц большого формата. (Сколько листов?) Рифы этой книги: контрреволюция, ненависть к евреям, любовь к евреям, прославление богатых, посрамление богатых, при несомненной белогвардейскости — полная дань восхищения некоторым безупречным живым коммунистам. Да еще: лютая любовь к Германии и издевательство над бычачьим патриотизмом (русских!) в первый год войны.
Словом, издатель, как моя собственная грудная клетка, должен вместить ВСЁ. Здесь все задеты, все обвинены и все оправданы. Это книга ПРАВДЫ. — Вот. —
_____Теперь ближе к делу. Мне один берлинский издатель заочно предлагал за лист 3 доллара. (Не Геликон, Геликон, напуганный «белогвардейщиной», не берет.) Я нища́ как Иов [1221] и при здешней дороговизне эта цена смехотворная {182}, — переписка не оправдывается. (Для примера: хибарка в лесу, то что кухня в избе, где мы живем, стоит 300 крон, — переведите на марки!) Эта книга — большая работа и, пока, мой единственный козырь к некоторой обеспеченности. Будьте другом, устройте мне эту книгу. Предупредите издателя, что это «товар ходкий», справьтесь у Геликона, он знает мою прозу. Книгу эту будут рвать (зубами!) все… кроме настоящих, непредубежденных, знающих, что ПРАВДА-ПЕРЕБЕЖЧИЦА. А таких мало.
Словом, я думаю: «grand scandale» {183}, что всегда благоприятно для издательства.
_____Книга почти готова, хочу посылать ее по частям. Но необходимо, чтобы из<дательст>во переписало ее на машинке: у меня написано на двух сторонах листа, — и чтобы машинный экз<емпляр> этот я, до сдачи в типографию, исправила. Это очень важно и необходимо оговорить. Еще: без картинок на обложке, только буквы. И непременно с Ъ.
_____Если б что-нибудь наладилось, пришлите мне примерный образец условия.
_____Это моя первая и насущная просьба. Есть у меня и другие неизданные книги: 1) «Драматические Сцены» [1222] («Фортуна», к<ото>рую Вы м<ожет> б<ыть> по «Совр<еменным> Запискам», «Метель», «Приключение», «Конец Казановы», кстати изданный против моей воли и в ужасном виде в «Сов<етской> России») — и 2) «Мо́лодец» (поэма-сказка) — небольшая.
_____Не приходите в ужас и, если это хоть сколько-нибудь трудно, не исполняйте. И не думайте обо мне дурно: я просто глубоко беспомощна в собственных делах, и книги у меня лежат по 10 лет. (Есть такие — и не плохие!)
Обращаюсь к Вам потому что Вы как будто любите мои стихи и еще потому что Вы наверное по вечерам сидите в «Prager-Diele» [1223], где пасутся все издатели. Книга нигде не печаталась (это я о прозе! хотя и другие — нигде), а то я Эпохе продала «Царь-Девицу», уже проданную в Госиздат, и обо мне, быть может, дурная слава.
Шлю Вам самый искренний привет и благодарность.
Марина ЦветаеваАдр<ес> мой до 1-го июля:
Prag, Praha II Vyšegradska tř<ida> 16
Mêstsky Chudobinec,
P.S. Efron
(для M.И.Ц.)
Впервые письма M. Цветаевой к A. Бахраху были опубликованы адресатом писем с большими купюрами в журнале «Мосты» (Мюнхен. 1960. № 5. стр. 304–318 и 1961. № 6. стр. 319–341). Полностью — Новый журнал. 1990. № 180. стр. 215–253 и 1990. № 181. стр. 98–138. с неточностями и без комментариев (публ. А. Тюрина). Полностью (с исправлением неточностей и научным комментарием) — Литературное обозрение. 1990. № 8. стр. 99–109; № 9. стр. 102–112; № 10. стр. 100–112 (публ. Дж. Mалмстада). СС-6. стр. 557–626 (по предыдущей публикации с небольшими исправлениями). Печ. по СС-6. стр. 557–560.
Отрывок письма под названием «Письмо критику», датированный 20 апреля 1923 г., записан в рабочей тетради Цветаевой (НСТ. стр. 135–137).
ПИСЬМО КРИТИКУЯ не знаю, принято ли отвечать на критику иначе как колкостями — и в печати. Но поэты не только не подчиняются обрядам, но — творят их. Позвольте же мне нынешним письмом утвердить обряд благодарности поэта — критику. (Случай достаточно исключительный, чтобы не слишком рассчитывать на ряд последователей!)
Итак, я благодарна Вам за Ваш отзыв в Днях. Это — отзыв в самом настоящем смысле слова. Вы не буквами на буквы, Вы существом на сущность отозвались. Благодарят ли за это? Но и благодарность — отзыв! Кроме того, Вы ведь писали не для меня, так и я пишу не «для Вас», хотя и к Вам. (Вам — о Вас.)
Я не люблю критики, не люблю критиков. Все они, в лучшем случае, кажутся мне неудавшимися и поэтому озлобленными поэтами. Но хвала их мне еще непереноснее их хулы: почти всегда мимо, не меня, не за то. Так напр<имер> сейчас в газетах хвалят не меня, а явно Любовь Столицу (т.е. всё сказанное обо мне отношу на ее счет, ибо — НЕ Я!)
Ваша критика умна. Простите за откровенность. Вы вежливы: неустанно на Вы. Вы <пропуск одного слова>: не поэтесса, а поэт. У Вас хороший нюх: так, задумавшись на секунду: кунштюк или настоящее? (ибо сбиться легко — при нынешнем KDW <Название универмага в Берлине. — Сост.> поэзии!) — нет, настоящее. Утверждаю: Вы правы. Так, живя стихами с —? — да с тех пор как на свете живу, только этим летом узнала от своего издателя Геликона, что такое хорей и что такое дахтиль. (Ямб знала по названию блоковской книги, но стих определяла как «пушкинский размер», «брюсовский размер».)
Вам будет любопытно узнать, что Белый свою Глоссологию (?) <Правильно: «Глоссолалия. Поэма о звуке». Написана А. Белым в 1917 г. издана в 1922 г. в Берлине. — Сост.> написал после моей Разлуки, как и свою «После разлуки» {184}. Я была тем живым примером, благодаря которому возникла теория. (Говорю Вам вне тщеславия, если бы страдала им давно была бы знаменитой!)
Что еще? Ах, пожалуй, главное! Спасибо Вам сердечно и бесконечно за то, что не сделали из меня бабу style russe, не обманулись видимостью (NB! баба — бабы не напишет!) что единственный из всех (NB! как мне всех хочется сделать единственными: всякого! 1932 г.) за последнее время обо мне писавших удостоили, наконец, внимания сущность, — то, что над и вне.
Спасибо Вам за заботливость: «Куда дальше? В музыку, т.е. в конец?!» Верю, что Вы искренне в тот час задумались, потому отвечаю: нет! Из лирики (почти-музыки) — в эпос.
Это не Ваш «планирующий спуск», это разряжение голоса — в голосах, единого — в множествах. Чем на тысячу голосов выражать одну свою душу, я буду одним голосом выражать тысячу чужих, которые тоже одна <пропуск одного слова>. То чего не может один могут (в одном) многие. Единство множества. Оркестр тоже единство.
— Вам ясно?
_____А что за «Ремесло»? Песенное, конечно! Ремесло в самом <фраза не окончена>. Противовес и вызов слову и делу (безделию <сверху: неделу>) «искусство». Кроме того, мое ремесло, — в самом простом смысле: то, чем живу, — смысл, забота и радость моих дней. Дело дней и рук.
О ты чего и святотатство Коснуться в храме не могло — Моя напасть, мое богатство, Мое святое ремесло!Эпиграф этот умолчала, согласно своему правилу — нет, инстинкту — ничего не облегчать читателю, как не терплю чтоб облегчали мне. Чтоб сам.
Читатель ведь пока ты с ним не столкнулся — друг и пока о тебе не написал — ты его чтишь. (Иногда, notre cas {185}, и потом.)
Посылаю Вам свою Ц<арь->Д<евицу> — не для отзыва, а потому что Вы, очевидно, ее не читали. Вот он, источник всех навязываемых мне кокошников!
Ах! Еще одно спасибо: за Посмертный марш, за, в конце, явный (раз Вы в «Днях») взлет над злободневностью, за то что сердце Ваше (слух) подалось на оборванность последних строк: в лад падало!
_____20 апреля 1923 г.
28-23. Р.Б. Гулю
Мокропсы, 27-го июня 1923 г.
Дорогой Гуль,
Вчера получила и вчера прочла. О «В рассеянии сущих» [1224] — жаль, что Вы в Берлине, а не в Праге, ибо книга, за некоторыми лирическими отступлениями, написана Берлином, а не Вами.
Здесь таких людей нет. Здесь молодость, худоба и труд. Здесь любовь и долг. Здесь жертва и вера. Здесь нет сытости.
Впрочем, есть — но исключительно среди «земгорцев» [1225] (эсерово!) Горцы земли, горцы — равнины, предпочитаю горцев высот!
Здесь старые и молодые профессора, старые и молодые студенты, и первые и вторые, и третьи и четвертые — работают из кожи. Для них Мессия — есть, Бог — есть, черт — есть.
Гуль, Вы заслуживаете лучшего, чем та гниль и слизь, которые Вас окружают, Вы не существо Nacht Local'ов {186}, я Вас причисляю к Романтикам — сначала Контр-Революции, потом — Революции; если книга автобиографична — мне жаль Вас. Где Вы нашли таких уродов??? Почему Вы не писали — себя, душу, живую жизнь в Берлине? Я не верю, что это — Вы.
Есть хорошие места, хорошие мысли. Везде, где Вы один с природой, с любовью, с собой. Но в общем книга, несмотря на основную накипь ее, тяжелая — м<ожет> б<ыть> благодаря накипи как основе!
Я рада, что Вы ее не любите.
_____Ах, да! Помните спор о кровном и о рубашке? Так вот, Гуль, то́, что для буржуа — рубашка, то для Романтика — кровь. Зачем таких белых? Бог и честь для буржуа рубашка, согласна, но кроме буржуа, — ничего нет у белых? Гуль, есть белые без рубашки, таких берите в противники, таких (если можете!) судите, — с буржуазией справляться — слишком легко!
О «Поле в Творчестве». Первая часть для меня целиком отпадает, вторую на две трети принимаю.
«Божественная Комедия» — пол? «Апокалипсис» — Пол? «Farbenlehre» {187} [1226] и «Фауст» — пол? Весь Сведенборг {188} [1227] — пол?
Пол, это то́, что должно быть переборото, плоть, это то́, что я отрясаю.
Und diese himmelschen Gestalten Sie fragen nicht nach Mann und Weib. {189} [1228]Основа творчества — дух. Дух, это не пол, вне пола. Говорю элементарные истины, но они убедительны. Пол, это разрозненность, в творчестве соединяются разрозненные половины Платона.
Если пол, — то что же ангелы? А разве ангелы не — (не ангелы в нас!) творят?!
Пол, это ½. — Формула.
О Белом и Гоголе — согласна. Об отсутствии любовного Эроса — согласна. О призрачности и неубедительности героинь — согласна. О звукописи — согласна. Раньше была и цветопись, но такая же от всего оторванная и… жуткая, как ныне — звукопись. («Золото в лазури» [1229] — перечтите.) Он не — небесный и не земной, он повисший. И изживающий постепенно все 5 чувств. (Зрение и слух.)
_____Это первые, беглые отклики: как отозвалось. Немножко освобожусь, перечту, подумаю и скажу еще. И если Вам любопытно, буду сообщать Вам отзывы студенчества, — здесь ведь тоже три союза!
_____Недавно получила известие от Бахраха, что собирается с Вами встретиться для окончательного выяснения с моими «Земными Приметами» [1230]. Пишет, между прочим, что больше 1 ф<<унта стерлингов?> т.е. 4½ дол<лара> у вас не платят. Хорошо бы довести до 5 д<олларов>, но если окончательно невозможно, соглашайтесь и на это. Теперь ряд оговорок: 1) только на одно издание 2) две корректуры 3) лист с важнейшими опечатками, установленными мною 4) деньги, по возможности, по представлению рукописи 5) 25 авторских экз<емпляров> 6) СТАРАЯ ОРѲОГРАФIЯ 7) установить колич<ество> экз<емпляров>, срок выхода и переиздания — и все, что еще измыслите в мою пользу.
Да! Теперь — как определить число листов? По количеству букв в странице? По количеству строк? Или как? Сколько листов в Ваших «Рассеянных»?
Переписать здесь на машинке не берусь, и «Геликон» и «Эпоха» переписывали сами, — и прозу. Переписать такую книгу здесь целое состояние. Рукопись, сравнительно, четка, но на обеих страницах.
_____Не обвиняйте меня в жадности и в суетности, впрочем, в моей книге — обо всем, есть наверное и об этом. Пишу поздно вечером, устала.
— Спасибо за все.
МЦ.Новый адр<ес>: Praha P.P. Dobřichovice, Horni Mokropsy, č<islo> 33, u Pana Grubnera — мне — на фамилию Эфрон.
<Приписка на полях:>
Dobřichovice: bricho, это — брюхо: «доброе брюхо» — Добробрюхово. — Хорошо?! —
<На отдельном листе:>
В следующем № «Русской Книги» поместите, пожалуйста, если не поздно:
Подготовлена к печати книга:
СЕРГЕЙ ЭФРОН — «ПОБЕЖДЕННЫЕ» (С МОСКОВСКОГО
ОКТЯБРЬСКОГО ВОССТАНИЯ ПО ГАЛЛИ-
ПОЛИ. ЗАПИСКИ ДОБРОВОЛЬЦА) [1231]
МАРИНА ЦВЕТАЕВА — «ЗЕМНЫЕ ПРИМЕТЫ» Т. 1 (МОСКВА,
МАРТ 1917 г. — ОКТЯБРЬ 1919 г. ЗАПИСИ.)
— «МО́ЛОДЕЦ» (ПРАГА, 1923 г. ПОЭМА-СКАЗКА.)
— «ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН» (МОСКВА, МАРТ 1917 г. — ДЕКАБРЬ
1920 г. БЕЛЫЕ СТИХИ.) [1232]
Адр<ес> и Сережин и мой: Praha P.P. Dobřichovice, Horni Mokropsy, č<islo> 33, u Pana Grubnera
(хорошо бы не перепутать!)
На упомянутые книги из<дате>лей еще нет (кроме «Зем<ных> Прим<ет>»?) — м<ожет> б<ыть> таким образом найдутся.
Впервые — Новый журнал. 1986. № 165. СС-6. стр. 279–281. стр. 529–531. Печ. по СС-6.
29-23. Г.П. Струве
30-го июня 1923 г.
Милый Глеб,
Ваше гаданье правильно: мало люблю «Евгения Онегина» [1233] и очень люблю Державина [1234]. А из Пушкина больше всего, вечнее всего люблю «К морю», — с десяти лет по нынешние тридцать [1235]. И «версты полосаты», и там, где про кибитку: Пушкина в просторах [1236]. Там он счастливее всего, там он не должен быть злым. Эренбурга из призраков галереи вычеркиваю [1237], я его мало читала, со стихами его, по-настоящему, познакомилась только в Берлине. (Не потому вычеркиваю, что поссорилась [1238], — честное слово!)
Ах, у Вас во втором столбце (4-ая строчка до первой цитаты) гениальная опечатка: «в цветаевской ЛАГГЕРЕЕ», от лагерь, — чудесно!
Любопытно было бы узнать, какие стихи в «Ремесле» Вы считаете плохими [1239], спрашиваю вне самолюбия (самолюбие ведь сродно вкусу, и из-за безмерности моей во мне тоже отсутствует!) Любопытно, чтобы понять чужое мерило, допытаться, почему не дошло.
Согласна, что «Психея» для читателя приемлемее и приятнее «Ремесла». Это мой откуп читателю, ею я покупаю право на «Ремесло», а «Ремеслом» — на дальнейшее. Следующую книгу будете зубами грызть. Но это еще не скоро [1240].
Шлю Вам привет и благодарность.
МЦ.Впервые — Мосты. Мюнхен. 1968. № 13/14. стр. 396. с исправлениями Е.И. Лубянниковой — Звезда. 1992. № 10. стр. 23. СС-6. стр. 639. Печ. по СС-6.
30-23. Ю.Ю. Струве
Мокропсы, 30-го июня 1923 г.
Милая Юлия,
Я Вас не забыла, а просто выбилась из колеи писанья писем. — Тронута, что окликнули.
Живу все там же, все так же, созерцаю дожди, изредка размышляю о влиянии на Чехию (!!!) — извергающейся Этны [1241] и продвигающихся полярных льдов [1242].
Огонь + лед дает дождь, т.е. слезы. Но я не плачу, меня после Сов<етской> России ничем не возьмешь, даже безысходной скукой Чехии.
Закончила переписку своих московских записей (1917 г. — 1919 г.), получилась основательная книга [1243]. Пишу стихи, читаю Диккенса, собираю — до потери сознания! — чернику, мечтаю о новом платье, но глубже вдумавшись, понимаю, что оно бессмысленно, потому что тоже станет старым [1244].
Бываю в Праге редко, на каждом собрании журналисты сбрасывают старого председателя и голосуют нового [1245]. Я неизменно сажусь около Маковского и обезьяню с него все жесты. Он подымет руку — и я подымаю, он забудет — а я в глупом положении. Он мил, я его люблю. Он глубоку-искренен в своих слабостях, в его устах — они очарование. Кроме того, он по-настоящему глубоко́-культурен. С ним не попадаешь каждоминутно в безвоздушные пространства неведения, младенческого изумления. Это пристало Вашей Марине, да и то — до году, правда? Сколько ей сейчас месяцев? Обозначилось ли уже сходство со мной? [1246] Если будет дикая, — знайте, что в меня. А я пошла в кормилицу [1247]. А кормилица была цыганка. У Вашей дочери сомнительная родословная! А родина ее (исходя из меня и цыганки) не то Индия, не то Египет. (Цыган в старину звали «египтяне», у Мольера, напр<имер> [1248]).
А «незнакомка», занесшая ей «Ремесло» — некто Катерина Исааковна Еленева, дочка известного врача Альтшулера, — существо милое, красивое и обаятельное. Она жена одного из здешних студентов [1249].
_____Спасибо Глебу за прекрасный отзыв о «Ремесле» и «Психее». Но напишу ему об этом отдельно. Как здоровье Льва Струве? [1250] Как Нина Александровна? [1251] П<етра> Б<ернгардовича> [1252] вижу редко и бегло, мне кажется, что он меня не любит, а это не располагает [1253]. («Не любит» здесь, как: не дохожу.)
Целую нежно Вас и Марину. Аля увлекается сокольской гимнастикой [1254] и окончательно перестала отзываться на арифметику. И она и Сережа шлют привет.
МЦ.Впервые — Мосты. 1968. № 13/14. стр. 395–396, с исправлениями Е.И. Лубяннниковой — Звезда. 1992. № 10. стр. 22–23. СС-6. стр. 641–642. Печ. по СС-6.
31-23. A.B. Бахраху
Мокропсы, 30-го июня 1923 г.
Милый Александр Васильевич!
Передо мной двенадцать неотвеченных писем (Ваше последнее, Вам первому.)
Ваше письмо разверстое как ладонь, между Вами и мной ничего (никакой связи!) — ничего (никакой преграды!) кроме этого исписанного листа. Ваше письмо — душа. Как же мне не отбросить все счета (благодарности, вежливости, давности и прочих достоверностей!)
Но это не все! Незнакомый человек — это вся возможность, тот, от кого всего ждешь. Его еще нету, он только завтра будет (завтра, когда меня не будет!) Человека сущего я предоставляю всем, имеющее быть — мое. (NB! Вы, конечно, существуете, но для меня, чужого. Вас конечно еще нет. X для Y начинается в секунду встречи, — будь ему хоть 100 лет!)
Теперь о Вашем письме, о первом слове Вашего письма и целой страницы к нему пояснений. Вы пишете человеку: дорогой. Это значит, что другой, чужой, Вам дорог. Что же на это может возразить другой? Быть дорогим, это ведь не наш выбор, и не наше свойство, и не наша ответственность. Это просто не наше дело. Это наше — в данный час — отражение в реке, страдательное (т.е. обратное действенному!) состояние. Я же не могу сказать: «я не дорогая!». Это не свойство — слово неизменное и незаменимое, я употребляю его и в сравнительной степени, та́к, часто, говоря о человеке «Он такой дорогой!» (Что́, кажется, основательно разрушает все только что мною сказанное!) {190}
_____Ваш голос молод, это я расслышала сразу. Равнодушная, а часто и враждебная к молодости лиц, люблю молодость голосов. Вот эпиграф к одной из моих будущих книг: (Слова, вложенные Овидием в уста Сивиллы, привожу по памяти:) «Мои жилы иссякнут, мои кости высохнут, но ГОЛОС, ГОЛОС — оставит мне Судьба!» [1255] (Сивилла, согласно мифу, испросила Феба вечной жизни, забыла испросить себе вечной молодости! Heслучайная забывчивость!)
Так вот, о голосе, Ваш голос молод, это меня умиляет и сразу делает меня тысячелетней, — какое-то каменное материнство, материнство скалы [1256]. Слово «за всю мою недолгую жизнь» меня как-то растравило и пронзило, не знаю как сказать. Есть такие обнаженные слова. В них говорящий сразу беззащитен, но беззащитность другого делает беззащитным и нас!
Итак, за «всю недолгую жизнь» ни одного стиха? Дитя, дитя, да ведь это похоже на бескорыстную любовь, т.е. на чудо.
_____Теперь о «Ремесле» (слове). В сознательном мире права я: ремесло, как обратное фабричн<ому> производству, артель — заводу, ремесленничество Средних Веков, — стих<отворению> К. Павловой и пр., но в мире бессознательном пра́вы — Вы. Только не орудуйте логическими доводами! Это Вас в данный час не вывезет. Впрочем, на последний из Ваших доводов я польстилась: «Вы не только ежечасно выходите из пределов ремесла. Вы в них и не входите» — это прелестно, и верно, и мне от этого весело. Хотите, я Вам скажу, в чем главная уязвимость моего названия? Ремесло предполагает артель, это начало хоровое, над хором должен быть мастер / маэстро {191}, у ремесленника должны быть собратья, — это какой-то круг. Ощущение со-(мыслия, -творчества, -любия и пр.) во мне совершенно отсутствует, я и взаимную любовь (там где только двое!) ощущаю как сопреступничество. Я и Вечность (круг!) ощущаю как прямую версту. Нюхом своим — Вы правы!
_____Вы тонки. Вы не польститесь на «похвалу» (признание). Моей волей выявленному Вы предпочли помимо моей воли вставшее. Личный дар (признание) — всегда мал, важно не то, что нам дают, а то, что — даже без ведома дающего — само дается. Воля вещи к бытию — и дающие и берущие — как орудие!
Есть в Вашем письме одно место, над которым я задумалась, маленькая вставка, «случайность». Вы спрашиваете, где же я в «Психее»: в Мариуле или в Манон, — и: «Бдение — или Бессонница?» [1257] Сначала я Бдение приняла, как обр<атное> Бессоннице, т.е. как сон, но сон обратен бдению, где же сопоставление? И вдруг — озарение — нет, не ошибка. Вы говорите именно то, что хотите сказать, эти деления не-спать: бдение, как волевое, и бессонница, как страдательное (стихийное). Дитя, дитя, откуда?! Люди знают: спать (на то и ночь!), иногда: не-спать (голова болит, заботы) — но бдить, да еще сопоставляться с бессонницей…
Будь я Иоанном, мне бы Христос не давал спать, даже когда бы меня в постель гнал. Бдение, как потребность, стихия Бессонницы, пошедшая по руслу бдения, — Вам ясно? Вот мой ответ.
_____Насчет реки — очень хорошо в «Психее». — Глубоко́. — У меня где-то в записях есть: «У поэта не должно быть „лица“, у него должен быть голос, голос его — его лицо». («Лицо» здесь как что́, голос — ка́к.) А то ведь все сводится к вопросу «темы». X пишет о Египте, Y — о смерти, Z — о XVIII в. и т.д. — Какая нищета! — Как собака, ко<тор>ая три раза крутится вокруг себя, чтобы лечь. И хвост тот же, и подстилка та же… (NB! Обожаю собак!)
_____Есть у меня к Вам просьба (пока еще не деловая!). Не пишите без твердых знаков, это бесхвосто, это дает словам неубедительность и читающему — неуверенность! Пишите или совсем без ничего (по-новому!) или дайте слову и графически быть. Уверяю Вас, это «белогвардейщина» ни при чем, — ведь я согласна на красно-писание! — только не по-«земгорски» (горцы равнины!), не по-«либеральному», — пишите или как Державин (с Ъ) или как Маяковский! В этом отсутствующем Ъ, при наличии — такая явная сделка!
И не употребляйте слово «игривость» — это затасканное слово, в конец испорченное: «игривый анекдот», «игривое настроение», что-то весьма подозрительное.
Замените: «игра», «пена». (Прим<ер>, «Где вы, в разгуле Мариулы или в пене Манон?»)
И не сердитесь на непрошеные советы, это не советы, а просьбы, а просьбы не только «непрошеные», — они сами просят!
_____Ваше письмо меня тронуло. Продолжайте писать ко мне и памятуйте одно: я ничего не присваиваю. Все «сорвавшееся» в мире — мое, от первого Адама до последнего, отсюда полная невозможность хранить. В Вашем письме я вижу не Вас ко мне, а Вас — к себе. Я случайный слушатель, не скрою, что благодарный. Будемте так: продолжайте думать вслух, я хорошие уши, но этими ушами не смущайтесь и с ними не считайтесь. Пусть я буду для Вас тем вздохом — (или тем поводом к вздоху! — ) — единственным исходом для всех наших безысходностей!
Марина ЦветаеваТеперь вспоминаю, смутно вспоминаю — и это глубоко́ между нами! когда я решила книгу назвать «Ремесло», у меня было какое-то неизреченное, даже недоощущенное чувство иронии, вызова.
— «Ну посмотрим, что́ за „Ремесло“»! И — в ответ все фурии ада и все сонмы рая!
Голубчик, Вы глубоко́-правы, только Вы не так подошли, не оттуда повели атаку. Вы принизили понятие Ремесла, Вы же должны были вскрыть несоответствие между сим высоким понятием — и его недостойной носительницей.
Голубчик, Вы угадали интонацию, увидели — за сто верст! — начало моей усмешки. — «Что же это за „Ремесло“?!» Я сначала не угадала, подумала, что Вы просто не знаете РЕМЕСЛА ПЕСНИ. Ваш вопрос был глубже моего ответа. Вы глубоко́-правы, я не могу этого от Вас скрыть, но это глубоко́ между нами. Пусть остальные верят и умиляются! И струят на этом — свое собственное ремесло!
_____Теперь о делах:
«Драматические сцены» у меня могут быть готовы через месяц, — раньше ведь не нужно? В них войдут: «Метель», «Приключение», «Фортуна» и «Феникс» (последняя, т.е. одна третья сцена безграмотно и препакостно напечатана в Сов<етской> России под названием) «Конца Казановы». Вещь целиком — нигде не печаталась, как и «Приключение»).
Но «Petropolis» — по-новому? [1258] И в России? Боюсь за корректуру, — страдаю от опечаток! {192}
Самое главное для меня устройство «Земных Примет» (книга записей). Это — ходкая проза, хотя бы из дурного любопытства публики к частной жизни пишущих. (Публика будет обокрадена, но ведь она же этого не знает!) Это — сейчас — забота моих дней, эта книга мне надоела, я от нее устала, это мое второе я, и нам необходимо расстаться.
Дальше — поэма «Мо́лодец» (новая, моя последняя большая стихотв<орная> вещь). Отклоняясь от дел, — Вы наверное моего русского русла не любите, одежда России мешает Вам видеть суть. Об этом разговор впереди, покамест скажу Вам, что это об упыре, что в эту вещь я была влюблена, как в сон, что до сих пор (полгода назад кончила!) не могу смотреть на черную тетрадку, ее хранящую, без волнения. Это — grande passion, passion {193} — в чистом виде, со всеми попранными человеческими и божескими законами. С ней я не тороплюсь, издать ее хочу безукоризненно.
И — важнейшее из дел: сейчас в Берлине некий Игнатий Сем<енович> Якубович [1259], человек к<оторо>му я обязана выездом своим из России, моя давняя дружба и вечная благодарность. Мне необходимо окликнуть его. Не возьметесь ли Вы переслать ему в миссию прилагаемый листок. Из Праги это сделать невозможно. Письмо можете прочесть, «лояльное». Хорошо бы узнать, на какой срок он в Берлине (хотя бы по телефону), тогда бы я Вам прислала для него книги, к<отор>ые Вы, м<ожет> б<ыть>, через посыльного бы отправили. (Здесь сов<етская> миссия — зачумленное место, не знаю, как в Берлине.)
Это прелестный, прелестный человек, и у меня сердце разрывается от мысли, что он может заподозрить меня в забывчивости, или в еще худшем. Это один из тех «врагов», за которых я многих, многих «друзей» отдам!
(NB! Деньги на посыльного приложу, не укоряйте в мелочности, это — мелочи, к<отор>ые не должны вставать между людьми!) Но до посылки книг мне нужно узнать, в Б<ерлине> ли он еще и на сколько. М<ожет> б<ыть> сообщите открыточкой?
Мой новый адр<ес>:
Praha, P.P. Dobřichovice, Horni Mokropsy, č<islo> 33, u Pana Grubnera.
_____Прилагаемый листок оторвите, запечатайте и отправьте. Если невозможно — уничтожьте.
Шлю Вам дружеский привет, если увидетесь с Люб<овью> Мих<айловной> Э<ренбур>г, скажите ей, что пишу на днях, люблю и помню.
МЦ.<Приписка на полях:>
P.S. Вы можете никому не давать читать моих писем? Я «сидеть втроем» совсем не умею.
Печ. по СС-6. стр. 560–565. См. коммент. к письму 27–23.
32-23. A.B. Бахраху
Мокропсы — Прага, 14-го /15-го июля 1923 г.
Друг,
Откуда у меня это чувство умиления, когда я думаю о Вас? — Об этом писать не надо бы. Ни о чем, вообще, не надо бы писать: отложить перо, впериться в пустоту и рассказывать (насказывать!) А потом — пустой лист — и наполненная пустота. Не лучше ли?
(Впрочем пустота — прорва и никогда не наполняется. В этом ее главное достоинство и — для меня — неотразимейший соблазн!)
Но одно меня останавливает: некая самовольность владения, насилие, захват.
Помните, у Гоголя, злой колдун, вызывающий душу Катерины? [1260] Я не злой колдун и я не для зла вызываю, но я вызываю, и я это знаю, и не хочу этого делать втайне. Только это (некий уцелевший утес мужской этики!) и заставляет меня браться за перо, верней: помогает мне, тут же, с первой строки, не бросать пера!
Я говорю правду.
_____Продолжаю письмо из Праги, — из другого дома и из другой души. (И вы, неизбежно: «и другими чернилами!») [1261]
Пишу в рабочем предместье Праги, под нищенскую ресторанную музыку, вместе с дымом врывающуюся в окно. Это — обнаженная жизнь, здесь и веселье — не на́ жизнь, а на́ смерть. (Кстати, что́ такое веселье? Мне никогда не весело!)
Дружочек, у меня так много слов (так много чувств) к Вам. Это — волшебная игра. Это полное vá banque {194} — чего? И вот задумалась: не сердца, оно слишком малое в моей жизни! — может быть его у меня вовсе нет, но есть что-то другое, чего много, чего никогда не истрачу — душа? Не знаю, как его зовут, но кроме него у меня нет ничего. И вот этим «последним»…
_____Дружочек, это свобода сна. Вы видите сны? Безнаказанность, безответственность — и беззаветность сна. Вы — чужой, но я взяла Вас в свою жизнь, я хожу с Вами по пыльному шоссе деревни и по дымным улицам Праги, я Вам рассказываю (насказываю!), я не хочу Вам зла, я не сделаю Вам зла, я хочу, чтобы Вы росли большой и чудный, и, забыв меня, никогда не расставались с тем — иным — моим миром!
Ясно ли Вам? Ведь это — наугад, но иногда наугад — в упор! Если Вы мне ответите: я не большой и не чудный и никогда не буду большой и чудный — я Вам поверю. Но Вы этого не ответите, есть в Вас что-то — вот эта зоркость чувств — то, например, что Вы не хотите, чтобы другие читали мои письма — есть в Вас что-то указующее на силу, на бессонность сознания, на лоб. Я не хочу, чтобы душа в Вас гостила, я хочу —
Я хочу, дитя, от Вас — чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения. Я хочу, чтобы Вы, в свои двадцать лет, были семидесятилетним стариком — и одновременно семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров.
Я не знаю, кто Вы, я ничего не знаю о Вашей жизни, я с Вами совершенно свободна, я говорю с духом.
Друг, это величайший соблазн, мало кто его выдерживает. Суметь не отнести на свой личный счет то, что направлено на Ваш счет — вечный. Не заподозрить — ни в чем. Не внести быта. Иметь мужество взять то, что та́к дается. Войти в этот мир — вслепую.
_____— Спасибо за Ъ. Спасибо за заботы с издателями. Спасибо за попытку с Якубовичем. Непременно назначьте срок высылки обеих рукописей, могу выслать на Вас. Срок мне необходим, иначе никогда не соберусь. — Но не слишком спешный. Да, — Petropolis по новой орфографии? Печально [1262]. А «Слово»? [1263] — «Земные приметы» непременно хочу на . Очень боюсь за корректуру, если бы все это устроилось и можно было бы заранее определить срок выхода книги (3<емные> П<риметы>), я бы приехала в Берлин держать корректуру. — Раньше осени вроде не будет? — Я больше года не была в Берлине, последние воспоминания плачевные (если бы я умела плакать?) — я в неопределенной ссоре с Э<ренбур>гом и в определенной приязни с его женой [1264], кроме того меня не выносит жена Геликона (все это — между нами) — и главное — я невероятно (внешне) беспомощна. Все это очень осложняет приезд. Я тот слепой, которого заводят все собаки.
_____Дружочек, о словах. Я не знаю таких, которые бы теряли. Что́ такое слово, чтобы мочь уничтожить чувство? Я такой силы ему не приписываю. Для меня — все слова малы́. И безмерность моих слов — только слабая тень безмерности моих чувств. Я не могу не ответить Вам своими же собственными стихами (год назад, в июле):
… Есть час — на те слова! Из слуховых глушизн Высокие права Выстукивает жизнь…Все дело — в часе.
А сейчас — мой час с Вами кончен.
Жму руку.
МЦ.<На обороте>
В глубокий час души и ночи, Нечислящийся на часах, Я отроку взглянула в очи, Нечислящиеся в ночах Ничьих еще… Двойной запрудой — Без памяти и по края Покоящиеся. — — Отсюда Жизнь начинается твоя. Седеющей волчицы римской Взгляд, в выкормыше зрящий — Рим! Сновидящее материнство Скалы… Нет имени моим Потерянностям. — Все покровы Сняв — выросшая из потерь! — Так некогда над тростниковой Корзиною клонилась дщерь Египетская… МЦ.14-го июля 1923 г.
Печ. по СС-6. стр. 565–567. См. коммент. к письму 27–23.
33-23. <А.В. Бахраху>
Какого-то июля 1923 г.
Дорогое мое дитя! У меня за всю жизнь был всего один маленький друг — моих 17ти лет в Гурзуфе мальчик Осман, одиннадцати. Я жила совсем одна, в саду выходившем на Генуэзскую крепость, возле татарского кладбища. И я этого мальчика любила та́к и этот мальчик меня любил та́к, как никогда уже потом никто меня и, наверное, никто — его. Я сейчас объясню: всё это была наиглубочайшая бессмыслица. Я была стриженая (после кори, волосы только начинали виться) — все татарки длинноволосые, да еще по 60-ти кос на́ голову! — во мне ничего не было, за что меня татарский мальчик мог любить, он всё должен был перебороть, его мною дразнили, я ему ничего не дарила, мы почти не говорили с ним, и — клянусь, что это не была влюбленность! Мы лазили с ним на мою крепость — на опасных местах, тех, без веревки, местах даже запретных, где лазили только англичане, он мне протягивал свою ногу и я держалась — а наверху — площадка: маки, я просто сидела, а он смотрел, я на маки, а он на меня, и смотреть, клянусь, было не на что, я была стриженая и во мне даже не было прельщения «барышни»: ни батистовых оборчатых платьев, ни белизны — полотно и загар! — ходили с ним на татарское кладбище — плоские могильные плиты цвета вылинявшей бирюзы — «Тут мой дедушка лежит. Когда я прихожу — он слышит. Хороший был» — и к нему на табачные плантации (он был без отца — и хозяин!) и к нему в дом, на́ по́л перед очагом, где вся его семья (вся женская) — 10 мес<яцев> ребенок включительно неустанно пили черный кофе — не забыть бабушки (или прабабушки) 112-ти лет, помнившей Пушкина — он покупал мне на 1 коп<ейку> «курмы», горсть грязи, которую я тут же, не задумываясь, съедала. — Когда я уезжала он сказал: — «Когда ты уедешь я буду приходить к тебе в сад и сидеть». И я, лицемерно: «Но меня не будет?» — «Ничего. Камень будет» И в последнюю ночь ни за что не хотел уходить, точно я уже умерла: — «Я буду с тобой и не буду спать». В 12 ч<асов> заснул на моей кровати, я тихонечко встала и пошла на свою скалу. Ночь не спала. Утром в 6 ч<асов> разбудила. Пошли на пароход, и он опять нес вещи, как в первый раз, когда с парохода. Простились за́ руку. Тут — заскок памяти: помнится — брезжится — что в последнюю секунду что-то произошло: либо вскочил на пароход, либо — не знаю каким чудом — встретил меня в Судаке. М<ожет> б<ыть>, вскочил в лодку и плыл вслед? Честно: не помню, только помню, что что-то под самый конец — было, а откуда на меня глядели его черные (всего лихорадочнее: татарские) глаза, с гурзуфской ли пристани, с судакской ли не знаю.
Через 2½ года я, уже замужем и с 2хлетней Алей была в Ялте, поехала в Гурзуф, отыскала Османа — Осман-Абдула-Оглы: у фонтана — данный им навек его адрес — огромного! привезла его в Ялту, познакомила с С<ережей>. — «Хороший у тебя муж, тихий, не дерется». Алей любовался и играл с ней. Обо мне рассказывал: «Когда ты уехала я всё приходил к тебе в сад, сидел на том камне и плакал» — просто, повествовательно, как Гомер о судьбах Трои. Был еще рассказ — о том, как он одной из этих зим ездил со своей школой в большой город: Москву и искал там меня. Было или нет, Москва ли этот большой город или Симферополь — так и не выяснила, рассказывал как сон. Но во сне или нет — искал меня. Потом как-то затосковал, сорвался с места: Домой поеду! Некрасивый, востролицый, очень худой.
Эту любовь я считаю — gros lot de ma vie {195}. Не смеюсь и не смейтесь. В ней было всё, что мне нужно: сознание (certitude) {196}, но сознание — такое. —
Пишу это п<отому> ч<то> Вы напоминаете мне моего Османа, не Вы, которого не знаю, а свое чувство, которое (которые) знаю: узнаю́. Ваше двадцатилетие где-то во мне равняется его одиннадцатилетию. Из той же области чувств: без дна и без дня, вслепую и впустую. Пишу Вам как мысль идет, не сбивайте — и не делайте выводов: мы ведь еще не знакомы.
_____(Спросить Османа: — Ты любишь меня? было бы — просто грубостью. И совсем не знаю что́ бы он ответил. Дикари не знают как это называется. 1932 г.)
_____Дорогая деточка моя, как рассказать Вам то чувство глубочайшей благодарности за некие мимолетности Вашего пера и мысли. Ведь мне дорого только нечаянное, сорвавшееся! То, напр<имер>, что я, прочтя «поэтесса», чуть-чуть передернулась и — учитывая слишком многое — и наперед устав! — смолчала, а Вы не смолчали. («Поэтесса» это как «актриса» что-то подозрительное, в меру уличное: недоросшая сестра — старшей.) Любуюсь Вашей настойчивостью с «ремеслом». У Вас старинное деление на вдохновение и ремесло. Но нельзя же назвать книгу «Вдохновение». Пусть читатель сам назовет! Впрочем, довольно о книгах, давайте о Вас: чувствую в Вас свой костяк, Ваша мысль нелегко сдается, да это и не ее дело! И — раз навсегда — мне этого не нужно, мне не это нужно, мне нужно одно: доверие и некое чудо проникновения в мою настежь-распахнутую и посему трудно-читаемую душу. (В раскрытые двери собаки входить боятся. Им нужна щель: чтобы мордой.) Читайте в моих книгах всё что́ прочтется, всё что захотите прочесть. Это не фраза! Это самостоятельная жизнь (действие и поле действия) моего слова в другом, то́, что́ мое слово делает само, без меня (дети без родителей ведут себя чаще всего препакостно, но они от этого не делаются детьми соседа!) Мои стихи — это мои дети на свободе, без корректива (гасителя, глушителя) моего родительства (авторства). А м<ожет> б<ыть> — сама я́ на полной свободе: как во сне.
Иногда думаю о себе, что я — вода. (Эти дни я много на реке. Чудесная. Moldau: Влтава: почему не Млдава??) Налейте в море — будет морем, налейте в стакан — будет стаканом. Дело вместимости сосуда — и: жажды!
_____О русском русле. Дитя, это проще. Русская я только через стихию слова. Разве есть русские (французские, немецкие, еврейские и пр.) чувства? Просторы? Но они были и у Атиллы, есть и в прериях. Есть чувства временные (национальные, классовые), вне-временные (божественные: человеческие) и до́-временные (стихийные). Живу вторыми и третьими. Но дать голую душу — без тела — нельзя, особенно в большой вещи. Национальность — тело, т.е. опять одежда. Прочтите Ц<арь->Девицу — настаиваю. Где суть? Да в ней, да в нем, да в мачехе, да в трагедии разминовений: ведь все любови — мимо: «Ein Jüngling liebt ein Mädchen» {197}. Да мой Jüngling никого не любит, я только таких и люблю, он любит гусли, он брат молодому Давиду и еще больше — Ипполиту. Вы думаете — я так же не могла написать Федру? Но и Греция и Россия — тело, т.е. одежда, Вы не любите одежды — согласна — сдерите ее и увидите суть. Это (В Ц<арь->Д<евице>) сделал пока один Борис Пастернак. — «На Вашу вещь не польстится иностранец, в ней ни опашней, ни душе-греек, ничего русско-оперного, в ней человеческая душа, это иностранцу не нужно».
А Переулочки — знаете, что́ это? Не Цирцея ли, заговаривающая моряков? Переулочки — моро́ка, неуловимая соблазнительница, заигрывающая и заигрывающаяся. Соблазн — сначала раем (яблочком), потом адом, потом небом. Это сила в руках у чары. Но не могу же я писать их как призраков. Она должна обнимать, он должен отталкивать. Но борются не тела, а души.
_____Поезжайте на́ море — я сейчас целый день на реке! Это тоже возможность беседы. Хотите еще одну умилительность о Вас? Вы — пишущий, профессионал слова, не хотите слов! И не могу не ответить Вам одним четверостишием из стихов прошлого лета:
Есть час на те слова: Из слуховых глушизн Высокие слова Выстукивает жизнь. [1265]Я не боюсь слов. Они не страшны именно тем, что — всегда малы́, всегда тень (что́ резче и ярче тени!) что за словами — всегда — еще всё. Я всегда за слова! Когда человек молчит мне тяжело, как вагон который не идет: — Ну же! Можно без рук, без губ, без глаз — нельзя без слов. Это — последняя плоть, уже духовная, воспринимаемая только сутью, это последний мост. Без слов — мост взорван, между мной и другим — бездна, которую можно перелететь только крыльями!
_____Теперь вслушайтесь внимательно и взвесьте: дает ли Вам — о моей душе, скажем — что-нибудь моя живая жизнь. Когда вернее: видя или не видя? В упор или потупясь? Не видеть, чтобы видеть (я) или видеть, чтобы не видеть (опять я же?) Так я склонна утверждать, так я научена утвержд<ать>. Но — случайность ли наша живая жизнь (unsere lebendige Erscheinung)? {198} Не есть ли в этом уклонении (от живой Erscheinung другого — и даже собственной) некое высокомерие? Можно ли быть привязанным — к духу? Можно ли любить собаку вне тела? Призрак собаки. Собаку — вне собаки: ушей, зубов, упоительной улыбки до ушей и т.д. На собаке (единстве) лучше видно.
И возвращаясь к человеку: не жизнь ли вяжет (жизнь: ложь, жар, спор, обида, дележ). И не променяете ли Вы Вашего незримого и абсолютного собеседника на первую встречную зримость: относительность: — на жизнь! Это я та́к спрашиваю. И больше утверждаю, чем спрашиваю!
_____Горние Мокропсы, близь Праги, какого-то июля 1923 г.
Впервые — HCT. стр. 182–185. Печ. по тексту первой публикации.
34-23. A.B. Бахраху
Мокропсы, 20-го июля 1923 г.
Милый друг,
Это хороший душевный опыт, не Ваш лично или мой, а проверка души, ее могущества, ее зоркости и — ее пределов.
Давайте на совесть: ведь сейчас между нами — ни одной вражды и, ручаюсь, что пока письма — ни одной вражды не будет. Вражда, следственно, если будет, придет от тел, от очной ставки тел: земных примет, одежд. (Тело отнюдь не считаю полноправной половиной человека. Тело в молодости — наряд, в старости — гроб, из которого рвешься!)
Может статься, мне не понравится Ваш голос, может статься — Вам не понравится мой (нет, голос понравится, а вот какая-нибудь повадка моя — может быть — нет) и т.д. Ведь тела (вкусовые пристрастья наши!) бесчеловечны. Психею (невидимую!) мы любим вечно, потому что заочное в нас любит — только душа! Психею мы любим Психеей, Елену Спартанскую мы любим глазами (простите за «мы», но я тоже люблю Елену!) — чуть ли не руками — и никогда наши глаза и руки не простят ее глазам и рукам ни малейшего отклонения от идеальной линии красоты {199}.
Психея вне суда — ясно? Елена непрестанно перед судьями.
_____Есть, конечно, предельная (т.е. — беспредельная!) любовь: «я тебя люблю, каков бы ты ни был». Но каковым же должно быть это ты! И это я, говорящее это ты. Это, конечно, чудо. В любовной стихии — чудо, в материнской — естественность. Но материнство, это вопрос без ответа, верней — ответ без вопроса, сплошной ответ! В материнстве одно лицо: мать, одно отношение: ее, иначе мы опять попадаем в стихию Эроса, хотя и скрытого.
(Говорю о любви сыновней. — Вы еще следите?)
Итак, если при встрече (ставке) мы так же оттолкнемся, — а может быть откло́нимся — друг от друга, как ныне притягиваемся, — вывода два: или душа — ложь, а «земные приметы» — правда, или душа — правда, а «земные приметы» — ложь, но ложь-сила, тогда как душа — правда-слабость. (Соединительное тире!)
Словом, так или иначе, что-то сейчас, в нашей переписке, окажется или слабостью, или слепостью, кто-то, Вы ли, я ли (хорошо бы оба! Тогда — даже весело!) определенно дает маху. Душа заводит.
_____С Э<ренбур>гом мы разошлись из-за безмерности чувств: его принципиальной, сшибшейся с моей, стихийной. Я требовала чудовищного доверия и понимания вопреки (очевидности, отсылая его в заочность!) Он — чего он требовал? Он просто негодовал и упирался в непонимании. Хотите пример? Люди его породы, с отточенной — и отчасти порочной — мыслью, очень элементарны в чувствах. У них мысль и чувство, слово и дело, идеология и природный строй — сплошь разные и сплошь враждующие миры. «Мыслью я это понимаю, сердцем — нет!» «Я люблю вещь в идее, но ненавижу ее на столе». — «Так ненавидьте ее и в идее!» — «Нет, ибо моя ненависть к ней, на столе — слабость». — «Не обратно ли?». Коварная усмешка и: — «Не знаю».
У меня всегда было чувство с ним, что он все ценное в себе считает слабостью, которую любит и себе прощает. Мои «доблести» играли у него роль слабостей, все мои + (т.е. все мною любимое и яростно защищаемое) были для него только прощенными минусами. — Вам ясно? — Он, простив себе живую душу, прощал ее и мне. А я такого прощения не хотела. Как с женщинами: любуются их пороками и прощают: «милые дети!». Я не хотела быть милым ребенком, романтическим монархистом, монархическим романтиком, — я хотела быть. А он мне мое бытие прощал.
_____Это — основное расхождение. Жизненное — в другом. Жизненно он ничего не простил мне, там, где как раз нужно было простить! Он требовал (теперь вспомнила!) каких-то противоестественных сложностей, в которых бы я плыла как в реке: много людей, всё в молчании, всё на глазах, перекрестные любови (ни одной настоящей!) — всё в «Prager-Diele», всё шуточно… Я вырвалась из Берлина, как из тяжелого сна.
Все это — весьма бесплотно, когда-нибудь в беседе «уплотню», писать об этом не годится.
В основном благородстве его, в больной доброте и в страдальческой сущности ни секунды не сомневаюсь.
_____А Л<юбовь> М<ихайловна> — очарование. Она — птица. И страдающая птица. У нее большое человеческое сердце, но — взятое под запрет. Ее приучили отделываться смехом и подымать тяжести, от которых кости трещат. Она — героиня, но героиня впустую, наподобие тех красавиц, с 39° температуры, танцующих ночь напролет. Мне ее глубоко, нежно, восхищенно — и бесплодно жаль.
_____Б<ориса> Н<иколаевича> [1266] нежно люблю. Жаль, что тогда прождал Вас даром. Он одинокое существо [1267]. В быту он еще беспомощнее меня, совсем безумен. Когда я с ним, я чувствую себя — собакой, а его — слепцом! Чужая (однородная) слабость исцеляет нашу. Лучшие мои воспоминания в Берлине о нем [1268]. Если встретитесь, скажите.
_____Вы пишете, в Б<ерлине> меня любят. Не знаю. Знают и не любят — это со мной не бывает, не знают и любят — это бывает часто. Я такую любовь не принимаю на свой счет. Мне важно, чтобы любили не меня, а мое. «Я», ведь это включается в мое. Так мне надежнее, просторнее, вечнее.
_____«Психею» в количестве 5 экз<емпляров> получила, хотела бы еще 20 экз<емпляров>. 25 экз<емпляров> мне все давали. Гржебин же не хочет быть хуже всех! Передайте ему эту мою уверенность, у него добрые моржовые глаза — жалобные. Взовите к ним.
_____Рукопись к 1-ому сент<ября> приготовлю, если будете в Б<ерлине> — перешлю Вам. Вы будете моим первым читателем. Мне это приятно. Если Вы человек с сострадательным воображением (с болевым — точней), Вам многое в «Земных Приметах» будет тяжело читать. Эта книга — зеркало и отражает прежде всего лицо читателя. Глубина (или поверхность) ее — условна. Я не настойчива, всегда только — еле касаюсь.
A bon entendeur — salut! {200} [1269]
_____Стихи (те, что прислала) написаны, по-моему, за день до письма, 14-го, кажется. Могли бы узнать и без даты. Простите за некоторую преувеличенную молодость героя, в двух последних строках.
(Вы, надеюсь, «раскрыли» тростниковую корзину?) [1270]
Да, кстати, Вы любите грудных детей? Детей вообще? — Любопытно. — Каким Вы были ребенком? Был ли рост — катастрофой? Если не лень и подходящий час, ответьте. Я не из праздного любопытства спрашиваю, это просто некоторое испытыванье дна.
(С той разницей, что плохой пловец, испытывая, боится его утратить, хороший пловец — найти.
NB! В реке я — плохой пловец! Надо мной все смеются!)
_____Пишу Вам поздно ночью, только что вернувшись с вокзала, куда провожала гостя на последний поезд. Вы ведь не знаете этой жизни.
Крохотная горная деревенька, живем в последнем доме ее, в простой избе. Действующие лица жизни: колодец-часовенкой, куда чаще всего по ночам или ранним утром бегаю за водой (внизу холма) — цепной пес — скрипящая калитка. За нами сразу лес. Справа — высокий гребень скалы. Деревня вся в ручьях. Две лавки, вроде наших уездных. Костел с цветником-кладбищем. Школа. Две «реставрации» (так, по-чешски, ресторан). По воскресеньям музыка. Деревня не деревенская, а мещанская: старухи в платках, молодые в шляпах. В 40 лет — ведьмы.
И вот, в каждом домике непременно светящееся окно в ночи́: русский студент! Живут приблизительно впроголодь, здесь невероятные цены, а русских ничто и никогда не научит беречь деньги. В день получки — пикники, пирушки, неделю спустя — задумчивость. Студенты, в большинстве бывшие офицеры, — «молодые ветераны», как я их зову. Учатся, как никогда — в России, везде первые, даже в спорте! За редкими исключениями живут Россией, мечтой о служении ей. У нас здесь чудесный хор, выписывают из Москвы Архангельского [1271].
Жизнь не общая (все очень заняты), но дружная, в беде помогают, никаких скандалов и сплетен, большое чувство чистоты.
Это вроде поселения, так я это чувствую, — поселения, утысячеряющего вес каждого отдельного человека. Какой-то уговор жить (Дожить!) — Круговая порука. —
_____Я здесь живу уже с 1-го авг<уста> 1922 г., т.е. скоро будет год. В Праге бываю раз — редко, два — в месяц. У меня идиотизм на места, до сих пор не знаю ни одной улицы. Меня по Праге водят. Кроме того, панически боюсь автомобилей. На площади я самое жалкое существо, точно овца попала в Нью-Йорк.
_____Вы просите фотографию? Дружочек, у меня нет ни одной. Но есть милая барышня, любящая мои стихи и хорошо рисующая, она вернется во вторник, и тогда я попрошу ее набросать меня для Вас. Раз она уже это делала — очень удачно [1272].
_____Кончаю. Ваши письма — для меня радость. Пишите. Пишите всё, что хочется, глядитесь в зеркало и измеряйте глубину.
Дружочек! Все это так хорошо, — и Ваша молодость, и наша отдаленность, и это короткое последнее лето.
_____Нет, писать буду, только временами трудно не поддаться соблазну говорить в упор, в пустоту. Тогда перо выпадает. Но сегодня оно мне верно служит, — как видите, есть еще на свете верные слуги и длинные письма!
МЦ.Как мне о многом, о многом надо еще рассказать!
Печ. по СС-6. стр. 568–572. См. коммент. к письму 27–23.
35-23. A.B. Бахраху
Мокропсы, 25-го нов<ого> июля 1923 г.
Милый друг,
Что у Вас в точности было с Э<ренбур>гами?
Причин, вызывающих этот вопрос, сказать не вольна, цель же его — продолжать относиться к Вам, как отношусь, а для этого мне нужно одно: правда, какая бы она ни была!
Я хочу Вас безупречным, т.е. гордым и свободным настолько, чтоб идти под упрек, как солдат под выстрелы: души моей не убьешь!
Безупречность — не беспорочность, это — ответственность за свои пороки, осознанность их — вплоть до защиты их. Так я отношусь к своим, так Вы будете относиться к Вашим.
Предположим, человек трус. Выхода два: или перебороть — или признаться, сначала самому, потом другим. — «Да, я трус». И, если этих других чтишь, объяснить: трус потому-то и потому-то. И все. — Просто?
Но, возвращаясь к Э<ренбур>гам: повода к расхождению могут быть два: красота Л<юбови> М<ихайловны> и идеология И<льи> Г<ригорьевича> т.е. Ваше притяжение к первой и Ваше оттолкновение от второй. И в обоих случаях — вопрос формы, ибо ни одна женщина не рассердится на то, что она нравится, ни один мужчина не оскорбится на то, что с ним не согласны. Форма, нарушенная Вами. — Так?
Дружочек, нарушение формы — безмерность. Я неустанно делаю это в стихах, была моложе — только это и делала в жизни! Все пойму. Посему, будьте правдивы. Не приукрашивайте, не выгораживайте себя, не считайте меня меньше, чем я есть, и моего отношения — поверхностнее.
И в вопросе моем памятуйте одно: его цель.
_____О Вашем последнем письме. В нем есть некий тяжелый для меня налет эстетства, который я заметила уже в Вашем отзыве о Психее [1273].
Говоря о стихах «Бессонница» и еще о каких-то, Вы высказываете предположение, что поэт здесь прельстился словом [1274]. Помню, что читая это, я усмехнулась. Такая же усмешка у меня была, когда я читала Ваше письмо. «Сладость любви», «отрава любви», «мечта», «сказка», «сон», — бросьте! Это — арсенал эстетов. Любить боль, потому что она боль — противоестественность. Упиваться страданием — или ложь или поверхность. Возьмем пример: у вас умирает мать (брат — друг — и т.д.) будете Вы упиваться страданием? У Вас отнимают любимую женщину — о, упоение может быть! Упоение потери, т.е. свободы! Боль, как средство, да, но не как цель.
Ведь в физ<ическом> мире, как в духовном, один закон. Что ложь — в одном, неминуемо ложь и в другом. Раны своей ты не любишь, раной своей ты не упиваешься, ты хочешь выздороветь или умереть. Но за время болезни своей ты многому научился, и вот, встав, благословляешь рану, сделавшую тебя человеком. Так и с любовью.
Есть еще одна возможность: рана мучительна, но она — все, что у тебя есть, выбор между ею и смертью. Предпочитаешь мучиться, но это есть насильное предпочтение, а не Ваш свободный выбор.
Словом, — бросьте отраву!
Единственная отрава, которой я Вас отравлю, это — живая человеческая душа и… отвращение ко всяким другим отравам!
_____Об эстетстве. Эстетство, это бездушие. Замена сущности — приметами. Эстет, минуя живую заросль, упивается ею на гравюре. Эстетство, это расчет: взять все без страдания: даже страдание превратить в усладу! Всему под небом есть место: и предателю, и насильнику, и убийце — а вот эстету нет! Он не считается. Он выключен из стихий, он нуль.
Дитя, не будьте эстетом! Не любите красок — глазами, звуков — ушами, губ — губами, любите всё душой. Эстет, это мозговой чувственник, существо презренное. Пять чувств его — проводники не в душу, а в пустоту. «Вкусовое отношение», — от этого не далеко́ до гастрономии.
О, будь Вы сейчас здесь, я повела бы Вас на мою скалу, поставила бы Вас на гребень: Владейте! Я подарила бы Вас — всему!
Дружочек, встреча со мной — не любовь. Помните это. Для любви я стара, это детское дело. Стара не из-за своих 30 лет, — мне было 20, я то же говорила Вашему любимому поэту М<андельшта>му:
— «Что Марина — когда Москва?! [1275] „Марина“ — когда Весна?! О, Вы меня действительно не любите!»
Меня это всегда удушало, эта узость. Любите мир — во мне, не меня — в мире. Чтобы «Марина» значило: мир, а не мир — «Марина».
Марина, это — пока — спасательный круг. Когда-нибудь сдерну — плывите! Я, живая, не должна стоять между человеком и стихией. Марины нет — когда море!
Если мне, через свою живую душу, удастся провести вас в Душу, через себя — во Всё, я буду счастлива. Ведь Всё — это мой дом, я сама туда иду, ведь я для себя — полустанок, я сама из себя рвусь!
_____Дружочек, это все не так страшно. Это все, потому что Вы там, а я здесь. Когда Вы увидите меня, такую равнодушную и такую веселую, у Вас сразу отляжет от сердца. Я еще никого не угнетала и не удушала в жизни, я для людей — только повод к ним самим. Когда это «к ним самим» — есть, т.е. когда они сами — есть, — ВСЁ ЕСТЬ.
Над отсутствием я бессильна.
_____Теперь о другом: к 1-му сент<ября> мои книги будут готовы: «Земные приметы», «Драмат<ические> Сцены» и «Мо́лодец» (поэма). Сообщите, стоит ли мне высылать их Вам заранее, п<отому> ч<то> к 15-му сент<ября> думаю приехать сама. Удобнее было бы мне, чтобы Вы заранее показали их и условились, п<отому> ч<то> я вовсе не хочу все мои недолгие дни в Б<ерлине> просидеть с издателями. Кроме того, я, лично, — легкомыслием своим и воспитанностью своей — всегда все свои деловые дела порчу.
Ряд вопросов: 1) Сумеете ли Вы достать мне разрешение на въезд и жительство в Берлине и сколько это будет стоить? (Говорю о разрешении.)
2) Где я буду жить? (М<ожет> б<ыть> — в «Trautenauhaus» [1276], но в виду расхождения с И.Г. Э<ренбургом> — не наверное.)
3) Будет ли к половине сентября в Берлине Б<орис> Н<иколаевич>? [1277]
4) Есть ли у Вас для меня в Берлине какая-нибудь милая, веселая барышня, любящая мои стихи и готовая ходить со мной по магазинам. (Здесь, в Праге, у меня — три!) [1278]
5) Согласны ли Вы от времени до времени сопровождать меня к издателям и в присутств<енные> места (невеселая перспектива?!)
6) Есть ли у Вас ревнивая семья, следующая за Вами по пятам и в каждой женщине (даже стриженой!) видящая — роковую?!
7) Обещаете ли Вы мне вместе со мной разыскивать часы: мужские, верные и не слишком дорогие, — непременно хочу привезти Сереже, без этого не поеду.
_____Имейте в виду, что я слепа, глупа и беспомощна, боюсь автомобилей, боюсь эстетов, боюсь домов литераторов, боюсь немецких Wohnungsamt-ов {201} боюсь Untergrund-ов {202}, боюсь эсеров, боюсь всего, что днем — и ничего, что ночью.
(Ночью — только души! И ду́хи! Остальное спит.)
Имейте в виду, что со мной нужно нянчиться, — без особой нежности и ровно столько, сколько я хочу — но неизбывно, ибо я никогда не вырастаю.
Словом, хотите ли Вы быть — собакой слепого?!
Приеду недели на две. Думаю, достаточный срок, чтобы со старыми перессориться и с новыми подружиться.
_____О Ваших стихах (пушкинские!) в начале письма.
«В день ясный — сумерки мои».Что я имею обыкновение ночь превращать в день, это правильно, но учтите при этом, что мой день — уже обращенная в день ночь. Видите, какая сложность?!
Ну́, — справимся!
_____А как это хорошо: «так складно, ладно, лгало мне»… Дорогой Пушкин! Он бы меня никогда не любил (двойное отсутствие румянца и грамматических ошибок!) [1279], но он бы со мной дружил до последнего вздоха.
Привезу с собой новые стихи, много. И буду Вас натаскивать по «русскому руслу». (Хорошая перспектива?!)
_____Дружочек, пишите раз в неделю, т.е. — хоть каждый день, но в одном конверте. (Можно ведь очень мелко.) Ну, два. Но не три. — Не сердитесь, здесь почта идет через чужие руки, так что мелкость письма — даже желанна. Не думайте над этим, неинтересно, и не обижайтесь, я ни при чем, а пишите что угодно и сколько угодно, но мелко и отсылайте единовременно. Вернее: не пишите между письмами: т.е. отсылайте — после моего.
_____Спасибо за Я<кубови>ча. Как я рада! Не знаете, долго ли он будет в Берлине?
Не забудьте ответить на все мои вопросы о Берлине. Жму руку.
МЦ.<Приписка на полях:>
О просьбе моей (письменной) в письме не упоминайте, исполняйте делом.
Печ. по СС-6 стр. 572–576. См. коммент. к письму 27–23.
36-23. A.B. Бахраху
Мокропсы, 25-го / 27-го июля 1923 г.
Дружочек,
Пишу Вам во мху (писала в тетрадку, сейчас переписываю), сейчас идет огромная грозная туча — сияющая. Я читала Ваше письмо и вдруг почувствовала присутствие чего-то, кого-то другого рядом. Оторвалась — туча! Я улыбнулась ей так же, как в эту минуту улыбнулась бы Вам.
(NB! Минута: то, что минет!) [1280]
Короткий мох колет руки, пишу лежа, подыму голову — она, сияющая. А рядом, как крохотные танцовщицы — лиственницы. (Солнце сквозь тучу брызжет на лист, тень карандаша как шпага!)
Шумит поезд и шумят пороги (на реке), и еще трещат сверчки — и еще пчелы — и еще в деревне петухи — и все-таки тихо. (Не-тихо очевидно только от людей!)
Мой родной, уйдите с моим письмом на волю, чтобы ветер так же вырывал у Вас из рук — мои листы, как только что из моих — Ваши. (О, ветер ревнив! Вот Вам, отчасти, ключ к «Царь-Девице». Постепенно расшифруем всё!)
О, какое восхитительное письмо, какое правильное, какое сражающее и какое глубоко́-человеческое! (Господи, взглянула на тучу и: огромное белое око, прямо, в упор: всё солнце!)
Дружочек, то, что Вы говорите о Психее и Елене — слова цельной и неделимой сущности и мои слова, когда я наедине — и перед таковой. Это мои слова о себе и к Вам. К раздробленным их отнести невозможно. Милый друг, последнее десятилетие моей жизни, за тремя-четырьмя исключениями — сплошные Prager-Diele. Я прошла жестокую школу и прошла ее на собственной шкуре (м<ожет> б<ыть> на мне учились, не знаю!) Двадцати лет, великолепная и победоносная, я во всеуслышание заявляла: «раз я люблю душу человека, я люблю и тело. Раз я люблю слово человека, я люблю и губы. Но если бы эти губы у него сре́зали, я бы его все-таки любила». Фомам Неверующим я добавляла: «я бы его еще больше любила».
И десять лет подряд, в ответ, непреложно:
— «Это Романтизм. Это ничего общего с любовью не имеет. Можно любить мысль человека — и не выносить формы его ногтей, отзываться на его прикосновение — и не отзываться на его сокровеннейшие чувства. Это — разные области. Душа любит душу, губы любят губы, если Вы будете смешивать это и, упаси Боже, стараться совмещать, Вы будете несчастной».
Милый друг, есть доля правды в этом, но постольку, поскольку Вы — цельное, а другой — раздробленность. В большинстве людей ничто не спевается, сплошная разноголосица чувств, дел, помыслов: их руки похожи на их дела и их слова — на их губы. С такими, т.е. почти со всеми, эти опыты жестоки и напрасны. Кроме того, по полной чести, самые лучшие, самые тонкие, самые нежные так теряют в близкой любви, так упрощаются, так грубеют, так уподобляются один другому и другой третьему, что — руки опускаются, не узнаешь: Вы ли? В вплотную-любви в пять секунд узнаешь человека, он явен и — слишком явен! Здесь я предпочитаю ложь. Я не хочу, чтобы душа, которой я любовалась, которую я чтила, вдруг исчезала в птичьем щебете младенца, в кошачьей зевоте тигра, я не хочу такого самозабвения, вместе с собой забывающего и меня. Была моложе — ранило, стала старше — ограничилась высокомерным, снисходительным (всегда скрытным) любопытством. Я стала добра, но за такую доброту, дружочек, попадают в ад. Я стала наблюдателем. Душа, укрывшись в свой последний форт, как зверь, наблюдала другую душу — или ее отсутствие. Я стала записывать: повадки, жесты, словечки, — когда в тетрадку, когда поглубже. Я убедилась в том, что именно в любви другому никогда нет до меня дела, ему до себя, он так упоительно забывает меня, что очнувшись — почти что не узнает. А моя роль? Роль отсутствующей в присутствии? О, с меня в конце концов этого хватило, я предпочла быть в отсутствии присутствующей (это мне напоминает молитву о «в рассеяньи — сущих») [1281] — я совсем отбросила эту стену — тело, уступила ее другим, всем.
Но в глубокие часы души, в час, когда я стою перед таким прекрасным, сущим и растущим существом, как Вы, мое дорогое, мое чудесное дитя, все мои опыты, все мои старые змеиные кожи — падают. Любя шум дерева, беспомощные или свободные мановения его, не могу не любить его ствола и листвы: ибо — листвой шумит, стволом — растет! Все эти деления на тело и дух — жестокая анатомия на живом, выборничество, эстетство, бездушие. О, упомянутые Prager-Diele этим цвели, — как и знакомая Вам «Prager-Diele». Здесь — сплошной расчет. Совместительство, как закон, трагедия, прикрытая шуткой, оскорбления, под видом «откровений». — Я просто устранилась, как устраняюсь всегда при заявлении: «то-то и то-то я в Ваших стихах принимаю, того-то и того-то — нет». Это — деление живого, насилие, оскорбление, я не могу, чтобы во мне выбирали, посему: изымаю себя из употребления вовсе, иду в мои миры, вернее вершу свой мир, заочный, где я хозяин!
— Ясно? — О, мой друг, как силен должен быть Бог в человеке, чтобы он среди людей не сделался или скотом или демоном!
_____Ваша зоркость изумительна. В отзыве о «Психее» — «поэтесса» [1282]. Я как-то поморщилась. И в следующем письме Ваше, вне моего упоминания, разъяснение. То же сегодня. Вчера я Вам писала (еще на Берлин) об эстетстве «отравы ради отравы», и сегодня Ваша приписка; «Что-то в том письме было не так». Вы отвечаете прежде чем я спрашиваю, я бы Вас сравнила с камертоном, Вас не собьешь.
Но, возвращаясь к «боли ради боли», признаюсь Вам в одном. Сейчас, идя по лесу думала: «а откуда же тогда этот вечный вопль души в любви: „Сделай мне больно!“» Жажда боли — вот она, налицо! Что мы тогда хотим? И не об этом ли Вы, отражая писали?
Ведь душа — некая единовременность, в ней все — сразу, она вся — сразу. Постепенность — дело выявления. Пример из музыки: ведь вся гамма в горле уже есть, но нельзя спеть ее сразу, отсюда: если хочешь спеть гамму, не довольствуешься иметь ее в себе, смирись и признай постепенность.
_____В.А. 3<айце>ву [1283] я нежно люблю, Аля звала ее «Мать-Природа», а Б<орис> К<онстантинович> мне ску-учен! (Аля, года два назад: — «Марина! У него такое лицо, точно его козел родил!») И Х<одасе>вич скучен! Последние его стихи о заумности («Совр<еменные> 3<аписки>») — прямой вызов Пастернаку и мне [1284]. (Мой единственный брат в поэзии!) «Ангела, Богу предстоящего» [1285] я всегда предпочитаю человеку, а Х<одасе>вич (можете читать Хвостович!) [1286] вовсе и не человек, а маленький бесенок, змеёныш, удавёныш. Он остро-зол и мелко-зол, он — оса, или ланцет, вообще что-то насекомо-медицинское, маленькая отрава — а то, что он сам себе целует руки [1287] — уже совсем мерзость, и жалобная мерзость, как прокаженный, сам роющий себе могилу.
Вам, как литературному критику, т.е. предопределенному лжецу на 99 строках из 100, нужно быть и терпимей, и бесстрастней, и справедливей.
Жену его (последнюю) знаю (слегка) и глубоку-равнодушна [1288]. «Мы — поэты» и: «мы, поэты»… и значительные глаза сопреступника — бррр! — я сразу стала говорить о платьях и валютах. М<ожет> б<ыть> я несправедлива, я вообще легко отталкиваюсь, мое нет людям сравнимо только с моим да — богам! И те и другие мне, кажется, тем же платят.
Из поэтов (растущих) люблю Пастернака, Мандельштама и Маяковского (прежнего, — но авось опять подрастет!) И еще, совсем по-другому уже, Ахматову и Блока (Клочья сердца). Ходасевич для меня слишком бисерная работа. Бог с ним, дай ему Бог здоровья и побольше разумных (обратное: заумным!) рифм и Нин.
Ответный привет мой ему передайте.
_____Есть ли у Вас «Tristia» Мандельштама? М<ожет> б<ыть> Вам будет любопытно узнать (как одно из моих отражений) что стихи: «В разноголосице девического хора», «На розвальнях, уложенных соломой», «Но в этой странной, деревянной — и юродивой слободе» — и еще несколько — написаны мне [1289]. Это было в Москве, весной 1916 г. и я взамен себя дарила ему Москву. Стихов он из-за своей жены (недавней и ревнивой) открыто посвятить не решился [1290].
У меня много стихов к нему, когда будете в Берлине, посмотрите (предпоследний, кажется) № «Русской Мысли» — «Проводы» [1291]. Кажется, все к нему. Посвятить их ему открыто я из-за его жены (недавней и ревнивой) не решилась.
Дружочек, я подарю Вам все свои дохлые шкуры, целую сокровищницу дохлых шкур, — а сама змея молодая и зеленая, в новой шкуре, как ни в чем не бывало.
Может, — и ее подарю!
_____Моя радость, у меня недавно было сильное огорчение из-за Вас, — так, отзыв, вне моей просьбы, п<отому> ч<то> все мои самообманы все-таки еще меньшая ложь, чем чужие правды. Я никого о Вас не спрашиваю. Этот отзыв был случаен, он сделал мне больно. Не спрашивайте, чей, этот человек для Вас не важен, и злого в нем ничего не было, — так о нас часто говорят знакомые! — но мне стало больно и на секундочку жутко: а вдруг?
И еще Ваше письмо, которое мне показалось эстетским. О, вот для чего важно услышать голос, — чтобы он потом в тебе покрыл все нарекания ближних и всю рассудочность собственного сердца. Для этого ведь достаточно одной интонации!
_____А у вас, в Б<ерлине>, революция — или вроде? Пулеметная стрельба по ночам? Убийства из-за угла? Пустые магазины? Воззвания? Карточная система?
Так, пожалуй, весь мой приезд провалится. (NB! Тема для статьи: «Женщина и политика».) Напишите, что думаете, когда начнется и когда кончится. А что будет с дорогими издателями? Их книгами будет топить обездоленная интеллигенция!
Сто́ит ли мне кончать рукописи? Если это бессмысленно, лучше брошу и буду писать стихи. Ответьте на всё, поскольку можете. Я искренно огорчена. Я так радовалась берлинским асфальтам, фонарям, моему дорогому немецкому говору, Вам, моя деточка. <А> раз я радовалась — революция похожа на правду.
_____Завтра буду в Праге, увижу свою приятельницу, посижу (или постою) ей для рисунка [1292]. Рисунка не показывайте, говорю это в виду собственной свободы с Вами в Берлине, если Вам и мне понадобится. У меня такое дикое количество ненужных знакомых и, сравнительно, такое малое количество дней в Берлине, что голову ломаю: как увернусь?
Видеть мне в Б<ерлине> хочется: Л<юбовь> М<ихайловну>, Белого и одну милую немку, к<отор>ая, кажется, пропала. И еще Синезубова [1293] (знакомы?). И, боюсь обидеть, но кажется больше никого. А видеть придется: но фамилий лучше не писать! Мне бы хотелось жить там, где меня никто не найдет. До страсти не хочу споров. А разъяряюсь мгновенно.
К Синезубову пойдем вместе. Это будет волшебно. Я бывала у него в Москве, в маленьком бабы-я́гинском доме, в пустыре. Он жил без вещей и без печки. Зяб на полу. Он походил на лукавого монашка. Некое сияющее исподлобье. Я всегда любовалась им.
И к Ремизову вместе (ах, одного все-таки забыла!) — одна я к Ремизову не могу: угнетают и одуряют игрушки, которые с детства ненавижу. Угнетает жизнь в комнате, помимо человека, угнетает комната. Придем с подарком: куплю здесь каких-нибудь чешских уродов, и есть у меня для него какие-то образцы старого славянского письма [1294].
Все прошлое лето (с 15-го мая по 1-ое авг<уста>) у меня было свободно. (Весьма-несвободно — внешне, и нельзя более — внутренне!) Где Вы были?
_____Читали ли Вы «Николая Курбова»? Начата она была во время нашей горячей дружбы с Э<ренбур>гом и он тогда героиню намеревался писать с меня. (Герой — сын улицы, героиня — дочка особняка, так? Или передумал?) [1295]
Зачатая в любви, выношенная и рожденная в ненависти, героиня должна была выйти чудовищем. — Так? Напишите.
Умиляет меня Ваше нянчание с Б<орисом> Н<иколаевичем> [1296], узнаю себя. Думаю, что это дитя глубоко-неблагодарно (как все дети!) но неблагодарностью какой-то более умилительной. Вспоминаю его разгневанный взгляд — вкось, точно вслед копью — на дракона (Штейнера или еще кого-нибудь).
Встречу с Б<орисом> Н<иколаевичем>, как недавнюю встречу с Штейнером [1297], расскажу. «Книга разлук и встреч», — вот моя жизнь. Вот всякая жизнь. Я счастлива на разлуки!
О Б<орисе> Н<иколаевиче> — деточка, продолжайте. Вы, кажется, ласковы. Это ему так необходимо. У него никого нет, все эти поклонницы — вздор. Я никогда не была поклонницей Бальмонта, но паек таскать я ему помогала [1298]. Презираю словесность. Все эти цветы, и письма, и лирические интермедии не стоят вовремя зачиненной рубашки. «Быт»? Да, это такая мерзость, что грех оставлять ее на плечах, уже без того обремененных крыльями!
Где Ася? Что с Кусиковым? Встречу — 12 л<ет> назад! — с беловской Асей тоже расскажу [1299].
_____«Расскажу»… это не значит, что я не буду слушать. Но слушаю я не речи: сердца — как врач. (И вот уже мысль: сердце можно слушать, как врач и как враг: враг, наклонившийся над спящим!)
Буду много слушать: глазами, ушами, душой. Будем сидеть вечерами в самом нищем кафе, где никого и ничего нет, курить (Вы курите?) и непрерывно расставаться.
27-го июля 1923 <г.> пятница.
Слухи о Б<ерлине> тревожные. Дитя мое, ради всего святого не попадайте в передрягу. Вы самое дорогое, что у меня есть в этом городе. Дай Бог, чтобы Вы уже успели выехать. (Пишете, что едете в пятницу.) Ну, а потом куда? — Если. —
Знайте, что моя мысль и сердце неустанно с Вами, Вы мне дороги, Вы уже стали частью моей души, хотя я не знаю Вашего лица. Все это проще, чем «Елена» и «Психея».
Пишу поздно вечером, после бурного ясного ветреного дня. Я сидела — высоко́ — на березе, ветер раскачивал и березу и меня, я обняла ее за белый ровный ствол, мне было блаженно, меня не было.
И вдруг — слухи о Б<ерлине>, упорные, со всех сторон, с подробностями, которых и в Б<ерлине> не знают. Мир газет — мне страшен, помимо всего, заставляющего ненавидеть газету, эту стихию людской пошлости! — я ее ненавижу за исподтишка, за коварство ее ровных строк.
_____Беспокоюсь о Вас. Пишите.
МЦ.<Приписки на полях:>
В последнюю минуту получаю Вашу открытку и отправляю по старому адресу.
Мой привет милой В.А. 3<ай>цевой и Мих<аилу> Андреевичу [1300]. Хорошее они время выбрали для возвращения.
Печ, по СС-6 стр. 576–582. См. коммент. к письму 27–23.
37-23. <А.В. Бахраху>
<Август 1923 г.>
Дружочек, я давно не слышала Вашего голоса, Ваш голос мне нравился, он делал меня моложе.
Недавно, в предместье Праги, в поле ржи, перед грозою, сидя прямо на дороге, по которой уже никто не ходил (лбом в грозу, ногами в рожь), я рассказывала одной милой своей спутнице — Вашей сверстнице — больше ржи, дороге и грозе, чем ей! — конец одной встречи, начало которой Вы знаете. Это был конец, я чувствовала горечь и пустоту. Вся довременная обида вставала — моя рождённая обида!
— А как же это началось? — Как всегда, с писем, с моих милых, с его милых… — Но как же это всё могло так кончиться? — Как же это могло не кончиться — та́к? — А зарева полыхали, грозя поджечь рожь. — Только Вы простите, я всё это выдумала. — Как жаль. Это было так хорошо.
(Ей-то хорошо — слушать, а мне-то, с которой всё это было (!).)
Сейчас я уже в точности не помню что́ рассказывала, помню, что был Берлин, ночные асфальты, стоянки под фонарем, чувство растравы, чьи-то благоразумные слова… (Когда повторится — узнаю!) Дитя, Вы гнусно вели себя, Вы сделались 40летним, а я совсем бессмысленной, у меня д<о> с<их> п<ор> еще чувство обиды на Вас за собственную ложь. (NB! Жаль, что не Вы тогда были рядом, перед грозою и под грозою, на пустой дороге, во ржи! Но я бы и Вам врала.)
_____Что́ из этого всего выйдет? Не знаю. По-мо́ему — уже вышло.
_____Да, дружочек, навсегда дарю Вам этот свой просторный, пустынный час. Не «ложь» свою — ведь это была не ложь, а опыт наперед! — а нежность свою, благодаря к<отор>ой эта ложь могла возникнуть. (О «знакомых» не лгут.) Преждевременный нож в сердце — вот название этой лжи. Этой ложью я только опередила нож. — Формула. — (Письмо — не литература. Нет, литература — письмо.)
Рожь, ложь и нож.
Впервые — НСТ. стр. 189–190. Печ. по тексту первой публикации.
38–23. В.А. Богенгардту
Мокропсы, 3-го авг<уста> 1923 г.
Милый Всеволод Александрович,
Как печально, что первое письмо — с просьбой! Но раз просьба есть, давайте и начнем с нее, чтобы скорей с нею покончить.
Просьба следующая: поспособствовать Алиному устроению в гимназию [1301]. При Сережиной и моей занятости домашнее образование ее — невозможно. Иждивение ее в этом месяце кончается, содержать ее не на что, не говоря уже об учении! В пражскую гимназию я ее отдать не могу: здесь только приходящие, а, при нашей жизни за городом, отпускать я ее одну в Прагу боюсь. Ей осенью (через месяц) будет 10 лет, она читает, пишет и с грехом пополам знает четыре правила арифметики. Развитие — не всё, а при отсутствии краеугольных знаний — немного больше, чем ничто. Кроме того, она всю жизнь растет вне колеи, ей нужен устав и закон. — Да она и сама рвется! Ее счастливейшие часы — в гимнастическом обществе «Сокол» [1302], где она, к моему удивлению, ведет себя образцово, чего не могу сказать о доме.
(NB! Не пугайтесь и не думайте, что я Вам подсовываю змеёныша: она как все дети, а я может быть — не как все матери, т.е. от ребенка хочу, жду и требую как от большого. Это часто дает обратные результаты.)
Сережа с самого нашего приезда уговаривал меня отдать ее в гимназии, я упиралась, ибо несмотря на вполне осознанную разницу между Западом и Востоком, память об «учебных заведениях», т.е. яслях, приютах, колониях и гимназиях последнего все-таки была еще во мне слишком свежа.
Но теперь это необходимо. Сама жизнь указывает.
_____Будьте милы, ответьте мне по возможности скорее, есть ли надежда на принятие ее в I кл<асс>. Если она чего-нибудь не знает — догонит. Она способная.
Сережа в большом восторге от Тшебова (?) — да не он один, со всех сторон лучшие отзывы. Но каюсь, что никакие отзывы не подвигнули бы меня на такой шаг, если бы не Ваше непосредственное участие в жизни гимназии. Живой человек (т.е. человек, которого знаешь) — это важнее всего. Всё остальное — Икс.
Пока о просьбе кончила. Продолжаю о другом.
_____Теперь, после такого корыстного вступления в переписку, Вы конечно не поверите (а может быть — поверите?), что с самого дня моего приезда думала о Вас (с большой нежностью) и хотела вам написать. Но когда между людьми 4 г<ода> — а то и больше? — разлуки, это не легче, чем сдвинуть гору. Говоришь с одним, а слушает тебя — уже другой. Возобновлять труднее, чем начинать, — согласны? Словом, дня не проходило, чтобы я о Вас не думала. Хотелось послать Вам книжки (целый ряд, что́, впрочем, сделаю с Сережей) — рассказать Вам о Москве и о себе — поблагодарить Вас за Сережу, много чего хотелось! Но помыслы оставались помыслами. (Вот оно, отсутствие дисциплины! Воспитывалась, впрочем, в семи учебн<ых> заведениях, из коих пять интернатов! Но, меня переделывать уже поздно!)
Милый Всеволод, у Вас теперь борода? Как странно. Я к Вам чувствую почтительную робость, как к чужому деду. Когда мы оба были молоды, Вы были бриты, а у меня не было седых волос. (Полные виски!)
Про Вашу милую жену я еще в Москве слышала от Екатерины Васильевны Кудашевой, Тарасевичей и Майи [1303]. — Как всё сплетается! —
Передайте ей мой привет и надежду (клянусь, что бескорыстную!) скоро с ней встретиться. Надежду, которую распространяю и на Вас. — Привет, также, и Вашей маме.
Сережа к Вам скоро собирается.
Шлю Вам самый сердечный привет.
М. ЦветаеваP.S. Очень и очень прошу Вас ответить насчет Али возможно скорей. С<ережа> уже обращался в Министерство, там требуют соглашения директора на прием.
Я сейчас ничего не зарабатываю (на марки!) — франц<узские> издательства переполнены, Аля снята с иждивения и положение катастрофическое.
Кроме того, мне к 1-му сент<ября> необходимо быть в Берлине, и Алю некуда девать.
Очень, очень прошу 1) исполнения просьбы — и 2) за нее — прощения.
Печ. впервые по копии с оригинала, хранящейся в архиве составителя.
39-23. М.С. Цетлиной
Прага, 11-го августа 1923 г.
Дорогая Мария Самойловна,
Дошло ли до Вас мое последнее письмо со стихами? Посылала Вам «Заставу», Вы попросили других, послала другие — и Вы замолчали. Это было уже около месяца тому назад. Может быть Вы уехали и письмо залежалось в Париже? Стихи были: «Деревья» и «Листья».
В последнем письме Вы спрашивали, не нужны ли мне, до крайности, деньги. Тогда ответила неопределенно, ибо крайности не было, сейчас крайность есть — и даже несколько: я должна отвозить Алю в гимназию (в Моравию) [1304], мы должны переезжать в город и, наконец, мне необходимо, во что бы ни стало, съездить в Берлин устроить рукописи. (В Праге безвыездно уже год.)
И вот, ввиду всего этого, просьба: не могли бы Вы мне дать вперед за стихи — и, может быть несколько больше, чем я сейчас наработала (NB! если стихи приняты!). Я бы не просила Вас, если бы не была зарезана всеми этими переменами и переездами, которые окончательно выбивают меня из седла.
И еще просьба: не могли бы Вы попросить по телефону «Современные Записки» немедленно выслать мне гонорар за стихи «Бог» [1305] в последней книге. Я писала в Берлин Гуковскому [1306], но очевидно он тоже уехал.
Мне очень тяжело просить именно Вас, которую все просят, но мой берлинский издатель Геликон зачах и издох, в Праге же я не цвету.
_____Ехать мне необходимо к 1-му, если имеете желание и возможность выручить — выручайте сейчас.
_____Живу, уже снявшись с места, т.е. уже не живу, все это рухнуло сразу: и Алин отъезд, и мой, и переезд в город. Больше зимы в деревне, вернее «деревни в зиме» (ибо зима — стихия, поглощающая деревню!) не хочу. А Прага такой треклятый город, что в ней уже Достоевский не мог найти комнаты [1307]. Цены непомерные, хозяйки лютые, квартиранты — русские, все это не спевается.
_____Я так эгоистически заполнила все письмо собой, делаю это и в стихах, но иначе. Данное «собой» — омерзительно, ибо бытовое.
_____Целую Вас нежно, привет Михаилу Осиповичу. Скоро напишу по-человечески.
МЦ.Мой адр<ес>:
Praha. Poste restante
Marina Cvétajewa-Efron
(на орфографии фамилии настаиваю, так у меня в паспорте)
Впервые — ВРХД. 1973. № 108–110. стр 194–194. с уточнениями — Звезда. 1992. № 10. стр. 28 (публ. Е.И. Лубянниковой). СС-6. стр. 553–554. Печ. по СС-6.
40-23. A.B. Бахраху
17-го августа 1923 г.
Дошли ли до Вас мои письма от 26-го и 28-го июля, посланные, согласно Вашему указанию, по старому адресу. Никогда бы не потревожила Вас в Вашем молчании, если бы наверное знала, что причина ему — Ваша воля, а не своеволие почты.
Я писала Вам дважды и ответа не получила. Последнее, что я от Вас имела — Ваша открытка от 25-го июля (3 недели назад).
Если мои письма дошли — всякие объяснения Вашего молчания излишни, равно как всякие Ваши дальнейшие заботы о моих земных делах, с благодарностью, отклонены.
Письмо, оставшееся без ответа, это рука, не встретившая руки. Вы просто не подали мне руки. Не мое дело — осведомляться о причинах, и не Ваше — о моих чувствах.
Итак, только: дошли или нет?
МЦ.Адр<ес> мой до 1-го сент<ября> прежний, дальше — не знаю, ибо переезжаю.
_____P.S. Был у Вас от меня с оказией около 30-го июля один человек, но ничего, кроме пустоты и известки, в Вашей квартире не застал.
Печ. по СС-6. стр. 582–583. См. коммент. к письму 27–23.
41-23. В.А. Богенгардту
Мокропсы, 21 августа 1923 г.
Милый Всеволод,
Сережа на самых днях выезжает, — все это время прошло в поисках комнаты и перевозе вещей. Если бы Вы знали, какой у нас хлам и как все нужно!
Будем жить в Праге на горе, вроде как на чердаке (под крышей), но зато без хозяев.
До 1-го наш адрес прежний, — к этому времени, я думаю, Алю уже можно будет привезти? [1308]
Прошение в Министерство подано, обещали не задерживать.
Сережа привезет Вам мои книги, он очень рвется к Вам и на днях — дорвется.
Шлю Вам всем сердечный привет и благодарность.
Впервые — ВРХД. 1992. № 165. стр. 168 (публ. Е.И. Лубянниковой и H.A. Струве). СС-6. стр. 643–644. Печ. по СС-6.
42-23. Б.Л. Пастернаку
24 августа 1923 г.
Всё меня отшвыривает, Б<орис> П<астернак>, к Вам на грудь, к Вам — в грудь. Вас многие будут любить и Вы будете знаменитым поэтом — дело не в том! Никогда и ни в ком Вы так не прозвучите, я читаю Ваши умыслы.
Впервые — Души начинают видеть. стр. 68. Печ. по тексту первой публикации.
43-23. К.Б. Родзевичу
27-го августа 1923 г.
Мой родной Радзевич,
Вчера, на большой дороге, под луной, расставаясь с Вами и держа Вашу холодную (NB! от голода!) руку в своей, мне безумно хотелось поцеловать Вас, и, если я этого не сделала, то только потому, что луна была — слишком большая!
Мой дорогой друг, друг нежданный, нежеланный и негаданный, милый чужой человек, ставший мне навеки родным, вчера, под луной, идя домой я думала (тропинка летела под ногами, луна летела за плечом) — «Слава Богу, слава мудрым богам, что я этого прелестного, опасного, чужого мальчика — не люблю! Если бы я его любила, я бы от него не оторвалась, я — не игрок, ставка моя — моя душа! {203} — и я́ сразу потеряла бы ставку. Пусть он любит других — всех! — и пусть я — других тьмы тем! — та́к он, в лучшие часы души своей — навсегда мой…»
И многое еще думала.
_____Радзевич, сегодня утром письмо [1309] — экспресс. Приедете — прочтете. Я глубоко́-счастлива, в первый раз, за месяц, дышу. (Нет, вчера, под большой луной, держа Вашу руку в своей, тоже дышала, хотя не так… покойно!) Полюбуйтесь теперь игре случая: целый месяц — почти что день в день — я молчала: жила стиснув губы и зубы, и нужно же было в последний день, в последний час…
Что-то кинуло меня к Вам. Вы были мудры́ и добры́. Вы слушали, как старый и улыбались, как юный. У меня к Вам за этот вечер — огромная нежность и благодарность навек.
_____Теперь, Радзевич, просьба: в самый трудный, в самый безысходный час своей души — идите ко мне. Пусть это не оскорбит Вашей мужской гордости, я знаю, что Вы сильны и КАК Вы сильны! — но на всякую силу — свой час. И вот в этот час, которого я, любя Вас, Вам не желаю, и которого я, любя Вас — Вам все-таки желаю, и который — желаю я или нет — все-таки придет — в этот час, будь Вы где угодно, и что бы ни происходило в моей жизни — окликните: отзовусь.
_____Это не пафос, это просто мои чувства, которые всегда БОЛЬШЕ моих слов.
Этого письма не закладывайте в книгу, как письма Ваших немецких приятельниц, уже хотя бы потому, что оно менее убедительно, чем те.
А пока — жму Вашу руку и жду Вас, как условились.
МЦ.Впервые — Письма к Константину Родзевичу. стр. 9–11. Печ. по тексту первой публикации.
44-23. A.B. Бахраху
27-го августа 1923 г., понедельник
Дитя моей души, беру Вашу головку к себе на грудь, обнимаю обеими руками и — так — рассказываю.
Я за этот месяц исстрадалась. Вы действительно дитя мое — через боль. Достоверности следующие: ни на одно из своих последних писем я не получила ответа, мое последнее письмо (опущенное мною лично, в Праге, 28-го июля) пропало, как Ваше последнее. Станьте на секунду мной и поймите: ни строки, ни слова, целый месяц, день за днем, час за часом. Не подозревайте меня в бедности: я друзьями богата, у меня прекрасные связи с душами, но что мне было делать, когда из всех на свете в данный час душ мне нужны были — только Вы?! О, это часто случается: собеседник замолк (задумался). Я не приходо-расходная книга и, уверенная в человеке, разрешаю ему все. Моя главная забота всегда: жив ли? Жив значит, мой! Но с Вами другое: — напряжение мое к Вам и Ваше ко мне (?) было таково́ (о, как я не знаю, не знаю, не знаю других!) что молчание здесь было явно-злой волей: злой, п<отому> ч<то> мне было больно, волей, п<отому> ч<то> этого другой и хотел. Я много думала, я ни о чем другом не думала, о Вы не знаете меня! Мои чувства — наваждения, и я безумно страдаю!
Вначале это был сплошной оправдательный акт: невинен, невинен, невинен, это злое чудо, знаю, ручаюсь, верю! Это жизнь искушает. — Дождусь. Дорвусь. Завтра! — Но завтра приходило, письма не было, и еще завтра, и еще, и еще. Я получала чудные письма — от друзей, давно молчавших, и совсем от чужих (почти), все точно сговорились, чтобы утешить меня, воздать мне за Вас, — да, я читала письма и радовалась и отзывалась, <но> что-то внутри щемило и ныло и выло и разъярялось и росло, настоящий нож в сердце, не стихавший даже во сне. Две недели прошло, у меня появилась горечь, я бралась руками за́ голову и спрашивала: ЗА ЧТО? Ну, любит магазинную (или литературную) барышню, — я-то что сделала? Нет, барышня — вздор: это просто пари. Пари, которое он держал с Иксом или с Игреком: «Доведу до» — «Но, милый друг. Вы удовлетворились малым, в полной чистоте сердца скажу Вам: Вы были на хорошей дороге!» Или жест игрока (для 20-ти лет недурно!) — «возьму обратным!» — Но, друг, я не из тех, льстящихся на плеть. И — глупо: зачем плеть, когда все само плыло́ Вам в руки? Когда вся тайна, вся сила и все чары были в правде: в абсолютной разверстости душ? Игроки у меня проигрывают.
О, много было мыслей, и возгласов, и чувств. И такая боль потери, такая обида за живую мою душу, такая горечь, что — не будь стихи! — я бы бросилась к первому встречному: забыться, загасить, залить.
О, мне этого хотелось: откровенной и явной стены тела, о которую не разбиваешься, потому что ведь знаешь — стена! Явной стены, сплошного веселья, настоящей игры (о, как я на нее неспособна!) чтобы и помину не было о душе, — зачем душа, когда ее так топчут?! И не Вам месть — себе: за все ошибки, за все перелеты, за эти распахнутые руки, всегда хватающие воздух.
Друг, я не маленькая девочка (хотя — в чем-то никогда не вырасту), жгла, обжигалась, горела, страдала — все было! — но ТАК разбиваться, как я разбилась о Вас, всем размахом доверия — о стену! — никогда. Я оборвалась с Вас, как с горы.
Последние дни я уже чувствовала к Вам шутливое презрение, я знала, что Вы и на это письмо мне не ответите.
_____Я получила Ваше письмо. Я глядела на буквы конверта. Я ничего не чувствовала. (Я не из плачущих, слез не было ни разу, не было и сейчас.) Я еще не раскрыла письма. Внутри было — огромное сияние. Я бы могла заснуть с Вашим письмом на груди. Этот час был то, к чему рвалась: в сутках 24 ч., а дней всех 32-24x32 = <…> {204} = 768 часов, о, я не преувеличиваю, Вы еще меня мало знаете: знайте! Это письмо было предельным осуществлением моей тоски, я душу свою держала в руках. — Вот. —
_____Думаю о бывшем. Дитя мое, это был искус. Одновременная пропажа двух писем: два вопроса без ответа. В этом что-то роковое. (Принято: «роковая случайность», но может и быть: случайный рок, рок, случайно зашедший в наши 20-го века — двери!). Жизнь искушала — и я поддалась. Вы, мое кровное, родное, обожаемое дитя, моя радость, мое умиление, сделались игроком, почти что приказчиком, я вырвала Вас из себя, я почувствовала омерзение к себе и неохоту жить. Я была на самом краю (вчера!) другого человека: просто — губ. Целый тревожный вечер вместе. Тревога шла от меня, ударялась в него, он что-то читал, я наклонилась, сердце о́бмерло́: волосы почти у губ. Подними он на 1/100 миллиметра голову — я бы просто не успела. Провожала его на вокзал, стояли под луной, его холодная как лед рука в моей, слова прощания уже кончились, руки не расходились, и я: «Если бы»… и как-то задохнувшись: «Если бы…» (…сейчас не была такая большая луна…) и, тихонько высвободив руку: «Доброй ночи!»
Изменяем мы себе, a не другим, но если другой в этот час — ты, мы все-таки изменяем другому. Кем Вы были в этот час? Моей БОЛЬЮ, губы того — только желание убить боль.
Это было вчера, в 12-том часу ночи. Уходил последний поезд.
_____Думай обо мне что́ хочешь, мальчик, твоя голова у меня на груди, держу тебя близко и нежно. Перечти эти строки вечером, у последнего окна (света), потом отойди в глубь памяти, сядь, закрой глаза. Легкий стук: «Я. Можно?» Не открывай глаз, ты меня все равно узнаешь! Только подвинься немножко, — если это даже стул, места хватит: мне его так мало нужно! Большой ты или маленький, для меня ты — все мальчик! — беру тебя на колени, нет, та́к ты выше меня и тогда моя голова на твоей груди, а я хочу тебя — к себе. — Так или иначе, ты́ у меня на груди — суровой! — только не к тебе, потому что ты мое дитя — через боль. И вот я тебе рассказываю: рукой по волосам и вдоль щеки, и никакой обиды нет, и ничего на свете нет, и если ты немножко глубже прислушаешься, ты услышишь то́, что я так тщетно тщусь передать тебе в стихах и в письмах — мое сердце.
_____У меня есть записи всего этого месяца. «Бюллетень болезни». Пришлю Вам их после Вашего следующего письма.
Убедите меня в необходимости для Вас моих писем — некая трещина доверия, ничего не поделаешь.
1-го переезжаю в Прагу, адр<ес> мой: Praha, Kašiře, Švedska ul<ice> 1373 — мне — недели 2–3 Вы можете писать мне все, что — и как часто — захочется, потом извещу. Первое письмо прошу заказным, меня еще там не знают, и может пропасть, а я больше — не могу!
Оказия, не заставшая Вас, была просто деньги в письме (передававший не знал), я боялась Вашей революции и хотела, чтобы у Вас была возможность выехать. Сейчас, ввиду переезда, их у меня уже нет, но как только войду в колею, непременно вышлю — если Вам нужны, о чем убедительно прошу сообщить. Кроны здесь — ничто, в Б<ерлине> — они много, и я неспособна на только-лирическую дружбу. Просто — Вы мой, и Ваши заботы — мои.
А вот Вам «земная примета»: лица: мое и Алино, скорее очерки, чем лица. Сережу отрезала, потому что плохо вышел, у него прекрасное лицо [1310].
_____Дружочек, в следующем письме, если найдете это нужным, напишите мне, что Вы думали о моем молчании, как Вы его толковали. Неужели Вы великодушнее меня?!
МЦ.Печ. по СС-6. стр. 583–586. См. коммент. к письму 27–23.
45-23 A.B. Бахраху
<27 августа 1923 г.>
Вы, как критик, читаете современный хлам, вещи одного дня. а Вам, как моему другу, нужно читать Библию и Трою.
_____Дайте мне Вас — издалека — вырастить. Мне хочется вложить Вам в руки самое лучшее и самое вечное, что есть в мире: подарить Вам всё. Когда говорят: «я даю тебе мою душу» думают только о губах, о заботах и о слезах. Это получающий знает и поэтому — принимает. Когда же я́ говорю, я действительно думаю о всей душе: моей — всей, т.е. мне ведомой, и всей вне-моей, той которая не может быть моей (ни Вашей!). Это получающий знает — поэтому — не принимает (не принял бы и одно́й моей!) Дайте мне чудо приемлющих до конца (и без конца!) рук. Будьте своими двумя ладонями и подставьте их. Соберите себя в две ладони и раскройте их. Ясно?
(NB! Так же безнадежно как принять в ладони весь ливень: несколько капель, остальное — мимо. 1932 г.)
Напор велик и плоскость мала (подчеркиваю для ударения).
_____Впервые — HCT. стр. 208. Часть черновика письма от 27 августа 1923 г., не вошедшего в беловик. Печ. по тексту первой публикации.
46-23. A.B. Бахраху
28-го августа 1923 г., среда
Милый друг,
Выслушайте меня как союзник, а не как враг. Мне предстоят трудные дни. Расстаюсь с Алей и отправляю ее в гимназию (в Моравию) [1311]. С<ережа> уже там. У нас было решено, что Аля поедет с детьми (сейчас конец каникул, и дети съезжаются) а я перееду в Прагу, где у нас уже снята комната, и буду жить там. Вот те 2–3 свободные недели, о которых я Вам писала. Сегодня получаю письмо: мое присутствие необходимо, необходимо ввести Алю в гимназическую жизнь. Моравия — вторая Германия (NB! Моя страсть!), чудные прогулки, — словом: нет двух недель.
Эти две недели мне нужны были для моих писем к Вам, я не умею жить и писать на глазах, — хотя бы самых любимых. Я ничего не умею, что умеют люди: ни лицемерить, ни скрывать (хранить — умею!), мое лицемерие — только вторая правда, если лицо, равнодушное, не выдает — выдают голос и жест, а причинять малейшее страдание, хотя бы задевать другого — для меня мука, Вам все ясно.
До отъезда своего из Праги, мне необходимо от Вас настоящее письмо, с ним, в Моравии, буду счастливой, без него буду томиться и рваться, о я еще далеко не вылечилась, мне необходимо сильное средство, какое-то Ваше слово, не знаю какое.
Я сейчас — Фома Неверный, этот последний месяц подшиб мне крыло, чувствую, как оно тащится [1312].
Убедите меня в своей необходимости, — роскошью быть я устала! Не необходима — не нужна, во́т как у меня. Но, дитя, до слова своего — взвесьте. После такой боли, как весь этот месяц напролет — немножко боли больше, немножко меньше… Ведь я еще не ввыклась в радость, покоя и веры у меня еще нет.
Я сейчас на внутреннем (да и на внешнем!) распутье, год жизни — в лесу, со стихами, с деревьями, без людей — кончен. Я накануне большого нового города (может быть — большого нового горя?!) и большой новой в нем жизни, накануне новой себя. Мне мерещится большая вещь, влекусь к ней уже давно, для нее мне нужен покой, то есть: ВЕСЬ человек — или моя обычная пустота.
Не будьте моим врагом, не вводите в обман, не преувеличивайте чувств и слов, вслушайтесь.
Могут ли все мои мысли и все мои чувства и каждый мой стих и каждый мой сон, вся я (а где мне — конец?!) идти к Вам домой?
Вот вопрос, на который я жду ответа.
_____Достоверно же — так:
Скорее всего в первых числах (около 5-го) поеду в Моравию и пробуду там до 15-го. Адрес свой тотчас же по приезде сообщу, пишите мне в Моравию о том, как жили в Prerow [1313], о том, как сейчас живете, мне все дорого о Вас. Если я там буду с Вашим настоящим письмом (к<отор>ое хочу получить еще в Праге) я буду очень счастливой, буду неустанно о Вас думать и брать Вас с собой всюду, Вы будете моим неизменным гостем и спутником, моей тайной радостью.
Вернувшись в Прагу, опять-таки напишу Вам. Только сообщите: не пристраивают ли к Вашему дому — еще этажа?
_____Удивлены? — Теперь, дружочек, слушайте. Разгон у меня был взят. Камень летел с горы и ничто не могло его остановить. За месяц (миг!) он пролетел… но что́ считать, когда дна нет?! Ваше отсутствие, затемнив мне Вас — ко мне, уяснило мне себя — к Вам. Душа шла гигантскими шагами, одна, в темноте. Вы же не можете не видеть разницы тона и темпа в тех письмах — и в этих.
«Пусть все это игра — и притом Может выйти — игра роковая…» (Фет) [1314]— Все мои игры таковы. —
_____Из Праги перед отъездом вышлю Вам «Бюллетень болезни», Вам он необходим, как известный переход. Это — точная запись, почти что — час за часом.
_____Забыла сказать, что у меня к Вам целая стая стихов.
_____Вчера, под луной, ходила с одним моим приятелем [1315] (о нем найдете в «Бюллетене») высоко́ и далеко́ в горы. Был безумный ветер. Нас несло. На шоссе — ни души. Деревья метались, как шекспировские герои. Ветер кому-то мстил. Пыль забивала глаза, временами приходилось сгибаться вдвое и так мчаться — лбом. Потом сели: захотелось курить. Ветер выбивал из папиросы целые костры искр: сухо, сосна, я уже видела горящие леса и всю Чехию в пожаре. Промчался автомобиль. Нас не видел, ослепленный собственным светом. Я сидела рядом с тем и думала: «Почему не —»
В мой последний день здесь пойдем с ним ночевать в горы, разведем костер, будем провожать луну и встречать солнце. И еще — ловить раков в ручье. И еще — говорить о привидениях.
Это — странная дружба, основанная на глубочайшем друг к другу равнодушии (ненавидит женщин, как я — мужчин), так дети дружат, вернее — мальчики: ради совместных приключений, почти бездушно. Он называет мне все травы и все дурманы, и кормит меня вишневым клеем и орехами и просто волчьими ягодами.
Будет ли у нас с Вами когда-нибудь — такой костер? (NB! Если и будет — то не такой!)
_____Что еще? Ах, самое важное, вчера забыла: после Вашего письма — безумный лай. Гляжу: нищенка: горбатая, с мешком за плечами: Судьба. Я сразу поняла: за откупом. Сгребла, что́ попало по́д руку: Алины вещи, свои, обувь, хлеб, тряпье, — набила ей полный мешок. — «Хце́те то? И е́ще́ то?» Чахлый мешок надулся, как удав: второй горб на горбу! Она, не знавшая, что — Судьба, совсем ошалела от радости.
Словом, откупилась. Ушла, обещав еще зайти. И еще откуплюсь. Уходя, безумно целовала мне руки (NB! демократическое государство). Я еле спаслась.
У Судьбы, кстати, трое детей и муж — тоже горбатый. Уверяет, что на всех них вместе — ни одной рубашки. Придется мне одевать и сына Судьбы, и двух дочерей Судьбы, и мужа Судьбы. Если бы я не уехала, пришлось бы покупать им дом и места на кладбище.
— Дружочек, Вы меня разоряете!
_____Поздно вечером.
Только что вернулась с огромной прогулки (27 километров!) Скалы, овраги, обвалы, обломы — не то разрушенные храмы, не то разбойничьи пещеры, все это заплетено ежевикой и задушено огромными папоротниками, я стояла на всех отвесах, сидела на всех деревьях, вернулась изодранная, голодная, просквоженная ветром насквозь, — уходила свою тоску!
Ходили: мой тихий приятель, Аля и я. Вернулись, уложила Алю — и вслед за ней два огромных чемодана: рукописи, отребья, сапоги, кастрюльки, — весь необходимый хлам нищеты.
Потом пошла за водой: пустое ведро гремело, полное — колыхало луну. (Неужели Вы сейчас спите?!) Луна — огромная.
_____Сейчас лягу и буду читать Троянскую войну. Никого не могу читать, кроме греков. У меня огромный немецкий том: там всё [1316]. К Трое я подошла через свои стихи, у меня часто о Елене [1317], я наконец захотела узнать, кто́ она, и — никто. Просто — дала себя похитить. Парис — очаровательное ничтожество, вроде моего Лозэна [1318]. И как прекрасно, что именно из-за них — войны!
Спокойной ночи, дружочек. Когда я думаю о ско́льком мне еще надо сказать и о скольком спросить, у меня точное видение Бесконечности.
МЦ.Завтра чуть свет, еду в Прагу перевозить вещи. В воскресенье переезжаю совсем. У меня дом на горе — и весь город у ног.
_____Посылаю Вам обещанный рисунок [1319]. Худоба моя несколько преувеличена, но в общем похоже. И еще похоже: на выдру.
Мой адр<ес> в Праге:
Praha, Smichov
Svedska ul<ice>, č<ilso>. 1373
— мне. —
(Тот ад<рес> в прошлом письме несколько неверен, но, если уже написали, дойдет. Этот — верный.)
Печ. по СС-6. стр. 586–589. См. коммент. к письму 27–23.
47-23. К.Б. Родзевичу
<Вероятно, начало сентября 1923, Тшебово>
Письмо из другой тетради, очевидно раньше по времени:
Начинаю письмо со скромного требования: Р<одзевич>, мне нужно — чудо. Я сейчас совершенно разбита и Вам предстоят чудовищные трудности. — Не боюсь! — Нет, бойтесь.
Мы люди чужих пород. Я, понимая Вас до глубины — не принимаю, Вы, принимая меня до глубины — не понимаете. Вы верите мне в кредит.
Вы застали меня в час огромной душевной разбитости. — Бывает! — И человек, если не сделает для меня чуда, ничего не сделает. А чудо вот в чем: мне нужен дом, дом для каждой моей тоски, для кажд<?> <пропуск одного-двух слов> для голоса каждой фабричной трубы во мне, мне нужна бесконечная бережность и, одновременно, сознание силы другого, дающего нам покой.
Р<одзевич>, будя во мне мою женскую сущность, знаете — что́ Вы будите: мою тоску, мою слабость, мое метание, мою безудержность, всю стихию и весь хаос. Вы вместо цельного сильного единого существа получаете в руки концы без начал и начала без концов, <фраза не окончена>
Дитя родное, приди Вы ко мне в другой час (?) Вы бы застали меня другой, но сейчас я после огромного поражения, не смейтесь, дело не в Икс не Игреке, дело во мне.
И вот — оцените положение! — я у Вас прошу уверенности, я, не уверенная ни в чем, кроме себя (я так и не открыла того «внешнего мира», который, по словам С.М. В<олконского> сейчас открывает Аля «и вдруг с удивлением замечает, что что-то еще есть кроме того, внутри») — у Вас, не уверенного вообще ни в чем.
Вы не в тот час пришли ко мне, мне сейчас всё — слишком больно, живая рана. Болевая восприимчивость (способность страдать) у меня вообще чудовищная, сейчас я растравлена, лишней боли я сейчас <фраза не окончена>
Знаете, в химии (кажется, единственное, что я вынесла, но — твердо вынесла!) — насыщенный раствор. Так во́т, насыщенный раствор горечи.
Слушайте внимательно: будь я сейчас собой, т.е. Ахиллесом, я бы с радостью вошла в этот новый бой, сейчас я — живое мясо, место живого нет! Всякое невнимание, всякое невникание — тень небрежности, — небережности, — всё что в естественное время души для меня <пропуск одного-двух слов> сейчас для меня немыслимо. Я перестрадала и больше не могу.
Еще не поздно, дружочек родной, остановиться. Ну, встретились, ну, подошли близко — беды нет — бывает! — не дайте мне ввыкнуться и не ввыкайтесь сами. — Переболит. — Я в таком состоянии как сейчас — слишком трудная радость, больше тягость чем радость, мне нужен врач души, а не — друг. (Тирэ, очевидно, от переборотого желания написать: враг — как оно и есть, ибо нет большего врага, больше: мучителя — изверга! — чем нас любящий (добивающийся). Пометка 1933 г., впрочем знала уж и тогда. Всегда.)
Ну, подумайте себя в такой роли: утешителя, утешителя, убаюкивателя.
О, я не преувеличиваю, я очень точна, не улыбайтесь <пропуск одного слова> слова! справимся! — больше всего я Вам верю, когда я с Вами ближе всего, рука в руку, а этих средств убеждения у нас, у Вас не будет — ввиду всей жизни!
_____Впервые — HCT. стр. 265–266. Печ. по тексту первой публикации.
48–23. <А.В. Бахраху>
<4 сентября 1923 г.>
Это письмо похоже на последнее. Завтра 5-ое, последний срок. Не напишите — Вам не нужно, значит не нужно и мне. Моих писем Вы не могли не получить, или же: повторяющаяся случайность есть судьба (русское «не-судьба»!) Я писала Вам во вторник, 28-го и в среду 29-го (экспр<ессом>). Я писала Вам из глубины существа, была перед Вами беззащитна как перед собственной душой. Если Вы на эти слова не сумели найти слов, Вы их никогда не найдете и лучше кончить сейчас.
У меня к Вам ни гнева, ни обиды, ни одного дурного чувства. Спасибо Вам за всё доброе, другого помнить не буду.
Не скажу Вам даже, что навсегда прощаюсь с Вами, это решит жизнь. Не отнимаю у Вас права когда-нибудь, в какой-то там час, окликнуть меня, но не даю Вам права окликать меня зря. Это уже будет делом Вашей чести (верней, чем совесть!)
Когда-нибудь пришлю Вам стихи: Ваше да вернется к Вам, ничего не присваиваю и ничего не стыжусь: это — уже очищенное, можете их всем читать.
«Бюллетень болезни» оставляю, как был, в тетрадке — видите, я правдива и не пишу, что жгу [1320].
А Вам, дружочек — я задумываюсь: не знаю, что пожелать?
_____Расставание или разминовение — не знаю. М<ожет> б<ыть> расставание — на день, м<ожет> б<ыть> разминовение — на жизнь. Я сыта ожиданием и тоской и сознанием несправедливости и праздным биением в стену, всё это не для меня, я в такие времена не живу. Мне нужно быть и расти, та́к я по рукам скована.
_____Милый друг, сейчас мы друг от друга дальше, чем были вначале — между нами живой человек [1321]. Если это у Вас не считается — не будет считаться и у меня. Дороги души напрямик и свыше жизни, — но — я Вас не знаю. Между нами ничего и никого, но рядом со мной живой, чужой. Если это Вам мешает — простимся. Не скрою что ничего от меня к Вам не изменилось {205} — я м<ожет> б<ыть> столь же чудовище как чудо — но не зная Вас, или: зная Вас — не могу скрыть и достоверности. Ваше изменение, если последует, принимаю: Вы молоды и чувствуете свою боль.
Друг, если бы Вы тогда, после выяснения, рванулись ко мне, нашли бы простые слова, ничего бы не было, но — Вы велико- и равно-душно поручили меня Богу — я без иронии — т.е. большой дороге: вернули меня домой, отказались от меня. (Я слов не боюсь.)
Впервые — HCT. стр. 211–212. Печ. по тексту первой публикации.
49-23. A.B. Бахраху
9-го августа 1923 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ БОЛЕЗНИ(NB! Письма не читайте сразу, оно жилось и писалось — месяц.)
Переписываю это письмо почти без всякой надежды его отослать, та́к, «на всякий случай» (на случай чуда!). Это — записи многих дней, и перенося их на этот лист бумаги, я занята скорее приведением в ясность своей души, нежели чем-нибудь другим.
Итак — на всякий случай! — слушайте.
_____26-го июля
А! Поняла! Болевое в любви лично, усладительное принадлежит всем. Боль называется ты, усладительное — безымянно (стихия Эроса). Поэтому «хорошо» нам может быть со всяким, боли мы хотим только от одного. Боль есть ты в любви, наша личная в ней примета. (NB! Можно это «хорошо» от всякого не принять.) Отсюда: «сделай больно», т.е. скажи, что это ты, назовись.
Верно? Кажется, да.
_____Смогу ли я, не считаясь (с чужим расчетом) быть с Вами тем, кто я есмь. Вы в начале безмерности.
_____Помните, что Вы должны быть мне неким духовным оплотом. «Там, где все содержание, нет формы» — это Вы обо мне сказали. И вот, эта встреча чужого отсутствия (сплошной формы) с моим присутствием (содержанием) — словом, в Б<ерлине> у меня много неоконченных счетов, я должна иметь в Вас союзника, некий оплот против собств<енной> безмерности (хотя бы стихии Бессонницы!) Стихи мои от людей не оплот, это открытые ворота, в которые каждый волен. Я должна знать, что я вся в Вас дома, что мне другого дома не нужно.
_____(Вы наверное думаете, что я страшно торгуюсь: и собакой (слепого!) будь, и оплотом (сильного!) будь. Деточка, м<ожет> б<ыть> все выйдет по-другому, и я от Вас буду искать оплота?! — Шучу. —)
_____Знайте, что я далеко не все Вам пишу, что хочу, и далеко еще не все хочу, что буду хотеть.
_____Однажды, когда мне было 17 лет, один человек говорил мне, что меня любит. — «Отыщите мой любимый камень на этом побережье», ответила я: «тогда я поверю, что Вы меня любите». Дело было в Крыму и побережье длилось на несколько верст [1322].
Вы, ничего не говоря и без всякой моей просьбы, этот камень взяли и подали. Этот камень — «Добровольческий Марш» в «Ремесле» [1323], и этот камень еще — то (не знаю, что) что Вы мне из всех людей сейчас в письмах даете.
_____Хорошо именно, что Вам 20 л<ет>, а мне 30 л<ет>. Если бы я была на 7 лет старше, я не говорила бы о материнстве.
_____Что́ совершает события между нами?
_____30-го июля.
Мой друг, скучаю без Вас. Скука во мне — не сознание отсутствия, а усиленное присутствие, так что, если быть честным: не без Вас, а от (!) Вас.
В каком-то из Ваших писем Вы, на не совсем еще умелом, но чем-то уже мне кровно-близком языке Вашем, пишете: «мне не хватало теплоты». Прочтя, задумалась, п<отому> ч<то> во мне ее нет. И тут же, мысленно перечеркнув, поставила: нежность. И тоже задумалась, потому что во мне она есть.
Дитя, никогда не берите (а м<ожет> б<ыть> — никогда не ждите!) — никогда не применяйте ко мне того, что заведомо не может жечь: ведь даже лед жжет! И бесстрастие жжет! А вот теплота — нет, п<отому> ч<то>она тогда уже жар, т.е. ее уже нежность. А нежность: от ледяной — до смоляной! И все-таки — нежность.
Так вот, об этой нежности моей…
_____Думаю о Вас и боюсь, что в жизни я Вам буду вредна: мое дело — срывать все личины, иногда при этом задевая кожу, а иногда и мясо. Людей Вы через меня любить не научитесь, всё, кроме людей — ДА! Но живут «с людьми»…
У меня нет даже этого утешения: Вашего опыта со мной. Мой случай слишком редок (не читайте: ценен), чтобы когда-либо в чем-либо Вам служить.
_____1-го августа
Я давно не слышала Вашего голоса, и мне уже немножко пусто без Вас. Молчание мне враждебно, я молчу только, когда это нужно другому. Голос — между нами — единственная достоверность. Когда я долго Вас не слышу, Вы перестаете быть.
_____О разминовении взглядов и пр<очем>.
Пока я буду говорить: «Нет, не так, так не надо, та́к — надо» — все хорошо, ибо за всеми этими нет — одно сплошное ДА. Когда же начнется: «да, да, правильно, совершенно верно» — ВСЁ поздно: ибо за всеми этими да — одно сплошное НЕТ.
_____(В первом — сосредоточенное внимание, страстная жажда правды, своей и чужой, исхищреннейшее и напряженнейшее проникновение в другого: ЧУДО доверия, все взятые барьеры розни.
Во втором: снисхождение, высокомерие, усталость, равнодушие, бездушие.
В первом: tout à gagner. {206}
Во втором: rien à perdre!). {207}
_____Присылайте мне вырезки всех Ваших статей: газетами брезгую, но Вас (сущность) чту. Вы для меня не газета, а книга, распахнутая на первой странице Бытия.
Мне это важно, как встреча с Вами вне Вас и меня, как Вы — и мир. Много ли Вы в газетах лжете? (Иного они и не заслуживают.) — Прочувствовать Вас сквозь ложь. —
_____Стихи сбываются. Поэтому — не все пишу.
_____Перечтите, если не лень, в «Ремесле» — Сугробы.
«И не огля́нется Жизнь крутобровая! Здесь нет свиданьица, Здесь только проводы…» [1324]Писано было в полный разгар дружбы, все шло к другому, — а ведь вышло! сбыло́сь! В час разминовения я бы иначе не написала.
Я знаю это мимовольное наколдовыванье (почти всегда — бед! Но, слава богам — себе!) Я не себя боюсь, я своих стихов боюсь.
_____Как странно, что пространство — стена, в которую ломишься!
_____2-го августа.
Когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются теми размерами чувств, которые во мне возбуждают, они делают тройную ошибку: не они — не во мне — не размеры. Просто безмерность, встающая на пути. И они, м<ожет> б<ыть>, правы в одном только: в чувстве ужаса.
_____4-го августа.
Просьба: не относитесь ко мне, как к человеку. Ну — как к дереву, которое шумит Вам навстречу. Вы же дерево не будете упрекать в «избытке чувств», Вы только услышите, как «уста глаголют». Если Вы меня заставите с Вами быть человеком, т.е. считать, я замкнусь, п<отому> ч<то> считать я не умею.
_____В молчании — что́? Занятость? Небрежность? Расчет? «Привычка»? Преувеличенно-исполненная просьба? Теряюсь. Через несколько дней (10, примерно) привыкнув и отказавшись, успокоюсь. Но пока мне эти дни тяжелы.
Чувствуете ли Вы то, что я? В письме узнаю. Если нет — Schwamm drüber {208}, как говорят немцы.
_____3-го августа (перепутала записи)
Дружочек, пишу Вам на той же горе и, кажется, в тот же день. Вышло нечаянно. Но тогда была туча, сейчас ее нет, сплошь — туча: небо без событий. И те же лиственницы, только беспомощные, п<отому> ч<то> без солнца {209}.
Сейчас, когда я, всходя по тропинке, раздвигала маленькие нежные колкие елочки, у меня было чувство, что это всё — Вы, Ваша душа, а мысли были такие: «Держал пари с Х<одасеви>чем: „Окручу в три письма“. Х<одасеви>ч: „Нет, в пять“. — „Три. Пари“. — „Пари!“» (Дружочек, что́ Вы выиграли?)
Руки, гладившие елочки, думали одно, голова другое. Потом я уже перестала гладить елочки, легла на спину и стала глядеть в небо. Постепенно все уплыло́.
_____5-го августа
Мне некому о Вас сказать. Аля, с 2-х лет до 9-ти бывшая моим «в горах — отзы́вом», сейчас играет в куклы и глубоко-равнодушна ко мне. Вы моя тайна, сначала радостная, потом болевая. О, Бог действительно хочет сделать меня большим поэтом, иначе бы Он так не отнимал у меня всё!
Наблюдаю боль (в который раз!) Те же физические законы болезни: дни до, взрыв, постепенность, кризис. До смерти у меня никогда не доходило, т.е. чтобы душа умерла!
Боль для меня сейчас уже колея, с трудом — но ввыкаюсь.
_____Я поняла: Вы не мой родной сын, а приемыш, о котором иногда тоскуешь: почему не мой?
_____6-го августа
Болезнь? Любовь? Обида? Сознание вины? Разочарование? Страх? Оставляя болезнь: любовь, — но чем Ваша любовь к кому-нибудь может помешать Вашей ко мне дружбе! Обида — да, поводов много: просьба не писать, отзыв о Х<одасеви>че, отзыв о его жене, упрек в эстетстве… Но только по шерсти — разве это не превращаться (Вам) в кошку? Сознание вины? т.е. содеянное предательство. — Но разве у меня есть виноватые? Разочарование: «слишком сразу отозвалась». Друг, я не обещала Вам быть глухой! Страх: вовлечься. Я не вовлекаю и не завлекаю, я извлекаю: из жизни, из меня — в Жизнь!
И, последнее, просто небрежность. Не верю в такую простоту. Небрежность — следствие.
_____Мне уже не так больно (7-ое, 10-ый день) еще 10 дней — и пройдет, перегорит, переболит. У меня уже любопытство (враждебное скорей себе, чем Вам) уже усмешка (опять-таки над собой!) Горечь — это скорей холод, чем жар. Вроде ожога льда.
_____8-го, на горе.
Нет, мне еще очень больно. Но я безмерно-терпелива. Сегодня утром — письмо, смотрю — не Ваш почерк, все равно чей, раз не Ваш. Завтра 2 недели, как я получила Ваше последнее письмо. Что я теряю в Вас? Да временное русло своей души, общий знаменатель дел и дней, упор свой. — Опять разливаться! —
Вы были моим руслом, моей формой, необходимыми мне тисками. И еще — моим деревцем!
Душа и Молодость. Некая встреча двух абсолютов. (Разве я Вас считала человеком?!) Я думала, — Вы молодость, стихия, могущая вместить меня — мою! Я за сто верст.
_____Если Вы тот, кому я пишу. Вы так же мучаетесь, как я.
_____12 bis авг<уста>, пон<едельник>
Боль уже перестала быть событием, она стала состоянием. Что Вы были — я уже не верю, Вы — это моя боль. Ваших писем я не перечитываю, я не хочу, чтобы слова, сказанные вчера, звучали во мне и сегодня, не хочу ни вчера, ни сегодня, а завтра — меньше всего. Я с Вас оборвалась, как с горы. — Точное чувство. —
Живу, уже почти не жду почтальона, пишу, шью, хожу. Как я странно в этой встрече предвосхитила боль. Ведь не иначе было бы, если бы мы, предположим, в упор встретились, и так расстались. Но, ручаюсь, что моя боль — бо́льшая, я обокрадена — на все будущее, тогда бы — только на бывшее.
— Бюллетень болезни — так бы я определила письмо. Внимательный ли я врач? И послушный ли я больной?
_____Ах, да, странность: я пересылала Вам в Б<ерлин> — теперь не скажу, что́, неважно — одну вещь, с оказией. Человек был у Вас, примерно, 1-го, долго искал (адрес был дан точный) наконец забрел на самый верх дома — и ничего: ремонт, маляры, ободранности. Так ничего и не добился.
А ведь похоже на меня: точный адрес, иду уверенная, номера́ не те, — значит выше, поднимаюсь: леса, известка, пустота: ни души, ни следа. Это моя душа к Вам ходила. Да.
_____А у меня — своя трагедия, о которой потом. И вообще смута. О Б<ерлине> не говорю, но вокруг меня говорят. Еду? Нет?
Удивляет меня во всем этом — одно: ведь Вы со мной связаны моими просьбами (книги, виза и пр.) Вот это уклонение от элементарной вежливости знакомого. Оповестить — это меньше всего исполнить! «Не имею времени — занят — к сожалению, невозможно»… — все, что хотите… Ваш разрыв бесформенен. Вы со мною кончаете та́к, как с Вами начинала я: конец в кредит.
Друг, друг, стихи наколдовывают! Помню, в самом первом своем письме (после «Ремесла», в тетрадку) я намеренно (суеверно) пропустила фразу:
«Начинать наугад с конца И кончать еще — до начала!»(Из юношеских стихов) [1325]. Первая строка — я, вторая — Вы. Пропустила, а сбылось!
_____14-го августа, вторник.
Думаю иногда: кто же будет той последней каплей горечи, превратившей меня в насыщенный (ею) раствор?
_____Если Вы кому-нибудь, хвастаясь, говорите: добился же! — я Вам вполне серьезно отвечу, что — мало: могли бы — бо́льшего.
_____Мало того, что я Вас никогда (глазами) [1326] не видела и (ушами) не слышала, надо еще, чтобы Вы исчезли из моего внутреннего слуха и взгляда: чтоб неслышанный голос — замолк!
И после этого мне говорят, что я выдумываю людей!
_____Бог хочет сделать меня богом — или поэтом — а я иногда хочу быть человеком и отбиваюсь и доказываю Богу, что он неправ. И Бог, усмехнувшись, отпускает: «Поди-поживи»…
Так он меня отпустил к Вам — на часочек.
_____Теперь Вы видите, как пишутся стихи.
_____Думаю о своей последней книге. Поскольку предыдущая («Ремесло») — звонка, постольку эта — глуха. Та — вся — ввысь, эта — вся — вглубь. У нее прекрасное название, и я ее люблю нежней и больней других [1327].
Вы когда-нибудь напишите о ней «рецензию» [1328].
_____Получаю множество писем. Из Badeort'ов, Kurort'ов, а Ваше было бы из Seelenort'a {210}, а может быть — те все приходят в Горние Мокропсы, č<islo> 33, а Ваше одно бы — в Душу! Я сейчас глуха ко всем. Есть только один человек — далё-ёко — чье письмо бы меня взволновало больше (?) Вашего [1329].
_____Пространство — стена, но время — брешь. Будет день, число, час, я все узнаю. Это дает мне спокойствие. Я не люблю участвовать в своей жизни: о, не лень! — брезгливость: устилать себе дорогу коврами. Пальцем не шевельну, чтобы облегчить себе ношу, сократить себе сроки.
_____16-го авг<уста>, четверг.
А вчера был соблазн. Я сидела с человеком, заведомо знающим Вас. И, после долгих борений, прохладно: «Кстати, не знаете ли Вы адр<ес> такого-то?» — «Знаю, т.е. могу. Вам это срочно?» — «О, нет. У меня с ним дела». Спросила — и отлегло. Не из какой-либо пользы — будь Вы в соседней комнате, я бы без зова Вашего туда не вошла! — нет, только лишний соблазн (уже преодоленный!) лишний барьер (уже взятый!): лишний — труднейший! — себе отказ. Это — из болевых достижений, а из радостных: некое удостоверение в Вашем существовании: раз есть адрес — есть человек.
Кстати, адр<еса> Вашего так и не знаю, весь упор был в вопросе, ответа я как-то недослышала: не то узна́ет, не то может, не то мог бы узнать.
_____Только что — пять писем: от Павлика Антокольского (почти что — друга детства: первые дни Революции: 100 лет назад!) [1330] — от Н.Д. Синезубова [1331] (художник, — знаете?) — тоже давнего друга: вместе бродили по последней Москвы — письмо из Моравии — письмо из Сербии — письмо из Парижа, от моего обожаемого вернейшего и взрослейшего друга Кн<язя> Сергея Мих<айловича> Волконского (наверное, читали?) — всем нужно отвечать, а отвечаю — Вам.
Дитя, каждое мое отношение — лавина: не очнусь, пока не докачусь! Я не знаю законов физики, но не сомневаюсь, что где-нибудь, под каким-нибудь параграфом умещаюсь целиком.
_____М<ожет> б<ыть> из этих записей мало встает боль? Но это единственное, к чему я ревнива.
_____Кстати, нынче три недели, как от Вас ни слова. А я думала, что пройдет в 10 дней!
_____18-го августа.
Вчера отправила Вам письмо.
_____Боли хотели — Вы, а получила ее — я. Справедливо?
_____Вы украли у меня целых три недели жизни. Вы бы могли их получить в подарок. А сейчас — украли и выбросили, ни Вам, ни людям.
Писала я эти дни мало и вяло: точное ощущение птицы, которая не может лететь. Беседа со стеной, за которой никого нет. БЕЗ ОТЗЫВА!
_____Если Вы и на это письмо мне не ответите. Вы просто… (и, удержавшись:) — невоспитанный человек.
_____До чего-то в этой встрече мне нужно дорваться. Обо что-то твердое удариться. Вы возбуждаете во мне дурные чувства: жажду боли: МЕСТНОЙ боли, которая бы перекричала общую.
Ждать мне еще долго. Все эти дни я неустанно хожу.
_____Мой спутник — молоденький мальчик, простой, тихий [1332]. Воевал, а теперь учится. Называет мне все деревья в лесу и всех птиц на лету. Выслеживаем с ним звериные тропы. Я не люблю естеств<енных> наук, но его с удовольствием слушаю. Он сам — как дикий зверек, всех сторонится. Но ко мне у него доверие. Стихов не любит и не читает.
Вот и сейчас, дописав эти строки, пойду к нему на горку, под окно. Вызову, побредем. Сегодня — за орехами.
_____21-го авг<уста>, вторник.
Еще несколько мыслей вслух. — К Вам ли все то, что я чувствую, или не к Вам? «Повод» для чувств, — но почему именно Вы, а не сосед? Соседей у Вас много. Помню, я с первого разу, прочтя Ваш отзыв, как-то по-человечески, лично — взволновалась.
Ах, встречная мысль! М<ожет> б<ыть> я пишу к Вам — через десять лет, к Вам через двадцать, выросшему, человеку. М<ожет> б<ыть> я только опережаю Вас. — Но откуда тогда любовь к деревцу?
В четверг будет ровно месяц с Вашего последнего письма. В этом какое-то успокоение.
_____25-го, суббота.
Я устала думать о Вас: в Вас: к Вам. Я перед Вами ни в чем не виновата, зла Вам не сделала ни делом, ни помыслом. Обычная история — не в моей жизни, а вообще в жизни душ, душу имеющих. Вы, очевидно, бездушная кукла, эстет, мелкий игрок. Но все эти определения все-таки не изъясняют Вашего поведения, ах как мне хочется назвать Вас одним словом!
Это последняя страница моего письма, вырывать его из тетради не буду, мало того: когда-нибудь, в свой час — Вы его все-таки получите.
На днях уезжаю, для Вас мой след потерян, а для меня — Ваш во мне! Оставляю Вас здесь, в лесах, в дождях, в глине, на заборных кольях, — одного с здешними за́живо-ощипанными гусями.
В Прагу Вас с собой не беру, а в Праге у меня хорошо: огромное окно на весь город и все небо, улицы — лестницами, даль, поезда, туман.
В Праге непременно пойду к гадалке с Вашим письмом, что́ расскажет — забуду. А когда Бог на Страшном Суде меня спросит: «Откуда такая ненависть?» я отвечу: «Должно быть — уж очень хорошо любила».
_____Мне не любовь нужна, мне нужна ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Ваш поступок бесчеловечен. (Это не значит, что Вы — бог, или полубог!) И еще — невоспитан, это, пожалуй, меня огорчает больше всего.
_____26-го, воскресенье.
Кончился бюллетень, но кончилась ли — БОЛЕЗНЬ?
А 27-го — письмо, и я безумно счастлива.
Прага. 5-го сент<ября> 1923 г. [1333]
Дружочек,
Вы настолько чисты и благородны в каждом помысле, так Там живете, а не здесь, что со спокойным сердцем разрешаю Вам писать мне в Моравию, где буду не одна — что́ угодно.
Вы моих писем бойтесь, т.е. или сжигайте, или берегите их. В моих руках жизнь другого человека, жизнь жестока, бойтесь случайностей, не бросайте моих писем. — Я страстнее Вас в моей заочной жизни: человек чувств, я в заочности превращаюсь в человека страстей, ибо душа моя — страстна́, а Заочность — страна Души. Вы — тут задумываюсь: боюсь, что Вы человек мимолетностей, ощущений, в письмах (Заочности) Вы дорастаете до чувств. Поэтому Вы всё мне можете писать, а я даже не все могу к Вам думать.
Ваше письмо опять висело на волоске, получила его только благодаря задержке в Праге (завтра еду), если бы уехала, как думала — нынче, 5-го, в 10 ч. утра — оно бы меня не застало, и я уехала бы в смуте.
Пишите мне пока в Моравию, вот адрес впрочем, перепишу его на отдельном листке. Это письмо все-таки из породы вечного, а адреса наши так же мимолетны, как мы сами. Перед самым отъездом напишу Вам еще, мне о многом нужно спросить, о многом сказать.
Шлю Вам свою любовь и память.
МЦЕсли не соберетесь до 15-го или письмо запоздает, пишите на Прагу, как предыдущее письмо (Smichov и т.д.).
Адрес на обороте, до 15-го, оттуда сообщу, если задержусь [1334].
Печ. по СС-6. стр. 589–600. См. коммент. к письму 27–23. Вариант — см. письмо 49а-23.
49а-23. A.B. Бахраху
БЮЛЛЕТЕНЬ БОЛЕЗНИ(с трудом обнаруженный в тощей синей тетрадочке в несколько листков — так легко могшей пропасть!)
Пока я буду говорить — о Ваших стихах или о Вас самом: — «Нет, не та́к, та́к не надо» — всё хорошо: под всеми этими нет — одно сплошное да. Когда же начнется: «Да, да, правильно, очень-хорошо, совершенно-верно» — всё поздно, ибо под всеми этими да — одно сплошное-безнадежное! — НЕТ.
_____(В первом — сосредоточенное внимание, страстная жажда правды — своей и чужой — исхищренное и напряженное проникновение в другого — проникновение слухом — неустанная проверка высокой меры — ничего не спустить как поэме! вся надежда, вся вера, вся ставка на подлинник, вся непомерность требования от другого как от себя.
Во втором: снисхождение, высокомерие, усталость, равнодушие, двое-душие, без-душие.
В первом: tout à gagner.
Во втором: rien à perdre.
— по-русски: всё равно провалилось! —)
_____Присылайте мне все вырезки Ваших статей, — я газет не читаю: одним видом брезгую! — Вас я читаю и чту. Вы для меня не газета, а книга, — почти что белая (м<ожет> б<ыть> очень черная: горе: NB! мое от Вас — в будущем). Мне это важно как встреча с Вами вне Вас и меня, как Вы — и мир. Много ли Вы в газетах лжете? (Иного они и не заслуживают.) Прочувствую Вас и сквозь ложь.
_____Стихи сбываются. Поэтому их не все пишу.
_____Перечтите, если не лень, в Ремесле «Сугробы».
…И не оглянется Жизнь крутобровая! Здесь нет свиданьица, Здесь только проводы… [1335]Писано было в полном разгаре дружбы, на прямой дороге схождения, по которой шли (шлось) гигантскими шагами — целыми телеграфными столбами, положенными вдоль! — …а ведь вышло, сбылось. В час разминовения я бы иначе не написала.
Я знаю это помимовольное наколдовыванье — почти всегда бед! Но, слава Богу, — себе! Я не себя боюсь, я своих стихов боюсь.
_____Книги и люди ничего не открыли мне кроме моей безмерной возможности любить: Готовности служить.
_____Та́к, начав с: «Я привыкла к Вашим письмам», я пожалуй кончу это письмо (когда??) — «Я отвыкла без Ваших писем».
_____Как странно, что пространство (т.е. вся свобода между двумя) — стена, в которую ломишься.
_____2-го
Когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются тем размером чувств, которые во мне вызывают, они делают тройную ошибку: не они — не во мне — не размеры. Просто: безмерность, встающая на пути. И они может быть правы в одном только: в чувстве ужаса.
_____4-го
Я вольна была бы скрыть от Вас эту скуку — раз письмо есть и она прошла (NB! не послать Вам письма!). Но — не хочу. Сумейте вместить. — Или Вы из тех, кто «привыкает», «избаловывается»?.. (Хорошую собаку — не забалуешь.)
_____Просьба: не относитесь ко мне как к человеку. Как к дереву, к<отор>ое шумит Вам навстречу. Клянусь, что это не фраза — и правда более полная, чем Вы думаете, ибо дерево шумит Вам навстречу только если Вы это так чувствуете, а так: — просто шумит, только Вам, если Вам так нужно, если никому не нужно — никому. Вы просто попадаете под шум (как под дождь, как под Рок) — Ваше дело присвоить — или отдать далям (отослать — дальше!) или вовсе не услышать.
Итак: как к дереву которое шумит Вам навстречу. Вы же дерево не будете упрекать в «избытке чувств». Вы только услышите как «уста глаголют». Если Вы меня заставите быть с Вами человеком, т.е. считать, я замучусь — и замкнусь, п<отому> ч<то> считать я не умею.
_____Ваше молчание — что́? Занятость? небрежность? расчет? «Привычка» или преувеличенно-исполненная просьба («пишите только когда и если до зарезу нужно и только то что невозможно — никому другому»). До злости — исполненная! Теряюсь. Через несколько дней (10, примерно) привыкнув и отказавшись — успокоюсь. Но пока мне эти дни тяжелы.
_____Чувствуете ли Вы то́, что я. В письме узнаю. Если нет — Schwamm drüber, как мне, 16летней, дрезденская гадалка сказала о моей первой любви.
_____Мокропсы, 30-го июля 1923 г. (NB! письмо в Бюллетене долженствовавшее стоять первым, но эти записи рассеяны и не разобралась в числах)
Дружочек!
Как это глупо вышло — с окказией! У меня не было ни минуты сроку, если бы раньше знала, я бы переслала Вам что-н<и>б<удь>, свое, живое, «земную примету», <фраза не окончена>
Мне очень хочется подарить Вам одну вещь, но она навек, и я не знаю как Вы относитесь к таким (страшным) подаркам.
Мой друг, скучаю без Вас. Скука во мне — не сознание отсутствия, а усиленное присутствие, та́к что, если быть честным (точным!): не без Вас, а от (!) Вас.
В каком-то из Ваших писем Вы, на не-совсем еще умелом и мне уже очень милом языке своем пишете: «Мне не хватало теплоты» {211}. Прочтя, задумалась, п<отому> ч<то> во мне ее нет (та́к что, если Вам именно ее не хватает — со мной больше чем с кем бы то ни было и — вечно будет не хватать!). И тут же, мысленно перечеркнув, заменила: нежность. И тоже задумалась, п<отому> ч<то> она во мне есть.
Дитя, никогда не берите (а м<ожет> б<ыть> — не ждите!) — никогда не применяйте ко мне того, что заведомо не может жечь: ведь даже лед жжет! И бесстрастие жжет. Всякий абсолют жжет. А вот теплота — нет, п<отому> ч<то> она тогда уже жар, т.е. ее уже нет. (Степень (ступень) ведущая к собственному уничтожению.) Обратное жару не холод, а теплота.
А нежность — от ледяной до смоляной! И все-таки — нежность.
Так вот, об этой нежности моей, сосущей и растущей, так неожиданно вставшей и так певуче во мне жалующейся. Я очень счастлива. Это совсем как смычок.
_____Теперь, начистоту: есть ли у Вас мир, кроме моею: Души? — Значат ли что-нибудь в Вашей жизни: дела, деньги, друзья, идеи, войны, новости, открытия, смена правительств, спорт, моды, — всё чем заполнен день (— проще бы «Дни»). Вне их отражения в мире Души, конечно (которое есть преображение!), ибо тогда: и вода — не вода и земля — не земля. Существует ли для Вас всё это как таковое?
«Деловая жизнь», «мужская жизнь», «общественная жизнь», и, приостановившись — семейная жизнь. (Единственная без кавычек.) Развлечения? Зрелища? Хождение в гости? Споры на тему? Литературные течения? Футбол? Техника? Вопросы дошкольного образования? Конгрессы? Судьбы Европы? Лекции Бердяева?
Друг, если Вы ко всему этому равнодушны. Вы пусты как я. Вы пусты, как Музыка. Вы без событий. Вы без стен. Вы — вне. Вы — <пропуск одного слова>. Вам легко будет умирать.
Но ЖИТЬ — Вам будет трудно!
Мне всё скучно. Заранее и заведомо. Когда я с людьми, я несчастна: пуста, т.е. полна ими. Я — выпита. Я не хочу новостей, я не хочу гостей, я не хочу вестей. У меня голова болит от получасовой «беседы», (клянусь, что аспирин.) Я становлюсь жалкой и лицемерной, говорю как заведенная и слушаю как мертвец. Я зеленею. Чувство, что люди крадут мое время, высасывают мой мозг (который я в такие минуты ощущаю как шкаф с драгоценностями!) наводняют мою блаженную небесную пустоту (ибо небо — тоже сосуд, т.е. безмерное место для) — всеми отбросами дней, дел, дрязг. Я переполняюсь людьми!
Пишу Вам по горячему следу вчерашнего посещения из Праги: 5 ч. подряд, 4 человека, да нас трое, итого семь. И самым жалким среди этих семи, бесспорно, была я.
_____Друг, если Вы не таковы, Вам будет трудно со мной. Если таковы — мне будет трудно с Вами. (Лучше и дважды лучше — так.)
_____У меня трудно рифмует только с чудно.
_____Будьте правдивы, не считайтесь с тем, что я от того или иного ответа буду любить Вас больше — или меньше. Что Вам из того, что я буду любить Вас — не знаю ка́к! — если это не Вы?!
_____Недавно напала случайно на Ваш отзыв в Днях о Степуне [1336]. Хотите мой взгляд? Трагедия Степуна в невытравимости благополучия, <фраза не окончена>. Там у него жены и любови тонут, пропадают, — а он считает — и размещает: Марину — в такой-то разряд, Елену — в такой-то (точно: по такому-то разряду) без всякого страха, в полном уюте, — как коллекцию жуков — на память. (Умерли-то они, я-то — живу!) И даже жути нет: не: до жути доведенное благополучие, не герой Гофмана — читатель Гофмана, в шерстяных носках, с очками на носу и кисточкой над носом читающий ужасы собственной жизни, понятые только Гофманом.
Никогда не забуду. Кажется 1920 г. Москва. Лето. Скамейка Тверского бульвара. Я на скамейке. Возле, в песке — т.е. в пыли — Аля. Кто-то с тростью или с зонтиком, вразвалку, мягкая шляпа: Степун. Присаживается. Только что приехал из деревни — по театральным делам (ТЕО — звало́сь) и скоро опять едет. Живет? Великолепно. Мало есть — отлично, а то вместо лица — что-то свиное. И т.д.
А что Вы там делаете — в своей деревне?
Я пишшу, а они — паашшут…
Они — мать и жена, друг друга ненавидящие и соревнующиеся в любви к нему. — Во́т.
_____С страстным увлечением и со всеми подробностями рассказывает мне свой роман (тот который пишшет, пока те паашшут) — теперешний Николай Переслегин. — «Природу и обстановку я нарочно даю пошлыми: скамейки, клумбы с астрами, пруд…» — «Природу — пошлой?.. И: ne peut pas qui veut {212}: как это Вам удается: природу — пошлой? И это где-нибудь у Вас оговорено? А то еще подумают…»
— Ничего не подумают (самодовольно). Даже не заметят.
— Я тоже думаю.
_____Ваша отповедь ему [1337], с цитатами из моего врага Ходасевича наверное? (Брента) [1338] мне близка только как отповедь-вообще <пропуск двух-трех слов>. «Проза», что думает Х<одасеви>ч, и что думаете Вы и что думает Степун, когда вы все это пишете. Девушка выходит замуж за старика — «проза»? Противоестественность, чудовищность, тайна такая, что куда там Тристанам и Изольдам! Куры под столом и самовар на столе, все герои Чехова — «проза»?! Какая проза, когда от этого слезы <пропуск одного слова> от умиления (NB! не у меня) или волосы дыбом становятся от ужаса: живые, ра́з живут, есть Этна и Эмпедокл, а они хотят в «Москву». (NB! только слухом (зато с самого раннего детства) слыхала, никогда, по сей 1932 г. августа 31-ое не читала ни Дяди Вани, ни Трех сестер, ни Чайки (к<отор>ую по детским запечатлениям всегда путаю с Дикой уткой [1339], — мне даже тогда казалось, что в театре всегда играют про птиц) — и нечаянно не читала, просто: не пришлось, — в полном собрании сочинений, к<отор>ое в доме было, нужно думать — всегда пропускала — от заведомости чуждости, в к<отор>ой не ошиблась: не читав знаю как если бы: не сама писала, а — жила: ведь вся моя жизнь, внешне 1922 г. — 1932 г. жизнь трех сестер, только не трех, а одной, без двух других, без эхо, без всего что у тех, счастливых, было и главное с достоверной невозможностью Москвы, достоверно без Москвы — и не только Москвы достоверной, но всех Москв! Жизнь трехсестринской кухарки, т.е. еще бедней и серей: без кума пожарного, а главное без достоверной трехрублевки — пусть даже рублевки — на рынок. Во́т.)
Да ведь это же — куры и самовар, пар самовара и пар московского поезда — ТРАГЕДИЯ {213}. Проза, это то, что примелькалось. Мне ничто не примелькалось: Этна — п<отому> ч<то> сродни, куры — п<отому> ч<то> ненавижу, даже кастрюльки не примелькались, п<отому> ч<то> их: либо ненавижу, либо: не вижу, я никогда не поверю в «прозу», ее нет, я ее ни разу в жизни не встречала, ни кончика хвоста ее. Когда подо всем, за всем и надо всем: боги, беды, духи, судьбы, крылья, хвосты — какая тут может быть «проза». Когда всё на вертящемся шаре! Внутри которого — ОГОНЬ.
_____Степун — бюргер с порываниями в Трагедию (das Tragische) {214}. Байрон в Трагедию не рвется, он в ней живет, вне ее — не живет. Она за ним по пятам гонится и загоняет его в Албанию.
_____Дитя, я глубоко-необразована, за всю жизнь не прочла ни единой философской строки, но я знаю душу, я каждый день вижу небо и каждую ночь вижу сны. Вы — критик и Вам необходимо писать о книге, и нельзя со всеми ссориться, всё учитываю, только всегда хочу и, пока с Вами, всегда буду хотеть знать: Вы ли это, или «pour la galerie» {215}.
_____Думаю о Вас и боюсь, что в жизни я Вам буду вредна: мое дело — срывать все маски и все брони: иногда при этом задеваю кожу, а иногда и мясо. Людей Вы через меня любить не научитесь, — всё кроме людей. Но живут «с людьми»…
_____1-го
Я давно не слышала Вашего голоса и мне уже немножко пусто без Вас. Молчание мне враждебно, я молчу только когда это нужно другому. (NB! Не примите дословно!) Голос — между нами — единственная достоверность. Когда я долго Вас не слышу, Вы перестаете быть.
_____Мне некому о Вас сказать. Аля, с двух лет до девяти бывшая моим «в горах — отзывом», сейчас, десяти лет, играет в кукол и глубоко́-равнодушна ко мне. Вы моя тайна, сначала радостная, потом болевая. О, Бог действительно хочет сделать меня большим поэтом, иначе он бы так не отнимал у меня всё!
_____Наблюдаю боль (в который раз). Те же физические законы болезни: дни до, начало, постепенность, кризис. До смерти у меня никогда не доходило. Боль для меня сейчас уже колея, горечь уже — вода, узнаю, узнаю, узнаю. NB! Это не значит, что горечь — сладка, это вода — горька!
О, мои юные учителя, не ставшие моими учениками! О, мои юные ученики, ставшие моими учителями! — Спасибо. —
_____Я поняла: Вы не мой родной сын, а приемыш, о к<отор>ом иногда тоскуешь: почему не мой?
_____Русский народ царственен: это постоянное: мы, наше. (Написала и поняла: как хорошо перекликнулось с Моисеем! Как неслучайно царская дочь над корзиной!)
_____(Мы, наше можно также понять как ничье, безымянно-божье. Вне гордыни <сверху: сиротства>: я. Но тогда и царское: Мы, Наше — ничье, безымянно-божье, вне уродства: гордыни: я. Мужик как царь: один за всех. 1932 г.)
_____И еще: мужика «мы, наше» делает царственным, царя — народом. — И обоих — божьим.
_____Ломит голову. Ломаю голову.
Болезнь? Любовь? Обида? Сознание вины? Страх? Разочарование? Оставляю болезнь: любовь, но чем любовь к кому-н<и>б<удь> может помешать Вашей ко мне дружбе? Обида — да, поводов много: просьба не писать (детское самолюбие), отзыв о Х<одасеви>че (дружеское самолюбие), отзыв о его жене (рыцарство?), упрек в эстетстве (человеческое достоинство). Сознание вины (т.е. содеянное предательство)? — но разве у меня есть виноватые? Разочарование: слишком сразу отозвалась: друг, я не обещала Вам быть глухой! Страх — вовлечься. Я не вовлекаю и не завлекаю, я извлекаю: из жизни. Потом: из меня <сверху: себя> — в Жизнь.
_____И последнее: просто-небрежность. Не верю в такую простоту. Небрежность — следствие.
_____Мне уже не так больно (7-ое, десятый день), еще десять дней — и пройдет, перегорит, переболит. У меня уже любопытство, горечь, враждебность скорее себе, чем Вам, но во всяком случае <фраза не окончена>
Горечь — это скорее холод чем жар. Вроде ожога льда.
_____8-го на горе
Мой <перечеркнуто>. Нет, мне еще очень больно. Но я безмерно-терпелива. Сегодня утром — письмо, смотрю — не Ваш почерк, всё равно чей, раз не Ваш.
Завтра — две недели как я получила Ваше последнее письмо. Что́ я теряю в Вас? Да временное русло своей души, общий знаменатель дел и дней. Упор. Прицел. — Вы были моим руслом, моей формой. — Опять разливаться!
_____Дальше вырван листок, так что Бюллетень болезни действительно обрывается.
Впервые — НСТ. стр. 216–224. Печ. по тексту первой публикации.
50-23. A.B. Бахраху
Прага, 5-го и 6-го сентября 1923
Мое дорогое дитя,
Только что отправила Вам «Бюллетень болезни», — берегите эти листки! Мне они не нужны: память моя — все помнит, сердце же — когда прошло! — НИЧЕГО. Никакие листки не помогут. Я просто скажу: «Это была другая» — и, может быть: «Я с ней незнакома».
(Нет, нет, пусть Вам не будет больно, моя нежность, моя радость, у нас еще все впереди!)
Берегите их для того часа, когда Вы, разбившись о все стены, вдруг усумнитесь в существовании Души. (Любви.) Берегите их, чтобы знать, что Вас когда-то кто-то — раз в жизни! — по-настоящему любил. Потому что любовь — тоска: из кожи, из жил, из последней души — к другому. Это протянутые руки, всегда руки: дающие, ждущие, бросающие, закручивающиеся вокруг Вашей шеи, безумные, щедрые, бедные, заломленные, — ах, друг! — если бы я сейчас могла взять Вас за́ руку, я бы сразу и все поняла, что для меня еще сейчас и до нашей встречи — неразрешимый вопрос.
Кто́ Вы? Что Вы? Слабый Вы или сильный? Ребенок или взрослый? Эстет или человек? Национальность или человек? Профессия — или человек?
В Ваших письмах — не то осторожность, не то робость, не то сдержанность, — ах, нашла! — я не чувствую в Вас упора, рука уходит в пустоту.
_____Сейчас самый настоящий час для встречи. Я ее (в желании своем) не опережала. Но эта тридцатидневная мука (для Вас только — смута, о не спорьте, я ведь не виню!). Богом и жизнью мне зачтется в года́, — друг, ни одной секунды я не верила, что Вы больны, что Вы не можете писать, оцените мое душевное состояние (иных у меня нет!) — словом, мне необходимо Вас видеть и слышать, чтобы поверить или не поверить, отрешиться или вздохнуть.
Милый друг, мое буйство не словесное, но и не действенное: это страсти души, совсем иные остальных. В жизни (в комнате) я тиха, воспитанна, взглядом и голосом еле касаюсь — и никогда первая не беру руки́. С человеком я то́, чем он меня видит, чтобы иметь меня настоящую, нужно видеть настоящую, душ во мне слишком много, — все! — я иногда невольно ввожу в обман.
— Увидьте! —
_____А до костров и ночей — далё-еко! По слухам — ведь все бегут из Б<ерлина>? [1340] (Кстати — если — то куда Вы двинетесь?) Дел у меня в Б<ерлине> нет, у меня там только Ваша душа! И меньше всего желаю вваливаться в нее с чемоданами.
Дружочек, если Вы мое дитя, Вы должны быть со мной совсем настежь. Не бойтесь, это единственное на что я льщусь и отчего не устаю. Напишите мне о своей семье, о днях (хотя бы и о «Днях»), о дружбах, — встаньте живым. Я должна знать, кого я люблю.
Будьте прос́ты, не ищите фраз, самое дорогое — то, что сорвалось! — срывайтесь, давайте, т.е. позволяйте срываться: словам с губ, буквам с пера, не думайте, не считайте, будьте.
Вы настолько благородны и зорки, что никогда не переточните, не утяжелите, дайте мне верные вехи, дорогу я вызову. Это — мое единственное мастерство.
_____Достоверно: 7-го уезжаю в Моравию. Первое письмо напишите мне на: Praha Smichov, Švedska ulice, č<islo> 1373. Если я в Моравии задержусь, оно будет ждать меня в Праге, и тогда, уже извещенный мною, Вы второе напишите мне в Моравию. — Ясно? —
Извещу Вас открыткой, на следующий же день по приезде, долго ли там пробуду. Смиховский (Пражский) адр<ес> верен.
Посылаю Вам стихи [1341]. — Не все — видите, как много, не уместились. Но взяла наиболее Ваши (к Вам). Назовите мое любимое! И — свое любимое. Не забудьте.
Напишите вообще о стихах: дошли ли, и чем дошли, и какие любимые строчки, всё хочу знать. (О, как я знаю свое любимое!) Есть ли, по-Вашему, разница с «Ремеслом».
_____Напишите и о «бюллетене», не слишком настаивая, но так, чтобы я поняла. Будьте гранитной стеной, отсылающей эхо, а не брандмауэром. (Не сердитесь, тем более, что над моими Brand'ами и Brandung'ами — никакие Mauer'ы не властны!) {216}
Дайте мне и покой и радость, дайте мне быть счастливой. Вы увидите, как я это умею!
А пока, дитя, до свидания. Не разоряйтесь на экспрессы, не надо, лучше пишите чаще, письма, авось, дойдут.
Как странно, что Вы то письмо, пропавшее, тоже писали в лесу.
МЦ. _____P.S. А «осязать» — нехорошее слово. Это Баба-Яга осязает: мальчикину руку сквозь клетку — помните? И он просовывает кость.
Осязать, это вроде обнюхивать, я не хочу, чтобы Вы меня обнюхивали, это слово — теперь будьте внимательны — в своей отвлеченности (обоняние, осязание и пр.) более грубо, чем просто: обнять. Осязают только руки, обнимает — все-таки и всегда — душа!
Не сердитесь. Вы молоды (кстати у меня целая история в гостинице: никто не верит, что Аля — моя дочь и что мой паспорт — мой паспорт, думают, что я все это сочинила, для каких-то жизненных: здесь в Чехии читай: любовных! — удобств, коих уловить еще не могу) {217} — Вы молоды, и Вам придется иметь дело со всеми женщинами и словами, и тех и других много, каждой — свои. А «мои» — пригодятся всем, если Вы у меня научитесь, Вы будете не только любовником, но и врачом — а м<ожет> б<ыть> и творцом — душ.
«Обладать», «осязать», все это нехорошо, и в зоркие минуты вызывает иронию. Есть у немец<кого> поэта Rilke об этом изумительные строки, точно не помню, но приблизительно: «sie sagen „haben“, und keiner weiss, dass man eine Frau so wenig haben kann, wie eine Blume» {218} [1342]
А у Вас и это мое ненавистное (о, я не суффражистка!) слово есть: «Обладая Вашими письмами», (другая фраза: «хочу не только чувствовать, но и осязать») — знаете, как такие вещи пишутся: «Теперь, держа в руках Ваши письма, т.е. душу»… (и, второе) «хочу Вас не только чувствовать, но и обнять». Ведь смысл тот же, правда? — а лучше доходит, больше трогает, больше веришь, лучше тянешься в ответ.
Выбор слов — это прежде всего выбор и очищение чувств, не все чувства годны, о верьте, здесь тоже нужна работа! Работа над словом — работа над собой. Вот этого я хочу от Вас: созвучности в пристрастиях и оттолкновениях: чтобы Вы поняли, почему я не люблю Х<одасевича> («пробочка над йодом», «сам себе целую руки», а особенно — до содрогания! — стих в «Совр<еменных> Записках» — «Не чистый дух, не глупый скот» — или вроде!) [1343] — и почему люблю Мандельштама, с его путаной, слабой, хаотической мыслью, порой бессмыслицей (проследите-ка логически любой его стих!) и неизменной МАГИЕЙ каждой строки. Дело не в «классицизме», пожалуй, оба классики! — в ЧАРАХ. И, возвращаясь к Вам и к себе: найдите слова, которые меня чаруют, я только чарам верю, на остальное у меня ланцет: мысль.
А из слов это, наверное, наиболее простые.
«Одеяния жестов». Задумываюсь. Это, если верить, что не просто-слова, пожалуй очень хорошо. Жест рукава, сопровождающий руку. Жест плаща вокруг все того же тела. Но это все-таки еще не из тех слов!
Кстати, в одном Вы меня совершенно не поняли, я даже улыбнулась — и умилилась, до того Вы не самоуверенны! «Разница тона и темпа» мною взята, как преимущество в Ваших руках. Ведь я сейчас вдвое распахнутее и вдвое стремительнее с Вами. Это случилось через боль, но это все-таки случилось!
Дитя, Вы никогда не приедете в Прагу? Вам здесь нечего делать? Ведь Вы наверное эсер, а эсеров у нас мно-о-ого, полный «Русский дом» [1344]. С каким-нибудь поручением, а? Подумайте об этом серьезно, люди ведь все время ездят взад и вперед, у всех какие-то дела, я уже привыкла к этому, хотя умерла бы от такой жизни.
Было бы чудно! Я бы показала Вам свою гору, и себя на ней, и город с горы. Впрочем — Впрочем, это то же самое, что мой Берлин: чистейший миф. На все нужны деньги, a noblesse сейчас очевидно oblige {219} их не иметь.
Да! Напишите мне правду о Б<ерлине>. Что́ у вас происходит? На какой год в России похоже? Мыслимо ли там жить? Как мне бы хотелось приехать — хотя бы на неделю! Кто знает, может быть — среди зимы —
_____О Цоссене [1345]. Нет, дружочек, когда бы и где бы — все вышло бы то же! «Дом Искусств» [1346] и «Prager-Diele» сразу бы рассеялись: в дыма́х и в пара́х и в туманах. И остались бы души: Вы и я. Нет, плохо, что тогда не встретились. У меня было целых два своих блаженных месяца, мы бы ездили за город, и сидели бы но вечерам в самых нищих кафе на заставах, и я бы сейчас знала, кому пишу. Почему не подошли тогда? Я Вас не знала. Это Ваша вина.
_____Какое длинное Post-scriptum! Пора кончать. Доканчиваю это письмо рано утром, завтра ехать, целый день забот. Итак, для достоверности: одно в Прагу, одно — в Моравию. Моравский адр<ес>:
Tschekoslowakei
Moravska Třebova
Velke namesti, č<islo> 24
u Pani Marie Boudovy
— мне —
Не пишите экспрессом, теперь Бог сам будет хранить. А можно и так: письмо в Прагу, открытку — в Моравию, я из Моравии сразу напишу, если я задержусь, Вы мне еще туда напишите. Важно не терять связи.
Где Белый? Скажите ему, что я его люблю.
_____Непременно напишите о стихах — и непременно — какое любимое. А пока — до свидания, моя радость!
МЦ.Печ. по СС-6 С. 600–604. См. коммент. к письму 27–23.
51-23. К.Б. Родзевичу
Тшебово, 8 сентября 1923 г. [1347]
Дорогой Радзевич,
(Простите за я́, но я веду Вас — от Радзивиллов!) [1348]
Новая жизнь начинается: кастёлом, парадом войск и слезами. Но сначала об Але: заласкана, залюблена, залюбована, перечёсана на новый лад, — оторвалась, не моя.
Мне больно от всего: от Али, от женского голоса в кастёле, от солдат, которые уходят под музыку, во мне живого места нет, и если бы я сейчас дала себе волю, я бы докатила от Тшебова до Праги целую сле́зную реку.
(— Веселое письмо?)
_____А вот сценка у директора. Сидим: С<ережа>, Аля, я, каждый на своем стуле, в тихости и в трусости.
Директор, обращаясь ко мне: — «Так Ваша дочь в каком году родилась?»
Я, без запинки: «26-го сентября 1893 года» [1349].
Директор, испуганно: «Но… но этого не может быть!»
Я, потерянно: «Ах, ради Бога, простите. Это, должно быть, я́ родилась». (Пауза.) «т.е. — в 1893 г.» (Пауза.) «Меня всё время водили в полицию» {220}).
Сережа, шепотом: «Мариночка!» Директор молча глядит.
И я, задумчиво: «Я заполняла анкеты, и всё время — 1893 г. А дочь — нет, дочь — в 1913 г., 5-го сентября 1913 г.»
Директор: «А она у Вас читает и пишет?»
Я, уже во всем сомневаясь: «Да-а-а…»
Директор: «По складам читает, или бегло? Что это Вы, барышня, улыбаетесь?» (Последнее относится уже к Але.)
И Аля: «Еще бы! В 1893 году родилась — и читаю по складам!»
_____Экзамен Аля выдержала: арифметика — 3, Закон Божий и русский — 5. Вжилась, веселая, на вопрос детей, кто и откуда, сразу ответила: — «Звезда — и с небес!»
_____Вчера ночью на улице такой диалог:
— «Wie lang' bleiben Sie denn?»
— «Ach, das kann man niemals sagen. Haben noch keine Befehle!» {221} Беседующие — 16летняя горожаночка и 20летний солдат. Одинокий фонарь горел. Они стояли и не расставались. Как странно, что я его ответом огорчилась больше, чем та́! А сегодня солдаты уже уходят.
_____День, начатый кастёлом, кончился всенощной. Пишу Вам непосредственно по возвращении из церкви. Церковь — высокая изба с крестом. Внутри — настоящий храм. Пели и служили прекрасно. Я стояла и думала о своем.
Помните, как мы вместе встречали Пасху? Я еще так огорчалась тогда, что придется разойтись (какие-то недоразумения с семейством Ч<ирико>вых) и всё убеждала С<ережу> и Вас, что это невозможно, а Вы великодушно (а может быть — равнодушно) убеждали меня в обратном, и мне уже становилось неловко настаивать. Я хорошо помню эту ночь: спящую Прагу, какие-то мосты, сады, свое одиночество, какой-то спор о традициях. И еще — одну минуточку у храма, по окончании службы.
_____Сережа уже спит. Часы со всех сторон тикают. За стеной — бессонная старуха, в полукруге арки — спящая. Мы отделены от старух только аркой, без двери, собственно одна комната, видно и слышно, как спят. Это странная жизнь. Долго бы я так не выжила.
_____До сих пор не очнулась от последней Праги и не знаю, как и когда войду в русло той моей жизни: стихов, природы, покоя. Писать я сейчас не могу, это со мной так редко, полная перевернутость, — канун или конец. Если я не вовлекусь в большую вещь, мне будет очень плохо, я себя знаю. Здесь и разлука с Алей и многое еще, жизнь взяла и переломилась, я всегда жила вне катастрофы, в непрестанной трагедии, трагедия была домом, сейчас я выбита даже из нее, перелом в самом настоящем смысле слова, чувство, что кости треснули. Пока прислушиваюсь. Боюсь, что то новое, что растет, уже не подлежит стихам, стихии в себе боюсь, минующей — а может быть: разрывающей! — стихи. Сегодня, стоя в церкви, видела мост и темную воду под мостом. И это было так завлекательно, что ни о чем другом не хотелось думать. А певчие пели, и это опять напоминало смерть, вставало лицо Блока в гробу, Блока, так неистово любившего жизнь!
И к вздрагиваньям медленного хлада Усталую ты душу приручи, Чтоб было здесь ей ничего не надо, Когда оттуда ринутся лучи! [1350]Так я жила много лет, и с каждым днем всё больше и больше отрывалась, всё легче ступала по земле, мне не нужно было Соломонова перстня [1351], это было выжжено у меня в сердце, это мне его выжигало! Поворот от смерти к жизни может быть смертелен, это не поворот, а падение, и, дойдя до дна, удар страшен. Боюсь, что или не научусь жить, или слишком научусь, так, что потом захочется, вернее: останется хотеть — только смерти.
(Веселое письмо?)
_____Старухи храпят, часы хрипят, я обуяна мрачными мыслями, а Вы, дорогой Радзевич, сейчас наверное склонены над тяжким томом права, или над легкой чашкой чая в гостях, — учитесь или смеетесь и не подозреваете об этом моем часе. Бывают минуты прозрения, не хочу каркать, — но —
_____Я еще не поблагодарила Вас за всю Вашу заботу и за всю Вашу дружбу, настоящие чувства тем тяжелы, что зажимают нам рот. Чуть-чуть подделки — и уста уже глаголют! Но когда подделки нет, чувства всей тяжестью падают на дно души, душа нашу душу и глуша слова. Я никогда не смогу сказать Вам, как Вы за эти несколько дней стали мне дороги.
_____Стучат копыта по мостовой. Через час город будет спать, будет спать и та, что вчера под фонарем прощалась с солдатом, будете наверное спать и Вы. И усну когда-нибудь — навсегда, без снов, без стихов — и я. В этом огромное утешение, я устала, точно жила сто жизней.
МЦ.P.S. Вернусь наверное 16-го, 17-го. Деньги за меня получите [1352], но не пересылайте, на жизнь и переезд хватит, передадите при встрече. О дне и часе отъезда извещу, может быть Вы меня встретите?
_____Было бы мило, если бы Вы мне написали, если не поленитесь, письмо успеет дойти, но если очень заняты или не очень хочется — ради Бога, не надо, такое письмо меня только огорчит.
_____Адрес мой:
Moravska Třebova
Velke namesti, č<islo> 24
u Pani Marie Boudovy.
— мне —
_____Прочли ли хоть один стих из моего Rilke? [1353] Если да, напишите, какой. Как бы я хотела передать Вам эти две страсти: к стихам и к стихиям!
_____<Приписка С.Я. Эфрона:>
— Радуюсь Вашему блестяще сданному экзамену (в чем и не сомневался). Дружеский привет!
С.Э. _____9-го сент<ября> — Сейчас идем с Сережей к русской обедне, в лагерь. Чудный солнечный день. За два дня — четвертая служба! Я скоро буду святой!
Впервые — Письма к Константину Родзевичу. стр. 15–21. Печ. по тексту первой публикации.
52-23. A.B. Оболенскому
Тшебово, 8-го сентября 1923 г. [1354]
Дорогой Андрей Владимирович,
Все еще вижу Ваше милое лицо на вокзале. Как мне грустно, что нам в этой сутолоке даже как следует не удалось проститься! Это я виновата, с тростью.
Здесь хорошо, но столько чужого (чуждого) — хотя бы совместное жительство пятисот душ (именно душ! Говорю о лагере! [1355]), что я лишний раз чувствую ужас перед жизнью, ужас перед собой и желание поскорее этот неравный брак (души и жизни!) разорвать.
— Невеселые вещи для открытки?! — Но, увы: «Tout ce qui n'est pas bête est triste — et tout ce qui n'est pas triste est bête!» {222} Шлю Вам привет и благодарность.
МЦ.Впервые — Русская мысль (1992. 16 окт., спец. прилож. Публ. Л.А. Мнухина). СС-6. С. 654–655. Печ. по СС-6.
53-23. A.B. Бахраху
Моравска Тшебова, 9-го сентября 1923 г.
Дорогой Александр Васильевич,
Пишу Вам из маленького городочка в Моравии (Mähren, от старинного немецкого Mähre: сказка) под тиканье восьми часов, — в моей комнате, живу у вдовы часовщика. Я здесь на несколько дней, до 16-го, и решила эти дни ничего не делать, это самое трудное, тоскую по стихам и собственной душе. Провожу время в церкви и в лагере [1356]. Утром — католическая обедня в огромном старом, если не древнем, костеле, день в лагере (по здешнему: таборе), т.е. русском городке, выстроенном нашими пленными и ныне обращенном в русскую гимназию. Аля уже принята, сразу вжилась, счастлива, ее глаза единодушно объявлены звездами, и она, на вопрос детей (пятисот!) кто и откуда, сразу ответила: «Звезда — и с небес!» Она очень красива и очень свободна, ни секунды смущения, сама непосредственность, ее будут любить, потому что она ни в ком не нуждается. Я всю жизнь напролет любила сама, и еще больше ненавидела, и с рождения хотела умереть, это было трудное детство и мрачное отрочество, я в Але ничего не узнаю [1357], но знаю одно: она будет счастлива. — Я никогда этого (для себя) не хотела.
И вот — десять лет жизни как рукой сняту. Это — почти что катастрофа. Меня это расставание делает моложе, десятилетний опыт снят, я вновь начинаю свою жизнь, без ответственности за другого, чувство ненужности делает меня пустой и легкой, еще меньше вешу, еще меньше есмь. Сейчас за стеной, в кухне, одна из хозяек гостям: «Die junge Frau ist Dichterin — und schreiben thut sie, wie Perlen aufreihen!» {223}
Да, о моем дне, начало которого в костеле: кончается он всенощной в русской самодельной церкви, где чудно поют и служат. Я — дома во всех храмах, храм — ведь это побежденный дом, быт, тупик. В храме нет хозяйства, храм это дом души. Но больше всего я люблю пустые храмы, днем, с косым столбом солнца, безголосые храмы, где душа одна ликует. Или храм — в грозу. Тогда я чувствую себя ласточкой.
_____Городок старинный и жители вежливые, сплошные поклоны и приседания, мне это нравится, я безумно страдаю от людской откровенности. Здесь даже моя прическа (т.е. отсутствие ее!) нравится, это здесь зовется Haartracht {224} и, оказывается «Kleidet Sie so schön» {225}. Мне нужно льстить, я ведь все равно верю только на сотую, вот и получается естественное самочувствие человека, которого не ненавидят.
_____Пишите мне в Прагу, по адр<есу>, который Вы знаете. Сейчас иду к русской обедне, первые полчаса буду восхищена́ и восхи́щена, вторые буду думать о своем, третьи — просто рваться на воздух, я не могу долго молиться, я вообще не молюсь, но уверена, что Бог меня слышит, и… качает головой.
_____Шлю Вам нежный привет. Простите за отрывочное письмо, мне просто захотелось Вас окликнуть.
_____10-го сентября 1923 г.
А письмо вчера не отошло, — было воскресенье и не было марки.
Друг, о скольком мне еще надо Вам рассказать! Я сейчас на резком повороте жизни, запомните этот мой час, я даром таких слов не говорю и таких чувств не чувствую. «Поворот», — ведь все поворот! Воздух, которым я дышу — воздух трагедии, в моей жизни нет неожиданностей, п<отому> ч<то> я их все предвосхи́тила, но… кроме внутренних, подводных течений есть еще: стечения… хотя бы обстоятельств, просто события жизни, которых не предугадаешь, но которые, радуясь или не радуясь, предчувствуешь. У меня сейчас определенное чувство кануна — или конца. (Что, может быть то же!)
Погодите отвечать, здесь ответов не нужно, ответ будет потом, когда я, взорвав все мосты, попрошу у Вас силы взорвать последний. Наша встреча — страшна для Вас, теперь я это поняла, это меньше всего услада или растрава, и может быть не мне суждено Вас спасти, а Вам меня столкнуть с последнего моста!
(О магия, магия! Как опять все сходится! Ваш «спасательный круг» — о, дитя, дитя, какой я берег?! и мой мост, темный, последний, над самой настоящей рекой! Это сейчас мое наваждение, я стою в церкви и думаю: мост, мост, кому — на берег, кому — на тот берег, кому — идти, кому — вниз головой лететь! После смерти Блока я все встречала его на всех московских ночных мостах, я знала, что он здесь бродит и — м<ожет> б<ыть> — ждет, я была его самая большая любовь, хотя он меня и не знал, большая любовь, ему сужденная — и несбывшаяся. И теперь этот мост опять колдует, без Блока под фонарем, без никого, от всех!)
Начался этот мост с Вас. Сейчас объясню. Вы были первым — за годы, кажется — кто меня в упор (в пространство!) окликнул. О, я сразу расслышала, это был зов в ту жизнь: в любовь, в жар рук, в ту́ жизнь, от которой я отрешилась. И я отозвалась, подалась на голос, который ощутила как руку. «Безысходная нежность» Вашего первого письма, — о, разве я этого не знаю?! (Что́ я еще другого знаю?!) Я ответила Вам прохладным советом вздоха, что́ мне было ответить еще? Но внутри себя я уже все знала, я приняла Вас не как такого-то с именем и отчеством, а как вестника Жизни, которая ведет в смерть.
Мой дорогой вестник, молодой и нежный, я Вас даром мучила неверием. Вы невинны и Вы меня любите, но хватит ли у Вас силы долюбить меня до конца, т.е. в час, когда я скажу: «Мне надо умереть» из всей чистоты Вашего десятилетия сказать: «Да».
Ведь я не для жизни. У меня всё — пожар! Я могу вести десять отношений (хороши «отношения»!) сразу и каждого, из глубочайшей глубины, уверять, что он — единственный. А малейшего поворота головы от себя — не терплю. Мне БОЛЬНО, понимаете? Я ободранный человек, а Вы все в броне. У всех вас: искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг, у меня, на глубину, НИ-ЧЕ-ГО. Все спадает как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: я: Психея. Я ни в одну форму не умещаюсь — даже в наипросторнейшую своих стихов! Не могу жить. Все не как у людей. Могу жить только во сне, в простом сне, который снится: вот падаю с сорокового сан-францисского этажа, вот рассвет и меня преследуют, вот чужой — и — сразу — целую, вот сейчас убьют — и лечу. Я не сказки рассказываю, мне снятся чудные и страшные сны, с любовью, со смертью, это моя настоящая жизнь, без случайностей, вся роковая, где все сбывается.
Что мне делать — с этим?! — в жизни. Целую — и за тридевять земель, другой отодвинулся на миллиметр — и внутри: «Не любит — устал — не мой — умереть». О, все время: умереть, от всего!
Этого — Вы ждали? И это ли Вы любите, когда говорите (а м<ожет> б<ыть> и не говорили?) о любви. И разве это — можно любить?!
_____Друг, а теперь просьба. Большая. Сделайте мне один подарок. Только сначала напишите, что: да, а потом я скажу. (Ничего страшного.) Мне это хочется иметь из Ваших рук.
(Знаю, что Вы сейчас думаете: не то, это еще для жизни, чтобы как-нибудь жить, это относится к стихам, а не к смерти. Мне просто стыдно просить, не зная, подарите или нет. Ах, я глупее всех семнадцатилетних, которых Вы встречаете!)
_____Вживаюсь в жизнь городка. Здесь старинные люди. Мне подарили платье: синее в цветочках, Dienenkleid {226}, обожаю новые платья, особенно жалобные, — о, я не женщина! — я все ношу, что другим не к лицу!
И еще у меня будет новая сумка, вроде средневекового мешочка, какие — знаете? — на старых картинках у молодых женщин на поясе? Старую (коричневую замшевую) мне подарила Любовь Михайловна [1358], и она мне преданно служила год, а теперь стала похожа на лохматую собаку — или на перчатку для чистки башмаков — я никак не могу расстаться, и все корят.
(Простите за глупости.)
_____Пишите мне в Прагу, 16-го возвращаюсь. Пишите, как писали: настежь. Отвечайте на каждое письмо и любите каждый час своей жизни, мне это необходимо. (NB! Не каждый час своей жизни — а меня!) Меня нужно любить совершенно необыкновенно, чтобы я поверила.
(Я не похожа на нищенку, — а? Но с Вами у меня нет стыда! Я же все время Вас о чем-то прошу.)
_____Недавно я в кофейнике сварила дно спиртовки, которое потеряла, а спирт горел в крышке от пасты для обуви. Когда допила кофейник до дна — обнаружила потерю: страшное черное дно спиртовки (самоё чашечку). — Хороший навар?! — И не умерла.
(Будете ли Вы после этого пить у меня в гостях кофе?)
_____Нежно жму Вашу руку и жду от Вас чудес.
МЦ.Печ. по СС-6. стр. 604–608. См. коммент. к письму 27–23.
54-23. К.Б. Родзевичу
<12 сентября> 1923
ОВРАГ 1. Дно — оврага. Ночь — корягой Шарящая. Встряски хвой. Клятв — не надо. Ляг — и лягу. Ты бродягой Стал со мной. С койки затхлой Ночь — по каплям Пить — закашляешься! Всласть Пей! Без пятен — Мрак. Бесплатен — Бог, — как к пропасти припасть! (Час — который?) Ночь — сквозь штору Знать — немного знать! Узнай Ночь — как воры, Ночь — как горы. (Каждая из нас — Синай Ночью…) _____ 2. Никогда не узнаешь, что́ жгу, что́ трачу (Сердец перебой) На груди твоей нежной, пустой, горячей Гордец дорогой. Никогда не узнаешь, каких не-наших Бурь — следы сцеловал! Не гора, не овраг, не стена, не насыпь: Души перевал! О, не вслушивайся! Болевого бреда Ртуть… Ручьёвая речь… Прав, что слепо берешь. От такой победы Руки могут — от плеч! О, не вглядывайся! Под листвой падучей С кем — и мало ли спим?! Прав, что слепо берешь. Это только тучи Мчат за ливнем косым! Ляг — и лягу. И благо. О, всё на благо! Как тела на войне.— В лад и в ряд. (Говорят, что на дне оврага — Может — неба на дне!) В этом бешеном беге дерев бессонных Кто-то на́-смерть разбит. Что победа твоя — пораженье сонмов Знаешь, юный Давид? [1359] _____10-го — 11-го сентября 1923 г.
МЦ.Друг, совсем нет времени Вам писать, а сказать надо — так много! («Успеете!» — Нет, не успею, потому что потом будет другое. Часы неба и часы души не повторяются.)
Прочтите эти стихи всем существом, как никогда стихов не читали. Вот Вам случай, дружочек, понять за раз и не-случайность слов в стихах, и тяжесть слов «на ветер», и великую разницу сути и отражения, и просто меня, мою живую душу, и очень многое еще.
Будьте внимательны! Заклинаю Вас. Ведь это точнейшее отражение часа, которого Вы участник, — ежели не творец! Это тот самый час — таким, как он навек остался во мне!
_____Думаю о Вас неустанно. Вернусь в понедельник, 17-го, с поездом, выходящим в 10 ч. и приходящим в Прагу в 4 ч. 40 мин. (Тот же вокзал.) Никому не пишу о своем приезде.
Если можете — встретьте меня.
МЦ.12-го сентября 1923 г.
Впервые — Письма к Константину Родзевичу. стр. 25–27. Печ. по тексту первой публикации.
55-23. К.Б. Родзевичу
Моравская Тшебова, 12 bis сентября 1923 г. [1360]
Дорогой Радзевич,
Это — деловое письмо.
Буду в Праге в понедельник, 17-го, в 4 ч<аса> дня с чем-то (не минус что-то!), на Массариковом вокзале, и была бы рада, если бы Вы, оторвавшись от Ваших обычных заседаний и лицемерий, оказались на том же вокзале и в тот же час. Я бы, конечно, могла попросить Катю [1361] или Оболенского [1362], но не скрою, что мне еще раз хочется испытать степень Вашего… нну… благоволения ко мне. (Бедный Радзевич! Благоволение — вещь пространная, степеней и объектов — много, вокзалов в Праге — пять, Ваша жизнь, при счастливом стечении обстоятельств, может обратиться в сплошное расписание поездов!)
_____С делами кончено.
_____Радзевич, у меня новая сумка, — рраз, новая зажигалка — два, новое платье — три (будете в ужасе, в нем приеду), новая душа в теле — четыре, но тут точка, ибо задумываюсь: не новое ли тело — в душе? У нас с Сергеем Михайловичем Волконским одна страсть: перевертывать слова и правды, — мир — навыворот, это и есть революционный темперамент.
_____Это — приобретения. А потери следующие: моя чудная палка [1363], Радзевич, моя чудная палка: плохая, кривая, мокропсинская, преданная, купленная за три копейки у покойника (русского консула), мой верный сподвижник и вожатый, жезл поэта, собака слепца, — словом, моя палка потеряна в лесу, за грибами, и я в отчаянии и никогда не заведу другой.
(Страшит меня немножко и символика: палка — опора, потеря опоры, по ночам просыпаюсь и думаю.)
Вам смешно, потому что Вы не понимаете реликвий (особенно — уродливых!), Вы не понимаете, что вещь создается нашим чувством к ней, а не чувства — вещью. Каждая вещь в свой час должна просиять, это тот час, когда на нее глядят настоящие глаза. Впрочем, это уже перерастает палку.
Но о палке я тоскую и — главное! — в отчаянии, что не хочу другой. Придется мне, из чистой преданности, всю эту зиму тонуть в грязи. Вспомните наши холмы и овраги!
А грибы, из-за которых она потеряна, я ненавижу, смотреть не хочу.
_____А может, это Бог хочет сделать меня женщиной? Ведь палка — мужественность. («Сам обойдусь!») Палку может заменить и рука. Не верю в руку.
_____Простите за вздор. А теперь расскажу Вам одну умилительность. Вчера, выходя от Сережиных друзей [1364], мне пришлось пройти мальчишеским (младшим) дортуаром. Было одиннадцать. Они уже спали. Их много в бараке — человек сорок. Возраст: от семи — до десяти. Сорок стриженых голов: белых, темных, русых, (есть и рыжие!), сорок стриженых спящих голов, — со снами, без снов, под одинаковыми серыми одеялами, на одинаковых плоских подушках, — русские мальчики без России и, что больнее! — маленькие мальчики — без матерей! — и завтра вставать и учиться, и все дни — расти, и после-завтра может быть — воевать!
Радзевич, это было странное чувство: весь жар жалости (может быть, это и есть материнство?!), огромная горячая волна, подступающая к груди, мне не хотелось уходить, я не видела их лиц и не знала их имен, будь я их воспитателем я бы их м<ожет> б<ыть> ненавидела, но здесь, в этот сонный час, лицом к лицу с их сном, — Господи, как легко бы мне было умереть за любого из них!
_____Тоскую по большой вещи, которую хочу писать. Боюсь, что жизнь не даст. А от стихов — усталость, это — раздробленный мир, мир — в розницу, каждый стих — законченный круг, это тысячи жизней, которые живешь, устала дробить. А в большую вещь вовлечься — не то страшно, не то рано. Для большой вещи нужен покой или отчаяние. У меня сейчас ни того, ни другого, смута: разлука с Алей, новый дом, много еще. И отчаянное невежество в греческом быту (как вообще — в быту!)
В Царь-Девице [1365] я выкрутилась, быт дан, но если бы Вы знали, какое это было отчаяние: когда посевы? то же ли самое — филин и сыч? Были ли во времена сказочных царей бутылки? (Или прямо — из бочки?)
То же самое ждет меня с Грецией. Зелинский [1366] (профессор! один из лучших знатоков Греции!) пишет свои мифы, как русскую сказку, я не хочу так, — мне нужны деревья, одежды, здания, всё греческое, кроме души, которая будет моя!
Когда я вернусь в Прагу, милый Радзевич, я взмолюсь к Вам: отыщите мне книгу про Грецию, названия у меня есть. Нужно всё знать, хотя бы для того, чтобы потом — всё отбросить!
_____Кончаю. Ах, еще одно дело, я уже Вам писала: денег пока не пересылайте, если Сереже понадобятся, вышлю потом.
Погода у нас чудная, вчера лазили на какой-то шведский камень, вроде развалин храма, я вспоминала весь свой чудный созерцательный прошедший год, улучив минутку спала на скользкой хвое, под соснами, у Вас душа — Вольтера, у меня — Руссо, этим всё сказано.
(Кстати, вот Вам одна реплика Вольтера. Он всю жизнь пил черный кофе, и вот, когда ему было уже 75 лет, — кто-то из почитателей: «Mais, Monseigneur, c'est un poison!» {227} И он, с тончайшей из своих улыбок: «Au moins — с 'est un poison lent!» {228}
<На полях:>
Шлю Вам привет и благодарность. Поцелуйте за меня Казанову [1367], — на любой из страниц!
МЦ
Впервые — Письма к Константину Родзевичу. стр. 31–37. Печ. по тексту первой публикации.
56-23. <К.Б. Родзевичу>
<Между 10 и 20 сентября 1923 г.>
А теперь я должна Вам рассказать тот сон, давно, среди зимы, который у меня почему-то духу не хватило рассказать Вам в жизни. Мы идем по пустынному шоссэ, дождь, столбы, глина. Вы провожаете меня на станцию, и вдруг — неожиданно, одновременно — Вы ко мне, я к Вам, блаженно, как никогда в жизни! Рассказала — иными словами — В<алентине> Ч<ириковой> [1368]. И та, смеясь: «Бросьте! Он никогда не поймет!» Поймите теперь, что́ я чувствовала день спустя, идя с Вами рядом по мокрой глине, вся еще в том сне, в чувстве его.
Рассказываю Вам теперь, чтобы Вы знали, что есть в мире не только день, но и ночь, не только любовь, но прови́дение, зоркая ночь древних, предвосхищающая (или — предрешающая?) события. Тень опережающая тело. Этот сон в моей жизни ничего не изменил, я переборола ночное наваждение, месяцы шли, мне было всё равно — и вдруг тогда (теперь! но уже тогда), у самой станции, провожая Вас в первый раз: — «Если бы…» Всё вернулось. Та же глина, та же станция, та же я. (Та́ глина, та́ станция, та́ я.) Это был мой сбывшийся сон. Не относитесь легкомысленно. Сны у древних направляли жизнь, а древние были и мудрее и счастливее нас.
Впервые — НСТ. стр. 179. Печ. по тексту первой публикации.
<Вдоль правого поля:> Запись внесенная в тетрадь позже и другим черни-лом, очевидно октября 1923 г.
57-23. <К.Б. Родзевичу>
<Середина сентября 1923 г.>
К тому же:
Для меня — одиночество — временами — единственная возможность познать другого, прямая необходимость. Помните, что я Вам говорила: окунать внутрь и та́к глядеть. Та́к Вас сейчас окунаю. И гляжу. И вижу. Моя задача (о, у Вас тоже есть своя!) доказать Вам нищету мира вещественного: наглядных доказательств. Знаете, иногда я думаю: ведь я о Вас почти дословно могу сказать то, что говорила о Казанове: — «Блестящий ум, воображение, горячая жизнь сердца — и полное отсутствие души». (Раз душа не непрерывное присутствие, она — отсутствие.) Душа это не страсть, это непрерывность боли.
Впервые — HCT. стр. 215. Печ. по тексту первой публикации.
58-23. <А.В. Бахраху>
<Вторая половина сентября 1923 г.>
(Запись невероятно-сокращенная и мелкая, догадываюсь с трудом:)
Если Вы внимательно вчитаетесь в первое после разминовения, очень внимательно, сверх, Вы поймете что в жизни моей не всё как месяц назад. Разбег был взят слишком большой, я уже неслась по пути живого (допелась!) если это был бы столб я бы разбилась. Не хочу договаривать словами, хочу чтобы Вы поняли так, и та́к поняли (правильно). Я могла бы Вас вовсе не мутить, но — здесь всё начистоту, иначе вся встреча не будет стоить ни копейки. (NB! в конце фразы сомневаюсь, прочесть не-возможно, восстанавливаю изнутри и более подходящего (и по виду) не нахожу.) Человек со мной рядом. Ваше дело поставить его — между нами. Счастлива ли я с ним? Да. Пос. ум. (?) <сверху: Посколько умею (?)> Не скрою, напиши Вы мне это, я бы сказала: как я — (?) Посему, если будет — не пишите. Ничего не знаю о будущем — м<ожет> б<ыть> и мост! (т.е. с моста, 1932 г.) Мне нужны руки люб. др. (любого другого?) хотя бы, чтобы в последнюю минуту — столкнул. Этот человек — хороший повод для смерти, всё налицо. Чары чуждости.
Впервые — HCT. стр. 214. Печ. по тексту первой публикации.
59-23. <К.Б. Родзевичу>
<Вторая половина сентября 1923 г.>
Запись — другому.
Веянье севастопольского утра: молодость, свежесть, соль, отъезд. Та́к складывались у меня чувства к человеку. — Господи, научи глядеть вглубь! — А сейчас вспоминаю как и я всегда сердечно удерживала Вас.
(NB! Севастополь: его рассказ. Чувства — м<ожет> б<ыть> о моих к нему в связи с его рассказом. (NB! Я и по сей день способна любить человека «за Севастополь».) Господи, научи — его, конечно (меня, пожалуй — разучи!). Посл<едняя> фр<аза>, очевидно обо мне: как я его, и не любя, сердечно удерживала (NB! любила бы — не удерживала бы!) И уже явно к нему:)
Ваше прошлое, к<оторо>го я не знаю, для меня — клад. Вы пришли ко мне богатым — хотя бы страданиями, к<отор>ые вызывали! унизанный, как жемчугами — слезами оставленных. Пусть всё это не та́к было, я иначе — не увижу!
Впервые — HCT. стр. 214–215. Печ. по тексту первой публикации.
60-23. A.B. Бахраху
Прага, 20-го сентября 1923 г.
Мой дорогой друг,
Соберите все свое мужество в две руки и выслушайте меня: что-то кончено.
Теперь самое тяжелое сделано, слушайте дальше.
Я люблю другого — проще, грубее и правдивее не скажешь [1369].
Перестала ли я Вас любить? Нет. Вы не изменились и не изменилась — я. Изменилось одно: моя болевая сосредоточенность на Вас. Вы не перестали существовать для меня, я перестала существовать в Вас. Мой час с Вами кончен, остается моя вечность с Вами. О, на этом помедлите! Есть, кроме страстей, еще и просторы. В просторах сейчас наша встреча с Вами.
О, тепло не ушло. Перестав быть моей бедой, Вы не перестали быть моей заботой. (Не хочу писать Вам нежней, чем мне сейчас перед Вами и собой можно.) Жизнь страстна, из моего отношения к Вам ушла жизнь: срочность. Моя любовь к Вам (а она есть и будет) спокойна. Тревога будет идти от Вас, от Вашей боли, — о, между настоящими людьми это не так важно: у кого болит! Вы мое дитя, и Ваша боль — моя, видите, я совсем не то Вам пишу, что решила.
_____В первую секунду, сгоряча, решение было: «Ни слова! Лгать, длить, беречь! „Лгать?“ Но я его люблю! Нет, лгать, потому что я и его люблю!» Во вторую секунду: «Обрубить сразу! Связь, грязь, — пусть отвратится и разлюбит!» И, непосредственно: «Нет, чистая рана лучше, чем сомнительный рубец. „Люблю“ — ложь и „не люблю“ (да разве это есть?!) — ложь, всю правду!»
— Вот она. —
_____Как это случилось? О, друг, как это случается?! Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет, и которые я, может быть, в первый раз за жизнь слышу. «Связь?» Не знаю. Я и ветром в ветвях связана. От руки — до губ — и где же предел? И есть ли предел? Земные дороги коротки. Что из этого выйдет — не знаю. Знаю: большая боль. Иду на страдание.
_____Это письмо есть акт моей воли. Я могла бы его не писать, и Вы бы никогда ничего не узнали, одно — здесь, другое — там, во мне (в молчании моем!) все сживается и спевается. Но те же слова — двум, «моя жизнь» — дважды, — нет, я бы почувствовала брезгливость к себе. Мальчик, я Вас чту, простите мне эту рану.
_____Теперь, главное: если Вы без меня не можете — берите мою дружбу, мои бережные и внимательные руки. Их я не отнимаю, хотя они к Вам и не тянутся… «влеченье — род недуга» [1370]. Недуг прошел, болезнь прошла, — ну, будем правдивы: женская смута прошла, но…
Jener Goldschmuck und das Luftgewürze, Das sich täubend in die Sinne streut, — Alles dieses ist von rascher Kürze, — Und am Ende hat man es bereut! {229} [1371]Друг, я Вас не утешаю, я себя ужасаю, я не умею жить и любить здесь.
_____Я совсем не знаю, как Вам будет лучше, легче, — совсем без меня, или со мной не-всей, взвесьте, вслушайтесь. Я Вас не бросаю, я не могу бросать живое. Ваша жизнь мне дорога, я бережна к ней. Я люблю Вас как друга и еще — в полной чистоте — как сына, Вам надо расстаться только с женщиной во мне, с молодой и совершенно потерянной женщиной. Кончился только наш час.
Все это не в утешение и не во оправдание, знаю, что безутешны и знаю, что мне оправдания нет. Я не для себя хочу себя настоящей в Ваших глаза, — для Вас же!
«Было — прошло». Да разве Вы бы этому поверили?! Я не хочу, чтобы мое дорогое, мое любимое дитя, моя боль и забота — деревцо́ мое! — Вы, которого я действительно как мать люблю, я не хочу, чтобы Вы 20-ти лет от роду — та́к разбились! Вы бы тогда выздоровели сразу («связь», «синица в руках» и пр.) — я, всей любовью моей, заставлю Вас выздороветь иначе.
Мы не расстались, мы расстались здесь, где мы, слава Богу, с Вами и не были, но куда мы шли. Я останавливаю Вас: конец! Но конец земной дороги друг к другу тел, а не арке друг к другу — душ. Это Вам ясно?
_____О письмах. Всё предоставляю Вам. Я уже не вправе ни направить, ни советовать. Если Вам легче с моими письмами, — пишите, буду отвечать. Может быть Ваша любовь ко мне больше жизни, м<ожет> б<ыть> Вы старше и мудрей, чем я думаю, м<ожет> б<ыть> Вы без меня не не-можете, а: не хотите! Быть — Вам — сейчас — со мной — можно и от слабости — и от силы. А м<ожет> б<ыть> все это (вся я!) сгорит в простой земной мужской ревности, — не знаю. Принимаю всё.
_____Если Вам захочется (понадобится) мне на это письмо ответить, пишите мне по адресу:
Praha Břevnov
Fastrova ulice, č<islo>. 323
Slečna, K. Reitlingerova [1372].
Письмо это уничтожьте. (Заклинаю Вас!) В свой час оно меня погубит.
Будьте бережны! В своем ответе (если будет) не упоминайте ни одной достоверности, касающейся моего — сейчас — часа. Пишите та́к, чтобы я все поняла, другие — ничего. (Письмо буду читать одна, как и пишу его одна.) Передачи мне не упоминайте, только крестик, как у меня.
_____Я только предупреждаю. М<ожет> б<ыть> Вы мне совсем не ответите, м<ожет> б<ыть> легче будет дать зажить в молчании. Я на Вас утратила все права. Вы, кроме одного (моя!) сохраняете все.
Любите или забудьте, пишите — или все сожгите с этим письмом, даю Вам все исходы. Сейчас я не вправе думать о себе.
_____Не уезжайте в Россию.
_____И чтобы я всегда знала, где́ Вы.
_____Еще одно: если все это не случайность — Рок еще постучится.
Бо́льшего сказать Вам не смею.
МЦ.И, если всё кончено — спасибо за всё!
Печ. по СС-6. стр. 608–611. См. коммент. к письму 27–23.
61-23. А.К., В.А. и О.Н. Богенгардтам
Прага, 21-го сент<ября> 1923 г.
Дорогие
Антонина Константиновна, и Ольга Николаевна, и Всеволод Александрович,
(а Всеволод после всех! Но это не оттого, что я его меньше всех люблю!)
Я люблю вас всех одинаково: всех по-разному и всех одинаково: Антонину Константиновну за вечную молодость сердца, Ольгу Николаевну за веселое мужество жизни, а Всеволода — просто как милого брата, совсем не смущаясь, хочет ли он такой сестры.
_____Во время дороги не разжала зубов: весь вагон уже говорил по-чешски. Стояла у окна, курила и ела чудные сливы и груши из рыжего мешка, не решаясь никого угостить, хотя и противоестественно есть одной. (В этом я — не дикарь!)
Пересела благополучно, на вокзале меня встретили. Но на следующий день уже замотала ключи (очевидно, провалились сквозь дыру в Сережином портфеле, который я, за отсутствием владельца, торжественно таскала с собой всюду, в надежде быть принятой за студента).
Других бед пока не было (тьфу, тьфу, не сглазить!)
_____А вот странный сон, который мне нынче приснился, господа, подумайте и напишите, кто́ ка́к толкует:
Иду с несколькими людьми по улице, вдоль белой стены. Навстречу — не то кривляка, не то убогий: волосы, как пакля, гримасное лицо, ужимки. Протягивает огромную красную розу и называет какую-то весьма скромную цену (лиру). Беру ее — и — мгновенно роза истлевает, скрючивается, желтеет и тоже гримасничает, как то лицо.
И я, почему-то по-итальянски: «Ma questo non é più una rosa!» (Но это уже не́ роза) и еще что-то. Но его уже нет, не взяв лиры, исчез. Цветок у меня в руке и я в ужасе: куда с ним? (Бросить почему-то не решаюсь.) И вижу: над стеной — Распятие, Голгофа, Христос и разбойники. Хочу было Христу, но… ведь это же не роза! Это явная мерзость. Тогда — разбойнику. Но разбойник Христом прощен! Тогда, отчаявшись, кладу ее к подножью креста, верней — у самой стены, — и голос:
«Будет беда на двенадцать Евангелий».
Смотрю: в стену вделана икона, — должно быть икона 12-ти Евангелий. (Есть такая?) И просыпаюсь.
_____Господа, непременно подумайте, мне такие явные сны редко снятся, неприятное чувство.
_____От Али получила длинное хорошее письмо, она знает, как мне надо писать. Если бы она так же писала в тетрадку, я была бы очень довольна. С восторгом сообщает о карманной чернильнице. — Спасибо! —
А та́ барышня, действительно, Романченко, только не дочка врача, а сестра одного пражского студента [1373], прелестного юноши, которого я очень люблю. Она не так давно приехала из Киева.
_____Антонина Константиновна, были ли в гостях у наших хозяек? Соберитесь как-нибудь с Алей, Аля будет беседовать с девицей по-чешски, Вы с вдовой по-немецки. И непременно попросите показать альбомы, или пусть Аля попросит. — Повеселитесь. —
_____С любовью вспоминаю свою Моравию, — ах, как жесток и дик моим ушам и устам чешский язык! Никогда не научусь. И, главное, когда я говорю, они не понимают!
Целую всех троих нежно. Предателю-Жуку — рукопожатье.
Мой привет обоим Николаям Николаевичам [1374]. Аля пишет, что подружилась с дочкой Евреинова [1375], — хорошая девочка?
Спасибо за всю ласку.
МЦ.Впервые — ВРХД. 1992. № 165. стр. 169–170 (публ. Е.И. Лубянниковой и H.A. Струве). СС-6. стр. 644–645. Печ. по СС-6.
62-23. К.Б. Родзевичу
Суббота, 22 сентября 1923 год
Мой дорогой.
Исполняю не Вашу просьбу, а свою жажду: пишу Вам — и счастлива тем, что в этот час одна. (И вот, и́знизу, вступительные аккорды часов: семь.) Семь часов. Мне спокойно, я с Вами.
Вы сейчас сидите над какой-нибудь книгой — ах, все книги какие-нибудь, когда не можется их читать! — а Вам сейчас не можется, как будет еще не-мочься много дней! — потому что Вам можется только ко мне, со мной. — Откуда я это знаю?
Я знаю многое, чего не знала вчера, и завтра узнаю многое, чего не знаю сегодня, я, в каком-то смысле im Werden {230}, — жаль, что такой короткий срок! Но не будем о сроках.
Арлекин! [1376] — Та́к я Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть — Пьеро! Я в первый раз люблю счастливого, и может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня — хаос! — а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку право выбора: или всё — или ничего, но в этом всё — как в первозданном хаосе — столько, что немудрено, что человек пропадал в нем, терял себя и, в итоге меня. Другой должен быть Богом, Бог свет отделил от тьмы, твердь от воды, «ветру положил вес и расположил воду по мере» (Библия, книга Иова) — другой должен создавать нас из нас же (о, не из себя!) и возможно это, конечно, только через любовь. Любовь: Бог. До Вас это у меня звучало: любовь: болезнь. Отсюда и наваждение, и очнуться, и разорванность, и после разорванности (дабы спастись от нее!) оторванность (мое отрешение).
Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Всё любили, всё любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я билась, я не умела с живыми! Отсюда сознание: не-женщина, дух! Не жить — умереть. Вокзал.
_____Милый друг, Вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и все-таки ни часу не сумела жить. Это была — чужая страна. О, я о Жизни говорю с заглавной буквы, — не о той, петитом, которая нас сейчас разлучает! Я не о быте говорю, не о маленьких низостях и лицемериях, раньше я их ненавидела, теперь просто — не вижу, не хочу видеть. О, если бы Вы остались со мной, Вы бы научили меня жить — даже в простом смысле слова: я уже две дороги знаю в Праге! (На вокзал и в кастёл). Друг, Вы поверили в меня, Вы сказали: «Вы всё можете», и я, наверное, всё могу. Вместо того, чтобы восхищаться моими земными недугами, Вы, отдавая полную дань иному во мне, сказали: «Ты еще живешь. Так нельзя», — и так действительно нельзя, потому что мое пресловутое «неумение жить» для меня — страдание. Другие поступали как эстеты: любовались, или как слабые: сочувствовали. Никто не пытался изменить. Обманывала моя сила в других мирах: сильный там — слабый здесь. Люди поддерживали во мне мою раздво́енность. Это было жестоко. Нужно было или излечить — или убить. Вы меня просто полюбили.
_____Чуждость и ро́дность. Родного не слушаешься, чужому не веришь. Родной: тот, кто одержим нашими слабостями. Чужой: тот, кто их не понимает. Вы, понимая, не одержимы — Вы один мне могли помочь! (Пишу и улыбаюсь: Вы в роли врача души!.. Но Бог ходит разными путями!.. Ко мне, очевидно, иного не было.)
О, Господи, в этом-то и вся прелесть, вся странность нашей встречи: непредугаданность добычи. Всё равно, как если бы шахтер искал железо и открыл золото! Что меня толкнуло к Вам? Очарование. То есть:
Jeder Goldschmuck und das Luftgewürze Das sich täubend in die Sinne streut… {231} [1377]Нет, пример не верен: я искала золото и нашла живую воду, — о, в воде тоже золото! и серебро! — я ни от чего не отрекаюсь! Вода играет и сияет и, всё принимая, всё несет. Милый врач души, все чары пре́были.
Да, да, одному, чтобы прийти к Богу (единству) нужен столпник, другому — проходимец. (Моя нежность, не обижайтесь, еще неизвестно, что у Бога больше в цене! У столпника — хоть столб есть, у проходимца — только прохождение: МИМО!)
_____
Люблю Ваши глаза. («Я люблю свои глаза, когда они такие!» И собеседник, молча: «А они часто бывают такие?» Люблю Ваши руки, тонкие и чуть-холодные в руке. Внезапность Вашего волнения, непредугаданность Вашей усмешки. О, как Вы глубоко-правдивы! Как Вы, при всей Вашей изысканности — про́сты! Игрок, учащий меня человечности. О, мы с Вами, быть может, оба не были людьми до встречи! Я сказала Вам: есть — Душа, Вы сказали мне: есть — Жизнь.
_____Всё это, конечно, только начало. Я пишу Вам о своем хотении (решении) жить. Без Вас и вне Вас мне это не удастся. Жизнь я могу полюбить через Вас. Отпу́стите — опять уйду, только с еще бо́льшей горечью. Вы мой первый и последний ОПЛОТ (от сонмов!). Отойдете — ринутся! Сонмы, сны, крылатые кони…. И не только от сонмов оплот: от бессонниц моих, всегда кончающихся чьими-то губами на губах.
Вы — мое спасение и от смерти и от жизни, Вы — Жизнь (Господи, прости меня за это счастье!)
_____Воскресение, нет — уже понедельник! — Зий час утра.
Милый, ты сейчас идешь по большой дороге, один, под луной. Теперь ты понимаешь, почему я тебя остановила на: любовь — Бог. Ведь это же, точно этими же словами, я тебе писала вчера ночью, перечти первую страницу письма.
Я тебя люблю.
Друг, не верь ни одному моему слову насчет других. Это — последнее отчаяние во мне говорит. Я не могу тебя с другой, ты мне весь дорог, твои губы и руки так же, как твоя душа. О, ничему в тебя я не отдаю предпочтения: твоя усмешка, и твоя мысль, и твоя ласка — всё это едино и неделимо, и не дели. Не отдавай меня (себя) зря. Будь мой.
Беру твою черную голову в две руки. Мои глаза, мои ресницы, мои губы (О, помню! Начало улыбки! Губы чуть раздвинутые над блеском зубов: сейчас улыбнетесь: улыбаетесь!)
Друг, помни меня.
Я не хочу воспоминаний, не хочу памяти, вспоминать то же, что забывать, руку свою не помнят, она есть. Будь! Не отдавай меня без боя! Не отдавай меня но́чи, фонарям, мостам, прохожим, всему, всем. Я тебе буду верна. Потому что я никого другого не хочу, не могу (не захочу, не смогу). Потому что то́ мне дать, что ты мне дал, мне никто не даст, а меньшего я не хочу. Потому что ты один такой.
_____Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так: моя голова на твоем плече, ты что-то говоришь, смеешься. Беру твою руку к губам — отнимаешь — не отнимаешь — твои губы на моих, глубокое прикосновение, проникновение — смех стих, слов — нет — и ближе, и глубже, и жарче, и нежней — и совсем уже невыносимая нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь.
Прочти и вспомни. Закрой глаза и вспомни. Твоя рука на моей груди, — вспомни. Прикосновение губ к груди.
_____Друг я вся твоя.
_____А петом будем смеяться и говорить и засыпать, и когда я ночью сквозь сон тебя поцелую, ты нежно и сразу потянешься ко мне, хотя и не откроешь глаз.
М.23 сентября 1923 г, понедельник.
Утро. — Дым и шум города. — Два письма от Сергея Михайловича. Перечитываю свое вчерашнее письмо: это не ночной угар, это Ночь. Ни от чего не отрекаюсь.
Ах, я счастлива, сегодня проснувшись вдруг поняла: «Не буду без тебя! Не выйдет без тебя!» Подробности моих мыслей узнаете, сейчас 10 ч. утра, до Вас еще пять часов. Друг, буду ждать Вас пять веков — только Вы бы были моим!
О, как мы с Вами будем жить! Хорошо, что не сразу. Эти несколько месяцев — испытание. Мы что-то сделали со временем, душа как всегда опередила, предвосхитила, — время должно нагнать. Знаете, сколько всё это длится? Четыре тогда, семь сейчас, — одиннадцать дней.
_____Сегодня буду читать Вам Волконского. Чувство, что это — на каком-то другом языке — я́? писала. Вся разница — в языке. Язык — примета века. Суть — Вечное. И потому — полная возможность проникновения друг в друга, вопреки розни языка. Суть перекрикивает язык. То же, что Волконский на старомодно-изысканном своем, державинско-пушкинском языке — о деревьях, то же — о деревьях у Пастернака и у меня — на языке своем. Очкую ставку {232}, — хотите? Каким чудом Волконский ПОНИМАЕТ и меня и Пастернака, он, никогда не читавший даже Бальмонта?! (Радзевич, Радзевич, дело не в стихотворной осведомленности! Вы к Rilke не были подготовлены, Rilke пришел и взял Вас, поэты — это захватчики, к ним не готовятся и с ними не торгуются!)
От писем Волконского во мне удивительный покой. Точно дерево шумит. Поймите меня в этой моей жизни!
_____Сейчас я шла по нашей лестничной улице, (опять с Вашей стороны), рабочие гремели молотками, женщины покупали капусту, я чувствовала законность утра и забот, благость начинающегося дня. (NB! Хороши бы мы с Вами были вчера, в моем овраге, под дождем! Вы бы меня про́кляли! Я еще не спала, когда хлынул дождь, и сначала не поняла, думала: кровь в ушах… А потом ясно: дождь, и мысль: успел дойти? И улыбка — если не успел!)
О дне. Прожигать с Вами дни, — я бы этого вовсе не хотела. У всего в человеке — свой час, у всякого часа — свой закон. Утро: одиночество, труд, добыча. (Добываешь — только когда работаешь, работа и есть добыча, в эти часы душа растет). День: дела (у Вас), бродяжничество — у меня: набережные, овраги, пустые улицы, мысли о стихах. А с сумерками — люди, тот или другой, это час траты (растраты — не надо! Растрачиваешься в одном, коим и восполняешь. Любовь: единственное perpetuum mobile!).
Люди, музыка, огни на улицах, может «Wienerblut» {233}, может Бах, — ах, мы с Вами вне лицемерия, и час на час не приходится! А еще поздней — дом (это я́? говорю! Сло́ним бы обрадовался) — только одно бы мне с Вами было трудно: расставаться, чтобы спать.
(«Rien ne pouvait la consoler du chaqrin d'aller se coucher!» {234} Один — об одной. Письмо XVIII в.)
_____А путешествия, дружочек! Вокзалы, вагоны, перроны (багажей бы не было!) лихорадка касс и глаз, чувство, что отрываешься! Лбы вдавленные в оконную синь! Первые тяжелые повороты колес. Свист вырывающегося пара. — Дорога! —
Как я всё люблю — из окна! Мост, откос насыпи, чахлую травку сквозь шпалы (милая трава!) задымленные деревья, белье, треплющееся на заборах… А вода — какое освобождение! Ты только тогда понимаешь, как тебе хотелось пить! И всё это — в глаза, уши, в ноздри: свет, звук, запах, вся Жизнь — разом! (Вспомните, что Вы говорили о стихах: об единовременности их действенности. То же — о дороге).
Мы бы с Вами поехали в Египет — непременно. Не к мумиям и не непременно к пирамидам, а просто к Нилу, в котором вода как расплавленное зеленое стекло. К тем деревьям, не похожим на наши, но все-таки растущим на нашей планете, — ведь обидно уйти, всего не взяв!
И еще в Грецию: на Наксос, к Ариадне. Под миртовое деревце, к Федре. В Трою (которой нет!) к Елене. Вы — к Елене, я — к Ахиллу. Нет, Вы тоже к Ахиллу!
Под зна́ком Трои сейчас идет моя жизнь. Книги не случайны. Я прожила до тридцати лет (Вас огорчает мой возраст?) и не знала Трои. Мне было смутно от этого слова: какие-то войны, заведомо не пойму. Я сторонилась Трои и скучала от этих нескончаемых имен: А-га-мем-нон, Кли-тем-нест-ра, что-то вроде костей и мощей, какие-то древние добродетели, — и вдруг: Елена! Пожар! Всколы́хнутое море и небо! Война богов! Ахилл над телом Патрокла!
Господи, какое это счастье всё любить — в одном!
_____Друг, это не последний день. Если бы это был последний день — я бы так не писала. Мы в начале встречи, помните это. Не надо спешки, не хочу задыхаться, хочу глубокого вздоха. Друг, это не последний вздох! Не надо так. Надо верить, надо, надо глубоко глядеть: Вам — в себя, мне — в Вас (и тоже — в себя!), надо дать чему-то утихнуть, осесть. Водоворот может быть мелок. Проверим дно. Вы — моряк. Мне ли Вас учить?
_____Не слушайте моих отчаяний. Это — только любовь! У меня бывают часы бреда, это горячка души, в такие часы будьте врачом. Лечите — верой. Ведь это как на качельной доске: одно неверное движение — и другой летит! У нас, помимо любви, должно быть смертное содружество акробатов! В моих руках — Ваша жизнь и в Ваших — моя. То́лько так.
Впервые — Письма к Константину Родзевичу. стр. 41–53. Печ. по тексту первой публикации.
63-23. К.Б. Родзевичу
25 сентября 1923 г.
Вы получите это письмо утром, прошу Вас: отложите его до вечера, до часа наших встреч. Это не письмо, это слова вслух, говорю их Вам, а не пишу.
«Есть ча́с — на те слова!» [1378]О, многое у меня в стихах бессознательно предвосхищено, я так хочу, чтобы Вы знали мои стихи. Когда это всё будет?!
Итак, вложите письмо обратно в конверт, свое внимание — обратно — в Догму. День — час римских прав, ночь — райских. (Каждая удачная игра слов — глубокая правда!)
И вот, в час райских правд, а — может быть — земных… (Что́ — может быть — не меньше…)
Только ада не нужно, где всё сгорает!
_____Дорогой друг,
Перечитываю сегодняшнюю ночь и вношу в неё следующие поправки. Начало и не-конец (единственное, где конец быть должен!) никогда не конец, но всегда начало, — вот самая точная правда о моих прошлых днях и годах и, думаю, единственная разгадка моего усугубленного одиночества в любви.
Ведь и музыку слушая (а здесь — огромные соответствия!) ждешь конца (разрешения) и не получая его — томишься. (Томление: весь Скрябин). Не могла я, музыкальная в основе и, может быть, в замысле своем больше музыкант, чем поэт, не томиться и здесь по разрешению. Но почему никогда не: «Подожди». О, никогда, почти на краю, за миллиметр секунды до, — никогда! ни разу! Это было нелегко и это совсем не походило на то, что я Вам говорила (не ложь, некое исступление гордости, сразу не привыкаешь, простите) — но сказать мне — чужому, попросить — мне, та́к ввериться, нет, я предпочитала — впрочем, и предпочтения не было: другой — чужой, другому до меня нет дела. Недоверие? Гордость? Стыд?
Всё вместе. Очевидно, мало любили. Очевидно, мало любила. Может быть много — но не так (Я.) Может быть много, но не те. Это самая смутная во мне область, загадка, перед которой я стою, и если я это никогда не считала страданием, то только потому что вообще считала любовь — болезнью, в которой стараний не считают.
_____Оцените еще такую странность: с подругой я всё знала полностью, почему же я после этого влеклась к мужчинам, с которыми чувствовала несравненно меньше? Очевидно, голос природы, тайная надежда получить всё это — и несравненно больше! — от друга, — чудом каким-то, в которое я не верила, п<отому> ч<то> никогда не сбывалось! Я хотела достичь этого как-то помимо, без ведома, без участия другого, не хватало последнего доверия (Дай! Мой!) — я просто не вводила другого в круг своих (этих) чувств. Но тоска была, жажда была — и не эта ли тоска, жажда, надежда толкнула меня тогда к Вам, на станции? Тоска по довоплощению. Не зная главного, — ведь я не человек!
Но… отыгрывалась шуткой. Это то, что я привыкла таить даже от себя. (При таком богатстве — такое нищенство! Нет, тогда скажем: то — не в счет, si peu de peine et tant de plaisir {235}, — просто нет!) Отсюда и количество встреч, и легкое расставание, и легкое забвение. В худшем случае я ведь теряла только то, что можно унести с собой: душу другого, — которую и уносила. Просто, я никому не принадлежала, ничьей не была.
_____Пишу Вам всё это, чтобы не сочли меня ни проще, ни моложе, ни бесстрастней (м<ожет> б<ыть> это всё — качества?!) — это сложнее, чем я Вам говорила и может б<ыть> важнее для меня, чем я до сих пор хотела знать сама. Это была жажда, в утоление которой я не верила, вот.
И в этом также я с Вами только в начале пути.
Здесь Вы, как в вопросе меня и внешней жизни, врач души, потому что это прежде всего — болезнь души: безумие гордости или как еще назовете.
Ваше дело сделать меня женщиной и человеком, довоплотить меня. Сейчас или никогда. Моя ставка очень велика.
_____Перечитываю: выходит как будто меня нет. И вспоминаю такой стих 1916 г. (Есть в Психее, Психею подарю.)
…Огни — как нити золотых бус. Ночного листика во рту — вкус. Освободите от дневных уз — Друзья, поймите, что я вам — снюсь! [1379]В этом тоже была услада. И, помня ее, так оборачиваю к Вам этот стих:
Наложите ночные узы!Только что письмо. Встречаю сегодня. В душе всё перемучено и перекручено. Мне на плечи рухнуло целое новое небо (В Вас гляжу как в беспредельность)
Любите меня.
М.Этот document féminine {236} прошу уничтожить.
Впервые — Письма к Константину Родзевичу. стр. 57–61. Печ. по тексту первой публикации
64-23. A.B. Бахраху
Прага, 25-го сентября 1923 г.
Дорогой друг,
Вы не поняли моего письма, Вы его невнимательно читали. Вы не прочли ни моей нежности, ни моей заботы, ни моей человеческой боли за Вас, Вы даже не поняли меня в моем: «да разве это так важно — кому больно?!» — ощущение чужой боли как своей — все это до Вас не дошло. Вы сочли меня проще, чем я есмь.
И одна крупная наивность: «Вы разбили меня, лишив себя и больше, чем себя: лишив того, чем я мыслил Вас, чем знал Вас».
Значит я, только потому что я рванулась к другому — другая? А до встречи с Вами (возьмите «Психею») я не рвалась? Да что же я иного за всю мою жизнь делала?!
— Да, еще писала стихи. —
_____Счастье для Вас, что Вы меня не встретили. Вы бы измучились со мной и все-таки бы не перестали любить, потому что за это меня и любите! Вечной верности мы хотим не от Пенелопы, а от Кармен, — только верный Дон-Жуан в цене! Знаю и я этот соблазн. Это жестокая вещь: любить за бег — и требовать (от Бега!) покоя. Но у Вас есть нечто, что и у меня есть: взгляд ввысь: в звезды: там, где и брошенная Ариадна и бросившая — кто из героинь бросал? [1380] Или только брошенные попадают на небо?
Взгляд ввысь, это — взгляд сверху. Посмотрите на мою жизнь сверху: благо, не осуждающе, провидяще, не вплоть. Вспомните, что это я. которую Вы любите, тогда Вы все иначе поймете. «Научиться жить любовным настоящим человека, как его любовным прошлым», — вот то́, чего я себе, уже 20-ти лет, от любви желала. Вы берете это как потерю, возьмите это как лишний захват.
_____Я расту. Для роста — все пути хороши. Наипростейшие — наилучшие. Это не жестокость во мне говорит, это вера в Вашу раннюю мудрость и большую доброту. Та́к Вы меня никогда не потеряете. Сделайте мою боль своей, как я уже делала своей — Вашу, будем друзьями. Это не так мало, когда это я́ говорю.
_____Есть мир, где мы с Вами встречаемся: песня!
…Слово — чистое веселье, Исцеленье от тоски… [1381]Буду пересылать Вам свои стихи: преображенную — настоящую! жизнь, буду писать Вам. Есть мир просторов.
О себе писать не буду, о своем — да, с радостью и с нежностью. Будьте моим союзником, у меня мало друзей: за всю жизнь — м<ожет> б<ыть> трое, из которых одному 65 лет, другой бе́з вести, о третьем больше года ничего не знаю [1382]. — Видите! — Земные дороги не так богаты.
_____Как меня трогают Ваши строки из Пушкина. Вы, действительно, живете стихами, и, может быть, мой лучший читатель. Стихи — разве это так мало в моей жизни? Без них бы меня не было. Будем встречаться здесь.
_____Все это при условии: если Вам так лучше. Этого у меня нет: из жадности длить, держать, хранить. К Вам я бережна. А о том, что Ваши письма не мной одной будут читаться, — бросьте! Вы знаете, что это не так.
Пишите на Fastrova ulice, как последнее письмо. Адрес на обороте [1383]. Иногда — на Smichov, чтобы не было странным, почему вдруг замолчали. Ваши письма мне дороги. А одна строчка — прямо пронзает мне душу! Но об этом не должно, не можно.
МЦ.Печ. по СС-6. стр. 611–613. См. коммент. к письму 27–23.
65-23. A.B. Бахраху
Прага, 27-го сентября 1923 г.
Милый друг,
Мне хочется перед Вашим отъездом [1384] сказать Вам еще несколько слов. Нет внешних отъездов, для меня и поездка на трамвае в «Русский Дом» за иждивением — событие (почти всегда болевого порядка, на радость я мало восприимчива: как-то тупа). И так как мы с Вами похожи, говорю Вам: Париж Вам ничего не даст, кроме Вас же, нового Вас. (Которого по счету?! Это я Ваши слова о глазах вспоминаю.)
Я была в Париже в первый раз 16-ти лет, одна: взрослая, независимая, суровая. Поселилась на Rue Bonaparte из любви к Императору и, кроме N [1385] (торжествующего NON {237} всему, что не он) в Париже ничего не увидела. Этого было достаточно.
Второй раз я была там с Сережей, уже замужем, очень молодая (лет 18-ти, должно быть!) — и жалела то́т свой Париж.
Пойдите во имя мое на Rue Bonaparte и вспомните меня, 16-летнюю [1386]. Только не умиляйтесь, я совсем не была умилительной, я была героичной: то есть: бесчеловечной.
_____Я сейчас накануне большой вещи, это меня радует и страшит [1387]. Вспоминаю слово (Бальзака, кажется?) по поводу новой работы: «On la commence avec désespoir, on la quitte aves regret» {238}. (Только не la, a le, потому что travail {239} — le, a если: oeuvre {240} — то все-таки la).
_____Я совершенно зачарована Вашими строками о Мариуле. Откуда? Из «Цыган»?
Только одна странная оплошность:
«И ваши сени кочевые В пустынях не спаслись от бед. И всюду страсти роковые, И от судеб спасенья нет».Конечно — спасенья, а не защиты, как у Вас (у Пушкина?) [1388]. Если даже у Пушкина, все равно каждый, говоря, бессознательно заменит «спасенье», и будет прав, п<отому> ч<то> это — правда стиха. Согласны? Если не лень, проверьте и напишите.
_____Возвращаюсь еще к Вашему письму. Вы пишете: на 22-ом году жизни пора бы знать. Ничего не пора, п<отому> ч<то> это — я. Здесь и 72-летний задумается. Я Вам уже давно писала: мой опыт (т.е. опыт со мной) Вам не послужит, ни благой, ни болевой, — это все зря, не применительно, единственный случай. Вы со мной ничему не научитесь, что могло бы Вам послужить в жизни. (Боль тоже служит.) Кроме того, есть какая-то низость в опыте, основная ложь.
_____У меня есть друг в Праге, каменный рыцарь, очень похожий на меня лицом [1389]. Он стоит на мосту и стережет реку: клятвы, кольца, волны, тела. Ему около пятисот лет и он очень молод: каменный мальчик. Когда Вы будете думать обо мне, видьте меня с ним.
_____Пишите мне обо всех событиях Вашей жизни. О дружбах, встречах, книгах, писаниях. Присылайте мне все, что будете писать, не отговаривайтесь случайностью написанного: ne peut pas qui vent! [1390] Случай — повод для нас самих. Не все ли равно: о Степуне или о японском землетрясении [1391], лишь бы по поводу частности найти (сказать) вечное. Вспомните слова Гёте:
«Jedes Gedicht ist ein Gelegenheitsgedicht» {241} [1392].
И это Гёте говорил, муж Рока!
_____Моя горка рыжеет. С нее город — как море. Я редко бываю в городе, только в библиотеке, где читаю древних. О, если бы монастырскую библиотеку! С двумя старыми монахами, такими же сухими, как пергаментные то́мы, над коими они клонятся! И мощеный садик в окне! Я не умею читать на людях, ведь даже улыбнуться нельзя.
Аля в Моравии, пишет мне письма. Вчера я отослала ей ее любимую куклу: мулатку, по имени Елена Премудрая, в синем эскимосском одеянии и с настоящей тоской в великолепных карих глазах.
Аля пишет: «Здесь про каждую новенькую спрашивают: „Хорошенькая? Кокетливая? Танцует?“ — Скучно, —»
Меня умилили эти два тире, в них вся беспредельность жизненной скуки. Направо и налево. А я — посредине.
_____Итак, дружочек, пишите. Шлю Вам свою нежность и заботу и все пожелания на Париж.
Надеюсь, что это письмо Вас еще застанет.
МЦ.Пишите по двум адресам, как найдете нужным:
Praha Smichov
Švedska ul<ice>, č<islo> 1373
_____Praha Břevnov
Fastrova ul<ice>, č<islo>. 323
Slečna
K. Reitlingerova X.
Печ. по СС-6. стр. 613–615. См. коммент. к письму 27–23.
66-23. A.B. Бахраху
Прага, 29-го сентября 1923 г.
Пишу поздно ночью, под звуки ресторанной музыки, доносящ<иеся> из окна. (У нас сегодня национальный праздник.) Пишу в постели. Хотела читать Грецию, взяла Ваше письмо — и не смогла. Началось думаться в ответ, многое верно встало.
Думаю, первое письмо (первое после) больше акт моей воли, чем крик души. Надо (вообще) чтобы человек знал, не мне надо, а вообще, на земле — надо. И вот, написала.
Теперь, внимательно — что изменилось? (И, опуская все:) Будущего нет? Но ——— Больше этих трех тире не скажу. Нет, скажу: в будущем волен Бог, никак не мы, особенно не я, никогда ничего не строящая. Что я о Вас думаю, что я в Вас верю — Вы видите. Вы в начале осуществления чуда: безмерной любви, ибо Ваша любовь сейчас ко мне от силы, а не от слабости. «Я безоружен» — говорят ли так слабые? Да, слабые в мирах сих, к коим и я принадлежу, старшие своих лет — с колыбели! Старшие ревности (собственности), старшие гордости. Я Вас сейчас вижу большим и мудрым, а если Вы и клянете меня, то не меня — Жизнь, всю, ее жестокость, в которой я неповинна.
Вот это чувство невинности — моей и Вашей —
_____Вы говорите: женщина. Да, есть во мне и это. Мало — слабо — налетами — отражением — отображением. Скорей тоска по, — чем! Для любящего меня — женщина во мне — дар. Для любящего ее во мне — для меня — неоплатный долг. Единственное напряжение, от которого я устаю и единственное обещание, которого не держу. Дом моей нищеты. О, я о совсем определенном говорю, — о любовной любви, в которой каждая первая встречная сильнее, цельнее и страстнее меня.
Может быть — этот текущий час и сделает надо мной чудо — дай Бог! — м<ожет> б<ыть> я действительно сделаюсь человеком, довоплощусь.
Друг, друг, я ведь дух, душа, существо. Не женщина к Вам писала и не женщина к Вам пишет, то́, что над, то, с чем и чем умру.
_____
Гадали? Напишите подробно гаданье, дословно, если помните. И никогда не смейтесь, когда гадаете. Это ведь — от Гекаты, богини тьмы.
_____Вы пишете: не усугубляйте боли! И за три строки до этого: хочу забыть. Выбор, стало быть, мой: нет, пока я Вам необходима и пока я Вас не отпускаю. Нищая там, я безмерно богата здесь (в заочном!) — хватит и нежности и мужества, я от Вас не отступаюсь, отступлюсь лишь тогда, когда Вы сами отпустите.
Никаких «последних слов». Это письмо не последнее и последнего никогда не будет, если этого — как-то помимо слов убедительно — не потребуете Вы́!
То, что Вы теряете во мне, очень мало, говорю это от всей чистоты сердца. (— «Но — Ваше!») Да, на это ничего не могу ответить, хотя менее мое, чем все другое. Не мой дом.
_____Сегодня слушала орган в костеле, потом военную музыку на плаце дворца и — сейчас — последнее веселье предместья. Такие жалкие звуки. Здесь умеют любить.
_____29-го сент<ября>, утро.
Никакая страсть не перекричит во мне справедливости. Plus fort que moi {242}. Отсюда все мои потери. Мужчины и женщины беспощадны, пощадны только души. Делать другому боль, нет, тысячу раз лучше, терпеть самой, хотя рождена — радоваться. Счастье на чужих костях, — этого я не могу. Я не победитель.
(Говорю самое глубокое о себе, что знаю.)
Делаю боль, да, но ТАК страдаю сама, что никакая безмерность радости не зальет. Радуюсь, закрыв глаза и зажав уши, стиснув зубы — радуюсь. (— Господи, не очнуться!)
_____И еще о другом: творчество и любовность несовместимы. Живешь или там или здесь. Я слишком вовлекаюсь. Для того, чтобы любить мне нужно забыть (всё, т.е. СЕБЯ!). Не видеть деревьев, не слышать листьев, оглохнуть, ослепнуть — иначе: урвусь! Болевой мир несовместим с любовным. (Это я уже о другой боли говорю, не от человека, о болевой разверстости, равняющейся творчеству.) Все часы без другого должны быть пусты, если не пусты — я живу: боль живет: другого нет.
Жить в другом — уничтожиться. Мне не жаль, я только этого и жажду, но —
_____Поймите, другой влечется к моему богатству, а я влекусь — через него — стать нищей. Он хочет во мне быть, я хочу в нем пропа́сть. Вообще, я слишком страдаю. (Все это не о текущем часе, — о всех протекших часах. Никаких выводов! Это я Вам ПУТЬ своей души рассказываю.) — «Будьте умницей, пишите!» («Ка́к, я хочу через тебя разучиться писать, а ты меня — опять в тетрадь?!») И: — «Вы без меня пи́шете!» Человек между двух огней: моей невозможностью не-быть (уходом) и моим стремлением пропасть (небытием). В любви меня нету, есть исступленное, невменяемое, страдающее существо, душа без тела.
_____В Ваших письмах так часто: «Или и это забыли?» Друг, забываю только бывшее, бывших. Небывшее во мне суще. Так я, забыв всех своих любовников, никогда не забуду Блока, руку которого никогда не держала в руке. («А если бы держали?» — Бог не привел!)
Кстати, конец письма: «Холодно — знобит — мой путь через снега»… и эти две буквы А. Б. в конце, — я долго смотрела. У Вас страдальческая сущность.
_____Ваше письмо, принесенное мне моей приятельницей, читала на кладбище. (Живу в предместье.) — Другого места не было, везде люди, там никто не бывает. Скамейки не было, села на дорожке, у какого-то камня. Я читала, ветер трепал листы, листья падали.
_____Друг, просьба: пришлите мне книгу Ницше (по-немецки) — «Происхождение Трагедии». (Об Аполлоне и Дионисе) [1393]. У меня никого нет в Б<ерлине>. Она мне сейчас очень нужна. Пришлите на Смиховский адр<ес>, на к<отор>ый иногда (в просветленные минуты) и пишите.
_____До свидания. Жму Вашу руку. Не враждуйте со мной в сердце своем.
МЦ.Печ. по СС-6. стр. 615–618. См. коммент. к письму 27–23.
67-23. A.B. Бахраху
Прага, 4-го Октября, 1923 г.
Милый друг,
У меня к Вам большая просьба — если Вы еще в Берлине — п<отому> ч<то> если не в Берлине, то уже ничего не можете сделать.
Дело в том, что необходимо перевести (перевезти!) Белого в Прагу, он не должен ехать в Россию, слава Богу, что его не пустили [1394], он должен быть в Праге, здесь ему дадут иждивение (stride nécessaire) {243} и здесь, в конце концов, я, которая его нежно люблю и — что́ лучше — ему преданна.
Говорила со Сло́нимом (знаете такого?) [1395]. Он обещал сегодня же написать Белому, без его согласия нельзя начинать хлопот, а он вероломен. Нужно держать его в руках, жужжать ему в уши, — чтобы он не отвильнул, не передернул. Я знаю, что Прага для него — спасение. Во-первых: он обеспечен, во-вторых: чудный город, в-третьих: люди или одиночество на выбор, — как хочет, в-четвертых: я, т.е. моя готовность ему помогать и о нем заботиться: ЛЮБЯ, С РАДОСТЬЮ — и — НЕУСТАННО.
Все это ему передайте. Получать он будет около 800 кр<он> в месяц, не меньше, жить можно (будет подрабатывать). И запретите ему всей моей волей — от иждивения отказываться. Пусть непременно примет. Без этого ехать бессмысленно.
_____Друг, сделайте это для меня. Настойте! Будьте судьбой! Стойте над ним неустанно. И — главное — в нужный час — посадите в вагон! Я встречу. Умоляю Вас Христом Богом, сделайте это! Здесь он будет писать и дышать. В России — ему нечего делать, я знаю, как там любят!
_____От Вас давно ни слова, но не Ваша вина, наверное скоро получу.
_____По моим просьбам Вы видите, какой Вы мне друг. Мне с Вами просторно. Я Вам верю. Это — отношение навсегда. Смело могу сказать. Я знаю, что в любой час Вы меня примете (у меня всегда — час Души!) В этом наша встреча, весь смысл ее. (Я не заговариваю зубы, чтобы Вы лучше переправили Белого, — честное слово! Просто с пера и из души рвется!)
_____И еще просьба: найдите мне верную оказию к Борису Пастернаку: из рук в руки. Мне необходимо переслать ему стихи и письмо. В почту не верю и адреса нет. Сейчас многие уезжают в Москву, найдите мне такого надежного, который немножко любит мои стихи и потому не выкинет моего письма. Или — просто порядочного человека. Письмо и стихи высылаю следом. Зря не отдавайте. Я не писала ему полгода, после такого срока писать — гору поднять, второй раз не соберусь. О, как много мужества нужно — жить! Как много — лжи! И как еще больше — правды!
Борис Пастернак для меня — святыня, это вся моя надежда, то́ небо за краем земли, то, чего еще не было, то, что будет, доверяю Вам свою любовь (письмо) Борису Пастернаку, как свою душу, не отдавайте зря.
И лучше было бы в Берлине же найти адрес, Эренбург его знает. И можно как-нибудь через третье лицо (Вы в ссоре?) — и наверное еще другие знают. Геликон (Вишняк) например, или Гржебин, — если не уехали. Я пришлю Вам письмо в конверте, Вы надпишите адрес. Прежний адрес его: Волхонка, 14. В крайнем случае — пусть отъезжающий письмо берет так, и в Москве (в Союзе Писателей — или Поэтов — или в одной из книжных лавок) его разыщет.
Сделайте это для меня!
_____Итак, еще раз напоминаю о Белом. Если еще не уехал — пусть едет в Прагу. Но до этого пусть известит: да, и после этого — пусть не отказывается. Дело сделаем быстро, и визу и иждивение, — всё. Мне будет помогать Слоним. Так ему и скажите. И передайте ему от меня всю мою нежность и память. ЗАГОВОРИТЕ, ЗАВОРОЖИТЕ его, — иначе его не возьмешь! Будьте его ВОЛЕЙ, и возьмите на подмогу — мою.
Обо всем этом немедленно же ответьте на Smichov: Praha, Smichov, Švedska ulice č<islo>. 1373.
Хорошо бы экспрессом, но боюсь, что разоряю.
Жму Вашу руку.
МЦ.<Приписка на полях:>
И — чтобы покончить с просьбами: вытащите у Гржебина еще 20 (или 15) Психей. Я получила только 5 (есть квитанция). Не верьте обещаниям, пусть это будет сделано при Вас!
Печ. по СС-6. стр. 618–620. См. коммент. к письму 27–23.
68-23. К.Б. Родзевичу
5-го Октября 1923 г., пятница
Мой родной, мой любимый, мой очаровательный — и — что всего важнее — и нежнее: — мой!
Вчера засыпая думала о Вас — пока перо не выпало из рук. И вечером, подымаясь по нашей темной дороге, вдоль всех этих лесенок. И ночью, когда проснулась: что-то снилось — и вдруг: к тебе! И сейчас, утром, в чудный трезвый час.
Ты мне говорил такие слова, которых я до тебя не слышала: великие — по простоте, это последнее величие, и вот, несмотря на всего тебя и всю меня — я тебе (себе) верю. — Что из этого будет?
Синие дымки́ в окне: люди начинают жить. О, если бы ты сейчас взошел в комнату! Я бы ринулась к шкафу (шляпа!) — сумка в руке — где ключ? — папиросы не забыть! — на волю! Мы бы пошли в Градчаны, я бы ног под собой не чуяла, ты делаешь меня тем, чем я никогда не хотела быть: СЧАСТЛИВОЙ! (Моя прежняя реплика: «Je vaux mieux que ça!» {244})
И вот, в Градчанах, вдоль старых стен, под старыми деревьями, по старым, старым камням — и такая молодость!
(Ты сейчас бешено учишься, киса моя, а мне сейчас нужно идти на рынок. — Гм. —)
Жду 8-го, живу 8-ым! Вижу твою издалека́-подкрадывающуюся улыбку. Вкрадчивость, она у Вас во всем: в шаге, в голосе, в поцелуе руки. Вы вкрадываетесь в душу. — Вор! — «Восхитительно целует руку», — это одна из моих первых оценок.
— «Всё это уже мне давно говорили!» — Знаю. — «И еще не раз скажут!» — знаю тоже. — В том-то и наша Судьба, дружочек, что все — такие разные(ыя)! — всё то же. Но по разному слушаешь. В этом — тоже наша судьба.
_____Не знаю удастся ли мне в понедельник проводить Вас на вокзал. Я и так выдаю себя с головой (с сердцем!) Знаю только, что об этом я неустанно буду думать, говоря с Вами и глядя на Вас. — Моя улыбка! — (Раньше никогда не любила «улыбчивых уст».)
Киса родная, головка моя черная и коварная
_____Кончаю. Надо в город. И не надо мешать Вам учиться. Жду 8-го. Приходите возможно раньше. От 8-го — опять тот же срок: пять дней! Если бы Вы жили в городе [1396], мы бы постоянно были вместе, вопреки всем Вашим и моим решениям, всей волей: Вашей — ко мне, моей — к Вам. (ВОЛЯ, это часто — обратное решению. Есть воля ВОЛЕВАЯ, т.е. насилие — может быть и благое! — и наша воля к — хотя бы к бытию! Так вот, у меня воля к Вам. Чорт — с решениями!)
И я наверное все-таки пойду Вас провожать на вокзал.
Моя дорогая радость!
МЦ.А вот стихи. Это я — наедине с собой, без Вас. Видите, мне невесело.
НОЧНЫЕ МЕСТА [1397]
(Естественное продолжение «Оврагов»)
Темнейшие из ночных Мест: мост. — Устами в уста! — Неу́жели ж нам свой крест Тащить в дурные места: Туда: в веселящий газ Глаз, газа… В платный Содом? На койку, где все до нас? На койку, где не-вдвоем Никто… Никнет ночник. Авось — совесть уснет! (Вернейшее из ночных (Мест — смерть!) Платных теснот Ночных — блаже вода! Вода — глаже простынь! Любить — блажь и беда! Туда, в хладную синь! Когда б — в веры века Нам встать! — Руки смежив! (Река — телу легка, И спать — лучше, чем жить.) Любовь: зноб до кости́, Любовь: зной до бела́… Вода — любит концы, Река — любит тела. _____4-го Октября 1923 г.
_____<Приписка на полях:>
NB! «блаже» здесь как сравнительная степень от «благой». Тугой — туже, благой — блаже.
ПОДРУГА
«Не расстанусь! — Конца́ нет!» И льнет, и льнет… И в груди — нарастание Грозных вод, Нот… Надёжное: как таинство — Непреложное: «ра́сста́немся!» _____5-го Октября 1923 г.
_____— Через год проверим. _
МЦ<Приписка на полях:>
А за́ город с Вами — пока последние листья! Дружочек, соберемся? Мне хочется с Вами на волю. Помню, однажды на моей бедной седой горе, которая Вам так не нравилась: «Нет, нет, М.И., известный комфорт нужен: хорошее кресло, в котором так хорошо думается…» Я: «И спится». Вы «Да, и спится». Я: «После обеда». Вы: «После хорошего обеда с вином». (Впрочем, Вы уже дразнились.)
А деревья шумели, вечер шел, мы шли рядом.
Впервые — Письма к Константину Родзевичу. Печ. по тексту первой публикации. стр. 65–71.
69-23. К.Б. Родзевичу
9-го Октября 1923 г., утро
Мой родной,
Мы вчера хорошо расстались, встречаться трудней, чем расставаться! — в расставании я нахожу и себя и другого, и нужные слова, и нужное отсутствие слов, расставание — полное владение, и если бы, расставшись, можно было идти вместе…
Есть нечто бо́льшее слов, — вот вчера, остановка под деревом, это верней слов, вечней слов, в словах мы только нащупываем дно, — помните. Ваше: «наконец, глубо́ко!» (В море.)
Слова заводят, это как рифмы, а особенно меня, знающую их отдельную жизнь. В словах мы плутаем (я, не Вы) — это глубокие потемки и иногда ужасающие мели, у меня иногда сухо во рту от слов, точно Саха́ру съела.
Любуюсь Вашим покоем. (Если бы Вы знали, как Вы прекрасны!) Ведь я кого хочешь выбью из седла, я действительно лошадь, Радзевич, — а может быть — целый табун, со мной трудно, но только знайте одно: я хочу быть человеком, стать им, хочу отвечать за свои слова, хочу перестать та́к страдать — и страдать иначе. Убейте во мне мою боль, бессмыслие моей боли, уничтожьте эту мою продольную (вдоль всей сердцевины!) трещину, возникающую только в любви. (Это самое роковое!) Ведь во всем другом я счастлива.
Начав с Тезея, будьте Дионисом. (О, я не шучу, всё это не случайно, и смысл этого еще встанет в будущем! Мы в начале дороги, как я — в начале трагедии!) Воссоедините. Конечно, нужно чудо. Дайте веру. О, я нашла слово: в любви я — хаос, и только в любви. А Хаос — знаете что́? — непробуждённое, не прозревшее. Хаос должен прозреть звездами.
____Теперь о Вас. Откуда у Вас покой, терпение, нежность? От Вас на меня идет такой поток света и силы, что мне — просто — стыдно себя. Я в Вашу жизнь вношу смуту. Мне просто нужно ввериться Вам. Вы в этот час своей жизни — совершенны. У меня к Вам ни одного упрека, никогда, ни одного мгновения у меня, Фомы, не было чувства: ложь. (Я не о сознательной лжи говорю, о той доле словесности над временными провалами и пусто́тами чувств. Когда ЛУЧШЕ — молчать!)
Вы меня ни разу не обидели, Вы мне ни разу не сделали больно, Вы всегда были на высоте положения, несмотря на бессонницу, заботы, трудности дня и часа. Я с Вами глубоко-счастлива — когда с Вами!
Может быть.
_____И еще о другом: никогда ни к кому я не была так близко привязана. Ведь всё мое горе — что я не с Вами. (Какое простое горе!) По Вашему — недостаток любви, а мне иногда кажется: избыток. Будем точны: черезмерная напряженность, просто: РВУСЬ к Вам! Рвусь та́к, что увидев, сразу даже не радуюсь, что-то обрывается, я срываюсь в Вас и сначала ничего не узнаю, не нахожу, какая-то слепость (Хаос!) и постепенное прозрение (звезды!) — и уже надо расставаться.
_____Это — поток, и его надо втеснить в берега. Берега дает жизнь. Столик в кафэ, это не берега, это крохотный островок, просто камень — среди беснующегося моря!
Я умею быть спокойной и веселой, мы бы с Вами чудесно жили, только одна просьба: полюбите мои стихи! Не давайте мне быть одной со стихами! Оспаривайте меня, утверждайте свое господство — и здесь. Я Вам всячески иду навстречу, протягиваю Вам обе руки, зову Вас, беру Вас в стихи. Я не хочу, чтобы каждый встречный любил (слышал) меня лучше, чем Вы. Я хочу —
_____Всё это трудно, тяжело, но всё это пройдет. Помню одно Ваше слово, глубочайшее из слышанных мною о любви: «Любить — на это тоже нужна сила».
И вот, в полной жажде и кротости (и, может быть — в начале веры уже!) молюсь тому неведомому богу:
«И подаждь нам силу и крепость во продолжение учения сего».
_____
А 13-го я Вас увижу, и, взяв себя в руки, буду радоваться и смирю свое беснующееся сердце (море!) — и чтобы не было больно: ни Вам, ни мне!
МЦ.<Приписка на полях:>
Привезите мне с собой то письмо — непосланное — я так прошу! — нельзя, когда так просят!
Впервые — Письма к Константину Родзевичу. Печ. по тексту первой публикации. стр. 15–11.
70-23. К.Б. Родзевичу
Прага, 24-го Окт<ября> 1923 г.
Я вернулась домой полумертвая. Ни Гёте, ни Минос, ни Апостол Павел не помогли. Постояв локтями на столе, полежав затылком на полу, не слыша вопросов, не понимая (своих же) ответов, в каком-то столбняке отчаяния, я наконец прибегла к своему вечному средству: природе. Вышла на улицу, и сразу — на теплые крылья ветра, в поток фонарей. Ноги сами шли, я не ощущала тела, (Радзевич, я поняла, я одержима демонами!), это было почти небытие, первая секунда души после смерти.
_____— Этот рассказ. Что́ в нем было такого ужасного? Да то, что я, рассказывая, видела себя воочию, что, вороша весь этот прах, ощущала его как сущее — это была очная ставка с собой. И что я почувствовала? Отвращение.
Стена между нами росла с каждым моим словом. Ваше любование им было мне — нож в сердце. Вы становились его союзником, моим врагом, почти им. Каждая Ваша усмешка подтверждала: «Поделом! Так и надо! На это и шла!».
Это звучало как исповедь текущего часа, точно всё это случилось вчера. На меня сегодня встало всё мое прошлое, мое грешное, грустное, горькое прошлое, и оно уводило меня от Вас, вырывало меня у Вас, делало мою любовь к Вам (святыню!) — эпизодом. Вы, выслушав, не могли мне верить, я, рассказав, могла ли верить сама себе?
_____Это можно рассказывать, когда впереди достаточно времени, чтобы забыть, т.е. будущее целой ночи или целой жизни.
Это можно рассказывать на груди, когда всё позади.
Или еще: на коленях перед другим, зарывшись лицом в колени.
_____Вообще, после встречи с Вами я перестала любить себя. Я сама у себя под судом, мой суд строже Вашего, я себя не люблю.
И — откуда это чувство вины? Я же Вас не знала!
Разве есть измена — назад?
_____Ужасает меня (восхищает) непримиримость Вашей любви. Ни кольца, ни книги, никакой памяти, мне это даже сегодня было больно.
В таком отказе — царственность, сознание права на всё, из моего мне же даришь.
Вот за это — и за ту скамейку в саду — и за молчание на улице — и за какой-то взгляд без улыбки.
_____Спала сегодня в Вашем халате. Я не надевала его с тех пор, но сегодня мне было так одиноко и отчаянно, что надела его, как частицу Вас.
_____Конец истории, оказывается, неверен. Я просто забыла (перепутала). Пришел он ко мне впервые непосредственно от той, оторвавшись от нее, случайно встретив меня в гостях, ушел он от меня — непосредственно к ней, оторвавшись от меня, случайно встретив ее на улице.
Потом — его письмо и исповедь — и мое прощение (мой про́мах!). И после этой склейки (трещины!) — рассказ того: «Вы знаете, почему он к Вам вернулся? П<отому> ч<то> в то утро свез ее в больницу, а вечером был у Вас». Мотивировка: «не могу без женщины»
Та умерла одна, томясь по нему, зовя его, завещая ему всё, что у нее оставалось: свои чудные черные волосы.
_____Когда, долго спустя, уже давно расставшись, я однажды спросила его: «Но почему же Вы ни разу, ни разу не пошли?» он ответил: — «Раз зашел, она спала, такая тонкая, тонкая куриная шея, — все жилы наружу — я не мог»… И вздохнул.
Рассталась я с ним не из-за себя, а из-за нее, из-за ее одинокого смертного часа, из-за косы, которую он взял как дикарь — трофей, из-за глаз ее, которых я ему не могла простить.
_____Я благодарна поэтам.
Le ciel est par dessus le toit Si bleu, si calme, Un arbre par dessus le toit Berce sa palme… О qu'as-tu fait, toi que voilà Pleurant sans cesse, О qu'as tu fait, toi que voilà, De ta jeunesse? {245} [1398] _____Значит — я не одна такая.
_____Подумали ли Вы о том, что́ Вы делаете, уча меня великой земной любви? Ну, а если — да, и если Вы —?
_____«Любовь — костер, в которую бросают сокровища», так учил меня первый человек, которого я любила — любовью почти-детской, но давшей мне уже всю горечь любви недетской — человек высокой жизни, поздний эллин [1399], бродивший между Орфеем и Гераклитом.
Сегодня я (13 лет спустя) об этом вспомнила. Не этому ли учите меня — Вы?
_____Но откуда Вы это знаете, не лучшей жизнью меня — живший? И почему — у Вас столько укоров ко мне, а у меня — ни одного?
Может быть женщина, действительно не в праве нести другому постоялый двор, вместо души?
_____Теперь, отрешившись на секунду, что я женщина — вот Вам обычная мужская жизнь: верх (друзья) — и низ (пристрастья), с той разницей, что я в этот bas-fonds {246} вносила весь свой верх, пристрастья себе вменяла в страсти, отсюда — трагедия.
Если бы я, как Вы, умела только играть и не шла в эту игру всей собой, я была бы и чище и счастливее. Моя душа мне всегда мешала, есть икона: «Спас-недреманное око», так вот: недре́манное око высшей совести — перед собой.
_____А еще, Радзевич, неудачные встречи: слабые люди.
Я всегда хотела любить, всегда исступленно мечтала слушаться, ввериться, быть вне своей воли (своеволия), быть в надежных и нежных руках. Слабо держали — оттого уходила. Не любили — любовались: оттого уходила.
Как поэту — мне не нужен никто (над поэтом — гений, и это не сказка!) как женщине, т.е. существу смутному, мне нужна воля, воля другого ко мне — лучшей.
Вы — не «импрессионист», хотя Вас многие считают таким, не существо минуты, Вы, если будете долго любить меня, со мной совладаете.
_____«Tout comprendre, c'est tout pardonner» {247} — да, я слишком много в жизни понимала.
Тот мой «промах» (прощенная измена).
Человек говорит мне то, что мог бы скрыть (его добрая воля!) человек из жалости (так он говорил) дает нежность, — мне ли судить?! И, наконец, разве эта фактическая измена — не мелочь, и не мелочность ли будет с моей стороны из-за этого — отталкивать? Не будет ли это перенесением отношения исключительно в лежачую плоскость близости — с высот дружбы?
Но — ты не пошел к женщине в ее смертный час, ты, два года бывший с ней и — по своему — любивший ее, ничего не увидел, кроме «куриной шеи» — этого я не поняла и, посему, простить не смогла.
И еще: ты скрыл от меня ее существование, заставил меня почти что грабить мертвую — меня, так страдающую от чужой боли, так содрогающуюся от неё!
Меньше всего меня уязвило то, что он пришел ко мне «п<отому> ч<то> нельзя же без женщины». — «На это дело — есть лучше!». Это всё что я ему потом… промолчала.
_____Всё это я рассказываю Вам, чтобы Вы видели, что я и на самом дне колодца оставалась — собой.
И чтобы Вы еще, мой дорогой друг, знали, что: —
«У живущего жизнью веселой: — Далеко́ не веселая жизнь». [1400]За каждое чужое веселье я платила сторицей. Своего у меня не было.
_____Да, еще одна подробность: я о ней за всю встречу ничего не слыхала, только изредка, когда я, смеясь, спрашивала: «Чья же я преемница?» он с милейшей из усмешек отвечал: — «Ни предшественниц, ни преемниц. Всё, что не Вы — рвань», — а несколько строк, которые я ему как-то написала, он переписал, чтобы всегда носить при себе, боясь истрепать мою записку.
Сейчас они, очевидно, покоятся в одном ящике с волосами — тоже трофей, ибо, по изречению Наполеона [1401]: «La plus belle fille ne peut donner qu'elle a» {248}.
Я — соседством не оскорблена, или, если оскорблена — за ту, а той, будем надеяться, Бог уже отверз иные уши и иные глаза.
_____Радзевич, когда у меня будут деньги, я Вам подарю тетрадочку — чудную! — с моими стихами, которых нет в книгах.
(Сейчас бьет огромный дождь, которому я радуюсь: всё утро томилась, что хорошая погода, а мы с Вами не в Карловом Тыну!)
— Или и от тетрадки откажитесь?
Вот стих, который я Вам туда перепишу:
Писала я на аспидной доске И на листочках вееров поблёклых, И на речном, и на морском песке, — Коньками по́ льду и кольцом на стёклах — На собственной руке и на стволах Березовых — и чтобы всем понятней! — На облаках и на морских волнах, И на стена́х чердачной голубятни. Как я хотела, чтобы каждый цвел В веках со мной! — (Под пальцами моими!) И как потом, склонивши лоб на стол, Крест на́ крест перечеркивала имя. Но ты, в руке продажного писца Зажатое! — Ты, что мне сердце жалишь! Непроданное мной! — Внутри кольца… Ты — уцелеешь на скрижалях — [1402] _____Москва, 5-го р<усского > мая 1920 г.
_____Радзевич, Радзевич, перечитываю стихи того лета — и в ужасе и в восхищении: та́к зорко! та́к горько!
Эпиграф к тому лету: «Не позволяй страстям своим переступать порог воли твоей». —
— Но Аллах мудрее…
(Тысяча и одна Ночь.)
_____Отдельные стихи оттуда:
_____ Целому море нужно — всё небо, Целому сердцу нужен — весь Бог. _____ Пахну́ло Англией и морем И доблестью: — суров и статен. — Так, связываясь с новым горем, Смеюсь — как юнга на канате Смеется в час великой бури, Наедине с Господним гневом, В блаженной обезьяньей дури Смеясь над пе́нящимся зевом. Упорны эти руки, прочен Канат, — привык к морской метели! И сердце доблестно, — а впрочем Не всем же умирать в постели! И вот, весь холод тьмы беззве́здной Вдохнув — на са́мой мачте — с краю — Над разверзающейся бездной — Смеясь! — ресницы опускаю. _____(Отрывок:)
… Суда поспешно не чини: Непрочен суд земной! И голубиной — не черни Галчонка — белизной. А впрочем — что ж, коли не лень! Но всех перелюбя Быть может я в тот черный день Очнусь — белей тебя! _____ Пригвождена к позорному столбу Славянской совести старинной, С змеею в сердце и с клеймом на лбу Я утверждаю, что — невинна. Я утверждаю, что во мне покой Причастницы перед причастьем. Что не моя вина, что я с рукой По площадям стою — за счастьем. Пересмотрите всё мое добро: Что вымолила я у ветра? Где золото мое? Где серебро? В моей ладони — горстка пепла. И это всё, что лестью и мольбой Я выпросила у счастливых. И это всё, что я возьму с собой В край целований молчаливых. _____ Кто создан из камня, кто создан из глины, — А я рокочу и сверкаю. Мне дело — измена, мне имя — Марина: Я — бренная пена морская. Кто создан из глины, кто создан из плоти — Тем гроб и надгробные плиты… — В купели морской крещена, и в полёте Своем — непрестанно разбита! Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети Пробьется мое своеволье. Меня — видишь кудри беспутные эти? — Земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, Я с каждой волной — воскресаю! Да здравствует пена — веселая пена — Высокая пена морская! _____Москва, май 1920 г.
_____А другие — в книжку. Эту книжку Вы будете любить, если toutefois {249}, по врожденному высокомерию своему, от нее не откажитесь.
_____И вот, от пены сей — спасение в тетрадь, в дружбу, в отрешение, в природу, в тот зеленый сиреневый куст (если помните).
Весь мой прошлый год прошел так. Встретившись с Вами я встретилась с никогда не бывшим в моей жизни: любовью-силой, любовью-высью, любовью-радостью. Ваше дело довершить, или, устрашившись тяжести — бросить. Но и тогда скажу, что это в моей жизни было, что чудо — есть, и благословлю Вас на все Ваши грядущие дни.
М.— «Это Вам удается мимоходом». Нет, ничего не удается мимоходом: ни Вы — мне, ни я — Вам. Ибо у меня тоже свое дело в Вашей жизни, о котором когда-нибудь в другой раз.
_____А сегодня у меня целый вечер — мой, и завтра — несколько вечерних часов. Как жаль. Земные часы дня так же как часы души должны нести с собой не только нежность — но надежность.
Буду думать о Вас.
_____В пятницу приходите в 4 ч., посидим, потом, если хотите пойдем к Р<ейтлинге>рам слушать скрипку. (У них — свой скрипач.) Мне придется идти.
_____Такой уютный, долгий, баюкающий дождь, и такая хорошая серизна в комнате. О, если бы Вы сейчас вошли!
_____И — спасибо за всё.
_____Впервые — Письма к Константину Родзевичу. Печ. по тексту первой публикации. стр. 81–95.
70а-23. К.Б. Родзевичу
Прага
Октябрь-ноябрь 1923 г.
Вернувшись лежала как мертвая на полу.
Я перед Вами не виновата (я Вас тогда не знала), я перед любовью виновата, я готова была молиться, у меня была вера отчаянья. Господи, сделай чудо, дай мне поверить в тебя (в любовь). Ибо если Бог — один, любовь — одна, ибо если Бог — есть, любовь — есть. А потом подумала: смерть. Это было огромное облегчение, единственная возможность в этот час. Смерть и мост. В тот час.
_____Думаю о смерти с усладой, ибо:
У живущ<их?> — жизнью веселой Далеко́ не веселая жизнь! _____Держите меня крепче, не уступайте, не возвращайте меня — жизни. Столкните лучше в смерть. Дело не в том чтобы писать стихи.
_____Такое можно рассказывать, когда впереди достаточно времени, чтобы забыть, т.е. будущее целой ночи или целой жизни. (Я же не <пропуск одного слова> преступник?)
Такое можно рассказывать, когда есть уверенность, что другой знает, как ты его любишь.
После Вас — никого: лучше смерть.
_____Вы единственный кто попросил у меня всей меня, кто мне сказал: любовь — есть. Так Бог приходит в жизнь женщин.
_____Поверьте в меня.
_____Если бы Вы были со мной, Вы бы увидели, что я изменилась. Моя болезнь — это только Ваше отсутствие в моей живой жизни. Когда Вы уходите — я как призрак.
И все-таки я не была легкомысленной.
_____Я вернулась домой полумертвая. Ни Г<ёте>, ни Минос, ни Апостол Павел не помогли. Постояв локтями на столе, — потом полежав на полу — не ставя вопросов, не <пропуск одного слова> собственных ответов, зная только одно: умереть! — я наконец прибегла к своему обычному лекарству: природе. Вышла на улицу, и сразу — на тепл<ые> крылья ветра, в поток фонарей. Ноги сами шли, я не ощущала тела. (Р<одзевич>, я поняла, я одержима демонами!), это было почти небытие, первая секунда души после смерти.
_____Этот рассказ. Что в нем было такого ужасного? Да то, что я, рассказывая, видела себя воочию, что вороша весь этот прах, ощущала его как <пропуск одного слова> — это была очная ставка с собой. И что́ я почувствовала? Отвращение.
Стена между нами росла с каждым моим словом. Ваше любованье им было мне н<ожом?> в сердце, Вы становились его союзником, т.е. моим врагом, почти им. Каждая Ваша у<лыбка?> говорила: «Поделом! Умейте отличать ценное от неценного». Это звучало как исповедь текущего часа, точно всё это случилось вчера. На меня сегодня вставало и шло всё мое прошлое, мое <пропуск двух-трех слов> прошлое, и оно уводило меня от Вас, вырывало меня у Вас, обращало мою любовь к Вам (святыню!) в эпизод. Вы, выслушав, не могли мне верить, я, рассказав, могла ли себе верить сама?
Это было отчаяние.
Вообще, после нашей встречи я перест<ала?> ценить себя. Я завидую каждому встречному, всем простым, вижу себя игралищем каких-то слепых сил (демонов), я сама у себя под судом, мой суд строже Вашего, я себя не люблю, не щажу.
Вы — это моя совесть, говорящая мне прямо.
_____Ужасает меня (восхищает) непримиримость Вашей любви.
Ни кольца, ни посвящения, никакой памяти, мне это сегодня даже было больно. Или всё — или ничего. Не всё-так ничего. И это не фраза, это Ваша суть. (— «Видите, я Вам открываю все карты!» — «А у меня совсем нет карт».) В таком отказе — царственность владения: из моего мне же даришь.
Вот за это — и за осенние листья в парке — и за молчание на улице —
_____Р<одзевич>, я скажу Вам тайну, только не смейтесь (не бойтесь!) — я Elementargeist {250} у меня еще нет души (NB! это после всего-то! 1932 г.) душа (по всем сказкам) таким существам дается только через любовь.
_____Спала сегодня в Вашем халате. Я не надевала его с тех пор, но сегодня мне было так одиноко и отчаянно, что надела его, как частицу Вас.
_____Конец истории, оказалось, рассказала неверно. Я просто забыла (перепутала). Пришел он ко мне впервые непосредственно от той, оторвавшись от нее, случайно встретив меня в гостях, ушел он от меня — непосредственно к той, оторвавшись от меня, случайно встретив на улице, м<ожет> б<ыть> пожалев, м<ожет> б<ыть> просто повлечась. Потом — его письмо и исповедь и мое прощение (мой промах!) И после этой трещины (склейки) — рассказ того: «Вы знаете, почему он к Вам вернулся? Когда он к Вам пришел после долгого перерыва?» Я (предположительно): — 16-го. — «Ну, 16-го в 4 ч. он свез ее в больницу, а вечером был у Вас. Мотивировка: не могу без женщины». Та умерла одна, томясь по нему, зовя его, завещ<ав?> ему всё, что у нее оставалось: свои чудные черные волосы.
Когда, долго спустя, уже давно расставшись, я однажды спросила его: «Но почему же Вы ни разу, ни разу не пошли?» он ответил: «Раз зашел, она спала, такие худые, худые куриные руки, все жилы наружу, одни кости — я не мог». И вздохнул.
Я о ней за всю встречу ничего не слышала, только изредка, когда я смеясь спрашивала: «Чья же я преемница?» он с милейшей из усмешек: «Ах, так одна рвань… У Вас не было предшественниц… Всё, что не Вы — рвань. А?»
Рассталась я с ним не из-за себя, а из-за нее — о, не из страха, что со мной поступят так же — я м<ожет> б<ыть> этого и заслуживала! — из-за ее одинокого смертного часа, смертного отчаяния, из-за ее косы, которую он схватил, как дикарь — трофей, из-за глаз ее, которых я ему не могла простить.
_____(Эту косу его друг видел у него на стене, прибитую гвоздиками.
Прав кто-то из нас, Сказавши: любовь — живодерня… 1932 г.) [1403] _____Я благодарна поэтам:
Le ciel est par-dessus le toit Si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit Berce sa palme О qu'as-tu fait, toi que voilà, Pleurant sans cesse, — Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà — De ta jeunesse? {251} [1404]— Значит, я не одна такая.
_____…Подумали ли Вы о том что Вы делаете, уча меня великой земной любви? Ну, а если научите? Если я, действительно, всё переборю и всё отдам?
Любовь — костер, в который бросают сокровища, так сказал мне первый человек, которого я любила, почти детской любовью, человек высокой жизни, поздний эллин [1405].
Сегодня я (13 лет спустя) об нем вспоминаю. Не этому ли учите меня — Вы?
Но откуда Вы это знаете, Вы, не лучшей жизнью меня — живший? И почему у Вас только укоры ко мне, а у меня — одна любовь?
М<ожет> б<ыть> женщина действительно не вправе <фраза не окончена>. Но у меня и другое было: моя высокая жизнь с друзьями «в просторах души моей» [1406].
_____Теперь, отрешась на секунду, что я женщина: вот Вам обычная жизнь поэта: верх (друзья) и низ (пристрастья), с той разницей, что я в этот низ вносила весь свой верх, отсюда — трагедия (NB! Горгулов [1407]. До чего, очевидно, РУССКОЕ — это нерусское слово. 1932 г., при переписке). Если бы я, как Вы, умела только играть (СОВСЕМ не умею!) и не шла бы в эту игру всей собой, я была бы и чище и счастливее. (NB! счастливее — да, чище — нет. 1932 г.) Моя душа мне всегда мешала, есть икона Спас-Недреманное Око, так во́т — недреманное око высшей совести: перед собой.
_____(NB! Внося верх в низ, душу в любовь, я неизменно возвышала — другого и никогда не снижалась — сама. Ни от одной любви у меня не осталось чувства унижения — своего, только бессовестности — чужой. Мне не стыдно что я тебя такого любила: я тебя не такого любила и пока я тебя любила ты не был таким, но тебе должно быть (и есть) стыдно, что ты меня такую не любил — не так любил.)
_____А еще, Р<одзевич>, неудачные встречи, слабые люди. Я всегда хотела служить, всегда исступленно мечтала слушаться, ввериться, быть вне своей воли (своеволия) быть младше <фраза не кончена>. Быть в надежных старших руках. Слабо держали — от того уходила.
Как поэту — мне не нужен никто. Как женщине, т.е. существу смутному, мне нужна ясность, — и существу стихийному — мне нужна воля: воля другого к лучшей мне.
_____Никто не захотел надо мной поработать.
_____Если Вы будете долго любить меня, сильно любить меня — Вы м<ожет> б<ыть> со мной совладаете.
_____Tout comprendre c'est tout pardoner. — Да, я слишком много в жизни понимала: слишком всё! Тот мой «промах» (прощение «измены»). Человек говорит мне то, что мог бы скрыть (его добрая воля!) человек из жалости скрывает от меня то, что должен был бы сказать. Человек из жалости клонится к оставленной — мне ли не понять? И разве я в своей жизни, жалея, не делала того же и хуже? И, наконец, разве эта фактическая «измена» — не мелочь, и не мелочность будет из-за мелочи человека отталкивать? Не будет ли это перенесением отношения исключительно в лежачую плоскость «близости»?
Гордость? Она у меня не здесь живет.
Но — ты не пошел к женщине в ее смертный час, ты, два года бывший с ней и как умел любивший ее, ничего не увидел кроме «куриной шеи» — этого я не понимаю и потому простить не могу. Я не прощаю тебе предпочтения ей, больной, <пропуск одного слова> здоровой. Меня от тебя тошнит.
И еще: ты скрыл от меня ее существование, заставил меня — почти что грабить мертвую, меня, так страдающую от чужой боли, так содрогающуюся от нее!
Меньше всего меня уязвило то, что он пришел ко мне «п<отому> ч<то> нельзя же без женщины». Женщин в Москве много, глупое хвастовство мужчины — мужчине, даже школьника — школьнику, «удаль» — за которой ничего кроме стыда и страха. Ко мне он пришел — под крыло. Невесело ведь — с черной косой, а? И одиноко — с новой косой? Вот и пришел «погладить меня по головке» (стриженой).
Всё это рассказываю Вам, чтобы Вы видели, что я и в низинах не теряю человеческого образа, и на самом дне колодца — остаюсь собой. Мой верх при мне.
_____Во мне двойная разверстость (беззащитность) поэта и женщины, за каждое чужое веселье я плачу стократ.
_____Отсюда — спасение в тетрадь, в дружбу, в одиночество, в природу, в зеленый куст сирени Румянцевского Музея — если помните. Чистоту я находила только в одиночестве. Это был<и?> две перемежающи<еся?> жизни, одна — смутная и трудная, другая — отрешенная и вдохновенная. Весь мой прошлый год прошел так. Встретившись с Вами я встретилась с никогда не бывшим в моей жизни: любовью — силой, а не любовью — немощью.
Ваше дело — довершить, или, устрашившись — бросить. Но и тогда скажу, что это в моей жизни было, что чудо — есть, и этих моих нескольких дней с Вами, давших мне всю любовь, у меня никто и ничто не отнимет.
М.— «Это Вам удастся мимоходом». Нет, ничто мне не удастся мимоходом: ни Вы — мне, ни я — Вам. Ибо у меня тоже своя миссия в Вашей <пропуск одного слова> о которой — в свой час.
А сегодня у меня целый вечер — мой, и завтра — несколько вечерних часов. Как жаль. Земные часы дня, так же как часы души должны нести <пропуск одного слова> не только нежность — но надежность.
Буду думать о Вас.
_____И — спасибо за всё.
_____А у меня есть для Вас один подарок — только это не подарок, погодите возмущаться, это часть меня.
_____(— Что́? — 1932 г.)
(Циническая мысль: если бы собрать все эти «части меня», составилось бы: либо целое — чудовище, либо ничего бы не составилось, ни одна часть бы не совпала.
Итак: не «часть меня», а вся я — в немыслимо-малой частице: кольца́, письма́.)
Впервые — HCT. стр. 255–261. Печ. по указ. тексту. Вариант письма 70–23.
Перед текстом запись: «(Карандашом в книжку, очень сокращенно и почти совсем стерто)».
71-23. А.К., В.А. и О.Н. Богенгардтам
Прага, 29-го Октября 1923 г.
Мои дорогие Богенгардты! Осчастливлена и уничтожена восхитительным подарком. Но радость покрывает смущение, иначе я бы никогда не решилась взяться за перо.
Пишу Вам в райское утро: ни единого облачка, солнце заливает лоб и стол, щурюсь и жмурюсь как кошка. Такая погода у нас стоит уже несколько дней, ничего не хочется делать. Осень, уходя, точно задумалась, оглянулась назад на лето и никак не может повернуться к зиме. Меня такие дни растравляют, как всякая незаслуженная доброта. (NB! A bon entendeur — salut! {252}) В детстве я всегда мечтала, чтобы меня очень не-любили (проще: ненавидели!), чтобы не чувствовать этой вечной растравы умиления. Потому что для настоящей благодарности — нет ведь никаких слов!
_____Живем все там же (вы — переехали!) Гора пока суха и благородна: подталкивает, но не спускает (вниз головой!). Что́ будет в дожди — не знаю. (Знаю!!) Готовим дома, достали из починки примус, чинившийся шесть месяцев и уже не числившийся в живых! — Это большое облегчение после спиртовки, где спирт кипел, а вода не вскипала! (Так же вскипали, вернее: испарялись — кроны!) Примус горит пол-дня, а обходится всего в крону.
Я много дома, С<ережа> почти все время на лекциях и в библиотеке. В отчаянии от количества предметов и от какого-то семинария, из коего — если он уйдет — уйдут все. (Всего — семь человек! А профессору восемьдесят семь лет!) [1408]
_____Я много пишу, может быть удастся издать в здешнем новом издательстве «Пламя» свою поэму «Мо́лодец». (Про упыря.) [1409] Но: здесь столько жаждущих и алчущих издаться — что руки опускаются! Так и ходят с портфелями, думаю, что на портфелях же — и спят!
_____Как здоровье Ольги Николаевны? Нарыв — тяжелая вещь, а в особенности — невидимый, еще страшнее. Но надеюсь, что уже обошлось.
_____Только что пришел С<ережа> с грустной вестью: Пра умерла [1410]. Умерла во второй день Рождества прошлого года, от расширения легких. Макс был при ней.
С Пра уходит лучшая наша с Сережей молодость, под ее орлиным крылом мы встретились.
_____От Али часто получаю письма, пишет, что все хорошо, и в каждом письме — новая подруга. Она не отличается постоянством.
_____Целую крепко всех троих. Скоро напишу еще. Еще раз — нежнейшее спасибо. Платье совсем по мне, только чуть-чуть сузила пояс. А в то — сразу влезла!
МЦ.Впервые — ВРХД. 1992. № 165. стр. 171–172 (публ. Е.И. Лубянниковой и H.A. Струве). СС-6. стр. 645–647. Печ. по тексту СС-6, сверенному с оригиналом, хранящимся в архиве ДМЦ.
72-23. К.Б. Родзевичу
Прага, Октябрь — ноябрь <1923>
(Герою Поэмы Горы Конца:)
…
Нам дано прожить вместе целый кусок жизни. Проживем же ее возможно лучше, возможно дружнее.
Для этого мне нужно Ваше и свое доверие. Будем союзниками. Союзничество (вопреки всему и через всех!) уничтожает ревность.
Это начало человечности, необходимой в любви. «Не на всю жизнь». — Да, но что́ на всю жизнь?! (Раз жизнь сама «не на всю жизнь» — и слава Богу!) Это мое вечное желание добра к Вам говорит. Не будьте злым, не мучьте.
Впервые — НСТ. стр. 247–248. Печ. по тексту первой публикации.
73-23. К.Б. Родзевичу
Прага, числа не знаю, четверг
<1 ноября>1923 г.>
Мой горячо-родной,
Спасибо за чудесное утро — такого у меня давно не было, с самого нашего расставания.
И пальто такого давно не было, и за него спасибо, — особенно за недоверчиво-косящий взгляд. Никогда не забуду. Никогда ничего не забуду. Я не только не забываю Вас, сегодня под утро трижды видела Вас во сне: один сон хуже другого.
Первый сон: кладбищенская стена и высокая девушка, которая Вас ищет. Гулкий голос, выбрасывающий в пространство какие-то числа и сроки. Своды гудят. Чувство, что голос до Вас дойдет. (Вас нету. Мне ее поиски снятся.)
Второй сон: у нас встреча, поздняя. Я должна быть и хочу быть, но меня отвлекают обманом. И Ваш рассказ спустя: — «Я думал, что это Вы, издалека принял за Вас: та же кажущаяся простота, а когда разглядел (узнал) было уже поздно».
Встреча была у костра, Вы кого-то другого пригрели (обожгли.)
Третий сон: Вы при мне (незримой) элегантным и ласковым (Вашим!) жестом дарите жене «другого Э<фро>на» [1411] три клеенчатых тетради. — И моя ЖГУЧАЯ ревность.
_____У меня есть для Вас маленькая радость, все радости маленькие, кроме одной. — Это я не о Вас: о себе. —
О, как я бы хотела, хотела, хотела —
Скажите, что́ зажимает мне рот в час, когда я Вам самое главное хочу сказать?
Я ревную Вас к той церкви, которую Вы любите. В пятницу пойду мимо нее — и отвернусь. И от ангела отвернусь — любимого. Потому что там, у церкви и ангела, я увидела трех людей, о которых Вы сказали: «Такой-то. Такой-то. Такая-то. И все трое — мои близкие приятели». Я почувствовала себя вычеркнутой из Вашей жизни. Это ревность безличная, к Вашей жизни — ревность. (Как бы она ни называлась!) Мне так же больно от церкви, как от чужой жены.
_____Сегодня чудесное утро. Сижу переписываю «Мо́лодца». Думаю с грустью, что и эта вещь Вам чужда, что и эту вещь будут любить (заслуживает!) все, кроме Вас. Быть любимой Вами — и не быть Вашим любимым поэтом, Вы в этом не менее обокрадены, чем я. Но это не утешение.
_____Итак, в субботу, без четверти пять, в той каварне.
Люблю Вас, дружочек.
М.Пока Вы есть в моей жизни — всё живет. Условная жизнь. Жизнь при одном условии. А Вы принимаете это за отход: «развлекаетесь… веселитесь»…
Впервые — Письма к Константину Родзевичу. Печ. по тексту первой публикации. стр. 99–103.
73а-23. К.Б. Родзевичу
<1 ноября 1923 г.>
Мой горячо-родной
_____ О Ненависть, молю, пребудь на страже, Среди камней и рубенсовских тел. Пошли и мне неслыханную тяжесть — Чтоб я второй земли не захотел! [1412] _____— Спасибо за чудесное утро: весь груз <пропуск одного слова> вся радость встала. Я не только не забы<ла?> Вас, сегодня трижды видела Вас во сне: один раз хуже другого.
Первый сон: кладбищенская стена и высокая девушка, которая Вас ищет. Гулкий голос, выкрикивающий в пространство какие-то слова и сроки. Церковные своды отдают, чувство, что голос до Вас дойдет (Вас нету).
Второй сон: у нас встреча, поздняя. Я должна быть, но что-то мне не дает. И Ваш рассказ, спустя: «Я думал, что это Вы, издалека принял за Вас: та же кажущаяся простота, а когда разглядел (узнал) — было уже поздно».
Третий сон: Вы при мне (незримый)
(Оборвано)
Впервые — HCT. стр. 264. Печ. по указ. изд.
Вариант начала письма 73–23.
74-23. А.К. Богенгардт
Прага, 2-го ноября 1923 г.
Дорогая Антонина Николаевна [1413],
Безумно беспокоимся об Але: вот уже восьмой день как от нее нет письма. (Последнее с посылкой.) Боюсь, что она больна и что Вы нарочно скрываете, ожидая выяснения хода болезни. Вообще, всего боюсь. Ради Бога, не томите, если она больна — пишите, что. Я вне себя от страха, сегодня все утро сторожили с Сережей почтальона.
Простите, что сейчас ни о чем другом не пишу, ни о чем не пишется, я вся в этой, тревоге.
Целую Вас нежно, также Ольгу Николаевну и Всеволода. Прилагаемое письмо передайте, пожалуйста, Але.
МЦ.Впервые — ВРХД. 1992. № 165. стр. 172 (публ. Е.И. Лубянниковой и H.A. Струве. СС-6. стр. 647. Печ. по СС-6.
75-23. К.Б. Родзевичу
Прага, понедельник. {253}
<6 ноября 1923 г.>
Дорогой Радзевич,
Завтра во вторник НЕ приходите. О дне встречи извещу экспрессом. Я сейчас совсем разбита и внутренно и внешне, нужно прийти в себя. Кроме того — так сложны внешние дела.
Не сердитесь. Я очень мучусь, но я Вас люблю {254}.
МЦЕсли захочется мне написать — мой адр<ес:>
Praha, Břevnov Fastrova ul<ice>, č<islo> 323
Slečna K. Reitlingerova
Для М<арины> И<вановны> Ц<ветаевой> [1414]
Только опускайте в городе.
Впервые — Письма к Константину Родзевичу. Печ. по тексту первой публикации. стр. 107.
76-23. К.Б. Родзевичу
Прага, вторник {255} <7 ноября 1923 г.>
Мой родной,
Я по Вас стосковалась. Назначьте мне сам день и час встречи, — я не знаю Вашего расписания, а у меня его нет. Только не поздно-вечерний час, к Р<ейтлин>герам нельзя возвращаться поздно, и пришлось бы мало быть вместе.
Встретимся мы на Смиховском вокзале, в зале, где кофе, у трамвайной остановки неудобно.
Итак, назначьте мне экспрессом день и час и уже не ждите моего ответа, только рассчитайте, чтобы экспресс дошел. Все дни, кроме воскресения. (Нынче вторник.)
Живу в аду, но люблю Вас.
МЦ.P.S. Если на этой неделе Вы сплошь заняты, то мой заведомо свободный день на следующей неделе — вторник. Но лучше — раньше.
_____Мой адрес: Praha, Břevnov Fastrova ul<ice>, č<islo> 323
Slečna K. Reitlingerova
Для Мар<ины> Ив<ановны> Цв<етаевой> (фамилию полностью)
Впервые — Письма к Константину Родзевичу. Печ. по тексту первой публикации. стр. 111.
77-23. К.Б. Родзевичу
Прага, 9-го ноября, пятница
Тщетно жду Вашего экспресса. Нам необходимо встретиться, и возможно скорей. Если Вы оскорблены тем, что я во вторник вместо свидания с Вами пошла слушать Слонима об Ахматовой [1415] — Вы ничего не поняли: я просто не хотела предстать Вам истерзанной и полубезумной (терзать Вас!) — и послушать, как любила и страдала другая женщина (хоть на миг растворить свою боль в чужой!)
Теперь слушайте. Разговор, о котором я Вас прошу, может быть — последний (зависит от Вас!). Если последний — о последнем прошу. Могла бы Вам всё написать, но жизнь письменно не решается.
Сегодня ночью я видела страшные сны. Я приезжаю на Вашу станцию, иду по той тропинке, долго-долго, сворачиваю в деревню, нахожу дом, но это не дом, а какое-то увеселительное заведение с садом. Вхожу. Издалека вижу Вас, окруженного целой толпой веселящихся, у Вас в руке или цветы или бокал, — что-то вопиюще-радостное, и я хочу к Вам и никак не могу прорваться, люди не дают, Вы недосягаемы, — смех, хоровое пенье, кто-то подбадривает: «Это всегда так», я тянусь, не дотягиваюсь и просыпаюсь в холодном поту.
Во имя этого страшного сна и всего страшного сна этой моей жизни — не томите меня, мальчик, — помните, я Вам говорила, что Вы меня никогда не обижали, и Вы еще в последний раз говорили: «Я от Вас никогда не уйду» — не-обидьте еще раз, не уходите, не простившись, в Вашем молчании я чую ненависть, не ненавидьте меня!
Радзевич, всё зависит от Вас. Я Вам скажу одну вещь, Вы на нее ответите. Мне необходимо Вам всё сказать и мне необходимо, чтобы Вы меня выслушали.
Назначьте мне день свидания, любой день и любой час, но сделайте это так, чтобы я экспресс получила накануне, чтобы не разминулись.
Я сейчас мертвая, в Ваших руках меня спасти, но я ни на чем не буду настаивать, Вы меня знаете.
И, если это в последний раз, мне необходимо сказать Вам несколько слов НАВЕК, как перед смертью. В этом не отказывают.
М.Ничего низкого и недостойного Вы обо мне не должны думать. Я перед Вами совершенно чиста.
_____Не томите! Пишите сразу. До Вашего письма (нашей встречи) не живу.
_____Только что стук: почтальон. Обмираю. Два письма Юлии [1416].
_____— ВСПОМНИТЕ! —
<Поперек страницы>
Не знаю, ходят ли в воскресение экспрессы? Считайтесь с этим.
_____Считайтесь ещё с тем, что я совершенно истерзана и не могу ждать.
_____И с тем, что я никому в жизни не писала таких писем.
_____ М.Впервые — Письма к Константину Родзевичу. Печ. по тексту первой публикации. стр. 115–117.
78-23. A.K. Богенгардт
Прага, 11-го ноября 1923 г.
Моя дорогая Антонина Константиновна,
Сердечное и глубочайшее спасибо за телеграмму и письмо. У меня в те дни душа изныла об Але. Если бы Вы знали, как я боюсь разлуки!
В этом отношении я конечно ненормальный человек: не от природы, а жизнь сделала такой. В Революцию, в 1920 г., за месяц до пайка у меня умерла в приюте младшая девочка и я насилу спасла от смерти Алю [1417]. Я не хотела отдавать их в приют, у меня их вырвали: укоряли в материнском эгоизме, обещали для детей полного ухода и благополучия, — и вот, через 10 дней — болезнь одной и через два месяца — смерть другой.
С тех пор я стала безумно бояться разлуки, чуть что — и тот старый леденящий ужас: а вдруг? Знаю все Ваши возражения, знаю, что Тшебово для детей, действительно, рай, знаю Вас и Ваше сердце, и пишу Вам все это только для того, чтобы Вы знали корень этой ненормальности. Но довольно о таких мрачных вещах. Я убеждена, что Але в Тшебове хорошо, она так долго не была ребенком, так мало умела просто-радоваться в детстве, а теперь сразу: и подруги, и правильное расписание дня, и игры, и учение. Продолжая жить со мной, она выросла бы несчастной, я сама никогда не была настоящим ребенком, поэтому плохо понимаю детей: чужих — боюсь, со своих (своего) черезмерно взыскиваю. «Врачу, исцелися сам» [1418], это (в смысле воспитания) ни к кому так не относится, как ко мне.
_____У нас первые морозы. Наша гора седая. Недавно утром был такой туман, что я, идя за молоком в лавочку, действительно не различала своих ног, не говоря уже о том, куда они ступают. Вот и сейчас, пока пишу, мутное пятно окна, ни единого очертания. Прага зимой наводит сон. Утром не хочется вставать, а вечером не дождешься часа, когда в постель. Топим печку: веселую и исправную. Я люблю огонь в трубе, иногда напоминает море. Уютно ли у вас, в вашем новом жилье?
Часто мысленно переношусь в Тшебово, вижу маленькую площадь с такими огромными булыжниками, гербы на воротах, пляшущих святых. Вспоминаю наши с Вами прогулки, — помните грибы? И какую-то большую пушистую траву, вроде ковыля.
Напишите мне о зимнем Тшебове. Что же делают все мальчики, когда нельзя играть в футбол? Неужели читают? До́ настоящего снега ведь еще далёко. Ставят ли какие-нибудь пьесы? Обо всем хочется знать, я с Тшебовым сроднилась.
_____Кончаю. Еще раз от всего сердца благодарю Вас и Ваших за Алю. До Рождества только полтора месяца, скоро увидимся. Мой поцелуй и привет Ольге Николаевне и Всеволоду. Как бы хотелось вас всех увидеть в Праге!
МЦ.Впервые — ВРХД. 1992. № 165. стр. 173–174 (публ. Е.И. Лубянниковой и H.A. Струве). СС-6. стр. 647–648. Печ. по тексту СС-6, сверенному с оригиналом, хранящимся в архиве ДМЦ.
79-23. К.Б. Родзевичу
— Завтра увидимся. —Прага, 20-го ноября 1923 г., вторник.
Мой родной,
Я не знаю, когда Вы получите мое письмо, — хорошо бы завтра утром! Никаких спешных дел нет, мне просто хочется, чтобы день Ваш начался мною (как все мои — Вами!) Как я давно Вас не видела, и как я всех видела, кроме Вас, и как мне никого не нужно!
Я твердо решила одну вещь: Ваше устройство в городе. Я НЕ МОГУ больше с Вами по кафэ! От одной мысли о неизбежном столике между нами — тоска. Это не по человечески. Я не могу вечно быть на виду, не могу вечно говорить, в кафэ надо улыбаться (иначе — глупо), я не могу вечно улыбаться, у меня тоска́ — наперед. Та́к: радуясь Вам, я ужасаюсь «времени и месту», это мне отравляет встречи с Вами, ухожу, растравленная.
Не знаю, душевная ли это тонкость, или соображение бытового порядка (Бог Вас знает!) — но поездка к Вам, туда, действительно — не выход. Приезжать — это уезжать. («Как приходить — уходить!») Да, но — в том же городе, без уводящей тропинки, без крика поездов, без всей этой трагической инсценировки разлуки! В одном городе — легче. У меня будет чувство, что где-то там, на такой-то улице, у меня какой бы то ни было, но — дом с Вами! Дом, где можно сидеть рядом, дом, где можно взять руку: подержав, притянуть к губам.
Дом, куда я всё могу приносить: от бытовых уютных пустяков — до последних бурь своей души! Дом, где я Вам буду читать Тезея.
Пусть это будет нечасто: я очень терпелива, но сознание, что это может быть… Мой мальчик, Вы не знаете, как я Вас люблю.
_____В прошлый раз Вы сказали: осадок. До чего мы с Вами похожи! О как давно, давно, давно я это чувствовала! Затасканное сравнение, но: вода — и не пить! Так я смотрю на Вас через столик.
От многого можно — и должно — отказаться, но не от последнего права душ друг к другу, душ, всегда идущих через руки. Вот этого: рука в руке — я не могу и не хочу отдать. Ваша рука — моя: длинная, нежная, всегда немножко холодная, рука, к которой так неудержимо / неутомимо {256} тянутся — и будут тянуться! — мои губы.
И потом — я хочу лампы, тепла, круга, чуть ли не кота на коленях. (У нас будет кот?) Я хочу, чтобы на те несколько часов, которые я буду у Вас, я была дома. Чтобы не было лихорадки: пить, платить, идти. Я не хочу всё время пить, мне надоела чашка или стакан, как только опущу глаза. (Нет, нет, моя киса, не бойся, будем и чай пить, и что хочешь пить — только не непременно: по вдохновению!)
Я хочу — немножко — быть в Вашей жизни: знать, где Вы спите и где пишете, и куда глядите, когда глядите в окно. И чтобы что-нибудь в Вашей комнате говорило Вам обо мне. Чтобы Вы, возвращаясь домой, возвращались ко мне, в меня.
Я Вам дома сейчас дать не могу, — дайте Вы его мне! Если я сейчас не могу жить Вашей жизнью, дайте мне по крайней мере — стоять над ней! Издалека — нельзя. Можно… но: сейчас это всё еще слишком горит и болит! [1419]
_____Я глупая — со своими просьбами?
_____А у меня для Вас приятная новость. Две. Завтра расскажу. Жду Вас завтра (в среду!) у зубного врача, как условились! Но от зубного врача, да еще после кокаина — как естественно! — нужно домой. А дома нет. Есть фонари и лужи. И треклятые столики с треклятыми чашками.
_____Твоя улыбка. Вижу ее. Где и когда я смогу тебе закинуть за шею руки — прижаться — та́к. Немножко послушать сердце! Раздвинуть рубашку на груди и губами прослушать сердце.
Ведь я помню тебя!
М.Впервые — Письма к Константину Родзевичу. Печ. по тексту первой публикации. стр. 121–123.
80-23. К.Б. Родзевичу
Прага, 4-го Декабря 1923 г.
В прошлую встречу (в начале ее, не в конце) я увидела в Вас начало игры. Человек, перерезанный автомобилем — как нота и краска в мировой гармонии, в такое мироощущение я не верю. Кровь — не краска, и вопль умирающего — не нота. Можно отвернуться и заткнуть уши, принять — нельзя. Всё можно, Радзевич, даже убить на большой дороге из-за гривенника, но при одном условии: знать, что этого нельзя. А за этим знанием, непосредственно, искупление. Иначе человек — не человек, человек нарушенный, ему нужно идти к врачу.
Ваше утверждение насчет перерезанного ребенка — явная игра. Только Вы умны: с В<алентиной> Е<вгеньевной> [1420] Вы играли ее личными чувствами, Вы ею играли, со мной — зная мою широту и… некоторую неуязвимость — Вы играете всем моим вечным, хотите и здесь взять какой-то барьер.
— К чему? —
Представьте себе эти слова на моих устах и представьте себе, что Вы им поверили. Что Вы почувствуете? — Чудовище. — Я Вас чудовищем не чувствую, т.е. Вашим словам не верю, считаю их за позу и фразу: либо за то, чем Вы не будучи, хотите быть, либо зато, в чем Вы хотите убедить меня. Оба случая для меня непонятны. Бесчувственность — не сила, это о первом. А о втором: если это в целях отвадить меня от себя — есть другие средства: проще, чище. Просто: «Марина, не будем видеться». — И всё. —
Милый друг, вся наша встреча — на правде. Это ее единственный смысл и ценность. Я ни на один час не перестаю быть с Вами тем, что я есть: ПУСТЬ ЭТИМ ПУТЕМ Я ВАС ПОТЕРЯЮ, — я потеряю Вас СОБОЙ! С этого Вы меня не сдвинете. Вам придется играть одному.
_____Цель Вашей игры? (Ибо Вы ее уже ввели, чувствую всем существом, — у Вас уже РАСЧЕТ!)
Получить меня? — Я у Вас уже есть.
Удержать меня? — Я не ухожу.
Потерять меня? — Можно, не играя.
Не понимаю, не вижу смысла, кроме последнего, в который не хочу поверить, ибо ПРЕЗРЕНЕН. Просто сделать больно! — Игра для игры. — Самое пустое на свете.
_____Друг, я Вас знаю другим: настоящим. Иным Вас не знаю. За всё наше долгое приятельство — ни одной фальшивой ноты. Я имела редкое счастье Вам не нравиться и потому — видеть Вас настоящим. Вслед за этим я имела редкое счастье — быть Вами любимой: углубленная и усугубленная настоящесть.
Что же теперь?
Теперь — игра, т.е. Вы, какой Вы со всеми, т.е. меньше, чем тогда, чем всегда. Я Вам сейчас дальше, чем в первый день нашего знакомства.
_____Не хочу верить. — Хочу верить! — Но, на беду, зорка и чутка, фальшь и умысел чую за́ сто верст. Дело не в ласковости и неласковости, допускаю, что Вам — от шатания по улицам, противоестественного сидения по кафэ и пр. — со мной просто бывает скверно. — Так и говорите. — Ведь и мне от этого не сладко. — Будем союзниками.
— «Я держу свою радость на всех цепях». — Напрасно. — Спустите со всех — и то еле коснется! При моей несамонадеянности — как раз в меру. Я ведь никогда не преувеличиваю чувств другого, и, наконец — ведь это же не вексель! Что Вы потеряете от того, что я знаю, что Вы мне радуетесь? Да ведь это же единственное оправдание наших встреч! Радость друг другу — пусть через боль! Пусть… через столик!
_____Нет, я Вас таким не хочу. Лучше никаким, чем таким. Я могу иметь дело только с настоящим: настоящей радостью, настоящей болью, настоящей жестокостью: только с самым дном человека, со всем, встающим с этого дна.
Игра, Радзевич, для других! Я люблю СУЩНОСТИ.
_____— Ну, а игрок — как сущность? (Предвижу реплику.) Задумываюсь, и:
— Без возможности срыва в правду — чудовище. Если Вы игрок, я — Ваш срыв в правду. Если я — не Ваш срыв в правду — я для Вас ничто.
Но Вы от этого не становитесь чудовищем. Может быть сорветесь на ком-нибудь другом.
_____Дружочек, я Вам еще верю (хочу верить!), я помню Вас настоящим, знаю Вашу прекрасную первичную природу, — верьте ей! Если лепить себя — то из своих данных, а не из данных соседа!
Вы лучше чем то, чем Вы хотите быть. Не убивайте в себе души, т.е. возможности страдать. И Гёте страдал. Его «окостенелость» — только маска. Есть высшая стыдливость страданья: она у него была. «Бесчувственный Гёте» — вздор.
_____Страдание — как звук в мировой гармонии — да: но не чужое страдание, а свое в ответ на это чужое. ТА́К я Ваше утверждение приму. Ваш вопль — в ответ на вопль. Стоять и глядеть, проходить и не глядеть — всё это меньше, чем человек.
И собака чувствует болезнь хозяина.
_____Родной мой! Борюсь за Вашу душу. В быту и в жизни дней, где все так себялюбивы, Вы самозабвенны и щедры. Это Ваша настоящая природа. Поменьше о себе и в большом! Покорять, гнуть, властвовать, — будьте только БОЛЬШИМ — и само придет! Чтобы это не силой воли Вашей, а силой сущности.
Хочу быть большим перед собой, не перед другими. Вот формула. — Что Вам оттого, что Вас будут считать большим, если Вы сам будете знать обратное. И дело ведь не в количестве Вами покоренных, а в качестве! Качества же Вы никогда ни хитростью, ни захватом не добьетесь, ТОЛЬКО СУЩНОСТЬЮ: величием в себе.
_____В четверг увидимся. Будьте внимательны к письму.
МЦ.Впервые — Письма к Константину Родзевичу. Печ. по тексту первой публикации. стр. 127–133.
81-23. К.Б. Родзевичу
Прага, среда [1421]
<12 декабря 1923 г.>
Дорогой Радзевич,
Жду Вас завтра, в четверг, в 4 ч<аса> на Смиховском вокзале, там, где кофе.
Если мое письмо не успеет дойти, буду ждать Вас там же в пятницу в тот же час.
М.P.S. Буду ждать до 5ти ч.
Впервые — Письма к Константину Родзевичу. Печ. по тексту первой публикации. стр. 137.
82-23. К.Б. Родзевичу
<Вероятно, середина декабря 1923 г.>
Из той же тетради, неоконченное:
Милый друг, сейчас идут самые ужасные дни моей жизни, и Вам нужно переродиться, чтобы меня внутренно не утерять. Я разорвана пополам. Меня нет. Есть трещина, только ее и слышу. Моя вина (<пропуск одного слова> совести во мне!) началась с секунды его боли, пока он не знал — я НЕ была виновата. (Право на свою душу и ее отдельную жизнь.)
Все эти дни я неустанно боролась в себе за Вас, я Вас у совести — отстояла, дальнейшее — дело Вашей СИЛЫ. Это моя единственная надежда. Вся моя надежда на Вас, я сейчас выбыла из строя, во мне живого места нет, только боль. Та́к не живут, я и не живу.
Впервые — HCT. стр. 266. Печ. по тексту первой публикации.
83-23. К.Б. Родзевичу [1422]
Прага, 23-го Декабря 1923 г.
Мой родной,
Я не напоминаю Вам о себе (Вы меня не забыли!), я только не хочу, чтобы Ваши праздники прошли совсем без меня.
Расставшись с Вами во внешней жизни, не перестаю и не перестану —
Впрочем, Вы всё это знаете.
МЦ.А на прилагаемую мелочь не сердитесь (не се́рдитесь?), право выручить Вас — мне, и Вам — меня, это жалкое право мы ведь сохраняем?
Буду думать о Вас все праздники и всю жизнь.
_____Впервые — Поэт и время. Печ. по тексту первой публикации. стр. 111–112.
Приложение
От составителя
Эпистолярное наследие М.И. Цветаевой весьма обширно. В Собрание сочинений М. Цветаевой, вышедшее в 1993–1995 гг. (М: Эллис Лак), было включено более 1000 ее писем. В 2000 г. был открыт архив Цветаевой, опубликованы ее записные тетради, ранее не издававшаяся семейная переписка, дневники Георгия Эфрона и другие материалы. Кроме того, в печати появилась ее переписка с Б.Л. Пастернаком, считавшаяся ранее безвозвратно утерянной, новые письма к К. Родзевичу, Н. Гронскому, В. Рудневу, Н. Гончаровой, К. Кротковой, Н. Гайдукевич, Б. Бессарабову и др. (всего около 300 единиц). Вышли двумя изданиями письма к Анне Тесковой, ранее издававшиеся с большими купюрами. Ряд неопубликованных писем найден в различных архивах, выявлены и расшифровываются черновики писем в рабочих тетрадях и записных книжках.
В настоящем издании письма Цветаевой представлены в максимально полном объеме, хотя при этом следует понимать, что исчерпывающий их свод собрать все-таки не удастся: постоянно обнаруживаются новые письма поэта в российских и зарубежных книгохранилищах, в частных коллекциях, в фондах, еще не оказавшихся в поле зрения цветаеведов.
Письма Цветаевой впервые расположены в хронологической последовательности, позволяющей полностью воссоздать биографию поэта, ибо они отражают все этапы ее жизненного пути, духовной и творческой эволюции. Кроме того, такой порядок публикации позволяет рассматривать Марину Цветаеву в контексте времени, всесторонне раскрыть биографические и творческие связи и ее отношения с современниками. Известно, что большинство ее адресатов — писатели, поэты, критики, издатели.
Письма печатаются по оригиналам или копиям с оригиналов, а при их недоступности — по первой полной публикации. Большинство писем, опубликованных ранее, сверены или исправлены по оригиналам или их копиям.
Все тексты писем печатаются по современной орфографии, но с максимальным сохранением индивидуальных авторских особенностей написания и произношения отдельных слов, а также пунктуации.
В авторской транскрипции приводятся также некоторые названия, имена и фамилии.
Пропуски в текстах обозначены угловыми скобками. В угловых скобках также раскрываются недописанные и сокращенные слова (кроме общепринятых). Слова и фразы, подчеркнутые в подлиннике, выделяются курсивом или разрядкой.
Авторские даты и указания мест написания помещены слева (вверху или внизу, в зависимости от места их указания в оригинале). Даты, установленные по почтовым штемпелям или по содержанию, заключены в угловые скобки. Слова, введенные Цветаевой в датировку (обозначение дня, название праздника и т.д.), сохранены. Оставлено без изменения обозначение календарного стиля: после 1 февраля 1918 г. Цветаева долгое время придерживалась старого (русского) стиля или ставила две даты — по старому и новому стилю.
Варианты писем или их черновики-дубликаты печатаются меньшим шрифтом, а их нумерация содержит дополнительное буквенное обозначение (например, 27а-17).
Переводы иноязычных слов даются подстрочно.
Сведения об адресатах писем выделены в отдельный указатель.
Составитель приносит благодарность за помощь в работе З.Н. Атрохиной, Л.О. Мистрюковой (Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой, Болшево), Э.С. Красовской, М.Ю. Мелковой, О.Ю. Тесленко, М.М. Уразовой (Дом-музей Марины Цветаевой, Москва), Н.В. Рыжак (Российская государственная библиотека).
Условные сокращения, принятые в комментариях
Болшево, 2 — Болшево: Литературный историко-краеведческий альманах. 2. М: Товарищество «Писатель», 1992.
Борисоглебье — Борисоглебье. Дом-музей Марины Цветаевой (Москва). М.: Троица, 2007.
Воспоминания — Воспоминания о Марине Цветаевой / Сост. Л.А. Мнухина и Л.М. Турчинского. М.: Сов. писатель, 1992.
ДМЦ — Архив Дома-музея Марины Цветаевой (Москва).
Души начинают видеть — Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 гг. Изд. подгот. Е.Б. Коркина и И.Д. Шевеленко. М.: Вагриус, 2004.
ЕРО — Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 г. Л.: Наука, Лен. отд., 1977.
Книги стихов — Цветаева М. Книги стихов / Сост., коммент., статья Т.А. Горьковой. М.: Эллис Лак, 2000.
Литературное обозрение. — Литературное обозрение. 1991. № 9.
Минувшее, 8, 11. — Минувшее: Ист. альм. Вып. 8 и 11. Париж: Atheneum, 1989, 1991.
НЗК-1, НЗК-2 — Цветаева М. Неизданное: Записные книжки: В 2 т. Т. 1 и 2 / Сост., подгот. текста, предисл. и примеч. Е.Б. Коркиной и М.Г. Крутиковой. М.: Эллис Лак, 2000, 2001.
НИСП — Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. / Сост. и коммент. Е.Б. Коркиной. М.: Эллис Лак, 1999.
НП — Цветаева М. Неизданные письма / Под общей ред. Г.П. Струве и H.A. Струве. Париж: YMCA-Press, 1992.
HCT — Цветаева M. Неизданное. Сводные тетради / Подгот. текста, предисл. и примеч. Е.Б. Коркиной и И.Д. Шевеленко. М.: Эллис Лак, 1997.
Обреченность на время — Марина Цветаева в критике современников: В 2 ч. Ч. 2. 1942–1987 годы. Обреченность на время / Сост. Л.А. Мнухина, подгот. текста и коммент. Л.А. Мнухина и Е.В. Толкачевой. М.: Аграф, 2003.
Письма к Анне Тесковой — Цветаева М. Письма к Анне Тесковой / Сост., подгот. текста и коммент. Л.А. Мнухина. Вступ. статья А. Главачека. М.: Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве, 2008.
Письма к Константину Родзевичу — Цветаева М. Письма к Константину Родзевичу / Изд. подгот. Е.Б. Коркина, Ульяновский Дом печати, 2001.
Письма к Л.Е. Чириковой-Шнитниковой — Письма М.И. Цветаевой к Л.Е. Чириковой-Шнитниковой / Сост. подгот. текста и примеч. Е.И. Лубяннниковой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Изограф, 1997.
Полякова С. — Полякова С. Закатные оны дни: Цветаева и Парнок. Анн Арбор: Ардис, 1983.
Поэт и время. — Марина Цветаева. Поэт и время: Выставка к 100-летию со дня рождения. М.: Галарт, 1992.
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.
РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
Родство и чуждость — Марина Цветаева в критике современников: В 2 ч. Ч. 1. 1918–1941 годы. Родство и чуждость / Сост. Л.А. Мнухина, подгот. текста и коммент. Л.А. Мнухина и Е.В. Толкачевой. М.: Аграф, 2003.
Саакянц А. — Саакянц А. Марина Цветаева: Страницы жизни и творчества (1910–1922). М.: Сов. писатель. 1986.
Саакянц А.-2. — Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак, 1997.
СС 1–5 — Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. / Сост., подгот. текста, и коммент. A.A. Саакянц и Л.А. Мнухина. М.: Эллис-Лак, 1994–1995.
СС 6–7 — Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. / Сост., подгот. текста, и коммент. Л.А. Мнухина. М.: Эллис-Лак, 1995.
Соч. 88 (1, 2) — Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Худож. литература. 1988.
Цветаева А. — Цветаева А. Воспоминания. 3-е изд., испр. и доп. М.: Сов. писатель, 1983.
Швейцер В. — Швейцер В. Страницы биографии Марины Цветаевой. Russian Literature Amsterdam. IX. 1981.
Швейцер В.-2. — Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. — Fontenay-aux-Roses, France: Синтаксис, 1988.
Эфрон А. — О Марине Цветаевой: Воспоминания дочери / Сост. и автор вступ. статьи М.И. Белкина. Коммент. Л.М. Турчинского. М.: Сов. писатель, 1989.
Marina Cvetaeva. Studien und materialen. — Cvetaeva Marina. Studien und materialen. Wien: Wiener Slawistischer Almanach. Sb. 3. 1981.
WSA. — Марина Цветаева. Статьи и тексты. Wien: Wiener Slawistischer Almanach, Sb. 32.
ВРХД — Вестник русского христианского движения. Париж; Нью-Йорк; Москва.
Адресаты писем М.И. Цветаевой
АХМАТОВА Анна Андреевна (урожд. Горенко; 1889–1966) — поэт. Ранняя Цветаева с пиететом относилась к Ахматовой. Посвятила ей поэму «На Красном Коне» (1921, впоследствии посвящение снято), к ней обращено стихотворение «Анна Ахматова» (1915) и стихотворный цикл «Ахматовой» (1916). Впоследствии изменила к ней отношение. Ахматовскую «Поэму без героя» Цветаева не приняла. Ахматова тоже критически отнеслась к «Поэме Воздуха», «Поэме Горы», «Поэме Конца» и другим произведениям Цветаевой. Известна переписка между поэтами, относящаяся к 1921 г. Встретились они только один раз в июне 1941 г. (два дня): первый день — у Ардовых, второй — у H.H. Харджиева. Ахматова посвятила Цветаевой стихотворения «Поздний ответ» («Невидимка, двойник, пересмешник…», 1940), «Ты любила меня и жалела…» (1959), упоминала о ней и в других своих стихах («Какая есть. Желаю вам другую…», 1942; «Нас четверо. Комаровские наброски». 1961), прозе и дневниковых записях.
БАХРАХ Александр Васильевич (1902–1985) — литературный критик, мемуарист. С мая 1920 г. в эмиграции. С конца 1922 г., по предложению заведующего литературным отделом газеты «Дни» М. Осоргина начал писать рецензии. Одна из них, посвященная сборнику Цветаевой «Ремесло», послужила началом переписки между поэтом и критиком, пик которой пришелся на лето 1923 г. Первая личная встреча состоялась сразу по приезде Цветаевой в Париж, в 1925 г. «…За все ее парижские годы я побывал у нее считанное число раз <…> Вероятно это происходило потому, что разговор с ней у меня никогда не клеился, мне казалось, что приходится подниматься на крутую гору. Хоть и был он утонченно литературен, но, вместе с тем, в каждой брошенной ею фразе, в любом ее полуслове мне чудился какой-то второй смысл, намек на что-то, что перегорело или, строго говоря, было измышлено» (Бахрах А. По памяти, по записям. Париж, 1980. стр. 59).
БЕССАРАБОВ Борис Александрович (1897–1970) — доброволец (с сентября 1919 г.), красноармеец (работал в штабе железнодорожных войск республики). Родился в Воронеже, учился в гимназии (бросил незадолго до окончания), затем в Художественной школе (одним из организаторов которой он являлся). Его мать, происходившая из старообрядческой семьи купеческого звания, была домашней учительницей, отец работал машинистом на железной дороге. Цветаева познакомилась с ним в 1921 г. в Москве. Непродолжительное время Бессарабов жил в доме Цветаевой в Борисоглебском переулке, помогал ей в бытовых делах, переписывал «Царь-Девицу». По ее просьбе встречался с А. Ахматовой (передал ей письмо и иконку). Вдохновил Цветаеву на создание поэмы-сказки «Егорушка» (1921, не завершена) и стихотворения «Большевик» (1921). Пылкая дружба окончилась со стороны Цветаевой скорым охлаждением к юноше.
БОГАЕВСКАЯ Жозефина Густавовна (урожд. Дуранте; 1977–1969) — жена К.Ф. Богаевского.
БОГАЕВСКИЙ Константин Федорович (1872–1943) — художник. Цветаева познакомилась с ним в Коктебеле, в доме М.А. Волошина. Высоко ценила его творчество. Посвятила ему стихотворение «Сердце, пламени капризней…» (1913).
БОГЕНГАРДТ Антонина Константиновна — мать В.А. Богенгардта.
БОГЕНГАРДТ Всеволод Александрович (1892–1961). Капитан Марковского полка, педагог. Учился в Московском университете. В мировую войну служил в санитарном отряде. В Гражданскую войну воевал в составе Марковского полка Добровольческой армии, участник его Кубанского похода. Однополчанин С.Я. Эфрона. Эмигрировал через Галлиполи в Константинополь, затем переехал в Чехословакию. Работал воспитателем в Русской гимназии в Моравской Тшебове, где училась Ариадна Эфрон. В середине 1920-х гг. с женой уехал во Францию. Работал шофером.
БОГЕНГАРДТ Ольга Николаевна (урожд. графиня Стенбок-Фермор; 1893–1967). Педагог. Жена В.А. Богенгардта. Эмигрировала в Константинополь, затем переехала в Чехословакию. Работала воспитателем в Русской гимназии в Моравской Тшебове.
БРЮСОВ Валерий Яковлевич (1873–1924) — поэт, критик, основоположник русского символизма. Цветаева увлекалась поэзией Брюсова в юности. Поводом для знакомства с Брюсовым послужило письмо Цветаевой от 15 марта 1910 г. о творчестве Э. Ростана. Брюсов откликался в печати на сборники Цветаевой «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь». Их отношения — отношения между поэтами старшего и младшего поколений — можно характеризовать, как «любовь — вражда». К Брюсову обращены ранние стихи Цветаевой «Недоумение» («Вечерний альбом»), «В.Я. Брюсову» («Улыбнись в мое окно…», сб. «Волшебный фонарь»), «В.Я. Брюсову» («Я забыла, что сердце в Вас — только ночник…», сб. «Из двух книг»). Брюсову посвящена цветаевская статья-рецензия «Волшебство в стихах Брюсова» (1910). Его памяти Цветаева посвятила очерк «Герой труда» (1925).
«ВЕСТНИК ТЕАТРА» — еженедельное издание Театрального Отдела (ТЕО) Наркомпроса. Выходило в Москве с 1919 по 1921 г. (вышло 94 номера) Редактор В.И. Блюм.
ВИШНЯК Абрам Григорьевич (Геликон, 1895–1943) — издатель, владелец русского издательства «Геликон» (Берлин), в котором вышли сборники Цветаевой «Разлука» и «Ремесло» (1923). Недолгое увлечение Цветаевой Геликоном произошло в Берлине в 1922 г. Однако все письма Цветаевой к Вишняку остались без ответа (кроме одного) и были возвращены адресатом. В 1933 г. девять своих писем к Вишняку и одно ответное его Цветаева перевела на французский язык, придав переписке форму литературного произведения, известного под названием «Флорентийские письма» (поводом для названия послужило поступившее от Геликона предложение Цветаевой перевести на русский одноименную новеллу Г. Гейне. Издание не осуществилось). При жизни Цветаевой «Флорентийские ночи» напечатаны не были. Цветаева перепосвятила Вишняку цикл «Отрок» (первоначально посвящен Э.Л. Миндлину, 1921), «Есть час на те слова…» (1922, впоследствии посвящение снято), цикл «Земные приметы» (1922, впоследствии посвящение снято).
ВОЛКОНСКИЙ Сергей Михайлович, князь (1869–1937) — внук декабриста С.Г. Волконского, театральный деятель, критик, беллетрист. В 1899–1901 гг. директор Императорских театров. С 1921 г. в эмиграции. Жил в Германии, Италии, с 1925 г. — в Париже. Театральный обозреватель газеты «Последние новости», читал лекции по истории русской литературы, русского театра для эмигрантов. Цветаева познакомилась с ним в 1919 г. в Москве, «переписала ему начисто» его мемуары «Лавры», «Странствия», «Родина», написала на мемуарную книгу «Родина» рецензию-апологию «Кедр» (1924). Посвятила Волконскому цикл «Ученик» (1921), стихотворение «Кн. С.М. Волконскому» (1921). В эмиграции поддерживала с Волконским дружеские отношения. Свою книгу «Быт и бытие» (1924) Волконский посвятил Цветаевой, где в предисловии объяснил причины своего посвящения и происхождения названия книги, связанного с Цветаевой.
ВОЛОШИН Максимилиан Александрович (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877–1932) — поэт, критик, художник, друг М.И. Цветаевой и С.Я. Эфрона. Цветаева познакомилась с Волошиным в конце 1910 г. после его рецензии на ее сборник «Вечерний альбом», в котором он первый отметил талант настоящего поэта. Их встречи продолжались до конца 1917 г., переписка — до 1923 г. Цветаева была частым гостем дома Волошина в Коктебеле. Посвятила ему стихотворения «Безнадежно-взрослый Вы? — О, нет!..» (1910), «Кошки»(без даты), цикл «Ici-haut» (1932), очерк «Живое о живом» (1932). К Цветаевой обращены стихотворение Волошина «К Вам душа так радостно влекома…» (1910) и цикл из двух сонетов «Две ступени» (1917).
ВОЛОШИНА Е.О. — см. КИРИЕНКО-ВОЛОШИНА Е.О.
ВЫШЕСЛАВЦЕВ Николай Николаевич (1890–1952) — художник, библиофил. Учился живописи в Париже, участник Первой мировой войны (1916–1918), был ранен, награжден Георгиевским крестом. Цветаева познакомилась с ним в Москве в апреле 1920 г. В момент встречи с Цветаевой Вышеславцев работал библиотекарем в Доме искусств (на Поварской). Плодом влюбленности в Вышеславцева явился цикл из 27 стихотворений Цветаевой <Н.Н.В.> (1922), пьеса «Ученик» (не сохранилась). Вышеславцев написал портреты Марины Цветаевой (черная акварель, 1921, хранится в Третьяковской галерее) и Ариадны Эфрон (не сохранился).
ГЕНЕРОЗОВА Валентина Константиновна (в замуж. Перегудова; 1892–1967) — гимназическая подруга Цветаевой. Цветаева познакомилась и подружилась с ней в 1906 г. в московской гимназии В.П. фон Дервиз. В 1907 г. Цветаева оставила гимназию, но переписка с подругой длилась до начала 1910 г., до отъезда Генерозовой к родственникам в Саратов. Ей посвящено стихотворение Цветаевой «У кроватки». Генерозова написала воспоминания о Цветаевой «Мое знакомство с ней началось в гимназии».
ГУЛЬ Роман Борисович (1896–1986) — писатель, критик. Участник Белого движения. С 1918 г. в эмиграции. С 1920 г. жил в Берлине, в 1922 г. работал секретарем редакции журнала «Новая русская книга». В 1933 г. — узник фашистского концлагеря, после освобождения в сентябре переехал в Париж. С Гулем Цветаеву познакомил И.Г. Эренбург в Берлине в 1922 г. После переезда Цветаевой в Чехию у нее с Гулем завязалась переписка, длившаяся почти два года. В мемуарной книге «Я унес Россию» Гуль оставил портрет Цветаевой.
ДОБРОТВОРСКИЙ Иван Зиновьевич (1896–1919). Земский врач Тарусского уезда, почетный гражданин г. Тарусы.
ДОБРОТВОРСКАЯ Елена Александровна (урожд. Цветаева; 1857–1939). Его жена, двоюродная сестра И.В. Цветаева.
ЕРОФЕЕВ Александр Сергеевич (1887–1949) — инженер, служил в Наркомвнешторге, в книготорговых организациях. Литературный работник, меломан. Муж В.К. Звягинцевой.
ЗАЙЦЕВ Петр Никанорович (1889–1970) — писатель, издательский работник. Цветаева познакомилась с Зайцевым весной 1922 г. в Госиздате, который принял к печати две ее книги: «Царь-Девица» и «Версты» (вып. первый).
ЗВЯГИНЦЕВА Вера Клавдиевна (1894–1972) — поэтесса, переводчица. В 1917 г. окончила драматическую школу и выступала на сцене. С Звягинцевой и ее мужем A.C. Ерофеевым Цветаева познакомилась в 1919 г. Знакомство вскоре переросло в бурную дружбу, хотя и недолгую.
ИВАНОВ Вячеслав Иванович (1866–1949) — поэт, переводчик, философ. До революции подолгу жил за границей. Цветаева познакомилась с ним в мае 1920 г., когда Иванов посетил Цветаеву в ее квартире в Борисоглебском переулке. С 1924 в Италии, жил в Риме. В 1915 г. написал обращенное к Цветаевой стихотворение «Исповедь» («Под березой белой, что в овраге плачет…»). Цветаева посвятила ему цикл из трех стихотворений («Вячеславу Иванову», 1920).
ИЛОВАЙСКАЯ Александра Александровна (урожд. Коврайская; 18521929) — вторая жена Д.И. Иловайского, отца первой жены И.В. Цветаева. Д.И. Иловайскому и его семье посвящен очерк Цветаевой «Дом у Старого Пимена» (1933).
КЕЗЕЛЬМАН Сергей Матвеевич (1880 —?) — юрист, антропософ. Первый муж О.Д. Иловайской. Служил в Московской городской думе, был помощником присяжного поверенного.
КИРИЕНКО-ВОЛОШИНА Елена Оттобальдовна (урожд. Глазер; домашнее прозвище Пра; 1850–1923) — мать М.А. Волошина. С ней Цветаева познакомилась в мае 1911 г. в первый свой приезд в Коктебель к М.А. Волошину. Долгие годы их связывала нежная дружба. Кириенко-Волошина была посаженной матерью при венчании М.И. Цветаевой и С.Я. Эфрона 27 января 1912 г. в Палашевской церкви в Москве. Цветаева посвятила ей восторженные отзывы в своих воспоминаниях «Живое о живом» (1932).
КОБЫЛИНСКИЙ Л.Л. — см. ЭЛЛИС.
КОЖЕБАТКИН Александр Мелетьевич (1884–1942) — московский издатель и библиофил. В 1910–1912 гг. работал в издательстве «Мусагет». Знакомство Цветаевой с ним произошло, видимо, или в самом издательстве, или в кругах, близких к нему. Цветаева бывала на мусагетских собраниях.
КУЗМИН Михаил Алексеевич (1875–1936) — писатель, поэт, композитор. Цветаева встречалась с ним в Петербурге в 1916 г. на квартире И.С. Каннегисера. Описала эту встречу в очерке «Нездешний вечер» (1936), посвященном памяти Кузмина. К Кузмину обращено ее стихотворение «Два зарева! — нет, зеркала́!» (1921).
КУЗНЕЦОВА Мария Ивановна (псевд. Гринева; 1895–1966) — актриса Камерного театра, вторая жена Б.С. Трухачева. Познакомилась с Цветаевой зимой 1912 г. на «Курсах драмы» C.B. Халютиной, где Цветаева читала свои стихи. Написала воспоминания о Цветаевой.
КУДАШЕВА М.П. — см. КЮВИЛЬЕ М.П.
КЮВИЛЬЕ Мария Павловна (урожд. Михайлова, по матери Кювилье, в первом замужестве Кудашева, во втором Роллан; 1895–1985) — поэтесса, переводчик. В детстве несколько лет жила во Франции, находилась в католическом монастыре. В 1902 г. вернулась в Россию. Писала стихи по-русски и по-французски. Публиковалась в коллективных сборниках. С 1931 г. за границей, жила во Франции и Швейцарии. Жена Р. Роллана. Пользуясь статусом жены писателя, помогала получить разрешение на эмиграцию людям из России, чьи родственники жили за границей. Знакомство Цветаевой и Кудашевой произошло, вероятно, зимой 1912/13 г. в Москве. Их связывала недолговременная дружба. В Париже их знакомство продолжения не имело.
ЛАНН Евгений Львович (наст. фам. Лозман; 1896–1958) — поэт, прозаик, переводчик. С Ланном Цветаева познакомилась в Москве в конце 1920 г., «испытала огромный и творческий подъем» от встречи с ним. Им вдохновлена поэма «На Красном Коне» (1921). Цветаева посвятила Ланну стихотворения «Я знаю эту бархатную бренность…», «Не называй меня никому…», «Прощай! — Как плещет через край…», «Короткие крылья волос я помню…» (все 1920). Ланн написал на Цветаеву и посвятил ей стихотворную пародию «Коктебель — Россия» (1925).
ЛЕБЕДЕВ Алексей Андреевич (1860–1919) — учитель математики Александровского приходского училища, квартирный хозяин А.И. Цветаевой в г. Александрове (Военный переулок, 5; Владимирская губ.).
ЛЕБЕДЕВА Александра Федуловна (1870–1932) — жена A.A. Лебедева.
МЕЙН М.А. — см. ЦВЕТАЕВА М.А.
МИЛИОТИ Василий Дмитриевич (1875–1943) — живописец, сценограф. Специального художественного образования не получил. Занимался живописью под руководством брата Николая (1874–1962). Учился в Московском университете на юридическом и историко-филологическом факультетах. С начала 1900-х гг. участвовал в выставках объединений «Голубая роза», «Мир искусства», Союза русских художников. Оформлял своей графикой журналы «Весы» и «Золотое руно». Выступал как сценограф. Был секретарем Союза русских художников. Знакомство Цветаевой с Милиоти состоялось, скорее всего, в начале 1920 г. и вскоре переросло в дружбу. Весной 1920 г. Цветаева надписала Милиоти свой первый сборник «Вечерний альбом» как «другу в веселье, добре и духе» (частное собрание), «…было в нем неотразимое обаяние» — занесла Цветаева свое первое впечатление от художника в свою записную книжку (НЗК-2. стр. 77). Однако дружба их быстро сошла на нет. Летом того же года Цветаева посвятила ему нелицеприятные строки: «Птичка все же рвется в рощу, / Как зерном не угощаем! // Я взяла тебя из грязи, — / В грязь родную возвращаю!» (НЗК-2. стр. 214). Сохранившиеся в черновых записях августовские письма Цветаевой представляют собой отголоски ее недолгого увлечения.
НИКИТИНА Евдоксия Федоровна (1895–1973) — литературовед, библиограф. В 1914 г. организовала литературное объединение, собрания которой проходили на ее квартире (с 1921 г. «Никитинские субботники»). В 1922 г. при литобъединении под этим же названием было создано кооперативное издательство В 1921–1922 г. Цветаева посещала «Никитинские субботники», выступала с чтением своих стихов, а 31 декабря 1921 г. прочла пьесу «Конец Казановы».
НОЛЛЕ-КОГАН Надежда Александровна (1888–1966) — жена литературоведа и критика Петра Семеновича Когана (1872–1932), близкая знакомая A.A. Блока. Цветаева познакомилась с ней осенью 1921 г. Молва утверждала, что у H.A. Нолле-Коган родился сын от A.A. Блока. Цветаева верила в эту легенду.
ОБОЛЕНСКИЙ Андрей Владимирович, князь (1900–1975) — участник Гражданской войны, пражский знакомый Цветаевой, «тихий приятель» (по ее определению); провожал Цветаеву с дочерью на вокзал при их отъезде в Моравску Тшебову. С 1920 г. в эмиграции.
ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890–1960) — поэт, прозаик, переводчик. С ним Цветаева познакомилась в Москве после октябрьских событий на поэтическом вечере. Горячая дружба завязалась летом 1922 г., когда Пастернак написал Цветаевой в Берлин восторженное письмо о ее книжке «Версты» (1921), а Цветаева с восторгом отозвалась о его сборнике «Сестра моя жизнь». Завязавшееся эпистолярное общение достигло апогея в 1926 г., но к 1936 г. сошло на нет. Пастернак посвятил Цветаевой стихотворения «Не опорные поселяне…» (1926), «Марине Цветаевой» (1929), акростих «Мгновенный снег, когда булыжник узрен…» (1929), «Памяти Марины Цветаевой» (1943) и вспоминал о ней в автобиографическом очерке «Люди и положения» (1956, 1957). Она стала одним из прототипов главной героини поэмы Пастернака «Спекторский» (1924–1930) и др. Цветаева написала на книгу Пастернака «Сестра моя жизнь» рецензию «Световой ливень» (1922), о его стихах говорила в статьях «Эпос и лирика современной России» (1932), «Поэты с историей и поэты без истории» (1933). К «собрату по песенной беде» обращен цикл стихов «Провода» (1923) и стихотворения «Неподражаемо лжет жизнь…» (1922), «Сахара (1923), „Строительница струн — приструню…“ (1923), „Двое“ (1924), „Рас—стояние: версты, мили…“ (1925), „В седину — висок…“ (1925), „Русской ржи от меня поклон…“ (1925). Поэма „С моря“ (1926) написана как поэтическое послание к Пастернаку. К нему и P.M. Рильке обращена поэма „Попытка комнаты“ (1926). История переписки Цветаевой и Пастернака и сама их переписка составили отдельный том: М. Цветаева. Б. Пастернак: Души начинают видеть: Письма 1922–1936 гг. (М.: Вагриус, 2004).
ПАСТЕРНАК Леонид Осипович (1862–1945) — живописец и график, отец Б.Л. Пастернака. С 1921 г. жил в Германии, затем в Англии. Личного знакомства Цветаевой с Л.О. Пастернаком, по-видимому, не произошло.
ПЛУЦЕР-САРНА Никодим Акимович (1881–1945) — близкий друг Цветаевой, поддерживал ее в трудных житейских обстоятельствах. Знакомство с ним относится к 1916 г. Ему посвящен цикл „Даниил“ (1916), а также стихотворения „Бог согнулся от заботы…“, „И другу на́ руку легло…“, „Я хотела бы жить с Вами…“, „Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…“, „Кабы нас с тобой да судьба свела…“, „Руки даны мне — протягивать каждому обе…“ (все 1916), „Из Польши твоей спесивой…“ (1917). Цветаева в 1941 г., проставляя посвящения в экземпляре своего сборника „Версты“, принадлежащем А.Е. Крученых, написала о Плуцер-Сарна: „…жизнь спустя — могу сказать, что — сумел меня любить, что сумел любить эту трудную вещь — меня“ (коллекция М.С. Лесмана). Внося эту запись в свою тетрадь 1941 г., Цветаева сделала одно уточнение: „(Все стихи отсюда — до конца книги — и много дальше (и немножко до) — написаны Никодиму Плуцер-Сарна…)“. (См.: Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана: Аннотированный каталог. Публикации. М.: Книга, 1989. С. 225–226).
РОДЗЕВИЧ Константин Болеславович (1895–1988). — Родился в Петербурге в семье военного врача. Окончил гимназию в Люблине. Учился в университетах Варшавы, Киева и Петербурга. В 1917 г. добровольно ушел на военную службу. С 1920 г. в эмиграции. В 1922–1924 гг. был студентом юридического факультета Карлова университета в Праге. В январе 1925 г. уехал в Ригу. С весны 1926 г. жил во Франции. Участник Сопротивления. Занимался живописью, скульптурой. Автор портретов Цветаевой. Подробности его биографии (с его собственных слов) читатель найдет в книгах А. Саакянц „Спасибо Вам!“ (М.: Эллис Лак, 1998) и В. Лосской „Марина Цветаева в жизни. Воспоминания современников“ (М.: ПРОЗАиК», 2011). Из «независимых источников» нам известен один — глава из книги Алена Бросса «Агенты Москвы» (Париж: Галлимар, 1988), русский перевод которой см. «Иностранная литература». 1989, № 12.
РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856–1919) — философ, писатель, критик. Переписку с Розановым начала Анастасия Цветаева, Марина написала Розанову после того, как прочла его книгу «Уединенное», которая произвела на нее огромное впечатление. В марте 1914 г. послала ему сборник своих стихов «Из двух книг». Ответных писем не последовало.
СТРУВЕ Глеб Петрович (1898–1985) — литературовед, издатель. С конца 1918 г. в эмиграции. Автор монографии «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк, 1956; Париж, 1984). Знакомство Цветаевой с Г.П. Струве состоялось летом 1922 г. в Берлине, где он заведовал отделением редакции журнала «Русская мысль» и наблюдал за его печатанием в одной из типографий. Редакция журнала, которую возглавлял П.Б. Струве, отец адресата, находилась в Праге. Встречи Цветаевой с Г.П. Струве продолжились в Чехии, а затем некоторое время в Париже, главным образом на литературных вечерах. В начале 1930-х гг. их общение прекратилось. По свидетельству Г.П. Струве, причиной явилась просоветская позиция мужа Цветаевой.
СТУВЕ Петр Бернгардович (1870–1944) — политик, экономист, публицист, издатель, отец Г.П. Струве. С 1920 г. в эмиграции, жил в Праге, Париже, Белграде. С 1925 по 1927 г. возглавлял газету «Возрождение», редактор журнала «Русская мысль» (1921–1924, 1927) и других периодических изданий. Встречались, по-видимому, только в редакциях. В 1926 г. в своей газете «Возрождение» (от 6 мая) выступил с резкой критикой стихотворения Цветаевой и ее эссе «Поэт о критике», опубликованных в журнале «Благонамеренный» (Брюссель. 1926. № 2).
СТРУВЕ Юлия Юльевна (урожд. Андре; 1900 —?) — первая жена Г.П. Струве. Познакомилась с Цветаевой в 1922 г. в Берлине.
СУВЧИНСКИЙ Петр Петрович (1892–1985) — музыковед, философ, критик, педагог, один из основателей евразийского движения. С 1920 г. в эмиграции. В 1922–1928 гг. возглавлял издательство «Евразия». Знакомство Цветаевой с Сувчинским, по-видимому, состоялось в Берлине, летом 1922 г., где они сотрудничали в издательстве «Геликон». Продолжилось и укрепилось после переезда Цветаевой в Париж. Вместе с Д.П. Святополк-Мирским С.Я. Эфроном являлся организатором и соредактором журнала «Версты» (1926–1928).
ТЕСКОВА Анна Антоновна (1872–1954) — чешская писательница, переводчица произведений Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Д.С. Мережковского и др. Общественная деятельница, одна из основателей Чешско-русской Едноты. Цветаева познакомилась с Тесковой в конце 1922 г., когда написала ей письмо, в котором сообщала, что согласна выступить на литературном вечере. Личное знакомство длилось до отъезда Цветаевой во Францию, дружеские, доверительные отношения и переписка сохранились до 1939 г. В течение всего времени их знакомства Тескова оказывала Цветаевой действенную материальную и моральную помощь. Цветаева посвятила Тесковой стихотворный цикл «Деревья» (1922–1923).
ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич, граф (1882/83-1945) — прозаик, драматург, публицист. В 1918–1923 гг. в эмиграции. В 1923 г. вернулся в Советскую Россию. До революции Цветаева и Толстой некоторое время были в одной компании, «обормотнике» (Дом М.А. Волошина в Коктебеле, московская квартира на Малой Молчановке). Впоследствии отношения испортились.
ТРУПЧИНСКАЯ Анна Яковлевна (урожд. Эфрон, домашнее имя Нютя; 1883–1971) — старшая сестра С.Я. Эфрона, жена A.B. Трупчинского. В 1913–1915 гг. работала в отделе библиографии журнала «Вестник Европы», впоследствии преподаватель истории. Не одобряла ранней женитьбы брата на М. Цветаевой.
ТРУПЧИНСКИЙ Александр Владимирович (1877–1938) — потомственный дворянин, присяжный поверенный.
ТРУХАЧЕВ Борис Сергеевич (1892–1919) — первый муж А.И. Цветаевой, умер от сыпного тифа.
ФЕЛЬДШТЕЙН Ева (Эва) Адольфовна (урожд. Леви; 1886–1964) — первая жена М.С. Фельдштейна.
ФЕЛЬДШТЕЙН Михаил Соломонович (1884/85-1939) — юрист. Профессор права, сын писательницы P.M. Хин-Гольдовской. С 1919 г. — муж В.Я. Эфрон. Работал в Государственной библиотеке имени В.И. Ленина (ныне РГБ). Цветаеву познакомил с Фельдштейном М.А. Волошин в Москве в конце 1912 — начале 1913 г. Фельдштейну посвящены стихи «Я сейчас лежу ничком…» и «Мальчиком, бегущим резво…» (оба 1913).
ЦВЕТАЕВ Иван Владимирович (1847–1913) — филолог-классик, профессор истории искусств Киевского и Московского университетов, основатель, а затем директор Музея изящных искусств имени императора Александра III (ныне Музей изобразительных искусств имени A.C. Пушкина), отец М.И. и А.И. Цветаевых. Ему Цветаева посвятила серию очерков «Отец и его музей».
ЦВЕТАЕВА Анастасия Ивановна (Ася; 1894–1993) — младшая сестра М.И. Цветаевой, писательница, мемуаристка. Ей посвящены многие стихотворения 1908–1913 гг. В 1927 г. ненадолго приехала к сестре в Париж после посещения М. Горького в Италии. В момент возвращения М.И. Цветаевой в Россию в 1939 г. А.И. Цветаева находилась в заключении. Автор обширных воспоминаний о детстве и юности сестры.
ЦВЕТАЕВА Валерия Ивановна (Лёра, в замуж. Шевлягина; 1883–1966) — дочь И.В. Цветаева от первого брака. Педагог. Преподавала в частной гимназии. В 1920 г. организовала и до 1932 г. руководила Государственными курсами «Искусство движения». Последние годы жизни провела в Тарусе. В.И. Цветаева — персонаж биографической прозы М.И. Цветаевой «То, что было» (1911–1912) и «Черт» (1935). Автор мемуарных записок о Цветаевой (Воспоминания).
ЦВЕТАЕВА Мария Александровна (урожд. Мейн; 1868–1906) — вторая жена И.В. Цветаева (дочь его друга А.Д. Мейна, московского обозревателя газеты «Голос»); мать М.И. и А.И. Цветаевых. Была человеком разносторонне одаренным: прекрасно рисовала, переводила (в совершенстве владела четырьмя иностранными языками), великолепно пела. Совсем молодой вышла за И.В. Цветаева, вдовца с двумя детьми. Умерла от туберкулеза. Ей Цветаева посвятила немало стихов в своих ранних сборниках, а также очерки «Мать и музыка» (1934) и «Сказка матери» (1934).
ЦЕТЛИНА Мария Самойловна (урожд. Тумаркина; в первом браке Авксентьева; 1982–1976) — доктор философии, издатель, меценатка. В 1919 г. эмигрировала в Париж. Дружеские отношения между М.И. Цветаевой и М.С. Цетлиной сложились в годы революции в Москве. Цветаева была участницей известной встречи поэтов, которая состоялась на их квартире в Трубниковском переулке в январе 1918 г. М.О. Цетлин включил пять стихотворений Цветаевой в альманах «Весенний салон поэтов», выпущенный его издательством «Зерна» в 1918 г. Дружба Цветаевой с адресатом прервалась в конце 1925 г., когда Цетлина отказала ей в помещении для первого поэтического вечера в Париже (см. письмо к Д.А. Шаховскому от 15 ноября 1925 г.).
ЦЕКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта ученых. Создана при Совете народных комиссаров РСФСР в 1921 г., занималась учетом, регистрацией научных работников, привлечением ученых к общественной и исследовательской работе, оказывала им материальную помощь, проводила культурно-просветительскую работу.
ЧАБРОВ Алексей Александрович (наст. фам. Подгаецкий; 1883–1935) — актер, музыкант, друг А.Н. Скрябина. В эмиграции с 1923 г. В 1927 г. принял католичество. Цветаева посвятила ему поэму «Переулочки» (1922). A.A. Чабров был единственным человеком, кто 11 мая 1922 г. провожал М.И. Цветаеву и Алю в эмиграцию.
ЧИРИКОВА Людмила Евгеньевна (в замуж. Шнитникова; 1896–1995) — художник-график, ученица И.Я. Билибина, дочь писателя E.H. Чирикова. С 1920 г. в эмиграции. С Цветаевой познакомилась в Берлине, сделала обложку и заставки для книги Цветаевой «Царь-Девица» (1922, изд-во «Эпоха»).
ЭЛЛИС (наст, имя и фам. Лев Львович Кобылинский, домашнее прозвище Чародей; 1879–1947) — поэт, переводчик и критик, теоретик символизма, основатель кружка «Аргонавты» (вместе с А. Белым, 1902–1903) и издательства «Мусагет» (вместе с А. Белым и Э. Метнером, 1910–1917). С 1911 г. жил за границей, сопровождал Р. Штейнера в лекционном турне. В 1912–1913 гг. обратился в католичество. Жил в Италии, Швейцарии. С 1917 г. в Базеле, с 1919 и до конца жизни в Локарно. Друг сестер Цветаевых, с которым они познакомились зимой 1907/08 г. в доме Л.А. Тамбурер; был желанным гостем сестер в доме в Трехпрудном переулке. В конце 1909 г. сделал предложение М. Цветаевой, которое ею не было принято. Благодаря Эллису Цветаева вошла в литературные круги Москвы. Эллис — герой ранних стихотворений М. Цветаевой «Ошибка», «Чародею», «Бывшему Чародею», «Луч серебристый» (акростих), «Первое путешествие», «Второе путешествие» (сб. «Вечерний альбом»), поэмы «Чародей» (1914) и др. Ему посвящены многие страницы воспоминаний А.И. Цветаевой. Эллис посвятил М. Цветаевой стихотворения «В рай» («На диван уселись дети…» и «Ангел хранитель» («Мать задремала в тени на скамейке…»), а Асе — стихотворение «Прежней Асе».
ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891–1967) — писатель, общественный деятель. Знакомство с Цветаевой состоялось в 1917 г. К концу 1920 г. между ними установились непродолжительные дружеские отношения. Эренбург помог Цветаевой разыскать мужа, о котором не было известий после разгрома Белой армии. По приезде в Берлин Эренбурги приняли деятельное участие в устройстве Цветаевой. Последняя встреча состоялась в августе 1941 г. у Эренбурга. Цветаева посвятила И.Г. Эренбургу цикл «Сугробы» (1922), стихотворение «Вестнику» (1921). Эренбург посвятил Цветаевой главу в книге «Люди, годы, жизнь» (Воспоминания. стр. 124–131). У Эренбурга сохранилась книга Цветаевой «Разлука» с дарственной надписью: «Вам, чья дружба мне далась дороже любой вражды и чья вражда мне дороже любой дружбы. Эренбургу от Марины Цветаевой. Берлин, 29 мая 1922 года».
ЭФРОН Ариадна Сергеевна (1912–1975) — переводчик, художница, старшая дочь Цветаевой и С.Я. Эфрона. Цветаева пережила разные периоды отношений с дочерью — от безумной любви (дочь-наперсница, дочь-помощница) до полного разрыва с ней, когда Аля ушла из дома (1930-е). A.C. Эфрон сохранила архив матери, занималась публикацией произведений, автор воспоминаний о матери. Цветаева посвятила ей стихотворения «Аля» («Аля! — Маленькая тень…», 1913), «Але» (1914), «Четвертый год…» (1916), «Голубые, как небо, воды…» (1917), «Але» («А когда — когда-нибудь — как в воду…», 1917), «Марина! Спасибо за мир!..» (1918), «Але» (1918), «Але» («Молодой колоколенкой…», 1918), «Але» («Есть у тебя еще отец и мать…», 1918), «Але» («В шитой серебром рубашке…», 1919), «Консуэла! — Утешенье…» (1919), «Але» («Ни кровинки в тебе здоровой…», 1919).
ЭФРОН Вера Яковлевна (1888–1945) — сестра С.Я. Эфрона, актриса, впоследствии режиссер художественной самодеятельности.
ЭФРОН Елизавета Яковлевна (Лиля; 1885–1976) — сестра С.Я. Эфрона, педагог, режиссер. Из сестер мужа Цветаева больше всех любила именно ее, называла «Солнцем нашей семьи».
ЭФРОН Петр Яковлевич (1881–1914) — старший брат С.Я. Эфрона, член партии эсеров, участник Московского вооруженного восстания. С 1907 по 1913 гг. скрывался за границей. Был болен туберкулезом. Летом 1913 г. вернулся в Россию. Цветаева познакомилась с ним в августе 1913 г. и пережила период увлечения им. Посвятила ему цикл стихов «П.Э.» (1914), а также незавершенное стихотворение «Я видела Вас три раза…» (1914).
ЭФРОН Сергей Яковлевич (домашнее прозвище Лев; 1893–1941) — муж М.И. Цветаевой. В 1917 г. — офицер, участник октябрьских событий в Москве. С Добровольческой армией защищал Перекоп. После разгрома белых через Константинополь перебрался в Прагу. Окончил Пражский университет. Занимался журналистикой, издательским делом, кинематографом. С 1931 г. — сотрудник ГПУ. В 1937 г. переправлен в СССР. В 1939 г. арестован. Расстрелян в 1941 г. Ему посвящено много стихотворений Цветаевой: «Бабушкин внучек» (1911), «Венера» (1911), «Контрабандисты и бандиты» (1911), «Из сказки — в сказку» (1910-е), цикл «Сергею Эфрон-Дурново» (1913), «Генералам двенадцатого года» (1913), «С.Э.» («Я с вызовом ношу его кольцо…», 1914), «Я пришла к тебе черной полночью…» (1916), «На кортике своем: Марина…» (1918), «С.Э.» («Хочешь знать, как дни проходят…», 1919), «Писала я на аспидной доске…» (1920), цикл «Разлука» (1921), «Благая весть» (1921), «Георгий» (1921), «Как по тем донским боям…» (1921), «Новогодняя» (1922), «Новогодняя» (вторая) (1922), «Не похорошела за годы разлуки!..» (1922), «Верстами — вновь — разлетаются брови…» (1922), поэма «Перекоп» (1928–1929, 1939). В 1912 г. С. Эфрон выпустил книгу «Детство», посвященную Марине Цветаевой.
ЮРКЕВИЧ Петр Иванович (семейное прозвище Понтик; 1889–1968) — врач, военный терапевт, друг Цветаевой отроческих лет. После 1908 г. встречи Цветаевой и Юркевича стали эпизодическими, а вскоре и вовсе прекратились. В 1916 г. Юркевич предпринял попытку возобновить прежнюю дружбу, но Цветаева ответила отказом. Цветаева посвятила П. Юркевичу стихотворение «Месяц высокий над городом лег…» (1910-е).
ЯЩЕНКО Александр Семенович (1877–1934) — правовед, библиотекарь, издатель. С 1918 г. в эмиграции. Основатель ежемесячного критико-библиографического журнала «Русская книга» (в 1922–1923 гг. выходила под названием «Новая русская книга»). Обращался к Цветаевой с предложением опубликовать ее автобиографию в разделе журнала «Писатели о себе» (статья не была написана).
Указатель писем по адресатам
Ахматовой A.A. 1921 — 16, 23, 24
Бахраху A.B. 1923 — 25, 27, 31-37, 40, 44-46, 48, 49, 49a, 50, 53, 58, 60, 64-67
Бессарабову Б.А. 1921 — 3, 6
Богаевским Ж.Г. и К.Ф. 1912 — 7
Богенгардт А.К. 1923 — 74, 78
Богенгардтам А.К., В.А. и О.Н. 1923 — 61, 71
Богенгардту В.А. 1923 — 38, 41
Брюсову В.Я. 1910 — 2
В редакцию «Вестника театра» 1921 — 7
В ЦЕКУБУ 1922 — 4
Вишняку А.Г. 1922 — 8-11, 13, 16, 17, 19
Волконскому С.М. 1921 — 10, 13-15, 18
Волошиной Е.О. 1911 — 16; 1917 — 11, 13; 1921 — 22, 25
Волошину М.А. 1910 — 7-10; 1911 — 1-15, 21, 24, 26-29, 31-33, 35, 36; 1912 — 1, 5; 1913 — 1, 26; 1917 — 16-19; 1920 — 16; 1921 — 11, 28
Волошиным М.А. и Е.О. 1923 — 22
Вышеславцеву H.H. 1920 — 5, 6, 10
Генерозовой В.К. 1908 — 16; 1909 — 1; 1910 — 1
Гулю Р.Б. 1922 — 30, 31; 1923 — 1, 5, 9, 12, 15, 17, 23, 28
Добротворским И.З. и Е.А. 1907 — 1
Ерофееву A.C. 1920 — 15
Зайцеву П.Н. 1922 — 5
Звягинцевой В.К. 1919 — 3, 5; 1920 — 4
Звягинцевой В.К. и Ерофееву A.C. 1920 — 1-3, 11
Иванову Вяч. И. 1920 — 7-9
Иловайской A.A. 1905 — 2; 1906 — 1
Кезельману С.М. 1912 — 18
Кожебаткину A.M. 1912 — 6, 8
Кузмину М.А. 1921 — 17
Кузнецовой М.И. 1921 — 12
Кювилье М.П. 1913 — 16
Ланну Е.Л. 1920 — 17-19a, 21; 1921 — 1, 2, 4, 5, 20, 26
Лебедевым A.A. и А.Ф. 1918 — 8
Милиоти В.Д. 1920 — 12-14
Никитиной Е.Ф. 1922 — 1
Нолле-Коган H.A. 1921 — 29
Оболенскому A.B. 1923 — 52
Пастернаку Б.Л. 1922 — 14, 29-29б; 1923 — 6-8, 11, 13, 14, 14а, 14б, 18, 19, 42
Пастернаку Л.О. 1922 — 15
Плуцер-Сарна H.A. 1917 — 21, 30; 1918 — 1, 3, 4, 6, 7; 1919 — 1, 2, 4
Родзевичу К.Б. 1923 — 43, 47, 51, 54-57, 59, 62, 63, 68-70, 70а, 72, 73, 73а, 75-77, 79-83
Розанову В.В. 1914 — 3, 6, 7
Струве Г.П. 1923 — 29
Струве П.Б. 1922 — 23; 1923 — 10
Струве Ю.Ю. 1923 — 30
Сувчинскому П.П. 1922 — 28
Тесковой A.A. 1922 — 26
Толстому А.Н. 1922 — 7
Трупчинским А.Я. и A.B. 1912 — 4
Трухачеву Б.С. 1917 — 3
Фельдштейн Е.А. и М.С. 1916 — 10
Фельдштейн Э.А. 1913 — 15
Фельдштейну М.С 1913 — 3-7, 18, 23, 25
Цветаевой А.И. 1920 — 20
Цветаевой В.И. 1909 — 2; 1910 — 5
Цветаевой М.А. 1905 — 1
Цветаеву И.В. 1910 — 3
Цетлиной М.С. 1923 — 2, 4, 16, 24, 26, 39
Чаброву A.A. 1921 — 19
Чириковой Л.Е. 1922 — 20-22, 24, 25, 27; 1923 — 3, 20, 21
Эллису 1909 — 3; 1910 — 6; 1911 — 34
Эренбургу И.Г. 1921 — 27; 1922 — 2, 3, 6
Эфрон A.C. 1917 — 5-7, 9, 24; 1918 — 5; 1919 — 6, 7; 1921 — 21
Эфрон В.Я. 1911 — 25; 1912 — 9, 11-15; 1913 — 14, 17, 19-21, 24; 1914 — 4, 9, 10; 1916 — 7-9; 1917 — 1, 2, 10, 20, 27, 27а, 28
Эфрон Е.Я. 1911 — 22, 23, 30; 1912 — 2, 10, 16, 17; 1913 — 8, 11-13, 17, 22; 1914 — 5; 1915 — 1-3; 1916 — 1-3, 8; 1917 — 4, 8, 12, 14, 15; 1918 — 2
Эфрон Е.Я. и В.Я. 1911 — 17-20; 1912 — 3; 1913 — 2, 9, 10; 1914 — 1, 2, 8
Эфрону П.Я. 1914 — 11-13
Эфрону С.Я. 1916 — 4, 5; 1917 — 22, 23, 25, 26, 26а, 29, 31; 1921 — 8, 9
Эфрону С.Я. и A.C. 1916 — 11
Юркевичу П.И. 1908 — 1-15; 1910 — 4; 1916 — 6
Ященко A.C. 1922 — 12, 18
Указатель имен
А
Абрамов Я.В. 19, 55
Аввакум Петрович 57, 59
Адалис А.Е. 386, 387
Адамов, домовладелец 265
Ажерон А. 21, 23
Азадовский K.M. 124
Айвазовский И.К. 129, 179, 196
Айдинян Ст. А. 23
Айза, экономка 111
Айзенштейн Е.О. 66
Айхенвальд Ю.И. (Каменецкий) 384, 491, 492, 502
Аксенов И.А. 419, 420, 427
Александр II 225, 226
Александр III 126, 151, 158, 754
Алексеев В.В. 295, 297
Алексеев С.А. 297
Алексеева-Месхиева В.В. 320, 321, 329, 332
Алферова A.C. 20
Альбрехт И.К. 115–116
Альтман Н.И. 388
Альтшуллер И.Н. 578, 579
Алянский С.М. 432
Амари см. Цетлин М.
Андерсен Х.К. 94, 394, 401, 415
Андреев Л.Н. 17,20
Андреева В.Л. 37
Андроникова-Гальперн C.H. 66, 611
Анисимов Юл. 481
Анна Ивановна, портниха 229, 230
Аннетта, няня 171
Антокольские 324, 335
Антокольский П.Е. 257, 293, 294–295, 460, 535, 640, 644
Арбор Анн 624
Ардовы 745
Арапов A.A. 353, 355
Арго 419, 420
Архангельский А. (Амосов A.A.) 19
Архангельский A.A. 596, 598
Арцыбашев М.П. 19
Асмол, неустановленное лицо 131
Астапова Т.Н. 20, 63
Астров П.И. 27
Атрохина З.Н. 742
Аттила 591
Ахматова A.A. 131, 134–136, 295, 326, 331, 341, 354, 363, 363, 399–403, 415, 417, 418–420, 443, 458, 479, 518, 566, 572, 606, 728, 730, 745, 746
Ахрамович В.Р. 189, 191
Ашукин Н. 384, 385
Б
Байрон Дж. Н.Г. 160, 199, 200, 286, 368, 504, 508, 511, 515, 650
Балиев Н.Ф. 429
Балтрушайтис Ю.К. 423, 425, 437, 460
Бальзак О. де 161, 457, 693
Бальмонт Е.А. 116
Бальмонт К.Д. 36, 87, 89, 91, 115, 116, 245, 269, 289, 300, 304, 308, 382, 385, 387, 419, 460, 496, 497, 608, 611, 685
Бальмонт М.К. 299, 497
Бальмонт Н.К. 115, 116
Бальмонты 169, 308, 318, 495
Баратынский Е.А. 560
Барков И.С. 280
Батюшков К.И. 378
Бауман Н.Э. 54, 55
Бах И.С. 505, 509, 512, 686
Бахман, пастор 70, 72
Бахрах A.B. 37, 225, 244, 287, 560, 562, 566, 569, 571, 572, 574, 577, 580, 585, 589, 593, 598, 602, 603, 609, 612, 615, 617, 620–631, 632, 644, 653–658, 663, 674, 676, 690, 692, 695, 699, 745
Башкирцева М.К. 174, 176, 191, 196, 296, 297, 515
Бебутов В.М. 312, 353, 355, 376, 377
Белкина М.И. 498, 565
Белобородова А.В. 472, 473
Белошевская Л.Н. 478
Бельцман С.И. 172, 173, 177, 178, 186, 187
Белый А. 27, 67, 74, 75, 137, 303, 354, 355, 371, 374, 384, 385(1), 385(2), 387, 447, 460(1), 460(2), 464, 466, 467, 483–485, 511, 518, 555, 556, 559, 560, 561, 570, 572, 574, 576, 595, 597, 598(1), 598(2), 601, 602, 607, 608, 611, 657, 658(1), 658(2), 699, 701, 755
Беляев Д.А. 141, 143, 145, 147, 149, 157, 159, 160, 165, 168, 173, 211, 230, 230
Беляев Н.М. 248, 250
Бем А.Л. 478
Бенуа А.Н. 443, 445
Беранже П.Ж. 53, 208, 211
Берберова H.H. 330, 606, 610
Берг А.Э. 66
Бердяев H.A. 240, 241, 383, 384, 385, 387, 428, 501, 503, 648
Бернар С. 53, 54, 87, 109, 191
Бёрнетт Ф. 381
Бессарабов Б.А 357–361, 363, 365, 367, 369–376, 396, 397, 412–413, 418, 425, 741, 745, 746
Бессарабова O.A. 367
Бетховен Я. ван 462, 463, 505, 509, 512
Билибин И.Я. 473, 755
Бистром К.И. 19
Бленар Н.О. 169
Бленар Ш.A. 168–170, 172
Блок A.A. 214, 215, 354, 355, 363, 365, 399, 400, 415–418, 430–434, 443, 444, 460, 484, 503, 511, 519, 520, 521, 556, 557, 560, 561, 562, 567, 572, 577, 606, 660, 662, 665, 698, 750
Блюм В.И. 746
Бобров С.П. 419, 420, 427
Богаевская Ж.Г. 124, 244, 746
Богаевский К.Ф. 109, 124, 142, 191, 196, 243, 244, 746
Богенгардт А.К. 679, 680, 681, 721, 726, 730, 746
Богенгардт В.А. 613–615, 618, 628, 673, 679, 681, 721, 726, 731, 746
Богенгардт О.Н. 615, 673, 679, 681, 721, 722, 726, 731, 746
Богенгардты 615, 679, 681
Богомолов H.A. 281, 402
Бодиско А.Н. 26
Бодлер Ш. 66, 79, 81, 555
Борисов A.A. 277
Брандес Г. 59
Брент 649, 652
Брентано Б. (Б. фон Арним) 176, 296, 297, 301
Брик Л.Ю. 409
Бринк П. и Э. 7, 8
Бронте Шарлотта, Эмилия и Энн (сестры) 650, 653
Бросс А. 752
Бруно Дж. 57, 59
Брюсов А.Я. 222
Брюсов В.Я. 21, 24, 66, 68–70, 75, 81, 111, 115–116, 136, 205, 220, 222, 341, 343, 386, 387, 709, 746
Брюсова Ж.М. 114, 116
Брюхоненко М.Г. 19, 26, 63
Бугаев Б.Н. см. Белый А.
Бугаева К.Н. 137
Булгаков В.Ф. 515
Бумбер К.Ю. 91
Бунин И.А. 23
Бунина В.Н. 9, 136, 137
Бурлюк Д.Д. 138, 460
Бялик Х.Н. 386, 387, 388
В
Валленштейн А. 180, 185
Вахтангов Е.Б. 294, 388
Вербицкая A.A. 19, 54, 55
Верлен П. 709, 715
Вержховецкая H.A. 252, 253
Виноградов А.К. 23, 42
Виноградова Н.К. 23
Вишняк А.Г. 43, 433, 446, 448, 450, 453, 455, 460, 461, 462, 464, 467, 472, 473, 475(1), 475(2), 476, 480, 484–485, 490, 491, 497, 499, 500, 502, 513, 518, 521, 522, 524, 526, 535, 545, 546, 559, 567, 568, 570, 587, 616, 700, 747
Волкова, неустановленное лицо 406
Волконская Е.Г. 447, 448
Волконская М.Н. 222
Волконский С.Г. 398, 747
Волконский С.М. 23, 383, 384, 386, 388, 389, 394, 398, 399, 407, 408, 411, 412–413, 448, 480, 497–499, 500, 514, 523, 524, 545, 546, 551, 552, 553, 555, 561, 564, 629, 641, 671, 685, 692, 747
Волошин М.А. 72, 75–95, 96, 102–120, 123, 125, 126, 138–140, 142, 143, 146, 147, 160, 163, 166, 168, 169, 172, 178, 179, 187, 190–192, 194, 213, 219, 220, 238, 242–245, 248, 252–254, 259, 260, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 307, 317, 318, 342, 343, 349, 352, 362, 363, 365, 378, 381, 382, 385, 386, 388, 414, 421, 425–429, 501, 556, 557, 722, 746, 747, 749, 753, 754
Волошина Е.О. (Пра) 87, 88, 96–99, 104, 109, 112–113, 115, 117, 123, 125, 126, 138–142, 144, 146, 155, 160, 163, 166, 170, 172, 173, 177, 190–192, 213, 217, 238, 239, 242–245, 252, 257–259, 260, 261, 263, 264, 290, 307, 317, 318, 342, 352, 363, 365, 383, 386, 414, 421, 428, 429, 430, 556, 557, 722, 723, 747, 749
Волошина М.С. 83
Волынский А.Л. 443, 445
Волькенштейн В.М. 312, 314, 316, 317, 322, 323, 333, 334, 353, 417, 426, 429
Вольтер 298, 672
Вольф Л.M. 11
Вольф М.О. 11, 68, 69, 79, 81
Воскресенские 231
Врангель П.Н. 318
Врубель М.А. 462
Высоцкая Н.Г. 115–116
Вышеславцев H.H. 292, 295, 299, 309, 311, 331, 747, 748
Г
Гайдукевич H.A. 741
Галушкин А. 439
Гарибальди Дж. 328
Гауф В. 107
Гейне Г. 24, 69, 70, 181, 447, 487, 551, 591, 747
Геликон см. Вишняк А.Г.
Генерозова В.К. 18, 45, 58, 59, 60, 62, 68, 748
Георг, принц 515
Гераклит Эфесский 115, 709
Гербель Н.В. 207, 210
Герд А.Я. 580
Герцык А.К. 102, 104, 123, 162, 163, 166, 167, 385, 387(1), 387(2), 388, 429
Герцык Е.К. 387, 388
Герцыки 428
Герье В.И. 189
Гершензон М.О. 307
Гессе Г. 20
Гессен И.В. 588
Гёте И.В. 164, 181, 302, 361, 389, 391, 392, 406, 407, 412, 504, 508, 512, 543, 544, 576, 694, 695, 707, 716, 735
Гехман М.Л. 146, 147, 229, 230
Гике см. Гуковский А.И.
Гиппиус В.В. 135
Гиппиус З.Н. 560, 561
Глинка М.И. 155
Говоров A.C. 221, 223, 226, 227, 381
Гоголь Н.В. 186, 574, 586, 588
Годунов Б. 377
Голенищев B.C. 74
Голлидэй С.Е. 692
Головин H. 11
Головина A.C. 667
Гольд Х.Б. 320
Гольдовская P.M. 269, 270
Гольдовские 147, 200, 269, 270
Гольдовский О.Б. 270
Гольдшмидт В.Р. 420
Гольды, семья 319, 320, 368
Гольцев С.И. 263, 265, 267, 380, 381
Гомер 590
Гонкуры Ж. и Э. (братья) 390
Гончарова H.H. 409
Гончарова Н.С. 409, 431, 515, 741
Горгулов П.Т. 719, 721
Городецкий С.М. 130, 131, 135
Горький М. 19, 29, 36, 443, 754
Горяинова Ю.М. 135
Готье И.И. 79, 81
Готье Т. 99, 100, 102
Гофман Э.Т.А. 305, 307, 649
Гоцци К. 378
Грачёва А. 55
Гржебин З.И. 560, 568, 572, 584, 595, 700, 701
Грибоедов A.C. 679
Грифцов Б.А. 386, 387
Громова H.A. 367
Гройский Н.П. 741
Грузинов И.В. 419, 420
Груша, няня 151, 152, 154, 159, 190
Гуковский А.И. 454, 464, 465, 616, 617
Гуль Р.Б. 244, 466, 467, 473, 489, 492–493, 494, 496, 499–501, 503, 521, 524–526, 543–545, 546, 553, 557–559, 565, 572, 573, 577, 579(1), 579(2), 588, 609, 644, 695, 748
Гумилев Л.Н. 401
Гумилев Н.С. 75, 104, 105, 111, 130, 131, 135, 136, 401, 420, 443, 588, 715
Гюго В. 53, 69, 88, 191, 196
Д
Д'Аламбер Ж.Л. 94, 393
Д'Аннунцио Г. 70–73
Далькроз Э.Ж. 390, 392, 393
Даманская А.Ф. 20
Дардыкина H.A. 15, 72
Дворжак А. 22
Дейша-Сионицкая М.А. 219, 220
Дембовецкий В.Э. 251
Демская A.A. 185
Дервиз В.П. фон 36, 62, 222, 748
Державин Г.Р. 576, 577, 582
Джалалова Л. 310, 311
Дживелегов А.К. 386, 387
Диккенс Ч. 381, 578
Днепров Р. 27
Добужинский М.В. 443, 445
Добротворская Е.А. 12, 748
Добротворская Н.И. 12, 13
Добротворский И.З. 12, 748
Доде А. 100, 101
Достоевский Ф.М. 26, 39, 43, 186, 250, 302, 462, 617(1), 617(2), 753
Дрейер Н.Н. 681
Дроздов А. 476
Думер П. 721
Дуня, няня 267, 268, 269
Дурново E.H. 229
Дурново Е.П. 174, 177
Дуров В.Л., цирк 161
Дымшиц-Толстая С.И. 191, 196
Дырвянский C.A. 259, 261, 263
Дьяконова О. 558, 559
Дюма-отец А. 88, 94
Е
Евг. И. 42, 43
Евреинов Б.А. 681
Евреинова Н.Б. 681
Екатерина II 298, 407
Еленев H.A. 210, 211, 547
Еленева Е.(К.)И. 546, 547, 578, 579
Ерофеев A.C. 37, 285–287, 289, 291, 292, 312, 316, 317, 330, 343, 731, 748
Есенин С.А. 377
Ж
Жанна д'Арк 298, 304, 362, 365
Жекулина A.B. 681
Жером Л. 87
Жозеф 319
Жорж Санд 87
Жук, преподаватель 681
Жуковская В.А. (Ася) 166–169, 208, 215, 246, 285, 289, 386, 389
Жуковские 257, 258, 260–262, 264, 269, 270
Жуковский В.А. 36, 361
Жуковский Д.Е. 167
Жулиа М. 146, 147
З
Забежанский 658
Завадский Э.В. 129, 129–131
Завадский Ю.А. 292, 294–295
Зайцев Б.К. 383, 384, 385(1), 385(2), 387, 412, 414, 502, 605
Зайцев К.Н. 412
Зайцев П.Н. 435, 440, 748
Зайцева В.А. 386, 387, 413, 413, 432, 605, 609(1), 609(2)
Зайцева Т.В. 412
Зайцева-Соллогуб Н.Б. 413
Зайцевы 357, 374, 386, 387, 628, 657
Зайченко, домовладелец 111
Закс Г.Б. 345, 346
Заремба В.А. 60
Зарубин В. 98
Звягинцева В.К. 37, 280, 282, 285–291, 312, 330, 343, 343, 355, 565, 731, 748
Зелинский И.В. 247, 248, 672, 673
Зиновьева-Аннибал Л.Д. 301
Золя Э. 181
Зуев В.В. 474
И
Ибсен Г. 487, 653
Иван IV Грозный 10, 11, 138, 325
Иванов Вяч. И. 83, 298–308, 329, 331, 332, 386, 387, 748, 749
Иванов Г.И. 572
Иванов Д.В. 307
Иванская Н.О. 225, 226
Иваск Ю.П. 37, 43, 59
Игумнов К.Н. 370, 371
Иловайская A.A. 8-10, 749
Иловайская В.Д. см. Цветаева В.Д.
Иловайская О.Д. 8, 9, 136, 137, 749
Иловайская Н.Д. 53
Иловайский Д.И. 8-11, 136, 749
Ильин В.Н. 480, 481
Ильин И.А. 480, 481
Илюша, дворник 12
Инбер В. 460
К
Казанова Дж. 385, 423, 428, 429, 435, 452, 569, 584, 673, 674, 750
Каменев Л.Б. 385, 387
Каменецкий см. Айхенвальд.
Каменский В.В. 420, 460
Каминка А.И. 588
Камкова М.С. 247, 248
Кандауров К.В. 142, 191, 196
Кандыкина М.И. 11
Каннегисер И.(А.)С. 403, 406, 749
Каннегисер Л.И. 403, 406, 407, 525
Каннегисер С.И. 406
Каплун С.П. 433, 470, 471, 472, 475, 476, 477, 490, 492
Катя, прислуга 12, 13
Каялова Е.Я. 115–116
Квятковский Л.Л. 108, 109
Кезельман E.H. 137
Кезельман С.М. 136, 137, 749
Кентон Р. 94
Керенский А.Ф. 252, 253, 254
Кириенко-Волошина Е.О. см. Волошина Е.О.
Кирьяков, домовладелец 159
Клодель П. 376
Клюкин Ю.П. 447, 481
Княжнин Я.Б. 208, 211
Кобылинский Л.Л. см. Эллис
Коган В. 434
Коган H.A. см. Нолле-Коган H.A.
Коган П.С. 439, 440, 458, 461, 534, 750
Коган Саша 432–434, 535
Коган Юра 422, 425
Кожебаткин A.M. 123, 124, 166, 167, 749
Козлов И.И. 19
Козовой В. 481
Колбасина-Чернова O.E. 37, 473, 723
Комаровский В.А. 81–82
Кондаков Н.П. 723
Коненков С.Т. 322, 330, 333
Коонен А.Г. 208, 210, 210
Копылова Л. 330
Коркина Е.Б. 59, 160, 176
Крандиевская А.Р. 132, 135
Крандиевская Над. В. 132–134, 135
Крандиевская Нат. В. (Туся) 132, 134, 205, 252, 254
Крандиевские 132, 134
Крандиевский В.А. 132
Красовская Э.С. 742
Крахт К.Ф. 74, 75, 90, 91
Крез 549
Кривцова A.B. 370, 371, 411, 412
Кропоткин П.А. 59
Кроткова X. 478, 741
Крученых А.Е. 515, 521, 610, 751
Кудашева Е.В. 614, 616
Кудашева М.П. см. Кювилье М.П.
Кудрова И.В. 90, 107, 111, 329, 349, 354, 365, 412, 422
Кузмин М.А. 402–407, 518, 749
Кузнецова З.И. 213, 215
Кузнецова М.И. 213, 215, 342, 352, 355, 388, 427, 749
Кукольник Н.В. 103, 104
Куприн А.И. 562
Купченко В.П. 75, 81, 82, 84, 87, 94, 95, 104, 109, 113, 115, 117, 118, 121, 143, 220, 242, 245, 246, 317, 365, 428, 557
Курочкин 413
Кусиков А.Б. 608, 611
Кэрри Г. 36
Кювилье М.П. (Майя) 138–143, 157, 158, 161, 162, 163, 166, 167, 178, 179, 191, 192, 352, 354, 427, 429, 614, 616, 749
Л
Лавренев Б.А. 111
Лавров A.B. 67
Лакида Н.Н. 681
Ламартин 69
Ламбле А. 81–82
Лампси Ирина 193, 196
Лампси Л.А. 178, 179, 189, 190, 193, 196
Лампси Мика 193, 196
Лампси Н.М. 179
Лампси П.Н. 128, 129, 141–143, 154–157, 162–164, 168, 169, 171–173, 178, 248, 250
Лампси Таня 193, 196
Ландау Р. 72
Ланн Е.Л. 317, 318–328, 331, 331–339, 341, 343, 344, 349, 351, 352, 355–362, 363, 368, 371–374, 385, 409, 422, 749
Ланнер Й. 128, 129, 145
Латри E.H. 250
Латри М.П. 250
Латри, семья 250
Лебедева А.Ф. 277, 750
Лебедев A.A. 277, 750
Лев см. С.Я. Эфрон
Ленау H. 518, 520
Ленин В.И. 388, 525, 753
Ленсман, нотариус 173
Леонардо да Винчи 562
Лермонтов М.Ю. 69, 504
Лесман М.С. 496, 546, 751
Леспинас Ж. де 389, 393
Линь Ш.Ж. де 297, 298
Липеровская С.И. см. Юркевич С.И.
Липеровский Л.Н. 46, 47
Лозен А.Л. де 385, 465, 628, 629
Лозинский М.Л. 131, 214, 215
Лонгфелло Г.У. 23
Лондон Дж. 291
Лоренс (Лауренс) Т. 53
Лосская В.К. 136, 752
Лоти П. 382
Лубянникова Е.И. 18, 23, 39, 42, 54, 136, 137, 225, 267, 270, 272, 274, 276, 425, 437, 496, 546, 577, 579, 617, 618, 681, 723, 726, 731
Лукин А. 27
Лукницкий П.Н. 402
Лукомский Г.К. 555, 556
Луначарский A.B. 317, 343, 425, 429
Львов А. 277
Львов А.Ф. 36
Львова H. 115–116
Люба, няня 247, 248, 251, 257, 261
Людвик Баварский 181, 185
Людовик XIV 210, 282
Лютер М. 449, 450
Лямин М.С. 106, 107
Ляцкий Е.А. 210, 473
М
Магеровский Д.А. 320–330, 331, 344, 353, 355, 356, 361
Маковский С.К. 578
Малиновская Е.К. 320, 329, 332
Малиновский А.Н. 248, 274
Малмстад Дж. 570, 610, 692
Мандельштам Н.Я. 606, 610
Мандельштам О.Э. 131, 215–217, 221, 225, 226, 226, 249, 344, 386, 405, 511, 518, 600, 606, 610, 611, 655, 692
Мандельштам Ф.О. 226
Манн Г. 70–72, 79–81, 82
Манухин И.И. 189–191
Мария-Антуанетта 465
Мария-Луиза 53
Марков П. 318
Маркс H.A. 242, 244
Марта, прислуга 229, 230
Марченко Д. 367
Масон Ф. 53
Маша, няня 234, 235, 236, 237, 239, 240
Маяковский В.В. 378, 409, 418, 419, 458, 460, 483, 582, 606
Медведев, домовладелец 344, 354
Медведниковы И. и А. 27
Мезенцев Н.В. 59
Мейн А.Д. 119, 180, 754
Мейн М.А. см. Цветаева М.А.
Мейн С.Д. 36, 118–119, 127, 129, 145
Мейерхольд В.Э. 312, 318, 376, 377, 378
Мелисандра (гр. Трипольская) 69,
Мелкова М.Ю. 742
Мельник Г.П. 367
Менделеева Л.Д. 434
Мережковский Д.С. 23, 560, 561, 753
Месхиева В.В. см. Алексеева-Месхиева В.В.
Метнер A.K. 351, 354
Метнер Н.К. 354
Метнер Э.К. 74, 755
Милиоти В.Д. 299, 312–315, 330, 333, 335, 750
Милиоти З.В. 312
Милиоти Н.Д. 658, 750
Миллер В. 104
Миндлин Э.Л. 417, 418, 421, 422, 428, 445, 449, 747
Минский Н.В. (Виленкин) 658
Минц М.А. 216–219, 226, 235, 236, 239, 248, 274, 275, 277
Минц Алексей М. 219, 221, 222, 225, 226, 233, 235, 245
Миронов H.H. 268, 340, 343
Миронова М.Н 340
Миронова Т.Н. 340, 343
Миронова Т.К. 340, 343
Мистрюкова Л.О. 742
Митрохин Д.И. 476
Михайлов М.Л. 24
Михайловский Н.К. 55
Михневич Е.И. 213, 215
Мишле Ж. 215
Мнишек М. 365
Мнухин Л.А. 7, 18, 39, 42, 60, 91, 113, 211, 223, 225, 477, 481, 663
Могилевские 220, 222
Мольер Ж.Б. 578
Монахов М.С. 44, 45
Мопассан Г. де 181
Морковин В.В. 478
Мочалова O.A. 577
Мочульский К.В. 566, 572
Муратов П.П. 243, 244, 384, 385, 387
Муромцева-Бунина В.Н. см. Бунина В.Н.
Мусатова Сима 16, 20
Мчеделов В.Л. 166, 167
Мюссе А. де 300, 376
Н
H.A. 60, 61
Надсон С.Я. 419
Надя, домработница 247, 248, 250, 274, 275, 277
Назаревский A.B. 185
Наполеон I Бонапарт 52–54, 57, 63, 114, 115, 147, 180, 182, 270, 363, 480, 529, 695, 711
Наполеон II 51, 53, 69, 70, 182, 527, 529, 530
Нарбут В.И. 131
Нахман М.М. 151, 226, 227, 228, 229, 229, 230, 238, 289
Некрасов К.Ф. 205
Некрасов H.A. 222
Немирович-Данченко Вл. И. 115–116
Нечаева В.П. 478
Нива Ж. 53
Никитина Е.Ф. 435, 436, 750
Николай I 174
Николай II 226, 241
Нилендер В.О. 114, 115, 709, 715, 721
Ницше Ф. 329, 698, 699
Н.К. см. Кукольник Н.В.
Ноай А. де 222, 228, 229
Новалис 329, 331
Новгородцев П.И. 501, 503
Новиков И. 384, 385
Новицкий A.A. 250
Нолле-Коган H.A. 430–434, 534, 535, 750, 751
Носова Е.П. 115–116
О
Оболенская Е.И. 191, 196
Оболенская Н.П. 280
Оболенская Ю.Л. 163, 172, 192, 196, 289
Оболенский A.B. 615, 626, 628, 629, 642, 644, 663, 670, 673, 751
Оболенский H.A.
Овидий П.Н. 581, 585
Осман-Аблула-оглы 589, 590
Осоргин М.А. 383, 384, 385, 387, 609, 612, 745
Опекушин A.M. 226
Офрень Ж. 407
П
Павлов Н.В. 105, 107
Павлова К.К. 205, 208, 287, 567, 572, 581
Павлушков В.А. 153–155, 156, 340, 343
Паганини Н. 312, 322, 330, 333, 368, 371, 505, 509, 512
Парнок С.Я. 206, 207, 286, 312, 385, 387, 407, 426, 429
Пастернак Б.Л. 66, 75, 330, 363, 385, 441, 442–443, 455, 456, 457–461, 465, 466, 482–489, 492, 493, 494, 502, 503, 503–521, 523, 526–535, 543–547, 548–551, 559, 572, 574, 591, 605, 606, 609, 619, 644, 685, 692, 700, 741, 751
Пастернак Л.О. 461, 751
Патти А. 426, 429
Перегудова В.К. см. Генерозова В.К.
Перро Ш. 273, 335
Петипа М.М. 208, 210, 211, 270
Петр I 293, 295, 338, 560, 562
Петров А.П. 615
Петрова A.M. 178, 179, 253, 254, 267
Петровский A.C. 74
Петухов Н.Г. 230, 230
Платон 574
Плуцер-Сарна H.A. 229, 232, 233, 235, 240, 246, 258, 260, 261, 262, 264, 266–268, 271, 273–276, 278, 279, 281, 448, 751, 752
Плуцер-Сарна Т.И. 240, 258, 260, 261, 262, 264, 266, 267, 268, 268, 274, 275
По Э.А. 329, 331
Позоева Е.В. 208, 209, 211, 229, 230
Полуэктова Г.В. 249, 250
Полякова С. 207, 406
Полякова С.Р. 115–116
Поль Ж. 89, 91, 102, 106
Поссард Э. 181, 185
Постников С.П. 615
Постышев П.П. 367
Потапенко E.H. 95, 96, 142, 143
Потапенко И.Н. 96, 142
Потебня A.A. 326, 331, 338
Потемкин Г.А. 298
Потоцкая В.В. 20
Пуни И.А. 658
Пушкин A.C. 91, 207, 210, 249, 303, 388, 397, 401, 403, 406, 407, 409, 432, 491, 519, 520, 560, 566, 576, 577(1), 577(2), 579, 589, 602, 603, 691, 693, 695, 754
Пятнов 439
Р
Рабинек Э.И. 113, 121
Рабле Ф. 507
Равич В.М. 204
Радецкий Ф.К. 191, 196
Радин Н.М. 270
Раевская-Хьюз О. 445, 454, 467
Ракович М. 474, 523
Рамзес 560
Рафальский С.М. 478
Рачинская Е. 81–82
Редлих А.Ф. 167, 171, 172, 179, 191, 270
Редлих Э. (Р.) М. 167, 171, 172, 179, 270
Редлихи 166, 172, 187, 269
Рейсер С.А. 19
Рейтлингер E.H. 597, 598, 603, 670, 673, 678, 679, 695, 727, 728
Рейтлингер Ю.Н. 597, 598, 603, 607, 611, 727, 729, 730
Рейтлингеры 715
Рейхштадтский, герцог см. Наполеон II
Ремизов A.M. 572, 607, 611, 658
Репин И.Е. 138, 387, 388
Ренье А. де 81–85
Рильке P.M. 66, 355, 416, 441, 481(1), 481(2), 655, 658, 662, 685, 751
Рогозинская O.A. 143, 269, 270
Рогозинский В.А. 143, 172, 190, 191
Рогозинские 143
Родзевич К.Б. 619, 620, 629, 632, 658, 662, 668–675, 675, 679, 681, 687, 690, 701–738, 741, 752
Родина Р. 447
Розанов В.В. 18, 155, 173–177, 179, 186, 225, 302, 752
Розов H.H. 681
Роллан Р. 749
Романченко Н.Т. 680, 681
Ростан Э. 53, 69–70, 109, 210, 529, 746
Ростопчина Е.П. 205
Руа Г.Ш. 355
Рубанович С.Я. 115–116
Рубинштейн А.Г. 181, 185
Рукавишников И.С. 322, 330, 333
Руднев В.В. 741
Руссо Ж.Ж. 390, 672
Руссо Т. 498, 499
Рындина Л. 81
С
Саакянц A.A. 81–82, 126, 126, 129, 158, 164, 173, 200, 204, 210, 212, 217, 219, 232, 233, 237, 240, 246, 248, 253, 287, 330, 331, 387, 752
Сабашникова М.В. 109, 163, 243, 244, 254
Савинков Б.В. 245, 253
Садовской Б.А. 115–116
Салтыков, лицо неустановленное 151
Самарова М.А. 131, 132
Cведенборг Э. 574, 576
Святополк-Мирский Д.П. 753
Северянин И. 101, 191, 419, 420
Cербинова О.Н. 102, 104
Серейский М.Я. 267, 387, 389
Серов В.А. 115–116
Сизов М.И. 74
Синезубов Н.В. 607, 611, 640, 644
Синопли А.Г. 142
Скачков М. 478
Скрябин А.Н. 363, 438, 755
Скрябина Т.Ф. 321, 325, 330, 332, 337, 353, 358, 363, 395, 396, 398, 457, 458, 459, 507, 516
Скрябины 323, 324, 330, 335, 357, 358
Славинская М. 72
Слязский 259
Слоним М.Л. 37, 49, 527, 529, 530, 532, 686, 699, 701, 728, 730
Cобко 42, 43
Соколов В.А. 143, 146, 147, 159, 160–164
Соловьев В. 447, 448, 457
Соловьева, владелица дачи 90, 91
Соллогуб В.А. 299, 301, 304, 340
Cологуб Ф. 384, 386, 387, 443
Сосинский В.Б. 59, 629
Соска, лавочник 474
Спечинский, актер 282
Спиридонова М.А. 53
Сталь Ж. де 218, 296, 389
Станиславский К.С. 322, 333, 386
Старынкевич Е.И. 269, 270
Cтепаненко H.H. 31, 36
Степняк С.М. 59
Степняк Ф.М. 59
Степун Ф.А. 232, 233, 332, 339, 386, 388, 649, 650, 652, 694
Столица Л. 566, 570, 572
Струве Г.П. 474, 489, 491, 500, 545, 565, 576(1), 576(2), 577(1), 577(2), 577(3), 578, 579(1), 579(2), 580, 752, 753
Струве Л.П. 579, 580
Cтруве М.Г. 578, 579
Струве H.A. 578, 580, 618, 681, 723, 726, 731
Струве П.Б. 442–443, 473, 481, 523, 564, 565, 578, 580(1), 580(2), 752
Струве Ю.Ю. 489, 491, 578, 579, 753
Субботина К. (Копа) 141, 146, 191, 196
Субботина Тюня 141, 143, 146
Сувчинский П.П. 480, 481, 753
Сумеркин А.199
Сусанин И. 155
Суходольская Е.М. 270
Сухотин 385
Cыроечковский Е.И. 220, 222, 222
Т
Таиров А.Я. 208, 210, 211, 354, 438
Тамбурер Л.А. 25, 27, 63, 64, 67, 85, 86, 87, 110, 112, 114, 153–155, 240, 241, 340, 755
Тарасевич А.Л. 616
Тарасевич Л.А.616
Тарасевичи 614, 616
Тарасов Е.М. 26, 37, 41, 43
Тенсен К.А. де 93, 94
Тескова А.А. 49, 115, 477, 478, 515, 629, 695, 741, 753
Тио см. Мейн С.Д.
Титов, врач 189
Тихон, патриарх 565
Толстая C.A. 112, 113
Толстой А.Н. 128, 129, 177, 178, 196, 252, 254, 443–445, 658, 753
Толстой Л.Н. 19, 23, 101, 112, 113, 191, 302, 579, 753
Топольский А.Д. 105, 107
Трупчинская А.Я.(Нютя) 118–122, 120, 163, 164, 179, 215, 233, 753
Трупчинский A.B. 120–122, 130, 131, 753
Трухачев А.Б. (Андрюша) 135, 151, 152, 166, 167, 171, 177–179, 182–183, 185, 188, 191, 192, 207, 219, 221, 235, 236, 247, 248, 250, 274, 275, 282, 341, 343, 352, 412–413, 430
Трухачев Б.С. 101, 108–111, 114, 118, 123, 151, 152, 182, 185, 207, 210, 213, 215, 232, 247, 248, 258, 261, 262, 266, 270, 324, 331, 340, 343, 352, 380, 381, 388, 389, 409, 412, 753, 749
Трухачева А.И. см. Цветаева А.И.
Трухачева И.Б. 342, 343, 388, 389
Тургенев И.С. 432
Тургенева A.A. (Ася) 118, 555, 556, 570, 608, 611
Турчинский Л.М. 461
Тьер А. 53
Тюрин А.Н. 569
Тютчев Ф.И. 357, 560, 577
У
Урениус М.С. 231, 232
Урицкий М.С. 406, 525
Ф
Файдыш П.П. 135
Файнберг Л. 97, 108
Факир см. Трухачев Б.С.
Фельдштейн М.С. 140–142, 144, 145, 147, 148, 159, 164, 167, 168, 191, 196, 200, 213, 215, 230, 258, 260, 261, 262, 264, 269, 270, 272, 388, 389, 753
Фельдштейн Е.М. 388
Фельдштейн Т.М. 168, 388
Фельдштейн Э.А. 140–143, 144, 157, 168, 230, 240, 241, 313, 387, 388, 389, 753
Фельдштейны 162, 163, 191, 196, 240, 266, 386
Фет A.A. 626, 628
Флейшман Л. 445, 454, 467
Фореггер Н.М. 191, 196
Фореггер С. 191, 196
Франс А. 253, 254
Френкели, владельцы магазина 235, 237
Фриче В.М. 72
Х
Хабиас см. Оболенская Н.П.
Халатов А.Б. 439, 440
Халютина С.В. 146, 147, 215, 749
Хвостов Д.И. 610
Xин-Гольдовская P.M. 753
Хлебников В.В. 610
Ходасевич В.Ф. 111, 115–116, 218, 219, 220, 222, 307, 329, 387, 460, 559, 560, 572, 577, 605, 606, 609, 610(1), 610(2), 628, 636, 637, 644, 649, 652, 655, 658(1), 658(2)
Холкина В.И. 367
Хрустачёв Н.И. 247, 248
Хрустачевы 344, 354
Худолеев И.Н. 299, 304
Хьюз Р. 445, 454, 467
Ц
Цветаев А.И. 9-13, 16, 18, 20, 21, 99, 148, 149, 181, 183
Цветаев Д.И. (Митя) 220, 222, 227, 229
Цветаев И.В. 8, 9, 20, 26, 44, 64, 70, 74–75, 108–110, 114, 126, 155, 157, 172, 174, 177, 179–183, 185–187, 221, 222, 242, 748, 749, 754
Цветаева А.И. (Ася) 7-13, 16, 18, 20, 21, 23, 25–30, 34–36, 43–45, 53, 55, 58, 63–65, 67, 69–70, 72, 100, 101, 104, 108–111, 114, 115–116, 118, 121, 128, 129, 134, 135, 151, 152, 156, 157, 162, 163, 166–168, 170–177, 180, 182, 183–185, 188, 191, 192, 207, 211, 213–215, 217–219, 221, 222, 225–227, 227–229, 230, 232, 233, 236, 238, 239, 245, 246, 265, 274, 277, 282, 286, 317, 323, 339, 344, 349, 352, 354, 362, 367, 370, 378, 381, 385, 387, 389, 410, 412–413, 422, 425, 428, 750, 752, 753, 754
Цветаева В.И. 8-13, 27, 44, 63, 73, 181, 183, 754
Цветаева В.Д. 10, 181
Цветаева М.А. 7, 9, 10, 59, 63, 148, 180–182, 185, 248, 754
Цветковская Е.К. 116, 496, 497
Цеппелин Ф. 147
Цетлин В. 565
Цетлин М.О. 136, 270, 460, 494, 496, 497, 499, 546, 561, 565, 617, 754
Цетлина Александра 565
Цетлина Ангелина 564, 565
Цетлина М.С. 270, 460, 494, 496, 497, 546, 555, 556, 560, 563, 565, 616, 754
Цетлины 269, 457
Цирес А.Г. (Леня) 156, 178, 179
Цыгальский A.B. 344
Ч
Чабров A.A. 408, 409, 437, 438, 481, 535, 755
Чапек К. 555, 556
Чацкина С.И. 221, 222
Чехов А.П. 79, 81, 302, 579, 649
Чириков Г.Е. 470
Чириков E.H. 470, 474, 475, 497, 552, 555, 603, 755
Чирикова В.Е. 470, 470, 471, 474, 475, 603, 673, 674, 734, 736
Чирикова Л.Е. 388, 469, 470, 472, 474, 476, 479, 480, 490, 496, 497, 516, 551, 553, 695, 755
Чирикова-Шнитникова Л.Е. см. Чирикова Л.Е.
Чичеровы 156, 660
Чудовский В.А. 135, 443, 445
Чуковская Л.К. 418
Чуковский К.И. 443, 445
Чулков Г.И. 384, 385
Чумаченко А. 318
Чурилин Т.В. 212, 213, 321, 329, 511, 515, 518
Ш
Шагинян М.С. 75
Шаляпин Ф.И. 24
Шамиль 421
Шамурина З.И. 435
Шаховские 357, 365, 366
Шаховской Д.А. 580, 754
Шварсалон В.К. 307
Швейцер В.А. 199, 280, 282, 285, 289, 290–292, 312, 317, 515
Швоб Г. 629
Швоб М. 79–81
Шекспир У. 181, 207, 210, 314, 376
Шенгели Г.А. 440
Шервинский С. 585
Шершеневич В.Г. 419, 420
Шешмаркевич Б. 249
Шешмаркевич В. 249
Шик M. 115–116
Шиллер И.Ф. 181, 378
Шиллингер 351, 354, 368
Шиль C.H. 249, 250
Ширяев Е. 491
Шкапская М.М. 526(1), 526(2)
Шкловский В.Б. 657
Шлёцер М.А. 395, 398
Шмидт П.П. 53
Шницлер А. 438
Шопен Ф. 353, 370
Шор A.C. 239
Штейнер Р. 555, 556, 607, 611, 755
Шторм Т. 520
Штраус И. 128, 145, 299, 686
Шуман Р. 24
Шумихин С.В. 281, 402
Шура, сын Л.А. Тамбурер 153–155
Шюзвиль Ж. 115–116
Щ
Щепкина-Куперник Т.Л. 210
Э
Эккерман И.П. 389, 391, 543, 544, 547, 695
Эллис 56, 58, 63–67, 73–75, 81–82, 106, 108, 114, 117, 118, 185, 749, 755
Эпиктет 416
Эрарская Л.В. 407
Эрдеди М. фон 463
Эренбург Е.Г. 425
Эренбург И.Г. 168, 169, 243, 244, 252, 253, 254, 317, 318, 340, 378, 381–383, 385, 422, 425(1), 425(2), 425(3), 425(4), 427, 428, 436, 437, 440, 442–443, 453, 456, 457–460, 460(1), 460(2), 467, 473, 483, 494, 499, 500, 502, 521, 559, 560, 576, 577(1), 577(2), 587, 594, 598, 601, 608, 611, 644, 658, 700, 726, 748, 755, 756
Эренбург Изабелла Григорьевна 422, 425
Эренбург Л.М. 318, 499, 500, 502, 527, 530, 532, 559, 568, 579, 585, 595, 598, 607, 667, 668
Эренбурги 433, 443, 460, 598, 755
Эфрон А.Б. 724, 725
Эфрон A.C. (Аля) 69, 111, 139–141, 149, 151, 152, 154–156, 159, 161–163, 166, 170–174, 177–179, 182–184, 187–192, 195, 200, 201, 205–208, 213, 216, 217, 219, 221, 223, 225, 226, 228, 230–240, 244, 246, 250–253, 255, 257–263, 265, 268, 269, 272, 274, 282–291, 294, 299, 301, 303, 304, 307, 308, 312, 314, 317, 320–324, 326–328, 330, 332, 334, 338, 339, 340, 343, 344–348, 351, 353, 355, 358, 359, 367, 369, 371, 373, 374, 375, 378, 379, 382, 383, 388, 389, 390, 395, 399–402, 407, 408, 410, 412, 414, 418, 421, 422, 423, 425, 427, 429, 430, 436, 439, 440, 442, 452, 460, 461, 465, 471–473, 475, 491, 496, 497, 498, 502, 511, 514, 519, 521, 525, 556, 557, 561, 563, 564, 568, 573, 579, 590, 602, 605, 611, 613, 615, 616, 618, 623, 625, 628, 629, 636, 644, 649, 651, 655, 658–660, 664, 667, 668, 672, 680, 694, 723, 726, 730, 731, 746, 747, 755, 756
Эфрон В.Я. 96, 96–99, 100, 101, 103, 104, 113, 117, 121–123, 125, 127, 129, 129, 131, 139, 144–147, 150–152, 155, 156, 158, 160–162, 166, 170, 172, 177, 187, 189, 190, 191, 207–211, 212, 213, 215, 226, 227, 227–229, 231, 234, 235, 237, 246, 251, 257–268, 270, 289, 339, 343, 386, 387, 388, 389, 753, 756
Эфрон Г.С. (Мур) 741
Эфрон Г.Я. 380, 381
Эфрон Е.Я. (Лиля, Кончита, Лососина) 97, 101, 103, 108, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 125, 126, 129, 132, 133, 137, 139, 142, 143, 146, 147, 149–152, 155, 158, 159, 160, 163, 166, 170–172, 177, 178, 187, 189, 190, 194–196, 205, 206–209, 212–217, 227–229, 231–237, 239, 240, 241, 246, 260, 264, 272, 289, 290, 339, 343, 379, 386, 756
Эфрон Е.П. (Ластуна) 201, 204
Эфрон И.С. (Ирина) 232, 233, 234, 236, 237, 238, 240, 246, 247, 250, 251, 255, 257–259, 261–263, 265, 272, 275, 282, 287–290, 324, 330, 339, 340, 343, 379, 380, 386, 389, 524, 526
Эфрон K.M. 388
Эфрон П.Я. 150, 151, 156, 160, 189, 190, 194, 196, 199–201, 204, 217, 218, 225, 286, 756
Эфрон С.Я. (Лев) 97, 104, 106, 113–116, 117–122, 124, 126–135, 138, 139–142, 146, 149–151, 154, 159–170, 172–179, 181–190, 192–194, 199, 200, 201, 206–211, 212, 213, 215, 216, 218–223, 225–228, 230–236, 240–245, 247–252, 254–263, 267, 268, 277, 286, 287, 289, 290–292, 318, 323, 326, 334, 337, 340, 343, 344, 351, 358, 362, 363, 366, 370, 373, 374, 378–383, 385, 386, 388, 389, 409–411, 412, 414, 418, 421, 422, 423, 424, 425–429, 437, 438, 469–472, 474–475, 485, 491, 495, 497–498, 502, 514, 527, 529, 552, 553, 554, 556, 557, 575, 576, 579(1), 579(2), 579(3), 590, 601, 602, 610, 613, 615, 618, 623, 624, 625, 644, 659, 660, 662, 664, 668, 671, 672, 673, 679, 692, 722, 723, 726, 727, 746, 747, 749, 753, 756
Эфрон Я.К. 191
Ю
Юлиан 560, 561
Юзбашян Л.А. 211
Юнге, семья 100, 112
Юнге А.Э. 101, 113
Юнге Д.А. (Додя) 267, 268
Юнге Е.Ф. 101, 112, 113
Юнге Ф.Э. 101
Юркевич А.Н. 15
Юркевич В.И. 25, 27
Юркевич О.П. 15, 22, 26, 36, 38, 44, 46, 49, 50, 52, 55, 58, 72
Юркевич П.И. 14–58, 61, 70–73, 223, 226, 287, 602, 757
Юркевич Сергей И. 17, 20, 21, 25, 33, 35, 36, 42, 50
Юркевич Софья И. 15, 19, 22–25, 32–36, 42–44, 46, 47, 59, 61
Юркевичи 15, 26
Я
Яблоновский С.В. 208, 211
Якубович И.С. 584, 585, 587, 602
Якубович П. 81–82
Ященко A.C. 454, 466, 467, 492, 493, 757
Яценко Дуся 249, 250
B
Béranger см. Беранже П.Ж. 208, 211
Bethoven см. Бетховен Л. ван
Blennard см. Бленар Ш.А.
D
D'Annunzio см. д'Аннунцио
Daudet А. см. Доде А.
G
Gautier Т. см. Готье Т.
Goehte см. Гёте
H
Heine H. см. Гейне Е.
Hugo V. см. Гюго В.
L
Lamartine см. Ламартин
Lenau N. см. Ленау Н.
Lespinasse J. см Леспинас
Ligne см. Линь Ш.Ж. де
M
M-m Gary 109
T
Tencin де см. Тенсен К.А. де
P
Paul J. см Поль Ж.
S
Schiller см. Шиллер
Shaakespeare см. Шекспир У.
Staël см. Сталь де
Z
Zola см. Золя Э.
W
Wagner см. Вагнер Р.
Примечания
1
Письмо датировано по почтовому штемпелю. Цветаева отвечает на одно из писем матери, где говорилось о временном улучшении ее здоровья. М.А. Цветаева в это время лечилась от туберкулеза в немецком санатории Санкт-Блазиен. В целом же сообщения из санатория были неутешительны.
«Мамины письма шли часто, но вести были все те же: неспадающая температура, неопределенные высказывания докторов»
(Цветаева A. стр. 176). (обратно)2
Одна из сестер Бринк, владелиц пансиона (Паулина или Энни).
(обратно)3
Цветаева подписалась именем, которым обычно называла ее мать.
(обратно)4
Письмо (почтовая карточка с видом на Санкт Блазиен) написано не ранее 25 июля, когда И.В. Цветаев должен был забрать дочерей и отвезти к матери в Санкт-Блазиен (см. предыдущее письмо и коммент. к нему).
(обратно)5
С первых дней пребывания в пансионе Бринк сестры Цветаевы чувствовали себя там, как в заточении.
«Узкая уличка, в которой не помню садов <…> Глухо отсутствуют в памяти двери в пансионе Бринк, словно их поглотила тоска нашего вхождения в них. У стен каменной лестницы на второй и выше света не было.
Что было в первом этаже? Классы. Туда входили приходящие ученицы-счастливицы, имевшие дом и родных. Мы видели их только на уроках. Нам, пансионеркам, было запрещено дружить с ними. Пансион Бринк был темницей. И мечта была одна: на свободу!»
(Цветаева А. стр. 160–161). (обратно)6
Лёра — Валерия Ивановна Цветаева (1883–1966), единокровная сестра М. Цветаевой. См. также письмо 2-09.
(обратно)7
Ольга Дмитриевна Иловайская (1883–1958), дочь Д.И. и A.A. Иловайских. Теплые отношения семьи Цветаевой и Ольги Иловайской сложились летом 1900 г., когда она гостила в их доме в Тарусе.
«К Оле мы так привыкли за эти полтора месяца, что она сделалась совсем членом нашей семьи. Олю здесь все наши знакомые также полюбили — такая она жизнерадостная, веселая и милая. Засмеется она, так уж тут никто не устоит — самый сумрачный и тот развеселится…»
— писала М.А. Цветаева A.A. Иловайской в августе 1900 г. (ЦГИА СССР, фонд Д.И. Иловайского). Об О.Д. Иловайской см. также письма к В.Н. Буниной и коммент, к ним (СС-7).
(обратно)8
Иловайский Дмитрий Иванович (1832 ― 1920) — историк монархистского направления. Отец первой жены И.В. Цветаева, Варвары Дмитриевны (1858 ― 1890). От этого брака у него было двое детей: Валерия и Андрей. Семье Иловайских посвящены воспоминания М.И. Цветаевой «Дом у Старого Пимена» (1933: СС-5).
(обратно)9
Здесь же свое письмо приписала сестра Марины, Ася:
Дорогая Александра Александровна!
Как тут хорошо! Живем мы в «Gasthaus'e zum Felsenkeller»*. Вокруг везде горы, леса, луга. Мы так рады что уехали из пансиона! Тут так свободно и хорошо! Останемся тут на 6 недель. Воздух чудной, и даже собака есть: «Ture».
Вообще нам здесь очень, очень нравится.
Как Вы поживаете? Как Оля? Мы почти каждый день ездим в «Tuskulum»**. «Tuskulum», это чудное место, так скалы и чудесный сильный водопад. До свидание. Крепко Вас целую.
Ваша Ася.
P.S. Мы будем читать маме вслух, книги которые Вы нам подарили. Такие они чудные.
__________
* Гостиница у подножья скалы (нем.).
** «Чудное место» близ Санкт Блазиен вызывает у юной Аси ассоциации с известным живописным древним городом Тускулумом, расположенным в горах недалеко от Рима.
(обратно)10
Для продолжения лечения М.А. Цветаева в конце лета 1905 г. семья Цветаевых из Германии перебралась в Ялту.
(обратно)11
Речь идет о книге: «Царь Иоанн Грозный, его царствование, его деяния, его жизнь, современники и деятели в портретах, гравюрах, живописи, скульптуре, памятниках зодчества и пр. и пр.». Под ред. Н. Головина и Л.М. Вольфа. СПб.: Т-во М.О. Вольф, 1904.
(обратно)12
В Ялте сестры Цветаевы занимались с репетитором:
«К нам ходит учительница Мария Ивановна Кандыкина ― высокая, грузная, пожилая, резкая, с низким голосом, темная, с проседью. Мы учимся хорошо, как всегда, со страстью готовим уроки. Нас хотят подготовить к весне в четвертый и второй классы гимназии. О Марусе сомнений нет, а я сильно забыла русский»
(Цветаева А. стр. 186). (обратно)13
Андрюша. — Цветаев Андрей Иванович (1890–1933), единокровный брат М. Цветаевой. Учился в Московской 7-й гимназии (в 1908 г. перешел в 8-й выпускной класс), в 1909–1916 гг. — студент юридического факультета Московского университета; впоследствии оставил юриспруденцию, работал в Госторге экспертом по картинам.
(обратно)14
В.И. Цветаева.
(обратно)15
Д.И. Иловайский.
(обратно)16
Добротворские жили в Тарусе. Марина и Ася Цветаевы провели в Тарусе с единокровной сестрой Валерией весну 1907 г. Рождественские дни семья проводила в своем московском доме в Трехпрудном пер., 8.
(обратно)17
Дворник, молодой парень. Жил при кухне в доме Цветаевых.
(обратно)18
«Как всегда, принесли елку, поставили в зале. Теперь она не была такая большая, как в детстве, до потолка»
(Цветаева А. стр. 249). (обратно)19
Андрей Цветаев.
(обратно)20
Пересказать письмо от Валерии Цветаевой, видимо, должна была старшая дочь Добротворских, Надежда (1882–1943).
(обратно)21
Речь идет об обычаях красить и дарить яйца на Пасху и рассылать открытки на Рождество.
(обратно)22
Прислуга Добротворских, «…пожилая ласковая Катя, многолетняя помощница Елены Александровны» (Цветаева А. стр. 51).
(обратно)23
Данное послание, как и стихотворение, датируется днем отъезда Цветаевой из Орловки. Однако отослано оно было позднее (см. письмо 8-08 и коммент. 5 к нему). Орловка — имение Юркевичей в Чернском уезде Тульской губернии, находилось неподалеку от тургеневских и толстовских мест, принадлежало Александре Николаевне (урожд. Иванской; 1865–1934) — матери адресата. Орловка славилась открытостью дома, гостеприимством хозяев, обстановкой высококультурного интеллигентного быта. В доме было много музыки, игр, веселья, привлекала верховая езда.
(обратно)24
…избалованный… — ироническое обращение к адресату, возможно, вызвано отзывом о нем Софьи Юркевич (см. письмо 4-08). Понтик — семейное прозвище П.И. Юркевича.
(обратно)25
Цветаева вспоминает о верховой езде с Юркевичем в письме 1916 г. (см. письмо 6–16).
(обратно)26
Горбачёво — поселок с одноименной железнодорожной станцией в Тульской губернии.
(обратно)27
В первой публикации (и затем в СС-6) письмо ошибочно датировано 21 июня 1908 г. Как следует из содержания письма (отъезд из Орловки), правильная дата ― 22 июля. См.: Минувшее. стр. 343; СС-7. стр. 732.
(обратно)28
Об увлечением Цветаевой революцией в детские и отроческие годы рассказано ее младшей сестрой (Цветаева А. стр. 203–205). О «революционности» юной Цветаевой писали также ее гимназические подруги, например В.К. Генерозова:
«Преклоняясь перед борцами революции, Марина мечтала и сама принимать участие в борьбе за свободу и светлое будущее людей. Марина старалась и меня познакомить с революционным движением, снабжая меня запрещенными в то время книгами…»
(Там же. стр. 237).«С 14-ти до 16-ти летя бредила революцией…» — спустя несколько лет писала Цветаева В.В. Розанову (см. письмо 6-14 к нему).
(обратно)29
Имеется в виду популярная революционная песня «Вы жертвою пали в борьбе роковой…». Текст песни представляет собой контаминацию двух стихотворений поэта А. Архангельского (наст. фам. и имя Антон Александрович Амосов; 1854–1915) «Идет он усталый, и цепи звенят…» и «Мы жертвою стали в борьбе роковой…» (см.: Вольная русская поэзия XVIII–XIX веков. Сост. С.А. Рейсер. М.: Сов. писатель, 1988). Мелодия восходит к популярной песне «Не бил барабан перед смутным полком…» на стихи Ивана Козлова (перевод из Чарльза Вольфа, 1826). Еще ранее этот мотив заимствовали военные: в связи с похоронами генерала К.И. Бистрома (в 1838 г.) песня была переделана под реалии Кавказской войны (1816–1864), в переделанном виде ее пели казаки.
По воспоминаниям сестры поэта, «Похоронный марш» был неизменным спутником их ялтинской жизни 1905–1906 гг. (Цветаева А. стр. 192). В 1936 г. М.И. Цветаева перевела его на французский язык. Автограф перевода хранится в РГАЛИ.
(обратно)30
Мысли о добровольном уходе из жизни не раз приходили к Цветаевой в юности. Подробнее см.: Минувшее. стр. 348.
(обратно)31
Культ «мелких дел» возник в период кризиса народничества, когда в середине 1880-х гг. народник Я.В. Абрамов (1858–1906) выступил в газете «Неделя» с проповедью «теории мелких дел».
(обратно)32
Правильнее «санинщина» ― по имени главного героя натуралистического романа М.П. Арцыбашева (1878–1927) «Санин», проповедовавшего цинизм и аморальность. Роман впервые увидел свет в 1907 г. (Современный мир. № 1–9); в 1908 г. вышел двумя изданиями (Арцыбашев М. [Сочинения.] Т. 3. Санин. СПб.; 2-е изд. СПб.: Жизнь). Был сразу же переведен на многие языки и вызвал ряд судебных процессов над автором в России и за границей. Увлечение Саниным и его проповедью аморализма было, по мнению М. Горького, «неоспоримым признаком интеллектуального банкротства» современной жизни (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 24. М.: ГИХЛ, 1953. стр. 48). А.И. Цветаева в воспоминаниях отмечала «не наше увлечение молодежи книгами: Вербицкой „Историей одной жизни“, „Саниным“ Арцыбашева (что „всё позволено“ между мужчиной и женщиной) и „Гневом Диониса“ Нагродской (о том же). Это было — чужое» (Цветаева А. стр. 310). Позднее, уже будучи в эмиграции, Цветаева упомянула арцыбашевского героя в статье «Искусство при свете совести»:
«Россия, к ее чести, вернее к чести ее совести и не к чести ее художественности (вещи друг в друге не нуждающиеся), всегда подходила к писателям, вернее: всегда ходила к писателям — как мужик к царю — за правдой, и хорошо, когда этим царем оказывался Лев Толстой, а не Арцыбашев. Россия ведь и у арцыбашевского Санина училась жить!»
(СС-5. стр. 360). (обратно)33
Цветаевой предстояла сдача экзаменов при поступлении в 6-й класс гимназии М.Г. Брюхоненко.
(обратно)34
Соня. — Юркевич Софья Ивановна (по мужу Липеровская; 1892–1973) — сестра адресата, училась в одной гимназии с Цветаевой. Впоследствии — педагог, автор ряда книг по русской литературе для школьников и учителей. О своих встречах с Цветаевой оставила воспоминания. (См.: Воспоминания. стр. 31–41).
(обратно)35
Речь идет о Симе Мусатовой, соученице М. Цветаевой по гимназии A.C. Алферовой в 1907–1908 гг.
(обратно)36
Андрей. — См. коммент. 4 к письму 1-06. Мильтон — собака Цветаевых, которую Андрей привозил с собой в Тарусу.
(обратно)37
И.В. Цветаев летом 1908 г. бывал на своей даче в Тарусе наездами, когда позволяли служебные дела.
(обратно)38
Ася. — Анастасия Ивановна Цветаева в то время училась в гимназии В.В. Потоцкой (в 1908 г. перешла в 4-й класс).
(обратно)39
В воспоминаниях Т.Н. Астаповой приводится отзыв Цветаевой об изучавшихся в гимназии естественных науках:
«…по-моему, они скучны. Вот химия мне еще нравится, пожалуй: во время опытов в пробирках получаются такие красивые цвета!»
(Воспоминания. стр. 45). (обратно)40
Цветаева имеет в виду рассказ швейцарского писателя Германа Гессе (1877–1962) «Осенью, пешком», опубликованный в журнале «Русская мысль» (M. 1908. № 4) в переводе А.Ф. Даманской. В последней главе рассказа приведено стихотворение «В раздумье брожу сквозь туман по земле…», оканчивающееся строкой: «И все одиноки»; оно также принадлежит перу Гессе.
(обратно)41
Сергей Иванович Юркевич (1888–1919), брат П.И. Юркевича, врач-терапевт. В 1906–1912 гг. — студент медицинского факультета Московского университета, затем — земской врач. Во время Первой мировой войны работал военным хирургом. Умер от сыпного тифа.
О какой размолвке с С.И. Юркевичем идет речь в письме М. Цветаевой, неясно. В воспоминаниях А. Цветаевой описывается первое посещение им цветаевского дома в Москве зимой 1907/08 г.:
«Он сидел на маленьком нашем красном диванчике и говорил о чем-то с Мариной, „наверное, о революционном“, — думала я не очень слушая, любуясь Сережей. Так же неуверенно, то вспыхивая, то преодолевая застенчивость, мгновенно переходившую в гордость, взглядывала на него Марина»
(Цветаева А. стр. 255).Переписка с ним, по-видимому, не сохранилась.
(обратно)42
Рассказ Л.Н. Андреева «Марсельеза» (1903).
(обратно)43
Клички собак в Орловке.
(обратно)44
B выборе будущей профессии П.И. Юркевич колебался между филологией и медициной. Осенью 1908 г. он поступил на историко-филологический факультет Московского университета, однако под влиянием брата, студента-медика, вскоре перешел на медицинское отделение того же университета.
(обратно)45
Намек на российский национальный гимн «Боже, Царя храни». См. коммент. 2 к письму 5-08.
(обратно)46
Первое письмо от 22 июля 1908 г. было написано утром (2-08).
(обратно)47
См. коммент. 15 к предыдущему письму.
(обратно)48
Хиавата. — Можно предположить, что речь идет об опере (или об увертюре к ней) чешского композитора Антонина Дворжака (1841–1904) «Hiawatha» (1892–1895), созданной по поэме американского поэта Генри У. Лонгфелло (1807–1882) «The Song of Hiawatha» (1855).
(обратно)49
Установить в точности источник этой аллюзии не представляется возможным. Е.И. Лубянникова не исключает вероятной связи между цветаевской мотивировкой прошлогодней ссоры с ней С. Юркевича (см. письмо 2-08) и образом Гайаваты — пророка, учителя. Ср. такие строки поэмы:
И придет Пророк на землю И укажет путь к спасенью; Он наставником вам будет. Будет жить, трудиться с вами. Всем его советам мудрым Вы должны внимать покорно…(Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. Пер. И.А. Бунина. СПб.: Изд. Т-ва «Знание». 1903. стр. 10–11).
Поэма была хорошо известна в России; полный ее перевод осуществлен И.А. Буниным в 1896–1903 гг. В других переводах выходила под названиями «Песнь о Гиавате» и «Гайавате» (Новый мир. 1995. № 6. стр. 121).
(обратно)50
Неясно, о ком идет речь. Это могла бы быть французская девочка Анна Ажерон, но, согласно воспоминаниям А.И. Цветаевой, она гостила в Тарусе летом 1907 г. (Цветаева А. стр. 237–242).
(обратно)51
Вероятнее всего, имеется в виду Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888–1946) — будущий писатель; в 1906–1912 гг. — студент философского отделения историко-филологического факультета Московского университета (ученик И.В. Цветаева), в 1921–1924 гг. — директор Государственного Румянцевского музея. Знакомый сестер Цветаевых по Тарусе и Москве был увлечен младшей из них. В 1907 г. началась дружба М. Цветаевой с его сестрой Ниной (см. обращенные к ней стихотворения «Нине» и «„Прости“ Нине» в сб. «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь»). Выведен впоследствии М. Цветаевой в очерке «Жених» (1933; СС-5). Период, о котором идет речь, для Виноградова ― время мучительных религиозных исканий. (См. об этом: А.К. Виноградов у Льва Толстого. Публ. Ст. Айдиняна. — Новый мир. 1994. № 8. стр. 214–221).
(обратно)52
Ср. фрагмент записи А.К. Виноградова 1909 г. о Д.С. Мережковском: «Великой волей своей он себя держит и не позволяет пролиться этому огню» (НЗК-2. стр. 57). Указано Ст. Айдиняном.
(обратно)53
Этот «вечный» вопрос продолжал волновать Цветаеву и годы спустя. С поисками ответа на него связана одна из важнейших тем ее творчества — «победы путем отказа» (слова С.М. Волконского), наиболее ярко выраженной в стихотворении «Прокрасться…» (1923; СС-2). См. также поздние размышления Цветаевой на эту тему в эссе «Письмо к Амазонке» (1932, 1934):
«Иметь все сказать — и не раскрыть уст, иметь все дать — и не раскрыть ладони. <…> Каждый мой отказ я ощущаю в себе землетрясением. Самое я — сотрясающаяся земля. Отказ? Окаменевшая борьба»
(СС-5. стр. 484). (обратно)54
Брюсов Валерий Яковлевич — поэт, критик. См. также письмо 2-10 к нему.
(обратно)55
Об этом стихотворении Цветаевой ничего не известно. Позднее к «монастырской» теме она обратилась в стихотворении «А всему предпочла…» (1918: СС-1).
(обратно)56
Соня. — См. коммент. 8 к письму 2-08.
(обратно)57
Орловка. — См. коммент. 1 к письму 1-08.
(обратно)58
«Два гренадера» — баллада немецкого композитора Роберта Шумана (1810–1956) на стихи Генриха Гейне (1797–1865) «Die beiden Grenadiere»; русский текст принадлежит М.Л. Михайлову (1829–1865). Была особенно любима Ф.И. Шаляпиным, и вполне допустимо, что речь идет о граммофонной записи его исполнения
(обратно)59
Письмо датируется по упоминанию в нем о концерте в Соковнино.
(обратно)60
Цветаевой предстояла сдача экзаменов по алгебре и химии при поступлении в 6-й класс гимназии М.Г. Брюхоненко, где она проучилась до зимы 1910–1911 гг., уйдя из 8-го педагогического класса.
(обратно)61
Известие об изменении срока экзамена привез, судя по всему, И.В. Цветаев. В дальнейшем этот срок снова изменился.
(обратно)62
Соковнино — село Чернского уезда Тульской губернии, расположенное на оживленной торговой дороге, в 20 верстах от Орловки. Там находилось имение тетки Юркевича по материнской линии, Анны Николаевны Бодиско; возможно, туда и собирались отправиться Юркевичи на музыкальный концерт.
(обратно)63
Цветаева приводит первую строфу стихотворения без названия из книги «Земные дали. Вторая книга стихов» (СПб.: Шиповник, 1908. С. 38) революционного поэта Евгения Михайловича Тарасова (1882–1946). В «Ответе на анкету» (1926) Цветаева поставила стихи Тарасова в ряд душевных событий своего отрочества. См. также письмо 8-08 и коммент. 4 к нему.
(обратно)64
Буян — кличка одной из собак в Орловке.
(обратно)65
Чермашня и Мокрое — название сел в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880). Судя по всему, обитатели Орловки непосредственно связывали эти литературные упоминания с расположенными неподалеку живописными селами Белевского уезда — Чермошны и Мокрое. Между тем первое из названий, использованных писателем, восходит к местам его детства деревне Чермашня (Чермошня, Чермошино) Каширского узда, приобретенной в 1832 г. его родителями. Второй топонимический источник вовсе не имеет отношения к Тульской губернии.
(обратно)66
Речь идет о Лидии Александровне Тамбурер (урожд. Гаврино; ок. 1872 — до 1937), друге семьи Цветаевых. Окончила Институт благородных девиц, с 1899 г. занималась зубоврачебным делом; в те годы работала в гимназии им. И. и А. Медведниковых и вела частную практику. В первую зиму знакомства с ней сестер Цветаевых жила на Арбате, д. 19, кв. 2 (в доме Бромлей). В 1908 г. ушла из семьи, порвав с мужем и матерью, и поселилась на Поварской, д. 10, кв. 6. С Тамбурер непосредственно связаны ранние стихотворения М. Цветаевой «Последнее слово», «Эпитафия», «Сереже», «Лучший союз» (сб. «Вечерний альбом»), «Жажда» (сб. «Волшебный фонарь»). В очерке «Отец и его музей» (1936) М. Цветаева вспоминала о Тамбурер:
«Это — наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери, — Лидия Александровна Т., урожденная Гаврина, полуукраинка, полунеаполитанка ― княжеской крови и романтической души»
(СС-5. стр. 178).См. также: Цветаева А. стр. 256–258. Е.А. Тамбурер была участницей «сред» в религиозно-философском кружке П.И. Астрова (осень 1904–1909 гг.) и «Общества свободной эстетики» (1906–1917). См. подробнее: Белый А. Начало века (стр. 44, 49, 392) и Между двух революций (стр. 197). М.: Худож. литература. 1990.
(обратно)67
Эсдечка — социал-демократка. Сведениями об этом лице мы не располагаем. Возможно, это кто-то из революционных друзей единокровной сестры Цветаевой — Валерии.
(обратно)68
Володя — Владимир Иванович Юркевич (1885–1964), брат адресата. Морской инженер-судостроитель, выдающийся конструктор. В эмиграции с 1920 г., во Франции — с 1922 г. Неизвестно, была ли Цветаева знакома с ним в России, пересеклись ли их судьбы в Париже. В.И. Юркевичу и его триумфу посвящено множество публикаций в парижской периодике 1930-х гг. В частности, см.: Лукин A. FY (Торжество русской идеи). Последние новости. 1932. 19 окт. № 4259. стр. 2–3; [Б.п.] За «Голубым бантом». — Там же. 1935. 13 июля. № 5224. стр. 4; Днепров Р. У В.И. Юркевича. Возрождение. 1935. 26 мая. № 3644. стр. 4. Биографическую справку о нем см.: Российское зарубежье во Франции. 1919–2000. Биографический словарь: В 3 т. М.: Наука; Дом-музей М. Цветаевой, 2010. Т. 3. стр. 627–628.
(обратно)69
См. коммент. 70.
(обратно)70
«Фуражка с венчиком» запечатлена Цветаевой в стихотворении «Проснулась улица. Глядит усталая…», датированном мартом 1908 г. (СС-1).
(обратно)71
Речь идет о первом ответном письме Юркевича.
(обратно)72
Ср. «сценку» из будущей жизни Юркевича, описанную в письме 2-08.
Тасенька ― воображаемая дочь Юркевича.
В 1908 г. торжественно отмечалось 75-летие русского национального гимна «Боже, Царя храни» (музыка А.Ф. Львова, слова В.А. Жуковского); официально был введен в России в конце 1833 г. вместо употреблявшегося в 18161833 гг. английского гимна «God Save the King» композитора и поэта Г. Кэрри (Н. Carey).
(обратно)73
След этого пристрастия (как и увлечения поэзией К.Д. Бальмонта) находим в таких ранних (неизвестных) строках Цветаевой:
В зеленой башне всё было странно, Глядели окна так многогранно, Как будто взоры мильоны глаз…(записаны А.И. Цветаевой по памяти, датированы ею приблизительно зимой 1907–1908 гг.).
(обратно)74
Ранняя редакция стихотворения впервые опубликована в тексте сказки «О маленькой фее и чабане. Валошская сказка» (Самарская газета. 1896. 11 мая. № 98). Как самостоятельное произведение (редакция не позднее 1903 г.) под заголовком «Легенда о Марко» вышла в издании: Горький М. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике. Легенда о Марко. СПб.: Изд. Т-ва «Знание», 1906. С. 8 (Дешевая б-ка Т-ва «Знание». № 1); в дальнейшем при жизни автора не перепечатывалась. Цветаева, по всей видимости, цитирует стихотворение по памяти.
(обратно)75
По-видимому, имеется в виду Николай Николаевич Степаненко — преподаватель женской гимназии им. В.П. фон Дервиз, где Цветаева обучалась в 1906–1907 гг., и Московской 4-й мужской гимназии, которую окончили Юркевич и его братья.
(обратно)76
Очевидно, речь идет о повторном приглашении С. Юркевич в Тарусу, которое осталось нереализованным (см. настоящую переписку). Что касается первой поездки, то сведения о ее сроках разноречивы. Говоря о ней в своих воспоминаниях, С.И. Липеровская (Юркевич) указывает на лето 1907 г. (см.: Воспоминания. стр. 37–39). А.И. Цветаева относит приезд С. Юркевич в Тарусу к лету 1908 г., а также оспаривает утверждение мемуаристки о том, что М. Цветаева принимала гостью в доме С.Д. Мейн, а не у себя на даче «Песочное» (см.: Цветаева А. стр. 263).
(обратно)77
Подразумевается небольшая, левая, светелка на втором этаже тарусского дома Цветаевых. Аналогичную ей правую светелку занимала А. Цветаева.
(обратно)78
См. коммент. 6 к письму 2-08.
(обратно)79
Речь идет о приезде Юркевича в Орловку.
(обратно)80
Cр.: о собственной «победоносности» в эти годы Цветаева позднее упомянет в письме 36–23 к A.B. Бахраху:
«Двадцати лет, великолепная и победоносная…».
(обратно)81
Манеру Цветаевой (к тому же близорукого человека) говорить, не глядя на собеседника отмечали многие мемуаристы — например: В.Л. Андреева, O.E. Колбасина-Чернова, М.Л. Слоним, Ю.П. Иваск (см.: Воспоминания. стр. 292, 306, 365, 430).
(обратно)82
Речь идет об отъезде Цветаевой из Орловки. См. письмо 2-08.
(обратно)83
Здесь, вероятно, игра Цветаевой, восстанавливающей по инициалу имя корреспондентки Юркевича не без намека на библейский персонаж. Ср. ироническое упоминание «всяких Ев и тому подобных прелестей» в письме 2-08.
(обратно)84
Цветаева цитирует стихотворение «Бог» из сборника Е.М. Тарасова «Земные дали» (СПб.: Шиповник, 1908. стр. 38), соединив воедино две строфы, 3-ю с конца и последнюю.
(обратно)85
О своей «ненужности» Цветаева позднее писала В. Звягинцевой и А. Ерофееву в феврале 1920 г. См. письмо 2-20.
(обратно)86
Письмо датируется по упоминанию о нем в письме, написанном между 18 и 27 августа (письмо 10–08).
(обратно)87
Ср. в стихотворении «День угасший…» (1915): «Я же люблю слова / И перстни…» (СС-1).
(обратно)88
Описка Цветаевой в дате письма. Как следует из содержания писем 2-08 и настоящего, данное письмо написано в августе.
(обратно)89
Позднее Цветаева нередко отыгрывалась на своих обидчиках «творчески». Например, выставляла их в смешном и неприглядном виде, как А.К. Виноградова в рассказе «Жених» (1933) и А.Г. Вишняка в эпистолярной новелле «Флорентийские ночи» (1932).
(обратно)90
Возможно, это первое знакомство Цветаевой с творчеством Ф.М. Достоевского. Много позже Цветаева признавалась в письме к Ю.П. Иваску, что Достоевский ей «в жизни как-то не понадобился» (СС-7. стр. 387). Приведенные в настоящем письме выдержки из романа «Подросток» в ряде случаев Цветаевой несколько изменены.
(обратно)91
Цветаева приводит полный текст стихотворения Е.М. Тарасова «Они лежали здесь в углу…» из книги «Стихи» (СПб.: Новый мир. 1906), написанного в связи с расправой над участниками Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. Возможно, Цветаева воспроизвела его по памяти, так как в сравнении с книжным источником имеются разночтения. См. также коммент. 5 к письму 4-08 и коммент. 14 к письму 5-08.
(обратно)92
Речь идет о стихотворении, написанном 18 июля 1908 г. См. письмо 1-08.
(обратно)93
Кто такие «Евг. Ив.» и «Собко», не установлено.
(обратно)94
Датируется по упоминанию сроков отъезда Цветаевой из Тарусы (см. письмо 8-08) и предстоящих экзаменов (см. наст. письмо).
(обратно)95
По всей видимости, Цветаева ссылается на фразу из письма 5-08, которое послужило причиной ее эпистолярной размолвки с адресатом.
(обратно)96
Возможно, речь идет о стихотворении, упомянутом в письме 8-08:
«Написала одни стихи — настроение и мысли в вагоне 21-го июля, когда я уезжала из Орловки. Прислать?»
(обратно)97
Ср. вспоминания А.И. Цветаевой:
«Иногда — и все чаще ― мы шли в синематограф. От картин тех лет в памяти — светлый туман. Каждый наш поход туда погружал нас в романтику, обогащал еще одной печалью, трагедией еще чьей-то судьбы»
(Цветаева А. стр. 270).Увлечение кинематографом сохранилось у Цветаевой на всю жизнь.
(обратно)98
М. и А. Цветаевы были в те годы большими любительницами приключений, мистификаций, шутливых розыгрышей и т. п. О других мистификациях М. Цветаевой тех лет см.: Цветаева А. стр. 238–240, 301–302; Воспоминания. стр. 18, 50.
(обратно)99
O том. что М. Цветаева в те годы вела дневник, до сих пор было известно лишь из воспоминаний ее бывшей гимназической подруги В.К. Перегудовой (Генерозовой). Вот что она писала по этому поводу:
«…дневник свой она [Цветаева] начала вести с самого раннего детства, когда она жила с матерью в Италии, в Нерви. <…> Я перечитала тогда все толстые клеенчатые тетради (ее детские дневники), которые Марина постепенно перетаскивала мне <…> Меня поражало, когда я читала ее детские записи, как мог маленький ребенок так осмысленно, почти по-взрослому, описывать свою жизнь, то есть свои радости, горести, игры и шалости, обиды, наказания и прочие детские переживания. В основном же, как в дневниках (уже более старшего возраста), так и в своих письмах, Марина скупо описывала какие-нибудь события из своей жизни, а больше в них было размышлений и рассуждений на самые разнообразные темы»
(Воспоминания. стр. 25).Дневники Цветаевой времен ее отрочества и ранней юности не сохранились.
(обратно)100
Миша — Михаил Семенович Монахов (1890-?), сын сторожа тарусской богадельни и расположенной рядом с ней цветаевской дачи «Песочное». О его семье и о дружбе с ним сестер Цветаевых см.: Цветаева А. стр. 238–240, 263–264. Выведен «рыцарем» младшей сестры в посвященном ей стихотворении VI. Цветаевой «Лесное царство» (Таруса, 1908, сб. «Вечерний альбом»). Дружба эта оборвалась по причине переезда семьи Монаховых в Серпухов после лета 1908 г.
(обратно)101
В письме 8-08 от 13 августа 1908 г. Цветаева писала:
«А „больные“ вопросы, Вы правы, теперь не следует затрагивать, лучше когда-нибудь потом».
(обратно)102
Речь идет о письме 6-08.
(обратно)103
Ср. с фразой из письма 5-10:
«Я когда-то заметила в Вас искорку».
(обратно)104
Лёва. — По-видимому, имеется в виду Лев Николаевич Липеровский (1887–1963), брат будущего мужа Софьи Юркевич. Сын священника, в 1907–1913 гг. — студент медицинского факультета Московского университета, затем земский и военный врач; участник московских религиозных кружков. После революции вступил в Братство Св. Алексия, был посвящен патриархом в чин «благовестника». Эмигрировал в Шанхай. Впоследствии жил во Франции, где стал активистом Русского христианского движения, принял священство (умер в сане протоиерея).
(обратно)105
Речь идет о письме 7-08.
(обратно)106
«Пожалейте меня!». — Со временем эта любовная формула изменилась на: «Пожалеть тебя!» (см. стихотворение 1916 г. «Не сегодня-завтра растает снег…»; СС-1). См. также письмо 6-16:
«Я так стремительно вхожу в жизнь каждого встречного, так хочу ему помочь, „пожалеть“…»
(обратно)107
Ср. позднейший отзыв М.Л. Слонима о Цветаевой:
«Одна голая душа. Даже страшно!»
(письмо от 7 апреля 1929 г. в кн.: Письма к Анне Тесковой. стр. 110). (обратно)108
В письме от 13 августа 1908 г. М. Цветаева спрашивала корреспондента: «Как же Вы решили насчет университета?» Юркевич поступил в 1907 г. на медицинский факультет, в 1908/09 учебном году обучался на историко-филологическом факультете, затем с 1910 г. он снова числится студентом медицинского факультета (ежегодные «Алфавитные списки студентов Императорского Московского университета»).
(обратно)109
См. коммент. 2 к письму 4-08.
(обратно)110
Датируется по черновику письма Юркевича, полный текст которого приводится в предисловии к публикации в «Новом мире». Возможно, его содержание имеет отношение к данному письму Цветаевой и упомянутому в нем инциденту.
Письма и стихи шестнадцатилетней Марины Цветаевой к Петру Юркевичу — это типично цветаевский эпистолярный роман. Поразительно, что из всех ответов Юркевича судьба сохранила черновик одного-единственного, притом того самого, которое и требовалось, чтобы роман получился именно цветаевским. Вот это письмо:
«Марина, Вы с Вашим самолюбием пошли на риск первого признания, для меня совершенно неожиданного, возможность которого не приходила мне и в голову. Поэтому отвечать искренне и просто на Ваш ребром поставленный вопрос, если бы Вы знали, как мне трудно. Что я Вам отвечу? Что я Вас не люблю? Это будет неверно. Чем же я жил эти два месяца, как не Вами, не Вашими письмами, не известиями о Вас? Но и сказать: да, Марина, люблю… Не думаю, что имел бы на это право. Люблю как милую, славную девушку, словесный и письменный обмен мыслями с которой как бы возвышает мою душу, дает духовную пищу уму и чувству. Если бы я чувствовал, что люблю сильно, глубоко и страстно, я бы Вам сказал: люблю, люблю любовью, не знающей преград, границ и препятствий, ты мое счастье, моя радость, жизнь мою превратишь в царство любви. Но чувствую: сказал бы сейчас этой фразой, а не делом, и в скором времени сплоховал бы каким-нибудь позорным образом. Вот Вам мой ответ правдивый, честный и искренний (но не страстный).
Любящий Вас, преклоняющийся перед Вашей сложной, почти гениальной натурой и от души желающий Вам возможного счастья на земле.
Ваш П.Ю.»(Впервые — Московский комсомолец. 1994. 22 нояб.)
(обратно)111
С.И. Юркевич. См. коммент. 15 к письму 2-08. Письмо к нему Цветаевой, о котором идет здесь речь, не сохранилось.
(обратно)112
Датируется по содержанию письма Юркевича (см. коммент. к письму 12–08).
(обратно)113
По всей видимости, это и последующие признания Цветаевой вызваны ее неудовлетворенностью «ответом» корреспондента.
(обратно)114
Герцог Рейхштадтский, или Наполеон II (Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт; 1811–1832), — сын Наполеона I и Марии-Луизы, получил титул кроля Римского. С 1814 г. постоянно жил при австрийском дворе, в замке Шенбрунн под Веной, где и умер от чахотки. В 1815 г. был провозглашен французским императором, но никогда не правил. В 1818 г. получил во владение от австрийского императора богемский город Рейхштадт. Пылкая любовь Цветаевой к Наполеону II выражена в таких ранних стихотворениях, как «В Шенбрунне», «Камерата», «Расставание», «Стук в дверь» (сб. «Вечерний альбом»), «Герцог Рейхштадтский» (сб. «Волшебный фонарь»). О неизменном любовном отношении к нему Цветаевой и в зрелые годы см.: Нива Ж. Миф об Орлёнке. По материалам женевских архивов, связанных с Мариной Цветаевой. Звезда. 1992. № 10. стр. 139–143.
(обратно)115
Подобное чувство было пережито корреспонденткой в двенадцатилетнем возрасте в связи со смертью Н. Иловайской, о чем позднее Цветаева рассказала в «Доме у Старого Пимена» (1933):
«…эта любовь была — тоска. Тоска смертная. Тоска по смерти для встречи. Нестерпимое детское „сейчас!“. А раз здесь нельзя — так не здесь, раз живым нельзя — так „Умереть, чтобы увидеть Надю“ — так это звалось, тверже, чем дважды два, твердо, как „Отче наш“»
(СС-5. стр. 131). (обратно)116
А.И. Цветаева писала о сестре:
«Кого из них [Наполеона I и Наполеона II] она любила сильнее — властного отца, победителя стольких стран, или угасшего в юности его сына, мечтателя, узника Австрии? Любовь к ним Марины была раной, из которой сочилась кровь»
(Цветаева А. стр. 269). (обратно)117
Имеется в виду портрет работы английского живописца Томаса Лоренса (Лауренса; 1769–1830) «Le Roi de Roma» («Король Римский», 1820). Ср. описание этого портрета в воспоминаниях А.И. Цветаевой:
«…овальный портрет отрока Рейхштадтского, знаменитый портрет Лоренса — нежное личико мальчика лет девяти, с грациозной благожелательностью и с недетской печалью глядящее из коричневатых волнистых туманностей рисунка, словно из облаков»
(Цветаева А. стр. 269). (обратно)118
Речь идет о пьесе французского поэта и драматурга Эдмона Ростана (1868–1918), посвященной герцогу Рейхштадтскому (поставлена и издана в 1900 г.). В 1908–1909 гг. Цветаева сделала русский перевод «Орлёнка» (перевод не сохранился). С этого произведения в дневниковой записи Цветаевой 1919 г. начинается список «Мои любимые — в мире — книги». В «Ответе на анкету» (1926) оно же указано в последовательности любимых книг, каждая из которых дает эпоху: «L'Aiglon» Ростана — ранняя юность.
(обратно)119
В «Ответе на анкету» Цветаева писала:
«Постепенность душевных событий: <…> с 12 лет и поныне — Наполеониада, перебитая в 1905 г. Спиридоновой и Шмидтом, <…> 16 лет — разрыв с идейностью, любовь к Саре Бернар („Орлёнок“, взрыв бонапартизма, с 16 по 18 лет — Наполеон (Виктор Гюго, Беранже, Фредерик Масон, Тьер мемуары, Культ)»
(СС-4. стр. 622). (обратно)120
Ср. воспоминания А.И. Цветаевой: «Ни одна из жен Наполеона, ни родная мать его сына, быть может, не оплакали их обоих с такой страстной горечью, как Марина в шестнадцать лет!» (Цветаева А. стр. 269).
(обратно)121
В воспоминаниях А.И. Цветаевой упоминается о попытке самоубийства М. Цветаевой на спектакле «Орлёнок» с участием прославленной французской актрисы С. Бернар (Цветаева А. стр. 326–327). О датировке этого эпизода см. также предположения Е.И. Лубянниковой: Минувшее. стр. 348. Впоследствии Цветаева видела «Орлёнка» (также с Сарой Бернар в главной роли) весной 1912 г. в Париже, во время своего свадебного путешествия.
(обратно)122
См. коммент. 4.
(обратно)123
Вербицкая Анастасия Алексеевна (урожд. Зяблова; 1861–1928) — писательница, издательница, педагог. Реабилитировала форму бульварного, или сенсационного, романа. Была очень популярна в годы реакции, наступившей после революции 1905–1907 гг. Главные темы ее творчества — вопросы пола и женская эмансипация. Подробнее см.: Грачёва А. Анастасия Вербицкая. Легенда, творчество, жизнь //Лица. Биограф, альм. 5. М.; СПб.: Феникс; Atheneum, 1994. стр. 98–117. «Дух времени» — роман, отражающий жизнь русского общества в периоде 1903 по 1905 г… включая события Московского вооруженного восстания; с 1907 по 1912 г. выдержал три издания и был переведен на несколько европейских языков.
(обратно)124
Бауман Николай Эрнестович (псевд. Грач; 1873–1905) — профессиональный революционер, большевик. Убит черносотенцами. Его похороны 20 октября 1905 г. в Москве вылились в трехсоттысячную политическую демонстрацию.
(обратно)125
Речь идет об эпизоде, когда Юркевич «не допроводил» Цветаеву до дома. Этот случай послужил поводом для написания стихотворения «Месяц высокий над городом лёг…» (см.: СС-7).
(обратно)126
Как вспоминала А.И. Цветаева, в их доме в Трехпрудном переулке, в углах гостиной, у окон, на белых круглых колоннах-постаментах стояли бюсты греческих богов Аполлона и Дианы (см.: Цветаева А. стр. 42, 302). Названия этих скульптур, о которых М. Цветаева пишет как о «статуях», были ей, несомненно, хорошо известны.
Ср. в ее поэме «Чародей» (1914):
Вплываем в царство белых статуй И старых книг. ….. Бюст Аполлона — план Музея — И всё — как сон. …..(СС-3. стр. 13).
(обратно)127
Имеются в виду либеральные народники, влияние которых усилилось в середине 1880-х гг., в период кризиса народничества («малых дел теория» Я.В. Абрамова, выступление против марксизма Н.К. Михайловского и др.).
(обратно)128
Упоминание об автобиографии содержится также в недатированной открытке Цветаевой к В. Генерозовой (см. письмо 16–08). Другими сведениями об этом документе мы не располагаем.
(обратно)129
Л.Л. Эллис. См. письма к нему (1909–1910 гг.).
(обратно)130
Надо полагать, эта характеристика относится скорее к современным строениям, свое отношение к которым Цветаева высказала в стихотворении «Домики старой Москвы»:
Вас заменили уроды, — Грузные, в шесть этажей(СС-7. стр. 172).
(обратно)131
Подразумевается дом Цветаевых в Трехпрудном переулке, № 8. По свидетельству А.И. Цветаевой, «крашенный — сколько помню его, с 1897 г., ― коричневой краской» (Цветаева А. стр. 40).
(обратно)132
Ср. позднейшее обращение Цветаевой к этому образу в стихотворении «Когда я гляжу на летящие листья…» (1936; СС-2). Здесь налицо явное смещение авторского акцента. Если для юной Цветаевой падение листьев — символ человеческой жизни, то в зрелом поэтическом осмыслении этот образ несет в себе символику человеческой смерти.
(обратно)133
Ср. письмо 2-08:
«Поглядите на окружающих <…> неужели это люди? <…> Где же красота, геройство, подвиг? Куда девались герои?»
(обратно)134
Степняк Сергей Михайлович (наст. фам. Кравчинской; 1851–1895) — революционер-народник, писатель. Член кружка «чайковцев», участник «хождения в народ», в 1878 г. примкнул к «Земле и воле», убил шефа жандармов Н.В. Мезенцева. В эмиграции основал «Фонд вольной русской прессы». Автор произведений о русских революционерах: романа «Андрей Кожухов» (английский оригинал «The Career of Nihilist». 1889), очерков «Подпольная Россия» (1882) и др. Цветаевой могли быть доступны издания: Степняк С. (Кравчинский С.М.) Андрей Кожухов. Роман. Пер. с англ. Предисл. Г. Брандеса. Женева. Изд. Ф. Степняк. 1898; Степняк-Кравчинский С.М. Собр. соч.: В 6 ч. Ч. 4. Андрей Кожухов. Пер. с англ. и предисл. Ф.М. Степняк. Под ред. и с предисл. П.А. Кропоткина. СПб.: Светоч, 1907. Об увлечении Цветаевой-гимназистки этим романом упоминают ее бывшие подруги В.К. Перегудова (Генерозова) и С.И. Липеровская (Юркевич), последняя вспоминает: «Особенно увлекал Степняк-Кравчинский; Андрей Кожухов стал любимым героем. Марина пополняла арсенал „недозволенных книг“» (Воспоминания. стр. 32).
(обратно)135
O своем неподчинении «никакому организованному насилию, во имя чего бы оно ни было и чьим бы именем ни оглавлялось», она позднее писала Ю.П. Иваску (письмо от 4 апреля 1933 г.), а в другом письме (27 февраля 1939 г.) к нему утверждала: «Все мои непосредственные реакции — обратные. Преступника — выпустить, судью — осудить, палача — казнить» (СС-7. стр. 384, 409). Близко знавший Цветаеву В.Б. Сосинский отмечал ее «слабость <…> к побежденным, к проигравшим игру, к людям, выкинутым из истории на свалку» (Воспоминания. стр. 373), что, конечно же, было не слабостью, а нравственным императивом.
(обратно)136
Как отмечает современный исследователь, «жизненная позиция „против течения“» была завещана Цветаевой ее матерью — М.А. Мейн. В записи 1919 г. Цветаева вспоминала «ее любовь к очень элементарным, но прекрасным — суть пересилила формы, дошла вопреки форме — стихам [А.К.] Толстого „Против течения“ — девиз ее жизни» (Цветаева М. «Двух станов не боец…» / Публ. и послесл. Е.Б. Коркиной. Наше наследие. 1988. № 1. стр. 73). Помимо материнского завета эта позиция должна была стать самодовлеющей для «мятежницы лбом и чревом» Цветаевой — как безусловный атрибут поэта-романтика.
(обратно)137
Cр. в письме 7-08: «Соглашаюсь с Вами, что слишком люблю красивые слова».
(обратно)138
Джордано Бруно (1548–1600) — итальянский философ, поэт. По обвинению в ереси был сожжен инквизиторами.
(обратно)139
Аввакум Петрович (1620 или 1621–1682) — протопоп, писатель-богослов, основатель русского старообрядчества, идеолог раскола в православной церкви. В 1667 г. заточен в земляную тюрьму, в которой провел 15 лет, после чего сожжен с единомышленниками. Автор знаменитой книги «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» и др. сочинений.
(обратно)140
Тамара, Тамар (ок. середины 60-х гг. XII в. — 1207) — грузинская царица (1184–1207), отличалась мудростью и красотой. Причислена к лику святых.
(обратно)141
Письмо написано на открытке с видом Генуи. Под изображением приписка М. Цветаевой: «Это генуэзский порт ночью». Почтовый штемпель отсутствует. Открытка, по-видимому, была вложена в конверт, который не сохранился.
Датируется условно по содержанию письма. В начале 1910 г. Генерозова уехала сначала к родственникам в Саратов, затем перебралась в Сибирь, где познакомилась с В.А. Зарембой, своим будущим мужем. Возможно, этим обстоятельством и навеяно содержание письма Цветаевой. Однако мы не исключаем возможности того, что письмо было написано одним-двумя годами ранее предполагаемой выше даты. Поводом для подобных сомнений является упоминание Цветаевой в письме своей автобиографии. О ней она пишет П.И. Юркевичу осенью 1908 г.
(обратно)142
О ком идет речь, не установлено.
(обратно)143
Софья Юркевич писала о Валентине Константиновне:
«Очень эмоциональная, музыкальная, выступала на вечерах: пела романсы, читала стихи. Ее заветная мечта ― учиться после гимназии музыке — не осуществилась из-за недостатка средств. Так и погиб ее талант»
(Воспоминания. стр. 33–34). (обратно)144
В 1907 г. Цветаева, проучившись один год, оставила гимназию фон Дервиз. Более года подруги не виделись. Письмо написано под впечатлением первой после перерыва встречи, когда В. Генерозова посетила дом Цветаевых в Трехпрудном переулке.
(обратно)145
Переписка Цветаевой и Генерозовой длилась до начало 1910 г., вплоть до отъезда В. Генерозовой к родственникам в Саратов. См. письмо 1-10. В целом переписка Цветаевой и Генерозовой не сохранилась.
(обратно)146
На пасхальные каникулы Цветаева с группой соучеников по гимназии М.Г. Брюхоненко совершила поездку в Крым. Эту поездку описала в своих воспоминаниях одна из ее участниц Т.Н. Астапова (Воспоминания. стр. 48–50).
(обратно)147
Цветаева проделала этот путь второй раз. Первый, летом 1905 г., она также перенесла с трудом.
«Море до Ялты так качало наш пароход, что мы обе измучились. <…> Маруся выражала свое отношение к качке — беспрерывно. Я крепилась долго, но — сдалась»
(Цветаева А. стр. 185). (обратно)148
См. письмо к В.Я. Брюсову (2-10) и коммент. 2 к нему.
Ваши письма. — Письма Эллиса к М. Цветаевой, по-видимому, не сохранились. В частном собрании находится книга Ш. Бодлера «Мое обнаженное сердце» в переводах Эллиса (М.: Дилетант, 1907) с его дарственной надписью Цветаевой:
Дорогой Марине Ивановне Цветаевой от горячего поклонника ее чуткой, глубокой и поэтической души. Эллис.
Le Poête est semblable au prince des nuées Qui hante la tempête et se rit de l'arche<r;> Exilé sur le sol au milieu des huées, Ses ailes de géant l'empêchent de marche<r>.*______________
* Поэт, вот образ твой! …ты — царь за облаками; Смеясь над радугой, ты буре вызов шлешь! Простертый на земле, освистанный шутами. Ты исполинских крыл своих не развернешь!(из стихотворения «Альбатрос». Сб.: Бодлер Ш. «Цветы зла» М., 1908. Пер. с фр. Эллиса).
(обратно)149
Сны в творчестве Цветаевой, в том числе эпистолярном, занимают важное место. Сон она называла «любимым видим общения». См., например, на эту тему посмертное письмо к P.M. Рильке (31 декабря 1926 г.), письма к Б. Пастернаку (9 февраля 1927 г.), C.H. Андрониковой-Гальперн (2-14 августа 1932 г.), А. Берг (26 ноября 1938 г.). Подробнее см.: Айзенштейн Е. Сны Марины Цветаевой. СПб., 2003.
(обратно)150
Летом 1909 г. М. Цветаева училась в Alliance Française (курсы французской литературы) в Париже. Чувство одиночества и тоски, которая она испытывала в своей первой самостоятельной поездке за границу, нашло отражение в написанном в эти дни стихотворении «В Париже» (СС- 1).
Известно еще об одном письме Эллису, посланном Цветаевой из Парижа. Его содержание связано с нашумевшим в свое время инцидентом. Вот что писала об этом газета «Русские ведомости» от 5 августа 1909 г.:
«На днях в читальном зале Румянцевского и Публичного музеев обнаружено злоупотребление с книгами одного из постоянных посетителей библиотеки, некоего литератора Л. Коб<ылин>ского, писавшего в декаденских журналах под псевдонимом „Эллис“. Этот посетитель из выдаваемых ему книг для чтения вырезывал страницы текстов и брал себе. Проделка была замечена одним из служителей…»
Узнав о грозящих Эллису неприятностях, Цветаева пишет ему письмо в поддержку. Содержание этого письма, которое, видимо, не сохранилось, в пересказе Эллиса Андрею Белому приводит A.B. Лавров в комментариях к мемуарам А. Белого:
«Вчера вдруг получаю письмо из Парижа от старшей дочери Цветаева, Маруси, моей большой поклонницы. Она все узнала от Аси, которая, кажется, не понимает серьезности дела. Маруся мне пишет, что она веря в меня и не требуя никаких доказательств, считает своей обязанностью сделать всё, чтобы меня спасти — „Если с вами что-нибудь сделают, я застрелюсь!“ — пишет она… „Вас не смеют судить, и если бы вы раскрали ½-у музея, то все равно они не смеют вас судить!..“ Она пишет, что немедленно едет в Россию и „пойдет на всё“… Быть может, это детская, смешная грёза, но меня это тронуло до невыразимости»
(Белый А. Между двух революций. М.: Худож. литература. 1990. стр. 536–537). (обратно)151
Л.А. Тамбурер, познакомившая Эллиса с сестрами Цветаевыми.
(обратно)152
Речь идет о частном книжном магазине Вольфа в Москве, на Кузнецком мосту. Вольф Маврикий Осипович (польское имя Болеслав Маурыцы; 1825–1883) — русско-польский издатель, книгопродавец.
(обратно)153
В юности Цветаева увлекалась творчеством Ростана (Rostand), особенно драмой «Орленок», которую она переводила в 1908–1909 гг. на русский.
«…Марина, забыв обо всем, день за днем, и часто глубоко в ночь кидалась в бой несходства двух языков, во вдохновенное преодоление трудностей ритма и рифмы. Любимейший из героев, Наполеон II, воплощался силой любви и таланта, труда и восхищенного сердца, — в тетрадь. Перевоплощался из французского языка — в русский»
(Цветаева А. стр. 268).Перевод пьесы не сохранился.
(обратно)154
Римский король — Наполеон II, герцог Рейхштадтский, герой пьесы «Орленок». См. письмо 13–08 и коммент. 3 к нему.
(обратно)155
Мелисанда, графиня Триполийская, жившая в XII в., героиня пьесы Ростана «Принцесса Грёза»; она была воспета Г. Гейне в стихотворении «Жоффруа Рюдель и Мелисанда Триполи» и в его поэме «Иегуда бен Галеви».
(обратно)156
Встреча А. Цветаевой с Брюсовым описана в ее воспоминаниях (Цветаева А. С. 282). М. Цветаева посвятила этому эпизоду стихотворение «Недоумение» (СС-7).
(обратно)157
Лето 1910 г. М. и А. Цветаевы провели в местечке Лохвиц в горной части маленького городка Вайсер-Хирш, под Дрезденом, в семье пастора Бахмана. М. Цветаева вспоминала об этой поездке в дневниковой прозе «О Германии» (1919; СС-4). См. также: Цветаева А. стр. 331–341. Возможно, письмо датировано по новому стилю, принятому в то время в Германии.
(обратно)158
Манн Генрих (1871–1950) — немецкий писатель. «Богини». — В России трилогия «Богини, или Три романа герцогини Асси (Диана, Минерва, Венера)» вышли в свет в составе Полного собрания сочинений Г. Манна (т. 1–3. Пер. В.М. Фриче. М.: Современные проблемы, 1909–1910). «Голос крови». — Под таким названием в переводе М. Славинской и Р. Ландау (М.: Польза В. Антик и Кº. 1909) был опубликован роман Г. Манна «Zwischen den Rassen» («Между расами») (München: A. Langen. 1907). Свободно владея немецким языком, Цветаева, вероятнее всего, читала Г. Манна на языке оригинала. В прозе «О Германии» упоминается о чтении ею в Вайсер-Хирш романа «Zwischen den Rassen». Ее отзыв о трилогии «Богини» и других произведениях писателя см. также в письме 1-11 к М.А. Волошину.
(обратно)159
D'Annunzio. — Д'Аннунцио Габриеле (1863–1938), итальянский писатель, сторонник идеи «сверхчеловека» и диктатуры «сильной личности».
(обратно)160
«Огонь» — роман «Il fuoco» (1900); в России был опубликован под названием «Огонь жизни» (СПб., 1901). «Наслаждение» — роман «Il piacero» (1899) (M.: Идея, 1908). «Девы скал» — роман «Le vergini delle rosse» (1895), выдержал несколько изданий.
(обратно)161
О своем отношении к книгам Цветаева высказывается в письме 13–11 к М.А. Волошину.
(обратно)162
Место и дата написания установлены по почтовому штемпелю. См. предыдущее письмо.
(обратно)163
Цветаева шуточно так называет сестру Асю.
(обратно)164
Правильно: Нёвшатель. город в Швейцарии, где в это время находился А.И. Цветаев.
(обратно)165
Мусагет ― символистское издательство, организованное в 1909 г. в Москве Э.К. Метнером (1872–1936) при ближайшем участии А. Белого и Эллиса, а также литераторов A.C. Петровского (1881–1958) и М.И. Сизова (1884–1956). Одним из основных направлений деятельности издательства был выпуск сборников современных русских поэтов-символистов.
(обратно)166
Речь идет об «Антологии», единственном коллективном поэтическом сборнике, вышедшем в издательстве «Мусагет» (июнь 1911 г.). Цветаева, видимо по просьбе Эллиса, дала для антологии несколько стихотворений, не вошедших в ее первый сборник «Вечерний альбом». В итоге было опубликовано два стихотворения: «Девочка-смерть» и «На бульваре». Упоминаемое в письме стихотворение «Мальчик с розой» в антологию не попало. Позже эти стихи вошли в раздел «Деточки» второго сборника М. Цветаевой «Волшебный фонарь» (М., 1912).
(обратно)167
Поездки И.В. Цветаева в Петербург в это время были связаны с приобретением для музея изящных искусств коллекции египтолога B.C. Голенищева и перевозкой ее в Москву. Сообщение Цветаевой Эллису о возможном отъезде отца было обусловлено тем, что после инцидента с библиотечными книгами Эллис мог бывать в цветаевском доме (в Трехпрудном переулке) только в отсутствие И.В. Цветаева. В воспоминаниях А. Цветаевой события, связанные с проступком Эллиса, ошибочно датируются весной 1921 г. вместо августа 1909 г. (Цветаева А. стр. 321–322).
(обратно)168
В студии скульптора Константина Федоровича Крахта (1868–1919), приятеля Эллиса, проходили собрания группы поэтической молодежи. Эллис называл этот кружок «Молодым Мусагетом». По свидетельству А. Белого, среди других кружок посещали «Марина Цветаева и молодой Пастернак» (Белый А. Между двух революций. стр. 333).
(обратно)169
О каком стихотворении идет речь, неизвестно. Среди дошедших до нас текстов ранней лирики Цветаевой есть два стихотворения, написанных в форме сонета: «Встреча» («Вечерний дым над городом возник…») и «Die stille Strasse». Они вошли в первый сборник «Вечерний альбом» (СС-1).
(обратно)170
Первая книга Цветаевой «Вечерний альбом» (М., 1910) была подарена ею Волошину 1 декабря 1910 г. с надписью «Максимилиану Александровичу Волошину с благодарностью за прекрасное чтение о Villiers de L'Isle-Adam. Марина Цветаева» (Библиотека Дома-музея М.А. Волошина в Коктебеле, № 205). Волошин первым отметил явление в поэзии Марины Цветаевой. Его статья «Женская поэзия», посвященная сборнику, появилась 11 декабря 1910 г. в газете «Утро России». Затем о «Вечернем альбоме» были напечатаны отзывы В. Брюсова (Русская мысль. M. 1911. № 2. стр. 233), Н. Гумилева (Аполлон. 1911. № 5. стр. 78), М. Шагинян (Приазовский край. Ростов-на-Дону. 1911.3 окт.). См. указанные рецензии в сб.: Родство и чуждость.
(обратно)171
Речь идет о стихотворении М. Волошина «К Вам душа так радостно влекома…», написанном 2 декабря 1910 г. под впечатлением полученного накануне от М. Цветаевой и прочитанного им «Вечернего альбома». Впервые было процитировано, видимо, по памяти, М. Цветаевой в очерке «Живое о живом», опубликованном в «Современных записках» (1933. № 52). Полный текст впервые воспроизведен в кн.: Волошин М. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1977. стр. 182–183.
(обратно)172
Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке, № 8.
(обратно)173
К письму приложено обращенное к М. Волошину стихотворение «Безнадежно-взрослый Вы? О, нет!..», написанное в тот же день.
Москва, 27-го декабря 1910 г.
Безнадежно-взрослый Вы? О, нет! Вы дитя и Вам нужны игрушки, Потому я и боюсь ловушки, Потому и сдержан мой привет. Безнадежно-взрослый Вы? О, нет! Вы дитя, а дети т<а>к жестоки: С бедной куклы рвут, шутя, парик, Вечно лгут и дразнят каждый миг, В детях рай, но в детях все пороки, — Потому надменны эти строки. Кто из них доволен дележом? Кто из них не плачет после елки? Их слова неумолимо-колки, В них огонь, зажженный мятежом. Кто из них доволен дележом? Есть, о да, иные дети — тайны, Темный мир глядит из темных глаз. Но они отшельники меж нас. Их шаги по улицам случайны. Вы — дитя. Но все ли дети — тайны?!(CC-1. стр. 101. Ошибочно указана дата написания 27 ноября 1910 г.).
(обратно)174
В предыдущем письме, назначая Волошину встречу в пятницу вечером. Цветаева, по-видимому, упустила из виду, что этот вечер был кануном Нового года и поэтому для встречи неудобен.
(обратно)175
Цветаева повторяет слова из своего стихотворения, которое она послала М. Волошину 27 декабря 1910 г. (см. письмо 8-10)
(обратно)176
«Яшмовая трость» — книга рассказов французского писателя Анри де Ренье (1864–1935), которого М. Волошин очень ценил, переводил и которому посвятил ряд статей. Следующие две фразы письма Цветаевой относятся, видимо, к «Яшмовой трости», подаренной ей Волошиным накануне, во время их встречи 4 января 1911 г.
(обратно)177
Названия книжных магазинов в Москве по именам их основателей. И.И. Готье и М.О. Вольфа. Готье Иван Иванович (1772–1832); Вольф ― см. коммент. 1 к письму 2-10.
(обратно)178
Швоб Марсель (1871–1905) — французский писатель. Волошин ценил его книгу «Воображаемые жизни» (1896, русский перевод Л. Рындиной; М.: Гриф, 1909), которую в статье «Ответ Валерию Брюсову» (Русь, 1908. 4 янв.) приводил как образец «субъективных и лирических характеристик» современников. Возможно, что именно ее он рекомендовал Цветаевой.
(обратно)179
Далее Цветаева перечисляет следующие произведения немецкого писателя Генриха Манна (1871–1950): трилогию «Богини, или Три романа герцогини Асси» (1903), роман «Голос крови» (русский перевод: М.: Польза. 1909), повесть «Актриса» (русский перевод: журнал «Театр и искусство», 1907), роман «Погоня за любовью» (1904), сборники рассказов «Чудесное» (1903), «Флейты и кинжалы» (русский перевод: М.: Польза, 1908), романы «Маленький город» (1908), «Страна лентяев» (1910), «Учитель Гнус, или Конец одного тирана» (1905).
(обратно)180
Отношение Цветаевой к А.П. Чехову осталось неизменным в течение всей жизни.
(обратно)181
Вторая строка из стихотворения Ш. Бодлера «Le voyage» («Плаванье», 1859). Буквально: «Вселенная равна его громадному аппетиту». В 1940 г. в своем переводе «Плаванья» (СС-3) Цветаева следующим образом передала безграничность восприятия Вселенной: «За каждым валом ― даль, за каждой далью ― вал» (см. Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Наука, 1970. стр. 211).
Следует отметить, что в многочисленных переводах этого стихотворения, начиная с первого, выполненного П. Якубовичем, вторая строфа переводилась вольно. Сравнение первой строфы этого стихотворения в переводах П. Якубовича, Эллиса, В. Комаровского, А. Ламбле, М. Цветаевой приведено в статье А. Саакянц «Марина Цветаева — не Адриан Ламбле» (Вопросы литературы. 1986. № 6. стр. 194–195). Приведем еще один вариант перевода, принадлежащий Е. Рачинской: «Вся вселенная — словно для игр и забав предназначенный зал…» (Новое русское слово. 1977. 9 окт.).
(обратно)182
Название частей трилогии Г. Манна «Богини», героиня которой проходит три стадии увлечения — политической борьбой («Диана»), искусством («Минерва»), любовью («Венера»).
(обратно)183
При первой встрече с Цветаевой (в то время она была острижена наголо после болезни) М. Волошин сказал:
«Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверное, это часто говорят?»
(СС-4. стр. 162). (обратно)184
Цветаева цитирует стихотворение Анри де Ренье «Нет у меня ничего…» из сборника «Les jeux rustics et divins», 1908 («Игры поселян и богов» — фр.). М. Волошин перевел это стихотворение для статьи «Анри де Ренье» (Аполлон. 1910. № 4)
(обратно)185
По свидетельству вдовы поэта — М.С. Волошиной, Волошин любил ароматические вещества: зимой в его кабинете в курильнице часто дымился ладан и разные ароматические смолки, приобретенные им в Париже (архив Дома-музея М.А. Волошина в Коктебеле. А. 777).
(обратно)186
Возможно, Цветаева имеет в виду стихотворение Вяч. И. Иванова «Вечность и миг» (или «На миг») из сб. «Кормчие звезды» (М.: СПб., 1901). Можно предположить также, что речь идет об устном отзыве Иванова о поэзии Цветаевой, о котором упомянуто в очерке «Пленный дух»:
«…он мне сказал, что мои стихи — выжатый лимон»
(СС-4. стр. 231). (обратно)187
Продолжая открывать Цветаевой писателя, которым был в то время увлечен, Волошин подарил ей и этот роман А. де Ренье. Позднее, в очерке «Живое о живом», Цветаева так вспоминала о своем первом впечатлении от «Встреч господина де Брео»:
«Восемнадцатый век. Приличный господин, но превращающийся временами в фавна. Праздник в его замке. Две дамы маркизы, конечно, — гуляющие по многолюдному саду и ищущие уединения. Грот. Тут выясняется, что маркизы искали уединения вовсе не для души, а потому, что с утра не переставая пьют лимонад. Стало быть — уединяются. Подымают глаза: у входа в грот, заслоняя солнце и выход, огромный фавн, то есть тот самый Monsieur de Breot. В негодовании захлопываю книгу. Эту — дрянь, эту — мерзость — мне?»
(СС-4. стр. 167). (обратно)188
Один из разделов «Вечернего альбома» озаглавлен «Только тени».
(обратно)189
Л.А. Тамбурер.
(обратно)190
О каком недоразумении идет речь, установить не удалось. Однако поскольку в переписке Цветаевой и Волошина наступает длительный перерыв, в качестве предположения о причине размолвки напомним следующую сцену, описанную в очерке «Живое о живом» и связанную все с тем же романом А. де Ренье:
«С книгой в руках и с неизъяснимым чувством брезгливости к этим рукам за то, что такую дрянь держат, иду к своей приятельнице и ввожу ее непосредственно в грот. Вскакивает, верней, выскакивает, как ожженная.
— Милый друг, это просто — порнография! (Пауза.) За это, собственно, следовало бы ссылать в Сибирь, а этого… поэта, во всяком случае, ни в коем случае, не пускайте через порог! (Пауза.) Нечего сказать — маркизы!..Тотчас же садитесь и пишите: „Милостивый государь“ — нет, какой же он государь! — просто без обращения: Москва, число. — После происшедшего между нами — нет, не надо между нами, а то он еще будет хвастаться — тогда так: „Ставлю вас в известность, что после нанесенного мне оскорбления в виде присланного мне порнографического французского романа вы навсегда лишились права переступить порог моего дома“. Подпись. Всё»
(СС-4. стр. 167). (обратно)191
Стихотворение было впоследствии включено Цветаевой в сборник «Волшебный фонарь» (М., 1912) под заглавием «Кошки» и с посвящением «Максу Волошину».
(обратно)192
Л.А. Тамбурер.
(обратно)193
Романы французской писательницы Жорж Санд (Аврора Дюпен, в замуж. Дюдеван; 1804–1876) «Консуэло» (1842–1843), «Графиня Рудольштадт» (1843–1844), «Жак» (1834).
(обратно)194
Дракконочка, Драконочка, Драконна — дружеское прозвище Л.А. Тамбурер. Сохранились автографы, обращенные М. Цветаевой к Л.А. Тамбурер: открытка с изображением скульптурного портрета Сары Бернар работы Лерна Жерома с надписью Цветаевой на обороте: «Милой Драконне от МЦ. Август 1909 г. Париж» (в то лето Цветаева посещала трехмесячные курсы старофранцузской литературы в Школе языков в Париже) и сборник Цветаевой «Из двух книг» (М.: Оле-Лукойе, 1913) с надписью: «Драконне. Всё слишком искренне ― всегда немного нелепо, — к<а>к эта надпись. Марина Эфрон, урожд<енная> Цветаева. Москва, 5-го марта 1913 г.» (Частное собрание).
(обратно)195
А.И. Цветаева.
(обратно)196
Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина — мать М.А. Волошина. См. письма к ней.
(обратно)197
Ср.: В очерке «Слово о Бальмонте» Цветаева напишет:
«С Бальмонтом — все сказочно. „Дороги жизни богаты“ — как когда-то сказал он в своих „Горных вершинах“. — Когда идешь с Бальмонтом — да, добавлю я»
(СС-4. стр. 272).«Горные вершины» — книга прозы К. Бальмонта (М., 1904). Источник цитаты не установлен.
(обратно)198
«Труженики моря» (1866) — роман французского писателя Виктора Гюго (1802–1885).
(обратно)199
Французский писатель Александра Дюма-отец (1802–1870); Волошин подарил Цветаевой его пятитомный роман «Жозеф Бальзамо (Записки врача)» (1846), который стал ее любимой книгой.
(обратно)200
О «руке подкинутым младенцем» М. Цветаева позже вспоминала:
«…в одно из наших первых прощаний, Макс — мне:
— М<арина> И<вановна>, почему вы даете руку так, точно подкидываете мертвого младенца?
Я, с негодованием:
— То есть?
Он спокойно:
— Да, да, именно мертвого младенца ― без всякого пожатия, как посторонний предмет. Руку нужно давать открыто, прижимать вплоть, всей ладонью к ладони, в этом и весь смысл рукопожатия, потому что ладонь — жизнь <…>
Максу я обязана крепостью и открытостью моего рукопожатия и с ними пришедшему доверию к людям»
(СС-4. стр. 194). (обратно)201
После Гурзуфа Цветаева намеревалась приехать в Коктебель в дом М. Волошина. О граммофоне см. коммент. 7 к письму 13–11.
(обратно)202
О своем отношению к морю Цветаева впоследствии высказывалась неоднократно. См., например, стихотворение «Наяда» (1928: СС-2), поэму «С Моря» (1926; СС-3), очерк «Мой Пушкин» (1937; СС-5) и многочисленные высказывания в письмах (См.: Мнухин Л. Эпистолярное искусство Марины Цветаевой. В его кн.: Итоги и истоки. Болшево, 2008. стр. 39–40).
(обратно)203
Жан Поль (наст. имя и фам. Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 1763–1825) — немецкий писатель. Речь идет о его романе «Озорные годы» (1804–1805).
(обратно)204
Заключительные строки стихотворения К.Д. Бальмонта «С морского дна» из сборника «Будем как солнце» (М.: Скорпион, 1903).
(обратно)205
Цветаева имеет в виду скалу, выступающую мысом в море, с остатками генуэзской крепости.
«Деревня Гурзуф расположена амфитеатром по юго-западному склону горы, впадающей в море, и состоит из татарских домиков и саклей и более или менее устроенных дач. На вершине скалы (на земле Соловьевой, владелицы <имения> Суук-Су) находятся развалины старой генуэзской крепости. Ниже развалин стоит красивая дача Соловьевой…»
(Крым. Путеводитель. Под ред. К.Ю. Бумбера и др. Симферополь, 1914. стр. 562). (обратно)206
«Мусагет». — См. коммент. 1 к письму 6-10.
(обратно)207
О К.Ф. Крахте см. коммент. 4 к письму 6-10.
(обратно)208
В 1903 г. сестры Цветаевы недолгое время жили в пансионе «Лаказ» в Лозанне рядом с Женевским озером.
(обратно)209
Цитата из сказки Х.К. Андерсена (1805–1875) «Старый дом».
(обратно)210
М. Волошин был увлечен гипотезой французского физиолога Рене Кентона (1867–1925) о происхождении жизни из морских глубин, о тождестве «между кровью и морской водой». На М. Цветаеву эта теория произвела впечатление: сам Волошин казался ей «настоящим чадом, порождением, исчадием земли <…> с дремучим лесом вместо волос, со всеми морскими и земными солями в крови» (ЕРО. стр. 166).
(обратно)211
Имеется в виду стихотворение Цветаевой «Душа и имя» («Пока огнями смеется бал…»; СС-1).
(обратно)212
Бальзамо (Balsamo) и Лоренца (Lorenz) — герои романа А. Дюма-отца «Записки врача. Жозеф Бальзамо».
(обратно)213
Мадам де Тансен — Клодина Александрина Герен де Тансен (1682–1749), сестра лионского архиепископа, прославилась своими любовными интригами. Мать философа и математика Жана Лерона д'Аламбера (1717–1783). В 1726 г. была посажена в Бастилию по обвинению в убийстве своего любовника. Выпущенная оттуда, изменила образ жизни и собрала вокруг себя многих знаменитых литераторов. Главное ее произведение: «Mémoires du comte de Comminges».
(обратно)214
Граммофон, неоднократно упоминаемый в письмах, был мечтой Цветаевой весь год. Осенью 1911 г. он, наконец, был приобретен.
(обратно)215
В начале мая 1911 г. Волошин, в качестве признания, вручил Цветаевой стихотворение «Обманите меня… но совсем, навсегда…» (1911), получив «В ответ стихотворение (Горько таить благодарность…)» (Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб.: Алетейя, 2002. стр. 270).
(обратно)216
По-видимому, В.Я. Эфрон.
(обратно)217
Вероятно, Елена Николаевна Потапенко (урожд. Лампси; 1864 — не ранее 1928) — учительница музыки, бывшая жена писателя Игнатия Николаевича Потапенко (1856–1929).
(обратно)218
Пра — прозвище матери М. Волошина. Цветаева так писала об этом ее имени:
«Пра — от прабабушки, а прабабушка не от возраста — ей тогда было пятьдесят шесть лет, — а из-за одной грандиозной мистификации, в которой она исполняла роль нашей общей прабабки, Кавалерственной Дамы Кириенко (первая часть их с Максом фамилии) <…> Но было у слова Пра другое происхождение, вовсе не шутливое — Праматерь, Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми боками обжитых, Верховод всей нашей молодости, Прародительница Рода ― так и неосуществившегося, Праматерь — Матриарх — Пра».
См. «Живое о живом» (СС-4. стр. 187), а также коммент. к письмам Е.О. Волошиной.
(обратно)219
Коктебельская мифология. В шуточном сонете Волошина «Обед» (16 мая 1911) есть строка: «Опять уплыл недоенным дельфин…». Л.Е. Фейнберг, тоже гость Волошина того лета, вспоминал: «Между другими коктебельскими придумками был дельфин, который будто бы приплывал, чтобы его доили и его молоком лечили слабогрудого Сережу Эфрона» (Фейнберг Л. В Коктебеле, у Максимилиана Волошина. Дон. 1980. № 7. стр. 183).
В тот же день Сергей Эфрон писал сестрам:
8-го июля 1911 г.
Лилька! Сидим сейчас в Феодосийском почтовом отделении. Ты сидишь рядом за столом и что-то пишешь.
Жара несносная. Поезд идет только вечером. Привет всем.
Сергей
Привет милой Влюблезьяне (от шутливого прозвища Е.Я. Эфрон в Коктебеле — «старая влюбленная обезьяна») от не менее милой Марины.
Письмо С. Эфрона печ. впервые по оригиналу, хранящемуся в архиве Дома-музея Марины Цветаевой в Москве. Написано на открытке салона польских художников в Кракове. Последняя фраза вписана рукой Цветаевой.
(обратно)220
См. коммент. 1 к письму 16–11.
(обратно)221
В начале июля Цветаева и Эфрон направились в Башкирию для лечения С.Я. Эфрона кумысом от туберкулеза.
(обратно)222
А.И. Цветаев.
(обратно)223
Theophile Gautier (Теофиль Готье; 1811–1872) — французский писатель. Судя по портретам, обладал импозантной внешностью, немного напоминавшей льва.
(обратно)224
Написано чрезвычайно мелким почерком на узкой картонной рекламной карточке «Товарищество Эйнем», которая вкладывалась в плитку производимого фирмой шоколада.
(обратно)225
См. коммент. 1 к письму 20–11.
(обратно)226
Альфонс Доде (1840–1897) — французский писатель.
(обратно)227
Петух изображен на обороте рекламной карточки.
(обратно)228
А.И. Цветаева.
(обратно)229
Возможно, описка Цветаевой, и под инициалами имеется в виду Борис Сергеевич Трухачев (1892–1919) — жених А.И. Цветаевой; вполне вероятно также, что этими литерами обозначен персонаж коктебельских розыгрышей — «Игорь Северянин».
(обратно)230
В.Я.Эфрон.
(обратно)231
Прозвище Е.Я. Эфрон. Под этим именем — «испанка Кончита» — Елизавета Эфрон принимала участие в мистификациях, которые устраивались в доме М. Волошина. См. об этом: Цветаева А. стр. 374–382.
(обратно)232
Уездный город Уфимский губернии.
(обратно)233
Коктебельские соседи Волошина: Екатерина Федоровна Юнге (урожд. Толстая; 1843–1913), художница и мемуаристка, троюродная сестра Л.Н. Толстого, и ее сыновья — Александр Эдуардович Юнге (1872–1921) — ботаник и Федор Эдуардович Юнге (1866–1928) — инженер-механик.
(обратно)234
О совместной поездке коктебельцев в Старый Крым рассказывает А. Цветаева в своих «Воспоминаниях» (Цветаева А. стр. 391–392).
(обратно)235
Олимпиада Никитична Сербинова (урожд. Ермакова; 1879–1955) — жена старокрымского судьи, певица-любительница.
(обратно)236
Аделаида Казимировна Герцык (1870–1925; в замуж. Жуковская) — поэтесса, критик, переводчица. О своей дружбе с Герцык Цветаева писала в очерке «Живое о живом»:
«…она в моей жизни такое же событие, как Макс, а я в ее жизни событие, может быть, большее, чем я в жизни Макса»
(СС-4. стр. 178).Свой второй сборник «Волшебный фонарь» М. Цветаева подарила А. Герцык с такой надписью:
«Моей волшебной Аделаиде Казимировне — Марина Цветаева. Москва, 27-го февраля 1912 г.»
(Хранится в частном собрании). (обратно)237
Страсти М. Волошина к «мифотворчеству» Цветаева посвятила многие страницы в очерке «Живое о живом» (СС-4).
(обратно)238
См. письмо 12–11 и коммент. 2 к нему.
(обратно)239
Подробно о пребывании сестер Цветаевых в 1902–1903 гг. в Нерви в Италии см.: Цветаева А. стр. 93–129. Там же говорится об их дружбе с Володей Миллером, сыном хозяина «Русского пансиона». М. Цветаева посвятила ему стихотворения «На скалах» («Он был синеглазый и рыжий…») и «Он был синеглазый и рыжий…» («Костюмчик полинялый…») (СС-1. стр. 37–38 и 138–139).
(обратно)240
Точное название книги: Джулио Мости. Драматическая фантазия в четырех частях с интермедией в стихах. Сочинения Н.К. (Н.В. Кукольника). СПб., 1836.
(обратно)241
Из стихотворения Н.С. Гумилева «Кенгуру. Утро девушки» из его сборника «Жемчуга» (М. Скорпион, 1910).
(обратно)242
Видимо, производное от выражения «лясы точить» — шутить, балагурить, пустозвонить.
(обратно)243
Речь идет о малоизвестном поэте и пианисте Николае Васильевиче Павлове (1893-ок.-1942), коктебельском соседе Волошина. Опубликовал в своем сборнике два стихотворения с эпиграфами из произведений М. Цветаевой («Распятые тени». Стихотворения. Одесса, 1917. стр. 48, 54).
(обратно)244
Александр Давидович Топольский — поэт и офицер, ему посвящено стихотворение Цветаевой «Белоснежка» («Спит Белоснежка в хрустальном гробу…» СС-7).
(обратно)245
Роман немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802–1827). Одно из самых любимых произведений Цветаевой в детстве и юности. Ее детские впечатления от этого романа нашли отражение в раннем стихотворении «Как мы читали „Lichtenstein“» (СС-7).
(обратно)246
Речь идет, по-видимому, о какой-то выходке Михаила Сергеевича Лямина (1883-?), двоюродного брата М. Волошина. Лямин был психически больным, страдал манией преследования.
(обратно)247
Похоже, что М. Волошин вложил в письмо к Цветаевой отпечатки лап коктебельской собаки Гайдана и свое шуточное стихотворение «Гайдан». В нем от имени пса рассказывается о дружбе с Цветаевой, взявшей его под свое покровительство (см.: Фейнберг Л. В Коктебеле, у Максимилиана Волошина. Дон. 1980. № 7).
(обратно)248
Летом 1911 г. Волошин сделал отдельные и групповые фотографии сестер Цветаевых, Эфрон и других обитателей дома.
(обратно)249
В начале сентября 1911 г. М. Волошин выехал в Париж в качестве корреспондента ежедневной «Московской газеты» «Разве можно быть сотрудником такой бульварщины?» — спрашивала сына Е.О. Волошина в письме от 19 октября 1911 г. Волошин надеялся на заработок в «Московской газете», который позволил бы ему жить в Париже. Однако редакция подолгу задерживала гонорар и вскоре совсем отказалась от собственного парижского корреспондента. «Как только с моих плеч свалилось бремя позора („Моск<овская> Газ<ета>“), так моя жизнь страшно развернулась и удесятерилась», ― писал он матери в ноябре 1911 г. (ЕРО. стр. 170).
(обратно)250
Квятковский Людвиг Лукич (1894–1977) — феодосиец из бедной семьи, в те годы начинающий художник, которого опекали и поддерживали М.А. Волошин, К.Ф. Богаевский, М.В. Сабашникова.
(обратно)251
И.В. Цветаев в августе 1911 г. находился по делам музея в Германии, там заболел и вынужден был на месяц лечь в клинику в местечке Штрелен под Дрезденом.
(обратно)252
Б.С. Трухачев, за которого вскоре вышла замуж А.И. Цветаева.
(обратно)253
Поэт и драматург Эдмон Ростан (1868–1918) был любимым поэтом Цветаевой. О ее отношении к Ростану см. письмо 2-10 и коммент. 2 к нему.
(обратно)254
Французская трагическая актриса Сара Бернар (1844–1923), которой Цветаева очень увлекалась, исполняла главную роль в пьесе Э. Ростана «Орленок». Цветаева в 1909 г. ездила в Париж, чтобы увидеть ее в этой роли.
(обратно)255
Хозяйка квартиры, у которой М. Цветаева снимала комнату во время своего пребывания в Париже в 1909 г.
(обратно)256
M. Цветаева любила повторять, что дата рождения у нее и С.Я. Эфрона в один день — 26 сентября (см., например, следующее письмо). На самом деле дата рождения С.Я. Эфрона — 29 сентября (на основании метрического свидетельства, хранящегося в частном архиве).
(обратно)257
A.C. Эфрон вспоминает этот «граммофон с трубою в виде гигантской повилики: в нем жили голоса цыганок» (Эфрон А. стр. 56).
(обратно)258
Айза — экономка в доме Цветаевой.
(обратно)259
Второй сборник стихов М. Цветаевой «Волшебный фонарь» вышел в свет в феврале 1912 г.
(обратно)260
По сравнению с первым сборником вторая книга М. Цветаевой была встречена более сдержанно. См., например, отклики Н. Гумилева (Аполлон. 1912. № 5), Б. Лавренева (под псевдонимом «Б. Сергеев». Жатва. 1912), В. Брюсова (Русская мысль. 1912. № 7), В. Ходасевича (альманах «Альциона», кн. 1, 1914) и др. в кн.: Родство и чуждость.
(обратно)261
Л.А.Тамбурер.
(обратно)262
Цветаева вспоминает, как осенью 1910 г. она отнесла рукопись своего первого сборника («Вечерний альбом») в типографию и издала за свой счет. См. подробнее: Мнухин Л. Первая книга М. Цветаевой // Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1979. С. 166–174.
(обратно)263
Е.О. Волошина.
(обратно)264
Кафтаны («шушуны») Е.О. Волошина шила сама, украшая их вышивкой, коктебельскими камушками, металлической нитью и т.п.
(обратно)265
Е.Ф. Юнге, А.Э. Юнге (см. коммент. 10 к письму 22–11), Дарья Андреевна Юнге (урожд. Котлярова, в первом браке Деген; ок. 1885–1955) — жена А.Э. Юнге.
(обратно)266
Об этом есть в письме М. Волошина к матери:
«О твоем знакомстве с С.А. Толстой мне писала уже Марина, еще подробнее, чем ты (о курице и орле). Это всё очень поучительно»
(ЕРО. стр. 171).Софья Андреевна Толстая (урожд. Берс; 1844–1919) — вдова Л.Н. Толстого.
(обратно)267
В.Я. Эфрон поступила осенью, по рекомендации Волошина, в студию пластического танца Э.И. Рабенек.
(обратно)268
Первоначально свадьба М. Цветаевой и С. Эфрона намечалась на 7–8 января 1912 г. (как сообщала сыну 4 декабря 1911 г. Е.О. Волошина), потом она была отложена «до 16 января» (ее же письмо от 1 января 1912 г.). Венчание состоялось 27 января 1912 г. в Палашевской церкви в Москве, и Е.О. Волошина была посаженной матерью. Волошин приехал в Москву 8 февраля 1912 г. (НИСП. стр. 459).
(обратно)269
Филолог-классик, переводчик, поэт Владимир Оттонович Нилендер (1883–1965) — адресат «Вечернего альбома» Цветаевой. В канун 1910 г. В.О. Нилендер сделал М. Цветаевой предложение и получил отказ. Ему посвящено несколько стихотворений М. Цветаевой в сборниках «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь» — «На прощанье», «Встреча» («Гаснул вечер, как мы умиленный…»), «Детская», «Невестам мудрецов», «Надпись в альбоме», «Очаг мудреца» и др. (См.: СС-1). Сохранился экземпляр книги «Фрагменты» Гераклита Эфесского (М.: Мусагет, 1910) в переводе Владимира Нилендера, принадлежавший М. Цветаевой. На авантитуле книги ее надпись: «Марина Цветаева. Москва, 7-го октября 1910…. „Они покой находят в Гераклите“… (Вечерний альбом. „Невестам мудрец<ов“>)». В книге имеются многочисленные пометы М. Цветаевой и С. Эфрона (хранится в частном собрании).
(обратно)270
Об увлечении М. Цветаевой Наполеоном см. также: Письма к Анне Тесковой. стр. 187.
(обратно)271
Во время свадебного путешествия М. Цветаева и С. Эфрон были во Франции, Германии и Италии.
(обратно)272
«Общество свободной эстетики» — литературно-художественное объединение в Москве, одним из руководителей которого был В.Я. Брюсов. Приводим газетную заметку об упоминаемом Цветаевой вечере ― ее первом публичном выступлении:
«У ЭСТЕТОВ
Запасная столовая Литературно-Художественного кружка переполнена. Около 200 слушателей собралось на очередное заседание „Общества свободной эстетики“, посвященное „поэтам“. Посреди зала маленький столик, за которым поэты читают свои произведения. Кругом, в углах, проходах сидят и стоят слушатели. В публике много популярных москвичей. Вот грузная фигура В.А. Серова, мелькает профиль Валерия Брюсова, „на минуточку“ появляется, прислушиваясь к стихам, Влад. Ив. Немирович-Данченко. Много хорошеньких женских головок, изящных туалетов. Своей элегантностью выделяются: Е.П. Носова, Н.Г. Высоцкая, С.Р. Полякова, Е.Я. Каялова, И.К. Альбрехт.
Один за другим проходят перед слушателями около 20 поэтов. Особенное внимание привлекает Валерий Брюсов, читающий ряд не появившихся еще в печати стихов. Долгие, неумолкающие аплодисменты провожают его. Интересные стихи читают: Борис Садовской, В. Ходасевич, С. Рубанович, Н. Львова. „Дуэтом“ читают в унисон сестры Цветаевы стихи старшей из них — Марины Цветаевой.
По-немецки прочел несколько своих переводов из Валерия Брюсова и собственных стихов Максимилиан Шик, по-французски — переводы из современных русских поэтов Жан Шюзвиль»
(Раннее Утро. 1911. 5 нояб.).В письме М. Волошину С. Эфрон писал 4 ноября 1911 г.:
«Вчера Марина с Асей читали стихи в Эстетике. Их вызывали на бис. Из всех восемнадцати поэтов, читающих свои стихотворения, они пользовались наибольшим успехом»
(НИСП. стр. 119). (обратно)273
Жанна (Иоанна) Матвеевна Брюсова (урожд. Рунт; 1876–1965) — жена В.Я. Брюсова, переводчик.
(обратно)274
Ниника — детское имя дочери К.Д. Бальмонта и Е.А. Бальмонт (Андреевой) Нины Константиновны Бальмонт (1901–1989, в замуж. Бруни).
(обратно)275
Речь идет об эпизоде, пересказанном многими мемуаристами. Vache — (корова) — презрительная кличка полицейских во Франции. Бальмонт шел в Париже по улице с Е. Цветковской и увидел, что у нее раскрылась сумочка «Ваш сак!» — сказал он ей, проходя мимо полицейского, а тому послышалось «vache sale» («грязная корова») — и Бальмонта судили за оскорбление полиции.
(обратно)276
12 ноября 1911 г. Волошин писал матери:
«Свадьба Марины и Сережи представляется мне лишь „эпизодом“ и очень кратковременным. Но мне кажется, что это скорее хорошо для них, т<а>к к<а>к сразу сделает их обоих взрослыми. А это, мне кажется, им надо»
(Волошин М. Собр. соч. Т. 9. М.: Эллис Лак, 1910. С. 647).Вероятно, в том же духе он высказался о венчании и самой Цветаевой, ответом на что и явилось настоящее письмо. В очерке «Живое о живом» Цветаева писала:
«В ответ на мое извещение о моей свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал мне из Парижа вместо одобрения или, по крайней мере, ободрения — самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоящими для такой лживой формы общей жизни, как брак. Я, новообращенная жена вскипела: либо признавай меня всю, со всем, что я делаю и сделаю (и не то еще сделаю!) — либо…»
(СС-4. стр. 191).О получении письма Е.О. Волошина сообщала сыну:
«Только что входила в мою комнату Марина и прочла нам (мне, Лиле, Вере) часть твоего письма к ней; чтение аккомпанировалось нашим дружным хохотом, хотя мы трое вполне уверены, что это бракосочетание лишь самый кратковременный „эпизод“, который для Сергея будет иметь самые плачевные последствия; он уже теперь выбит из колеи, и ему суждено остаться вековечным гимназистом на шее у сестер, которые в отчаянии от всей этой истории»
(Волошин М. Т. 9. стр. 653).В письме к сыну 15 октября того же года Е.О. Волошина писала:
«… Марина женится на Сереже; свадьба в январе. Все это произошло на днях после, думаю я, крупного разговора Марины с отцом, в котором он заявил, что не желает видеть в доме своем Сергея. Они смешные и жалкие дети, и так хотелось бы, чтобы были они и милыми детьми, но нет в них очарования, присущего детству, юности, напротив, так резко иногда проглядывает в них черствость, сухой эгоизм старости, и так жалко их делается и досадно…»
(Там же. стр. 648). (обратно)277
Цветаева рекомендует Эллису Е.Я. Эфрон, сестру мужа, отправлявшуюся за границу. Эллис в это время находился в Берлине.
(обратно)278
…готическая девушка с Библией в руках! — На обложке сборника стихов Эллиса «Stigmata» (Мусагет, 1911) изображена скульптура девушки с книгой, украшающая стену готического собора. Автор рисунка — Ася Тургенева.
(обратно)279
Письмо написано на обороте фотокарточки М. Цветаевой и С. Эфрона.
(обратно)280
Неизвестно, о какой книге идет речь. До этого времени у М. Волошина вышла только одна книга (Стихотворения. 1900–1910. М.: Гриф, 1910), но ее он наверняка уже подарил М. Цветаевой.
(обратно)281
Шуточное прозвище Б.С. Трухачева.
(обратно)282
М. Цветаева и С. Эфрон выехали из Москвы в заграничное путешествие только 29 февраля 1912 г.
(обратно)283
Тио, Тьо (от слова «тетя») — домашнее прозвище Сусанны Давыдовны Мейн (1845–1919) — швейцарской воспитательницы матери М. Цветаевой, второй жены ее деда, А.Д. Мейна; жила в собственном доме в Тарусе.
(обратно)284
А.Я. Трупчинская не одобряла раннюю — в 18 лет — женитьбу брата, еще не кончившего гимназический курс.
(обратно)285
Родственники — А.Я. Трупчинская и ее муж, A.B. Трупчинский.
(обратно)286
А.Я. Трупчинская.
(обратно)287
Рабенек Елена (Элла) Ивановна (урожд. Бартельс, в первом браке Книппер; 1875–1944) преподавала сценическое движение в Художественном театре, руководила собственной школой ритма и грации. См. коммент. 6 к письму 31–11.
(обратно)288
В Доме-музее М. Волошина в Коктебеле хранится корректурный экземпляр сборника «Волшебный фонарь» с правкой автора и надписью на титуле:
«По тщательном исправлении слов и знаков разрешаю печатать в количестве 500 экз<емпляров>. Марина Цветаева».
После выхода книги М. Цветаева подарила сборник М. Волошину с надписью:
«Милому Максу с благодарностью за Коктебель. Марина. Москва, 11-го февраля 1912»
(ЕРО. стр. 177). (обратно)289
См. коммент. 1 к письму 32–11.
(обратно)290
29 февраля 1912 г. молодожены М. Цветаева и С. Эфрон уехали из Москвы в свадебное путешествие.
(обратно)291
Одно время Цветаева подписывалась фамилией мужа.
(обратно)292
Б.С. Трухачевым.
(обратно)293
Снимки не сохранились.
(обратно)294
А.К. Герцык.
(обратно)295
Письмо написано на открытке и отправлено из Кирхгартена (под Оренбургом). М. Цветаева и С. Эфрон в это время продолжали заграничное свадебное путешествие.
(обратно)296
Во время путешествия молодоженов С. Эфрона не покидали приступы грусти: в Париже он побывал на могилах отца, матери и брата (горе было еще свежо).
(обратно)297
К 13 мая М. Цветаева и С. Эфрон возвращаются в Москву, чтобы присутствовать на общероссийских и семейных торжествах: 31 мая в Москве на Волхонке состоялось открытие Музея изящных искусств имени императора Александра III; осуществилась многолетняя мечта его основателя, И.В. Цветаева.
(обратно)298
М.А. и Е.О. Волошины находились в Москве (по пути из Франции в Крым), а затем уехали в Коктебель, куда прибыли 15 апреля 1912 г.
(обратно)299
О пребывании четы Эфронов у С.Д. Мейн см. нижеследующее письмо М. Цветаевой.
(обратно)300
Йозеф Ланнер (1801–1843) — австрийский скрипач, дирижер и композитор.
(обратно)301
В письме от 25 мая 1912 г. С.Я. Эфрон писал сестре Вере:
«Мы сняли особняк на Собачьей площадке (в 4 комнаты). Особняк старинный, волшебный»
(НИСП. стр. 467).См. также коммент. к письму. 11–12.
(обратно)302
А.Н. Толстой.
(обратно)303
Петр Николаевич Лампси (1869-?) феодосийский городской судья, внук И.К. Айвазовского. С 1920 г. в эмиграции.
(обратно)304
«Волшебный фонарь» М. Цветаевой и «Детство» С. Эфрона.
(обратно)305
М. Цветаева и С. Эфрон собирались купить собственный небольшой дом на деньги, подаренные им С.Д. Мейн (вдовой деда Цветаевой).
«Волшебным домом» М. Цветаева называла дом своего детства в Трехпрудном переулке (см. стихотворение «„Прости“ волшебному дому». СС-1).
(обратно)306
В итоге был найден дом на Б. Полянке, на углу 1-го Казачьего и М. Екатерининского переулков (см. также: Цветаева А. стр. 468–475). Однако переезд в него состоялся не сразу (см. письмо 17–12 и коммент. к нему).
(обратно)307
Видимо, за разрешением на право покупки дома, так как С.Я. Эфрон был несовершеннолетним (ему не было еще двадцати лет). Завадский Эдуард Владимирович (1879–1947) — адвокат, присяжный поверенный, был опекуном несовершеннолетнего С.Я. Эфрона (Указ Санкт-Петербургского Сиротского суда от 29 января 1910 г. — НИСП. стр. 468).
(обратно)308
Завадский. — См. коммент. 3 к письму 13–12.
(обратно)309
Удельная — популярное дачное место под Москвой (Казанская ж.д.)
(обратно)310
A.B. Трупчинский был знакомым Завадского.
(обратно)311
Н.С. Гумилев писал о второй книге Цветаевой:
«„Волшебный фонарь“ — уже подделка, и изданная к тому же в стилизованном „под детей“ книгоиздательстве <…>. Те же темы, те же образы, только бледнее и суше, словно это не переживания и не воспоминания о пережитом, а лишь воспоминания о воспоминаниях. То же и в отношении формы»
(Гумилев Н. Письма о русской поэзии. Аполлон. 1912. № 5).С.М. Городецкий в статье «Женское рукоделие» отметил, что «Волшебный фонарь» «открыто исповедует права женщины-поэта на какую-то особенную поэзию» и что к «причудам женским у Марины Цветаевой присоединяются еще ребяческие» (Речь. 1912. 30 апр.).
(обратно)312
Гумилев и Городецкий — основатели «Цеха поэтов» в Петербурге (1911–1914), участники которого были приверженцами нового течения в русской поэзии — акмеизма. В «Цех поэтов» входили О.Э. Мандельштам, A.A. Ахматова, М.Л. Лозинский, В.И. Нарбут и др.
(обратно)313
Лицо неустановленное.
(обратно)314
Мария Александровна Самарова (1852–1919) — актриса Московского Художественного театра.
(обратно)315
Семья Крандиевских: Анастасия Романовна (урожд. Кузьмичева, до замужества носила фамилию отчима — Тархова; 1865–1938), писательница; Василий Афанасьевич (1861–1928), редактор журнала «Бюллетени литературы и жизни»; их дочери — Наталья Васильевна (1888–1963), поэтесса; Надежда Васильевна (1891–1963), скульптор, автор скульптурного портрета М. Цветаевой (1915).
(обратно)316
Речь идет о покупке дома в Малом Екатерининском переулке.
(обратно)317
Владелицей дома в Малом Екатерининском переулке была Юлия Михайловна Горяинова, вдова коллежского советника.
(обратно)318
А.И. Цветаева сняла дом № 8 на Собачьей площадке после рождения сына (9 августа 1912 г.)
(обратно)319
По-видимому, речь идет о внутренней перепланировке дома.
(обратно)320
Возможно, будущий муж Надежды Крандиевской — Петр Петрович Файдыш (1982–1943), архитектор.
(обратно)321
А.Р. Крандиевская.
(обратно)322
Речь идет о первой книге А. Ахматовой «Вечер», вышедшей в марте 1912 г. Строки из стихотворений «Он любил три вещи на свете…» и «Память о солнце…», Цветаева цитирует неточно. У Ахматовой: «Он любил три вещи на свете: / За вечерней пенье, белых павлинов / И стертые карты Америки. / Не любил, когда плачут дети, / Не любил чая с малиной / И женской истерики. /…а я была его женой»; «Ива на небе пустом распластала / Веер сквозной. / Может быть, лучше, что я не стала // Вашей женой».
…хвалит критика. — См., например: Городецкий С. Женское рукоделие (Речь. СПб., 1912, 30 апр.), Гиппиус В. Рец. на «Вечер» А. Ахматовой (Новая жизнь. 1912. № 3), Чудовский В. По поводу стихов Анны Ахматовой (Аполлон. СПб. 1912. № 5. стр. 45–50), Брюсов В. Сегодняшний день русской поэзии (Русская мысль. М. 1912. № 7. стр. 22), А<ма>ри (Цетлин М.) Заметки любителя стихов. О самых молодых поэтах (Заветы. СПб. 1912. № 1. стр. 93).
(обратно)323
Имеется в виду стихотворение Ахматовой «В Царском Селе», где есть строки: «А теперь я игрушечной стала, / Как мой розовый друг какаду».
(обратно)324
Речь идет о стихотворении И. Гумилева «Кенгуру. Утро девушки» (сб. «Жемчуга». М.: Скорпион, 1910).
(обратно)325
Датируется условно по содержанию.
(обратно)326
Ольга ― О.Д. Иловайская, дочь историка Д.И. Иловайского (см. коммент. 4 к письму 2-05). Первым браком была замужем за Сергеем Матвеевичем Кезельманом (1880-?) (указано Г.И. Лубянниковой). Во втором браке — Матвеева. Жила в Сербии, Германии. Письмо обращено к первому мужу О.Д. Иловайской.
Ольга и ее муж были хорошими знакомыми В.Н. Буниной, знавшей Кезельмана ещё с гимназических лет. В 1933 г., приступая к созданию очерка об Иловайских «Дом у Старого Пимена», Цветаева просила Бунину написать ей об О.Д. Иловайской:
«Судьбу Оли. За кого вышла (знала, но забыла). Жива ли ещё?.. Счастливый ли оказался брак?»
(СС-7. стр 241)Бунина поддерживала с Ольгой, жившей в то время в Сербии, отношения до самой смерти, помогала ей.
(обратно)327
Речь идет о проблемах, возникших при переезде Цветаевой с мужем в собственный дом на Б. Полянке. См. письмо 17–12 к Е.Я. Эфрон.
(обратно)328
«Неприятности» супругов Кезельман были связаны с антисемитскими настроениями в семье Иловайских. Бунина вспоминала позднее:
«Оля стала после своего замужества своей в нашем доме, так как родители ей не простили, что она вышла замуж против их воли за человека с еврейской кровью»
(Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М.: Сов. писатель, 1989. стр. 269). (обратно)329
Цветаева была проездом в Мюнхене во время своего свадебного путешествия по Франции, Италии, Германии (март — апрель 1912 г.). Кезельман, вероятно, в то же время выезжал в Германию, будучи увлеченным антропософией. Интересно, что позднее (во втором браке) Кезельман и поэт Андрей Белый, член Антропософского общества, были женаты на родных сестрах (указано Е.И. Лубянниковой) — соответственно на Елене Николаевне Кезельман (урожд. Алексеевой) и Клавдии Николаевне Бугаевой (урожд. Алексеевой; 1880–1970).
(обратно)330
Речь идет о брошюре Волошина «О Репине», вышедшая под маркой издательства «Оле-Лукойе» (как «Волшебный фонарь» М. Цветаевой и «Детство» С.Я. Эфрона). В ней Волошин пытался осмыслить «катастрофу», постигшую картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван», 16 января 1913 г. поврежденную маньяком. Он также описывает диспут об этой картине в Политехническом музее, на котором выступали художники группы «Бубновый валет».
(обратно)331
Давид Давидович Бурлюк (1882–1967), участвовавший в упомянутом выше диспуте, писал Волошину 10 марта 1913 г.:
«Я купил сегодня одну книгу „Волошин о Репине“, но еще нужно было штук 5–6. Не могли бы вы устроить мне на льготных условиях — взаимно — я прислал бы вам: „Садок судей II“, „Требник троих“, или „Пощечину общественному вкусу“»
(НИСП. стр. 470). (обратно)332
Мария Павловна Кювилье познакомилась с Волошиным в январе 1913 г., была влюблена в него. См.: Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб.: Алетейя, 2002. стр. 311–330.
(обратно)333
Волошин с матерью приехали в Коктебель 9 апреля 1913 г., Цветаева с мужем и дочерью, — видимо. 26 апреля. Сохранился пейзаж Волошина, надписанный Цветаевой в этот день: «Милой Марине — в протянутую руку» (Дом-музей М.А. Волошина в Коктебеле).
(обратно)334
Дочь Цветаевой и Эфрона — Аля, Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975) родилась в Москве 5/1 8 сентября.
(обратно)335
Портрет, выполненный угольным карандашом, сохранился в фондах Дома-музея М.А. Волошина в Коктебеле.
(обратно)336
Лев — домашнее прозвище С.Я. Эфрона.
«Издавна и нежно повелось — Марина звала Сережу Львом, Лёве, он ее — Рысью, Рысихой; сказочные эти клички вошли в домашний, семейный наш обиход, привычно подменяя подлинные имена, и так — до самого конца жизни»
(Эфрон А. стр. 179). (обратно)337
Сестры Субботины, упоминаемые далее под именами Копа и Тюня. Старшая из них — Капитолина — в 1913/14 г. была актрисой Свободного театра.
(обратно)338
Эва Адольфовна Фельдштейн (урожд. Леви; 1886–1964) — жена М.С. Фельдштейна. Об упомянутой прогулке Э.А. Фельдштейн на следующий день писала мужу:
«28 мая 1913… У нас дивные дни. В море 16 градусов. Небо синее, ветра почти нет. Мы вчера совершили дивную прогулку Марина, Сережа, Копа, Тюня и я. Были на Карадаге! Ты бы на меня подивился, каким я молодцом шагала. Пра надела мне шаровары!.. И мне было страшно удобно, легко. Все сидели на верхушках свесивши ножки и мне так было страшно, и так голова закружилась, что я стала их бранить. А когда они на это засмеялись, то только крикнула: вы верно в жизни никого еще не потеряли и отошла. Какая я калека. Мне даже горько стало. Но все-таки было дивно. Это горное кольцо, аметистовое, вокруг Коктебеля. Около залива совсем невероятно красиво. Сказочная страна розовых скал с какими горестными морщинами. Тишина и огромное, огромное море, внизу, у ног. Я так наслаждалась и так жадно на всё глядела. И так хорошо было, что мы все такие молодые там сидели. Марина как коза прыгает и бежит на гору, ничего не боится и не устает совсем»
(РГАЛИ, ф. 2962, оп. 1. ед. хр. 429. л. 36). (обратно)339
Кафе на берегу моря в Коктебеле, получило название от поговорки «Славны бубны за горами». Принадлежало греку А.Г. Синопли.
(обратно)340
М.П. Кудашева. Речь идет о ее влюбленности в М. Волошина.
(обратно)341
П.Н. Лампси.
(обратно)342
Об этой тарелке Цветаева писала в очерке «Живое о живом»:
«…вывезла ее в 1913 году из Феодосии и с тех пор не расставалась. В моих руках она стала еще на двадцать лет старше. Тарелка страшно тяжелая, фаянсовая, английская, с коричневым побе́лу бордюром из греческих героев и английских полководцев. В центре лицо, даже лик: лев…».
(обратно)343
Имеются в виду К.Ф. Богаевский и К.В. Кандауров, друзья, обычно упоминавшиеся вместе.
(обратно)344
Мать сестер Субботиных, упоминаемых в письме 3-13.
(обратно)345
Речь идет о E.H. Потапенко, сестре П.Н. Лампси. См. коммент. 2 к письму 15–11.
(обратно)346
Рогозинский Владимир Александрович (1882–1951) — инженер, архитектор; друг М.А. Волошина. Ему принадлежал автомобиль, упоминаемый в письмах Цветаевой. Жена — Рогозинская Ольга Артуровна (урожд. Лаоссон; 1888-1971).
(обратно)347
Сокол — Владимир Александрович Соколов (1889–1965) — актер, режиссер.
(обратно)348
Сестра В.А. Рогозинского (в первом браке Гансен, во втором Чукашева; 1878–1943). (Сведения В.П. Купченко.)
(обратно)349
В.Я. Эфрон.
(обратно)350
Вероятно, Цветаева и ее муж намечали приобрести (получить в наследство?) дом в Тарусе, где жила С.Д. Мейн (Тьо). Цветаева с мужем гостила у нее в Тарусе около месяца летом 1912 г. См. письмо 12–12.
(обратно)351
В письме 12–12 к В.Я. Эфрон Цветаева пишет о чудачествах С.Д. Мейн:
«Часы с вальсами Штрауса и Ланнера больше не ходят, она говорит, что это после нашего последнего приезда».
(обратно)352
Поездка М.С. Фельдштейна в Германию не состоялась.
(обратно)353
В дате слово «июня!» вписано над незачеркнутым словом «мая».
(обратно)354
В июне 1913 г. было продано имение Гольдовских Катино (в Тверской губернии, за Лихославлем), где прошли детские и юношеские годы М.С. Фельдштейна и где состоялось его знакомство с женой.
(обратно)355
Гехтман Мария Лазаревна (1892–1947) — пианистка, близкая подруга Е.Я. и В.Я. Эфрон.
(обратно)356
Халютина Софья Васильевна (1875–1960) — актриса Московского Художественного театра, педагог; в 1909–1914 гг. — руководительница драматических курсов, где учились В.Я. Эфрон и В.А. Соколов.
(обратно)357
На острове Святой Елены провел в ссылке свои последние годы Наполеон.
(обратно)358
Цеппелин (у Цветаевой: Циппелин) — дирижабль, названный по имени его конструктора, немецкого генерала, графа Фердинанда Цеппелина (1838–1917).
(обратно)359
Возможно, француз по фамилии Жулиа, которому Волошин посвятил шуточный сонет «Француз» (Волошин М. Собр. соч. Т. 2. М., 2004. стр. 458, 711). Годы спустя о нем сообщала Цветаева в письме к Е.Я. Эфрон от 7 февраля 1939 г.:
«Слышали ли Вы о смерти М. Julia? Умер несколько лет назад — в каком-то очень важном чине. А помните, как его в последнюю минуту обвинили в краже болгарского белья ― и я его утешала? Иных уж нет, а те — далече…»
(НИСП. стр. 386).…кража болгарского белья… — По-видимому, эпизод из жизни обитателей Коктебеля.
(обратно)360
Письмо не сохранилось.
(обратно)361
Андрей Иванович Цветаев был наследником отцовского дома в Трехпрудном переулке в Москве.
(обратно)362
Прозвище, данное Е.Я. Эфрон: из-за больного сердца она много лежала, Цветаева называла это: «лососиниться на диване».
(обратно)363
П.Я. Эфрон вернулся в Россию летом 1913 г. Был болен туберкулезом.
(обратно)364
Имеется в виду санаторий имени императора Александра III для легочных больных в Ялте.
(обратно)365
С.Я. Эфрон позировал для портрета М.М. Нахман; портрет был ею подарен С.Я. Эфрону и М.И. Цветаевой, после отъезда Цветаевой за границу в 1922 г. хранился у А.И. Цветаевой, в настоящее время его местонахождение неизвестно.
(обратно)366
Стихотворение № 2 Из цикла «С<ергею> Э<фрону>», входящего в третью (неизданную) книгу Цветаевой «Юношеские стихи» (1913–1915).
(обратно)367
Андрей Борисович Трухачев (1912–1993) — сын А.И. Цветаевой и Б.С. Трухачева.
(обратно)368
Цветаева уехала в Москву, чтобы сдать на зиму дом в Малом Екатерининском переулке, поскольку из-за болезни С.Я. Эфрона они предполагали провести зиму на юге.
(обратно)369
Лицо неустановленное.
(обратно)370
Няня дочери Цветаевой.
(обратно)371
Ария Ивана Сусанина из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» (1836).
(обратно)372
Л.А. Тамбурер.
(обратно)373
Сын Л.А. Тамбурер от первого брака (р. ок. 1896 г.).
(обратно)374
Владимир Аввакумович Павлушков (1883 1920) — врач, племянник Л.А. Тамбурер, ее второй муж.
(обратно)375
П.Н. Лампси.
(обратно)376
О смерти отца и последних годах его жизни Цветаева позднее написала в письме В.В. Розанову от 6 апреля 1914 г. (см. письмо 6-14)
(обратно)377
Т.е. А.И. Цветаева.
(обратно)378
П.Н. Лампси.
(обратно)379
А.Г. Цирес. См. коммент. 4 к письму 5-14.
(обратно)380
По-видимому, съемщики дома Цветаевой в М. Екатерининском переулке.
(обратно)381
Возможно, В.А. Павлушков или кто-нибудь из Чичеровых.
(обратно)382
П.Я. Эфрон, с которым Цветаева познакомилась в августе 1913 г.
(обратно)383
Письмо написано по дороге из Москвы в Крым.
(обратно)384
П.Н. Лампси.
(обратно)385
М. Кювилье писала стихи как по-французски, так и по-русски. Публиковалась в коллективных сборниках (Второй сборник Центрифуги. М. [1916]; Ковчег. Альманах поэтов. Феодосия, 1920). Отдельными книгами ее стихи не выходили.
(обратно)386
Е.Я. Эфрон.
(обратно)387
Письмо не окончено.
(обратно)388
Прозвище Цветаевой в родственном кругу: «Сидорова коза». По предположению Д.А. Беляева, Сидоровая — некий вымышленный персонаж, провозглашающий серьезным тоном обыденные вещи.
(обратно)389
В.А. Соколов.
(обратно)390
Неточность в дате: 20 сентября в 1913 г. приходилось на пятницу.
(обратно)391
24 сентября 1913 г. Цветаевой написано стихотворение «Байрону» («Я думаю об утре Вашей славы…»). (CC–1).
(обратно)392
Первоначально Цветаева предполагала провести зиму на юге, потом, по совету врачей санатория в Ялте, решила возвратиться в Москву, однако дом в М. Екатерининском переулке был сдан. Этим обстоятельством и вызвана просьба о комнатах во втором «обормотнике» в Кривоарбатском переулке.
(обратно)393
М.И. Цветаева и С.Я. Эфрон праздновали день рождения в один день — 26 сентября по старому стилю, хотя он родился 29 сентября.
(обратно)394
М.П. Кювилье.
(обратно)395
«Кузина Бетта» (1846) роман Оноре де Бальзака (1799–1850) — история мщения бедной родственницы богатому семейству.
(обратно)396
С.Я. Эфрон и В.А. Соколов.
(обратно)397
А.И. Цветаева.
(обратно)398
П.Н. Лампси.
(обратно)399
А.К. Герцык.
(обратно)400
Маргарита Васильевна Сабашникова (1882–1973) — художница, первая жена М.А. Волошина. В 1913 г. она приехала в Коктебель 24 сентября, выехала в Феодосию, а оттуда в Москву 8–9 октября. Знакомство Цветаевой с ней состоялось лишь в 1917 г. 14 сентября 1917 г. Сабашникова писала Волошину:
«Вчера я была у Лили Эфрон, познакомилась там с Оболенской и Мариной»
(НИСП. стр. 475). (обратно)401
Цветаева приехала в Феодосию 17 октября 1913 г.
(обратно)402
П.Н. Лампси.
(обратно)403
Цветаева намеревалась провести в Феодосии зиму 1913/14 г., куда приехала из Ялты. В ялтинском санатории С.Я. Эфрон находился по состоянию здоровья летом — осенью 1913 г.
(обратно)404
Е.Я. Эфрон, вероятно, проводила Цветаеву с дочерью до Феодосии и вернулась морем в Ялту, где находились С.Я. Эфрон и В.А. Соколов.
(обратно)405
А.Я. Трупчинская.
(обратно)406
Феска — турецкая мужская шапочка в виде усеченного конуса.
(обратно)407
С.Я. Эфрон перенес операцию по поводу аппендицита.
(обратно)408
Стихотворение написано 13 ноября 1913 г., входит в сборник «Юношеские стихи» (не издан; СС-1. стр. 189–190).
(обратно)409
У A.M. Кожебаткина, в издательстве «Мусагет», на «комиссию» были оставлены экземпляры книг «Волшебный фонарь» М. Цветаевой и «Детство» С. Эфрона.
(обратно)410
Эрнест (по другим источникам — Руфольф) Морицевич Редлих (1858 — ок. 1924) — отставной военный, художник-любитель и фотограф, его жена — Алиса Федоровна Редлих (урожд. Матиссен, 1868–1944) — пианистка, преподавательница музыки. Были владельцами дома на Карантинной горке в Феодосии, где Цветаева и Эфрон сняли комнаты.
(обратно)411
Вахтанг Леванович Мчеделов (1884–1924) — режиссер МХТ.
(обратно)412
Василиса Александровна Жуковская (1891–1959; в замуж. Серейская) — племянница Д.Е. Жуковского.
(обратно)413
М.П. Кювилье, А.К. Герцык.
(обратно)414
А.И. Цветаева зиму 1913/14 г. тоже жила в Феодосии.
(обратно)415
См. коммент. 1 к письму 17–13.
(обратно)416
С.Я. Эфрон на несколько дней уезжал в Москву для медицинских консультаций. К Новому году он вернулся в Феодосию.
(обратно)417
Дочь М.С. и Э.А. Фельдштейн (родилась в 1910 г. По мужу — Митрян).
(обратно)418
В письме из Парижа И.Г. Эренбург, посылая Волошину свой сборник «Будни» (Париж, 1913), писал:
«Бальмонты говорили, что в Коктебеле сейчас поэтесса Цветаева. Передайте, пожалуйста ей мою книжечку»
(РО ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1338). (обратно)419
В.А. Жуковская. Цветаеву и ее мужа с семьей Жуковских связывали дружественные отношения. В 1915 г. С.Я. Эфрон и В.А. Жуковская вместе работали в санитарном поезде.
(обратно)420
Выступление состоялось 30 декабря 1913 г. на балу в пользу «погибающих на водах».
(обратно)421
Шарль Альбертович Бленар — феодосиец, преподаватель французского языка; его жена Надежда Олимпиевна, также преподавательница французского языка, певица-любительница, была членом «Общества спасения на водах».
(обратно)422
О встрече нового 1914 года и пожаре в доме Волошина Цветаева писала в очерке «Живое о живом» (СС-4).
(обратно)423
П.Н. Лампси.
(обратно)424
Видимо, с Ш.А. Бленаром.
(обратно)425
Э.М. и А.Ф. Редлих. «Дядей» и «тетей» Редлихи приходились В.А. Рогозинскому. Еще в ноябре 1913 г. Волошин писал Ю.Л. Оболенской:
«В Феодосии поселились Марина и Сережа. Устроились они на горе у дяди и тетки Рогозинского. Те их уплемяннили. Их точно под крыло курицы вместо ее яиц подложили. И об них там заботятся трогательно»
(РО ИРЛИ, ф. 562, оп. 3. ед. хр. 82). (обратно)426
П.Н. Лампси.
(обратно)427
Видимо, свидетельство о политической благонадежности, присланное из Петербурга; выдано С.Я. Эфрону Коронным Ленсманом Новокирского округа Выборгской губернии 4 февраля 1910 г. По сведениям Д.А. Беляева, 3 февраля 1914 г. канцелярия Таврического губернатора запросила Департамент полиции относительно «сведений, могущих компрометировать политическую благонадежность» С.Я. Эфрона, «проживавшего в Финляндии на ст. Уса-Кирко, в Императорской санатории „Халила“, где находился на излечении в течение 5 месяцев в 1909 г.». В ответном письме Департамента полиции от 17 февраля 1914 г. сообщалось, что «об упоминаемом лице неблагоприятных в политическом отношении сведений в делах Департамента не имеется» (ГАРФ, ф. 102, оп. 174, д. 15, ч. 13, т. 1, л. 58, 60).
(обратно)428
Директором феодосийской мужской гимназии был в 1912–1915 гг. Сергей Иванович Бельцман.
(обратно)429
П.Н. Лампси.
(обратно)430
Башкирцева Мария Константиновна (1860–1884) — художник, автор «Дневника». Цветаева в юности увлекалась Башкирцевой, хотела писать о ней книгу стихов, испытывала заметное ее влияние. «Блестящей памяти Марии Башкирцевой» посвящен первый сборник Цветаевой «Вечерний альбом» (1910). В.В. Розанов писал о М. Башкирцевой:
«Секрет ее страдания в том, что она при изумительном умственном блеске — имела, однако, во всем только полуталанты. Ни — живописица, ни ученый, ни — певица, хотя и певица, и живописица, и (больше и легче всего) ученый (годы учения, усвоение лингвистики). И она всё меркла, меркла неудержимо»
(Уединенное. СПб., 1912. стр. 52).12 февраля 1914 г. Цветаева записала:
«Последние вечера мы с Асей думаем о Розанове. Ах, он умрет и никогда не узнает, к<ак> мы безумно его понимали и трогательно искали на Итальянской, в Феодосии, зная, что он в Москве! Милый Розанов! Милый, чудный старик, сказавший, что ему 56 лет и что все уже поздно. Но я знаю, к<ак> безнадежны письма к таким, к<ак> он, и не могу вынести тоски в ожидании письма, к<отор>ое — я знаю! — не придет. Ах, это такая боль! Все равно, что писать Марии Башкирцевой или Беттине»
(НЗК-1. стр. 34–35). (обратно)431
«Волшебный фонарь» вышел в начале 1912 г. Избранное из первых сборников («Из двух книг») было напечатано в 1913 г. в домашнем издательстве М. Цветаевой и С. Эфрона «Оле-Лукойе».
(обратно)432
Эти книги напечатаны не были.
(обратно)433
О родителях и семье С.Я. Эфрона подробно см.: Эфрон А. стр. 43–47; Коркина Е.Б. Семья Дурново-Эфрон (Поэт и время. стр. 191–203).
(обратно)434
Дурново Елизавета Петровна (1855–1910).
(обратно)435
Некролог «Памяти Ив<ана> Влад<имировича> Цветаева» В.В. Розанова был опубликован также в его сборнике «Среди художников» (СПб., 1914).
(обратно)436
К письму были приложены стихотворения из невышедшего сборника «Юношеские стихи»: «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Быть нежной, бешеной и шумной…», «Посвящаю эти строки…», «Идешь, на меня похожий…», «Але».
(обратно)437
А.H. Толстого.
(обратно)438
С.И. Бельцман.
(обратно)439
Майя Кювилье.
(обратно)440
Прозвище домашнего кота.
(обратно)441
Пропуски в тексте вызваны тем, что угол оригинала письма оторван.
(обратно)442
Алексей Германович Цирес (близкие звали его Лёней; 1889–1967) друг семьи Эфрон, преподаватель латинского языка.
(обратно)443
Пропуски в тексте вызваны тем, что угол оригинала письма оторван.
(обратно)444
Андрей Трухачев — сын А.И. Цветаевой.
(обратно)445
В начале мая С. Эфрону предстояло сдать экстерном экзамены на аттестат зрелости. См. также письмо 3-14 к В.В. Розанову.
(обратно)446
П.Н. Лампси.
(обратно)447
Александра Михайловна Петрова (1871-1921) — педагог, друг М.А. Волошина с юношеских лет.
(обратно)448
Лидия Антоновна Лампси (урожд. Соломос, ок. 1877 — после 1922) — жена Николая Михайловича Лампси, внука И.К. Айвазовского, владельца имения Шах-Мамай под Старым Крымом, член феодосийского Благотворительного общества.
(обратно)449
А.Ф. и Э.М. Редлих.
(обратно)450
Жизнь сестер Цветаевых в Нерви (Nervi), Лозанне, Фрейбурге, а также в Ялте и Тарусе подробно описана в воспоминаниях А. Цветаевой.
(обратно)451
Валленштейн Альбрехт (1583–1634) — полководец, главнокомандующий в Тридцатилетней войне (1618–1648). Был обвинен в связях с неприятелем и убит своими офицерами. Поссарт Эрнст (1841–1921) — немецкий актер и режиссер. Во время гастролей Поссарта во Фрейбурге зимой 1904/05 г. М.А. Мейн пела в его хоре. Людвик Баварский — Людвиг II Отто Фридрих Вильгельм Баварский (1845–1886) — король Баварии (1864 1886). Вошел в историю как «сказочный король» благодаря построенным им замкам.
(обратно)452
Людвик Баварский утонул (а возможно, утопился) в Штарнбергском озере (Бавария). Причины его гибели до сих пор остаются невыясненными.
(обратно)453
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) — пианист, композитор, дирижер. М.А. Мейн обучалась школе его игры на фортепьяно.
(обратно)454
31 августа 1913 г. Цветаева отправила в Коктебель телеграмму о кончине отца. См. письмо 12–13.
(обратно)455
Б.С. Трухачев.
(обратно)456
Андрей Трухачев.
(обратно)457
Мюр и Мерилиз, магазин в Москве, названный по фамилии владельцев.
(обратно)458
Речь идет, вероятнее всего, об историке искусств, ученике И.В. Цветаева Александре Владимировиче Назаревском (1876 — после 1919), с 1911 по 1916 г. — ученом секретаре Музея изящных искусств. (Сообщено A.A. Демской.)
(обратно)459
В 1909 г. И. В. Цветаев был уволен с поста директора Румянцевского музея из-за инцидента, связанного с Эллисом (см. коммент. 3 к письму 3-09 к Эллису).
(обратно)460
Люди лунного света. Метафизика христианства (По., 1911). Как по форме, так и по духу эта книга Розанова отличается от «Уединенного».
(обратно)461
Книга В.В. Розанова. Первый том (короб) «Опавших листьев» вышел в 1913 г. Книга написана в той же манере, что и «Уединенное».
(обратно)462
«Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт критического комментария». Первое издание — Пб., 1894. В 1906 г. вышло третье издание с приложением этюда о Гоголе (Пб.).
(обратно)463
«Итальянские впечатления» (Пб., 1909).
(обратно)464
См. примеч. 13 к письму 6-14.
(обратно)465
См. примеч. 12 к письму 6-14.
(обратно)466
Е.Я. Эфрон держала выпускные экзамены на историко-филологическом отделении Высших женских курсов Герье.
(обратно)467
Л.A. Лампси.
(обратно)468
П.Я. Эфрон приехал в Москву в феврале 1914 г.
(обратно)469
Иван Иванович Манухин (1882–1958) — доктор медицины, ординатор Военно-медицинской академии; применял открытый им метод лечения туберкулеза облучением селезенки рентгеновскими лучами. После революции эмигрировал.
(обратно)470
Витольд Францевич Ахрамович (1882–1930) — поэт, искусствовед, секретарь издательства «Мусагет».
(обратно)471
Видимо, врач, в 1907–1908 гг. лечивший Я.К. Эфрона.
(обратно)472
Дело проясняет следующее письмо В.А. Рогозинского к М.А. Волошину от 28 мая 1914 г.:
«Относительно Марины Ивановны Вы напрасно беспокоились. Этот инцидент меня задел очень мало. Ее отношение ко мне и особенно к тете Алисе, которая очень их полюбила, как к квартирохозяевам, и отсутствие желания поступиться своими мелкими удобствами, показали мне, что я просто переоценил ее отношение к нам»
(НИСП. стр. 478). (обратно)473
М.С. Фельдштейн, уехав с женой за границу, предоставил свою квартиру (во флигеле дома матери и отчима) в распоряжение сестер Эфрон.
(обратно)474
К.Ф. Богаевский. 21 мая 1913 г. Цветаева подарила ему в Коктебеле свой сборник «Вечерний альбом» с надписью: «Гениальному художнику и прелестному человеку».
(обратно)475
Константин Васильевич Кандауров (1865–1930) — художник-декоратор, осветитель Малого театра, секретарь общества «Мир искусства», организатор художественных выставок.
(обратно)476
Юлия Леонидовна Оболенская (1889–1945) — художница, вторая жена К.В. Кандаурова.
(обратно)477
Федор Константинович Радецкий (1873 — не позже 1944) — чиновник по особым поручениям Министерства финансов, фотограф-любитель, приятель К.В. Кандаурова, отчим Ю.Л. Оболенской.
(обратно)478
Имеется в виду Николай Михайлович Фореггер (наст. фам. Грейфентурн; 1892–1939) — впоследствии московский режиссер и балетмейстер.
(обратно)479
Софья Фореггер (ок. 1895-?) — актриса.
(обратно)480
М.К. Башкирцева.
(обратно)481
«Ган Исландец» — ранний (1823) роман Виктора Гюго, герой которого — получеловек-полузверь, пьющий кровь своих жертв из черепа погибшего сына.
(обратно)482
K.M. Субботина.
(обратно)483
Лицо неустановленное.
(обратно)484
София Исааковна Дымшиц-Толстая (1889–1963) — художница, вторая жена А.Н. Толстого.
(обратно)485
Екатерина Ивановна Оболенская (1852 — после 1917).
(обратно)486
«Фридрих» — иносказательно: ночной горшок.
(обратно)487
Имение И.К. Айвазовского под Старым Крымом, унаследованное семьей Лампси.
(обратно)488
Л.А. Лампси.
(обратно)489
Мика, Ирочка, Таня — дети Л.А. и Н.М. Лампси.
(обратно)490
Первые три строфы стихотворения были впоследствии Цветаевой опущены.
(обратно)491
Е.Я. Эфрон.
(обратно)492
Под «записочкой», вероятно, имеется в виду стихотворение «День августовский тихо таял…» — первое письмо Цветаевой к П.Я. Эфрону.
(обратно)493
П.Я. Эфрон был смертельно болен и находился в лечебнице Шимона на Яузском бульваре, где около него дежурили родные (скончался он 28 июля).
(обратно)494
Петр — от греческого petra — скала, каменная глыба.
(обратно)495
Цветаева говорит о своем стихотворении Байрону («Я думаю об утре Вашей славы…»), написанном 24 сентября 1913 г., быть может, под впечатлением от встречи с П.Я. Эфроном (см. СС-1).
(обратно)496
Через 10 лет Цветаева повторит в стихах «формулы» этого письма 1914 г.; «я любовь узнаю по боли / Всего тела вдоль…» («Приметы»); «Боль, знакомая, как глазам — ладонь, / Как — губам — / Имя собственного ребенка» («Ятаган? Огонь…»; СС-2).
(обратно)497
Приехав из Крыма, Цветаева с мужем и дочерью поселилась во флигеле дома Гольдовских.
(обратно)498
Цветаева дважды навещала умирающего П.Я. Эфрона в частной клинике на Яузском бульваре. Последнее письмо и стихи она передала ему за две недели до смерти. Стихотворение «Ластуне» (вошли в цикл «П.Я.», включенный в сборник «Юношеские стихи»), обращено к дочке П.Я. Эфрона и Веры Михайловны Равич (его жена, актриса) — Елизавете, родившейся в Париже в марте 1909 г. и умершей от менингита осенью того же года.
(обратно)499
Н.В. Крандиевская жила в одном доме с Е.Я. Эфрон на М. Молчановке (Д. 8).
(обратно)500
Евдокия Петровна Ростопчина (урожд. Сушкова; 1812–1858), графиня, поэтесса; видимо, речь идет об однотомнике «Собрание сочинений графини Е.П. Ростопчиной» (СПб., 1910).
(обратно)501
Каролина Карловна Павлова (урожд. Яниш; 180-7-1893 г.г.), графиня, поэтесса; вероятно, Цветаева имела в виду книгу «Стихотворения К. Павловой» (М., 1863), так как двухтомник сочинений К. Павловой, подготовленный В. Брюсовым, вышел из печати лишь осенью 1915 года (М.: Книгоиздательство К.Ф. Некрасова, 1915).
(обратно)502
Имеется в виду отъезд в Коктебель.
(обратно)503
Город, знаменитый своими меловыми горами и монастырем, на берегу Северного Донца. Здесь Цветаева гостила у знакомых С.Я. Парнок.
(обратно)504
С.Я. Парнок.
(обратно)505
Вероятно, речь идет о стихотворении «Какой-нибудь предок мой был — скрипач…», датированном 23 июня 1915 г. (СС-7).
(обратно)506
Московский Камерный театр открылся 12 декабря 1914 г. спектаклем Калисады «Сакунтала». В.Я. Эфрон в 1914–1916 гг. была актрисой театра.
(обратно)507
Б.С. Трухачев.
(обратно)508
С.Я. Эфрон непродолжительное время состоял в труппе Камерного театра. Премьера спектакля «Сирано де Бержерак» (по пьесе Э. Ростана, пер. Т.Л. Щепкиной-Куперник) прошла 13 декабря 1915 г. Помимо участия в «Сирано де Бержерак», С. Эфрон, по свидетельству Алисы Коонен, играл в пародийной сценке «Американский бар», поставленной в «Эксцентрионе», клубе при театре (Саакянц А. стр. 113).
(обратно)509
Пушкин A.C. Полн. собр. соч. Т. 1–6. СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1907.
(обратно)510
Гербель Николай Васильевич (1827–1883) — поэт, переводчик, издатель-редактор. В его переводе вышла книга «Полное собрание сонетов У. Шекспира». СПб., 1880.
(обратно)511
Возможно, «Былины». Вступ. статья Е. Ляцкого. СПб., 1911.
(обратно)512
Таиров Александр Яковлевич (наст. фам. Корнблит: 1885–1950) — режиссер, основатель и руководитель Камерного театра.
(обратно)513
Коонен Алиса Георгиевна (1889–1974) — ведущая актриса Камерного театра, участница почти всех программных спектаклей Таирова.
(обратно)514
Петипа Мариус Мариусович (1850–1919) — драматический актер. В Камерном театре работал в 1915–1917 гг. Был замечательным исполнителем комедийных ролей (особенно в пьесах французских драматургов), таких, как Тартюф, Фигаро («Женитьба Фигаро»), Сирано де Бержерак.
«Когда Мариус Мариусович Петипа вошел в состав труппы Камерного театра, ему было семьдесят лет. Такова была молва. <…> Он выступил в „Сирано де Бержераке“, звеня шпагой и восхищая почти юношеской свежестью…»
— вспоминал H.A. Еленев, историк искусств (Воспоминания. стр. 259).
(обратно)515
Цветаева читала свой сонет на закрытом вечере, посвященном М.М. Петипа и устроенном Таировым в честь «привлечения знаменитостей» в театр. Об этом выступлении Цветаевой известно со слов H.A. Еленева:
«Весело, задорно поднялась из-за стола Цветаева. <…> Взглянув на Петипа на противоположной стороне сцены, слегка тряхнув юной „скобкой“ своих пушистых волос, Марина начала произносить стихи. Ровным, слегка насмешливым голосом. <…> Обращаясь к Петипа на „ты“, бросая ему горделиво-игривый вызов женщины, она предлагала ему — рыцарю чести и шпаги — сердце и жизнь. Но сердце и жизнь — не прихоть, не блажь, не причуды. Ей нужен обет, а залогом пусть послужат его честь и шпага. Дар за дар, верность за верность, но — смерть за вероломство. Умышленно использованный Цветаевой поэтический архаизм возвращал к внешней форме эпохи Людовика XIV. Никогда, ни раньше, ни позже, я не слышал столь откровенной эротики. Но удивительно было то, что эротическая тема была студена, целомудренная, лишена какого бы то ни было соблазна или чувственности. Сонет Цветаевой был замечательным образцом поэтического мастерства и холодного разума. А едва уловимый оттенок иронии сознательно, с расчетом уничтожал его любовный смысл.
Счастливая, юношески гордая, Марина торжествовала»
(Там же. стр. 261).Текст сонета не сохранился.
(обратно)516
В действительности — на 42 года.
(обратно)517
Яблоновский Сергей Викторович (наст. фам. Потресов; 1870–1953) — поэт, журналист, театральный критик. Был членом правления Литературно-художественного кружка, участвовал в ставившихся там спектаклях. В 1917 г. эмигрировал.
(обратно)518
Имеется в виду стихотворение «Колыбельная песня Асе» («Спи, царевна! Уж в долине…»; СС-1).
(обратно)519
Беранже Пьер Жан (1780–1857) — французский поэт. Стихотворение под названием «La diligence» (старание, прилежание; дилижанс — фр.) в собрании Беранже не обнаружено.
(обратно)520
Княжнин Яков Борисович (1742 или 1740? — 1791) — драматург, поэт, переводчик. Возможно, речь идет о томе из собрания сочинений или о конволюте, так как отдельным изданием «Комедии» Княжнина не выходили.
(обратно)521
Позоева Елена Васильевна (1893–1977) — актриса Камерного театра. В беседе с Л.А. Юзбашян Е.В. Позоева вспоминала:
«Марина была очень умна. Наверное, очень талантлива. Но человек она была холодный, жесткий; она никого не любила. <…> Ко мне она относилась доброжелательно, интересовалась моей игрой, ценила ее. Она любила Камерный театр, часто в нем бывала. И там она появлялась в черном… как королева… и все шептали; „Это Цветаева… Цветаева пришла…“»
(Архив Л.А. Мнухина). (обратно)522
Стихотворение «Полнолунье и мех медвежий…» (27 ноября 1915), которое Цветаева приводит в письме с разночтениями в ряде строк, в том числе в первой (СС-1. стр. 247).
(обратно)523
О какой фотографии идет речь, установить не удалось.
(обратно)524
Речь идет о поэте Тихоне Васильевиче Чурилине (1885–1946). Цветаева познакомилась с ним в 1915 г. и недолго была увлечена им.
(обратно)525
В личном студенческом деле С.Я. Эфрона сохранилось его прошение на имя ректора Московского университета от 9 марта 1916 г.:
«Желая поступить охотником в III Тифлисский Гренадерский полк прошу Ваше превосходительство уволить меня из университета и выдать мне необходимые для сего бумаги»
(ЦИАМ, ф. 418, оп. 328, ед. хр. 2621, л. 6). (обратно)526
14 марта 1916 г. С.Я.Эфрон подал новое прошение, в котором, в частности писал:
«…Ввиду неожиданно обнаружившейся у меня болезни печени я принужден отказаться от военной службы и поэтому честь имею просить Ваше превосходительство вновь принять меня в университет. Документов из университета не брал»
(Там же, л. 4).Это прошение было удовлетворено 15 марта 1916 г.
(обратно)527
М.С. Фельдштейну.
(обратно)528
В.А. Жуковская (см. коммент. 5 к письму 25–13).
(обратно)529
Б.С. Трухачев.
(обратно)530
Мария Ивановна Кузнецова (в замуж. Балагина, псевдоним Гринева; 1890–1966) — актриса, писательница. Окончила драматические курсы C.B. Халютиной в 1914 г. одновременно с В.Я. Эфрон. Вторая жена Б.С. Трухачева. Ее сестры: Екатерина Ивановна Михневич (1894–1984), Зинаида Ивановна Кузнецова (1905–1980). Автор воспоминаний о Цветаевой (см.: Воспоминания. стр. 57–72).
(обратно)531
Речь идет, видимо, об О.Э. Мандельштаме.
(обратно)532
Е.Я. Эфрон во время своего пребывания в Петрограде пробовала зарабатывать на жизнь переводами. А.Я. Трупчинская, подрабатывавшая в 1913–1915 гг. в отделе библиографии «Вестника Европы», писала сестре в конце 1915 г. в Подгорье:
«Пришли переводы из Мишле, я их напечатаю, но с небольшим предисловием о нем. Журнал новый, „Летопись“. Тебе бы и отдел по искусству предоставили, если б написала. Важно занять место среди сотрудников»
(РГАЛИ, ф. 2962, оп. 1, ед. хр. 108, л. 34). (обратно)533
М.И. Цветаева и С.Я. Эфрон выехали в Москву через три дня — 22 мая.
(обратно)534
Имеется в виду цикл «Стихи к Блоку», в основном состоящий из стихотворений 1916 г., впоследствии дополненный стихами 1921 г. (СС-1).
(обратно)535
Согласно условиям призыва, С.Я. Эфрон должен был быть направлен либо в одну из школ подготовки прапорщиков пехоты, либо на ускоренные офицерские курсы при военных училищах.
(обратно)536
Михаил Леонидович Лозинский (1886–1955) — поэт, переводчик. В этом же (1916) году вышел его сборник «Горный ключ» (М.; Пг.: Альциона). О каком его стихотворении идет речь, установить не удалось.
(обратно)537
Этот рассказ в письме Цветаевой послужил «канвой» для ее очерка «История одного посвящения» (СС-4. стр. 130–158; см. подробнее: Вопросы литературы. 1983. № 11. стр. 211–213).
(обратно)538
М.А. Минц.
(обратно)539
Поэтесса и артистка, героиня романа Жермены де Сталь (1766–1817) «Коринна, или Италия» (1807).
(обратно)540
Обувной магазин.
(обратно)541
П.Я. Эфрон. См. письма к нему.
(обратно)542
С конца июня до середины июля 1916 г. Цветаева жила в Александрове в доме А.И. Цветаевой, которая в это время уехала в Москву перед рождением второго сына Алеши.
(обратно)543
Лев. — См. коммент. 1 к письму 3-13.
(обратно)544
Владислав Фелицианович Ходасевич (1886–1939) — поэт, переводчик, литературный критик, жил в Коктебеле в 1916 г. с 6 июня по 25 сентября, приехал в Крым по рекомендации врачей в связи с открывшимся у него весной туберкулезом позвоночника.
(обратно)545
С.Я. Эфрон в мае 1916 г. в связи с призывом прошел военно-врачебную комиссию, однако из-за путаницы с документами долгое время находился в неведении относительно службы в армии. Не дождавшись решения этого вопроса, уехал в Коктебель, где пробыл с 12 июня по 8 июля.
(обратно)546
М.А. Минц в это время в Александрове проходил военную службу.
(обратно)547
У А.И. Цветаевой и М.А. Минца только что (25 июня) родился сын Алексей.
(обратно)548
А.И. Цветаева вместо второго сына ожидала «девочку Ирину».
(обратно)549
Т.е. коз.
(обратно)550
Мария Андриановна Дейша-Сионицкая (урожд. Сионицкая, в замуж. Дейша, 1859–1932) — оперная певица Мариинского театра (1883–1891), Большого театра (1891–1908), педагог, профессор Московской консерватории (1921–1932), коктебельская соседка Волошина. Между обитателями волошинского дома («обормотами»), эпатировавшими респектабельных дачников, и «нормальными дачниками», предводительствуемыми «отставной певицей Дейша-Сионицкой», существовала конфронтация. Сторонники певицы даже сочинили стих-пародию:
Мы все ненавидим волошинский дом, Мы хвост Аладдину отрубим! Одну только нашу мы Дейшу поем, Одну только Дейшу мы любим!(Купченко В. «Стройтесь в роты, обормоты!». Шуточные сонеты М.А. Волошина // Крымский альбом. Феодосия; М.: Издательский дом «Коктебель», 1998. стр. 177).
(обратно)551
Имеются в виду Крутицкие казармы, где находилось управление Московского уездного воинского начальника.
(обратно)552
Лица неустановленные.
(обратно)553
Дмитрий Владимирович Цветаев (1852–1920) — младший брат И.В. Цветаева, историк, педагог.
(обратно)554
Упомянутый ниже Е.И. Сыроечковский был директором 3-й московской мужской гимназии, в которой учились В.Ф. Ходасевич и младший брат В.Я. Брюсова Александр Яковлевич Брюсов (1885–1966).
(обратно)555
Евгений Иванович Сыроечковский (1855–1908) в 1906–1908 гг. был инспектором классов женской гимназии имени В.П. фон Дервиз, в которой училась М. Цветаева.
(обратно)556
Из поэмы H.A. Некрасова «Русские женщины». «В салонах Москвы повторялась тогда одна ростопчинская шутка» («Княгиня М.Н. Волконская», гл. IV).
(обратно)557
Второй сын А.И. Цветаевой — Алеша — родился 25 июня 1916 г. в Москве, умер 18 июля 1917 г. в Коктебеле от дизентерии.
(обратно)558
Софья Исааковна Чайкина (1878–1931) — редактор-издательница петербургского журнала «Северные записки» (1913–1917), в котором в 1915 г. были впервые напечатаны стихотворения Цветаевой.
(обратно)559
Речь идет о переводе Цветаевой романа французской писательницы Анны де Ноай (1876–1933) «Новое упование»; перевод печатался в сентябрьской-декабрьской книгах журнала «Северные записки» за 1916 г. (См. также СС-5. стр. 526–646).
(обратно)560
Говоров Александр Сергеевич (1891—не ранее мая 1966) — гимназический товарищ С.Я. Эфрона, был шафером на его свадьбе в январе 1912 г. В письме к A.C. Эфрон в 1966 г. Говоров писал:
«Сережа Эфрон, самый близкий друг моей юности, прожитой в Москве. (Прямо скажу, — он меня любил)»
(цит. по копии из архива Л.А. Мнухина). (обратно)561
Речь идет об О. Мандельштаме, которому Цветаева в 1916 г. «дарила Москву». Этот эпизод Цветаева вспоминает спустя семь лет в письме 36–23 к A.B. Бахраху.
(обратно)562
Ср.: «Пожалеть тебя, у тебя навек / Пересохли губы» («Не сегодня-завтра растает снег…», 1916) (СС-1).
(обратно)563
Аналогичные высказывания-формулы Цветаева давала и раньше, в 1914 г., в письмах к В.В. Розанову и П.Я. Эфрону.
(обратно)564
Имеются в виду сборники «Юношеские стихи» (1912–1915) и «Версты» (стихи 1916 г.) При жизни автора увидела свет лишь вторая книга, вышедшая в Госиздате в 1922 г.
(обратно)565
Стихотворение написано 11 апреля 1916 г. Впервые опубликовано в журнале «Северные записки» (1917. № 1. стр. 25). Вошло в «Версты» (вып. первый) с вариантом в предпоследней строке. См. также СС-1. стр. 270–271.
(обратно)566
См. коммент. 4 к письму 4-16.
(обратно)567
А.И. Цветаева в то время жила в городке Александрове Владимирской губернии, где проходил службу ее второй муж, М.А. Минц. М.И. Цветаева жила в александровском доме с 20-х чисел июня около трех недель, ее сестра на это время уехала в Москву перед родами. Алеша — см. коммент 7 к письму 5-16.
(обратно)568
Ариадна Эфрон помогала матери по дому, поддерживала ее в трудные минуты. Упомянутые в письме «походы» по Москве нашли отражение в стихотворениях «Четвертый год…» и «Облака вокруг…» (СС-1). См. также письма к А. Эфрон.
(обратно)569
Портретная галерея императора Александра II и его предшественников была построена в Кремле скульптором A.M. Опекушиным в конце XIX в. Уничтожена в 1918 г. Французские пушки — трофейные пушки наполеоновской армии, установленные вдоль фасадов Арсенала.
(обратно)570
Подразумевается Николай II.
(обратно)571
Иванская Наталья Орестовна (в первом замуж. Жданова) — бабушка П.И. Юркевича по материнской линии.
(обратно)572
Слух о призыве О.Э. Мандельштама был вызван, видимо, его внезапным отъездом из Коктебеля в Петроград. На самом деле он был вызван домой в связи с кончиной матери (Ф.О. Мандельштам умерла 26 июля 1916 г.)
(обратно)573
А.С. Говоров, в то время студент физико-математического факультета Московского университета, в августе 1916 г. поступил в Александровское военное училище.
(обратно)574
В июне 1916 г. художница Магда Максимилиановна Нахман (1889–1950) сняла в Москве квартиру на Сивцевом Вражке, где вместе с нею поселилась и В.Я. Эфрон, возвратившаяся из Коктебеля 17 июля 1916 г.
(обратно)575
День рождения Е.Я. Эфрон — 25 сентября, 5/18 сентября день ее именин.
(обратно)576
Е.Я. Эфрон в это время находилась в Кисловодске.
(обратно)577
М.И. Цветаева ожидала тогда второго ребенка.
(обратно)578
А.И. Цветаева.
(обратно)579
Д.В. Цветаеву.
(обратно)580
Учреждение по милитаризации промышленности.
(обратно)581
Графиня де Ноай (фр.).
(обратно)582
М.М. Нахман.
(обратно)583
Стихотворение датируется 21 сентября 1916 г., вошло в сборник «Версты» (вып. первый. М: Госиздат, 1922), обращено к H.A. Плуцер-Сарна.
(обратно)584
Видимо, E.H. Дурново.
(обратно)585
Портниха.
(обратно)586
По-видимому, Е.В. Позоева и М.Л. Гехтман.
(обратно)587
Прислуга Цветаевой.
(обратно)588
М.М. Нахман писала портрет С.Я. Эфрона.
(обратно)589
Дата установлена Д.А. Беляевым.
(обратно)590
Петухов Николай Григорьевич — экономист, знакомый М.С. Фельдштейна. В то время был уполномоченным отдела санитарных поездов во Всероссийском земском союзе помощи больным и раненым воинам. Предполагалось устройство С.Я. Эфрона на работу в эту организацию.
(обратно)591
Мария Сергеевна Урениус (1884–1942) — соученица Е.Я. Эфрон по московской гимназии и Высшим женским курсам. Впоследствии — искусствовед, краевед.
(обратно)592
С.Я. Эфрон проходил в Нижнем Новгороде в 1-м учебном подготовительном батальоне начальный этап своей военной службы.
(обратно)593
См. предыдущее письмо.
(обратно)594
С.Я. Эфрон в это время продолжал учебу в 1-й Петергофской школе прапорщиков.
(обратно)595
А.И. Цветаева гостила в Петрограде у А.Я. Трупчинской.
(обратно)596
Степун Федор Августович (1894–1965) — философ, социолог, историк. К этому времени Цветаева и Степун были знакомы. См. его воспоминания о М. Цветаевой (Рождение поэта. стр. 101–103).
(обратно)597
Б.С. Трухачев.
(обратно)598
H.A. Плуцер-Сарна.
(обратно)599
Эта и следующие три записки дочери написаны М.И. Цветаевой из родильного дома. Аля в свои неполные пять лет уже читала. Цветаева писала записки крупными печатными буквами.
(обратно)600
Алеша — сын А.И. Цветаевой и М.А. Минца.
(обратно)601
Прислуга Цветаевой.
(обратно)602
М.А. Минц.
(обратно)603
Алеша и Андрюша — сыновья А.И. Цветаевой.
(обратно)604
Возможно, торговый дом Френкелей на Тверской улице.
(обратно)605
Прислуга семьи Цветаевой.
(обратно)606
Так называли комнату, где гостили друзья мужа Цветаевой.
(обратно)607
А.И. Цветаева.
(обратно)608
М.М. Нахман.
(обратно)609
Возможно, магазин музыкальных инструментов на Большой Никитской, называемый по имени его владельца — Александра Соломоновича Шора.
(обратно)610
М.А. Минц.
(обратно)611
А.И. Цветаева вспоминала:
«24 мая 1917 г. на зов Марининой телеграммы я выехала из Феодосии в Москву к опасно заболевшему Маврикию — гнойный аппендицит. Но на московском вокзале узнала от Марины, что его накануне похоронили. Он умер по вине врачей, не сделавших ему операции: гной прорвался в брюшину…»
(Цветаева А. стр. 572). (обратно)612
В эти дни подошло к концу полугодовое учение С.Я. Эфрона в Школе прапорщиков, и он был зачислен в 56-й пехотный запасной полк. Учебная команда полка была послана в Нижний Новгород для наведения порядка в охваченном волнениями городе. В письме С.Я. Эфрона, о котором упоминает Цветаева, мог быть рассказ о том, как взбунтовавшиеся солдаты несколько дней назад учинили расправу над юнкерами. Памяти погибших Цветаева посвятила стихотворение «Юнкерам, убитым в Нижнем» (СС-1).
(обратно)613
Прислуга Цветаевой.
(обратно)614
H.A. Плуцер-Сарна.
(обратно)615
Татьяна Исааковна Плуцер-Сарна (1887–1972), жена H.A. Плуцер-Сарна.
(обратно)616
Л.А.Тамбурер.
(обратно)617
Николай Александрович Бердяев (1874–1948) — философ, публицист. Цветаева была знакома с Бердяевым с 1915 г.
(обратно)618
Э.А. Фельдштейн.
(обратно)619
Маркс Никандр Александрович (1861–1921) — генерал-лейтенант, возглавивший летом 1917 г. штаб Одесского военного округа, был давним другом М. Волошина. Н. Маркс был знаком и с И.В. Цветаевым. Волошин «тотчас же написал Марксу», о чем сообщил М. Цветаевой 13 августа (ЕРО. стр. 178).
(обратно)620
М.В. Сабашникова — см. коммент. 5 к письму 21–13.
(обратно)621
В ответном письме от 13 августа Волошин писал Цветаевой: «Что от Вашей первой встречи произошел скандал, это совершенно естественно, так как вы оба капризники и задиры» (ЕРО. стр. 155). О М. Цветаевой и И. Эренбурге. См. письма к нему, а также письма к С. Эфрону. А. Бахраху, Р. Гулю, и воспоминания А. Эфрон (Воспоминания. стр. 117–120), И. Эренбурга (Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. Т. 1. М.: Сов. писатель, 1990. стр. 238–245).
(обратно)622
Муратов Павел Павлович (1881–4950) — искусствовед, писатель. Богаевский К.Ф. — См. письмо 7-12 к Ж.Г. и К.Ф. Богаевским.
(обратно)623
Однако с переводом С. Эфрона в Крым ничего не получилось. Он писал по этому поводу Волошину:
«Милый Макс, спасибо нежное за горячее отношение к моему переводу в Крым. Маркс мне уже ответил очень любезным письмом и дал нужную справку. — Но в Москве мне чинят препятствия и верно с переводом ничего не выйдет. Может быть так и нужно. Я сейчас так болен Россией, так оскорблен за нее, что боюсь — Крым будет невыносим…»
(НИСП. стр. 250). (обратно)624
О дружбе М. Цветаевой с К. Бальмонтом см.: Эфрон А. (Воспоминания. стр. 178–183) и К. Бальмонт (Воспоминания. стр. 91–97). В письме от 15 сентября 1917 г. к Е.О. и М.А. Волошиным С. Эфрон писал:
«Бальмонт прекрасен. Он меня очаровал сразу, как я его увидел. Представлял же я его себе совсем иным. Он часто заходит к нам»
(НИСП. стр. 250). (обратно)625
Имеется ввиду предлагавшееся М. Волошиным в письме от 13 августа 1917 г. обращение к Борису Викторовичу Савинкову (1879–1925), эсеру, в то время назначенному помощником военного министра Временного правительства. С Савинковым Волошин познакомился в 1915 г. в Париже (ЕРО. стр. 178–179).
(обратно)626
А.И. Цветаева переехала из Коктебеля в Феодосию 29 июля 1917 г. после смерти сына Алеши.
(обратно)627
А.И. Цветаева.
(обратно)628
В.А. Жуковская.
(обратно)629
Очевидно, магазин Офицерского собрания на Воздвиженке.
(обратно)630
М.С. Камкова по завещанию своей тети, М.А. Мейн, имела право на «пенсию». Деньги ей регулярно присылала А. Цветаева.
(обратно)631
Зелинский Иосиф Викторович (ок. 1857–1928) — народоволец, знакомый М.А. Волошина.
(обратно)632
Хрустачёв Николай Иванович (1883–1962) — художник. Его феодосийскую мастерскую описала в своих воспоминаниях А. Цветаева (Цветаева А. стр. 524).
(обратно)633
Няня, домработница у А. Цветаевой.
(обратно)634
Б.С. Трухачев.
(обратно)635
Няня дочерей М. Цветаевой.
(обратно)636
Малиновский Александр Николаевич, художник. Выполнил обложку к книге А.И. Цветаевой «Дым, дым и дым». Был дружен с М.А. Минцем. Помогал М. Цветаевой (в частном собрании сохранился ее сборник «Из двух книг» с дарственной надписью: «Дорогому Александру Николаевичу Малиновскому — верному другу в беде 1919 г.»). По сведениям А. Цветаевой, погиб в 1920 г.
(обратно)637
П.Н. Лампси.
(обратно)638
Название общества расшифровывается: «Художники — Литераторы — Артисты — Музыканты».
(обратно)639
Воспитанник П.Н. Лампси.
(обратно)640
Вероятно, Софья Николаевна Шиль (1861–1928) — писательница.
(обратно)641
Галина Владимировна Полуэктова (1898-?) — поэтесса.
(обратно)642
Возможно, Дуся Яценко (ок. 1898-?) — танцовщица.
(обратно)643
Роман Ф.М. Достоевского.
(обратно)644
Имеется в виду Александр Александрович Новинский (?-1960) — капитан 2-го ранга, начальник Феодосийского порта. Эмигрировал, жил в США.
(обратно)645
Художник Михаил Пелопидович Латри (1875–1935) и его первая жена Екатерина Николаевна Латри.
(обратно)646
Лицо неустановленное.
(обратно)647
Дембовецкий Василий Эдуардович (1883–1944) — поэт, педагог, учитель русского языка. Выпустил сборники стихов «Волокна и ткани» (1914) и «Грани Мелькарта» (1915). Был на предвоенном выступлении сестер Цветаевых на поэтическом вечере в Феодосии. А. Цветаева вспоминала:
«Взволнованный до предела, пробирается к нам, не сводя глаз с Марины, учитель русского языка Дембовецкий (выпускающий или уже выпустивший — изменяет память) книгу стихов „Волокна и ткани“, — рукопожатиям и восхищенью нет конца. Но, узнав, что он тоже поэт, Марина соглашается читать еще, только взяв с него обещание — после ее стихов прочитать свои»
(Цветаева А. стр. 523–524). (обратно)648
Прислуга Цветаевой.
(обратно)649
О ком идет речь, установить не удалось.
(обратно)650
О пребывании Эренбурга в Коктебеле Волошин подробно писал A.M. Петровой 27 октября 1917 г. и передавал его рассказы о Савинкове и Керенском (см. сб. «Из творческого наследия советских писателей». Л.: Наука, 1991. стр. 167–168).
(обратно)651
Вержховецкая Наталья Александровна — поэтесса, жительница Старого Крыма, знакомая Цветаевой.
(обратно)652
Туся — Наталья Васильевна Крандиевская (1888–1963), третья жена А.Н. Толстого. В дневниковых записях А.Н. Толстой несколько раз в оскорбительном тоне упомянул М. Цветаеву (Толстой А.Н. Материалы и исследования. М.: Наука, 1985. стр. 304, 306,310). А в своем рассказе «В гавани» описал выступление сестер Цветаевых в форме шаржа под именами «Нодя» и «Додя» (Русские ведомости. М. 1915. 1 февр. стр. 4–5).
(обратно)653
И. Эренбург писал об А.Ф. Керенском:
«Слышал я и Керенского; это напоминало театр — казалось, что глава Временного правительства сейчас заплачет или убежит со сцены. К этому времени слава Керенского успела потускнеть; всё же полусотни женщин истошно вопили, приветствуя его, одна кинула ему букетик полуувядших астр; он поднял цветы и почему-то их понюхал»
(Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. Т. 1. M.: Сов. писатель, 1990. стр. 229). (обратно)654
На рубеже веков дом A.M. Петровой в Феодосии в течение многих лет был центром притяжения творческой интеллигенции города.
«Я редко встречал такого человека, который с такой сердечной заинтересованностью входил во все вопросы культурной жизни, — вспоминала о Петровой Маргарита Сабашникова. — Она сопереживала и сострадала каждой идее, каждому явлению со всей силой души. Она стремилась проникнуть в каждого человека, в каждое культурное направление»
(цит. по: Волошин М. Из литературного наследия. 1. СПб.: Наука, 1991. стр. 8). (обратно)655
В конце августа 1917 г. A.M. Петрова перенесла операцию по удалению фибромы.
(обратно)656
Ср. с портретом Петровой, который дан в воспоминаниях А.И. Цветаевой:
«И во всем существе Александры Михайловны, несмотря на ее ласковость и проникновенность, есть строгость — нечто готовое на страстную гневность: четко и неподкупно здесь живут бок о бок черное „нет“ и белое „да“, червленые друг по другу. Приветствуя входящих как друзей, готовая принимать и верить, она не теряет зоркость, не отступит перед необходимостью что-то оспорить, перед невозвратностью — осудить… Но уже если проверил вас ее серо-синий, подолгу на вас лежащий, ждущий и приветственный взгляд — вы в этом доме свой…»
(Там же. стр. 8). (обратно)657
A.M. Петрова помогала четырем племянникам, находившимся на ее иждивении.
(обратно)658
«Генералам двенадцатого года» — стихотворение 1913 г. (СС-1.)
(обратно)659
В Москву. Однако 10 ноября Цветаева снова вернулась в Крым. В письме к A.M. Петровой от 12 ноября 1917 г. Волошин писал:
«Третьего дня неожиданно приехала Марина с Сережей и массой рассказов об московских днях. Об этом расскажу при встрече, и когда они будут в городе, сами расскажут … Их присутствие психологически принесло мне облегчение, но фактически остается тот же уютный домашний ад…»
(Волошин М. Собр. соч. Т. 10. стр. 716).В Коктебеле Цветаева пробыла до 25 ноября.
(обратно)660
«Сад Эпикура» (1894) — сборник афоризмов французского писателя Анатоля Франса (1844–1924), отражающих его философские воззрения.
(обратно)661
Письмо написано по дороге из Крыма в Москву. Оно свидетельствует о глубоком и неизменном чувстве к мужу, которое Цветаева пронесла через всю жизнь, о привязанности, не нарушенной никакими сердечными «бурями», переходящими и претворяющимися в творчество. Несмотря на разницу характеров и взглядов, Цветаева не отделяла свою судьбу от судьбы мужа, поехав за ним за границу, а затем вернувшись в СССР. Это письмо — своего рода клятва мужу.
(обратно)662
Ежедневная харьковская газета (1880–1919).
(обратно)663
С.Я. Эфрон, прапорщик, в составе 56-го запасного полка участвовал в октябрьских событиях 1917 г. Позднее он описал события этих дней в очерке «Октябрь» (На чужой стороне. Прага. 1925. № 11).
(обратно)664
В письме к П.Г. Антокольскому от 21 июня 1966 г. A.C. Эфрон вспоминала:
«Папа участвовал в боях за Москву — за Юнкерское училище, за Кремль; прибегал домой посмотреть — целы ли мы? Один раз прибежал с огромным ключом от Кремлевских ворот»
(Эфрон А.С. История жизни, история души: В 3 т. М.: Возвращение, 2008. Т. 2. Письма 1955–1975. стр. 249). (обратно)665
Няня дочерей Цветаевой.
(обратно)666
Б.С. Трухачев.
(обратно)667
М.С. Фельдштейн.
(обратно)668
H.A. Плуцер-Сарна.
(обратно)669
Т.Н. Плуцер-Сарна.
(обратно)670
Степан Алоизиевич Дырвянский — арендатор дома Цветаевой в М. Екатерининском переулке.
(обратно)671
Лицо неустановленное.
(обратно)672
С.И. Гольцев (1896–1918) — однополчанин и друг С.Я. Эфрона, ученик Вахтанговской студии. Упоминается Цветаевой в прозе «Октябрь в вагоне» и в «Повести о Сонечке».
(обратно)673
H.A. Плуцер-Сарна.
(обратно)674
Т.Н. Плуцер-Сарна.
(обратно)675
Б.С. Трухачев.
(обратно)676
Возможно, речь идет о Серейском (см. письмо 11–21 к М. Волошину и коммент. 13 к нему) и продаже собственного дома Цветаевой и Эфрона в Казачьем переулке (см. письмо 12–12 к В.Я. Эфрон и коммент. к нему).
(обратно)677
С.И. Гольцев. В письме от 22 июня 1918 г. Волошин писал A.M. Петровой:
«Сегодня радостное и неожиданное письмо от Сережи Эфрона: он слава Богу! — жив и находится в Новочеркасске. Пишет, что жив только чудом, потому что почти все его товарищи и спутники перебиты. Уезжавший с ним вместе юноша — Сергей Иванович — убит…»
(Из творческого наследия советских писателей. Л.: Наука. 1991. стр. 190). (обратно)678
«Молочница Дуня приходила к нам — с бидоном в руке и с мешком за спиной — с незапамятных времен и вплоть до тяжкой зимы 1919–1920 г., в которую просто исчезла. Мы так никогда и не узнали, что с ней, живали она?»
(Эфрон А. стр. 85). (обратно)679
То есть в Борисоглебский переулок; первые дни по возвращении из Крыма Цветаева провела со своими детьми у В.Я. Эфрон (Кривоарбатский переулок, дом 17), где находились обе дочери в отсутствие матери (Звезда. стр. 14).
(обратно)680
Д.А. Юнге. См. коммент. 10 к письму 22–11 к М.А. Волошину.
(обратно)681
Т.И. Плуцер-Сарна.
(обратно)682
Миронов Николай Николаевич (1893–1951), знакомый сестер Цветаевых, близкий друг Анастасии.
(обратно)683
Т.Н. Плуцер-Сарна.
(обратно)684
О ком идет речь, установить не удалось.
(обратно)685
Михаил Осипович (1882–1945) и Мария Самойловна (1882–1976) Цетлины — друзья Волошина.
(обратно)686
O.A. Рогозинская.
(обратно)687
А.Ф. и Э.М. Редлих.
(обратно)688
Имение Жуковских Канашово находилось в Витебской губернии.
(обратно)689
Гольдовские Онисим Борисович (1858–1922), адвокат, и его жена Рашель Мироновна (урожд. Хин, в первом браке Фельдштейн; 1863–1928), писательница, печатавшаяся главным образом под своей девичьей фамилией. Мать и отчим М.С. Фельдштейна.
(обратно)690
Старынкевич Елизавета Ивановна (1890–1966) — филолог, искусствовед, коктебельская знакомая М. Цветаевой и С. Эфрона.
(обратно)691
М.С. Фельдштейн, сын P.M. Гольдовской, неофициально был женат вторым браком на В.Я. Эфрон.
(обратно)692
Стихи М. Волошина «Святая Русь». «Мир», «Март», «Бонапарт» были опубликованы в газете «Слову — свобода!» (издание клуба московских писателей. 1917. 10 декабря).
(обратно)693
Б.С. Трухачев.
(обратно)694
Радин Николай Мариусович (наст. фам. Казанков; 1872–1935) — актер, режиссер, внук балетмейстера М.И. Петипа. В 1914–1918 гг. был ведущим актером Московского театра Е.М. Суходольской (Звезда. стр. 15).
(обратно)695
Е.Я. Эфрон брала на лето младшую дочь Цветаевой.
(обратно)696
М.С. Фельдштейн.
(обратно)697
Ослиная Кожа — сказка Ш. Перро (в современных переводах «Ослиная шкура»).
(обратно)698
Написано во время поездки Цветаевой в деревню для «натурального обмена». См. об этом в очерке «Вольный проезд» (СС-4. стр. 427–450).
(обратно)699
См. коммент. 7 к письму 22–17.
(обратно)700
В г. Александрове Владимирской губ. в 1916 г. жила А.И. Цветаева с М.А. Минцем и сыном от первого брака Андреем Трухачевым. Летом 1916 г. Цветаева гостила у сестры. См. об этом в очерке «История одного посвящения» (СС-4 стр. 139–148).
(обратно)701
Няня дочерей Цветаевой.
(обратно)702
H.A. и Т.И. Плуцер-Сарна.
(обратно)703
Младшая дочь Цветаевой.
(обратно)704
Имя не вписано.
(обратно)705
После смерти в мае 1917 г. второго мужа Анастасии Ивановны М.А. Минца, проходившего военную службу в Александрове, для Цветаевых отпала необходимость жить в этом городе. Но в доме оставались их вещи.
(обратно)706
Отец «владимирской няньки Нади» (см. «История одного посвящения»; СС-4), служившей сестрам Цветаевым.
(обратно)707
В письме указаны две даты. На обороте — начальные строки ненаписанного Цветаевой письма: «28-го мая 1918 г. Дорогой Сереженька!» (обращение зачеркнуто) и номер телефона Цветаевой в Москве «525-81» (Борисоглебский переулок, 6).
(обратно)708
В комментариях В. Швейцер приводит предположение В.К. Звягинцевой:
«Не Хабиас ли? — Была такая поэтесса с набрильянтиненными волосами, с женскими Любовями…»
(Там же. стр. 354).Хабиас — псевдоним, наст, имя Нина Петровна Оболенская (урожд. Комарова; 1892 — не ранее 1943), поэтесса, выпускница Смольного института, приобрела скандальную известность «Баркова в юбке» за использование в своих стихах обсценной лексики. Однако вряд ли это была Хабиас: первый ее сборник «Стихетты» вышел только в марте 1922 г. А в 1919 г. Н.П. Оболенская работала в Иркутске в комитете по ликвидации неграмотности (и в том же году вступила в кандидаты в члены ВКП(б), вышла в 1921 г.). в Москву вернулась лишь в 1921 г.
(обратно)709
Речь идет, по-видимому, об одном из ранних сборников Цветаевой, подаренном ею H.A. Плуцеру-Сарна с дарственной надписью. Не исключено, что это могла быть рукописная книжечка стихов, посвященных Плуцеру-Сарна (сохранилось несколько составленных в те годы таких рукописных книг Цветаевой; см.: Богомолов H.A., Шумихин C.B. Книжная лавка писателей и автографические издания 1919–1922 годов/Сост. H.A. Богомолов//Ново-Басманная, 19. М.: Худож. литература. 1990. стр. 127. Что касается сборника Цветаевой «Версты» (вып. первый) с напечатанными в нем стихотворениями, обращенными к Плуцеру-Сарна, то он вышел из печати лишь в 1922 г.
(обратно)710
Выражение «Étre plus royaliste que le Roi» («Быть более роялистом, чем сам король») возникло в период правления Людовика XVI между 1774 и 1792 гг. Подразумевались люди, идущие в своем усердии дальше того деятеля, чьи взгляды или интересы они представляют.
(обратно)711
День рождения А. Цветаевой 14 сентября, М. Цветаевой — 26 сентября (Иоанн Богослов). Даты указаны по старому стилю.
(обратно)712
М. Цветаева не имела известий от сестры, которая с лета 1917 г. жила с сыном Андреем в Крыму и не могла оттуда выехать.
(обратно)713
Пьеса М. Цветаевой (СС-3).
(обратно)714
Молодой актер Второго Передвижного театра, где в то время работала В.К. Звягинцева. Видимо, снимал у Цветаевой комнату. Он же и познакомил ее со Звягинцевой (Там же. стр. 326–327).
(обратно)715
Цветаева забрала тяжелобольную Алю из приюта в Кунцеве, где находились обе ее дочери. Выхаживать больную Алю помогала В.А. Жуковская, жившая по соседству в Мерзляковском переулке, у нее временно и поселилась Цветаева с дочерью.
(обратно)716
Письмо было не отправлено — скорее всего потому, что в эти дни Цветаева узнала о кончине своей младшей дочери.
(обратно)717
См. коммент. 4 к письму 6-16 к П.И. Юркевичу.
(обратно)718
Часто цитируемая Цветаевой в том или ином виде формула, принадлежавшая К. Павловой. См. также письмо 27–23 к А. Бахраху и коммент. 9 к нему.
(обратно)719
В своей книге В. Швейцер приводит отрывки из писем художницы Магды Нахман и Юлии Оболенской (знакомых Цветаевой по Коктебелю), в которых говорится о смерти Ирины. Магда Нахман находилась тогда под Невелем вместе с Лилей Эфрон и узнала о случившемся из письма Веры Эфрон сестре. Нахман пишет Оболенской в Москву 12 марта 1920 г.:
«Умерла в приюте Сережина дочь — Ирина, слышала ты?.. Лиля хотела взять Ирину сюда и теперь винит себя в ее смерти. Ужасно жалко ребенка — за два года земной жизни ничего кроме голода, холода и побоев».
И через несколько дней, 19 марта, Оболенская откликается:
«Я понимаю огорчение Лили по поводу Ирины, но ведь спасти от смерти еще не значит облагодетельствовать: к чему жить было этому несчастному ребенку? Ведь навсегда ее Лиле бы не отдали. Лиля затратила бы последние силы только на отсрочку ее страданий. Но она совсем не виновата».
В умолчании о матери — «умерла Сережина дочь…» — и жалости к отцу только, в мимоходом произнесенных словах о побоях и «зачем было жить», в самой сдержанности этих строк — жестокое осуждение Цветаевой.
Цветаева знала, что ее осуждают и винят в смерти Ирины — и винила и осуждала себя сама (Швейцер В.-2. стр. 250).
В дневнике она записала:
«Иринина смерть для меня так же ирреальна, как ее жизнь. — Не знаю болезни, не видела ее больной, не присутствовала при ее смерти, не видела ее мертвой, не знаю, где ее могила.
— Чудовищно? — Да, со стороны. Но Бог, видящий мое сердце, знает, что я не от равнодушия не поехала тогда в приют проститься с ней, а от того что НЕ МОГЛА. (К живой не приехала… —)
Ирина! Если есть небо, ты на небе, пойми и прости меня, бывшую тебе дурной матерью, не сумевшую перебороть неприязнь к твоей темной непонятной сущности»
(НЗК-1. стр. 85).После смерти дочери Цветаева ожесточилась, обвинила во всем сестер мужа, хотя одной не было в Москве, а другая серьезно болела.
(обратно)720
Спустя несколько месяцев (в письме к Е.О. Волошиной от 14/27 сентября 1920 г.) Аля писала о смерти сестры:
«У нас умерла Ирина, она была очень странная девочка, мало понимала, потом ничего не говорила. Ей очень плохо жилось. Нам ее очень жаль, часто видим во сне»
(Эфрон А. стр. 236–237). (обратно)721
Датировка письма установлена В. Швейцер.
(обратно)722
См. письмо 3-20 к В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву.
(обратно)723
С.Я. Эфрон был в это время в Добровольческой армии.
(обратно)724
На этом письмо обрывается. В конце письма приписка A.C. Ерофеева: «25-11-1920. Получил от Марины неоконченным. А.Е.» (Швейцер В. стр. 339).
(обратно)725
Завадский Юрий Александрович (1894–1977) — с 1915 г. актер Студии Е.Б. Вахтангова. Цветаеву познакомил с Завадским П.Г. Антокольский в январе 1918 г. Завадскому Цветаева посвятила циклы стихов «Братья» (вместе с П. Антокольским; 1918), «Комедьянт» (1918–1919), стихотворения «Beau tenebreux! — Вам грустно. — Вы больны…» (1918), «Я Вас люблю всю жизнь и каждый день…», 1918). Под именем Юра 3. он выведен в «Повести о Сонечке» (1937: СС-4).
Отношения с Завадским характеризует запись Цветаевой:
«3<авад>ский тоже меня не любил, но ему льстило мое внимание, и — кроме того! — я могла ему писать. Любил стихи. Кроме того, в III Студии я была в чести, это увеличивало для него мою ценность, — хоть именем моим мог похвастаться! III Студия еще менее известна, чем я!»
(НЗК-2. стр. 125). (обратно)726
Так гладят кошек или птиц… — из стихотворения А. Ахматовой «Вечером» (1913).
(обратно)727
Офицерам вставать за Петра… — стихотворения с такими строками у П. Антокольского не обнаружено.
(обратно)728
«— Вестовым! Часовым!..» и т.д. — Ср.:
Быть голубкой его орлиной! Больше матери быть, — Мариной! Вестовым — часовым — гонцом…(1921).
(обратно)729
Об истории с этой книжечкой см. письмо 10–20.
(обратно)730
Брат Володечки… — Ср. запись Цветаевой тех дней: «Недавно мне снился во сне Володечка Алексеев» (НЗК-2. стр. 79). Алексеев Владимир Васильевич (1892–1919) — актер Вахтанговской студии. Ему Цветаева посвятила вторую часть «Повести о Сонечке» (СС-7). Здесь, возможно, речь идет о старшем брате В.В. Алексеева Сергее (род. 1889) (НЗК-2. стр. 483).
(обратно)731
Кончаю Коринну… — Несколькими днями раньше Цветаева писала:
«Коринна Mme de Staël мне большое утешение. Во мне, действительно, соединены все женщины, когда-либо плакавшие и когда-либо державшие перо!»
(НЗК-2. стр. 145).«Коринна — изумительна книга, не устану повторять. Читаю страстно»
(Там же. стр. 155).«Кончила Корину. Эпиграфом ко всей книге могла бы поставить наполеоновское изречение наоборот: Du ridicule au sublime il n'y a qu'un pas, Madame». — (От смешного до великого всего один шаг, мадам. — фр.)
(Там же. стр. 161). (обратно)732
Беттина. — См. запись в НЗК-2. стр. 159:
«Беттина больше Мать, чем я.
Ctesse de Noailles — любит природу <,> sa sève universelle (ее всеобъемлющую жизненную силу — фр.).
Обе — больше зверь, чем я.
Мне не нужна sève — мне нужна: âme universelle (душа всеобъемлющая — фр.). (Говорю это с грустью.)»
(обратно)733
М. Башкирцева. — См. о ней коммент. 1 к письму 3-14.
(обратно)734
Лаокоон — скульптурная группа, изображающая троянского жреца Аполлона Лаокоона с сыновьями, которых душат змеи.
(обратно)735
«На ласковой земле» — из стихотворения «Уж сколько их упало в эту бездну…» (1913; СС-1. стр. 191–192). «На землю нежную» — из стихотворения 3-го цикла «Вячеславу Иванову» (1920; СС-1).
(обратно)736
Цветаева переехала в дом в Борисоглебском пер. в 1914 г.
(обратно)737
Князь (принц) Шарль Жозеф де Линь (1735–1814) австрийский фельдмаршал и дипломат, сподвижник Г.А. Потемкина (участвовал в осаде и взятии Очакова). Персонаж пьесы Цветаевой «Феникс» (1919; СС-З).
(обратно)738
Северная Семирамида — так Екатерину II назвал Вольтер. Цветаева сравнивает «свои сады» с садами и парками Петербурга и с висячими садами ассирийской царицы Семирамиды.
(обратно)739
Иоанна д'Арк — (Орлеанская дева: 1412–1431) — национальная героиня Франции, командовала французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была передана англичанам и сожжена на костре по обвинению в ереси. Впоследствии канонизирована и причислена к лику святых. Цветаева восхищалась мужеством Жанны д'Арк, не раз отождествляла с ней свою лирическую героиню, идущую на «огненные муки». В 1927 г. на Пасху она подарила юной Але книгу «Jeanne d'Arc. Encyclopédie par L'Image» («Жанна д'Арк. Энциклопедия в картинках». Paris. 1927) с дарственной надписью (хранится в частном собрании).
(обратно)740
Худолеев Иван Николаевич (1869–1932) — актер Малого театра (1893–1918), в момент знакомства с Цветаевой работал в Показательном театре.
(обратно)741
Вяч. Иванов уезжал в Баку с целью перебраться в Италию.
(обратно)742
Чудесное дитя из сказки Т. А. Гофмана (Das fremde Kind). — Персонаж сказки «Неизвестное дитя», — волшебное существо, преображавшее мир.
(обратно)743
…дом Ваш… — Об этом «доме» в своих воспоминаниях «Здравница» В.Ф. Ходасевич писал:
«Летом 1920 года я прожил в этом убежище около трех месяцев. В то время оно еще называлось „здравницей для переутомленных работников умственного труда“… В здравницу устроил меня Гершензон, который сам отдыхал в ней, так же как Вячеслав Иванов. Находилась она между Плющихой и Смоленским рынком, в 3-м Неопалимовском переулке, в белом двухэтажном доме… Среди тогдашней Москвы здравница была райским оазисом. Мне посчастливилось: отвели отдельную комнату. Гершензон с Вячеславом Ивановым жили вместе»
(Возрождение. Париж. 1929. 14 марта). (обратно)744
Ваш сын? — Дмитрий Вячеславович Иванов (1912–2003), сын В.И. Иванова и В.К. Шварсалон.
(обратно)745
23 июня 1920 г. Бальмонт с семьей выехал в заграничную годовую командировку для литературной работы по заказу Государственного издательства, в Россию не вернулся. Отъезду Бальмонтов посвящена запись Цветаевой в ее записной книжке (НЗК-2. стр. 210–211).
(обратно)746
Можно предположить, что Цветаева передала Вышеславцеву свою рукописную книжку, в которую вписала стихи, посвященные ему. См. предыдущее письмо к нему (6-20, а также коммент. 1 к письму 4-19).
(обратно)747
Джалалова Мила (Людмила) — артистка кино, танцовщица.
(обратно)748
…на фронт уходите… — H.H. Вышеславцев участвовал в боях Первой мировой войны. О каком уходе на фронт в 1920 г. идет речь, установить не удалось.
(обратно)749
Из цикла «Четверостишия», 3 (СС-1).
(обратно)750
Датировано A.C. Ерофеевым.
(обратно)751
Владимир Михайлович Волькенштейн (1883–1974) — поэт, драматург, в 1906–1908 гг. был мужем С.Я. Парнок.
(обратно)752
Бебутов Валерий (Валериан) Михайлович (1885–1961) — режиссер. В 1920 г. вместе с В.Э. Мейерхольдом организовал 1-й Театр РСФСР (впоследствии Театр им. Мейерхольда).
(обратно)753
Зинаида (р. 1911), дочь В.Д. Милиоти, впоследствии художник-мультипликатор.
(обратно)754
Пьеса В.М. Волькенштейна.
(обратно)755
Эва. — Э.А. Фельдштейн
(обратно)756
Датировано A.C. Ерофеевым.
(обратно)757
В.М. Волькенштейн.
(обратно)758
Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933) — критик, публицист; в 1917–1929 гг. нарком просвещения. Луначарского Цветаева впервые увидела летом 1919 г. В конце 1920 г. посвятила Луначарскому после его выступления в Доме печати стихотворение «Чужому» (СС-1).
(обратно)759
В ноябре 1920 г. армия генерала Врангеля была разгромлена и эвакуировалась на кораблях в Константинополь, части Красной армии заняли Крымский полуостров. Цветаева надеялась через Волошина узнать что-либо о судьбе мужа, находившегося в это время в Добровольческой армии.
(обратно)760
Ланн Е.Л. См. письма Цветаевой к нему.
(обратно)761
И.Г. Эренбург с женой, Любовью Михайловной, жил в Коктебеле с конца 1919 по август 1920 г. «Когда осенью 1920 г. я пробрался из Коктебеля в Москву, я нашел Марину все в том же исступленном одиночестве», — писал он в воспоминаниях (Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. Т. 1. стр. 240).
(обратно)762
Восьмилетняя дочь Цветаевой писала Е.О. Волошиной 14/27 ноября 1920 г.:
«День за днем идут как двойники. Знаешь, что Марина будет рубить чужие шкафы и корзины, я буду убирать комнаты. Живем теперь в бывшей столовой, похожей на тюрьму. К нам почти никто не приходит. Друзей настоящих нет. Бальмонты уехали, последние настоящие друзья. Мы об вас давно ничего не знаем. Марина продает французские книги. Жили долгое время без света. В Москве жить плохо, нет дров. По утрам мы ходим на рынок. Нет разноцветных платьев, одни мешки и овчины… Дети торгуют или живут в колониях. Все торгуют. Марина не умеет торговать, ее или обманывают или она пожалеет и даром отдает. Наш дом весь разломанный и платья все старые. Но мы утешаемся стихами, чтением и хорошей погодой, а главное — мечтой о Крыме, куда мы так давно и так напрасно рвемся…»
(Соч. 88, 2. 605). (обратно)763
Поэма-сказка. Вышла отдельной книгой в 1922 г. в Москве и в Берлине.
(обратно)764
ТЕО — Театральный отдел Народного комиссариата просвещения, образован в 1918 г. Цветаева, вероятно, с лета 1920 г. была членом ТЕО, которым тогда заведовал В.Э. Мейерхольд. В декабре 1920 г. в помещении ТЕО на Неглинной, 9 ее встречал П. Марков:
«Существовала секция детского театра, в которой состояли поэты Ада Чумаченко, Марина Цветаева и Илья Эренбург, еще совсем молодые. Марина Цветаева, и тогда колючая, какая-то неустроенная, по-моему не очень была полна пафосом театра»
(Марков П. Книга воспоминаний. М.: Искусство, 1983. стр. 104). (обратно)765
Е.Л. Ланн в ноябре 1920 г. приехал в Москву из Харькова.
(обратно)766
Гольды. — О ком идет речь, установить не удалось. В те годы в Москве жил художник Хаим (Хаким) Борисович Гольд (1902–1975), а также некий Гольд, который был членом кружка «Литературный особняк» (НЗК-2. стр. 490).
(обратно)767
Дмитрий Александрович Магеровский (1894–1939) — специалист по праву, профессор Московского университета. Был близок к литературным и театральным кругам (в третьем упоминании «А.Д.» — описка Цветаевой).
(обратно)768
Алексеева-Месхиева Варвара Владимировна (1898–1973) — актриса Московского драматического театра Судольских в саду Эрмитаж (1916–1918).
(обратно)769
Малиновская Елена Константиновна (1875–1942) — театральная и общественная деятельница, непродолжительное время была директором Большого театра.
(обратно)770
Т.В. Чурилин.
(обратно)771
У Цветаевой было пальто, сшитое из одеяла полосатой раскраски, напоминающей «тигровую».
(обратно)772
Знаменитый в годы революции рынок в Москве, находившийся в районе старого Арбата. Любопытная деталь: Цветаевой очень понравилось стихотворение В. Ходасевича, посвященное Смоленскому рынку. На экземпляре своего сборника «Стихотворения» (Париж, 1927), принадлежащем Н. Берберовой, рядом со «Смоленским рынком» В. Ходасевич сделал надпись:
«С этих стихов началось у нас что-то вроде дружбы с Мар<иной> Цветаевой. Она их везде и непрестанно повторяла»
(Ходасевич В. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. Анн Арбор: Ardis, 1983. стр. 308–309). (обратно)773
Речь идет о стихотворении «Пожалей…» («Он тебе не муж? — Нет…»; декабрь 1920 г. СС-1.).
(обратно)774
Дом Скрябиных расположен в Большом Николо-Песковском переулке, который являлся продолжением Борисоглебского переулка. О дружбе М. Цветаевой с Т.Ф. Скрябиной см. письмо 11–22 к Б. Пастернаку.
(обратно)775
Цветаева вспоминает трагическую зиму 1919/20 г., когда ее дочери находились в Кунцевском приюте. О гибели младшей, Ирины, см. письмо 3-20 к В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву. Госпиталь — тяжело заболевшую в приюте Алю пытались вылечить в красноармейском госпитале.
(обратно)776
Предположительно В.Д. Милиоти (см. письмо 19а-20).
(обратно)777
Первый директор открывшегося весной 1919 г. Дворца Искусств в Москве (ныне помещение Международного сообщества писательских союзов — бывшего Союза писателей СССР). И.С. Рукавишникову Цветаева посвятила написанный по-французски рассказ «Чудо с лошадьми» (1934; СС-4).
(обратно)778
Царившую в то время обстановку во Дворце позднее описала A.C. Эфрон:
«В те годы Дворец Искусств был не только учреждением, концертным залом, клубом, но и жилым домом <…> Левый флигель… был населен „хозобслугой“, с которой соседствовали и начинающие литераторы, и певцы, и художники <…> Там простирались владения семейства цыган…»
(Эфрон А. стр. 78–79).Цветаева была членом Дворца Искусств. Сохранился следующий документ:
Общему собранию Дворца Искусств
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в члены Дворца Искусств по литературному отделению.
Марина ЦветаеваМосква, Поварская, Борисоглебский пер<еулок>, д<ом> 6, кв<артира> 3.
Марина Ивановна Цветаева-Эфрон <Резолюция:> Рекомендую. Л. Копылова.(Саакянц А. стр. 194)
(обратно)779
Скульптура С.Т. Коненкова «Паганини» имеет различные варианты исполнения (гипс, мрамор, бронза, дерево). Наиболее известен портрет Паганини, выполненный Коненковым в мраморе в 1916 г. (хранится в Государственной Третьяковской галерее). Образом Ланна, человека и поэта, внешне сходным с коненковской скульптурой, навеяно стихотворение Цветаевой «Короткие крылья волос я помню…» (СС-1).
(обратно)780
H.H. Вышеславцев. См. письма к нему.
(обратно)781
Борис Трухачев.
(обратно)782
Три стихотворения, обращенных к Е.Л. Ланну, написаны с 12 по 25 ноября (ст. ст.) 1920 г. «Я знаю эту бархатную бренность…», «Не называй меня никому…» и «Прощай! — как плещет через край…» (СС-1).
(обратно)783
В Москве было два Спасоболвановских переулка: 1-й и 2-й (в 1954 г. переименованы в Новокузнецкие переулки: 1-й и 2-й). Видимо, Цветаева до этого сомневалась в существовании переулка с таким странным названием.
(обратно)784
Книга А. Ахматовой «Белая стая» (Пг.: Гиперборей, 1917 или Пп: Прометей, 1918), подаренная Е. Ланном.
(обратно)785
Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891) — филолог-славист, первый крупный теоретик лингвистики в России. Автор многих трудов по языкознанию. Известен также своей теорией внутренней формы слова, согласно которой слово может приобретать новые значения через метафору. Это, очевидно, и имела в виду Цветаева, когда упоминала его имя.
(обратно)786
По Эдгар Алан (1809–1849) — американский писатель, поэт, литературный критик. Считается создателем детективно-фантастического стиля в литературе. Особой популярностью пользовались его «мрачные» рассказы.
(обратно)787
Вяч. Иванов.
(обратно)788
«Роланд» — стихотворение Е. Ланна. Строки этого стихотворения «легко вписываются в поэму Цветаевой „На Красном Коне“, они из одной и той же поэтической „ауры“» (Саакянц А. стр. 262).
(обратно)789
Новалис (наст, имя Фридрих фон Харденберг; 1772–1801) — немецкий писатель, философ
(обратно)790
Степун Ф.А. См. коммент. 3 к письму к 4–17 к Е.Я. Эфрон.
(обратно)791
Ланн Жан (Lannes Jean; 1769–1809) — французский маршал, друг Наполеона I, во время итальянской кампании 1796–1797 гг. дважды спасал ему жизнь.
(обратно)792
…присоединю и стихи. — В ответном письме от 8/21 декабря 1920 г. Ланн писал Цветаевой:
«И читаю, читаю, без конца читаю <…> стихи Ваши и Али. <…> Много думали мы над — и по поводу Ваших стихов — как я Вам благодарен за Вашу доброту — дать мне так много, переписав такую уйму стихов!»
(НЗК-2. стр. 237). (обратно)793
А. Цветаева находилась в это время в Крыму (см. письмо 5-19 к В.К. Звягинцевой и коммент. 2 к нему). Первое письмо после долгого перерыва М. Цветаева получила от сестры лишь после занятия в ноябре 1920 г. Крыма Красной Армией.
(обратно)794
О болезни Али и смерти Ирины см. письма к В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву и примеч. к ним. Лиля — Е.Я. Эфрон, Вера — В.Я. Эфрон.
(обратно)795
Б.С. Трухачев умер в 1919 г. в Старом Крыму от сыпного тифа.
(обратно)796
Миронов H.H. (см. коммент. 1 к п. 30–17), одно время был увлечен А. Цветаевой… сестра Таня — Татьяна Николаевна, вышла замуж за англичанина, жила в Лондоне. Женат на подруге. — Жена H.H. Миронова, Татьяна Константиновна (урожд. Миллер, во втором замуж. Варламова), умерла в 1970-е гг.
(обратно)797
В.А. Павлушков.
(обратно)798
См. дневниковую прозу «Мои службы» (СС-4).
(обратно)799
См. письмо 19–20 к Ланну и коммент. к нему.
(обратно)800
Имеется в виду С.Я. Эфрон.
(обратно)801
Об отношении Брюсова к Цветаевой см. ее очерк «Герой труда» (СС-4).
(обратно)802
О встрече с Ланном см. письма к нему.
(обратно)803
Опубликовано в сб. «Психея» в цикле «Плащ» без посвящения и с разночтениями.
(обратно)804
Ирина Борисовна, урожд. Трухачева [1918 (по паспорту 1923) — 1980].
(обратно)805
…но без меча — над чашами весов. — Из стихотворения A.B. Цыгальского «Храм Неопалимой Купины». См. «Мой ответ Осипу Мандельштаму» и примеч. к нему (СС-5).
(обратно)806
По-видимому, не сохранились, как и письмо М. Цветаевой.
(обратно)807
В письме от 21 января 1921 г. Ланн отвечал Цветаевой:
«Очень огорчен, что посылка Асе денег по крайней мере в ближайшее время совершенно немыслима, ибо почтой, конечно посылать нельзя, в виду Махновщины — отправляющиеся в Крым только военные, среди к<отор>ых у меня нет и не было знакомых.
Полузнакомым, разумеется, поручить деньги нельзя, тем более, что я даже письма не мог отправить, даже полузнакомые отказывались взять, ибо были не уверены, что оно у них не пропадет — ведь приходится местами путешествовать пешком в весьма поганых условиях.
Я очень рад, что Вы получили от Аси письмо: ко мне два дня назад явился некий студент, прибывший из Крыма и передавший мне от Макса и Аси привет; письмо от них не успел захватить, ибо уехал внезапно.
Вы легко себе представляете мою радость, когда я узнал, что они там. Сейчас затрудняюсь, каким образом послать им весточку.
Буду ждать надежной окказии, тогда и пошлю деньги и письмо.
Очень боюсь, что это не будет скоро, ибо мало надежды на скорое упорядочение пути»
(НЗК-2. стр. 238–239). (обратно)808
Письмо Ланна от 8 января 1921 (НЗК-2. стр. 238).
(обратно)809
В одной из комнат квартиры, которую занимала Цветаева в доме № 6 в Борисоглебском переулке, окно было в потолке.
(обратно)810
На Поварскую улицу выходит Борисоглебский переулок.
(обратно)811
К этому письму сделана приписка восьмилетней Али:
Москва, 31 русс<кого> декабря 1920 года
Милый Евгений Львович,
Сегодня канут Нового Года. Думаю, что Вы будете встречать его один. Новый год — ведь это тоже смерть — Старого. У нас елка, большая тощая — трущобница. Останки прежних украшений. Наверху большая папина белая звезда. Я лежала в постеле (нарочно пишу на конце е, — от народного «постеля») — малярия, и чувствовала себя девочкой из старинной детской книжки: елка — болезнь — молодая мать.
После Вашего отъезда мы живем хорошей жизнью: мама пишет, я пишу. Пишем стихи и письма Асе. От времени до времени заходят чужие, — в том числе один комиссар, совсем деревенский и невинный. Вздыхает про кроликов и про Марину, курит и плохо пишет. Входит недавно совсем ночью, я думала — арестовывать. Оказалось только писать. Писал долго, мама помогала. Когда он уходил, я его спросила: «А Вы маму под ручку поведете?» — «Нет, барышня, я ее не поведу». Во всех нас была невинность: деревня — ребенок — поэт. — У деревенского дама, конечно, связана с ручкой — не то под ручку, не то — за ручку, не то — на ручках. А мама, раз грамотна, конечно — дама. Я думаю, такой никогда еще не арестовывал дам, а все мужчин, а с мужчинами дружески говорил и курил.
Помню, как Вы лежали на большом диване, в своей бархатной куртке и как, устав, заламывали руки. Марина каждый день радуется, что у нее столько перьев. Вспоминаю еще Вашу печеную картошку, которая горела. И тот рокот, которым Вы читали (громогласили) Роланда.
Сейчас утро. Печка топится. Марина пишет Асе письмо. Изредка оборачиваясь, вижу ее баранью веселую голову в таком же курчавом дыму папиросы. От времени до времени отрывается от писанья и отгрызает кусок хлеба.
Марина просит передать Вам, что конец Роланда — лучшие стихи о поле битвы и на поле битвы.
Кончаю. Что пожелать Вам на Новый Год, — Вас уже все есть — раз у Вас была любовь Марины.
Целую Вас, поклон Вашей жене.
(обратно)812
Иосиф Моисеевич Шиллингер (1895–1943) — композитор, педагог. В 1918–1922 гг. преподавал в Харьковской консерватории. Знакомый Е.Л. Ланна. С 1922 г. в эмиграции.
(обратно)813
Музыкальный отдел Наркомата просвещения.
(обратно)814
Камерный театр, основанный А.Я. Таировым (см. письмо 3-15 и коммент. 1 и 7 к нему). Музыкальной частью в то время заведовал Александр Карлович Метнер (1877–1961). Театр был закрыт в 1950 г.
(обратно)815
Вероятно, Николай Карлович Метнер (1879/80-1951) — композитор, пианист. Профессор Московской консерватории. С 1921 г. жил за границей.
(обратно)816
М.П. Кювилье.
(обратно)817
См. письмо к М.И. Кузнецовой (13–21).
(обратно)818
Цитата из «Четверостишия о конькобежце» французского поэта Пьера Шарля Руа (1683–1765). Эту же фразу Цветаева приводит в письме к Рильке от 6 июля 1926 г. (СС-7. стр. 67).
(обратно)819
Д.А. Магеровский. См. коммент. 1 к письму 19–20.
(обратно)820
Видимо, Анатолий Афанасьевич Арапов (1876 1949) — театральный художник. Его точно ветром носит… легковесен… — Ср. у Андрея Белого: «И всюду мелькал губастым таким арапчонком — немного смешной, загорелый художник Арапов…» (Между двух революций. М.: Худож. литература, 1990. стр. 211).
(обратно)821
См. коммент. 3 к письму 11–20 и письмо Цветаевой в редакцию журнала «Вестник Театра» (7-21).
(обратно)822
См. рассказ В.К. Звягинцевой о первой встрече Цветаевой с Бебутовым (Russian Literature. Holland. 1981. IX. стр. 324).
(обратно)823
Неточность. Книги с таким названием у А. Белого не было. Речь идет, видимо, о недавно вышедшей его книге «Кризис культуры» (Пг.: Алконост, 1920), завершающей трилогию «На перевале». Ранее выходили «Кризис жизни» (1918) и «Кризис мысли» (1919).
(обратно)824
«Седое утро» — сборник А. Блока вышел в издательстве «Алконост» в 1921 г
(обратно)825
Поэму «На Красном Коне», вдохновленную Е. Ланном, Цветаева тем не менее посвятила не ему, а Анне Ахматовой, возможно, по контрасту образов этих двух поэтов — Ахматовой и Ланна. Позднее, посылая Цветаевой свое стихотворение «Бонапарт», датированное 1 октября 1921 г., Ланн сделал к нему обиженную приписку: «Марине Цветаевой, снявшей посвящение».
(обратно)826
Большевик… — Коммунист Б.И. Бессарабов вдохновил Цветаеву на большую русскую поэму-сказку «Егорушка» (не завершена). Образ Егория Храброго, главного героя поэмы, несет в себе черты «прототипа»: простоватость, бесхитростность, доверчивость, стремление самому выискивать себе трудности, а также удалую богатырскую силушку (см. СС-3). Также см. письма Цветаевой к Б.И. Бессарабову.
(обратно)827
Героиня одноименной поэмы-сказки М. Цветаевой, написанной осенью 1920 г. (см. СС-3).
(обратно)828
Скрябина Татьяна Федоровна (урожд. Шлёцер; 1883–1922) — вдова А.Н. Скрябина (юридически их брак не был оформлен). Цветаева познакомилась с ней 2 июня 1920 г. (НЗК-2. стр. 1 97), и их дружба продолжалась до смерти Скрябиной в апреле 1922 г. Ей посвящено стихотворение Цветаевой «Бессонница! Друг мой!..» (1921; СС-1). О дружбе М. Цветаевой с Т.Ф. Скрябиной см. также письмо 14–22 к Б. Пастернаку.
(обратно)829
Сборник «Весенний салон поэтов» вышел в Москве в 1918 г. (издательство «Зерна»). Там были напечатаны стихи Цветаевой: «Настанет день — печальный, говорят!..», «Идешь, на меня похожий…», «Москве» («Когда рыжеволосый Самозванец…», «Жидкий звон, постный звон…», «Гришка-Вор тебя не ополячил…»). См. СС-1.
(обратно)830
Цветаева, не имея о муже никаких известий, жила мечтой о встрече с ним.
(обратно)831
Речь идет о письме С.Я. Эфрона от 24 сентября (7 октября) 1920 г.:
«Дорогие Пра и Макс, за все это время не получил ни одного письма от вас. Я нахожусь сейчас под Александровском — обучаю красноармейцев (пленных, конечно) пулеметному делу. Эта работа — отдых по сравнению с тем, что было до нее. После последнего нашего свидания я сразу попал в полосу очень тяжелых боев, о которых вы, конечно, знаете из газет. Часто кавалерия противника бывала у нас в тылу и нам приходилось очень туго. Но несмотря на громадные потери и трудности, свою задачу мы выполнили блестяще. Результаты наших трудов сейчас видны для всех. Все дело было в том, — у кого — у нас, или у противника — окажется больше „святого упорства“. „Святого упорства“ оказалось больше у нас, и теперь на наших глазах происходит быстрое разложение Красной армии. Правда у них еще остались целые армии, остались хорошие полки курсантов (красных юнкеров) и коммунистов, но все же общее положение изменилось резко в нашу пользу. За это лето мы разбили громадное количество полков, забрали в плен громадное количество пленных и массу всяких трофеев. При этом все наши победы мы одерживали при громадном превосходстве противника в количественном и техническом отношении.
Жители ненавидят коммунистов, а нас называют „своими“. Все время они оказывают нам большую помощь всем, чем могут. Недавно через Днепр они перевезли и передали нам одно орудие и восемь пулеметов. Вся правобережная Украина охвачена восстаниями. С нашего берега каждый вечер мы видим зарево от горящих деревень. Чем дальше мы продвигаемся, тем нас встречают лучше.
Следует отметить, что таково отношение к нам не только крестьян, но и рабочих. В Александровске рабочие при отступлении красных взорвали мост, а железнодорожники устраивали нарочно крушения.
Наша армия пока ведет себя в занятых ею местах очень хорошо. Грабежей нет. Вообще можно сказать, что если так будет идти дальше. — мы бесспорно победим. Единственное, что пугает меня, — это наступившие холода и отсутствие у нас обмундирования. Правда — действующие полки более или менее одеты, но на тех пленных, которые к нам поступают — страшно смотреть они совсем раздеты и разуты, часто даже в одном белье. Правда, говорят, будто французы обязались снабдить нас обмундированием до зимы. Но зима уже дает себя чувствовать (в Екатеринославе, напр<имер>, уже выпал снег), а пока французы кажется еще ничего не присылают.
Красная армия вся разбита и с первыми морозами ее остатки разбегутся. Дай Бог, чтобы к этому времени мы были одеты. Имеете ли вы что-нибудь из Москвы? Я узнал, что в Ялте живет Анна Ахматова. Макс, дорогой, найди способ с ней связаться: м<ожет> б<ыть> она знает что-либо об Марине».
А последнее его письмо из действующей армии, без даты, написано уже без прежнего оптимизма:
«Дорогие, письмо мое было написано неделю назад. За это время многое изменилось. Мы переправились на правый берег Днепра. Идут упорные кровопролитные бои. Очевидно, поляки заключили перемирие, ибо на нашем фронте появляются все новые и новые части. И все больше коммунисты, курсанты и красные добровольцы. Опять много убитых офицеров. Я жду со дня на день вызова в действующий полк, ибо убыль в офицерах там большая.
Макс, милый, если ты хочешь как-нибудь облегчить мою жизнь, — постарайся узнать что-либо об Марине. Я думаю, что в Крыму должны найтись люди, которые что-нибудь знают о ней. Хотя бы узнать, что она жива и дети живы. Неужели за это время никто не приезжал из Совдепии?
Очень хотелось бы попасть к вам хоть на день, но сейчас положение таково, что нельзя об этом и думать.
Целую Пра и тебя. Пиши те мне, ради Христа. Ваш Сергей».
(Цит. по: Купченко В. И красный вождь, и белый офицер… Звезда. 1991. № 10. стр. 155–156).
(обратно)832
Егорушка — см. коммент. к поэме (СС-3). Самозванец — на тему Смутного времени Цветаева в мае 1921 г. написала цикл из четырех стихотворений «Марина», посвященный Марине Мнишек. Жанна д'Арк — замысел остался неосуществленным.
(обратно)833
Обещанные ранее поэма «На Красном Коне» и книга А. Блока «Седое утро»
(обратно)834
Петухив — добрый дух жилища Цветаевой. По его имени комната называлась «петухивной». Петухив — в прошлом — лисье чучело.
«Шкурку чучела содрали, а может быть, и выменяли в голодный год на крупу. Остался диковинный зверь из соломы и ваты, — Цветаева не выбросила его. Диковинный зверь прижился. Пришел водопроводчик чинить водопровод в квартире, увидел ободранное чучело над камином, удивился:
„Это что за петухив вы развесили?“ — „петухов“ по-украински. Мне запомнился один „петухив“… Ободранное чучело в комнате с потолочным окном так и осталось для всех — и для самой Марины Ивановны — „петухивом“, а комната — „петухивной“»
(Воспоминания. стр. 113). (обратно)835
О внешнем сходстве Ланна с Паганини см. письмо 19–20.
(обратно)836
«Москва! Какой огромный…» — из цикла «Стихи о Москве» (1916; СС-1).
(обратно)837
Игумнов Константин Николаевич (1872–1948) — пианист, профессор Московской консерватории.
(обратно)838
Кривцова Александра Владимировна (1896–1958) — переводчица, жена Е.Л. Ланна.
(обратно)839
«Восторг перерос вселенную!» — Из книги А. Белого «Возврат. 3-я симфония» (М, 1905. стр. 195).
(обратно)840
См. коммент. 13 к письму 1-21.
(обратно)841
«Сборник автографов». — Автографы. М., 1921. В нем помешено стихотворение «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь…» (СС-1).
(обратно)842
В заметке без подписи «Театр РСФСР. (Первый)» сообщалось, что в ближайшем репертуаре театра, среди других постановок «Гамлет» по Шекспиру и «Златоглав» по Клоделю в переделке Вс. Мейерхольда. Вал. Бебутова и М. Цветаевой.
(обратно)843
Клодель Поль (1868–1955) — французский писатель, драматург. Речь идет о его ранней пьесе «Золотая голова» («Tête d'or»).
В 1919 г. Цветаева уже пробовала свои силы в переводе пьес. По заказу III студии МХТ она работала над переводом комедии французского поэта и драматурга Альфреда де Мюссе (1810–1857) «С любовью не шутят». Рукопись перевода не сохранилась.
(обратно)844
Письмо Цветаевой, открывающее полемическую полосу «Около переделок», продолжают другие участники конфликта.
ОТ РЕДАКЦИИРедакция «Вестника Театра» по поводу письма Марины Цветаевой обратилась за разъяснениями к В.Э. Мейерхольду и В.М. Бебутову. Ввиду того, что В.Э. Мейерхольд в настоящее время находится на излечении в одной из лечебниц под Москвой, ответы их на запрос редакции печатаются нами в несколько необычной форме переписки между ними. Редакция считает, что эта переписка имеет интерес в связи с острым вопросом о переделках.
С своей стороны, редакция никогда не возлагала больших надежд в этом отношении на М. Цветаеву, очевидно, впитавшую общеизвестные традиции, симпатии и уклоны Всероссийского союза писателей
В ответ на вопрос редакции по поводу письма М. Цветаевой мною послано В. Бебутову следующее письмо:
Дорогой товарищ!
Редактор «Вестника Театра» запрашивает меня и вас, не находим ли мы нужным снабдить какими-нибудь комментариями письмо Марины Цветаевой. Какие комментарии? Я счастлив, что сообщение «В.Т.» о том, что Марина Цветаева принимает участие в работе над «Гамлетом» вместе с нами, оказалось ошибкой хроникера. Читая это сообщение, я думал, что вы привлекли эту поэтессу для совместной с вами обработки тех частей, которые вы взяли на себя. Я готовился предостеречь вас, что не следует иметь дело с Мариной Цветаевой не только в работах над «Гамлетом», но и над «Златоглавом». А почему, не трудно догадаться.
Вы знаете, как отшатнулся я от этой поэтессы после того, как имел несчастье сообщить ей замысел нашего «Григория и Дмитрия»*. Вы помните, какие вопросы задавала нам Марина Цветаева, выдававшие в ней природу, враждебную всему тому, что освящено идеей Великого Октября.
Вс. Мейерхольд.Мною послан В. Мейерхольду следующий ответ на его письмо ко мне по поводу письма М. Цветаевой:
Дорогой товарищ!
Ваше письмо получил. Спешу ответить. Прежде всего выражаю недоумение по поводу той части письма Марины Цветаевой, которая касается «Златоглава».
Как? Прошло уже три месяца с тех пор, как эта поэма была сдана мною М. Цветаевой для перевода, и до сих пор она, «не будучи знакома с пьесой, не могла дать положительного ответа»?!
Далее о «Гамлете». Вы ведь помните наш первоначальный план композиции этой трагедии. Всю прозаическую сторону, как и весь сценарий, мы с вами приняли на себя, диалог клоунов (могильщиков), ведомый в плане обозрения, был поручен Вл. Маяковскому и, наконец, стихотворную часть я, с вашего ведома, предложил Марине Цветаевой, как своего рода спецу.
Теперь, получив от нее отказ с оттенком отгораживания от «переделок» вообще, я пользуюсь случаем, чтобы в печати указать М. Цветаевой на неосновательность ее опасений. Одно из лучших ее лирических стихотворений «Я берег покидал туманный Альбиона» начинается с приводимой здесь строчки Батюшкова и являет в этом смысле лучший образец переделки.
О допустимости переделок вообще лучше не говорить. Даже такая плохая переделка, как канонизированная «общественным мнением» переделка «Турандот» Шиллером по Гоцци (!) мало кого возмущала. Не в переделках «вообще» тут дело…
Что же касается до того, что вы уловили в натуре этого поэта, то должен сказать, что это единственно и мешает ей из барда теплиц вырасти в народного поэта.
Вал. Бебутов.
Этим эпизодом ограничивается несостоявшееся сотрудничество Цветаевой с Мейерхольдом. Больше они друг о друге никогда не писали.
__________
* Замысел В.Э Мейерхольда по переделке совместно с В.М. Бебутовым и C.A. Есениным «Бориса Годунова» осуществлен не был.
(обратно)845
Герой повести американской писательницы Ф. Бёрнетт «История маленького лорда Фаунтлероя» (1886, рус. пер. 1889).
(обратно)846
Герой романа Ч. Диккенса «Домой и сын» (1848).
(обратно)847
Глеб — старший брат С.Я. Эфрона, умерший в семилетнем возрасте.
(обратно)848
Б.С. Трухачев.
(обратно)849
A.C. Говоров или С.И. Гольцев.
(обратно)850
«Книжная лавка писателей» просуществовала в Москве с осени 1918 г. по осень 1922 г. О ее деятельности см. заметку М. Осоргина в журнале «Новая русская книга» (Берлин. 1923. № 3/4 стр. 38–40).
(обратно)851
Рассказ об одном из наиболее известных скандалов в истории русского театра начала века, ставшем причиной отставки Волконского с поста директора Императорских театров, который он занимал в 1899–1901 гг. См. главу «Фижмы» в его книге «Родина» «Моих воспоминаний» (Берлин, 1923).
(обратно)852
Наиболее полная справка об издательском начинании, которое здесь описывается, содержится в объявлении, помещенном 16 июня 1921 г. в журнале «Воля России» (№ 230. стр. 5):
«В Риге организовалось издательское т-во „Книгоиздательство Русских Писателей“, поставивших себе целью издание произведений, прежде не появлявшихся в печати, так называемой московской группы русских писателей, в первую очередь Андрея Белого, Федора Сологуба, Ник. Бердяева, Ю. Айхенвальда, Бор. Зайцева, Г. Чулкова, П. Муратова, Ив. Новикова, Марины Цветаевой, Мих. Осоргина, Н. Ашукина и др.
<…> Издательство сообщает, что в печати находится и непосредственно выйдет в свет альманах московских писателей „Московские раздумья“ с частью романа Андрея Белого „Эпопеи“, о котором в московских литературных кругах говорят как об одном из крупнейших явлений новой русской литературы, рассказами Зайцева, Муратова, Новикова и Осоргина и стихотворениями Чулкова, Цветаевой, Эренбурга, Белого, Сухотина и Ашукина».
К моменту появления этой заметки в названном издательстве уже вышла книга М. Осоргина «Из маленького домика», которая, однако, так и осталась, насколько удалось установить, единственной книгой, выпущенной этим издательством.
(обратно)853
К этому времени в Крыму прошли аресты интеллигенции, коснувшиеся Софьи Парнок и Аделаиды Герцык, которые находились в Судаке.
(обратно)854
Борис Константинович Зайцев (1881–1972) — писатель.
(обратно)855
Лев Борисович Каменев (наст. фам. Розенфельд; 1883–1936) — партийный и государственный деятель; в 1918–1926 гг. — председатель Моссовета.
(обратно)856
А.К. Герцык.
(обратно)857
А.И. Цветаева.
(обратно)858
Цветаева имеет в виду автобиографическую повесть Андрея Белого «Котик Летаев» (1922).
(обратно)859
К.Д. Бальмонт в конце июня 1920 г. уехал в Париж.
(обратно)860
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — философ. Осоргин Михаил Андреевич (наст. фам. Ильин; 1878–1942) — писатель, критик. Грифцов Борис Александрович (1885–1950) — литературовед, искусствовед, переводчик. Дживелегов Алексей Карпович (1875–1952) — театральный критик, искусствовед.
«В 1918 году <…> возникла в Москве эта первая и единственная в своем роде Лавка писателей — книготорговое предприятие на паях, которое по замыслу его организаторов Б. Грифцова, А. Дживелегова, П. Муратова, М. Осоргина, В. Ходасевича, Б. Зайцева, Н. Бердяева и других должно было со временем преобразоваться в кооперативное издательство. В начале 1921 г. Лавка размещалась на Большой Никитской»
(Эфрон А. стр. 102)Там же описано посещение этой Лавки М. Цветаевой (стр. 99-105).
(обратно)861
Вяч. И. Иванов в 1920 г. уехал в Баку.
(обратно)862
Федор Сологуб (наст. фам. и имя Федор Кузьмич Тетерников, 1863–1927) — поэт и писатель.
(обратно)863
Адалис Аделина Ефимовна (при рождении Висковатова, Ефрон по приемному отцу; 1900–1969) — поэтесса, писательница, переводчик. Ученица В.Я. Брюсова, была в близких отношениях с ним.
(обратно)864
Вера Алексеевна Зайцева (урожд. Орешникова; 1878–1965) — жена Б.К. Зайцева. Зайцевы много помогали Цветаевой в 20-е годы.
(обратно)865
Серейский Марк Яковлевич (1885–1957) — врач-психиатр.
(обратно)866
Бялик Хаим Нахман (1873–1934) — еврейский поэт. В 1920 г. эмигрировал из России.
(обратно)867
«Габима» — московский театр-студия (1918–1926), ставивший пьесы на древнееврейском языке. Крупнейшим спектаклем стал в 1922 г. «Гадибук» Анского (перевод и переработка Бялика, художник Н. Альтман, постановка Евг. Вахтангова).
(обратно)868
Ф.А. Степун в своих воспоминаниях писал:
«Осенью 1921 года мы шли с Цветаевой вниз по Тверскому бульвару. На ней было легкое затрепанное платье, в котором она, вероятно, и спала. Мужественно шагая по песку босыми ногами, она просто и точно рассказывала об ужасе нищей, неустроенной жизни <…> Мне было страшно слушать ее, но ей не было страшно рассказывать: она верила, что в Москве царствует не только Ленин в Кремле, но и Пушкин у Страстного монастыря. „О, с Пушкиным ничего не страшно“. Идя со мною к Никитским воротам, она благодарно чувствовала за собою его печально опущенные, благословляющие взоры»
(Воспоминания. стр. 80–81). (обратно)869
С.М. Волконский, приехавший в Москву в 1918 г., написал объемистые воспоминания (три части: «Лавры», «Странствия», «Родина») — в форме эссе, отдельных размышлений, — жанр, который любила Цветаева. Она помогала Волконскому переписывать его мемуары. См. также о нем в письмах к Л.Е. Чириковой.
(обратно)870
Евгения Казимировна Герцык (1878–1944) — переводчица и критик, сестра А.К. Герцык.
(обратно)871
Константин Михайлович Эфрон, сын В.Я. Эфрон и М.С. Фельдштейна, родился 12 мая 1921 г.
(обратно)872
Э.А. Фельдштейн с дочерьми Татьяной и Еленой временно жила за границей у родных.
(обратно)873
Вероятно, книгу М. Волошина «О Репине», вышедшую в домашнем издательстве С. Эфрона и М. Цветаевой «Оле-Лукойе» в 1913 г
(обратно)874
О смерти Б.C. Трухачева см. письмо 20–20 к А.И. Цветаевой и коммент. 3 к нему.
(обратно)875
Ирину Трухачеву.
(обратно)876
См. коммент. 13 к предыдущему письму. В письме описка: «Ц-ского».
(обратно)877
Жюли де Леспинас (1732–1776) — хозяйка парижского салона, где собирались энциклопедисты, подруга д'Аламбера. Среди писем Леспинас к разным адресатам, выходивших несколькими изданиями в течение ХIХ в., особое место принадлежит ее любовным письмам к графу де Гиберу, которые, несомненно, и имеет в виду Цветаева. Эти письма были впервые изданы в 1809 г. («Letters de Mlle de Lesspinasse écrites depuis l'année 1773 jusqu'а́ l'année 1776»), a в существенно пополненном виде, какими знала их Цветаева — в 1906 г. («Correspondanse entre Mlle de Lespinasse et Cônte de Guibert»).
(обратно)878
Эмиль Жак Далькроз (1865–1950) — швейцарский композитор, автор системы так называемого ритмического восприятия, пропагандистом которой в России был Волконский.
(обратно)879
Речь идет о книгах С.М. Волконского «Разговоры» (СПб., 1912) и «Художественные отклики» (СПб., 1912). Первая из них представляет собой диалоги автора с воображаемым собеседником об искажениях русской речи, о смысле музыки, об интеллигенции и т.д. Цветаева останавливается на второй книге, «Откликах» (См. письмо и коммент. ниже).
(обратно)880
Цветаева описывает впечатление от главы «О балете» раздела «Пластика» книги «Художественные отклики» (стр. 191–213); далее — цитаты из этой главы.
(обратно)881
«Существо» — первая глава раздела «Музыка» книги «Художественные отклики».
(обратно)882
«Материал» — вторая глава раздела «Музыка» книги «Художественные отклики».
(обратно)883
Персонажи сказки Х.К. Андерсена «Снежная Королева».
(обратно)884
8 Псалтирь 150:6.
(обратно)885
Речь идет о Б.А. Бессарабове, послужившем прототипом героя поэмы «Егорушка».
(обратно)886
Т.е. въезду Белой армии в Москву.
(обратно)887
Т.Ф. Скрябина.
(обратно)888
Мать Т.Ф. Скрябиной — Мария Александровна Шлёцер (урожд. Боти; 1847–1937), по происхождению бельгийка.
(обратно)889
Начальная строка первого стихотворения цикла «Ученик» (1921), обращенного к С.М. Волконскому.
(обратно)890
См. коммент. 1.
(обратно)891
Место, где отбывал каторгу в 1827–1830 гг. С.Г. Волконский
(обратно)892
Ахматова А. Подорожник. Стихотворения (Пг.: Петрополис, 1921). В архиве Цветаевой хранится экземпляр с дарственной надписью: «Марине Цветаевой в надежде на встречу с любовью. Ахматова. 1921» (РГАЛИ). Там же находятся еще две книги Ахматовой, надписанные ею для Цветаевой: «У самого моря» и «Anno Domini» (Поэт и время. стр. 100).
(обратно)893
В письме к Ахматовой от 17/30 марта 1921 г. Аля Эфрон писала:
«Читаю Ваши стихи „Четки“ и — „Белую Стаю“. Моя любимая вещь, тот длинный стих о царевиче <поэма „У самого моря“. — Peд.>. Это так же прекрасно, как Андерсеновская русалочка, так же запоминается и ранит — навек. И этот крик: Белая птица — больно! Помните, как маленькая русалочка танцевала на ножах? Есть что-то, хотя и другое.
Эта белая птица — во всех Ваших стихах, над всеми Вашими стихами. И я знаю, какие у нее глаза. Ваши стихи такие короткие, а из каждого могла бы выйти целая огромная книга. Ваши книги — сверху — совсем черные, у нас всю зиму копоть и дым. Над моей кроватью большой белый купол: Марина вытирала стену, пока руки хватило, и нечаянно получился купол. В куполе два календаря и четыре иконы. На одном календаре — Старый и Новый год встретились на секунду, уже разлучаются. У Старого тощее и благородное тело, на котором жалобно болтается такой же тощий и благородный халат. Новый — невинен и глуп, воюет с нянькой, сам в маске. За окном новогоднее мракобесие. На календаре — все православные и царские праздники. Одна иконочка у меня старинная, глаза Богородицы похожи на Ваши.
Мы с Мариной живем в трущобе. Потолочное окно, камин, над которым висит ободранная лиса, и по всем угла трубы (куски). — Все, кто приходит, ужасаются, а нам весело. Принц не может прийти в хорошую квартиру в новом доме, а в трущобу — может.
Но Ваши книги черные только сверху, когда-нибудь переплетем. И никогда не расстанемся. Белую Стаю Марина в одном доме украла и целые три дня ходила счастливая. Марина все время пишет, я тоже пишу, но меньше. Пишу дневник и стихи. К нам почти-то никто не приходит.
Из Марининых стихов к Вам знаю, что у Вас есть сын Лев. Люблю это имя за доброту и торжественность. Я знаю, что он рыжий. Сколько ему лет? Мне теперь восемь. Я нигде не учусь, потому что везде без и часотка.
Вознесение
И встал и вознесся, И ангелы пели, И нищие пели. А голуби вслед за тобою летели. А старая матерь, Раскрывши ладони: — Давно ли свой первый Шажочек ступнул!Это один из моих последних стихов. Пришлите нам письмо, лицо и стихи. Кланяюсь Вам и Льву.
Ваша Аля.
Деревянная иконка от меня, а маленькая, веселая — от Марины.
<Приписка М.И. Цветаевой:>
Аля каждый вечер молится: — „Пошли, Господи, царствия небесного Андерсену и Пушкину, — и царствия земного — Анне Ахматовой.“»
(Эфрон А. стр. 238, 240).По-видимому, было и письмо, написанное Цветаевой тогда же, когда и письмо дочери, и близкое к нему по содержанию. Это видно из ответа Ахматовой:
Дорогая Марина Ивановна,
Благодарю Вас за добрую память обо мне и за иконки. Ваше письмо застало меня в минуту величайшей усталости, так что мне трудно собраться с мыслями, чтобы подробно ответить Вам. Скажу только, что за эти годы я потеряла всех родных, а Лёвушка после моего развода остался в семье своего отца.
Книга моих последних стихов выходит на днях, я пришлю ее Вам и Вашей чудесной Але. О земных же моих делах, не знаю, право, что и сказать. Вероятно, мне «плохо», но я совсем не вижу, отчего бы мне могло быть «хорошо».
То, что вы пишете о себе, и страшно и весело.
Желаю вам и дальше дружбы с Музой и бодрости духа, и, хотите, будем надеяться, что мы все-таки когда-нибудь встретимся.
Целую Вас.
Ваша Ахматова. (Поэт и время. стр. 99.) (обратно)894
Издательство, организованное в 1918 г. в Петрограде, в котором М. Цветаева намеревалась издать свою поэму «На Красном Коне». Рукопись этой поэмы, присланная Ахматовой, хранится в архиве П.Н. Лукницкого.
(обратно)895
Такая книжка не была издана. Свой замысел Цветаева реализовала лишь в виде рукописной книжечки «Современникам». (См.: Богомолов H.A., Шумилин С.В. Книжная лавка писателей и автографические издания 1919–1922 годов. Ново-Басманная, 19. М.: Худож. литература. 1990. стр. 127).
(обратно)896
Из стихотворения А. Ахматовой «По твердому гребню сугроба…» (1917).
(обратно)897
Строки из стихотворения А. Ахматовой «Ты — отступник: за остров зеленый…» (1917):
Для чего ты, лихой ярославец, Коль еще не лишился ума, Загляделся на рыжих красавиц И на пышные эти дома? (обратно)898
Ахматова из Петрограда откликнулась коротеньким письмом:
Дорогая Марина Ивановна,
меня давно так не печалила аграфия, которой я страдаю уже много лет, как сегодня, когда мне хочется поговорить с вами. Я не пишу никогда и никому, но Ваше доброе отношение мне бесконечно дорого. Спасибо Вам за него и за посвящение поэмы. До 1 июля я в Петербурге. Мечтаю прочитать Ваши новые стихи. Целую Вас и Алю.
Ваша Ахматова. (Поэт и время. стр. 99) (обратно)899
В очерке «Нездешний вечер» Цветаева пишет о сыновьях И.(А) С. Каннегисера — Сергее и Леониде: «Леня — поэт, Сережа — путешественник, и дружу я с Сережей… Леня для меня слишком хрупок, нежен… цветок». В 1918 г. Л. Каннегисер был расстрелян за убийство Урицкого.
«После Лёни осталась книжечка стихов — таких простых, что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности — поверила»
(СС-4. стр. 283, 285).Сергей покончил с собой в 1917 г.
(обратно)900
В НЗК-1 (стр. 212) Цветаева записала свои впечатления о Леониде Каннегисера:
«Изнеженный женственный 19-летний юноша-эстет, поэт, пушкинианец, томные позы, миндалевидные глаза <над строкой>: ногти.
(Таким Вы были в январе 1916 г. (мой первый приезд в Петербург!))».
(обратно)901
Одним из предков М. Кузмина (по матери) был французский актер времен Екатерины II Жан Офрень.
(обратно)902
Речь идет о С.Я. Парнок.
(обратно)903
…что-то о зеркалах… — Возможно, Цветаева вспоминает стихотворение Кузмина из цикла «Песеньки» (1912): «Сердце — зеркально, / Не правда ль, скажи? / Идем беспечально / До сладкой межи, / Мы сядем вдвоем, / Сердце к сердцу прижмем, / Зеркало верно, / Не правда ль, скажи?..» и т.д. (Кузмин М. Стихотворения. СПб.: Академический проект, 1996. стр. 275–276, курсив наш). Можно привести еще строфу с «зеркалами» из стихотворения Кузмина «По струнам лунного тумана…»: «Душа моя полна тревоги / И рвется пополам. / Ревную к камням по дороге / И к зеркалам…» (1909) (Там же. стр. 280, курсив наш).
(обратно)904
Неточно цитируемые строки из стихотворения М. Кузмина «Среди ночных и долгих бдений…». (1915) из сборника «Вожатый». СПб., 1918.
(обратно)905
Ср. стихотворение М. Цветаевой «Два зарева! — нет, зеркала! / Нет, два недуга! / Два серафических жерла, / Два черных круга…» и т.д.). написанное 2 июля 1921 г. и обращенное к Кузмину (СС-2).
(обратно)906
Л.В. Эрарская, новая подруга С.Я. Парнок.
(обратно)907
«В Лавку она приходила редко, в основном тощего приработка ради, — с книгами на продажу или с автографами на комиссию…»
— вспоминала дочь поэта (Эфрон А. стр. 103).
(обратно)908
Нездешние вечера. Стихи, 1914–1920 (Пг: Петрополис, 1921).
(обратно)909
Имеется в виду кантата М. Кузмина «Св. Георгий», перекликающаяся со стихотворениями М. Цветаевой цикла «Георгий».
(обратно)910
Пушкин, Гёте — стихотворения М. Кузмина из цикла «Дни и лица».
(обратно)911
В 1921 г. Цветаева с дочерью жила в доме № 6 в Борисоглебском переулке.
(обратно)912
О ком идет речь, неизвестно.
(обратно)913
Волконский позднее вспоминал:
«А помните наши вечера… Вы читали мне стихи из Ваших будущих сборников. Вы переписывали мои „Странствия“ и „Лавры“»
(Воспоминания. стр. 107).См. также коммент. 17 к письму 11–21.
(обратно)914
…Наталья Гончарова, напр<имер>, Пушкина — собой. Как Лиля Брик — Маяковского. Собой, т.е. пустотой (красотой))… — Имеются в виду Наталья Николаевна Гончарова (1812–1863, во втором браке Ланская), жена A.C. Пушкина, и Лиля Юрьевна Брик (1891–1978), возлюбленная В.В. Маяковского. В очерке «Наталья Гончарова» (1929), посвященном внучатой племяннице H.H. Пушкиной, художнице Н.С. Гончаровой, Цветаева писала об этом типе женщин:
«Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего бы не было в тысячах таких, как она, — которые не насчитываются тысячами. Было в ней одно: красавица. Только — красавица, просто — красавица, без корректива ума, души сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И — сразила»
(СС-4. стр. 84).После письма незаконченная запись: «Письма к С.М.В., это — к Чаброву и т.д. и т.д. — чувство, что в…<фраза не окончена>»
(обратно)915
Б.С. Трухачев. См. коммент. 3 к письму 20–20.
(обратно)916
A.C. Эфрон гостила по приглашению Б.К. Зайцева в доме его родителей Константина Николаевича (1849–1919) и Татьяны Васильевны (урожд. Рыбалкина; 1844–1927) Зайцевых в Притыкине Каширского уезда Тульской губернии.
(обратно)917
Имеются в виду стихи, которые Цветаева объединила в цикл под названием «Разлука» и издала отдельной книжкой в 1922 г. Они обращены к мужу.
(обратно)918
См. коммент. 17 к письму 11–21.
(обратно)919
Из стихотворения Гёте «Trost in Tränen» («Утешение в слезах»).
(обратно)920
А. Цветаева приехала из Крыма в Москву весной 1921 г.
(обратно)921
Речь идет о первой книге «Современных записок», вышедшей в декабре 1920 г. в Париже. Там были напечатаны стихотворения М. Цветаевой: «Пожирающий огонь — мой конь!..», «Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!..», «Есть колосья тучные, есть колосья тощие…», «Благословляю ежедневный труд…». (См. СС-1).
(обратно)922
См. коммент. 5 к письму 4-21.
(обратно)923
См. примеч. 2 к письму 20–21 к Е.Л. Ланну.
(обратно)924
С.М. Волконский.
(обратно)925
А.Б. Трухачев.
(обратно)926
Видимо, Б.А. Бессарабов.
(обратно)927
А.И. Цветаева.
(обратно)928
Лицо неустановленное.
(обратно)929
В.А.Зайцева.
(обратно)930
Наталья Борисовна Зайцева (в замуж. Соллогуб; 1912–2008) — дочь В.А. и Б.К. Зайцевых.
(обратно)931
Б.К. Зайцев
(обратно)932
В письме, датированном тем же днем, дочь Цветаевой писала Е.О. Волошиной:
«Да! Получили от Льва письмо. Где — не пишет. Напишите, пожалуйста, воспоминания подробней. Это наше с Мариной насущное. Читаю Отечественную Историю: бедствия и потом восстановление высью небесной выси земной.
Марина живет как птица: мало времени петь и много поет. Она совсем не занята ни выступлениями, ни печатанием, только писанием. Ей все равно, знают ее или нет. Мы с ней кочевали по всему дому. Сначала в папиной комнате, в кухне, в своей. Марина с грустью говорит: „Кочевники дома“. Теперь изнутри запираемся на замок от кошек, собак, людей. Наверное, наш дом будут рушить, и мы подыскали себе квартиру. На углу глухого церковного переулка стоит бывший особняк: желтый, рухнувший, с большими выразительными дырами вместо окон. Вместо пола железные длинные жерди, а внизу пустота. Одним словом — бывшее, рухнувшее, погребающее. Недавно нашла Вашего щелкуна, Вами выкрашенного, с ружьем, в остроконечной шапке. Мои любимые книги: сказки Андерсена и самый, самый первый мир: каменный век с идолами и топорами.
Приехала Ася, пишет, служит, шьет кукол. Мечтаю о уезде, жаре и ботанических садах. Хороши ли у Вас в Крыму вечерние времена: закатные и сумеречные? У нас в закатах Воинства и Львы, в сумерках — чуткий сон пересиленных часовых»
(Эфрон А. стр. 240–241). (обратно)933
Э.Л. Миндлин и Б.А. Бессарабов.
(обратно)934
Речь идет о Э.Л. Миндлине.
«Я с самого детства пристрастился слушать огонь в печи и чуть ли не в печь окунался лицом. Марина Ивановна подшучивала надо мной, называла „огнепоклонником“»
(Воспоминания. стр. 117). (обратно)935
Ср. мемуарное свидетельство Л.К. Чуковской:
«<…> я рассказала ей <Ахматовой>, как видела ее впервые на вечере памяти Блока в лазурной шали.
— Это мне Марина подарила, — сказала Анна Андреевна. — И шкатулку.»
(Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Кн. 1. 1938–1941. М.: Книга, 1989. стр. 19). (обратно)936
Письмо написано в связи со слухами о самоубийстве А. Ахматовой, дошедшими до Москвы, после расстрела Н.С. Гумилева. 30 августа (ст. ст.) на слухи о смерти Ахматовой Цветаева откликнулась стихотворением «Соревнования короста / В нас не осилила родства…» (СС-2).
(обратно)937
Кафе было организовано В.В. Каменским и В.Р. Гольдшмидтом осенью 1917 г. в помещении бывшей прачечной в Настасьинском переулке (угол Тверской улицы).
(обратно)938
Первое письмо от мужа после более чем двух лет неизвестности Цветаева получила 14 июля 1921 г.
(обратно)939
Перефразированные строки стихотворения И. Северянина «Это было у моря…» (1910).
(обратно)940
Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893–1942) — поэт-имажинист.
(обратно)941
Бобров Сергей Павлович (1889–1971) — поэт, критик, переводчик, теоретик-поэзии (занимался преимущественно стиховедением).
Аксенов Иван Александрович (1884–1935) — поэт, переводчик, критик. В 1920-х гг. — председатель Всероссийского Союза Поэтов. Был шафером на свадьбе Н. Гумилева и А. Ахматовой (25 апреля 1910 г.).
Арго (наст. фам. и имя Гольденберг Абрам Маркович; 1897–1968) — поэт-сатирик и переводчик.
Грузинов Иван Васильевич (18931942) — поэт-имажинист.
(обратно)942
Строка из стихотворения А. Ахматовой «Молитва» (1915).
(обратно)943
О каком докладе идет речь, установить не удалось.
(обратно)944
Отец Е.О. Волошиной с 1859 по 1861 г. служил в Калуге, где жил на поселении Шамиль.
«Елена Оттобальдовна Волошина. В детстве любимица Шамиля, доживавшего в Калуге последние дни <…> Напоминает ему его младшего любимого сына, насильную чужую Калугу превращает в родной Кавказ. Младенчество на коленях побежденного Шамиля…»
(Живое о живом; СС-4). (обратно)945
17/30 августа 1921 г. Аля Эфрон писала Е.О. Волошиной:
«Сейчас у нас гостит молодой Фавн (не по веселости, а по чуткости), ничего не понимающий в жизни… Наш гость — странный: ничего не ест, никогда не сердится. Это молодой поэт Э.Л. Миндлин. У него есть фотография Макса: полулежит на диване в рубашке». И из другого ее письма, написанного в день отъезда Миндлина в Крым, 6/19 сентября: «…это письмо Вам передаст Э.Л. Миндлин. Он был нам хорошим другом, помогал во всем. Это было особенно трогательно, потому что он сам совершенно беспомощен и такой же медленный, как я. Завидую ему: он увидит Вас и море»
(Эфрон А. стр. 241, 244). (обратно)946
Подробно об этом см. в воспоминаниях Э. Миндлина (1900–1981) в его книге «Необыкновенные собеседники» (М.: Сов. писатель, 1979. стр. 49–85). См. также: Воспоминания. стр. 110–135.
(обратно)947
Эренбург Изабелла Григорьевна (1885–1965) — сестра Эренбурга.
(обратно)948
Юра Коган, сын другой старшей сестры Эренбурга, Евгении Григорьевны (1884–1965) (Звезда. стр. 18).
(обратно)949
Речь идет об отъезде Цветаевой с дочерью Ариадной за границу.
(обратно)950
Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873–1944) — литовский поэт. Писал на русском и литовском языках. С 1921 по 1939 г. был послом Литвы в СССР. Помогал Цветаевой в оформлении визы.
(обратно)951
В Берлин нужно было ехать через Ригу.
(обратно)952
Стихотворение принадлежит самой Цветаевой. Впервые было опубликовано в общей подборке из пятнадцати четверостиший в берлинской газете «Дни» (1924. 14 дек.). См. СС-1.
(обратно)953
Б.А. Бессарабов.
(обратно)954
Вероятно, стихотворение И. Эренбурга «О горе, горе, убежавшим с каторги!..» из цикла «Зарубежные раздумья» (1921).
(обратно)955
Имеется в виду книга И. Эренбурга «Лик войны» (София, 1920), в которую вошли его военные корреспонденции 1915–1917 гг., подготовленные для газет «Утро России» (Москва) и «Биржевые ведомости» (Петроград). Эти корреспонденции явились началом его журналистской деятельности.
(обратно)956
То есть за сведения о С.Я. Эфроне и за то, что М. Волошин укрывал его в своем доме от красных во время Гражданской войны.
(обратно)957
10 декабря 1921 г. М. Волошин писал матери из Феодосии:
«Я писал Марине отчаянное письмо о положении Герцык, прося привести в Москве всё в движение. Они подняли там целую бурю» (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. стр. 183).
Речь в письме Волошина шла о голоде в Крыму и о бедственном положении семьи Герцык.
(обратно)958
Имеется в виду знаменитая итальянская певица (колоратурное сопрано) Аделина Патти (1843–1919).
(обратно)959
«Калики перехожие» (1914) — пьеса В.М. Волькенштейна.
(обратно)960
С.Я. Парнок находилась в то время в Судаке.
(обратно)961
Деньги дошли. В цитированном выше письме Волошина матери читаем:
«На этой неделе я получил для Герцык 2½ миллиона. <…> А 100 тысяч Марина и Ася посылают от себя тебе и мне» (Там же. стр. 183).
Встречу Цветаевой с Луначарским упоминает в своем коротеньком письме к Волошину маленькая Аля:
Москва, 7-го р<усского> ноября 1921 г.
Мой дорогой Макс!
Я очень жалею о Вашей болезни, я Вас всегда помню таким веселым, гривастым Миродержцем. О Вас нужно молиться Зевсу, — да? (Молюсь сразу всем богам — кроме самых новых! Им буду молиться потом.) Спасибо за Георгия — Сережу: взгляд как у М<арины> в стихах, вслед копью. А под копьем его собственная цветущая молодость. Первый мой взгляд, когда просыпаюсь, всегда ввысь: на С<ережу>. Скрещаемся.
Марина Вас так любит, что даже без голосу говорила с Л<уначар>ским — и всё сказала. Всё обещал.
Целую Вас с благодарностью. Портрет С<ережи> наша самая драгоценность.
Ваша Аля(Эфрон А. стр. 245).
(обратно)962
«Летучая мышь» — московский театр-кабаре Никиты Федоровича Балиева (1877–1936). Основан в 1913 г.
(обратно)963
М.П. Кювилье.
(обратно)964
Эренбургу, весной 1921 г. ездившему за границу, удалось узнать о местопребывании С.Я. Эфрона и сообщить об нем М. Цветаевой (Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. Т. 1. М.: Сов. писатель, 1990. стр. 240).
(обратно)965
На этой улице М. Цветаева жила во время своего первого посещения Парижа в 1909 г.
(обратно)966
Сохранилась рукопись поэмы «На Красном коне» с дарственной надписью Цветаевой А.К. Герцык (архив М. Цветаевой в РГАЛИ, ф. 1190).
(обратно)967
«Версты. Стихи» вышли после отъезда Цветаевой, летом 1922 г. в Госиздате; последняя картина пьесы Цветаевой «Феникс» была издана под названием «Конец Казановы» (М.: Созвездие, 1922).
(обратно)968
Письмо Е.О. Волошиной на следующий день написала Аля Эфрон:
Москва, 8-го р<усского> ноября 1921 г.
Моя дорогая Пра!
От Вас так давно нет писем. За Вас я молюсь богу храбрых, не знаю, есть ли такой. (Не бог войны!) Мы с М<ариной> читаем мифологию, мой любимец — Фаэтон, хотевший править отцовской колесницей и зажегший моря и реки! А Орфей похож на Блока: жалобный, камни трогающий.
Мне очень грустно, когда я думаю о Вашем ревущем море, нужно, чтобы что-нибудь его заглушало, а то так одиноко. Скоро, когда наберем денег, снимемся с Андрюшей и пришлем Вам фотографию.
Я его выше на полголовы, потому что Ваша крестница! Никто в Москве точно не знает, что существует Крым, и когда М<арина> с Асей начали поднимать эту бурю, то все знакомые книгоиздательства откликнулись. Нежно целую Вас, моя чудная Пра!
Ваша Аля(Эфрон A. стр. 245).
(обратно)969
Датируется условно по содержанию записей в тетради (HCT. стр. 65–68).
(обратно)970
О встрече с H.A. Нолле-Коган Цветаева сделала запись в тетради (HCT. стр. 67–70):
Встреча с H.A.K. — моей — из стихов к Блоку — Подругой.
Без стука — головка, потом всё тело. Все тело — дымок.
Здесь живет М<арина> И<вановна> Ц<ветаева>.
(В дыму печки и махорки не разглядеть не только меня, но слона.)
До здорованья, до руки, так напрямик, что как бы пройдя сквозь стол, стоящий посреди комнаты и дороги, не останавливаемая ничем как взгляд:
— На этом портрете Александр Александрович не похож.
— На этом портрете Блок похож.
— Нет.
— Да.
Для пояснения: первое и единственное, что разглядела из двери: последнюю карточку Блока, в тетрадочный лист, просто приколотую кнопкой над обломком дивана, на котором сплю.
Впечатление тени, пригнанной Ревностью лютейшей из всех: посмертной.
Здорованье: в руке — ничего.
_____Долго, сопротивляясь взлому, не говорю, что Блока — лично — не знала. Весь разговор из: (она) — Александр Александрович (я:) — Блок. Чувствую, что я неизмеримо богаче — и ближе. (Как много позже, в данном 1932 г. в разговоре с пушкинской внучкой*: — до улыбки.)
Наконец, через какой-то срок, щадя как всегда — недоступную мне слабость, слабость, которой, со всей своей силой, в жизни — затерта ибо такие с Блоком, а не я — через <пропуск одного слова> пять минут моего уединененного торжества — сдаюсь.
— Я ведь Блока, лично не знала…
_____Ее рассказ о том как Блок читал мои стихи.
— После каждого выступления он получал, тут же на вечере, груды писем — женских, конечно. И я всегда их ему читала, сама вскрывала, и он не сопротивлялся. (Я ведь очень ревнивая! всех к нему ревновала!) Только смотрел с улыбкой. Так было и в этот вечер. — «Ну, с какого же начнем?» Он: Возьмем любое. И подает мне — как раз Ваше — в простом синем конверте. Вскрываю и начинаю читать, но у Вас ведь такой особенный почерк, сначала как будто легко, а потом… Да еще и стихи, я не ждала… И он очень серьезно, беря у меня из рук листы:
Нет, это я должен читать сам.
Прочел молча — читал долго — и потом такая до-олгая улыбка. Он ведь очень редко улыбался, за последнее время — никогда.
_____Два слова о H.A.K.
Показывала мне его письма — чудесным сильным старинным почерком — времен деда (Тургенева) а м<ожет> б<ыть> еще и Пушкина, показывала мне подарки сыну — розу и крест, Арлекина, иконку, показывала мне сына: Сашу с его глазами, его веками, его лбом, его губами (единственными). — Похож? похож? — показывала мне себя с сыном портрет — где художник, нечаянно и нарочно, несколько устарашив ребенка, дал совсем Блока, — я сейчас с ранней обедни: сороковой день:
— Помяни за раннею обедней Мила друга, светлая жена — **с декабря 1921 г. по 29-го р<усского> апреля 1922 г. (день отъезда) растравляла меня невозможной назад-мечтой: себя — матерью этого сына, обожествляемого мною до́ его рождения (Вера Зайцева: — «H.A.K. ждет ребенка от Блока и страшно боится, захочет ли он ходить с ней с таким животом», — стихи к Блоку читала с ним в себе!) преклоняла меня перед этим ребенком как пастухов перед Вифлеемским — всё это было, я — любила и ее и сына, было Благовещенье и Рождество — я ведь непорочного зачатия не требую, всякое зачатие непорочно, ибо кровь рождения смывает всё — а Блок был ангел: я ведь крыльев не требую —
В 1922 г., в мае, в Берлине, за столиком Prager-Diele, я — Альконосту *** — только что приехавшему:
— Как блоковский сын?
— У Блока не было сына.
— Как не было, когда… Ну́, сын H.A. Коган?
— Кажется, здоров. Но он никогда не был сыном Блока. У Блока вообще не могло быть детей. Да и романа никакого с ней не было.
— Позвольте, а сходство?..
— Сходство, действительно, есть. Его видела (женское имя, каж<ется> поэтесса, секретарша какого-то петербургского Союза писателей или поэтов, — <…> и говорит, что действительно — таинственно — похож.
— Но, милый, я этого ребенка видела: все блоковские черты. Сличите с детской фотографией! И письма видела…
— H.A. ведь-фантазерка, авантюристка, очень милая женщина, но мы все ее давно и отлично знаем и, уверяю Вас, никто, кроме Вас, этой легенде не верит. — Смеются. —
— Но письма, его рукой…
— H.A. могла подделать письма…
— И слово блоковское подделать: — Если это будет сын, я пожелаю ему одного — совести —?!
— М<ожет> б<ыть> он и верил. Она могла его убедить. Я повторяю Вам, что у Блока не могло быть детей. Это теперь точно установлено медициной…
— После смерти?! — Голубчик, я не врач, и совершенно не понимаю как такую вещь можно установить после смерти — да и при жизни. Не могло, не могло — и вдруг смогло. Я знаю одно: что этот сын есть и что это — его сын…
— Она ведь тогда жила с двумя…
— Хоть с тремя — раз сходство. Но, если даже на секунду допустить — для чего ей нужна была вся эта чудовищная комедия?! Ведь она целый мир могла убедить — кроме себя. И подумайте об этом чудовищном одиночестве: одна в мире она знает, что это не блоковский. Как же жить с такой тайной? А главное — зачем?
— Вы забываете, что у Блока было огромное наследство.
— Не понимаю. Иносказательное? Слава сына Блока??
— Вовсе не иносказательное, а самое достоверное литературное наследство, право издания на его книги. Ведь так — всё идет матери и жене, если же сын…
— А теперь довольно. Это — гадость. Вы м<ожет> б<ыть> издатель Блока? М<ожет> б<ыть> издателю Блока нужно, чтобы у него не было сына? И посмертная экспертиза не медицинская, а издательская…
Все (Геликон, Каплун, Эренбурги, другие) смеясь:
— М.И.! Да <одно слово стерто>! Чего же Вам так горячиться? Ну́ — блоковский, ну́ — не блоковский…
Я (слёзы на глазах) — Это — посмертная низость!! Я видела письма, я видела родовой крест — розу и крест! — я видела как она этого ребенка любит…
Альконост: — Петр Семенович его тоже очень любит…
Я, окончательно задохнувшись: — Я никогда у Вас не буду издаваться…
Алконост, с улыбкой: — Очень жаль.
Окончание:
1927 г., осень, приезд Аси.
— А как блоковский Саша?
— Марина, никто кроме тебя уже больше не верит в его блоковство. А ты знаешь, что говорит о нас H.A.: — «Какие странные эти Цветаевы — очень милые, но — зачем им понадобилось распускать слух, что Саша — блоковский??»
П.С. в нем души не чает. Мальчик чудовищно-избалован — и больной: пляска Св. Витта. В прошлом году его возили на Океан, жили — H.A. и он где-то здесь во Франции. Я его не так давно видела. Он очень похож, на старшего сына П.С. от другой жены: Витю.
Другая запись в тетради Цветаевой о H.A. Нолле-Коган: «Не забыть о Блоке: разгружал на Неве баржи, не говоря кто́. — На скамейке — H.A. К<оган> — Как Вы думаете, я еще буду писать стихи?? На Воздвиженке: — Катька! Долгая улыбка. — Может быть мне суждено умереть, чтобы ему воссиять. (О сыне.) Перламутровый крест с розами и икона. Макет Арлекина (Пьеро и Коломбина остались у Любовь Дмитриевны. Всё перечисленное — подарки сыну, видела глазами.) Вот откуда — Роза и Крест. Письма. Пушкинский росчерк. О сыне: — Если это для Вас важно — то и для меня важно. Всё зависит от Вас. — Если это будет сын, пожелаю ему одного: совести. — „Он был скуп на это“ (автографы). Был на той войне добровольцем. На нынешней — Освободите меня… Посмертная записка о Двенадцати. Простите, что я не могу подать Вам руки (болела). Любящий сын: яичница и слёзы (матери)»
(HCT. стр. 66).__________
* См. «Наталья Гончарова» (СС-4).
** Финальные строки стихотворения А. Блока «Мы, сам-друг, над степью в полночь стали…» («На поле Куликовом»). У Блока: «Помяни ж…»
*** Самуил Миронович Алянский (1891–1974) — владелец петербургского издательства «Алконост».
(обратно)971
Правильно: Евдоксия.
(обратно)972
«Конец Казановы» — третье действие пьесы М. Цветаевой «Феникс» (см. СС-3). Вышло отдельной книжкой в кооперативном издательском товариществе «Созвездие» в феврале 1922 г.
(обратно)973
Стихи 1916 г. были опубликованы в сборнике «Версты», выпущенном Госиздатом в 1922 г. (см. письмо 5-22 к П.Н. Зайцеву и коммент. к нему). «Матерь-Верста» — один из вариантов названия сборника. Цветаева первоначально предполагала выпустить сборник в издательстве «Никитинские субботники».
(обратно)974
См. коммент. 1 к письму 5-22 к П.Н. Зайцеву. Сохранился экземпляр «Царь-Девицы», принадлежавший Е.Ф. Никитиной с ее владельческой надписью синим карандашом «Е. Никитина» на обложке книги (частное собрание, Москва). Е.Ф. Никитина ценила творчество Цветаевой, считала его «самобытным», «богатым ритмами», обладающим «исконно русским звуком», хотя и «неровным» («Свиток» Вып. 3. Альманах Литературного общества «Никитинские субботники». М.; Л.: Земля и Фабрика, 1924, стр. 166).
(обратно)975
Накануне Цветаева написала стихотворение «Небо катило сугробы…», которое открыло цикл из одиннадцати стихотворений под названием «Сугробы», с посвящением Эренбургу (см. СС-2. стр. 100–101).
(обратно)976
Двустишие Цветаевой, послужившее эпиграфом к ее сборнику «Версты» (вып. первый).
(обратно)977
Балтрушайтис Ю.К. См. коммент. 4 к письму 27–21 к Эренбургу.
(обратно)978
См. письмо 2-21 к Е. Ланну и коммент. 2 к нему.
(обратно)979
Покрывало Пьеретты — драма А. Шницлера, поставленная А.Я. Таировым в Камерном театре.
(обратно)980
Просьба Цветаевой была удовлетворена:
Отношение ЦЕКУБУ в МосКУБУ о выдаче
М.И. Цветаевой-Эфрон удостоверения на жилищные льготы
20 марта 1922 г.
В МосКУБУ
Препровождая копию заявления Марины Ивановны Цветаевой-Эфрон, Центральная комиссия по улучшению быта ученых предлагает Вам немедленно, не позже 21-го марта, выдать ей удостоверение, представляющее жилищные льготы (согласно постановления Моссовета от 8-го февраля), как научной работнице, состоящей в списках ЦЕКУБУ. О причинах невыдачи Вами такого удостоверения ранее сообщите в 3-х дневный срок.
Основание: постановление СНК РСФСР от 16 января 1922 г.
Председатель ЦЕКУБУ Халатов * Управляющий делами Пятнов(Исторический архив. М. 2002. № 3. стр. 208).
__________
* Халатов Артемий Багратович (наст, имя и фам. Арташес Багирович или Багратионович Халатьян; 1896–1937) — государственный и партийный деятель. С 1918 г. на ответственной работе в Наркомпроде, Наркомате путей сообщения РСФСР. С 1922 г. председатель Правления ЦЕКУБУ при СНК РСФСР. В 1927–1932 гг. председатель Правления Госиздата и ОГИЗА РСФСР. В 1937 г. арестован по обвинению в антисоветской террористической деятельности. Расстрелян 26 сентября 1937 г. Посмертно реабилитирован.
(обратно)981
Коган Петр Семенович (1872–1932) — литературовед, театровед. Президент Государственной академии художественных наук (1921). Работал в театральном отделе Наркомпроса РСФСР, преподавал в вузах Петрограда и Москвы.
(обратно)982
A.C. Эфрон.
(обратно)983
Госиздат принял у Цветаевой к изданию две ее книги: «Царь-Девица» и «Версты» (вып. первый). Обе увидели свет в конце 1922 г., когда Цветаева уже уехала за границу.
(обратно)984
Шенгели Георгий Аркадьевич (1894–1956) — поэт, переводчик. Работал в издательском секторе Всероссийского союза поэтов. Незадолго до отъезда Цветаевой за границу поселился в ее квартире в Борисоглебском переулке.
(обратно)985
В известных публикациях Эренбурга о Цветаевой его непосредственных оценок цикла «Дон-Жуан» и поэм-сказок «Царь-Девица» и «Егорушка» нами не обнаружено (см. его статьи в кн.: Родство и чуждость. стр. 72–73 (1918 г.), 79–83 (1922 г.) По-видимому, в письме речь идет об устных оценках Эренбурга во время их встреч («Когда я впервые пришел к Цветаевой, я знал ее стихи…», — вспоминал Эренбург о знакомстве с Цветаевой. — Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. Т. 1. М.: Сов. писатель, 1990. стр. 239). См. также слова Эренбурга о «Царь-Девице» в письме Цветаевой 14–22 к Б. Пастернаку. Русь во мне, то есть вторичное — Цветаева, скорее всего, отвечает на книгу И. Эренбурга «Портреты русских поэтов» (см. коммент. 3 к письму 23–22 к П.Б. Струве). В статье о Цветаевой автор затронул тему «Россия» («Русь») в ее стихах:
«Но есть в стихах Цветаевой, кроме вызова, кроме удали, непобедимая нежность и любовь. Не к человеку, не к Богу идут они, а к черной, душной от весенних паров, земле, к темной России… Обыкновенно Россию мы мыслим либо в схиме, либо с ножом в голенище… Русь двоеверка, беглая расстрига с купальными игрищами заговорила в этой барышне, которая все еще умиляется перед хорошими манерами бальзамированного жантильома…»
(Цит. по кн.: Родство и чуждость. стр. 80–81). (обратно)986
Первое время своего пребывания в Берлине Цветаева с дочерью жила в предоставленной им Эренбургами комнате их квартиры в Prager Pension (Pragerplatz, 4а).
(обратно)987
Открытое письмо Цветаевой было вызвано публикацией А.Н. Толстым в редактируемом им «Литературном приложении» к берлинской газете «Накануне» частного письма к нему К.И. Чуковского (1882–1969), содержание которого являло собой политический донос на некоторых российских литературных деятелей, группировавшихся вокруг «Дома Искусств» в Петрограде (подробно об этом см. в книге: Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921–1923. Париж: YMCA-Press, 1983. стр. 31–45, 59–66).
(обратно)988
«Литературное приложение» (№ 6) к газете «Накануне» с письмом Чуковского вышло 4 июня 1922 г.
(обратно)989
В следующем номере «Литературного приложения» (1922. № 7. 11 июня) А.Н. Толстой поместил редакционную реплику:
«Напечатанное в предыдущем номере письмо К.И. Чуковского было написано мне как частное письмо. Я напечатал его, не испросив предварительно разрешения на это К.И. Чуковского. Поэтому все упреки и бранные слова прошу направлять только по моему адресу. Алексей Толстой».
(обратно)990
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — художник, историк искусств. С 1926 г. жил во Франции.
(обратно)991
Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) — русский график и театральный художник, член «Мира искусства». В эмиграции с 1923 г. Жил в Литве, Франции, Великобритании, США.
(обратно)992
Волынский Аким Львович (наст. фам. Флексер; 1863–1926) — критик, искусствовед. Председатель правления ленинградского Союза писателей (1920–1924).
(обратно)993
Чудовский Валериан Адольфович (1891–1938?) — критик, сотрудничал в журнале «Аполлон».
(обратно)994
«Самолеты „Дерулюфт“ ежедневно доставляли в Москву газету „Накануне“ и ее приложения. В уличных киосках Москвы газета раскупалась почти мгновенно» (Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. М.: Сов. писатель, 1968. стр. 122). Это была единственная официально разрешенная к распространению в России эмигрантская газета (1922–1924).
(обратно)995
Пьеса А.Н. Толстого, вышедшая отдельной книгой (Берлин; М., 1922). Посылая с письмом от 22 апреля 1922 г. книгу К.И. Чуковскому, А.Н. Толстой добавил:
«Эта комедия идет в Париже… с очень большим успехом. Написана она в Одессе, в 19-м году, в тоске и холоде»
(Толстой А.Н. Материалы и исследования. М.: Наука, 1985. стр. 496.) (обратно)996
Журнал петроградского Дома литераторов (1922).
(обратно)997
Вместо литературно-исследовательского и критико-библиографического журнала «Летописи Дома литераторов» (1921–1922) после некоторого перерыва стал выходить литературно-общественный журнал «Литературные записки».
(обратно)998
Если это не описка Цветаевой, то следует предположить, что номер газеты от 4 июня поступил в продажу накануне, 3 июня. Подобное в практике выпуска газет бывает нередко.
(обратно)999
В 1932 г., тогда же, когда заполнялась эта сводная тетрадь, Цветаева осуществила перевод на французский язык и обработку текстов писем, придав эпизоду вид эпистолярной повести. (Тогда же был написан «Конец Флорентийских ночей».) При жизни напечатать эту вещь не удалось, но французский текст (авторизованная машинопись) сохранился в архиве Цветаевой (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 101) и был впоследствии опубликован. Существуют два обратных перевода этого текста на русский язык: Р. Родиной («Флорентийские ночи», впервые: Новый мир. 1985. № 8. См. также СС-5) и Ю. Клюкина («Девять писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым, полученным, — и Послесловием». Болшево, 2. стр. 302–319). В последнем случае переводчик имел возможность сверять свою работу с русским текстом, который он готовил к печати для неосуществившегося тома «Литературного наследства».
(обратно)1000
Цветаева неточно цитирует приведенные в воспоминаниях С.М. Волконского (глава «Единомышленники» книги «Родина») слова его матери, Елизаветы Григорьевны Волконской:
«Однажды она сказала: „Я люблю Соловьева больше, чем кого бы то ни было“. Тут же она спохватилась и прибавила: „То есть, конечно, я больше всего люблю вас, детей моих, но для приволья души моей никто мне не дорог, как он“»
(Волконский С.М. Мои воспоминания. III. Родина. Берлин: Книгоизд-во «Медный всадник», 1924. стр. 76). (обратно)1001
Скорее всего, речь идет о H.A. Плуцер-Сарна.
(обратно)1002
Цикл «Отрок», первоначально посвященный Э.Л. Миндлину (сохранился автограф с посвящением: см. Рождение поэта. стр. 148–149), был перепосвящен А.Г. Вишняку (Геликону) и появился в журнале «Эпопея» (Берлин. 1922. № 2. стр. 7-10), а затем в сборнике «Ремесло» с этим новым посвящением. Цикл состоял из четырех стихотворений: «Пустоты отроческих глаз! Провалы…», «Огнепоклонник! Красная масть!..», «Простоволосая Агарь-сижу…» и «Виноградины тщетно в садах ржавели…» (СС-2. стр. 50–52).
(обратно)1003
…спартанец с лисенком… — Согласно легенде, спартанский мальчик скрывал за пазухой лисенка. Не желая, чтоб об этом узнали, он терпел страшную боль, когда лисенок стал вгрызаться в грудь.
(обратно)1004
По Библии, Саул, завидовавший славе и добродетелям Давида, будущего царя Иудеи, стремился его убить и всюду преследовал. Ср.:
«Так по ночам, тревожа сон Давидов, / Захлебывался Царь Саул» (из стихотворения «Пустоты отроческих глаз! Провалы…»)
(СС-2. стр. 51). (обратно)1005
Лютер Мартин (1483–1546) — религиозный реформатор. Был противником торговли церковными индульгенциями как средства обогащения духовенства.
(обратно)1006
Письмо четвертое.
(обратно)1007
Гуковский Александр Исаевич (1865–1925) — видный эсер, с 1919 г. в эмиграции, один из редакторов «Современных записок», при котором существовало одноименное издательство.
(обратно)1008
Речь идет об автобиографии, которую предложила опубликовать в разделе «Писатели — о себе» редакция журнала «Новая русская книга». Биография эта так и не была написана.
(обратно)1009
Письмо шестое: Цветаева ошиблась с нумерацией.
(обратно)1010
Речь идет о еще не написанном первом письме Цветаевой к Пастернаку, которое стало откликом на его письмо к ней от 14 июня 1922 г., посланное на адрес Эренбурга и пересланное им 21 июня Цветаевой.
(обратно)1011
Письмо написано в ответ на письмо Б. Пастернака от 14 июня 1922 г., которое Цветаева получила 27 июня через И. Эренбурга (см.: Эфрон А. стр. 142–143). Эренбург сопроводил письмо Пастернака запиской:
«Дорогая Марина, шлю Вам письмо Пастернака. По его просьбе прочел это письмо и радуюсь за него. Радуюсь также за Вас. Вы ведь знаете, как я воспринимаю Пастернака. Жду очень Ваших стихов и писем. Нежно Ваш Эренбург» (по копии, хранящейся в архиве составителя).
По просьбе Б. Пастернака Цветаева переслала свое письмо через его родителей, живших в Берлине.
(обратно)1012
М.О. и М.С. Цетлины. См. коммент. к письмам к М.С. Цетлиной.
(обратно)1013
Б. Пастернак так описывает этот вечер и эту встречу с Цветаевой:
«Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей Белый и Цветаева. Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но, не зная и тогдашних замечательных ее „Верст“, я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросавшуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищение. Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений: символистов и футуристов»
(Пастернак Б. Охранная грамота. Л., 1931. стр. 115). (обратно)1014
П.С. Коган.
(обратно)1015
Имеется в виду стихотворение «Голод» (1922). Написано в связи с голодом в Поволжье и напечатано в «Известиях ВЦИК» (1922, 15 марта).
(обратно)1016
Речь идет о книге стихов Цветаевой «Версты», вышедшей двумя изданиями в московском издательстве «Костры». Пастернак читал первое издание, появившееся в феврале 1922 г. (на титульном листе — 1921 г.). Второе издание вышло в конце июля. О стихах «Верст» (издательство «Костры», 1921 г.) Пастернак писал в уже упомянутом письме от 14 июня 1922 г.:
«Сейчас я с дрожью в голосе стал читать Ваше — „Знаю, умру на заре! На которой из двух“ — и был, как чужим, перебит волною подкатывающего рыдания, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворения на „Я расскажу тебе про великий обман“, я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на „Версты, и версты и версты и черствый хлеб“, случилось то же самое»
(цит. по: Эфрон А. стр. 143). (обратно)1017
9 марта 1923 г. Цветаева послала Пастернаку экземпляр этой книги с таким автографом: «Моему заочному другу — заоблачному брату — Борису Пастернаку» (собрание Л.М. Турчинского).
(обратно)1018
На книге «Разлука» Цветаева написала 10 июля: «Борису Пастернаку — навстречу!» (собрание Л.М. Турчинского).
(обратно)1019
Цветаева уехала из Берлина в Прагу 31 июля 1922 г.
(обратно)1020
А.Г. Вишняк.
(обратно)1021
Пастернак собирался отправиться с женой в Берлин в середине августа 1922 г.
(обратно)1022
Книгу стихов «Сестра моя — жизнь» с дарственной надписью «Марине Цветаевой. Б. Пастернак. 14. VI-22. Москва» Цветаева получила чуть позднее (хранится в РГАЛИ).
(обратно)1023
Сопроводительное письмо, приложенное к письму Б.Л. Пастернаку от 29 июня 1922 г. См. коммент. 1 к письму 14–22.
(обратно)1024
Письмо седьмое.
(обратно)1025
В оригинале: «Freude». «Через страдание — радость» (нем.). Ставшие знаменитыми как жизненный девиз Бетховена, слова из его письма к графине Марии фон Эрдеди от 10 октября 1815 г.
(обратно)1026
Письмо восьмое.
(обратно)1027
Поездка описана в очерке Цветаевой «Пленный дух» (1934) (СС-4).
(обратно)1028
Слова Марии-Антуанетты Лозену из четвертой картины пьесы Цветаевой «Фортуна».
(обратно)1029
Т.е. А.И. Гуковскому. Пьеса была напечатана в «Современных записках» (1923, кн. 14, 15).
(обратно)1030
Имеется в виду статья «Световой ливень». С такой же просьбой обратился к A.C. Ященко двумя днями раньше И. Эренбург. Его рецензия на пастернаковский сборник и была принята журналом «Новая русская книга» (1922. № 6, вышел в августе). Статья Цветаевой опубликована в берлинском журнале А. Белого «Эпопея» (1922. № 3).
(обратно)1031
Р.Б. Гуль.
(обратно)1032
См. коммент. к письму 12–22.
(обратно)1033
Семья Евгения Николаевича Чирикова (1864–1932) жила тогда во Вшенорах, недалеко от поселка Мокропсы, где поселилась Цветаева. Сестра — вероятно, речь идет о младшей сестре Валентине (в замуж. Геринг, Ульянищева, 1898–1988), художнице. Сохранился сборник Цветаевой «Ремесло» с дарственной надписью:
«Валентине Евгеньевне Чириковой — моей сестре в болевом, т.е. единственно верном и вечном, — эту, как говорят, радостную книгу, а по мне — совсем не книгу! — от всего сердца. Марина Цветаева. Прага. 15 октября 1923 г.»
(находится в частном собрании)…брат… — вероятнее всего Георгий (1901–1993). Другой брат, Евгений (1899–1970), учился в это время в Берлине.
(обратно)1034
В.Е. Чирикова писала в своих воспоминаниях:
«У Цветаевой был собственный стиль одежды и прически — вне моды, вне времени: рубашка, перевязанная поясом простым узлом; волосы — стриженые, — не украшение для лица, а как оконный пролет в мир; обувь — грубоватая, на низком каблуке: туфли-вездеходы. И всё так: чтобы не мешало, не отвлекало.
Она любила ходить по горным тропинкам одна или вдвоем.»
(Воспоминания. стр. 275). (обратно)1035
Адрес студенческого общежития в Праге, где жил С.Я. Эфрон, учившийся в то время на философском факультете Карлова университета.
(обратно)1036
См. письмо 20–22.
(обратно)1037
Каплун (Каплун-Сумский) Соломон Гитманович (1883–1940) — владелец берлинского издательства «Эпоха», где печаталась поэма-сказка Цветаевой «Царь-Девица». См. также письмо 30–22.
(обратно)1038
«Царь-Девица» увидела свет не ранее ноября 1922 г. (см. письмо 28–22). Речь идет о получении авторского гонорара Цветаевой.
(обратно)1039
Цветаева жила на этой улице в июне-июля 1922 г. в небольшой гостинице «Траутенау-хауз».
(обратно)1040
Поездка не состоялась.
(обратно)1041
Правильно: knedlik'и (чеш.) — кнедлики, изделия из вареного теста.
(обратно)1042
О чешском языке см. коммент в кн: Письма к Л.Е. Чириковой-Шитниковой. стр. 84.
(обратно)1043
Речь идет о работе над поэмой-сказкой «Мо́лодец».
(обратно)1044
Возможно, Александра Владимировна Белобородова (1886-?). Художница, ученица И. Билибина, работала с ним в Каире. В Праге была секретарем Е.А. Ляцкого по издательству «Пламя»; оказывала содействие русским писателям в получении стипендии от чехословацкого правительства. См. письма 1924–1925 гг. к O.E. Колбасиной-Черновой.
(обратно)1045
А.Г. Вишняк.
(обратно)1046
О «„последнем аккорде“ Марининого Берлина», посещении Цветаевой Луна-парка вместе с дочерью и Л.Е. Чириковой незадолго до ее отъезда в Чехословакию, см.: Эфрон А. стр. 133–136.
(обратно)1047
Позже свою просьбу о покупке Библии Цветаева переадресовала Пастернаку (см. письмо 29–22). Неизвестно, подарил ли Пастернак Цветаевой Библию, «немецкую, непременно готическим шрифтом, не большую, но и не карманную: естественную», и какой экземпляр Библии читала Цветаева в мае 1923 г. («…читаю сейчас — Библию», из письма 23–23 к Р.Б. Гулю).
(обратно)1048
Здесь и последующем письме у Цветаевой описка в отчестве адресата. Правильно: Бернгардович.
(обратно)1049
Пять стихотворений под общим заглавием «Дон» напечатаны в последнем номере «Русской мысли» за 1922 г. (Берлин, № VIII–XII): «Белая гвардия, путь твой высок…», «Кто уцелел — умрёт, кто мертв — воспрянет…», «Волны и молодость вне закона!..» «Плач Ярославны», «С Новым Годом, Лебединый стан!..» (См. СС-1, 2).
(обратно)1050
В начале 1922 г. Эренбург выпустил книгу «Портреты русских поэтов» (Берлин: Аргонавты), где дал краткие характеристики современных поэтов и привел несколько стихотворений каждого из них.
(обратно)1051
Г.П. Струве.
(обратно)1052
В.Е. Чирикова ездила в Германию на встречу с матерью и остальными членами семьи, прибывшими пароходом из Петрограда в Штеттин, и затем сопровождала их в пути из Берлина до Праги (Письма к Л.Е. Чириковой-Шнитниковой. стр. 88).
(обратно)1053
E.H. Чириков поддерживал Цветаеву в ее просьбах о продлении писательской стипендии, которую она получала в рамках русской акции Чехословацкого министерства иностранных дел.
(обратно)1054
Ответом на упрек Цветаевой является письмо А.Г. Вишняка от 29 октября 1922 г., где он писал:
«Вы поймите, Марина, как мне трудно писать: я сознаю себя кругом виноватым. Виноват в отсутствии той „воспитанности“ (внутренней и внешней), которую Вы так цените. Но постигает же людей чума, и меня постигла глубокая прострация, гнусное состояние окостенения, оглушения, онемения. Всё проходило мимо, и никакие силы не могли бы заставить меня делать то, что делать было необходимо. Сейчас всё это — позади, и я чувствую какую-то особенную послеболезненную бодрость. Мне очень тяжело, что мое молчание могло Вас навести на ложные предположения. Я долго и тяжко спал. Спящие не ходят на почту»
(HCT. стр. 104–105). (обратно)1055
«Сполохи» — ежемесячный берлинский литературно-художественный и общественный журнал под редакцией Ал. Дроздова. Цветаева напечатала в августовской книжке «Сполохов» (1922. № 10. стр. 2) цикл из четырех стихотворений под названием «Хвала Афродите»; стихи этого цикла вошли в книгу «Ремесло».
(обратно)1056
Возможно, речь идет об информации, полученной Каплуном, о выходе в Москве еще одного издания поэмы-сказки «Царь-Девица» (с иллюстрациями Д. Митрохина), рукопись которой Цветаева продала Государственному издательству до своего отъезда за границу (Новая русская книга. Берлин. 1922. № 6. стр. 29).
(обратно)1057
A.B. Белобородова.
(обратно)1058
Речь идет о выступлении Цветаевой на Первом интимном вечере («интимнике») пражского литературного содружества «Скит поэтов», который состоялся 20 ноября 1922 г. в «Русской беседе» (помещение в пражском районе Винограды). «Интимник» — узкое собрание членов содружества, на котором после выступлении участников шло их обсуждение. На упомянутом вечере А. Бем выступил с докладом о лирике, свои стихи, кроме М. Цветаевой, прочли поэты С. Рафальский, М. Скачков, X. Кроткова и др. Впечатления о выступлении Цветаевой занесла в свой дневник поэтесса, критик и журналист Христина Павловна Кроткова (1904–1965):
«Я была на первом интимнике „Скита“, где читала свои стихи Марина Цветаева. На меня она произвела малоинтеллигентное впечатление, как это ни странно. Может быть, в этом виновата и ее манера держать себя. Напыщенность может быть искупаема только неподдельным пафосом, и отсутствие искренности в этом убийственно безвкусностью» (7 декабря 1922 г.), и, позднее, в виде мысленного письма к Цветаевой: «…встречалась я с Вами уже не раз, но разговаривать я избегала. Первый раз — в Мокропсах, у знакомых студенток. Вы вошли, сказали о своих квартирных неприятностях несколько фраз, говоря громко, глядя в окошко, думая не о том. День был осенний, но солнце светило ярко. В окно я видела, как Вы подымались на гору, где гулял веселый, осенний ветер, ведя за руку свою дочку (не ветер, а Вы). Второй раз в том же 1922 году читали в „Ските поэтов“ свои стихи. Я рассматривала Вас с интересом и недружелюбием… Читали Вы красиво, как и соответствовало Вашим стихам. Они были сложны, мне же хотелось несколько фраз, исчерпывающих и осмысливающих весь мир. Волосы стриженные не то по-купечески, не то по-ямщицки, как-то по-московски. И говор московский. Этот размах, эта удаль меня и восхищала, и несколько обижала — она была высокомерна и поглощена собой» (запись в январе 1931 г.)
(Минувшее: Ист. альм. 21. М.; СПб.: Atheneum, Феникс, 2007. стр. 385–386 (публ. В.П. Нечаева))О деятельности содружества «Скит» подробно см.: «Скит». Прага 1922–1940: Антология. Биографии. Документы (под общ. ред. Л.Н. Белошевской. М.: Русский путь, 2006.
(обратно)1059
См. коммент. 3 к письму 19–22.
(обратно)1060
Письмо А.Г. Вишняка от 29 октября 1922 г. вошло во «Флорентийские ночи» как «письмо одиннадцатое, полученное» (СС-5. стр. 479–481).
(обратно)1061
Аарон — первый ветхозаветный первосвященник, старший брат пророка Моисея. Его первосвященство было подтверждено чудом: Моисей положил на ночь в скинию двенадцать жезлов, на каждом из которых было написано имя зачинателя рода. Утром жезл, принадлежащий родословной Аарона, расцвел и принес миндаль.
(обратно)1062
Л.Е. Чирикова готовилась к отъезду в Париж.
(обратно)1063
Письмо написало на почтовой открытке с видом чешского местечка Вшеноры.
(обратно)1064
Имеются в виду либо Иван Александрович Ильин (1882–1954), философ, публицист, высланный в 1922 г. из РСФСР в составе группы российских интеллигентов (сотрудничал в ведущих эмигрантских журналах, в том числе в «Русской мысли», редактировавшейся П.Б. Струве и с 1922 г. печатавшейся в Берлине), либо, что более вероятно, Владимир Николаевич Ильин (1891–1974), философ, богослов, знаток музыки, в 20-е годы участвовавший в евразийском движении (Сувчинский близко его знал).
(обратно)1065
A.A. Чабров (Подгаецкий).
(обратно)1066
Начальные строки стихотворения без названия из «Книги паломничества», вошедшей в сборник стихов Рильке «Часослов» (1905). Возможно, это перевод Цветаевой, а вероятнее всего, она приводит их по памяти в переводе Юлиана Анисимова (Рильке P.M. Книга часов. Ч. 1. О монашеской жизни. М., 1913. стр. 39). Перевод Ю. Анисимова:
Так одинок последний дом в деревне. — Как будто он последний в мире дом. (обратно)1067
Письмо написано в ответ на письмо Б. Пастернаку от 12 ноября 1922 г., посланное из Берлина. Пастернак с женой пробыли в Германии до 21 марта 1923 г.
(обратно)1068
Заказное письмо было послано в Прагу на адрес: Swobodarna, Libeň, Praha VIII (на имя С.Я. Эфрона, для Цветаевой). См. коммент. 3 к письму 20–22.
(обратно)1069
Речь идет, скорее всего, о первом письме Б. Пастернака от 14 июня 1922 года.
(обратно)1070
Снятое впоследствии название стихотворения «Неподражаемо лжет жизнь…», которое Цветаева записала в конце своей книги стихов «Разлука», посланной в дар Пастернаку 10 июля 1922 г. В конце стихотворения из четырех строф была помета: «Берлин, 8-го нов<ого> июля 1922 г. — после Сестры — моей Жизни — Марина Цветаева».
(обратно)1071
Андрей Белый жил в пригороде Берлина Цоссене (Zossen); впоследствии Цветаева описала свою поездку в Цоссен к Белому в очерке «Пленный дух» (1934; СС-4).
(обратно)1072
Редактировавшийся А. Белым журнал «Эпопея» выходил в издательстве «Геликон».
(обратно)1073
Издание альманаха «Железный век», так же как и упоминаемого далее «Романтического Альманаха», осуществлено не было. Стихотворение «Река» («Но тесна вдвоем…») опубликовано в первой книге альманаха «Струги», вышедшего в начале 1923 г. в берлинском издательстве «Манфред». Цикл «Заводские» напечатан в журнале «Воля России» (1924. № 11–12).
(обратно)1074
По-видимому, речь идет о ежедневной варшавской газете «За свободу», где в 1922 г. было опубликовано лишь одно стихотворение Цветаевой («Ты проходишь на Запад Солнца…») (15 октября). В 1924 газета напечатала еще два стихотворения: «Москва! Какой огромный…» (14 января) и «Встреча с Пушкиным» (16 июня). (См. СС-1).
(обратно)1075
См. письма к Г.П. Струве и коммент. к ним.
(обратно)1076
См. письмо 30–23 к Ю.Ю. Струве и коммент. к нему.
(обратно)1077
Речь идет, видимо, о рекламных объявлениях о вышедших книгах издательства «Эпоха», которые печатались в берлинских газетах, в том числе и в «Руле». Первая рецензия на «Царь-Девицу» за подписью Е. Ш<иряева> появилась в газете «Накануне» (Берлин. 1922. 9 дек.). В «Руле» рецензия Ю. Айхенвальда (под псевдонимом Б. Каменецкий) на книгу Цветаевой была опубликована 17 декабря 1922 г.
(обратно)1078
См. коммент. 1 к письму 21–22.
(обратно)1079
А.Г. Вишняк, владелец берлинского издательства «Геликон».
(обратно)1080
Сборник вышел весной 1923 г.
(обратно)1081
Поэма «Мо́лодец». См. также письмо 7-23 и коммент. 10 к нему.
(обратно)1082
См. коммент. 1 к письму 9-22. Цветаева, видимо, еще не получила номер «Эпопеи» со своими стихами.
(обратно)1083
Гуль работал в то время секретарем редакции библиографического журнала «Новая русская книга», редактором которого был A.C. Ященко. Перечень опечаток в «Царь-Девице», так же как и автобиография Цветаевой, напечатаны не были. См. письма к A.C. Ященко и коммент. к ним.
(обратно)1084
См. коммент. 5 к предыдущему письму к Гулю.
(обратно)1085
Речь идет о «Царь-Девице» На книге была сделана надпись: «Борису Пастернаку — одному из моих муз. Марина Цветаева. 22 декабря 1922, Прага» (частное собрание).
(обратно)1086
Письмо написано на открытке с изображением Национального театра в Праге.
(обратно)1087
Михаил Осипович Цетлин (псевд. Амари; 1882–1945), — поэт журналист, литературный критик, издатель. См. также письмо 14–22 и коммент. 2 и 3 к нему.
(обратно)1088
Цветаева отвечает на просьбу М.С. Цетлиной прислать свои стихи для журнала «Окно». Что касается берлинских альманахов, где были «размещены» стихи Цветаевой, то в трех из них публикации состоялись: семь стихотворений в сборнике «Женская лирика» (Мысль, 1923), четыре — «Из новых поэтов» (Мысль, 1923), одно — «Струги». Книга 1-я (Манфред, 1923). См. также письмо 30–22 к Р.Б. Гулю и коммент. 1 к нему.
(обратно)1089
Имеются в виду написанные в течение 1922 г. поэма-сказка «Мо́лодец», поэма «Переулочки», эссе «Световой ливень».
(обратно)1090
См. письмо 16–23 и коммент. 1 к нему.
(обратно)1091
См. письмо 30–22 и коммент. 9 к нему.
(обратно)1092
См. письмо 30–22 и коммент. 1 к письму 31–22.
(обратно)1093
К.Д. Бальмонт и Е.К. Цветковская.
(обратно)1094
См. письмо 28–23 и коммент. 8 к нему.
(обратно)1095
Цветаева с семьей жила в это время в деревне Горние Мокропсы под Прагой.
(обратно)1096
Цветаева жила в Горних Мокропсах.
(обратно)1097
Адрес получателя, гостиницы, где жили Чириковы (написан справа от текста рукой Цветаевой): Paris / Rue de Lille. 38 Hôtel du Béarn / Mlle / L. Tchirikowa.
(обратно)1098
Цветковская Елена Константиновна (1880–1943) — третья жена К.Д. Бальмонта и их дочь Мирра Константиновна Бальмонт (в замуж. Бойченко, Аутина; 1907–1970).
(обратно)1099
Новый год Цветаева встречала с Чириковыми.
(обратно)1100
1 января 1923 г. E.H. Чириков сообщал дочери Людмиле:
«Мы ближе сошлись с Мариной Цветаевой, и всем нам она стала нравиться»
(Письма к Л.Е. Чириковой-Шнитниковой. стр. 102). (обратно)1101
«Поэму о декабристах» М.О. Цетлин писал много лет. Отдельным изданием она вышла лишь в 1939 г. («Кровь на снегу. Поэма о декабристах». Париж). Фрагмент поэмы был напечатан во втором номере журнала «Окна» (1923). Возможно, Цветаева слышала чтение Цетлиным поэмы на уже упомянутом вечере поэтов в январе 1918 г. См. письмо 14–22 и коммент. 3 к нему.
(обратно)1102
С.М. Волконский. См. письма к нему.
(обратно)1103
Мемуары Волконского «Мои воспоминания» вышли в берлинском издательстве «Медный всадник». Статья Цветаевой «Кедр. Апология» (О книге С. Волконского «Родина») увидела свет в сборнике «Записки наблюдателя» (Прага. 1924.№ 1).
(обратно)1104
По-видимому, имеются в виду полотна французского художника Теодора Руссо (1812–1867), на которых деревьям отведен первый план («Дубы», «Пейзаж», «Пейзаж с мостиком» и др.).
(обратно)1105
Весной 1912 г. во время свадебного путешествия Цветаева с мужем жила в Палермо на острове Сицилия.
(обратно)1106
Эренбург Любовь Михайловна (урожд. Козинцева; 1900–1971) — художница, жена И.Г. Эренбурга.
(обратно)1107
Об истории взаимоотношений Цветаевой с Геликоном см. письма к А.Г. Вишняку.
(обратно)1108
Сборник стихов И. Эренбурга (М.; Берлин, Геликон, 1923).
(обратно)1109
Об этой статье см. письмо к Р. Гулю от 29 июня 1924 г. (СС-7) «Русская Мысль» — см. коммент. 4 к письму 26–23.
(обратно)1110
О подготовке к изданию и содержании книги дневниковой прозы «Земные приметы» см. письма 9-23 и 12–23 и 23–23.
(обратно)1111
«Век культуры» (Данциг) и «Огоньки» (Берлин) — недолго просуществовавшие русские эмигрантские издательства. Выпуск «Верст I» здесь осуществлен не был. В издательстве «Огоньки» у Цветаевой вышел сборник «Стихи к Блоку» (1922).
(обратно)1112
Об отношении Гуля к Бердяеву подробнее см., например, в его книге «Я унес Россию» (Т. 2. Нью-Йорк: Мост, 1984. стр. 76–78).
(обратно)1113
Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) — юрист, философ. Первый председатель русской академической группы в Чехословакии. Основал русский юридический факультет в Праге.
(обратно)1114
Речь идет о рецензии Р. Гуля на сборник Цветаевой «Версты» (М.: Костры, 1921), опубликованной в № 11/12 «Новой русской книги» за 1922 г. В ней Гуль писал:
«Если мир поэта (хотя бы второпях скользнув по его стихам) узнаётся сразу, запоминается и не сдваивается с другим, — значит поэт крепок и подлинен <…> Черты лица Марины Цветаевой за последнее время вычертились четко. Ее ни с кем не спутаешь. Часто ходит Цветаева в цыганский табор, в кулашную, кумачную Русь. Широта дыхания просит этих тем. <…>
Хороша Марина Цветаева в буйности, в неистовстве. Силен голос. Много в нем звуков. Много музыки….»
(стр. 13). (обратно)1115
Cм. коммент. 5 к письму 30–22.
(обратно)1116
«В рассеяньи сущие». Повесть (Берлин: Манфред, 1923)
(обратно)1117
Имеется в виду сборник Б. Пастернака «Темы и вариации», вышедший в январе 1923 г. в издательстве «Геликон».
(обратно)1118
«Так начинаются цыгане»… — Из стихотворения Пастернака «Так начинают. Года в два…» (сборник «Темы и вариации»).
(обратно)1119
Это я, а не Вы — пролетарий! — неточная цитата из стихотворения Пастернака «Я их мог позабыть. Про родню…». См. очерк «Герой труда» (СС-4).
(обратно)1120
«Политехнический зал» — аудитория Политехнического музея в Москве, где часто устраивались публичные литературные чтения.
(обратно)1121
un grand peut-être. — Выражение, восходящее к легендарной предсмертной фразе Ф. Рабле: «Je m'en vais chercher un grand peut-être» («Я отправляюсь на поиски великого Может Быть»).
(обратно)1122
Речь идет о похоронах Т.Ф. Скрябиной
(обратно)1123
…звери Орфея… — Сила песен Орфея была такова, что звери покидали свои убежища и послушно следовали за ним.
(обратно)1124
Т.В. Чурилин. См. о нем. коммент. 1 к письму 1-16. В очерке «Наталья Гончарова» (1929) Цветаева писала:
«В первый раз я о Наталье Гончаровой — живой — услышала от Тихона Чурилина, поэта. Гениального поэта. Им и ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало распространенные и не оцененные. <…>
— Был Чурилин родом из Лебедяни, и помещала я его, в своем восприятии, между лебедой и лебедями, в полной степи.
Гончарова иллюстрировала его книгу „Весна после смерти“…»
(обратно)1125
Цветаева родилась 26 сентября ст. ст. 1892 г., в 1912 году ей было 20 лет.
(обратно)1126
Неточность. В начале 1913 г. Цветаева выпустила сборник «Из двух книг», но он включал лишь избранные стихи из двух более ранних сборников (за исключением одного нового стихотворения). Первым сборником, появившимся после этого, были «Версты» (М.: Костры, 1921), вышедшие первым изданием в 1921 г., вторым — в 1922 г. В 1922 г. вышел и сборник «Версты. Выпуск 1» со стихами 1916 г. Скорее всего, именно интервал в публикациях между своим еще полудетским сборником «Волшебный фонарь» (1912) и сборником «Версты. Вып. 1» Цветаева и хочет подчеркнуть здесь. Из неизданных книг Цветаевой тех лет до нас дошло содержание сборников «Юношеские стихи» (1913–1915) и «Лебединый стан» (1917–1920), они были изданы посмертно (см. Книги стихов). В 1910-е гг. Цветаева упоминала о планировавшемся ею сборнике «Мария Башкирцева», а в 1922 г. в разделе «Книга в советской России» в парижской газете «Последние новости» (12 января) был анонсирован сборник Цветаевой «Китеж Град». Книги не вышли, и о их составе ничего не известно.
(обратно)1127
Цветаева, как многие другие русские литераторы в Чехословакии, получала от правительства этой страны ежемесячное пособие, которое она называла «иждивением» или «стипендией», в размере около 1 000 крон. См. также письма к В.Ф. Булгакову (СС-7) и Письма к Анне Тесковой.
(обратно)1128
Аллюзия на резкие сатирические выпады Байрона против английского принца-регента Георга (1762–1830) и властей предержащих, стоившие поэту изгнания.
(обратно)1129
Перекличка с первой строкой стихотворения Пастернака «Косых картин, летящим ливмя…» (1922).
(обратно)1130
Книга стихов «Темы и вариации», вышедшая в Берлине в начале января 1923 г. Пастернак послал ее в Прагу с надписью:
«Несравненному поэту Марине Цветаевой, „донецкой, горючей и адской“ от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высевки и опилки, и теперь кающегося. Б. Пастернак. 29.1.23 Берлин»
(«Мир Пастернака». стр. 171).Цветаева получила подарок в начале февраля 1923 г.
(обратно)1131
Стихотворение Пастернака «Так начинают. Года в два….» из цикла «Я мог их позабыть» (1923).
(обратно)1132
Речь идет о похоронах Т.Ф. Скрябиной.
(обратно)1133
Ср. с тем, что писала Цветаева о своей жизни в Берлине Л.Е. Чириковой 27 апреля 1923 г. (письмо 21–23).
(обратно)1134
Эта поездка в Берлин не осуществилась.
(обратно)1135
Речь идет о сборнике «Темы и вариации».
(обратно)1136
«Сестра моя — жизнь».
(обратно)1137
Повесть «Детство Люверс» (1918), опубликованная в альманахе «Наши дни» (1922. Вып. 1).
(обратно)1138
В еврейской традиции Лилит — первая жена Адама (до Евы), созданная Богом, как и Адам, из глины. Не сумев убедить Адама в равенстве по происхождению, Лилит, обратившись в дух, улетела. В литературе прекрасная, неземная Лилит противопоставляется простой, обыденной Еве.
(обратно)1139
«Я их мог позабыть? Про родню…» — цикл из пяти стихотворений (1921–1922).
(обратно)1140
По-видимому, последнее в сборнике стихотворение «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь» (1918), либо заключительный цикл «Осень».
(обратно)1141
Lenau (Ленау Николаус; 1802–1850) — австрийский поэт. Ошибочно назван Цветаевой автором трехстишья.
(обратно)1142
Из стихотворения немецкого писателя Теодора Шторма (1817–1888) «Frauen-Ritornelle». Это трехстишье неоднократно цитируется в письмах Цветаевой.
(обратно)1143
Перефразированные строки из стихотворения Цветаевой «Лютня», написанного, как и письмо, 14 февраля 1923 г. В стихотворении «…не заиграться б с аггелами!..».
(обратно)1144
Поэма «Мо́лодец» вышла отдельной книгой в 1925 г. в парижском издательстве «Пламя». (На титульном листе — 1924 г.)
(обратно)1145
В этом абзаце Цветаева ссылается на ряд стихотворений книги «Темы и вариации»: «Дикий, скользящий, растущий» — строка из стихотворения «С полу, звездами облитого…»; …с Вашими вопросами Пушкину — цикл «Тема с вариациями»; …с Вашим чертовым соловьем — стихотворение «Маргарита»; …с Вашими чертовыми корпусами и конвоирами — стихотворение «Вдохновение».
(обратно)1146
Заключительная строка стихотворения «Лютня».
(обратно)1147
Строка из стихотворения Цветаевой «Ты проходишь на Запад Солнца…» (1916) цикла «Стихи к Блоку». Ей шел тогда 24-й год.
(обратно)1148
Цветаева была на двух чтениях Блока в Москве 9 и 14 мая 1920 г. На втором из этих чтений она передала Блоку через свою дочь Ариадну (Алю) конверт со стихами, посвященными ему (см.: Эфрон А. стр. 227–229).
(обратно)1149
Открытка Пастернака, о которой пишет Цветаева, не сохранилась. А. Крученых сделал примечание к этому месту: «Письмо Цветаевой тоже на открытке с изображением Праги со множеством крыш». Этой открытке Цветаевой предшествовала другая, датированная 9.02.23, ответом на которую и была открытка Пастернака.
(обратно)1150
Датируется по содержанию.
(обратно)1151
Статья Цветаевой «Кедр. Апология (О книге кн. С. Волконского „Родина“)» была написана в январе 1923 г.
(обратно)1152
«Кедр» был напечатан в сборнике «Записки наблюдателя» (Прага. 1924. № 1). «Русская мысль» — см. коммент. 4 к письму 26–23.
(обратно)1153
Речь идет, вероятно, о кн. С.М. Волконском. См. письма к нему.
(обратно)1154
Речь идет о рецензии Гуля на сб. «Версты». См. коммент. 9 к письму 5-23.
(обратно)1155
Младшая дочь Ирина Эфрон.
(обратно)1156
Название русского издательства в Берлине.
(обратно)1157
Из стихотворения Цветаевой «Не здесь, где связано…» (1922).
(обратно)1158
См. коммент. 1 к письму 30–22.
(обратно)1159
Шкапская Мария Михайловна (урожд. Андреевская; 1891–1952) — поэтесса. Интерес к поэзии Шкапской в начале 1920-х гг. был достаточно высок. В 1923 г. совершила поездку в Германию. После 1925 г. оставила поэзию, стала писать очерки.
(обратно)1160
Книга (имевшая рабочее название «Земные приметы») не вышла и неизвестно, была ли работа над ней завершена. Относящихся к ней рукописей не сохранилось, но можно предположить, что целый ряд впоследствии опубликованных очерков Цветаевой, посвященных ее жизни в послереволюционной Москве, связан с планом книги.
(обратно)1161
Слоним Марк Львович (1894–1976) — литературный критик, один из редакторов «Воли России». На протяжении многих лет был дружен с Цветаевой. См. его воспоминания о ней (Воспоминания. стр. 306–350).
(обратно)1162
Герцог Рейхштадтский (Наполеон II) — единственный сын Наполеона Бонапарта, умерший в возрасте 21 года от чахотки. В 1908–1909 гг. Цветаева перевела пьесу Э. Ростана «Орленок» (утеряна), героем которой является герцог Рейхштадтский; он также неоднократно появляется в стихах первых двух сборников Цветаевой «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь».
(обратно)1163
См. приложение к письму 14б-23.
(обратно)1164
Цветаева указывает, что ее письмо от 12 марта было ответом на письмо Б. Пастернака от 22 февраля 1923 г.
(обратно)1165
Б.Л. Пастернак приезжал на некоторое время в Германию и в эти дни возвращался из Берлина в Москву (примеч. Р. Гуля).
(обратно)1166
«Земные приметы». См. письмо 23–23.
(обратно)1167
«Метель» была опубликована в газете «Звено» 12 февраля 1923 г.
(обратно)1168
А.Г. Вишняк.
(обратно)1169
Этот экземпляр Цветаева вскоре послала Б. Пастернаку (см. об этом в письме 15–23).
(обратно)1170
С.М. Волконский.
(обратно)1171
Еленева Екатерина Исааковна (урожд. Альтшуллер; 1897–1982) — первая жена Николая Артемьевича Еленева (1894–1907), историка, искусствоведа, автора воспоминаний о Цветаевой.
(обратно)1172
См. письмо 15–23.
(обратно)1173
См. письмо Б. Пастернака около 20 марта 1923 г. (Души начинают видеть. стр. 62–63).
(обратно)1174
Неточная отсылка к фразе Пастернака из его письма около 20 марта 1923 г. (Там же. стр. 64).
(обратно)1175
Выражение Horizontales und Wertikales Handwerk восходит к очерку «Путешествие по Гарцу» из книги Г. Гейне «Путевые картинки».
(обратно)1176
Речь, по-видимому, идет о С.М. Волконском.
(обратно)1177
См. коммент. 3 к письму 4-23.
(обратно)1178
«Земные приметы». См. письма к Р.Б. Гулю.
(обратно)1179
Возможно, речь идет об известном чешском писателе Кареле Чапеке. В 1920 г. выпустил «Антологию французской поэзии» в собственных переводах.
(обратно)1180
Лукомский Георгий Крескентьевич (1884–1952) — художник, искусствовед.
(обратно)1181
30 апреля в Праге Рудольф Штейнер читал публичную лекцию «Что хотел Гетеанум и чем должна быть антропософия?»
(обратно)1182
A.A. Тургенева, первая жена А. Белого.
(обратно)1183
М.С. Цетлина.
(обратно)1184
Написано из Чехословакии, из деревни Горние Мокропсы (под Прагой). Цветаева обращается и к Е.О. Волошиной, не зная, что та скончалась 8 января 1923 г.
(обратно)1185
Письмо написано на обороте письма С.Я. Эфрона от того же числа (см. НИСП. стр. 300–302).
(обратно)1186
«Разлука» — книга стихов Цветаевой (М.; Берлин: Геликон, 1922); «Стихи к Блоку» — Берлин: Огоньки, 1922; «Царь-Девица» — Пп; Берлин: Эпоха, 1922; «Ремесло» — книга стихов, М.; Берлин: Геликон. 1923.
(обратно)1187
В журнале «Новая русская книга» (Берлин. 1923. № 2) опубликовано стихотворение М. Волошина «Потомкам».
(обратно)1188
Вероятно, Цветаева имела в виду берлинское русское издательство Ольги Дьяковой, издававшее литературу правого толка.
(обратно)1189
Речь идет о только что вышедшем романе И.Г. Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова» (Берлин: Геликон, 1923). См. также письмо 36–23 к A.B. Бахраху.
(обратно)1190
Сборник стихов, вышедший двумя изданиями (Пг.: ГИЗ, 1922 и Берлин; Пг.; Издательство З.И. Гржебина, 1923).
(обратно)1191
Статья А. Белого «Тяжелая лира и русская лирика» (Современные Записки. 1923. № 15). В ней А. Белый ставит Ходасевича в один ряд с корифеями русской поэзии XIX в.: Пушкиным, Баратынским, Тютчевым.
«…Как в содержании Ходасевич преемственно поднимает задания лучших традиций огромной поэзии нашей, так и в форме своей поднимается он к „стае славной“ поэтов. И радостно: в наши дни родился очень крупный поэт…»
(стр. 388). (обратно)1192
Цветаева пишет о содержании первого номера журнала «Окно», в частности о воспоминаниях 3. Гиппиус о Блоке «Мой лунный друг» и первой части историко-философского произведения Д.С. Мережковского «Тайна трех».
(обратно)1193
Настоящее имя Андрея Белого. Далее в письме речь идет о его «Воспоминаниях о A.A. Блоке» (опубликованы в журнале «Эпопея». М.; Берлин, 1922. № 1–4).
(обратно)1194
Речь идет о произведениях Д.С. Мережковского, главном образом о его известной трилогии «Христос и Антихрист»: 1. «Смерть богов» («Юлиан Отступник», 1895). 2. «Воскресшие боги» («Леонардо да Винчи», 1899–1900). 3. «Антихрист» («Петр и Алексей», 1905).
(обратно)1195
Письмо Цветаевой к Мережковскому и его ответ не сохранились.
(обратно)1196
Рассказ А.И. Куприна.
(обратно)1197
«Поэма заставы» в журнале «Окно» опубликована не была.
(обратно)1198
Имеется в виду корректура стихотворения «Рассвет на рельсах» (Окно. № 2).
(обратно)1199
См. письмо 24–23.
(обратно)1200
«Земные приметы». См. письма к Р.Б. Гулю.
(обратно)1201
«Фортуна». Пьеса в 5-ти картинах, в стихах. Опубликована в журнале «Современные записки» (1923. № 14. 14).
(обратно)1202
Русская мысль-ежемесячный литературно-политический журнал. Выходил с 1921 по 1927 г. с перерывом (София, затем Берлин-Прага, последний номер в 1927 г. вышел в Париже). Стихи Цветаевой были напечатаны в двух книгах журнала: 1922, № 8/12 (пять стихотворений) и в 1923 г. № 1/2 (три стихотворения). См также письма к Г.П. Струве
(обратно)1203
П.Б. Струве был в то время редактором «Русской мысли».
(обратно)1204
См. коммент. 2 к письму 12–12.
(обратно)1205
См. письма к В.К. Звягинцевой.
(обратно)1206
Ангелина Цетлин (в замуж. Доминик; 1917–1996).
(обратно)1207
В мае и июне в Праге прошли заседания и митинги протеста по поводу преследования патриарха Тихона и гонений на верующих в Советском Союзе. В письме речь идет, по-видимому, о заседании в Союзе русских писателей и журналистов, в работе которого Цветаева принимала эпизодическое участие.
(обратно)1208
Речь идет о шестнадцатилетней дочери М.С. Цетлиной Александре (от первого брака) и одиннадцатилетнем сыне Цетлиных Валентине
(обратно)1209
Письмо является ответом на статью А. Бахраха «Поэзия ритмов» о сборнике Цветаевой «Ремесло», напечатанную в берлинской газете «Дни» (1923. 8 апр.). Текст этого письма, датированного 20 апреля 1923 г., был опубликован с купюрами по рабочей тетради Цветаевой как «письмо критику» (Новый мир. 1969. № 4. стр. 191–193). Переписывая это письмо для отправления, Цветаева отступила от первоначального текста.
(обратно)1210
Ср. с начальными строками будущей статьи Цветаевой «Поэт о критике»: «Первая обязанность стихотворного критика — не писать самому плохих стихов».
(обратно)1211
Примером может служить отзыв Георгия Иванова о «Ремесле»:
«…Стихи Цветаевой имеют тысячи недостатков — они многословны, развинчены, нередко бессмысленны, часто более близки к хлыстовским песням, чем к поэзии в общепринятом смысле. Но и в самых неудачных ее стихах всегда остается качество, составляющее главную (и неподдельную) драгоценность ее Музы — ее интонации, ее очень русский и женский (бабий) говор. Самая книга? Среди ее бесчисленных полустихов, полузаплачек и нашёптываний — есть много отличных строф. Законченных стихотворений — гораздо меньше. Но эти немногие — прекрасны…»
(Цех поэтов. Кн. 4. Берлин. 1923. стр. 72). (обратно)1212
Столица Любовь Никитична (1884–1934) — поэтесса. После Октября эмигрировала, жила в Болгарии.
(обратно)1213
Статья К.В. Мочульского «Русские поэтессы. — Марина Цветаева и Анна Ахматова» была опубликована в парижском еженедельнике «Звено» (1923. 5 марта. стр. 2). Статья построена на сравнении и противопоставлении поэтов. «Цветаева — вихрь, Ахматова — тишина» — так определил критик полярность творчества двух поэтов.
(обратно)1214
В своей рецензии Бахрах писал:
«Для „большинства“ может даже стать вопрос: стихи ли это? <…> стихи ли или надоевшие кунстштюки?»
Кунштюк (кунстштюк) от Kunststück — проделка, фокус (нем.).
(обратно)1215
Блок А. Ямбы: Современные стихи (1907–1914). Пг.: Алконост, 1919.
(обратно)1216
В упомянутой статье «Поэзия ритмов» Бахрах писал:
«В „Ремесле“ предел былых устремлений. Так дальше нет пути. Дальнейшее шествование этим путем — шествование к пропасти, в бездну: в сторону от поэзии к чистой музыке».
(обратно)1217
Неточная цитата из стихотворения Каролины Павловой «Ты, уцелевший в сердце нищем…» У К. Павловой: «Одно, чего и святотатство…» и далее.
(обратно)1218
Речь идет об обрыве в конце «Посмертного марша» на полуслове припевных строк «И марш вперед уже…» («И марш —»), об этом A.B. Бахрах писал:
«Срывается последний вскрик, последняя вспышка посмертной боли, последний недоконченный, застывший вопль, подающий в пространство и уносимый в просторы бесконечности. После этого потерянность тела, равнодушие. Co-ратник снова становится только поэтом».
(обратно)1219
Гржебин Зиновий Исаевич (1877–1929) — художник, издатель. В эмиграции возглавлял «Издательство З.И. Гржебина», где вышли «Психея» Цветаевой, книги А. Белого, Пастернака, Ремизова, Ходасевича и др.
(обратно)1220
См. письма к Р.Б. Гулю и коммент. к ним.
(обратно)1221
Иов — библейский пророк, веру которого Бог испытывал страданием.
(обратно)1222
Книга под таким названием при жизни Цветаевой издана не была.
(обратно)1223
Берлинское кафе, находившееся на Прагерплаце.
«Кафе „Прагердиле“ — перекресток, на котором встречались все, — являлось неким скромным провозвестником всех будущих Монпарнасов эмиграции; за его столиками, как ни в чем не бывало, „решались судьбы“ мирового и отечественного искусства, а также самого отечества и всего мира; заключались издательские договора: <…> в „Прагердиле“ издателей величали именами издательств, а не наоборот!»
(Эфрон А. стр. 125). (обратно)1224
«В рассеяньи сущие». Повесть (Берлин: Манфред, 1923).
(обратно)1225
Земгорцы — члены Объединения российских земских и городских деятелей в Чехословакии (Земгора).
(обратно)1226
Научная работе Гёте (1810).
(обратно)1227
Сведенборг Эммануэль (1688–1772) — шведский философ, автор теософского учения о «потусторонней жизни» и о поведении бесплотных духов.
(обратно)1228
Из песни Миньоны (Гёте. Годы учения Вильгельма Мейстера).
(обратно)1229
Название первого стихотворного сборника А. Белого (М.: Скорпион, 1904).
(обратно)1230
См. письмо 27–23.
(обратно)1231
Книга С. Эфрона напечатана не была. Отрывок из нее под названием «Октябрь (1917)» опубликован в журнале «На чужой стороне» (Прага. 1925. № 11).
(обратно)1232
При жизни Цветаевой сборник так и не вышел. Впервые был подготовлен к изданию Г.П. Струве и опубликован лишь в 1957 г. (Мюнхен).
(обратно)1233
Цветаева отзывается на рецензию Г.П. Струве на ее сборники «Ремесло» и «Психея», напечатанную в берлинской газете «Руль» (1923. 24 июня). Об отношении Цветаевой к Пушкину рецензент писал:
«…не может быть, чтобы Цветаева не любила и не ценила Пушкина, но она наверное больше любит романтических „Цыган“ (одно имя Мариула чего стоит! чем „Медного всадника“ или „Евгения Онегина“».
Подтверждением высказывания Цветаевой о «Евгении Онегине» служит ее запись в «Ответе на анкету» (1926): «„Евгения Онегина“ не любила никогда».
(обратно)1234
Г.Р. Державина Цветаева всегда высоко ценила и любила (см. также письмо к O.A. Мочаловой от 8 декабря 1940 г.; СС-7). Критиками, в том числе и Г.П. Струве, отмечались преемственность и развитие державинской языковой традиции в поэзии Цветаевой. В архиве Цветаевой (РГАЛИ) сохранились начальные строки ее отзыва о «Державине» В. Ходасевича; замысел этой статьи, по-видимому, не был реализован.
(обратно)1235
В «Ответе на анкету» Цветаева называет это стихотворение как одно из наилюбимейших в детстве. О своем отношении к нему в 10-летнем возрасте она подробно пишет в очерке «Мой Пушкин».
(обратно)1236
Имеются в виду стихи A.C. Пушкина «Дорожные жалобы» («Долго ль мне гулять на свете…») и «Сквозь волнистые туманы…».
(обратно)1237
Г.П. Струве писал в статье:
«У каждого поэта есть своя поэтическая родословная, более или менее ясная. Иногда за ее строчками, то в бешеной скачке обгоняющими одна другую, то в каком-то неповоротливом движении одна за другую цепляющимся, почудятся лики и лица Державина, Тютчева, Блока, Эренбурга. Покажутся и скроются. Не портреты, а призраки».
(обратно)1238
О разладе отношений Цветаевой с Эренбургом см. ее письма к Р.Б. Гулю (34–23) и A.B. Бахраху (5-23).
(обратно)1239
У Г.П. Струве:
«По ритмическому богатству и своеобразию это совершенно непревзойденная книга, несмотря на присутствие плохих, безвкусных стихов (Цветаева лишена чувства меры и от этого часто страдает ее вкус)».
(обратно)1240
Следующая и последняя прижизненная книга стихов поэта «После России», вышла в Париже в 1928 г.
(обратно)1241
Этна — действующий вулкан на острове Сицилия в Италии. Цветаева могла видеть Этну во время поездки в свадебное путешествие по Сицилии в 1912 г.
(обратно)1242
Об интересе Цветаевой к этой теме см. также письмо от 14 апреля 1924 г. к Р.Б. Гулю (СС-7).
(обратно)1243
«Земные приметы» Об этой книге и попытках ее напечатать см. письма к Р.Б. Гулю и коммент. к ним.
(обратно)1244
Последнее новое платье было куплено Цветаевой под категорическим нажимом Л.М. Эренбург летом 1922 г. в Берлине, следующее — подарено С.Я. Эфроном на редакторский заработок осенью 1925 г. (Звезда. стр. 24).
(обратно)1245
Речь идет о собраниях Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, членами которого состояли М.И. Цветаева и С.Я. Эфрон.
(обратно)1246
Старшая дочь Ю.Ю. и Г.П. Струве Марина родилась 5 февраля 1923 г. в Берлине. Ей Цветаева надписала только что вышедший свой сборник «Ремесло»:
«Моей крестнице в мирах иных
— Марине —
На первую Пасху в ее земной жизни
Без обязательства читать.
Марина Цветаева
Прага, Вербная неделя 1923 г.»
(Мосты. 1968. № 13/14. стр. 397).М.Г. Струве умерла в 1984 г.
(обратно)1247
Цветаева пишет о своей кормилице в очерке «Мой Пушкин» (СС-5).
(обратно)1248
В современной науке утвердилась единая точка зрения, согласно которой предки цыган — выходцы из Индии. В пьесах Мольера наряду с «египтянами» встречается и другое название цыган — «богемцы», используемое в современном французском языке (Звезда. стр. 24).
(обратно)1249
Еленева Е.К. — см. коммент. 1 к письму 17–23.
Альтшуллер Исаак Наумович (Нотович)(1870–1943) — ялтинский врач, лечивший А.П. Чехова и Л.Н. Толстого. После революции жил в Берлине, Праге, Нью-Йорке.
(обратно)1250
Cтруве Лев Петрович (1902–1929), один из младших братьев Г.П. Струве, в то время студент Высшей торговой школы в Берлине; был болен туберкулезом, от которого и умер через несколько лет (Звезда. стр. 24–25).
(обратно)1251
Струве Нина (Антонина) Александровна (урожд. Герд; 1868–1943) — дочь известного педагога А.Я. Герда, мать Г.П. Струве. Преподавала естественную историю.
(обратно)1252
П.Б. Струве.
(обратно)1253
Цветаева утвердилась в этом мнении и усомнилась в понимании П.Б. Струве стихов вообще после его критической заметки «О пустоутробии и озорстве» (Возрождение. Париж. 1926. 6 мая), где он в резкой форме отозвался о ее последних публикациях. (См. также письмо к Д.А. Шаховскому от 18 мая 1926 г.; СС-7.)
(обратно)1254
Имеется в виду гимнастическое общество «Русский сокол» в Праге, созданное в 1921 г.
(обратно)1255
В четырнадцатой книге «Метаморфоз» Публия Овидия Назона (43 до н. э. — ок. 18 н. э.) сказано:
«Вот до чего изменюсь! Видна я не буду, но голос / Будут один узнавать, — ибо голос мне судьбы оставят»
(цит. по: Овидий. Метаморфозы. Пер. с лат. С. Шервинского. М.: Худож. литература, 1977. стр. 343). (обратно)1256
Ср. в стихотворении «В глубокий час души и ночи…» (см. письмо 32–23).
(обратно)1257
«Мариула», «Бессонница» — стихотворные циклы в сборнике «Психея». Манон — имеется в виду стихотворение «Кавалер де Гриэ! — Напрасно…»
(обратно)1258
«Petropolis» — кооперативное издательство, основанное в 1918 г. в Петрограде. В 1922 г. открыло отделение в Берлине. Большинство книг печатало по новой орфографии.
(обратно)1259
Якубович Игнатий Семенович (1881 — после 1938), дипломат. В 1920-е гг. состоял первым секретарем Советского полпредства в Германии. Агент Коминтерна. В 1938 г. обвинен в троцкизме, репрессирован.
(обратно)1260
Имеется в виду «Страшная месть» Н.В. Гоголя из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1832).
(обратно)1261
Начало письма (кроме даты и приветствия) написано лиловыми чернилами, а остальное — синими (Литературное обозрение. 1991. № 8. стр. 105).
(обратно)1262
«Petropolis» печатал книги и по старой орфографии (см., например: Гумилев Н. Огненный столп. 1922. 2-е изд.).
(обратно)1263
«Слово» — берлинское издательство, основанное весной 1920 г. И.В. Гессеном (1865–1943) и А.И. Каминкой (1865–1949). Выпускало русскую и современную литературу; книги печатались как по старой, так и по новой орфографии.
(обратно)1264
См. письмо 5-23 к Р.Б. Гулю.
(обратно)1265
Начальная строфа стихотворения, открывающего сборника «После России».
(обратно)1266
Б.Н. Бугаев, т.е. Андрей Белый.
(обратно)1267
«В ту пору в Берлин — это было незадолго перед возвращением Андрея Белого в Москву — я часто с ним встречался. Можно без преувеличения сказать, что в эти дни он проходил через полосу „безумств“ и отчаянья, которое усугублялось тем, что он сам толком не мог решить, что ему дальше предпринимать, хотя ясно чувствовал, что и для него эта нелепая „берлинская жизнь“ приходит к концу; словом, он был в тупике»
(Бахрах А. По памяти, по записям. Париж, 1980. стр. 52). (обратно)1268
Воспоминания Цветаевой об Андрее Белом «Пленный дух» (СС-4).
(обратно)1269
Мф. 11, 15; Мк. 4, 23.
(обратно)1270
Имеются в виду строки из стихотворения, посланного в предыдущем письме: «Так некогда над тростниковой / Корзиною клонилась дщерь / Египетская…». Дочь египетского фараона нашла младенца Моисея в корзине среди тростника на берегу Нила и усыновила его (Ис. 1, 1-10). См. также стихотворения «И поплыл себе — Моисей в корзине!..», «У камина, у камина…».
(обратно)1271
Архангельский Александр Андреевич (1846–1924) — хоровой дирижер, композитор. В 1923 г. возглавил Общестуденческий русский хор в Праге.
(обратно)1272
Возможно, одна из сестер Рейтлингер — Катерина или Юлия (см. коммент. 6 к письму 35–23).
(обратно)1273
Рецензия А. Бахраха на сборник Цветаевой «Психея» был напечатан в газете «Дни» 24 июня 1923 г.
(обратно)1274
В своей рецензии критик писал: «Звучащие в книге молитвы… думается, не больше, чем дань мгновенному обольщению величественной пышностью слова. Цветаева слишком сильно вкусила сладость мира — в этом достаточно яркой порукой ее белоснежная „Психея“?..»
(обратно)1275
См. письмо 6-16 к П. Юркевичу и коммент. 1 к нему.
(обратно)1276
Летом 1922 г. Цветаева с мужем и дочерью «перебрались в маленькую гостиничку на Траутенауштрассе, где вместо прежнего большого номера заняли два крохотных — зато с балконом» (Эфрон А. стр. 131).
(обратно)1277
В конце июля 1923 г. А. Белый жил на маленьком курорте Альбек, на берегу Балтийского моря. 27 августа он вернулся в Берлин с морского курорта Свинемюнде. Весь сентябрь он провел в городе, в мучительном ожидании разрешения вернуться в Россию (Литературное обозрение. 1991. № 8. стр. 109).
(обратно)1278
Имеются в виду Катя и Юлия Рейтлингер, а возможно, и Валентина Евгеньевна Чирикова, дочь писателя E.H. Чирикова, жившего в это время с семьей под Прагой (там же).
(обратно)1279
У A.C. Пушкина: «Как уст румяных без улыбки, / Без грамматической ошибки / Я русской речи не люблю» (Евгений Онегин. Гл. 3, XXVIII).
(обратно)1280
Ср. первую строку стихотворения Цветаевой «Минута», написанного несколько дней спустя (12 августа 1923 г.): «Минута: ми́нущая: минешь!..» (СС-2).
(обратно)1281
Возможно, Цветаева вспомнила молитву потому, что недавно прочла повесть Р. Гуля «В рассеяньи сущие» (См. письмо 28–23 к Р.Б. Гулю).
(обратно)1282
Бахрах писал:
«Подзаголовок книги („Романтика“. — Сост.) уже отчасти указывает на ту основную тенденцию, на которую опиралась поэтесса при его составлении».
(обратно)1283
В рукописи описка: В.К. 3-ву.
(обратно)1284
Имеется в виду стихотворение В. Ходасевича «Жив Бог! Умен и не заумен» (Современные записки. 1923 г. № 16. стр. 141). Цветаева совершенно напрасно приняла это стихотворение как выпад против нее и Пастернака; поэт явно имел в виду заумную поэзию футуристов, в частности Крученых и Хлебникова (Литературное обозрение. 1991. № 9. стр. 104).
Отношения Ходасевича к Цветаевой в описываемое время было более благожелательным, чем ее к нему. В письме к Бахраху от 7 декабря 1923 г. Ходасевич, после нескольких встреч с Цветаевой в Праге в ноябре 1923 г., назвал ее «женщиной хорошей» (Малмстад Дж. Переписка В.Ф. Ходасевича с A.B. Бахрахом. Новое литературное обозрение. М. 1993. № 2. стр. 183). См. также письма Цветаевой к В.Ф. Ходасевичу.
(обратно)1285
Слова из стихотворения В. Ходасевича «Жив Бог! Умен, а не заумен….» (1923).
(обратно)1286
Имеется в виду граф Дмитрий Иванович Хвостов (1756–1835), стихотворец. В литературных кругах его имя было нарицательным для обозначения плодовитого графомана.
(обратно)1287
«Вдруг, не стерпя счастливой муки, / Лелея наш святой союз, / Я сам себе целую руки, / Сам на себя не нагляжусь» — вторая строфа стихотворения В. Ходасевича «К Психее» (1920). Ср. цветаевские строки: «Руки люблю / Целовать, и люблю / Имена раздавать…» («Руки люблю…», 1916 г.)
(обратно)1288
Берберова Нина Николаевна (1901–1993) — прозаик, поэтесса, критик: третья (гражданская) жена Ходасевича в 1922–1932 г. Одну из встреч с Цветаевой в ноябре 1923 г. Берберова описала в своих воспоминаниях:
«Ранний октябрьский вечер черен за окном. Мы сидим с трех часов при лампе в номере пражского отеля „Беранек“: Цветаева, Эфрон, Ходасевич и я. <…> Всё, что говорит Цветаева, мне интересно, в ней для меня сквозит смесь мудрости и каприза, я пью ее речь, но в ней, в этой речи, почти всегда есть чуждый мне, режущий меня больной надлом, восхитительный, любопытный, умный, но какой-то нервный, неуравновешенный, чем-то опасный для наших дальнейших отношений, будто сейчас нам еще весело летать по волнам и порогам, но в следующую минуту мы обе можем столкнуться и ушибиться, и я это чувствую, а она, видимо, нет, она, вероятно, думает, что со мной можно в будущем либо дружить, либо поссориться…»
(Воспоминания. стр. 281). (обратно)1289
Третье из упомянутых стихов О. Мандельштама из его сборника «Tristia» (Пг.; Берлин, 1922) не является отдельным стихотворением, а представляет собой строки второй строфы обращенного к Цветаевой стихотворения «Не веря воскресенья чуду…». См. также «Историю одного посвящения» (СС-4).
(обратно)1290
Мандельштам Надежда Яковлевна (урожд. Хазина; 1899–1980) позже писала:
«Мне пришлось несколько раз встречаться с Цветаевой, но знакомства не получилось. <…> В основном инициатива „недружбы“ шла от нее. Возможно, что она вообще с полной нетерпимостью относилась к женам своих друзей (еще меня обвиняла в ревности — с больной головы да на здоровую!)»
(Воспоминания. стр. 139).Дальше:
«Автор „Попытки ревности“, она, видимо, презирала всех жен и любовниц своих бывших друзей, а меня подозревала, что это я не позволила Мандельштаму „посвятить“ ей стихи. Где она видела посвящения любовными стихами? <…> Стихи Мандельштама обращены к ней, говорят о ней, а посвящение — дело нейтральное, совсем иное, так что „недавняя и ревнивая жена“? то есть я, в этом деле совершение ни при чем»
(Там же. стр. 141). (обратно)1291
«Проводы» — цикл из трех стихотворений, написанных в 1916 г. «Собирая любимых в путь…», «Никто ничего не отнял!..» и «Разлетелось в серебряные дребезги…» (Русская мысль. 1923. № I/II). См. СС-1.
(обратно)1292
Вероятнее всего, речь идет о Ю.Н. Рейтлингер, иконописице, художнице.
(обратно)1293
Синезубов Николай Владимирович (1891–1948) — художник-декоратор. Провел 1922–1923 гг. в Германии, вернулся в Россию, с 1928 г. снова в эмиграции. См. также письмо к С.Н. Андрониковой-Гальперн от 10 сентября 1931 г. (СС-7).
(обратно)1294
«Ремизов был великим знатоком и ревнителем древнерусской литературы и истории, славянский язык стал для него языком настолько живым и родным, что и письма друзьям он писал уставом и полууставом, виртуозно украшая их буквицами, „финиками“ и росчерки и речь свою уснащал древнецерковными оборотами, и шутил и скоморошествовал, как во время оно, и творчество свое насыщал притчами, древними актами и седой стариной до того, что от затейливой вязи начинало мельтешить в глазах»
(Эфрон А. стр. 201). (обратно)1295
И. Эренбург. Жизнь и гибель Николая Курбова (Берлин: Геликон, 1923). В романе, написанном в феврале — ноябре 1922 г., молодая фанатическая приверженка белого движения влюбляется в коммуниста-чекиста Курбова, которого она как член конспиративно-контрреволюционной группы должна была убить. С натяжкой можно узнать в ее характеристике черты Цветаевой, как они представлялись фантазии Эренбурга: страстность, «темперамент», «романтический анархизм», «монархический романтизм» (Литературное обозрение. 1991. № 9. стр. 103).
(обратно)1296
Андрей Белый.
(обратно)1297
Р. Штейнер дважды выступал в Праге с докладами, на одном из них 30 апреля 1923 г. присутствовала Цветаева.
(обратно)1298
Бальмонт, вспоминая Москву 1920 г., писал:
«Марина добрая и безрассудная. Она не хочет оставаться в долгу. У нее в доме несколько картофелин. Она все их приносит мне и заставляет съесть»
(Воспоминания. стр. 93). (обратно)1299
A.A. Тургенева. См. о ней в очерке «Пленный дух» (СС-4). Там же Цветаева намекает на связь A.A. Тургеневой с поэтом А.Б. Кусиковым (без упоминания фамилии). Об этом писал и А. Бахрах:
«Его (А. Белого. — Ред.) жена, Ася Тургенева… приехала из своего антропософского поселка, из штейнеровского Дорнаха для решительных объяснений, для окончательного разрыва, который она обставила несколько „необычной“ и умышленнооскорбительной для самолюбия Белого мизансценой, афишируя, как только могла, свою связь с имажинистским поэтом Кусиковым»
(Литературное обозрение. 1991. № 9. стр. 105). (обратно)1300
М.А. Осоргин.
(обратно)1301
Цветаева с мужем готовились отвезти дочь в русскую гимназию в Моравскую Тшебову, которая из Константинополя (где была открыта в 1920 г.) спустя год переехала в Чехословакию. В Моравской Тшебове была размещена в военном лагере, в помещениях бывшего военного санатория. Гимназия содержалась правительством Чехословацкой Республики. Дети принимались на полный пансион и обеспечивались одеждой и учебниками. К началу учебного 1922/23 г. в гимназии числились около 500 человек воспитанников и около 40 человек персонала. Директором гимназии был А.П. Петров (Студенческие годы. Прага. 1922. № 3–4). Эта школа просуществовала без малого два десятилетия.
Для русских детей Тшебовская гимназия была «кусочком России, где с утра до ночи звучала русская речь слышна русская песня, каждую неделю справляется богослужение в собственной церкви со стройным пением и колокольным звоном, — где блюдутся и передаются подрастающему поколению родные обычаи» (Русские в Праге: 1918–1928 гг. Ред. изд. С. Постников. Прага, 1928. стр. 109).
А. Эфрон вспоминала о Богенгардтах:
«Марине не хотелось меня отпускать: по старинке она считала, что девочкам образование ни к чему, и — боялась разлуки. И на разлуке, и на образовании настоял отец. Кроме того, в гимназии работали в качестве воспитателей недавние однополчане отца, супруги Богенгардты. Он — высокий, рыжий, с щеголеватой выправкой, офицер еще царской армии, она — крупная, громоздкая, собранными на затылке в тугой кукиш, с явно черневшими губой усиками — сестра милосердия, мать-командирша.
На фронте она выходила его после тяжелых ранений, отучила от водки, отвела от самоубийства, стала его женой. И, чтобы жизнь получила оправдание и смысл, оба посвятили ее детям-сиротам. (Много лет спустя, в середине тридцатых годов, на парижской стоянке я увидела в одной из машин рыжую бороду, напомнившую мне детство. — Богенгардт! — Рассеявшаяся было дружба возобновилась. Мы с родителями ездили в богенгардтовский дальний пригород из своего, в маленький домик, в котором вокруг постаревшей, еще более раздавшейся, но не сдавшейся Ольги Николаевны толпились и копошились приемыши — которое уж поколение! Трудно, почти невозможно было обеспечивать их существование ненадежным заработком шофера, но любовь к обездоленным детям — великая чудотворица. Это были люди большого сердца. У них остановились Марина и Сережа на недолгое время моих приемных экзаменов — потом родители расстались со мной до Рождества»
(Эфрон А. стр. 184, 186).См. также письмо 53–23 к A.B. Бахраху и коммент. 1 к нему, а также письмо 52–23 к A.B. Оболенскому и коммент. 1 к нему.
(обратно)1302
«Сокол» — молодежное спортивное движение, возникшее в Чехословакии в XIX в. С началом русской эмиграции в 1921 г. было организовано гимнастическое общество «Русский сокол в Праге», в котором работали спортивные секции, проводились соревнования и слеты.
(обратно)1303
Кудашева (урожд. Тарасевич) Екатерина Васильевна (1867–1944) — свекровь Майи Кювилье (Кудашевой).
Тарасевичи — семья московского профессора бактериологии Льва Александровича Тарасевича (1869–1927). Его сын, Александр, входил в круг знакомых Майи Кудашевой. Майя — Кювилье (Кудашева).
(обратно)1304
См. письма 38–23 и 52–23.
(обратно)1305
Стихотворение «Бог» («О, его не привяжете…») было напечатано в № 16 журнала «Современные записки» за 1923 г.
(обратно)1306
А.И. Гуковский. См. коммент. 1 к письму 11–23.
(обратно)1307
В 1869 г., возвращаясь из Италии, Ф.М. Достоевский с женой намеревались остановиться в Праге, но не смогли устроиться с жильем.
(обратно)1308
См. коммент. 1 к письму 38–23.
(обратно)1309
27 августа 1923 г. после месячного перерыва Цветаева получила письмо от A.B. Бахраха.
(обратно)1310
Такая же фотография сохранилась с надписью Цветаевой:
«Сережа своему изъятию воспротивился, он себе нравится именно таким страшным МЦ, Мокропсы, 19-го авг<уста> 1923 г… Чехия»/
(частное собрание)В альбоме «Фотобиография Цветаевой» (Анн Арбор: Ardis. 1980. стр. 80) этот снимок неверно датирован 1925 годом.
(обратно)1311
О русской гимназии в Моравской Тшебове см. письмо 38–23 к В.А. Богенгардту и коммент. 1 к нему.
(обратно)1312
24 августа 1923 г. Цветаева написала стихотворение «Наука Фомы».
(обратно)1313
Две недели, с 14 по 28 августа 1923 г., Бахрах вместе с Зайцевыми, Ходасевичем и др. провел в Прерове (Prerow) (Новое литературное обозрение. 1993. № 2. стр. 177)
(обратно)1314
Неточная цитата из стихотворения А. Фета «На качелях» (1890). Правильно: «Правда, это игра, и притом / Может выйти игра роковая!..»
(обратно)1315
Речь идет об A.B. Оболенском. См. письма к нему.
(обратно)1316
Имеется в виду книга Густава Шваба «Прекраснейшие сказания классической древности». См. также письмо к A.A. Тесковой от 8 июня 1926 г. (СС-6) и письмо к В.Б. Сосинскому от 16 сентября 1926 г. (СС-7).
(обратно)1317
Похищение Елены троянским царевичем Парисом послужило поводом к Троянской войне (миф.). У Цветаевой об этом см., например, стихотворение «С этой горы, как с крыши…» (1923), более поздние стихотворения «Есть рифма в мире сём…» (1924), «Так — только Елена глядит над кровлями…» (1924).
(обратно)1318
Герцог Лозэн, герой цветаевской пьесы «Фортуна» (СС-3).
(обратно)1319
Рисунок в архиве Бахраха не сохранился (Литературное обозрение. 1991. № 9. стр. 108).
(обратно)1320
На следующий день Цветаева все-таки отослала «Бюллетень болезни», который вела с конца июля (см. письма 49–23 и 50–23).
(обратно)1321
К.Б. Родзевич.
(обратно)1322
A.C. Эфрон писала о первой встрече М. Цветаевой с ее будущим мужем, Сергеем Эфроном. Они
«…встретились — семнадцатилетний и восемнадцатилетняя — 5 мая 1911 г. на пустынном, усеянном мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей — <…> Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, — и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю жизнь»
(Эфрон А. стр. 50). (обратно)1323
См. коммент. 10 к письму 27–23.
(обратно)1324
Из стихотворения: «Не здесь, где связано…» (1922) цикла «Сугробы», посвященного Эренбургу.
(обратно)1325
Из стихотворения «Легкомыслие! — Милый грех…» (1915).
(обратно)1326
Когда Цветаевой показали фотографию Бахраха, она сказала, что надеялась увидеть «военного и с бакенбардами» (Письмо В.Ф. Ходасевича A.B. Бахраху от 7 декабря 1923 г. — Новое литературное обозрение. 1993. № 2. стр. 182).
(обратно)1327
О готовящемся новом сборнике стихов и его названии см. письмо к Р.Б. Гулю от 11 апреля 1924 г. и коммент. 1 к нему (СС-6).
(обратно)1328
Отклика Бахраха на выход сборника «После России» не последовало. Много позже он уделил ему несколько строк в своих воспоминаниях:
«Этому сборнику надлежало бы стать событием в российской литературной жизни, А кто его заметил по-настоящему? Времена были такие, что никакая русская книга не могла стать „событием“…»
(Бахрах А. По памяти, по записям. Париж, 1980. стр. 60). (обратно)1329
Безусловно, имеется в виду Б.Л. Пастернак.
(обратно)1330
О дружбе Цветаевой с П.Г. Антокольским см. «Повесть о Сонечке» (СС-4). См. также стихотворение «Дарю тебе железное кольцо…» (СС-1), ему посвященное.
(обратно)1331
О Н.В. Синезубове (у Цветаевой описка в инициалах) см. коммент. 14 к письму 36–23.
(обратно)1332
A.B. Оболенский.
(обратно)1333
Письмо написано на последнем листе «Бюллетеня болезни».
(обратно)1334
Никакого адреса на обороте листа нет (Литературное обозрение. 1991. № 9. стр. 112).
(обратно)1335
Из стихотворения «Не здесь, где связано…». В «Ремесле» нет цикла «Сугробы»; в составе этого цикла печаталось в «Воле России» (1922. № 26/27).
(обратно)1336
Фрагмент о Ф.А. Степуне (с заменой его имени на N) впервые: Новый мир. 1969. № 4. стр. 193–194. Речь идет о рецензии Бахраха на книгу Степуна «Основные вопросы театра» («Данные театра и задания жизни». Дни. 1923. № 226. 29 июля. стр. 13–15).
(обратно)1337
Отзыв Бахраха о книге Степуна носит вполне положительный характер.
(обратно)1338
Рецензия Бахраха завершается строками «И с тех пор люблю я, Брента, / Прозу в жизни и в стихах» (курсив Бахраха) из стихотворения Ходасевича «Брента», впервые опубликованного месяцем ранее в берлинском журнале «Сполохи» (1923. № 19/20).
(обратно)1339
Драма Г. Ибсена.
(обратно)1340
«Симптомы кризиса русского литературного Берлина явственно отражаются на страницах журнала „Новая русская книга“ в 1923 г.: заметно истощился в связи с отъездом писателей из города раздел „Писатели о себе“, вскоре и вовсе прекратил свое существование, как и сам журнал (знак общего кризиса, разразившегося в русском книгоиздательском деле осенью 1923 г,). 9 сентября Зайцевы, например, уехали в Италию, а затем в Париж. 21 сентября Шкловский вернулся в Россию и в тот же день Ходасевич зашел в чешское консульство насчет визы, и т.д.»
(Литературное обозрение. 1991. № 10. стр 102). (обратно)1341
К письму были приложены стихи под общим названием «Час души»:
«Божественно и детски-гол…» с припиской: «Первое послано» См. письмо 32–23.
Наклон («Материнское — сквозь сон — ухо…»)
Раковина («Из лепрозария лжи и зла…»)
Заочность («Кастальскому току…»)
«В глубокий час души…»
Письмо («Так писем не ждут…»)
Час души («Есть час Души, как час Луны…»)
(обратно)1342
Перефразированные Цветаевой строки из стихотворения Рильке «Du must nich bangen, Gott. Sie sagen, mein…» («Часослов». «Книга паломничеств»).*
__________
* «Не должен ты бояться, Боже. Пусть говорят они: моя…» (Пер. с нем. Г. Забежанского).
(обратно)1343
Имеются в виду стихотворения «Пробочка над крепким йодом!» («Пробочка», 1921); «Я сам себе целую руки» («К Психее», 1920); у Ходасевича не «Не чистый дух, не глупый скот…», а «Лишь ангел, Богу предстоящий, / А я — не ангел осиянный, / Не лютый змий, не глупый бык» («Жив Бог!..», 1923 — см. коммент. 6 к письму 36–23 (Литературное обозрение. 1991. № 10. стр. 103).
(обратно)1344
«Русский Дом», в котором помещался ряд комитетов пражского Земгора (например, Бюро труда), находился на Панской улице (дом 16).
(обратно)1345
Пригород Берлина. Бахрах, как и Цветаева, навестил там А. Белого летом 1923 г.
(обратно)1346
Возникшая в 1921 г. и недолго просуществовавшая организация, объединявшая деятелей русской литературы и искусства. Основателем и первым председателем «Дома» был писатель Николай Максимович Минский (наст. фам. Виленкин; 1855–1937). «Первые собрания Дома происходили в уютном, но недостаточно вместительном кафе „Ландграф“, и постоянными их посетителями были Белый и Ремизов, Алексей Толстой и Эренбург с женами, художники Пуни и Милиоти…» (Бахрах А. О берлинском Доме Искусств. Новое русское слово. Нью-Йорк, 1981. 29 нояб.).
(обратно)1347
См. коммент. 1 к письму 38–23.
(обратно)1348
Радзивиллы — княжеский род Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.
(обратно)1349
При оформлении в 1922 г. документов для выезда за границу Цветаева убавила на один год возраст дочери и свой.
(обратно)1350
Цветаева цитирует последнюю строфу стихотворения А. Блока «Всё на земле умрет — и мать, и младость…» (1909).
(обратно)1351
Соломонов перстень. — Ср.: «У славного Царя Щедрот / Славнее царства не имелось, / Чем надпись: „И сие пройдет“ — / На перстне…» (СС-2).
(обратно)1352
Имеется в виду так называемое «иждивение» — пособие, которое выплачивало правительство Чехословакии русским деятелям культуры.
(обратно)1353
Вероятно, Цветаева оставила Родзевичу купленную ею в Праге «Книгу образов» P.M. Рильке.
(обратно)1354
7 сентября 1923 г. Цветаева с мужем отвезла дочь в Моравскую Тшебову в русскую гимназию. См. коммент. 1 к письму 38–23. Проведя там несколько дней, они вернулись в Прагу. См. также письмо 50–23.
(обратно)1355
См. коммент. 1 к письму 38–23.
(обратно)1356
Одна из учениц гимназии позже вспоминала:
«…приезжала поэтесса Марина Цветаева. У нее была дочка Аля в десятом бараке, такая же зеленоглазая, странная и дерзкая, как мать. <…> Мы с моим братом стали бегать за Цветаевой по аллеям, а она проходила, ни на кого не глядя и видя всё лет на двадцать вперед и на тысячу — назад, встряхивала своими медовыми волосами, стриженными в кружок, не очаровывалась нами и зачаровала нас навеки»
(Головина А. Вилла «Надежда». М.: Современник, 1992. стр. 305). (обратно)1357
«Да, она (Цветаева. — Сост.) приглядывалась ко мне со стороны, вела счет моим словам и словечкам с чужих голосов, моим новым повадкам, всем инородностям, развязностям, вульгарностям, беглостям, пустяковостям, облепившим мой кораблик, впервые пущенный в самостоятельное плаванье. Да, я, дитя ее души, опора ее души, я, подлинностью своей заменявшая ей Сережу все годы его отсутствия; я, одаренная редчайшим из дарований — способностью любить ее так, как ей нужно было быть любимой; я, отроду понимавшая то, что знать не положено, знавшая то, чему не была обучена, слышавшая, как трава растет и как зреют в небе звезды, угадывавшая материнскую боль у самого ее истока; я, заполнявшая свои тетради ею — я, которою она исписывала свои <…> я становилась обыкновенной девочкой»
(Эфрон А. стр. 190). (обратно)1358
Л.М. Эренбург.
(обратно)1359
Овраг. — Цикл из двух стихотворений (СС-2.).
(обратно)1360
Так Цветаева всегда писала 13-е число.
(обратно)1361
Екатерина Николаевна Рейтлингер (в замуж. Кист; 1901–1989), знакомая семьи Цветаевой, в то время пражская студентка. Автор воспоминаний о Цветаевой (Воспоминания. стр. 287–291).
(обратно)1362
A.B. Оболенский.
(обратно)1363
Об этой палке, с которой Цветаева запечатлена на групповой фотографии лета 1923 г., сохранилась запись в записной книжке Цветаевой с позднейшим комментарием:
«Как тросточка довершает руку! (Запись о любимой серой тросточке, купленной С<ережей> на аукционе имущества бывшего царского посла и подаренной мне, а затем — много спустя — потерянной мною в Моравской Тшебове, на холму, собирая чернику)»
(НСТ. 122). (обратно)1364
Имеются в виду В.А. и О.Н. Богенгардты.
(обратно)1365
Поэма-сказка Цветаевой (1920).
(обратно)1366
Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) — филолог, переводчик, интерпретатор и популяризатор античной культуры.
(обратно)1367
Имеется в виду «Мемуары» Джакомо Казановы (1725–1798), ставшего героем двух пьес Цветаевой — «Приключение» и «Феникс» (1919; СС-6).
(обратно)1368
В.Е. Чирикова.
(обратно)1369
Речь идет о только что возникшем романе с К.Б. Родзевичем. См. письма к нему, а также «Поэму Горы» и «Поэму Конца» (СС-3).
(обратно)1370
Цитата из комедии A.C. Грибоедова «Горе от ума» (действие 4, явление 4).
(обратно)1371
Источник цитаты не установлен.
(обратно)1372
К.Н. Рейтлингер.
(обратно)1373
Романченко — вероятно, Николай Тимофеевич (1902–1987), учился в Праге, потом жил в Париже., в 1933 г. вернулся как специалист-химик в СССР, арестован в 1938 г., освобожден в 1954 г. В Праге и Париже встречался с Цветаевой, но редко (ВРХД. 1992. № 165. стр. 179).
(обратно)1374
С точностью установить личности Жука и обоих Николаев Николаевичей не удалось. Их было трое: Розов — преподаватель пения, Лакида — учитель латыни, Дрейер — воспитатель младших классов, зять A.B. Жекулиной, известного педагога, основательницы гимназии в Тшебове (там же).
(обратно)1375
По-видимому, имеется в виду дочь Бориса Алексеевича Евреинова (1888–1933) — Наталья (род. 1913).
(обратно)1376
Арлекин — вместе с Пьеро и Коломбиной традиционный персонаж итальянской комедии дель арте и французского народного театра, счастливый соперник Пьеро.
(обратно)1377
Источник цитаты не установлен. Ее Цветаева приводит в письме 60–23.
(обратно)1378
Первая строка стихотворения, открывающего сборник «После России» (Берлин, 11 июня 1922).
(обратно)1379
Из стихотворения «В огромном городе моем — ночь…» (1916), в «Психее» (1923), включенного в цикл из четырех стихотворений «Бессонница» (СС-1).
(обратно)1380
В это время Цветаева готовилась продолжить работу над трагедией «Ариадна», замысел и первые наброски которой относятся к лету 1923 г. Трагедия была закончена в октябре 1924 г.
(обратно)1381
Из стихотворения О. Мандельштама «И поныне на Афоне» (1915 г.).
(обратно)1382
Первый друг — С.М. Волконский; третий — Б.Л. Пастернак. Второй друг, по предположению Дж. Малмстада, — С.Е. Голлидэй, героиня «Повести о Сонечке» (Литературное обозрение. 1991. № 10. стр. 106).
(обратно)1383
Адреса на обороте листа нет (там же).
(обратно)1384
Бахрах собирался переехать из Берлина в Париж.
(обратно)1385
Инициал Наполеона «N», окруженный венками, украшает множество парижских зданий.
(обратно)1386
См. также письмо 26–22 к Л.Е. Чириковой и письмо к A.A. Тесковой от 1 октября 1925 г. (СС-6).
(обратно)1387
См. коммент. 1 к письму 64–23 к A.B. Бахраху.
(обратно)1388
Бахрах правильно цитировал финальные строки «Цыган». У Пушкина: «И от судеб защиты нет».
(обратно)1389
О статуе пражского рыцаря см. также в письмах к A.A. Тесковой от 1 октября 1925 г., 11 августа 1935 г., 24 октября, 10 ноября, 24 ноября, 26 декабря 1938 г. (СС-6). 27 сентября 1923 г. Цветаева написала стихотворение «Пражский рыцарь» (СС-2).
(обратно)1390
Хотеть недостаточно, надо уметь! (фр.)
(обратно)1391
Во вторник, 4 сентября 1923 г., газета «Дни» впервые сообщила своим читателям о «небывалом землетрясении», случившемся 1 сентября в Японии. В течение двух недель, каждый день подряд, в газете печатались подробности «катастрофы, разразившейся над Японией». Половина Токио и вся Иокогама были разрушены. Погибли почти сто тысяч человек (Литературное обозрение. 1991. № 10. стр. 107).
(обратно)1392
Запись от 18 сентября 1823 г. в книге Иоганна Петера Эккермана «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни». В немецком оригинале «Alle meine Gedichte sindt Gelegenheitsgedicht» («Все мои стихи зависят от обстоятельств…» (там же. стр. 107–108). См. также письмо 15–23 к Р.Б. Гулю.
(обратно)1393
Терминология книги «Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik» (1872, в русском переводе «Рождение трагедии из духа музыки») соединена с двумя именами: Диониса и Аполлона. Самый «дух музыки» (лежащий, как считал Ницше, в основе греческой культуры) он связал с Дионисом, выражающим стихийную, иррациональную сторону души человека. Дионисийское начало, по Ницше, есть стремление человека вырваться за пределы «индивидуального». В Дионисийском начале последователи Ницше видели возможность для личности переступить границы между отдельным человеком и миром, что было созвучно идейным и художественным исканиям русской культуры начала XX в. Цветаевой книга Ницше нужна была, по-видимому, для работы над трагедией «Гнев Афродиты» (Литературное обозрение. 1991. № 10. стр. 109).
(обратно)1394
Летом 1923 г. А. Белый решил вернуться в Россию; 1 августа он получил извещение Берлинской комиссии Наркомпроса о разрешении въезда в РСФСР. Он два с половиной месяца ждал визы (иногда в состоянии, доходящем до истерики, так как был уверен, что получит отказ). 23 октября Белый вернулся в Москву (Литературное обозрение. 1991. № 10. стр. 109).
(обратно)1395
«Тотчас же ответила ему (Белому. — Сост.), что комната имеется: рядом со мной, на высоком пражском холму — Смихове <…> Что М.Л. Слоним почти наверное устроит ему чешскую стипендию в тысячу крон ежемесячно…»
(Цветаева М. Пленный дух. СС-4. стр. 267). (обратно)1396
К.Б. Родзевич жил в пражском пригороде Хухле, куда ходили электрички со Смиховского вокзала.
(обратно)1397
Оба стихотворения включены в сборник «После России».
(обратно)1398
Цветаева цитирует первую и последнюю строфы стихотворения П. Верлена из его книги «La Sagesse» («Мудрость») (1881).
(обратно)1399
Речь идет о В.О. Нилендере. См. письмо 32–11.
(обратно)1400
Источник цитаты не установлен.
(обратно)1401
Цветаева знала, что любимым поэтом Родзевича был Н. Гумилев:
Что же тоска нам сердце гложет, Что мы пытаем бытие? Лучшая девушка дать не может Больше того, что есть у нее.(«Путешествие в Китай», 1909).
(обратно)1402
Это и приведенные далее стихи 1920 г. при жизни Цветаевой опубликованы не были.
(обратно)1403
Из стихотворения «Крик станций» (СС-2).
(обратно)1404
См. коммент. 1 к письму 70–23.
(обратно)1405
В.О. Нилендер.
(обратно)1406
Из «Флорентийских ночей».
(обратно)1407
Павел Тимофеевич Горгулов (1895–1932) русский эмигрант, убийца президента Франции Поля Думера.
(обратно)1408
С.Я. Эфрон занимался в семинаре Н.П. Кондакова (см. о нем в письме к O.E. Колбасиной-Черновой от 19 февраля 1925 г. и коммент. к нему: СС-6). Но в 1923 г. Н.П. Кондакову было 79 лет, а не 87, как ошибочно пишет Цветаева.
(обратно)1409
См. коммент. 10 к письму 7-23.
(обратно)1410
Е.О. Волошина скончалась 8 января 1923 г.
(обратно)1411
В журнале «Студенческие годы» (Прага, 1922–1925) сотрудничал в эти годы адвокат и общественный деятель А.Б. Эфрон. К 1930 г. переехал в Париж, имел адвокатскую практику. Участвовал в евразийском движении. Цветаева в 1924 г. (№ 1) напечатала в этом журнале стихотворный цикл «Песенки».
(обратно)1412
Эренбург И. «Не сумерек боюсь — такого света…» (сб. «Опустошенная любовь». 1922). У Эренбурга: «Молю, — о Ненависть, пребудь на страже / Среди камней и рубенсовских тел…»
(обратно)1413
Правильно Константиновна.
(обратно)1414
После объяснения с С.Я. Эфроном Цветаева некоторое время жила у сестер Екатерины Николаевны и Юлии Николаевны Рейтлингер.
(обратно)1415
Лекция М.Л. Слонима «Творчество А. Ахматовой» состоялась 6 ноября в Праге в помещении Русского народного университета (Nové Mìsto, Krakovská, 8).
(обратно)1416
Ю.Н. Рейтлингер.
(обратно)1417
См. письма к В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву и коммент. к ним.
(обратно)1418
Лк. 4, 23.
(обратно)1419
К этому времени относится запись в тетради, обращенная к Родзевичу:
«Ноябрь, конец ноября:
Мысли: Право на жизнь — право тела. Если мы, после смерти любимых, опять хотим жить, то не потому что душа забыла, а п<отому> ч<то> тело вспомнило (жизнь, себя). Начинаешь есть, потом смеяться, потом нравиться (действенное). Душа не при чем, тело ее просто усыпляет, оглушает. — Перекрикивает. — И оно, по своему, право. Только не говорите о нашем праве на жизнь»
(НСТ. стр. 264). (обратно)1420
В.Е. Чирикова. К.Б. Родзевич в 1923 г. ухаживал за нею.
(обратно)1421
Среда, 12 декабря 1922 г. — Это дата написания стихотворения «Ты, меня любивший фальшью…» и записи в черновой тетради трагедии «Ариадна»: «12-го декабря 1923 г. (среда) — конец моей жизни. Хочу умереть в Праге, чтобы меня сожгли» (HCT. стр. 272).
(обратно)1422
Это письмо было приложено К.Б. Родзевичем к оттиску «Поэмы Конца».
(обратно)Комментарии
1
До бесконечности (лат.). ― (Переводы иноязычных слов, примечания М. Цветаевой и редактора в оригинале даются отдельно, в виде сноски внизу страницы, поэтому выделены в комментарии. OCR)
(обратно)2
Этого, положим, нет. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)3
Молодой человек (фр).
(обратно)4
Так в бумажной книге. OCR
(обратно)5
«Очаровательном молодом человеке» (фр.).
(обратно)6
То есть в Тарусу, где Цветаева собиралась провести остаток лета.
(обратно)7
— Я вдруг вообразила, что это я говорю с Вами и поэтому употребляю большую букву В (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)8
Когда мы ломали балки-то, помните? Каж<ется> 19-го вечером (коммент. М. Цветаевой).
(обратно)9
Так в оригинале письма.
(обратно)10
Так в оригинале письма.
(обратно)11
В оригинале письма «гонито».
(обратно)12
Так в оригинале письма.
(обратно)13
Орленок (фр.).
(обратно)14
Это было во сне. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)15
«Возлюбленного Мечты» (фр.)
(обратно)16
«Встречи господина де Брео». Ренье (фр.).
(обратно)17
Взаимопогружение (нем.).
(обратно)18
Жан Поль «Озорные годы» (нем.).
(обратно)19
До свиданья, господин духовный отец (фр.).
(обратно)20
Иносказание.
(обратно)21
Далее — рукой М. Цветаевой.
(обратно)22
Строки, выделенные курсивом, написаны М. Цветаевой.
(обратно)23
Страна искупления (фр).
(обратно)24
Освежить Вашу память? (фр).
(обратно)25
Почему не являются нам души животных? (нем.)
(обратно)26
4 лапы (фр).
(обратно)27
Напротив (лат).
(обратно)28
В поэзии, как в любви, оставаться на том же месте — значит отступать (фр.).
(обратно)29
Твою лапу, дорогой единственный медведь. Марина (фр)
(обратно)30
Здесь и далее часть текста испорчена почтовым штемпелем.
(обратно)31
Не дав даже С<ереже> времени раскрыть рот. (Примеч. M Цветаевой.)
(обратно)32
Втроем (фр).
(обратно)33
Бедная Волчья Морда! (примеч. М. Цветаевой)
(обратно)34
Колеблюсь между двумя этими чувствами. (фр.)
(обратно)35
Что прикладывает его (камень) к сердцу (фр).
(обратно)36
Первое, — второе получила на другой день. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)37
Здесь покоится моя юность (фр).
(обратно)38
Никого об этом в письмах не расспрашивайте! (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)39
Няню, очень славную. Ей 22 года и в течение трех лет она служила горничной, кухаркой и няней пятерых детей. И все это за 8 рублей! (фр.)
(обратно)40
Кормилице ничего не говорите (фр.).
(обратно)41
Музыкальное томление (фр.).
(обратно)42
И вам раз навсегда — восемнадцать! (фр.)
(обратно)43
Счастливица (буквально: воскресное дитя — нем.).
(обратно)44
Как же мал мир! И как надо людям любить друг друга, немногим, кого объединяет любовь (нем.).
(обратно)45
«В пользу утопленников» (фр.).
(обратно)46
О, убожество! (фр)
(обратно)47
В тексте рисунок двух скрещенных костей.
(обратно)48
«Почему в деревне такой чистый воздух? — Потому что жители никогда не открывают окон» (фр.).
(обратно)49
И вот! (фр.)
(обратно)50
Буквально (фр).
(обратно)51
Эти слова отчеркнуты на полях двойной линией.
(обратно)52
Далее следует рисунок.
(обратно)53
Из Москвы — зачеркнуто.
(обратно)54
Свояченицей (фр.).
(обратно)55
Право сеньора (фр.).
(обратно)56
Я о крепостной написала тебе с чужих слов, не знала разницы. (Примеч. М.И. Цветаевой.)
(обратно)57
Абзац отчеркнут слева вертикальной линией.
(обратно)58
<Средство>, удаляющее волосы.
(обратно)59
Фраза подчеркнута двойной линией
(обратно)60
«Какой ужас!» — «Да, я уже заметила!» (фр.)
(обратно)61
Число вписано карандашом.
(обратно)62
Абзац отчеркнут слева двойной вертикальной линией.
(обратно)63
Фамилия, за исключением первой буквы, вычеркнута.
(обратно)64
Абзац отчеркнут слева вертикальной линией.
(обратно)65
Перед датой рукой Цветаевой проставлен номер письма — № 5.
(обратно)66
Впоследствии «Красный Бычок».
(обратно)67
Вышла из игры (нем.).
(обратно)68
Состояния души (нем.).
(обратно)69
Верховный принцип (фр.).
(обратно)70
Ошеломленная (фр.)
(обратно)71
Вы оказались большим роялистом, чем сам король (фр.).
(обратно)72
В действительности: 17 мая.
(обратно)73
Моя эмоциональная душа (фр.).
(обратно)74
Моя интеллектуальная душа (фр.).
(обратно)75
Время поджимает (фр.).
(обратно)76
Все, что парит (фр.).
(обратно)77
Все, что кишит (фр.).
(обратно)78
Мои сады — князя де Линя (фр.).
(обратно)79
Говорите об этом сколько угодно, друг.
— Мне, которая не просила у Создателя ничего, кроме нескольких мгновений небытия (фр.).
(обратно)80
Дом (англ.).
(обратно)81
Восхищение (фр.).
(обратно)82
Ну в точности, как я (фр.).
(обратно)83
Радость сочинять (нем.).
(обратно)84
Сочиняйте (нем.).
(обратно)85
Со всеми оговорками (фр.).
(обратно)86
Великое товарищество (фр.).
(обратно)87
Чужеземное дитя (нем.).
(обратно)88
В глубину ночи (нем.).
(обратно)89
Вселенная (нем.).
(обратно)90
С птичьего полета (фр.).
(обратно)91
Одно слово написано над другим.
(обратно)92
Деликатность сердца (фр.).
(обратно)93
Все ушло в воронку (фр).
(обратно)94
За то, что у меня — после проводов — веселое (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)95
Положение обязывает (фр).
(обратно)96
Оговорюсь! (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)97
Как таковой (фр.).
(обратно)98
Слишком серьезно (фр.)
(обратно)99
Так в письме.
(обратно)100
голодай — не хватает духу! — Остаточек! (Примеч. М. Цветаевой)
(обратно)101
Ухватившись (нем.)
(обратно)102
Ничего! (фр.)
(обратно)103
Скользите, смертные, не опирайтесь! (фр.)
(обратно)104
Как и я — для себя! Ибо — немудрено — мне — любить Блока и Ахматову! (Примеч. M Цветаевой.)
(обратно)105
Второе слово написано под первым (Примеч ред.)
(обратно)106
После того, как событие произошло (лат.).
(обратно)107
Гете «Рыбак»: «К нему она, он к ней бежит / И след навек пропал» (пер. В.A. Жуковского).
(обратно)108
Небрежно (фр.).
(обратно)109
видеть! (Пометка моя.) — Примеч. М. Цветаевой
(обратно)110
было бы лучше: und von einer Leidenschaft <c некоей страстью — нем.> (а была-то, м<ожет> б<ыть>, просто — Liebschaft! <3десь: страстишка — нем.> (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)111
Гёте прощается с неким пейзажем и некой возлюбленной. Однажды летним вечером, в сумерках он бросил, сквозь слезы, последний взгляд вниз на луга, лесы, горы и долины; он стоял с полыхающим лицом. Еще раз вся прожитая жизнь, как раненый исполин, припала к его груди, затем он, улыбаясь, легко разжал и это объятье, уже сознавая свою божественность (нем.).
Источник цитаты не установлен.
(обратно)112
Вниз — на горы? (нем.)
(обратно)113
Как это тогда (11 лет назад!) много казалось — неделя! (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)114
«Скажите же мне, сударыня, можете ли Вы мне сказать — что же в ней хорошего, в жизни? Это обилие страданий.» (фр.)
(обратно)115
Человеческий документ (фр.).
(обратно)116
Умственная молитва (фр.) В православной традиции утвердился перевод «умная молитва», т.е. молитва, творимая про себя.
(обратно)117
Распрямление (фр).
(обратно)118
Зеркальная галерея (фр.).
(обратно)119
Чтобы занять себя (фр.).
(обратно)120
«Святом Антоний Падуанский, дай мне найти то, что я потеряла.» (фр.).
(обратно)121
Литературная дружба (фр.).
(обратно)122
На что искать далеких звезд? Для неба их краса.(Пер. В.А. Жуковского).
(обратно)123
Колонна (нем.).
(обратно)124
Десять лет спустя, в 1931 г., у Эпиктета читаю: <Цитата не вписана.> (Примеч. М. Цветаевой)
(обратно)125
Впоследствии, точь-в-точь, слово в слово о Р<ильке>. (Твоя смерть) Повторение не мысли, а явления, однородную мысль вызывающего. Недаром я Блока ощущаю братом Р<ильке>, его младшим в святости — и мученичестве. Знаю, что из всех русск<их> поэтов Р<ильке> больше всего любил бы Блока. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)126
Почему мои радости всегда были горькие и далекие? 1932 г. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)127
<Примечание не вписано>
(обратно)128
Так в рукописи. — Сост.
(обратно)129
Указательное настоящее время (граммат) (фр.)
(обратно)130
Чьего-то присутствия (фр.).
(обратно)131
Желудок (фр.).
(обратно)132
NB! Только и умеющий! (и обращать других в рабство) Его Корсика. 1932 г. (примеч. М. Цветаевой).
(обратно)133
Чего ради (фр.).
(обратно)134
NB! (1932 г.) в том то и дело, что не ведая и что ведала только я. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)135
Вернее: Вот что-то — нечто — сила — движение — Вы по дороге — удар — Вы уклоняетесь — как всегда уклонялись все — кроме Р<ильке> и Б<ориса> П<астернака> (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)136
Florentinische Nächte * . (Примеч. M. Цветаевой.)
__________
* «Флорентийские ночи» (нем.) — новелла Г. Гейне. В августе 1922 г. «Флорентийские ночи» и «Рабби из Бахарах» Гейне были анонсированы издательством «Геликон» в переводе Цветаевой (см. Новости литературы. 1922. № 1. стр. 29). Издания не осуществились.
(обратно)137
С тех пор как перо стала держать — нет, даже до пера! — ВСЕМ, ВСЕГДА. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)138
Всё целиком, без остатка (нем.).
(обратно)139
— Вот она и разгадка — солнцеворота! Восхитительная (от земли восхищающая) ночная поездка с Белым в Шарлоттенбург. (Примеч. M Цветаевой.)
(обратно)140
Саламандра (нем.) — магазин известной обувной фирмы.
(обратно)141
Горные ботинки (нем.).
(обратно)142
Так у Цветаевой.
(обратно)143
К<отор>ый напакостил! (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)144
Гробница Инвалидов (фр).
(обратно)145
Легитимистка! (фр.: от légitimite — законность).
(обратно)146
Пожар (нем.), а также имя героя одноименной пьесы Г. Ибсена.
(обратно)147
Где радуга опустила свою ногу (фр.). Источник цитаты не найден.
(обратно)148
Северное море (нем.). Название раздела «Книги песен», а также главы «Путевых картин» Г. Гейне
(обратно)149
Пример во-вне:
— Ты поцеловала себя в зеркало как я просила?
— Нет, в той комнате было холодно и я не пошла.
«NB! Прибавлено при переписке. Б.П. этого не писала 1932 г.
NB! Полнота правды есть ее точность. Не ВСЁ, как было, а: ВСЁ КАК БЫЛО. 1932 г.» (Примеч. М. Цветаевой)
(обратно)150
Здесь и далее правильно: Vyšehradska. Méstski Chudobinec
(обратно)151
Вставки рукой С.Я. Эфрона
(обратно)152
Вот (фр.).
(обратно)153
Меня тошнит рядом с ближним (фр.).
(обратно)154
Орфографические разночтения в написании адресов принадлежат Цветаевой. — Сост.
(обратно)155
Великое Может Быть (фр.).
(обратно)156
Для эпатирования буржуа (фр.).
(обратно)157
Демону (лат.).
(обратно)158
Кроме Блока, но он уже не был в живых! А Белый — другое что-то. (Примеч. M Цветаевой).
(обратно)159
В иной (потусторонний) мир (нем.).
(обратно)160
Аля, случайно взглянув в мое письмо: «И даже не при поэтах!» (Примеч. М. Цветаевой).
(обратно)161
Темные кипарисы! Мир слишком веселый, — А ведь всё будет забыто! (нем.) (обратно)162
Так в бумажной книге во всех вариантах письма. (OCR.)
(обратно)163
я увидела же — на горе, можжевельником. 1932 г. (Примеч. М. Цветаевой)
(обратно)164
а что — последней?
Вру, конечно, — конечно последней. (Примеч. М. Цветаевой)
(обратно)165
«Весна наводит сон… Уснем!» — да, ибо каждая вещь равна своему обратному. (Примеч. M Цветаевой.)
(обратно)166
Другие бы сказали — наказания! (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)167
Смысл: permanente <постоянный (фр.)>. 1932. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)168
«Разговоры с Гёте» (нем.).
(обратно)169
Популярное издание (нем.)
(обратно)170
В никуда (нем.).
(обратно)171
Горизонтальное и вертикальное мастерство (нем.)
(обратно)172
Совсем как Вы (фр.).
(обратно)173
Всегда (фр.).
(обратно)174
Живым словом (фр.).
(обратно)175
В рукописи эти строки зачёркнуты. Кем — не установлено. — Сост.
(обратно)176
В рукописи эти строки зачёркнуты. Кем — не установлено. — Сост.
(обратно)177
В рукописи чьей-то рукой проставлена цифра 15. — Сост.
(обратно)178
«Гнездо малиновок — гнездо гадюк» (фр.).
(обратно)179
Старости, которая знает (фр.).
(обратно)180
Молодости, которая может (фр.).
(обратно)181
Русский стиль (фр).
(обратно)182
NB! Стихотворная! (примеч. М. Цветаевой)
(обратно)183
Большой скандал (фр.).
(обратно)184
После «Разлуки» (книги) и после разлуки с женой Асей, в жизни совпавших (Берлин, лето 1922 г). (Примеч. M Цветаевой.)
(обратно)185
Наш случай (фр.).
(обратно)186
Ночных заведений (нем.).
(обратно)187
«Учение о цветах» (нем.).
(обратно)188
Подчеркнуто дважды. (Примеч. Р.Б. Гуля.)
(обратно)189
и силам неба всё равно, Ты женщина или мужчина (пер. с нем. Б. Пастернака). (обратно)190
И еще — но это уже школьничество! — «Так первое письмо не начинают». Так принято, очевидно, кончать только последнее? — Шучу! — (Приписка на полях. — Сост.)
(обратно)191
Одно слово написано под другим.
(обратно)192
— От Гржебина, конечно, ничего. (Приписка на полях. — Сост.)
(обратно)193
Большая страсть, страсть (фр.)
(обратно)194
Ва-банк (фp.).
(обратно)195
Главным выигрышем в жизни (фр.).
(обратно)196
Уверенность (фр.).
(обратно)197
«Юноша любит девушку» (нем.) — Начальная строка стихотворения Г. Гейне из раздела «Лирическое интермеццо» сб. «Книга песен».
(обратно)198
Наш живой облик (нем.).
(обратно)199
БЕЗДУШИЯ! (примеч. M. Цветаевой).
(обратно)200
Имеющий уши, да услышит! (фр.).
(обратно)201
Квартирных служб (нем.).
(обратно)202
Метро (нем.).
(обратно)203
Другие ставят — чужую душу, как в рулетке — чужие деньги!
(обратно)204
Опущено перемножение в столбик.
(обратно)205
Кроме напряжения, т.е. — всего. 1932 г. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)206
Все получить (фр.).
(обратно)207
Нечего терять! (фр.)
(обратно)208
Хватит! Довольно! (нем., разг.)
(обратно)209
Всё это относится к моему посл<еднему> письму, которое Вы не получили (примеч. M Цветаевой).
(обратно)210
Badeort — пляж; Kurort — курорт; Seelenort — игра слов: место души (нем.).
(обратно)211
Ненавистное мне слово — и вещь. Теплоту признаю только одну: причастную, ибо здесь она достоверность: зна́ешь о чем говорят. Печной и весенней теплоты нет, ибо она — тепло. А теплота людская — спасибо!
NB! Я всю жизнь страдала от людской «теплоты»! 1932 г.
Теплых сужу — как в Евангелии *. В моей оценке «теплоты» собеседника — уже бесконечное <пропуск одного слова>, снисхождение: снижение. (Примеч. M. Цветаевой.)
__________
* Цветаева имеет в виду строки из Откровения Иоанна Богослова: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но а ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (3. 15–16).
(обратно)212
Захочешь — не сможешь (фр.).
(обратно)213
Не самовар и куры, а они сами, которые в этом видят трагедию. Вспомните трех сестер Бронте *, которые так же жили. (Примеч. М. Цветаевой).
__________
* Английские писательницы сестры Шарлотта (1816–1855), Эмили (1818–1848) и Энн (1820–1849) Бронтё всю жизнь прожили в пасторском доме своего отца в местечке Хауорт (графство Йоркшир).
(обратно)214
Трагическое (нем.).
(обратно)215
«Для галерки», «для публики» (фр.).
(обратно)216
Brand — пожар; Brandung — прибой; Mauer — стена (нем.).
(обратно)217
He удобств, а смысла такого подозрения! (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)218
«Вы говорите „иметь“ и никто не знает, что нельзя иметь женщину, равно как и цветок» (нем.).
(обратно)219
Noblesse oblige — положение обязывает (фр.).
(обратно)220
NB! Злополучные желтые листы. (Примеч. М. Цветаевой.)
(обратно)221
— «А Вы еще долго пробудете?»
— «О, этого никто не сможет сказать. У нас еще нет приказа.» (нем.)
(обратно)222
«Все, что не глупо, то печально — и все, что не печально, то глупо!» (фр.)
(обратно)223
«Молодая женщина — поэтесса, и она нанизывает стихи, как жемчужины» (нем.).
(обратно)224
Прическа (нем.).
(обратно)225
«Вам очень идет» (нем.)
(обратно)226
Простое платье (нем.).
(обратно)227
«Ho, сударь, это же яд!» (фр.)
(обратно)228
«По крайней мере, это — медленный яд!» (фр.)
(обратно)229
«Те золотые украшения и ароматы? / Что одурманивают чувства, / Все это лишь мгновенье. — / И кончается оно раскаяньем!» (нем.)
(обратно)230
В становлении (нем.).
(обратно)231
См. перевод в письме 60–23.
(обратно)232
Так в бумажной книге. OCR.
(обратно)233
«Венская кровь» (нем.) — вальс И. Штрауса.
(обратно)234
«Ничто не могло утешить ее огорчения, что надо ложиться спать!» (фр.)
(обратно)235
Столько малой трудности и столь сильного наслаждения (фр.).
(обратно)236
Женский документ (фр.).
(обратно)237
Нет (фр.).
(обратно)238
«Начинаешь ее в отчаянии, кончаешь с сожалением.» (фр.)
(обратно)239
Работа (фр.).
(обратно)240
Сочинение (фр.).
(обратно)241
«Любое стихотворение внушается обстоятельствами» (нем.)
(обратно)242
Сильнее меня (фр.).
(обратно)243
Самое необходимое (фр.).
(обратно)244
«Мне лучше так!» (фр.)
(обратно)245
Небосвод над этой крышей Так высок, так чист! Стройный вяз над этой крышей Наклоняет лист. Что ж ты сделал, ты, что плачешь Много-много дней, Что ж ты сделал, ты, что плачешь, С юностью своей?(П. Верлен — пер. В.Брюсова)
(обратно)246
Букв.: меди (фр.). Здесь: дол.
(обратно)247
«Все понять — значит все простить» (фр.).
(обратно)248
«Самая красивая девушка может дать только то, что имеет» (фр.).
(обратно)249
Все-таки (фр.).
(обратно)250
В немецкой народной демонологии название группы духов, связанных с одной из четырех стихий (элементов) — землей, водой, воздухом или огнем.
(обратно)251
См. перевод в письме 70–23.
(обратно)252
Благо тому, кто умеет слушать! (фр.)
(обратно)253
В правом углу рукой адресата проставлена дата: 6/XI 23, это был вторник.
(обратно)254
Фраза вписана карандашом.
(обратно)255
В правом углу рукой адресата проставлена дата 7/XI 23, это была среда.
(обратно)256
Одно слово написано над другим — Сост.
(обратно)
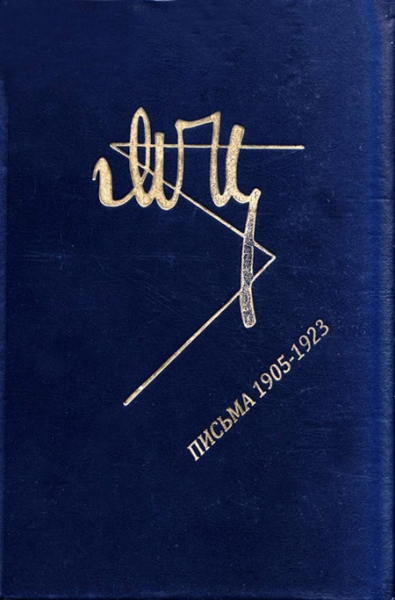

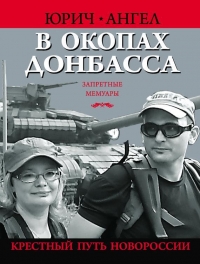
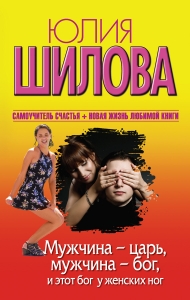



![Том 3: Эссеистика [Трудность бытия. Опиум. Дневник незнакомца]](https://www.4italka.su/images/articles/554232/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Марина Цветаева. Письма 1905-1923», Марина Ивановна Цветаева
Всего 0 комментариев